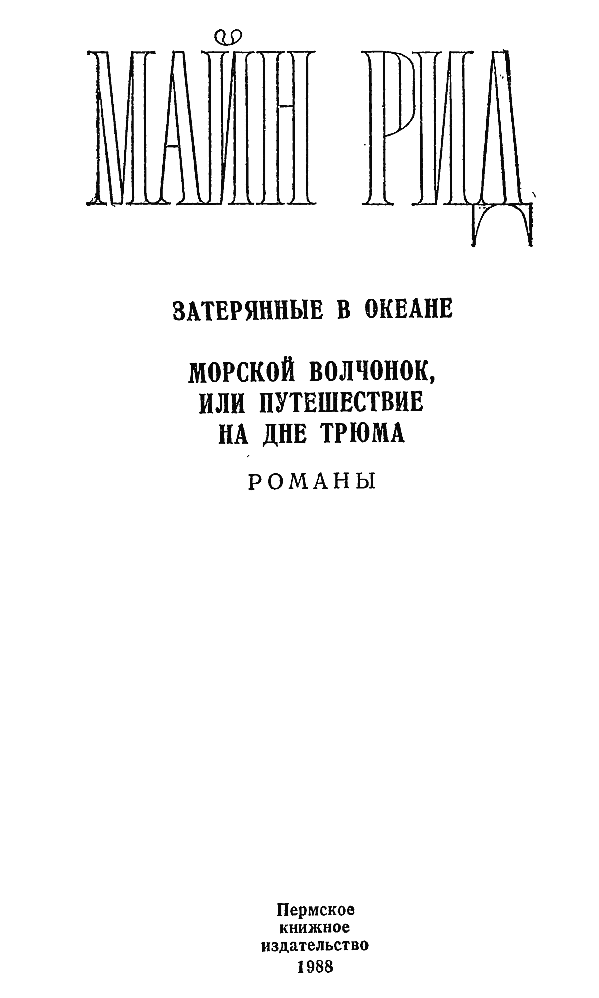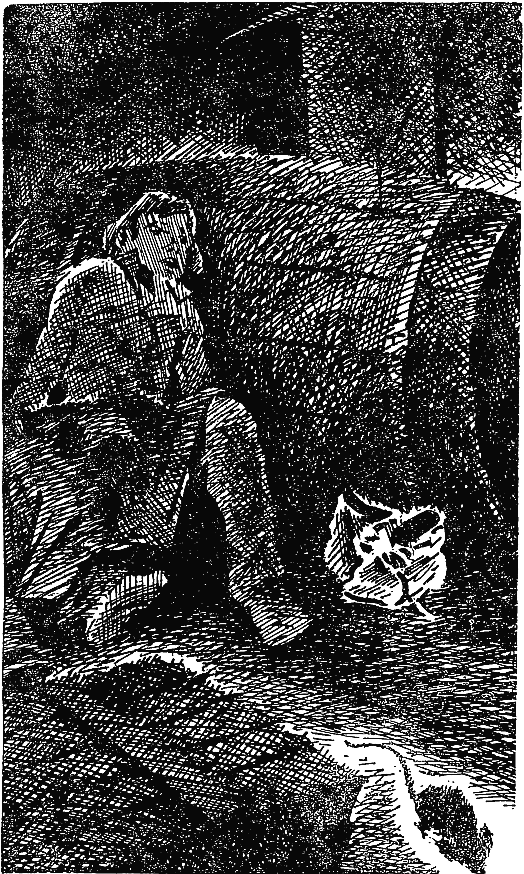Майн Рид.
Собрание сочинений в 27 томах. Том 4




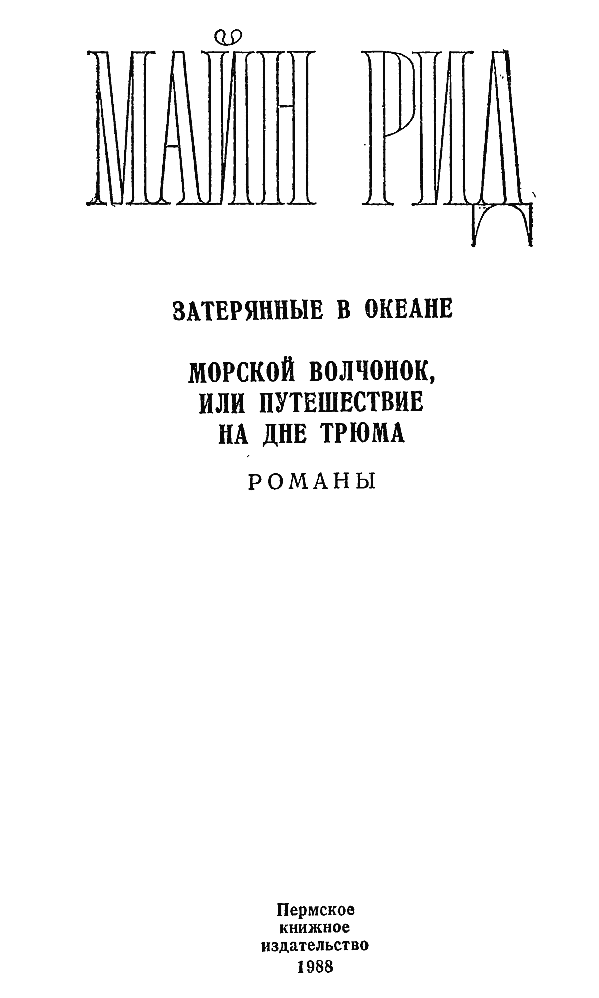
ЗАТЕРЯННЫЕ В ОКЕАНЕ

Глава I. АЛЬБАТРОС
Ширококрылый морской коршун
[1], реющий над просторами Атлантического океана, вдруг замер, всматриваясь во что-то внизу. Внимание его привлек маленький плот, размером не больше обеденного стола. Два небольших корабельных бруса, две широкие доски с несколькими небрежно брошенными на них полотнищами парусины да две-три доски поуже, связанные крест-накрест, — вот и весь плот.
И на таком гиблом суденышке ютятся двое людей: мужчина и юноша лет шестнадцати. Юноша, видимо, спит, растянувшись на куске мятой парусины. А мужчина стоит и, прикрыв глаза от солнца ладонью, напряженно всматривается в безбрежные дали океана.
У ног его валяются гандшпуг
[2], два лодочных весла, кусок просмоленного брезента, топор; ничего больше на плоту не увидеть даже зоркому глазу альбатроса.
Птица несется дальше на запад. Пролетев еще миль десять, она снова замирает, паря на широко раскинутых крыльях, и снова впивается глазами в океан.
Птица увидела другой, тоже неподвижный плот. Он совсем не похож на первый, хотя и один и другой зовутся плотами. Второй-раз в десять больше. Он сооружен из всевозможных крупных обломков деревянных частей корабля. По краям к нему привязаны большие порожние бочки; они помогают плоту держаться на плаву. Чего только на нем нет! И брезент, натянутый между двумя шестами, как на мачте, и два-три бочонка, и пустой ящик из-под морских сухарей, и весла, и много других предметов морского обихода. Среди этого хаоса вещей расположились человек тридцать. Они сидят, лежат, стоят — словом, занимают самые разнообразные положения.
Некоторые неподвижны, словно спят. Однако их разметавшиеся тела и багровые, возбужденные лица наводят на подозрение, что сон вызван опьянением. Глядя на другую группу людей, на их движения, слыша, как они шумят и горланят, уже не приходится сомневаться: эти-то, несомненно, пьяны
— оловянная кружка все время ходит вкруговую, и запах рома так и бьет в нос. Есть тут и трезвые, но их немного и выглядят они как живые мертвецы — до того измождены, до того изголодались. Со слабой надеждой, кто стоя, кто сидя, поглядывают они временами на водную ширь океана и тут же снова застывают в безысходном отчаянии.
Недаром альбатрос, глядя на этих людей, томится таким нетерпением. Инстинктом хищной птицы он чует, что скоро, очень скоро его ожидает богатое пиршество.
А пока он летит дальше, все дальше на запад. Вот он пролетел еще с десяток миль и снова застыл на месте. Опять какой-то необычный предмет на воде! Только зоркий глаз альбатроса мог его приметить, люди на большом плоту его не видят. На таком расстоянии это сооружение кажется пятнышком, не больше самой птицы. На деле же это хотя небольшая, а все же лодка — корабельная гичка, в которой сидят шестеро. Паруса на гичке нет, да его, видно, даже и не пытались поставить. Есть весла, но никто ими не гребет. Видимо, люди, отчаявшись, побросали их, и теперь гичка, как и плоты, носится в океане по прихоти волн и ветра. А во время штиля гичка, как и оба плота, подолгу застывает на месте.
Если бы альбатрос умел рассуждать, он сообразил бы, что плоты и гичка очутились здесь, вероятно, потому, что где-то неподалеку произошло кораблекрушение и судно либо пошло ко дну, либо погибло в пламени. А миль за десять на восток от меньшего плота он заметил бы более явные доказательства происшедшего несчастья. Там плавали обугленные доски, балки, поручни и другие части корабля, и это означало, что судно погибло не от бури, а от огня. А по множеству всяких обломков, рассеянных по океану на целую милю вокруг, альбатрос догадался бы, что на судне произошел не только пожар, но и страшной силы взрыв.
Если бы альбатрос умел еще и читать, он прочел бы слово «Пандора» и на корме уцелевшей от гибели гички, и на бочках, благодаря которым большой плот стал мореходным, и на двух поперечных досках маленького плота. На них это слово написано еще более крупными буквами. Эти доски, видимо, находились по обеим сторонам бугшприта
[3] погибшего корабля. А сорвали эти доски, чтобы построить свой плотишко, те, кто сейчас и ютится на нем. Да, сомнений нет: где-то здесь погибло судно, называвшееся «Пандора».
Глава II. ПОЖАР НА КОРАБЛЕ
В этой главе мы расскажем историю «Пандоры» во всех ее ужасающих подробностях.
«Пандора»-увы, далеко не единственное невольничье судно, снаряженное в Англии и вышедшее из английского же порта, — занималась перевозкой черных рабов. Как и на всех таких кораблях, его команда, состоявшая большей частью из самых отъявленных негодяев, набиралась где и как придется, так что редко можно было встретить среди этих людей хотя бы двоих одной национальности.
В свой последний перед крушением рейс судно отправилось за «товаром» к берегу Гвинейского залива. Там, скупив и погрузив в трюм пятьсот несчастных чернокожих — пятьсот «тюков», как их, посмеиваясь, называли работорговцы, — судно повезло свой «груз» в Бразилию, на позорный рынок, где в те дни еще процветала торговля неграми. Там существовали специальные приемные пункты, на которых людей с черной кожей открыто покупали и продавали в рабство.
На пути из Африки в Южную Америку глубокой ночью, когда судно плыло в открытом океане, на нем внезапно вспыхнул пожар. Потушить его не удалось. В поднявшейся спешке и панике стали спускать на воду гребные суда. На «Пандоре» их было три. Но катер оказался непригодным, а баркас от свалившейся на него сверху бочки получил пробоину и затонул. В исправности оставалась одна гичка, и, воспользовавшись темнотой, капитан вместе со своим помощником и четырьмя матросами тайком сели в нее и сбежали.
Остальные матросы — их было около тридцати человек — успели соорудить большой плот. Не прошло и нескольких секунд после того, как они отвалили от горящего судна, а пламя уже добралось до бочки с порохом и страшный взрыв потряс корабль, довершив катастрофу.
Но что же стало с «черным грузом»? Об этом страшно даже рассказывать.
Несчастные до последней минуты оставались запертыми за решетками люков, наглухо прибитых к палубе брусьями. Они бы там и погибли, задохнувшись в дыму или сгорев заживо среди пылающих досок, если бы среди покидавших корабль не нашлась одна милосердная душа. Это был юноша, почти подросток. Орудуя топором, он сбил один за другим запоры этой плавучей тюрьмы и помог страдальцам-неграм выбраться наружу.
Увы! Им суждено было спастись от пламени только для того, чтобы погибнуть в черной пучине океана.
Минут через десять после взрыва от всех пятисот негров, насильственно увезенных из родных мест, на поверхности океана не осталось ни одного! Не умевшие плавать сразу пошли ко дну, а умевших пожрали акулы: океан вокруг так и кишел ими.
После этого трагического события прошло несколько дней. С этого момента и начинается наш рассказ. Теперь нетрудно догадаться, что это были за люди, о которых говорилось ранее. Волей случая они оказались на одной параллели и плывут сейчас одни за другими, разделенные лишь несколькими десятками миль.

Небольшая лодка, плывшая на запад,-это та самая гичка, которую захватили свирепый капитан «Пандоры» и его не менее свирепый помощник. С ними — плотник и три матроса, которым они разрешили, предательски бросив остальных, бежать вместе с собой. Темнота помогла им в этом. Однако как ни быстро они гребли, до них еще успели донестись те бешеные проклятия и угрозы, которые посылали им вслед обманутые спутники. Последние и плывут сейчас на большом плоту. Но кто же те двое, отважившиеся довериться третьему, утлому судну, такому жалкому, что, кажется, поднимись только ветер покрепче, и он разнесет его вдребезги, а пассажиров отправит ко дну? Но, к счастью, почти все время после гибели судна на океане царил полный штиль.
Почему же все-таки эти двое, матрос и юнга, будучи членами команды «Пандоры», плывут отдельно ото всех?
На это была своя причина, о которой мы вкратце сейчас и расскажем. Старший пассажир маленького плота звался Бен Брас и считался из всей команды на судне самым лучшим, самым отважным матросом. Никогда не нанялся бы он на такое судно, если бы не натерпелся множества обид на службе во флоте родной Англии. Они-то и довели его до этого безрассудного поступка, и он давно уже в нем раскаивался.
Его юный товарищ тоже оказался жертвой такого же необдуманного шага. Сгорая жаждой повидать свет, он решил стать моряком и убежал из дому, чтобы наняться юнгой. На свое несчастье, он поступил на «Пандору», не подозревая, что она собой представляет. Однако там так жестоко с ним обращались, что он быстро понял опрометчивость своего поступка. С первой же минуты, как юный Вильям ступил на борт этого невольничьего корабля, жизнь стала для него сплошным мучением. И он, конечно, не выдержал бы такого существования, не найдись у него столь мужественного друга, как Бен Брас. Матрос вскоре взял его под свою особую защиту. Друзья чувствовали, что у них нет ничего общего со всей этой шайкой разбойников, — с ними их просто столкнула случайность. И они твердо решили при первой возможности расстаться с этой гнусной компанией.
К несчастью, гибель корабля помешала их намерению. Волей-неволей они очутились со всеми на большом плоту. Если бы Брас и юнга остались на том утлом сооружении, на котором они спаслись с горящего корабля, то они потеряли бы и последний, пусть ничтожный, но все-таки шанс на спасение. Поэтому они и пришвартовались к большому плоту, привязав к нему свой.
Несколько дней и ночей пришлось им опять пробыть в обществе этих отвратительных людей, соединив с ними и свою судьбу. Ночью, по воле изменчивых ветров, их носило на сдвоенных плотах из стороны в сторону, а днем, в штиль, они подолгу стояли на месте.
Однако что же все-таки заставило в конце концов Бена Браса вместе с его юным спутником покинуть большой плот? И каким образом они опять оказались на своем маленьком?
Мы не можем не открыть читателю причину, хотя дрожь берет при одной мысли об этом. Дело в том, что если бы Бен Брас не спас своего юного друга, тот был бы съеден. Отважному матросу удалось предотвратить эту страшную трапезу только благодаря хитро задуманному плану, и притом с риском для собственной жизни.
Произошло это так. Судные запасы провизии, которые этим негодяям удалось захватить с горящего судна, кончились. Они дошли до той степени голода, когда люди не гнушаются самой омерзительной пищей. Но им даже в голову не пришло прибегнуть к принятому в таких страшных случаях обычаю кинуть жребий. Они поступили проще, единодушно договорившись между собой умертвить мальчика и съесть его. Один только Бен воспротивился такому злодеянию.
Но его голос не был принят во внимание. Озверевшие матросы стояли на своем. Единственное, чего удалось добиться защитнику юнги, — это обещания отложить убийство до следующего утра.
Матрос знал, что делал, добиваясь этой отсрочки. Ночью поднялся ветер, и сдвоенные плоты тронулись в путь. А когда океан окутался тьмой, Бен Брас перерезал канат, соединявший оба плота. Вот каким образом они оказались опять только вдвоем и отделались от своих опасных спутников. Как только их отнесло на такое расстояние, что шум весел не мог быть услышан, они принялись грести, уходя все дальше и дальше.
Всю ночь гребли они против ветра. И только когда настало утро и на океане опять начался штиль, они решили передохнуть, зная, что недавние спутники теперь их не видят, потому что они опередили большой плот на добрый десяток миль.
После такой утомительной гребли, да еще пережив до этого столько часов напряженной тревоги, юнга так изнемог, что, едва растянувшись на парусине, уже крепко спал. Но Бен, опасаясь погони, и не подумал ложиться. Он так и простоял все утро на вахте, прикрыв глаза от солнца ладонью и тревожно вглядываясь в сверкающую на солнце поверхность океана.
Глава III. МОЛИТВА
Тщательно осмотрев океанскую гладь со всех сторон горизонта и особенно с запада, Бен Брас повернулся наконец к Вильяму, за все утро так ни разу и не проснувшемуся.
— До чего устал, бедняга! — пробормотал, глядя на него, матрос.-И не диво, ведь какую неделю мы пережили! Подумать только, как близко он был от смерти! Не мудрено и обессилеть! Но думаю, что не избавился он от этой беды. Как только мальчуган отдохнет, надо снова взяться за веела, а то как бы нас опять не отнесло назад к ним. Конец тогда нам обоим! Не только мальчика, они и меня сожрут за то, что я увез его. Провалиться мне на месте, если это не так!
Матрос помолчал минуту, размышляя, пустятся за ними в погоню или нет.
— Конечно,-забормотал он опять, — против ветра им наш плот не догнать. Только не взялись бы они теперь за весла… Вот и ветер унялся-океан ровно стеклышко. Гребцов там много, да и весел достаточно, — чего доброго, они нас в самом деле нагонят.
— Ой, Бен, милый Бен, спаси меня! Спаси от этих разбойников!-испуганно, должно быть во сне, забормотал юнга.
— Разрази меня гром, если ему не привиделась какая-нибудь дрянь! — сказал матрос, уловив слова юнги. — Уже и во сне разговаривает. Ему, верно, чудится, будто на него собираются наброситься, как той ночью. Не разбудить ли его? Лучше пускай проснется, раз ему такие страхи снятся. А жалко будить, хорошо бы ему еще немного поспать.
— А-а-а! Они хотят меня убить и съесть!-застонал опять во сне мальчик.
— Разрази меня гром, если им это удастся! Вильм, малыш, проснись, проснись! Слышишь? — И, наклонившись над спящим, Бен растолкал его.
— Ах, Бен, это ты? А где же они? Где эти разбойники?
— За тридевять земель от нас. Они тебе только снялись. Вот я и разбудил тебя.
— Как хорошо ты сделал! О, какой страшный сон! Мне снилось, будто они меня съели.
— Полно, Вильм, не съели они тебя и не съедят; вот только если сперва меня прикончат.
— Бен, дорогой, какой же ты хороший!-вскричал юноша. — Ты даже своей жизнью рискнул, чтобы спасти меня. Ах, смогу ли я доказать тебе когда-нибудь, как ценю твою доброту!
— Не стоит об этом и толковать, малыш. Боюсь только, что мало будет проку от того, что мы удрали. Но уж если нам суждено помереть, то какой угодно смертью, лишь бы не такой. По мне, пускай лучше акулы нас сожрут, только не свой брат, не люди. Тьфу! Даже подумать тошно! Ну, а теперь, малыш, не вешай нос! Правда, положение наше с тобой незавидное! Но кто знает, как еще может повернуться дело. Бог не оставит нас. Мы с тобой не видим, а он, может, в эту минуту смотрит на нас. Жалко, не умею я молиться, не обучали меня этому делу. А ты умеешь?
— Умею. Я знаю молитву «Отче наш». Она нам подойдет?
— Конечно! Лучшей молитвы я и не слыхал. Становись-ка, дружок, на колени и читай ее, а я буду повторять за тобой. Совестно сказать, но я, кажется, забыл ее.
Юнга послушно опустился на колени и начал читать молитву. Бесхитростный душой матрос в такой же позе, молитвенно сложив руки на груди, сосредоточенно слушал, вставляя временами слово, два, всплывавшие у него в памяти.
Кончив, оба торжественно сказали «аминь», и Брас, словно почувствовав прилив новых сил, поднял весло и велел юнге взять второе.
— Только бы нам удалось пройти на восток, — сказал он, — и тогда не видать им нас, как своих ушей. Поработаем веслами часа два-три, пока солнце не начнет припекать, и прости они, прощай тогда навеки! Ну, малыш Вильм, за дело! Давай погребем еще немного, а там отдыхай сколько захочешь!
Усевшись на краю плота, матрос опустил весло в воду, действуя им, как гребец, плывущий в каноэ
[4]. Вильям сел с противоположного края, и плот, несмотря на полный штиль, двинулся вперед.
Хотя юнге едва исполнилось шестнадцать лет, он мастерски управлялся с веслом, умея грести на разные лады. Вильям овладел этим искусством еще задолго до того, как стал мечтать о море, и теперь его умение пришлось как нельзя более кстати. Вдобавок он был для своих лет очень силен и потому не отставал от матроса. Правда, Бен работал не во всю силу.
Но как бы там ни было, плот под согласными ударами двух весел шел довольно быстро-не так, конечно, быстро, как лодка, но все же делая по два-три узла в час.
Долго грести им не пришлось. С запада подул слабый попутный ветер, помогая им плыть в желаемом направлении. Казалось, это было им на руку. А между тем матрос был, видимо, недоволен, заметив, что ветер дует с запада.
— Не нравится мне этот ветер! — крикнул он юнге. — Дул бы себе откуда угодно, я бы слова не сказал. А этот ветер хоть и помогает нам двигаться на восток, да что толку? Ведь он и их туда же гонит. И с парусом они идут быстрее, чем мы с нашими веслами.
— А почему бы и нам не поставить парус? Как ты думаешь, Бен, смогли бы мы? — откликнулся юнга.
— Об этом самом я сейчас и думаю, дружок. Надо только сообразить, из чего бы нам его сделать. Есть у нас брезент от кливера. На нем мы с тобой сейчас сидим. Но брезент слишком толст. А как насчет веревок? Постой, у кливера есть кусок кливер-шкота-это то, что нам нужно. Есть гандшпуг и два весла. Поставим-ка весла торчком и натянем между ними брезент.
Матрос так и сделал. Оторвав кусок брезента, он натянул его между веслами и крепко привязал к ним. И вот самодельный парус, вздувшись, уже подставлял ветру свои несколько квадратных ярдов, что для такого плота было вполне достаточно.
Теперь оставалось только править и следить за тем, чтобы плот шел по ветру в нужном направлении. Для этого матрос пустил в ход гандшпуг вместо руля или рулевого весла.
Бен Брас, усевшись позади паруса с гандшпугом в руках, с удовлетворением смотрел, как отлично он работает. И действительно, едва только ветер надул парус, как плот поплыл по воде со скоростью не меньше пяти узлов в час.
Едва ли большой плот с его шайкой головорезов, чуть не ставших людоедами, двигался быстрее. Следовательно, на каком бы расстоянии он ни находился, маловероятно, что он их нагонит.
Убедив себя в этом, матрос больше не думал о недавно угрожавшей ему и его юному спутнику опасности. Но, чувствуя, однако, как много страшного ждет их еще впереди, они не могли позволить себе ни обменяться хотя бы единым словом радости, ни поздравить друг друга.
Долго молча сидели они, охваченные отчаянием. Лишь слышно было, как в тишине журчит и плещется вода, вскипающая жемчужной пеной по обеим сторонам плота.
Глава IV. ГОЛОД-ОТЧАЯНИЕ
Но ветер оказался слабым и дул недолго. Такой ветер моряки называют «кошачья лапка». Силы его хватает только на то, чтобы чуть взволновать воду, и длится он обычно не больше часа. И вот опять наступил мертвый штиль, и поверхность океана стала ровной, как зеркало.
Маленький плот недвижимо лежал на воде: самодельный парус был бессилен сдвинуть его с места. Все же он и теперь приносил пользу, заслоняя наших скитальцев от солнца; только что поднявшись над горизонтом, оно тем не менее жгло уже со всей беспощадной силой, свойственной ему в тропиках.
Бен больше не предлагал грести, несмотря на то что угроза погони не миновала. Правда, они подвинулись на пять-шесть узлов к востоку. Но ведь и враги сделали, должно быть, столько же; следовательно, расстояние между ними не увеличилось.
Но оттого ли, что усталость и сознание безнадежности их положения подавили энергию Браса, или, может, матрос, поразмыслив хорошенько, действительно стал меньше бояться погони, только он не проявлял прежнего беспокойства из-за того, что они стоят на месте. Еще раз поднявшись, Бен внимательно, со всех сторон осмотрел горизонт, после чего растянулся в тени паруса, посоветовав юнге сделать то же. Вильям не заставил себя упрашивать и, как только улегся, сразу заснул.
«Хорошо, что он может спать! — подумал Брас. — Малый тоже ведь зверски голоден, вроде меня, ну, а пока спит, меньше мучится. Говорят, кто спит, может дольше продержаться. Не уверен я-так оно или не так. Одно знаю, что сколько раз, бывало, наемся я до отвала перед сном, а утром, смотрю, просыпаюсь такой голодный, будто лег, не взяв в рот и кусочка. Ох-хо-хо! Нечего и пробовать заснуть. Кишки в животе такой марш играют, что не только мне-самому старику Морфею
[5] вздремнуть не дадут. Хоть бы крошка чего-нибудь съестного на плоту! Последнюю четвертушку сухаря я проглотил больше полутора суток назад. Ох, чего бы такого съесть?.. Ничего не придумаешь. Башмаки, что ли, пожевать? Да нет, они так просолены морской водой, что от них только пуще пить захочется, а мне и без того больше невмоготу терпеть жажду. Вот беда! Ни еды, ни питья! Что ж это будет? Господи, услышь ты хотя бы молитву малыша Вильма! Моей молитвы ты, конечно, не станешь слушать — слишком большой я нечестивец. Ох-хо-хо! Еще день, два такой голодухи, и мы с Вильямом, пожалуй, оба заснем так, что больше уже и не проснемся».
Всю эту речь, произнесенную им про себя, отчаявшийся матрос закончил таким жалобным стоном, что Вильям сразу очнулся от своего беспокойного, чуткого сна.
— Что случилось, Бен? — спросил он, приподнявшись на локте и тревожно всматриваясь в лицо своего покровителя.
— Ничего особенного, — ответил матрос. Ему не хотелось пугать юношу своими мрачными мыслями.
— Ты стонал или это мне только показалось? Я испугался — думал, они нас догоняют.
— Нет, малыш, этого я не боюсь. Они, должно быть, от нас здорово отстали. При этаком штиле им лень будет и пальцем шевельнуть, не то что грести — по крайней мере, пока у них в бочонке остается хоть капля рома. Ну, а когда они весь его выдуют, то и вовсе не поймут, двигаются они или это их так спьяну качает. Нет, Вильм, не их нам сейчас надо бояться…
— Ох, Бен, я так голоден!.. Я бы что угодно сейчас съел!
— Знаю, малыш, анаю. Мне тоже до смерти есть хочется.
— Тебе-то, должно быть, еще больше моего, Бен. Ведь из двух твоих сухарей ты больше половины отдал мне. Ах, зачем я только взял! Теперь ты, наверно, ужасно мучишься от голода.
— Верно, Вильм, страх как хочется есть. А съел ли я сухаря кусочком больше или меньше, от этого дело не меняется. Все равно придется нам…
— Что «придется нам», Бен? — спросил юнга, заметив, какая тень легла на лицо его друга: таким мрачным и печальным он никогда еще его не видел.
Матрос промолчал. Он ничего не сумел выдумать, а сказать правду не захотел, жалея мальчика, и, отвернувшись, так ничего и не ответил.
— Я знаю, что ты хотел сказать, Бен. Ты думаешь, что нам придется умереть.
— Что ты, что ты, Вильм! Еще есть надежда. Кто знает, как еще дело обернется. Может, мы на нашу молитву получим ответ? Вот что, малыш: давай-ка снова ее всю прочитаем. На этот раз я больше смогу тебе помочь. Когда-то и я ее знал, а послушав, как ты читал, многое вспомнил. Начинай.
Вильям, укрывшись в тени паруса, стал на колени и опять произнес молитву. Матрос, тоже на коленях, своим огрубевшим голосом повторял за ним каждое слово.
Когда они кончили, Бен поднялся и долго-долго смотрел на океан.
Молитва облегчила бесхитросчную душу матроса, и на минуту его лицо осветилось надеждой… но только на минуту. Ничего утешительного глазам его не представилось. По-прежнему кругом простирался все тот же беспредельный, синий океан, а над ними все то же беспредельное синее небо.
Ненадолго согревшая душу надежда сразу же сменилась полным отчаянием, и матрос снова улегся ничком позади паруса. И опять оба друга молча лежали рядом. Но ни тот, ни другой не спали. Они словно оцепенели, сраженные полнейшей безнадежностью.
Глава V. ВЕРА — НАДЕЖДА
Как долго матрос и юнга пролежали в этом полубесчувственном состоянии, они не заметили. Во всяком случае, оно длилось, должно быть, не больше нескольких минут, потому что в таких обстоятельствах ум человека не в силах долго оставаться бездейственным.
Из этого состояния их неожиданно вывела не мысль, возникшая в сознании, а скорее чисто внешнее, зрительное впечатление.
Они лежали на спине с открытыми глазами, устремленными в небо. На нем не было ни облачка, которое сколько-нибудь разнообразило бы его однотонную, бескрайнюю синеву.
И вдруг эта однообразная синева вся расцветилась, запестрела множеством каких-то живых существ, которые, сверкая и искрясь, словно серебряные стрелы, пронеслись мимо них над плотом. В ярком солнечном свете мелькнули они изголуба-белыми пятнами, и в этих светлых ярких созданиях, которых по полету можно было принять за птиц, матрос узнал обитателей океанских глубин.
— Косяк летучей рыбы, — вяло заметил он, даже не приподнявшись.
И вдруг, увидев, как эти рыбы низко, чуть не задевая за парус, продолжают летать над плотом, матрос вскочил на ноги и крикнул:
— А что, если нам сбить одну из них?! Где гандшпуг?
Впрочем, последний вопрос он задал совершенно машинально, потому что тут же, не дожидаясь ответа, резким движением схватил гандшпуг, лежавший неподалеку от него, и высоко занес его над головой.
Возможно, ему удалось бы сбить одно из этих крылато-плавающих созданий, стаей носившихся над ними, выскакивая из океана на поверхность, чтобы спастись от альбакоров и бонит. Но гандшпуг не понадобился: на самом плоту нашлось более верное средство добыть рыбу — сделанный Беном парус. Только матрос собрался было замахнуться гандшпугом, как что-то сверкнуло прямо перед его глазами, а до ушей донесся радостный возглас Вильяма: одна из летучих рыб с размаху ударилась о парус и, конечно, свалилась на плот. Слышно было, как она трепыхалась, путаясь в брезенте, видимо более изумленная, чем сам Брас, свидетель ее несчастья, или чем юнга Вильям, на лицо которого она свалилась. Если, как говорят, птица в руках стоит двух в кустах, то, руководствуясь той же поговоркой, рыба в руках стоит, должно быть, двух в воде и уж гораздо больше двух в воздухе.
Такие мысли мелькнули, вероятно, в голове у Бена Браса, потому что он, перестав размахивать гандшпугом в надежде оглушить и вторую рыбу, швырнул его на плот, а сам, нагнувшись, рванулся за той, которая по своей доброй воле или, вернее, вопреки ей оказалась их жертвой.

Она так металась, что могла, очутившись у края плота, вот-вот уйти в воду. Этого, несомненно, очень хотелось самой рыбе, но совсем не хотелось обитателям плота.
И чтобы этого не случилось, они бросились на колени, ползая, стали охотиться за рыбой, напоминая в эту минуту двух терьеров, которым не терпится поскорее вцепиться в мечущуюся между ними полевую мышь.
Юнге дважды удавалось схватить рыбу, но это скользкое создание со своими колючими плавниками-крыльями всякий раз ухитрялось выскочить из рук. Еще неизвестно было, поймают ли они ее или им суждено только испытать танталовы
[6] муки и, глядя на рыбу, касаясь ее, раздразнив свой аппетит, так и не полакомиться своей добычей.
Одна мысль о таком печальном исходе заставила Бена Браса напрячь все свои усилия, всю энергию. Он даже решил, что, если рыба упадет в воду, он тут же кинется следом за ней, поскольку рыбу, которая снова попадает в свою родную стихию, надо ловить, не медля ни одной секунды, пока она еще не успела опомниться. И только он подумал об этом, как ему подвернулся более надежный способ поймать ее, для чего совсем не было надобности прыгать за ней в океан и промокнуть до нитки.
Судорожно метавшаяся рыба действительно очутилась у самого края плота. Но ей не суждено было двинуться дальше. Брас сообразил, какой козырь идет ему в руки, и незакрепленным краем паруса накрыл забившуюся под ним пленницу. Сильно притиснув ее ладонью, Бен положил таким образом конец ее бешеным усилиям освободиться. И когда он приподнял парус, то увидел, что рыба лежит, чуть сплющившись; и, лишнее, конечно, добавлять, мертвая, как соленая селедка.
Простодушный матрос усмотрел в этой так вовремя посланной им пище всемогущую руку Провидения. И, не задумываясь, приписал это силе дважды ими прочитанной молитвы.
— Видишь, Вильм, это нам ответ на молитву. Давай-ка прочитаем ее еще разок, как бы в благодарность. Пославший нам еду может послать и пресную воду в открытом океане. Ну, малыш, как говорил, бывало, наш священник в церкви: Господу нашему помолимся!
И, закончив эту речь, хотя и произнесенную с торжественной серьезностью, но прозвучавшую довольно комически, матрос опустился на колени, вторя своему юному товарищу.
Глава VI. ЛЕТУЧАЯ РЫБА
Летучая рыба является одним из самых примечательных «чудес» океана. Вот почему мы в нашем повествовании, посвященном главным образом описаниям его глубин, не можем ограничиться краткой заметкой о ней.
Еще в самые давние времена, когда люди впервые стали плавать по морям и океанам, они с изумлением наблюдали одно явление, которое и в наши дни не только поражает каждого, кто впервые его видит, но и поныне остается загадкой. Рыба, существо, которому самой природой положено всегда пребывать в воде, выскакивает вдруг из глубин океана на поверхность и совершает прыжок высотой чуть ли не с двухэтажный дом! К тому же, прежде чем вернуться в свою естественную стихию, она, находясь в воздухе, может пролететь в длину на расстояние одной стадии
[7]. Удивительно ли, что это зрелище поражает даже самого равнодушного наблюдателя, заставляет задуматься любознательного, а для естествоиспытателя служит предметом самых интересных исследований.
Летучая рыба редко где водится, кроме теплых широт. Поэтому не многим из тех, кто не бывал в тропиках, случалось наблюдать ее в полете.
Существует не один вид летучих рыб; больше того, они столь разнообразны, что образуют два семейства, весьма разнящихся между собой.
Прежде всего мы скажем о двух видах летучих рыб, принадлежащих к роду летучек.
Один из этих видов — летучка европейская — водится не только в умеренных и тропических частях Атлантического океана, но и в Средиземном море. Эта пятнисто-бурая рыба достигает полуметра в длину. Ее огромные грудные плавники с острыми лучами придают головастой рыбе странный вид: во время полета она выглядит колючей «растопырой».
Другой вид летучек — летучка восточная — живет в Индийском океане.
Выскакивая из воды, летучки пролетают до ста метров и опускаются на воду. Нужно сказать, что летают они тяжеловато.
Долгоперы — вот кого можно назвать хорошими летунами! И сама их внешность говорит об этом.
У долгоперов — стройное вытянутое тело, небольшая голова, глубоко вырезанный хвостовой плавник и очень длинные заостренные грудные плавники. Огромный плавательный пузырь занимает половину объема тела долгопера. Это очень важное обстоятельство: уменьшается вес рыбы и облегчается ее полет.
Известно много видов долгоперов.
По своим повадкам они очень схожи друг с другом, но различаются окраской и теми или иными особенностями строения.
Долгоперы встречаются не только во всех морях жарких и тропических стран. Один из видов долгоперов живет в Средиземном море, можно увидеть его и у берегов Англии. Есть долгоперы и в северной части Японского моря.
Пищей долгоперам служат рачки, плавающие моллюски и мелкая рыба. И сами они-добыча для более крупных рыб, например тунцов. Охотятся за ними и дельфины.
Спасаясь от врагов, долгоперы выскакивают из воды и несутся по воздуху. Но не всегда им удается уцелеть. В воздухе тоже есть враги: альбатросы и другие птицы открытого моря.
Летит долгопер наподобие бумажной стрелы — он планирует. Движущая сила-толчок хвостом, удар им по воде.
Спасаясь от преследователя, рыба мчится в воде, изо всех сил работая хвостом. Вот она поднялась к самой поверхности, высунула из воды голову… Мгновение — и сильный толчок-удар хвостом выбрасывает рыбу из воды.
О силе толчка можно судить по тому, что рыба поднимается на четыре, пять и даже шесть метров над водой. И она летит сто, полтораста и даже более метров. Конечно, прыжок может быть и ниже, а полет короче.
Продолжительность полета — от нескольких секунд до минуты. И понятно, чем сильнее разогналась рыба еще в воде, чем сильнее был последний удар хвостом, тем выше над водой она поднимется. А это означает, что тем дольше она продержится в воздухе; длиннее окажется спуск на воду.
Против ветра летучая рыба летит дальше, чем по ветру.
Во время полета долгопер, как и всякая летучая рыба, не машет своими огромными плавниками. Он не работает ими, как птица крыльями. Плавники помогают рыбе удержаться в воздухе — они служат своеобразным парашютом, но и только.
Летучие рыбы нередко взлетают около судна: врезавшись в стаю, судно вспугивает рыб. И они спасаются от него своим обычным способом: летят. Но они не так уж часто падают на палубу судна, особенно днем. В ветреные ночи это случается при боковом ветре. Причина проста: ветер заносит летучих рыб на судно.
Стайку долгоперов, поднявшихся в воздух, по ошибке легко принять за белокрылых птиц. Но сверкающий— особенно на солнце — блеск чешуи говорит о том, что перед нами рыбы.
Какое это очаровательное зрелище! Никто не может им вдоволь налюбоваться: ни старый «морской волк», наблюдающий его, должно быть, в тысячный раз, ни юнга, совершающий свой первый рейс и увидевший его впервые в жизни.
Сколько раз долгие часы скуки, томящие пассажира корабля, когда он сидит на корме, неустанно глядя на бесконечное водное пространство, сразу сменялись веселым оживлением при виде стайки летучих рыб, внезапно, сверкая серебром, поднявшихся из глубин океана!
Кажется, на свете нет существа, у которого было бы столько врагов, как у летучей рыбы.
Она ведь и в воздух-то поднимается для того, чтобы спастись от своих многочисленных преследователей в океане. Но это называется «попасть из огня да в полымя». Спасаясь от пасти своих постоянных врагов: дельфинов, альбакоров, бонит и других тиранов океана, она попадает в клюв к альбатросам, глупышам и прочим тиранам воздуха.
Многие испытывают жалость, или, во всяком случае, говорят, что ее испытывают, по отношению к этим прелестным и на вид столь невинным, слабеньким жертвам. Их состраданию наносится жестокий удар, когда они узнают, что эта «милая» рыбка ничем не лучше щуки и, подобно ей, является одним из тиранов океана. Она, оказывается, тоже самым безжалостным образом истребляет мелкую рыбешку — любую, какая только может пролезть ей в глотку!
Кроме этих двух описанных нами видов летучей рыбы, существуют еще некоторые другие обитатели океана, способные держаться в воздухе, — правда, всего в течение нескольких секунд. Они наподобие летучих рыб выскакивают из воды и целыми стаями поднимаются в воздух, спасаясь, как и летучие рыбы, от своих врагов — альбакоров и бонит. Это скорее головоногие моллюски. Китобои на Тихом океане называют их «летучие каракатицы».
Глава VII. ЖИВИТЕЛЬНАЯ ТУЧА
Летучая рыба, столь чудесно попавшаяся к двум смертельно голодным, затерянным в океане людям, принадлежала к особому виду «экзоцетус эволанс», или, как называют ее моряки, «испанская летучая рыба», — общеизвестная обитательница жарких широт Атлантического океана. Спинка и бока у нее были голубовато-стального цвета, брюшко — оливкового, отливающего серебристо-белым, а крупные плавники-крылья — пыльно-серого оттенка. Пойманная рыба была сравнительно крупным экземпляром -длиной в фут и почти в фунт весом.
Что и говорить, двум таким изголодавшимся людям ее хватило, что называется, на один зуб. Но все-таки немножко она их подкрепила.
Надо ли даже упоминать о том, что съели они ее сырой. Конечно, при других обстоятельствах они сочли бы это тяжелым испытанием, но сейчас им даже в голову не пришло разбирать, сырая она или вареная. Она им показалась настоящим деликатесом, и они только пожалели, что им досталось так мало.
Между прочим, летучая рыба — конечно, не сырая — является действительно одним из самых лакомых блюд, напоминая по вкусу свежую, хорошо приготовленную сельдь.
Но вот пришла новая беда. Теперь, когда они слегка заморили червячка, жажда, которая и без того изрядно их мучила, еще усилилась. Может быть, виновата в том была рыба с ее солоноватыми соками, но только не прошло и нескольких минут после того, как они ее съели, а жажда стала уже нестерпимой.
Переносить сильную жажду всегда и везде очень тяжело. Но нигде она не бывает так мучительна, как в море. Самый вид обилия воды, которую нельзя пить, потому что ею так же невозможно утолить жажду, как и сухим песком в пустыне, непосредственная близость этой водной стихии скорее распаляют жажду, чем облегчают ее. Что толку от того, что вы, окунув пальцы в соленую воду, попытаетесь охладить ею горящий язык и губы или смочить рот? Проглотить-то ее все равно нельзя! Это то же, что пытаться утолить жажду горящим спиртом. Стоит только взять в рот немножко этой горьковато-соленой влаги, как слюнные железы моментально пересыхают и всю внутренность начинает жечь с удвоенной силой.
Бен Брас хорошо знал это и раз или два, когда юнга, зачерпнув ладонью немного морской воды, подносил ее к губам, чтобы выпить, матрос уговаривал его не делать этого, потому что это только усилит мучения. Обнаружив у себя в кармане свинцовую пулю, Брас дал ее мальчику, посоветовав взять в рот и сосать. Это, учил его Бен, усилит выделение слюны и рот не будет так пересыхать. Конечно, это жажды не утолило, но стало как будто легче терпеть.
Сам Бен приложил топор лезвием к губам и, то прижимая язык к железу, то покусывая его, пытался добиться такого же результата.
Но все это служило только жалкими средствами уменьшить страшную жажду, которая вытеснила у них все мысли, все чувства — и веселые и грустные. Ни о чем, кроме нее, они больше не в силах были думать: все было заслонено этой мукой. Даже мысль о голоде отошла на задний план, ибо чувство даже сильнейшего голода куда менее мучительно, чем чувство сильной жажды. От голода тело слабеет, и от физического истощения притупляются нервы, отчего тело становится менее восприимчивым к переносимым страданиям. Между тем даже при самой нестерпимой жажде тело не теряет прежней силы и потому ощущает ее острее.
Так они мучились уже в течение нескольких часов и все это время не проронили почти ни слова. Лишь изредка матрос пытался ободрить своего юного друга, но чувствовалось, что слова утешения слетали с его уст совершенно механически и что, произнося их, он сам потерял всякую надежду на спасение. Но как ни мало осталось ее, он временами вставал, чтобы изучать горизонт; когда же его поиски заканчивались полным разочарованием, он опять опускался на брезент и, то лежа, то стоя на коленях, на короткий миг словно цепенел от отчаяния.
Из этого настроения его внезапно вывело одно обстоятельство, на которое юнга, хотя и заметивший его, не обратил никакого внимания. Неведомо откуда вдруг взявшаяся туча закрыла солнце — только и всего.
«Что это его так удивило?» — подумал Вильям, увидев, как поразило его товарища это незначительное явление. Действительно, Бен Брас, заметив тучу, вскочил и жадно уставился на небо. Лицо его преобразилось. Глаза, в которых только что читалось одно мрачное отчаяние, заблестели надеждой. Поистине, туча, омрачившая лик солнца, произвела, казалось, прямо противоположное действие на лицо матроса.
Глава VIII. БРЕЗЕНТОВЫЙ «БАК»
— Что с тобой, Бен?-спросил Вильям охрипшим, сдавленным голосом — так пересохло у него от жажды горло. — У тебя такой сияющий вид. Ты увидел что-нибудь хорошее?
— Вот что я увидел! — показал матрос на небо.
— Ничего не вижу, кроме этой большой тучи… только что за ней пряталось солнце. Что же тут особенного?
— Что особенного? Если мне это не показалось, туча несет нам то, чего мы с тобой хотим больше всего на свете!
— Воду?! — задыхаясь, крикнул Вильям, и глаза у него засияли от радости. — Ты думаешь, это дождевая туча?
— Я не буду Бен Брас, если это не дождевые тучи. Ты только взгляни, сколько их нашло! Мне никогда не приходилось видеть, чтобы такая гряда туч не разразилась дождем. И если ветер нагонит их сюда, они угостят нас таким ливнем, что только держись. Главное-они спасут нас от смерти… Смотри-ка, малыш! — закричал матрос. — Ветер гонит их к нам. Там, на западе, их немало собралось, и ветер дует оттуда. Ура, Вильям! Там уже идет дождь. Это так же верно, как меня зовут Бен Брас! Посмотри, какая мгла стоит в той стороне над океаном! Дождь от нас еще далеко, примерно милях в двадцати, но ничего, ничего: если только ветер не переменит направления, дождь должен дойти до нас.
— Но если б это и случилось, Бен, нам-то что толку от этого? Дождем не напьешься, в рот попадут только отдельные капли. А набрать воду нам не во что.
— Как — не во что! А на что наше платье, наши рубахи? Если только начнется дождь, он хлынет как из ведра. Я знаю, какой он бывает в этих местах. На нас и нитки сухой не останется: штаны, куртка, рубаха — все до последнего лоскуточка насквозь промокнет. Мы выжмем из них досуха воду и ею напьемся.
— Но куда же мы ее выжмем? Посуды-то у нас нет!
— Куда выжмем? Прежде всего себе в рот, а потом… В самом деле… Вот жалость! Как же это я не сообразил! Ведь нам и вправду некуда ее девать… Во всяком случае, главное сейчас-это вволю напиться, а там потерпим опять. И рыбки мы уж как-нибудь да наловим, только бы сейчас, сию минуту, хорошенько напиться воды! Эх! А дождь, смотри, все ближе к нам и ближе. Видишь те черные тучи? Молния по ним так и чиркает. Значит, наверняка сейчас и здесь хлынет дождь. Давай все с себя снимем и расстелим на плоту, чтобы дождь нас не застал врасплох.
И Бен Брас быстро принялся стаскивать с себя матросскую куртку, как вдруг, остановив на чем-то взгляд, задержал это движение на мгновение, и у него вырвалось одно слово: «Брезент!»
И матрос показал рукой на просмоленный брезент, служивший им теперь парусом, а раньше, на «Пандоре», навесом для кормового люка. Однако юнга не понял, что он хотел сказать этим
движением.
Заметив недоуменный взгляд мальчика, Бен не стал его томить:
— По-твоему, нам не во что набрать воды? Так, кажется, ты сказал? А это что, Вильм?
— О!-вскрикнул юнга, поняв наконец мысль матроса. — Ты думаешь..
— Я думаю, Вильм, что нам этой тары хватит с излишком: в нее войдут десятки галлонов воды.
— А разве брезент не даст ей просочиться?
— Конечно, недаром мы сделали его непромокаемым! Я ведь сам помогал промазывать его смолой. Из него получится такой бак, что лучше не надо. Расстелим брезент так, чтобы в середке у него образовалась впадина, и, когда начнется дождь, он столько нальет в нее воды, что хоть плавай в нем, как по озеру. Ура-а-а! Сейчас и здесь польет!.. Погляди-ка туда вон-дождь совсем рядом!.. Готовься! Убирай грот-мачту, отвязывай снасти! Вместо того чтобы, как поется в песне «Раскинем наш парус ветру навстречу», раскинем-ка мы его на плоту навстречу дождю. Живее, Вильм, живее, дружок!
Миг — и юнга уже был на ногах. Оба быстро принялись отвязывать веревки, удерживающие брезент, и через несколько секунд парус лежал на плоту. «Мачты» решено было оставить пока на месте, потому что они были прочно установлены в гнезда.
Сначала матрос решил, что они будут держать брезент на весу. Но у него было время хорошенько все обдумать, и он изменил свой первоначальный план. План этот тем не годился, что руки обоих оказались бы заняты. Положим, водичка и попала бы к ним в брезент, ну а потом? Что они стали бы с ней делать, как пить?
И Бен нашел выход. Взяв с плота парусину кливера, вместе с юнгой они соорудили из нее род низкого замкнутого барьера овальной формы, затем наложили брезент так, что он не только накрыл этот барьер, но часть его еще заходила за края. Потом они вдавили брезент в середине, отчего в нем получилось углубление достаточной емкости.
Они очень тщательно, что было необходимо в данном случае, просмотрели весь брезент, нет ли в нем прорех — как бы не вытекла драгоценная влага! Убедившись, что брезент цел, матрос взял Вильяма за руку, и, опустившись на колени, два друга жадно уставились на небо, глядя, как приближаются низкие, черные тучи, несущие им спасение.
Глава IX. ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ
Ждать им пришлось недолго. Гроза надвигалась все ближе и, к величайшему блаженству матроса и юнги, разразилась таким ливнем, словно у них над головой пронесся водяной смерч.
Не прошло и минуты — углубление в брезенте наполнилось водой на целую четверть. И оба жаждущих уже лежали ничком над ним, почти касаясь головами, и, приникнув к воде губами, жадно всасывали в себя чудесную влагу почти с такой же быстротой, с какой она лилась сверху.
Долго лежали они все в той же позе, наслаждаясь льющейся с неба водой. Ничего более вкусного они в жизни не пили! И так поглощены они были этим блаженным занятием, что, пока не напились до отвала, не произнесли ни одного слова. Зато промокли они насквозь: тропический ливень — непрерывный поток тяжелых, крупных капель — сразу же промочил их до нитки. Но наши друзья не сетовали на это, а, наоборот, наслаждались душем. Прохладная дождевая вода приятно освежила тело, сожженное палящим солнцем.
— Ну, малыш, — сказал Бен, отдуваясь после того, как проглотил не меньше галлона дождевой воды, — не говорил ли я тебе, что если мы получили в самое трудное для нас время еду, то получим и воду? Ты только посмотри, сколько ее натекло! Теперь нам надолго хватит воды и наше дело — не дать ей испариться. Если это случится, мы сами будем виноваты и, значит, стоим того, чтобы помереть от жажды.
— Но что мы можем сделать, когда нам не в чем ее сохранить?
— Надо что-то придумать. Дождь скоро перестанет. Возле экватора всегда так: хотя он и ливмя льет, а длится всего полчаса или того меньше. И только ливень кончится, снова выглянет солнце и начнет по-прежнему припекать. Тогда погибла наша вода — высохнет еще быстрее, чем налилась, если мы, конечно, оставим ее здесь… Увидишь, через полчаса наш брезент будет таким же сухим, как пух на спинке у глупыша.
— Неужели? Что же нам сделать, чтобы вода не испарилась?
— Дай подумать, — ответил матрос, почесывая в затылке.-Может, к тому времени, как дождь кончится, я что-нибудь соображу.
Несколько минут матрос просидел молча, озабоченно размышляя. Вильям с нетерпением следил за ним, ожидая результатов.
И вдруг вся физиономия матроса расплылась в улыбке — юнга понял, что он нашел удачный способ сберечь воду.
— Ну, малыш, дело наше, кажется, пойдет на лад. Я придумал, как нам обойтись без бочки.
— Правда, Бен? Ну как, как?
— Обойдемся брезентом. Он будет держать воду не хуже стеклянной бутылки. Я сам его промазал смолой, а уж если я что делаю, то делаю на совесть. Так и нужно, Вильм, правда?
— Правда, Бен.
— То-то оно и есть, малыш. Возьми и ты себе за правило — работать только добросовестно! Хорошая работа редко когда подводит. Зато плохая против тебя же оборачивается. Увидишь, мой брезент нас еще выручит…
Матрос прервал свои наставления, потому что дождь прошел и солнце, выглянув из-за туч, стало припекать по-прежнему.
— Ну, Вильм, давай приниматься за дело-у нас считанные минуты. Только сперва выпьем еще немножко воды, пока я не заткнул пробкой нашу бутыль.
Вильям, правда, не совсем понял, про какую бутыль с пробкой говорит матрос, однако послушно опять растянулся над углублением в брезенте и стал усердно пить. Бен сделал то же самое и втянул в свой объемистый желудок по меньшей мере еще несколько пинт живительной влаги. Затем поднялся, удовлетворенно крякнул и знаком велел подняться Вильяму.
Перед тем как приступить к работе, Бен рассказал юнге, в чем состоит его план. Благодаря этому Вильям мог быстро, толково ему помочь, ни на минуту не задерживая, что значительно облегчило дело, так как выполнить его можно было только вдвоем и работая во всю силу.
План Бена был довольно остроумен и в то же время прост. Сначала надо было приподнять все четыре угла брезента, а потом и все края, да так, чтобы не выплеснуть воду через кромку полотнища, и затем свести все концы вместе. Таким образом у них получился мешок с туго стянутым отверстием. Правда, немного воды при этом все-таки вылилось. И в то время как Бен держал мешок, плотно сжав складки у горловины, юнга ловко перехватил его под самыми руками Бена заранее приготовленной из толстой веревки петлей. Другой конец веревки он обмотал вокруг одной из «мачт» и стал ее затягивать. Когда он туго затянул брезент и матрос мог освободить руки, они уже вдвоем обхватили мешок второй петлей пониже и на всякий случай, дважды обмотав вокруг него веревку, завязали ее крепким узлом.
Лежавший на плоту брезент с водой походил на гигантское брюхо какого-нибудь диковинного зверя, вымазанное смолой. Но для того чтобы вода не просачивалась через складки, его нужно было держать всегда горловиной кверху. Это было делом нетрудным. Они подвесили мешок к верхушке весла-мачты, дважды обмотав другой конец веревки вокруг нее и тоже завязав крепким узлом. Теперь вода в брезентовом «баке» могла бултыхаться сколько ей угодно — вылиться ей все равно неоткуда.
Итак, им удалось запастись по меньшей мере двенадцатью галлонами питьевой воды, и хранилась она в надежной таре, полностью удовлетворявшей Бена.
Глава Х. ЛОЦМАН-РЫБА
После чудесного избавления от самой мучительной из всех видов смерти — смерти от жажды, матрос стал еще больше надеяться, что им удастся найти выход из отчаянного положения. И они с юнгой решили сделать все, чтобы эта надежда осуществилась.
Теперь у них был основательный запас воды, и при достаточной экономии им должно было хватить его надолго. Обеспечить бы себя теперь таким же запасом пищи, и тогда они, возможно, и продержатся, пока какой-нибудь проходящий мимо корабль не подберет их. А какое же еще могло быть средство спасения?
Раздобыть пищу — значило для них выловить ее из воды. Конечно, в этом бескрайнем океанском бассейне еды было сколько угодно — дело было только за способом ее получить.
Матрос хорошо понимал, что рыб, этих пугливых обитателей океана, не так-то легко поймать. При тех жалких способах рыбной ловли, какие у них имелись, все усилия поймать хотя бы одну рыбку могут окончиться неудачей.
Однако попытаться стоит. И матрос с юнгой приступили к работе с той бодрой уверенностью, с какой энергичные люди обычно берутся за трудное дело.
В первую очередь надо было приготовить удочки и крючки. Случайно у них нашлось несколько булавок, и Бен смастерил изрядное количество крючков. Для лесок они рассучили на отдельные пряди канат и сплели из них веревки нужной толщины. Из кусочков дерева подходящего размера сделали поплавки, а на грузило пошла та самая свинцовая пуля, с помощью которой бедняжка Вильям еще так недавно и безуспешно пытался утолить муки жажды. Кости и плавники летучей рыбы-все, что от нее осталось, — послужат наживкой. Не очень, правда, заманчивая приманка: на ней не осталось и намека на мясо, но Бена это не смущало. Он по опыту знал, что в океане много таких рыб, которые проглотят, не разбирая, хотя бы кусок тряпки.
В течение дня они много раз видели рыбу у плота. Но, страдая от жажды больше, чем от голода, и отчаявшись утолить ее, они и не думали заняться рыбной ловлей. Зато теперь они решили взяться за это дело всерьез.
Дождь прошел, ветер утих, океан походил на стекло. Тучи растаяли, и на ясном небе опять ослепительно сверкало знойное солнце.
Бен стоял на плоту, держа удочку, наживленную кусочком плавника летучей рыбы, и внимательно всматривался в воду. Она была так прозрачна, что на глубине в несколько саженей можно было бы разглядеть даже самую маленькую рыбку.
Вильям стоял у противоположного края с удочкой в руках, тоже в полной боевой готовности.
Долгое время их усилия оставались безрезультатными: вода кругом словно вымерла. Ни единого живого существа, ничего, кроме бесконечной синевы океана
— прекраснейшего зрелища, угнетавшего их сейчас своим однообразием.
Так простояли они с час, когда вдруг юнга радостно вскрикнул. Обернувшись, матрос увидел, что к краю плота, где стоял Вильям, подплыла рыба. Она-то и вызвала радостный возглас мальчика, уже собиравшегося забросить удочку. Но его радость сразу померкла: он заметил, что его покровитель совсем ее не разделяет. Наоборот, Бен при виде этой рыбы почему-то нахмурился.
Но почему? Что ему в ней не понравилось? Рыба была очень красива — маленькая, безукоризненной формы и прелестной расцветки: светло-голубая с поперечными кольцами более темного оттенка. Отчего же у Бена при взгляде на нее так вытянулось лицо?
— Незачем тебе забрасывать удочку, Вильм, — сказал он. — Эта рыбка не возьмет твоей наживки… не она ее возьмет.
— Почему? — удивленно спросил юнга.
— А потому, что у нее найдутся дела поважнее; ей сейчас не до того, чтобы промышлять для себя пищу. Верно, где-то здесь близко ее хозяин.
— Хозяин? Я что-то тебя не понимаю, Бен. Что это за рыба?
— Лоцман-рыба… Видишь, она уходит? Возвращается к тому, кто послал ее.
— Да кто же мог ее послать, Бен?
— Понятно кто: акула!.. Ну что, говорил я тебе? Взгляни-ка в ту сторону. Черт возьми, их целых две! Да какие крупные! Разрази меня гром, если мне когда-либо приходилось видеть этакую парочку! Ты посмотри, какие у них плавники, словно паруса! Лоцман-рыба уходила за ними, чтобы проводить их сюда… Пускай меня повесят, если они не к нам плывут!
Взглянув туда, куда указывал Бен, Вильям заметил два громадных, торчащих на несколько футов из-под воды, спинных плавника. Он сразу узнал по ним белых акул, так как ему уже не раз приходилось видеть этих океанских чудищ.
Действительно, все произошло так, как говорил Бен Брас. Рыба, только что плывшая саженях в двадцати от плота, вдруг круто повернулась и поплыла назад к акулам. А теперь она снова плыла сюда, держась на несколько футов впереди акул, словно в самом деле вела их к плоту.
«Но отчего у Бена такой встревоженный голос? — подумал юнга. — Видно, близость этих безобразных тварей таит в себе опасность!» Вильям угадал: Бен действительно был встревожен. Конечно, находясь на борту большого судна, можно было бы без страха глядеть на подплывавших акул. Но совсем другое дело
— этот зыбкий помост, такой плоский, что ноги у них находились почти вровень с водой: акулы легко могли напасть на них.
Матрос сам не раз был свидетелем таких случаев. И потому неудивительно, что, по мере того как акулы приближались, он испытывал уже не тревогу, а настоящий страх.
Но события развертывались так стремительно, что Брас не успел даже подумать, что предпринять в случае нападения, а юнга — расспросить его о повадках белых акул.
Едва Бен договорил последние слова, как акула, плывшая впереди, яростно хлестнула по воде своим широким, раздвоенным хвостом и, одним броском кинувшись к плоту, ударилась об него с такой силой, что он чуть было не перевернулся.
Вторая акула тоже метнулась к плоту, но, взяв почему-то в сторону, вцепилась своей огромной пастью в выступ одного из брусьев плота и перекусила его, словно брус был из пробкового дерева.
Мигом проглотив целиком огромный кусок, она перевернулась в воде, собираясь ринуться в новую атаку.
Брас с Вильямом побросали удочки. Матрос инстинктивно схватился за топор, юнга — за гандшпуг, и вот уже оба стояли рядом, приготовившись к новому нападению врага.
Оно не замедлило повториться. Только что нападавшая акула вернулась первая. Стрелой устремилась она вперед, выскочив чуть не всем туловищем из воды, и ее отвратительная морда очутилась над самым краем плота.
Еще секунда — и шаткий плот перевернулся бы или погрузился бы в воду, и тогда они достались бы акулам.
Но Бен Брас и его юный товарищ вовсе не собирались расстаться с жизнью, не попытавшись нанести хотя бы один удар, защищая себя. И матрос действительно нанес его-да такой, что мгновенно избавился от своего противника.
Для большей устойчивости обхватив одной рукой весло, служившее мачтой, другой он поднял топор и что было силы хватил им по гнусной образине. Удар, направленный меткой и сильной рукой, пришелся по морде акулы как раз между ноздрями.
Удачнее места для удара нельзя было и выбрать: нос у акулы — один из самых важных жизненных центров. Как ни велика акула, как ни сильна, но один удар гандшпуга или простой дубины между ноздрями, нанесенный сильной и уверенной рукой, — и уже никогда больше хищнику не преследовать свою добычу!
Так и случилось. Довольно было такого удара, какой отвесил ей Брас, чтобы страшная тварь мгновенно перевернулась брюхом вверх. Раза два еще взмахнула она своим огромным хвостом, по ее телу прошла сильная судорога, и вот она уже поплыла по воде, недвижная, как бревно.
Вильяму меньше посчастливилось со своим противником, хотя ему все-таки удалось отогнать его. Только чудище, ощерив свою огромную пасть, сунулось головой на плот, как юнга, замахнувшись, угодил ему гандшпугом прямо между челюстями.
Акула вцепилась в гандшпуг тройным рядом своих страшных зубов и, выбив его одним движением головы из рук Вильяма, понеслась прочь, дробя его зубами и глотая кусок за куском, словно это были хлеб или мясо.
Через несколько минут от гандшпуга осталось только несколько плавающих по воде обломков. Но куда большим удовольствием было видеть, как акула, превратившая гандшпуг в фарш, исчезла под водой и больше не показывалась!
Вильям и Брас удивились этому исчезновению; удовлетворила ли она свой ненасытный аппетит деревянным лакомством или же испугалась при виде участи, постигшей ее спутницу, гораздо более крупную, чем сама она,-так и осталось для них неразрешенным. Да это и мало их интересовало — важно было одно: они избавились от ужасного хищника.
Решив, что акула убралась от них навсегда, и глядя на вторую, перевернувшуюся белым брюхом кверху, они не смогли сдержать своей радости, и над океаном раздался громкий, ликующий клич победы.
Глава XI. СКУДНЫЙ ОБЕД
Убитая топором акула все еще шевелила плавниками, словно продолжая плыть.
Человеку, незнакомому с особенностями этих океанских чудищ, могло показаться, что она еще жива и в самом деле собирается уплыть. Но Бен Брас знал, что это не так. Много он брал их на крюк приманкой, помогая потом втаскивать на борт по сходням и рубить на куски. Бывалый матрос, много раз пересекавший Атлантику, он хорошо изучил повадки этих прожорливых тварей, так что на этот счет смело мог бы поспорить с любым кабинетным ученым-естествоиспытателем, никогда не видавшим акулу в ее естественной стихни. Брасу не раз приходилось наблюдать, как эту тварь втаскивали на борт с проглоченным ею огромным стальным крюком, а потом, вспоров брюхо и вынув внутренности, снова выбрасывали обратно в воду, и животное не только шевелило плавниками, но даже отплывало на порядочное расстояние от корабля. Более того, он видел однажды, как акулуразрезали надвое и отсекли ей голову, и все-таки обе части туловища долго еще обнаруживали признаки жизни. Говорят о живучести кошки или угря. Да акула перенесет смертельных мучений куда больше, чем двадцать кошек, вместе взятых, и все-таки будет еще некоторое время жить!
— А здорово я ее трахнул! — произнес, торжествуя, матрос при виде плывущей вверх брюхом акулы.-Угодил ей в самую середку морды! Теперь не станет к нам приставать… А где же твоя?
— Вот она куда убралась! — ответил юнга, показывая в ту сторону, куда исчезла меньшая акула. — Вырвала у меня из рук гандшпуг и изломала его в куски. Видишь, там на воде плывет несколько обломков? Это все, что осталось от нашего гандшпуга. Так рванула, что я выпустил его из рук. Едва на ногах удержался.
— Еще дешево отделался. Удивительно, как она тебя с плота не стащила вместе с твоим гандшпугом. Хорошо, что ты вовремя его бросил. Думаю, теперь она больше не сунет к нам носа после такого угощения. Моя-то, пожалуй, уж не очухается… Черт возьми, и о чем это я думаю? Ведь моя акула может пойти ко дну. Ну уж нет!.. Скорее, Вильм, давай мне сезень
[8], надо привязать эту рыбину, а то как бы она в самом деле не затонула. Н-да… Вздумали ловить рыбу удочкой! Много бы мы наловили!.. Давай-ка привяжем акулу, и тогда рыбьего мяса хватит нам на весь великий пост. Стань-ка на тот край плота, а то как бы я не перетянул и не бултыхнулся в воду… Так, так…
Последние указания матрос сделал, успев уже завязать петлю на конце протянутой ему Вильямом веревки. Миг — и петля в воде. Вот он подвел ее к пасти хищника — и петля уже на морде. Еще миг — и она затянута. Теперь другой конец привязать к мачте, и дело готово. И ей уже не утонуть. А чтобы акула не вздумала воскреснуть, Бен, перегнувшись через край плота, нанес топором ряд сильных ударов по голове, отчего ее верхняя челюсть стала похожей на колоду для рубки говядины в мясной. Теперь этой твари уже не ожить!
— Ну, Вильм, — сказал Бен, — вот у нас рыбы в избытке — досыта наедимся. Потерпи немного, я вырежу тебе такой кусочек, что ты пальчики оближешь. Из самого нежного места у акулы— возле хвоста… Возьмись за веревку да подтяни ко мне эту тушу поближе, чтобы я смог достать до нее. Юнга исполнил его приказание, а Бен, присев на корточки у самого края плота и взявшись за хвостовой плавник, живо отмахнул ножом такой кусок, что даже таким голодным, как они, его должно было хватить с избытком.
Излишне, конечно, говорить, что мясо акулы, как и летучую рыбу, они съели сырым, ничуть не пострадав от этого. Сколько племен, живущих на островах Южного моря, и вовсе не таких уж диких, едят мясо белой и синей акулы сырым, не считая нужным его варить! Ни матрос, ни юнга тоже не видели в этом необходимости. Но даже если бы у них и была возможность развести огонь, они все равно не стали бы возиться со стряпней -слишком уж они были голодны. И поэтому матрос и юнга без всяких церемоний пообедали сырым мясом акулы.
Наевшись досыта и еще раз утолив жажду из самодельного «бака», наши скитальцы почувствовали не только прилив новых сил, но и радостную веру в будущее. Воспрянув духом, они принялись обсуждать: что бы еще такое сделать, что предпринять, как спастись от смерти?
Да, опасность по-прежнему угрожала им. Если поднимется шторм или хотя бы свежий ветер, они не только лишатся всех своих запасов воды и пищи, но и самый плот разлетится вдребезги или погибнет во вспененных океанских волнах. Счастье еще, что они находились в той части океана, где неделями подряд царит полное затишье. Где-нибудь в высоких широтах-на юге или на севере-их плот продержался бы недолго: при первой же буре ему бы несдобровать. Умудренный опытом матрос хорошо это знал. Его беспокоило другое: гораздо чаще в этих местах кораблям угрожает противоположная опасность-штили. Недаром эти широты Атлантического океана ранние испанские мореплаватели прозвали «Лошадиные Широты». Дело в том, что в те времена из Европы в Новый Свет перевозили лошадей, и так как на кораблях, попадавших надолго в штиль, не хватало пресной воды, то лошади гибли в огромном количестве и их трупы выбрасывались за борт.
Гораздо более поэтичным и красивым именем те же испанцы прозвали другую зону Атлантического океана — за особенно тихий, ласково веющий здесь ветерок-«Море Прекрасных Дам».
И так как Бен Брас знал, что штормы в «Лошадиных Широтах» явление очень редкое, он был твердо уверен, что в конце концов они непременно спасутся, и поэтому не сидел и минуты без дела.
Глава XII. ПЛАСТАЮТ АКУЛУ
При умелом хранении и экономном расходовании так удивительно доставшихся им запасов воды и мяса акулы их могло хватить надолго.
За сохранность воды они не беспокоились: чтобы ее сберечь, было сделано все, что можно; разве еще только следовало накрыть брезентовый «бак» сверху куском сложенной в несколько раз парусины и тем предохранить его от солнечных лучей.
Другое дело — мясо акулы. Если не принять никаких мер, оно быстро протухнет и станет негодным в пищу, и тогда, даже умирая от голода, они не смогут к нему притронуться. Значит, надо что-то придумать. Посоветовавшись между собой, матрос и юнга остановились на самом простом и легком способе в условиях той знойной жары, какая царит в этих широтах: они решили провялить мясо акулы, как вялят всякую другую рыбу. Для этого требуется только разрезать его на тонкие пласты и развесить на веревках между мачтами-веслами, а остальное докончат солнце, ветер и воздух. В таком виде оно сможет сохраняться неделями, а то и месяцами.
Друзья тут же принялись за дело. Вильям снова подтянул огромную тушу акулы поближе к плоту, а Бен, раскрыв свой матросский складной нож, стал разрезать мясо на широкие, тонкие до прозрачности пласты.
Обрезав самые лакомые кусочки около хвоста, Бен велел юнге подтянуть к нему акулу поближе и приготовился уже пластать остальную часть, как вдруг громко paссмеялся.
Вильям обрадовался, увидев веселое лицо друга, — последнее время это так редко случалось.
— В чем дело, Бен? — улыбаясь, спросил он.
В ответ матрос, обняв рукой его за шею, заставил пригнуться к самой воде:
— Погляди в воду и скажи, что ты там видишь.
— Где? — спросил юнга, не понимая, куда смотреть,
— Неужто ты не видишь этой диковинки на акульем брюхе?
— Вижу, вижу! — закричал Вильям, только сейчас разглядевший эту «диковинку». — Маленькая рыбка, да? Она шевелит головой, прижавшись к акуле. Впрочем, маленькой она кажется только рядом с акулой. На самом деле она, верно, не меньше фута в длину. Но что она делает в этом странном положении?
— Что делает? Сосет акулу!
— Сосет акулу?! Ты серьезно это говоришь, Бен?
— А то как же? Она присосалась к ней так же прочно, как ракушка к медной обшивке корабля, и не отстанет, пока я ее не стащу, что сейчас и сделаю… Дай-ка поскорее веревку!
Мальчик протянул веревку и с любопытством стал следить за действиями друга. Матрос, сделав такую же петлю, как ранее для акулы, быстро закинул ее в воду и ловко обхватил ею туловище рыбы, казалось крепко-накрепко присосавшейся к акуле. Впрочем, это не только казалось. Рыба и в самом деле так прочно прикрепилась к брюху акулы, что Бен Брас при всей его силе с трудом ее оторвал.
Резко дернув веревку, ему все-таки удалось оторвать паразита-рыбу и втащить ее, живую, на плот, где она заметалась из стороны в сторону.
— Эге, голубушка, ты хоть и ленивая, сама плавать не любишь, а если захочешь удрать, только тебя и видели! — сказал Бен и, чтобы этого не случилось, пригвоздил рыбу ножом к плоту.
— Что это за рыба, Бен? — спросил Вильям, с интересом рассматривая так странно выглядевшее и не менее странно попавшее к ним существо.
— Прилипала! — кратко ответил матрос.
— Прилипала? Никогда о такой не слыхал. Почему она так называется?
— Потому что она прилипает…
— К чему?
— К акуле. Ты разве не видел, как она прилипла к акульим соскам, a? Xa-xa-xa!
— Нет, Бен, это неправда! Ты просто шутишь! — сказал Вильям, заинтригованный словами друга.
— Ладно уж, не стану тебя дурачить… Она и в самом деле прилипает к акулам и почему-то только к белым. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы она пристала к другой какой-нибудь акуле, а ведь их много — и все разные. А то, что она будто сосет ее и этим питается, — враки, хотя люди так говорят и даже называют ее «сосун-рыба». Но если тебе так скажут, не верь. Я-то уж видел, что точно так же она присасывается и к медному днищу судна или к подводной скале. А что она может высосать из меди или из камня? Как, по-твоему, может она себе добыть из них пропитание?
— Конечно, нет!
— То-то и есть. Значит, она их не сосет. Я не раз вспарывал брюхо такой рыбе, чтобы посмотреть, чем она питается, и видел только всяких мелких водяных гадов — их в океане тьма-тьмущая, и притом самых различных. Вот давай и эту взрежем. Увидишь, у нее в брюхе то же самое.
— А тогда зачем же она присасывается к акуле или к кораблю?
— Мне говорили зачем. И мне кажется, что это больше похоже на правду, чем чепуха, будто рыба присасывается к акуле или к медной обшивке корабля, чтобы их сосать. На военном фрегате, где я прослужил два года, был один ученый-доктор… Здорово он разбирался во всяких таких мудреных делах! Так вот: он говорил, что прилипала очень плохо плавает. И это правильно: откуда ей хорошо плавать, если у нее такие маленькие плавники? И будто поэтому она и присасывается к акулам или к кораблям, чтобы ей не приходилось много плавать и легче было перебираться с места на место. А к скале будто она пристает, чтобы отдохнуть. Вздумается ей — она от нее отцепится, поохотится за добычей и опять вернется или к другому чему пристанет.
— А что это у нее за странная штука на голове? Это благодаря ей она присасывается?
— Правильно, Вильм: с помощью этого щитка она и присасывается. И заметь, малыш: если захочешь снять ее, потянув вверх или назад, ты ни за что не оторвешь, сколько ни старайся. Даже я не мог бы этого сделать. Чтобы сорвать с места, надо двинуть рыбу немножно вперед, как я сейчас сделал, или оторвать по кускам, иначе ее не снимешь… Однако мы с тобой заболтались. Давай-ка примемся опять за дело. А после, как опять проголодаемся, полакомимся прилипалой. Вкуснее еды во всем свете не сыщешь. Я ее не раз едал, когда бывал на островах Южных морей. Местные жители ловят ее удочкой. Только тамошняя прилипала не чета этой-она фута три длиной, а то и побольше, — заключил матрос и принялся опять резать мясо акулы на широкие, тонкие пласты.
Глава XIII. ПРИЛИПАЛА
Прилипала, или, как ее называют ученые, «эхенеис ремора»,-одно из самых своеобразных существ, населяющих океан. Но она своеобразна не так по внешности, как по своим повадкам. Однако и внешность у нее тоже довольно-таки странная. При виде ее невольно возникает мысль: вот самый подходящий компаньон акуле, этому свирепому тирану океанских глубин. И действительно, эта рыба — ее постоянный спутник.
У прилипалы черное гладкое туловище с короткими, широко раздвинутыми плавниками. Уродливой формы голова, громадный рот, причем нижняя челюсть выдается вперед, далеко заходя за верхнюю, что придает особенное безобразие ее физиономии, если можно назвать рыбью морду физиономией. Губы и челюсти густо усеяны зубами, а глотка, небо и язык сплошь в коротких шипах. Глаза темные, высоко поставленные. Присоска, находящаяся на голове, так называемый щиток, состоит из нескольких поперечных складок, овалом установленных в ряд.
Все, что рассказывал Брас об этой рыбе, было совершенно правильно, но он не упомянул о многих не менее интересных ее особенностях.
У прилипалы нет плавательного пузыря и очень слабо развиты плавники. Поэтому, вероятно, она одарена, как бы в вознаграждение за то, что природа ее так обделила, способностью прилипать к плавающим в океане существам или предметам. Белая акула с ее медленными, крадущимися движениями хищника очень подходит для этой цели. Она является для прилипалы одновременно и средством передвижения и местом отдыха — вот почему белая акула всегда плавает, окруженная этими странными спутниками.
Прилипала присасывается и к другим предметам, плавающим на поверхности воды: к бревну или к днищу корабля. Как утверждал матрос, случается ей отдыхать и на подводной скале. Присасывается она и к черепахам, к китам, даже к альбакорам размером покрупнее.
Питается прилипала главным образом креветками, моллюсками и тому подобной океанской мелюзгой. Но через аппарат для присасывания никакой пищи к ней не поступает, и, прилипнув к какому-нибудь животному, прилипала совершенно не причиняет ему вреда. Этим аппаратом она пользуется лишь иногда. А остальное время плавает вокруг-если можно так выразиться-«места своего жительства», одновременно выслеживая себе добычу. Плавает она с помощью поперечных движений хвоста, быстрых, но очень неровных и неуклюжих.
В свою очередь, прилипала является добычей для других рыб, вроде, например, двузуба или альбакора. Зато акула щадит ее, как щадит она и лоцман-рыбу, никогда не преследуя ни одной из них.
Прилипала бывает как совсем белого, так и черного цвета.
Часто они обе совместно сопровождают акулу. Белая прилипала, вероятно, разновидность черной, так называемый альбинос.
Если акулу, подцепив на крюк, втащить на борт судна, то сопровождающие ее прилипалы несколько дней будут, не отставая, плыть за судном. Тогда их можно ловить удочкой, наживленной кусочком мяса: они клюют даже в самой тихой воде. Но как только прилипала схватит приманку, надо немедленно вытаскивать удочку, не то она тотчас же подплывет к борту корабля и так крепко присосется к нему, что никакими усилиями ее не оторвешь.
Хорошо известны два вида прилипал. Один, о котором мы сейчас говорили, самый распространенный. А другой, более крупного размера и реже встречающийся, водится в Тихом океане и называется «эхенеис аустралис». Последнего вида прилипала благообразнее своего сородича, быстрее плавает и вообще более подвижна и активна.
Пожалуй, самой интересной подробностью в истории этой рыбы является следующая. Оказывается, это та самая рыба, которую ранние испанские мореплаватели знали под названием «ремора». Колумб видел ее на Кубе и Ямайке, где туземцы с их помощью ловят черепах.
Делалось это так. Привязав пальмовую плетеную веревку к кольцу, которое предварительно надевали на хвост реморы в самой узкой его части, между брюшными и хвостовыми плавниками, они пускали рыбу обратно в воду. Другой конец веревки привязывали к дереву или обматывали вокруг скалы на берегу. Затем рыбе, закинутой на манер удочки, предоставлялась полная свобода делать все, что ей нравится. Конечно, она первым делом присасывалась к одной из тех крупных морских черепах, которые испокон веков славились своим нежным мясом и подавались на пирах у знати и современными чревоугодниками ценятся так же, как некогда ценились древними кациками
[9] на острове Куба.
Время от времени охотник за черепахами посматривает за своей «удочкой». Если веревка чрезмерно натянулась, значит, ремора уже прилипла к черепахе, и тогда охотник вытягивает веревку с ее двойным грузом. Хороший удар дубинкой по черепахе — и добыча поймана.
Таким способом вылавливают черепах колоссального веса. Вытаскивая ремору на веревке вместе с черепахой, ее тянут за хвост, то есть в таком направлении, что она никак не может — разве что рывок будет уж очень силен
— оторваться от черепахи.
Самое удивительное, что так ловят черепах и в наше время на берегу Мозамбика, и делают это люди, которые никогда не общались со старожилами Вест-Индских островов и потому не могли научиться у них этому любопытному способу использовать рыбу как удочку.
Более мелкие экземпляры этого вида рыб встречаются и в Средиземном море. Эта рыба была хорошо известна еще в древние времена, и о ней много рассказывают тогдашние писатели. Впрочем, как и большая часть таких существ, наделенных какими-нибудь необычайными свойствами, она являлась скорее предметом всяких фантастических небылиц, нежели реальной истории естествознания. О ней, например, рассказывали, что она пристает к килю и тянет корабль в противоположную сторону, пока тот не остановится. Ей приписывали еще более удивительное свойство, уверяя, что если преступник, убоявшись правосудия, хитростью сумеет накормить судью мясом этой рыбы, то он надолго избавится от преследования закона, так как судья не скоро вынесет ему обвинительный приговор.
Глава XIV. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАРУС
Солнце уже садилось, когда матрос и юнга кончили разделывать акулу. Плот теперь выглядел совсем по-иному. На веревках, протянутых в несколько рядов между веслами-мачтами, были развешены широкие, тонкие пласты мяса акулы. Издали все это множество висевших вплотную друг к другу беловатых лоскутов можно было принять за парус.
Они и действовали наподобие паруса, подставляя поднявшемуся к вечеру ветру довольно широкую поверхность и помогая таким образом плоту быстрее двигаться.
Править плотом не было смысла; на это и сил не стоило тратить: наши скитальцы понимали, что все равно на таком плотишке до земли им не добраться. Единственным средством спасения мог оказаться какой-нибудь проходящий мимо корабль, который подберет их. А так как нельзя было отгадать, с какой стороны он может появиться, то не все ли равно, к какому из тридцати двух румбов компаса их несет волной или ветром!
«Нет, не все равно! — подумал вдруг Брас. — Беда, если плот отнесет на запад. Где-то там дрейфует большой плот с этой шайкой негодяев и пьяниц, чуть не ставших людоедами. Они тоже, должно быть, по прихоти ветра или течения носятся по океану из стороны в сторону. Может, они еще больше нашего страдают от страшной жажды и голода. А может быть, кому-нибудь из них пришлось покориться той жуткой судьбе, которую они готовили юнге Вильму, — ведь не миновать бы ему ее, если бы я не вмешался… Хорошо, что он спасся от них. Но попади он второй раз к ним в лапы, ему уже не вырваться».
Озверелая банда не пощадила бы и самого Бена Браса, мстя за нанесенный им «ущерб».
Вот почему Бен, как только подул ветер, тотчас же повернулся к солнцу, чтобы определить, в каком направлении движется их плот. И неудивительно, что его тревога сразу прошла: их относило на восток.
— А ведь действительно на восток! — сказал он — Вот странно! В этих местах, как я замечал, ветер почти всегда дует с востока на запад, а теперь наоборот. Но ветерок этот недолго продлится. Это опять всего-навсего «кошачья лапка». Как только он стихнет, сразу же начнется штиль. Ну да ладно, только бы не подул ветер, который отнесет нас к большому плоту!
Его явное нежелание, чтобы ветер отнес их назад, было вполне понятно Вильяму. Страшная картина вчерашнего дня была еще свежа в его памяти. Он не забыл, как десяток озверевших негодяев угрожали ему смертью и только один мужесгвенный человек не побоялся вступиться за него, рискуя собственной жизнью. Слишком страшная картина, чтобы ее можно было так скоро забыть!
И он не забывал ее, не забывал ни на минуту. Правда, когда на них напали акулы, непосредственная опасность вытеснила у него из памяти страшные воспоминания. Но как только опасность миновала, они вернулись вновь. Хотя весь день он был занят работой, но нет-нет, да и вставала перед ним эта картина, словно жуткий кошмар наяву. Чуть не каждые несколько минут он бессознательно поворачивался к западу, тревожно вглядываясь, не виднеется ли вдали страшный плот вместо ожидаемого ими корабля.
Но вот работа окончена. Даже матрос, а не только его более слабый товарищ, почувствовал сильную усталость. Не присев ни на минуту, Бен Брас стал опять внимательно вглядываться в горизонт; мальчик же улегся на голые доски плота.
— Устал, малыш? — мягко спросил матрос. — Постелил бы остаток парусины, да и заснул бы как следует. Зачем же обоим мучиться и не спать. Я отстою свою вахту до самых потемок и тоже улягусь. Ложись, выспись хорошенько.
Вильям слишком устал, чтобы возражать. Подложив под себя парусину, он лег и, уютно свернувшись клубком, тут же заснул.
А матрос все стоял и тщательно оглядывал горизонт, то беспокойно всматривался в поверхность воды, слабо журчавшей у края плота, то опять устремлял взор в темнеющие дали океана. Но все его старания разглядеть что-нибудь были тщетны.
Так стоял он до тех пор, пока вечерние сумерки — очень короткие в этих широтах — не сменились полной тьмой.
Все предвещало безлунную ночь. Только несколько слабо мерцающих звезд, скупо рассеянных по небосводу, помогали ему отличить небо от воды. Пройди сейчас на расстоянии кабельтова от плота судно под всеми парусами, и то его не заметишь. Продолжать бодрствование в такой темноте было не к чему. Придя к такому заключению, матрос тоже улегся возле спящего дружка и скоро, так же как он, забылся сладким сном, в котором растворились все их бесконечные беды и треволнения.
Глава XV. ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС
Так спали они несколько часов подряд, забыв о минувших злоключениях, не думая ни о тех опасностях, которые их окружают, ни о тех, которые еще ожидают их впереди.
Какая картина! И никого, кто бы ее видел! На маленьком, немногим длиннее их самих, утлом плоту среди безбрежного, беспредельного, как сама вечность, океана спят два человека — так безмятежно, словно покоятся на мягкой постели на твердой земле и с надежной крышей над головами. Да, этот жалкий, затерянный в океане плотишко и мирно спящие люди на нем было редкостное зрелище!
К счастью, вот уже несколько часов, как они наслаждались тем глубоким, сладостным сном, в котором все забывается: все страхи, все беды. И как же не назвать такой сон наслаждением! Было уже далеко за полночь, а они все еще спали. Да и что могло их разбудить? Все тот же западный ветерок и нежное журчание воды у плота скорее лишь усыпляли их, как ребенка колыбельная песенка.
Юнга проснулся первым. Он дольше спал, и отдохнувшие, успокоившиеся после сна нервы острее воспринимали внешние впечатления. Проснулся он от того, что несколько крупных, тяжелых капель упало ему на лицо.
Что это? Брызги воды, долетевшие к нему от краев плота, бороздящих воду?
Нет, это были капли дождя. Небо было черным-черно. Но в ту минуту, как Вильям взглянул на него, сверкнула молния, ярко озарив своим светом океан и небо. И тут же все вокруг опять погрузилось в глубокую тьму.
Мальчик снова прижался щекой к брезенту, собираясь уснуть.
Его не испугала эта беззвучная, похожая на зарницу, молния. Не испугали и зловещие дождевые тучи. Его так часто мочило и ливнем и брызгами океанской волны, что он не боялся промокнуть лишний раз.
И он бы преспокойно заснул, если бы вдруг не услышал какой-то таинственный звук. Может быть, никакого звука и не было и он ему только почудился, но все равно он не мог уже заснуть и так испугался, что у него вообще пропало всякое желание спать. Что ж это такое было? Человеческий голос?..
Но, может быть, это вскрикнула чайка, фрегат или качурка? Нет, это кричали не они. Юнга умел различать голоса как этих птиц, так и многих других. Неожиданно послышавшийся звук совсем не походил на крик птицы.
Это был человеческий голос, вернее — голос ребенка, причем не младенца, а девочки лет десяти.
И в этом голосе не слышалось жалобы, он был просто немного грустный. Может быть, со сна Вильяму показалось, что девочка с кем-то разговаривает?
Но это было невероятно, просто немыслимо! Его, должно быть, обмануло воображение, или он действительно принял за голос человека сонное бормотание какой-нибудь неизвестной ему океанской птицы.
Разбудить Бена и рассказать ему про все? А вдруг окажется, что это не человеческий голос, а чирикает спросонья какая-нибудь океанская пичуга, и он зря его разбудит? Бен ведь так нуждается в отдыхе. Конечно, он не рассердится, что Вильям его разбудил, но зато здорово высмеет, если он ему скажет, что в такое время ночи среди Атлантического океана разговаривает какая-то маленькая девочка. Чего доброго, еще скажет, что это морская сирена, и начнет отпускать на его счет всякие шуточки. Нет, он не хотел быть посмешищем даже для своего лучшего друга. Лучше уж промолчать.
И Вильям решил не будить матроса, а выбросить весь этот вздор из головы: все это ему только почудилось.
Но стоило только ему опуститься на свое жесткое ложе, как опять послышался тот же голос. На этот раз он звучал еще явственнее, словно девочка говорила громче или была ближе.
«Если это не голос маленькой девочки, — подумал Вильям, — значит, я никогда не слышал, как щебетала моя сестренка или болтали в детстве мои подружки по играм. А если это голос маленькой сирены, значит, сирены умеют разговаривать, потому что произнесено было не одно, а много слов подряд. Нет, надо разбудить Бена. Это не обман слуха, не игра воображения. Где-то поблизости разговаривает либо маленькая сирена, либо девочка. Ничего не поделаешь, придется разбудить Бена».
— Бен! Бен!..
— А-а-а! О-о-ох! Что за шум? Никак, семь склянок? Да ведь я не на «собачьей вахте"
[10]. А-а-а! Это ты, Вильм? Что случилось, малыш?
— Бен, я слышу какие-то звуки.
— Звуки? Ну и что же? Тут посреди океана всегда что-нибудь услышишь. Мало ли здесь всякого зверья да птицы… Эх, малыш, мне снился такой хороший сон, когда ты меня разбудил! Будто я опять на своем старом фрегате… Ну, а что, собственно,
хорошего было в моем сне? Ничего будто и не было: боцман поднял меня со сна, разорался над ухом, чтобы я скорее шел на вахту. А все-таки на той вахте было полегче, чем на теперешней. Так ты говоришь, будто что-то слышал, а?
— Я слышал голос. Во всяком случае, мне показалось, что это — голос.
— Голос? Человеческий голос?
— Да, по-моему, это был голос девочки.
— Голос девочки? Ты что, малыш, рехнулся? Ну-ка, подвинься ближе. Дай мне взглянуть на тебя.
— Совсем я не рехнулся, Бен. Я действительно слышал человеческий голос. Дважды слышал. Первый раз я подумал, что ошибся. Но сейчас услышал второй раз, и я…
— Если бы тут не водились буревестники, чайки, я не знал бы, что тебе и ответить. Они ведь кричат да плачут в точности как малые дети. Это их голоса ты и слышал. Тут их полным-полно, да и сирен тоже. Сам подумай, откуда тут взяться девочке? Ну, мужчине — это еще куда ни шло, и то…
Матрос не договорил и, вздрогнув, весь выпрямился и стал напряженно прислушиваться. Сквозь ветер, сквозь шум воды к ним донесся голос мужчины.
— Мы пропали, Вильм! — прошептал он, уже больше не слушая.-Это голос Легро! Самого главного из этих кровожадных людоедов на большом плоту. Значит, большой плот где-то здесь близко. А мы-то думали, что навсегда от них избавились! Приготовься, друг! Пришел, видно, наш смертный час…
Глава XVI. ЕЩЕ ЛЮДИ, ЗАТЕРЯННЫЕ В ОКЕАНЕ
Если бы все эти события происходили днем, а не ночью, Брас и его юный товарищ не испугались бы так незнакомого голоса, доносившегося к ним с ветром. При свете дня они разглядели бы много такого, что не только бы не ужаснуло их, а, наоборот, заставило бы приблизиться.
А несло к ним сейчас вовсе не большой плот и услышали они не голос Легро или кого-нибудь из его гнусных спутников, о которых они с перепугу прежде всего подумали…
Если бы их глаза могли проникнуть сквозь глубокую темноту, окутавшую океан, они бы увидели множество вещей, носившихся, подобно им самим, по воле ветра или волн. Они заметили бы обгорелые бревна, обломки рей с остатками снастей и парусов, бочки и бочонки, почти затонувшие от тяжести своего содержимого. И чего только не было среди этих вещей! Доски упаковочных ящиков, вдребезги разлетевшихся, словно от страшного взрыва, каютная мебель, всевозможные плошки, миски, клетки-курятники, весла, гандшпуги и еще много всякой всячины. Все это носилось, покачиваясь на волнах, гонимое туда-сюда ветром.
Многие вещи плыли, сбившись в кучу, а многие рассеялись по океану на целую милю кругом. И если бы сейчас было светло, матрос с юнгой, увидев эти вещи, повсюду пестревшие на гладкой поверхности океана, сразу узнали бы в них остатки сгоревшей «Пандоры», с которой они едва спаслись.
А как бы им пригодились многие из этих вещей! Выловив их, они перестроили бы свой шаткий плот, сделали бы его надежнее, крепче. Плот явно в этом нуждался: он с трудом выдерживал тяжесть двоих людей и, уж конечно, развалился бы при первом же натиске шторма. Кроме того, среди всех этих блуждающих в океане предметов они увидели бы один, совсем не похожий на остальные, которому они бы сильно удивились и обрадовались.
Это был плот, немногим больше того, на котором они плыли сами, но построенный совсем по-иному. Несколько полусожженных досок, диван, бамбуковое кресло и еще какая-то легкая мебель-все это было кое-как связано вместе веревками. Плот этот был неуклюжий и, пожалуй, еще менее подходил для плавания по Атлантическому океану, чем тот, на котором находились Бен Брас с Вильямом. Но он выгодно отличался от их плота. Его мореходность обеспечивалась одним приспособлением, до которого не додумался или не успел додуматься матрос. Со всех сторон к нему были подвязаны пустые, плотно закупоренные бочки, благодаря которым он мог плыть, выдерживая на себе тяжесть примерно тонны в две. Кроме того, за плотом на буксире плыл небольшой бочонок, привязанный к плоту явно не для того, чтобы увеличить его плавучесть: бочонок, наполовину погруженный в воду, был не пустой.
Конечно, все эти вещи, случайно или по прихоти волн, могли сбиться в кучу и плыть вместе. Но не мог же плот связаться сам собой. Ясно, что это было сделано руками человека. И действительно, на плоту, окруженном со всех сторон бочками, сидел сам строитель этого странного сооружения. Это был человек примечательный, он привлек бы внимание каждого при любых обстоятельствах — чистокровный негр с лоснившейся, как эбеновое дерево, кожей, с крупным, почти квадратным черепом, покрытым низкой шапкой курчавых волос, да таких густых, что, казалось, это не волосы, а плотно свалявшаяся, словно приросшая к голове шерсть. Большие, сильно оттопыренные уши, широкий, как говорится, до самых ушей, рот с толстыми, выпяченными губами напоминали гориллу или шимпанзе.
И все же, несмотря на довольно безобразные черты, лицо негра вовсе не было отталкивающим или даже неприятным. В обычное время улыбка, сверкающие белые зубы и ярко-красные губы делали его лицо даже привлекательным. Во всяком случае, это говорило о том, что негр — человек неплохой и добрый.
Но сейчас, когда он сидел на своем оригинальном плоту и глядел через фальшборт из бочек, он не улыбался; наоборот, лицо у него было хмурое и озабоченное.
В этом не было ничего удивительного, потому что негр был не один: с ним на плоту находилась девочка на вид лет восьми-десяти.
Она сидела, слегка съежившись, словно в испуге, пристально глядя на своего черного спутника и только иногда безучастно переводя взгляд на темную поверхность океана. На лице этого совсем юного существа было столько грусти и отчаяния, что видно было: она потеряла всякую надежду на спасение.
Хотя она не была негритянкой, ее нельзя было назвать и белой. У нее была оливкового цвета кожа, но вьющиеся волосы, падавшие на плечи длинными локонами, и румянец на щеках говорили о том, что в ней больше кавказской, чем негритянской крови.
Тот, кто побывал на западном берегу Африки, увидев девочку, сразу бы догадался по типу ее лица, что она происходит из той смешанной расы, которая возникла в результате долгого общения между португальцами-колонистами и чернокожими туземцами.
Глава XVII. КАК СНЕЖОК СПАССЯ С НЕВОЛЬНИЧЬЕГО СУДНА
Читатель, вероятно, догадался, что негр и девочка, как и Бен Брас с Вильямом, тоже являются жертвами крушения невольничьего судна «Пандора». Поэтому мы расскажем лишь, кто были эти новые лица и как им удалось спастись от страшного жребия, от которого не спасся ни один из черных на этом невольничьем судне.
Негр, хотя и был чернее многих из его злосчастных соплеменников, не входил в их число и не был на этом судне «грузом». Он был членом команды «Пандоры» и служил на ней коком
[11]. Этого полновластного хозяина камбуза
[12], словно в насмешку, звали на судне Снежком. Африканец по происхождению, он родился свободным, но был продан в рабство. Затем, уже снова обретя свободу, он перебывал коком или стюардом
[13] на многих кораблях и не раз плавал вокруг света, избороздив чуть не все моря и океаны земного шара.
По натуре своей неплохой человек, он все же не совестился наниматься на невольничьи суда и не гнушался их команд, только бы ему платили хорошее жалованье и не скупились на запасы из корабельных кладовых. А так как на судах, занятых перевозкой негров-рабов, были щедры на этот счет, то Снежок часто на них и служил. Правда, с такой гнусной компанией, как команда на «Пандоре», Снежок столкнулся впервые и, надо отдать ему справедливость, стал откровенно ею тяготиться еще задолго до страшной гибели «Пандоры». Его желание убраться с корабля было почти таким же горячим, как и у Бена Браса с юнгой.
Однако он не рискнул бежать, когда они стояли у берегов Африки, так как хорошо знал, что там его поймают и снова продадут в рабство, от которого ему много лет уже как удалось освободиться.
Нельзя сказать, чтобы Снежок отличался безукоризненной нравственностью, но все же одной добродетелью он был наделен с избытком — способностью всю жизнь чувствовать благодарность к тому, кто сделал ему добро. Не обладай он этой добродетелью, он был бы сейчас один на плоту и не тревожился при мысли о безвыходности положения. Но именно оттого, что он умел сильно чувствовать благодарность, мысль о судьбе этой девочки, спасения которой он жаждал не меньше, чем собственного, нестерпимо мучила его.
В чем же была причина такой самоотверженной заботливости? Ведь девочка не была ему дочерью. Цвет кожи, черты лица говорили о том, что между нею и ее черным покровителем не может существовать близкое родство.
И в самом деле, никакого родства между ними не было. Девочка приходилась дочерью человеку, который стал его злейшим врагом, продав его в рабство. Но этот же человек впоследствии выкупил Снежка и этим на всю жизнь завоевал его благодарность.
Человек этот был прежде владельцем торговой фактории на побережье Африки. Последние же несколько лет он жил в столице Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Вот почему его дочка, родившаяся в Африке еще до его отъезда оттуда, оказалась в качестве пассажирки на борту «Пандоры» под покровительством Снежка. Она плыла к отцу, в его новую резиденцию на западе.
И как добросовестно негр выполнял свой долг ее защитника! Когда все покинули горящее судно и палуба уже пылала, верный негр сквозь дым и пламя, с риском для собственной жизни, спустился вниз в каюту, где девочка крепко спала, не подозревая об опасности, поднял ее и вместе со своей ношей на руках выбросился через окошко кормовой каюты в океан.
Плавал Снежок превосходно. Благодаря своей громадной физической силе он, и обремененный таким грузом, мог некоторое время продержаться на воде.
К счастью, ему попалась снасть шлюпбалки, с помощью которой спускали гичку, и, сунув ногу в петлю на конце ее, он полустоял, полуплыл в воде.
В эту самую минуту раздался взрыв, и судно с грохотом развалилось. Океан сразу же был усеян обломками дерева, бочками, бочонками, матросскими вещевыми сундуками, каютной мебелью и тому подобными вещами. Выловив кое-какие из них, Снежок соорудил нечто вроде плота и провел на нем вместе с ребенком остаток ночи. Утром, как только забрезжило, Снежок с ужасом увидел, что они с маленькой Лали совершенно одни и что его несчастных соплеменников на воде уже нет и в помине.
Вывезенные из глубины Африканского материка, из тех мест, где нет больших озер и рек, немногие из них умели плавать, и они, конечно, сразу же пошли ко дну. Остальных разорвали акулы — их очень много в этой части океана. И когда солнце поднялось над водой, осветив место, где разыгралась эта трагедия, Снежок с ужасом убедился, что среди всего этого безбрежного океана не осталось ни одной живой души, кроме него, маленькой Лали и акул с их спутниками.
Негр, однако, знал, что команда «Пандоры» спаслась. Он видел также, как тайком сбежал на гичке капитан горящего судна со своими сообщниками. И прежде чем решиться на отчаянный прыжок в воду. Снежок из окошка каюты видел, как они садились и как отчалила гичка. Он видел и как отвалил от судна большой плот, уносивший остальную часть команды.
У читателя, естественно, может возникнуть вопрос: почему Снежок не подплыл к большому плоту, к своим прежним спутникам? Почему он не попытался спастись вместе с ними? Причину этого мы вам сейчас откроем. Пожар на судне возник отчасти по небрежности самого кока. И он это знал, как знал и то, что об этом известно капитану и всей команде. Едва капитан, услышав крики «Пожар!», узнал о его причине, он вместе со своим помощником, не менее жестоким, чем он сам, так исколотили Снежка, что эти побои останутся ему памятными на всю жизнь. А когда и команда узнала причину пожара, то негра чуть было не растерзали на месте. Матросы уже схватили его, чтобы вышвырнуть за борт, как вдруг из люка, окутав всю палубу, вырвалось густое облако дыма. Забыв о Снежке, все бросились спасаться и, соорудив плот, отчалили от пылающего корабля.
Вот почему Снежок не стал искать спасения на большом плоту вместе с остальными. Ведь они будут ему беспощадно мстить и со злорадством, с яростью оттолкнут его от плота, нарочно для того, чтобы его разорвали акулы, которые, предвидя добычу, так и шныряли вокруг.
И Снежок решил лучше положиться на собственные силы, на удачу, а не ждать жалости от своих бывших товарищей, тем более что они за последнее время сильно его невзлюбили.
Может быть, это оказалось и к лучшему. Если бы он доплыл до плота и эта шайка негодяев разрешила ему остаться с ними, вполне вероятно, что они покусились бы на жизнь маленькой Лали, как покушались на жизнь юнги, лишь случайно избегнувшего страшной смерти.
Глава ХVIII. СНЕЖОК НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ПЛОТУ
Приключения, пережитые Снежком и Лали за шесть суток с момента гибели «Пандоры», были, правда, не так разнообразны, как те, что пережили матрос и юнга, но все же достаточно интересны, чтобы о них стоило рассказать.
Остаток ночи после взрыва судна Снежок провел на связанных им вместе обломках. Долго еще отдавались у него в ушах дикие, яростные вопли проданных в рабство чернокожих людей, когда они цеплялись за большой плот, а их от него безжалостно отталкивали. Он видел, как смутно забелел в темноте внезапно поднятый на плоту парус и плавно заскользил по волнам. Снежок слышал предсмертные крики и стоны тех немногих, которые хорошо умели плавать, но, выбившись из сил, пошли ко дну или были заживо съедены шнырявшими кругом акулами. Но вот до его ушей долетел чей-то последний вскрик, и стало тихо, как в могиле. Затихла, успокоившись, и темная поверхность океана. Даже хищные акулы и те на несколько минут покинули страшное место, словно вдоволь обеспечив себя пищей; они ушли вглубь, чтобы пожрать ее без помехи в бездонной океанской пучине.
Настало утро. Негр с девочкой увидели множество предметов, плававших вокруг места кораблекрушения, но ни одного живого человеческого существа. Тут-то Снежок понял, что, кроме шестерых, захвативших гичку, и команды на большом плоту, никто больше не ушел от гибели.
Эти негодяи и парус-то на плоту подняли, для того чтобы уплыть подальше от бедных утопающих, моливших о спасении и цеплявшихся за плот, который, конечно, скоро скрылся из виду. Шестеро в гичке тоже гребли изо всех сил, чтобы их не смогли догнать прежние друзья и спутники.
Снежок задавал себе вопрос, почему же никто из оставшихся в живых не попытался спастись, ухватившись за какую-нибудь доску, за бревно — ведь их кругом так много плавало. Читатель, должно быть, тоже недоумевает, почему они этого не сделали.
А между тем причина была очень проста. Негры, умевшие плавать, ринулись вслед за большим плотом и заплыли так далеко, что у них уже не хватило сил плыть назад к горящему судну, а когда раздался взрыв и судно разлетелось на части, их уже не было в живых. Другие же, почти потеряв рассудок, при виде того, как огонь подбирается к ним все ближе, в отчаянии попрыгали в воду и тут же утонули.
И вот Снежок очутился один вместе с маленькой Лали среди этой безлюдной пустыни океана на нескольких деревянных обломках, без еды, без капли питьевой воды.
Ужасное положение, от которого самый мужественный человек может впасть в полное отчаяние!
Но Снежок не знал, что значит отчаиваться. Сколько раз в жизни бывал он в самых трудных переделках, сколько изведал опасностей и на море и на суше! И вместо того чтобы в эту тяжелую минуту пасть духом и сложить руки, он стал думать о том, как бы ему вернее выпутаться из страшной беды.
Едва только стало светать, как среди множества обломков, плававших вокруг, ему бросилось в глаза нечто, сразу настроившее его-и без того не особенно унывавшего — на еще более радостный лад. Теперь-то уж он сделает все, чтобы выловить этот десятигаллоновый бочонок, плававший около самого плота, и спасет свою беспомощную спутницу и себя самого. По какой-то примете Снежок сразу же его узнал. Он вспомнил, что поставил этот бочонок у себя в камбузе, в укромном уголке, незадолго до пожара; в нем было несколько галлонов пресной воды, он сам наливал ее в этот бочонок, взяв украдкой из общего запаса до того еще, как команда судна согласилась перейти на строго ограниченный суточный паек питьевой воды.
Бывший кок «Пандоры» мигом выловил бочонок и крепко привязал его к одной из досок плота, на которой сидел верхом.
Если бы не этот так неожиданно найденный запас воды, Снежок при всей его жизнерадостности неминуемо в конце концов впал бы в отчаяние, потому что без воды ему с Лали долго бы не протянуть.
Неожиданная находка бочонка побудила его к дальнейшим поискам среди обломков разбившегося корабля.
Среди них оказалось много самых диковинных вещей. Одна из них особенно привлекла его внимание. Лениво покачиваясь на маленьких волнах, плыл нескладной формы бочонок: в таких обычно держат муку. Снежок узнал в нем своего давнишнего знакомца по кладовой на «Пандоре» и вспомнил, что он доверху полон отборными сухарями из личных запасов капитана.
Так как бочонок не был герметически закупорен, то, конечно, сухари в нем насквозь пропитались морской водой. Но бывшего повара это обстоятельство нисколько не смутило-на жарком солнце они живо высохнут. Не очень, правда, будет вкусно, но есть можно.
Бочонок был мгновенно выловлен и помещен в безопасное место на плоту.
Теперь, решил Снежок, прежде всего надо позаботиться о перестройке плота: его нужно сделать более крепким и надежным. И, выловив из воды весло, он, гребя им, стал разъезжать вокруг, подбирая все, что могло ему для этого пригодиться.
В самое короткое время он набрал множество различных деревянных обломков, среди которых нашел и часть своего камбуза. Из этого строительного материала он соорудил основательной крепости и величины плот, когда вдруг, к великому своему удовольствию, заметил, что, покачиваясь на волнах, невдалеке плавают шесть порожних бочек. Вот так повезло! Теперь он сделает свой плот мореходным. На судне этих бочек было чересчур много, и пожар-то произошел потому, что их слишком усердно опустошали. Но для его теперешней цели было бы лучше, если бы их оказалось как можно больше. Работая веслом, Снежок подплывал на плоту то к одной, то к другой, пока всех их не выловил. И когда он привязал их к плоту, они, поднимаясь над водой, образовали вокруг него нечто вроде фальшборта.
Закончив свою работу, Снежок еще несколько дней кружил на том же месте, где погибла «Пандора», и собирал все, что могло ему в дальнейшем оказаться полезным. Время от времени поднимался слабый, быстро стихавший ветер. И плот был неразлучен со всей этой массой окружавших его вещей — их несло ветром вместе, и куда плыл он, туда плыли и они.
Негру ни разу не пришла в голову мысль поставить парус и, отплыв подальше, отделаться от всех этих неодушевленных предметов, которые, окружая его, напоминали о страшном бедствии.
А может быть, мысль о парусе у него и возникла, но он отбрасывал ее как нестоящую. Снежок, правда, не имел никакого понятия о судоходстве, но зато он хорошо знал его практически и на собственном опыте проверил, что представляет собой необъятный Атлантический океан, особенно та часть, где лежит путь страшного, надолго запомнившегося ему «центрального маршрута», — по этому пути везли и его, как проданного раба. Он был неплохо знаком и с той частью океана, где они сейчас находились, и понимал, что, если он поставит на плоту парус, тот, послушный воле ветра, будет носить их из стороны в сторону, что нисколько не увеличит шансов на спасение от этой водяной могилы. Вся надежда Снежка была на то, что какой-нибудь проходящий корабль подберет их. И, твердо веря, что рано или поздно это случится, он предпочитал дрейфовать, пока ничего не предпринимая, вместе с другими неодушевленными жертвами кораблекрушения.
Глава XIX. СНЕЖОК СПАСАЕТСЯ, УХВАТИВШИСЬ ЗА КЛЕТКУ ДЛЯ КУР
Уже шесть дней Снежок вместе с маленькой Лали вели такую жизнь, питаясь одними просоленными морской водой сухарями и кое-какой другой провизией, которая случайно попадалась им среди плавающих вещей и обломков. Мучений жажды они не испытывали благодаря бочонку с водой.
Вероятно, поэтому Снежок все эти дни оставался бодрым и деятельным и ни разу не впал в уныние. Это было не первое в его жизни кораблекрушение и не впервые приходилось ему, старому морскому коку, блуждать затерянным в океане. Однажды во время шквала его сдуло ветром за борт и он отстал от своего судна. Сильный ветер помешал судну повернуть назад, чтобы его спасти. Снежок был отличным пловцом и продержался на воде, борясь с громадными волнами, чуть не целый час. В конце концов он все же, конечно, пошел бы ко дну, так как находился за сотни миль от берега. Но в ту минуту, как он уже потерял надежду на спасение, мимо проплыла клетка для кур, за которую он моментально уцепился. Клетка была очень большая и, несмотря на тяжесть Снежка, не дала ему потонуть.
Снежок сразу догадался: кто-то из товарищей сбросил ее с корабля для его спасения. Однако самого судна и след простыл. Несчастного пловца, несмотря на эту клетку, ждала несомненная гибель. К счастью, шторм пошел на убыль и ветер переменил направление. Судно, с которого Снежок упал, отнесло назад по его прежнему курсу. И когда оно оказалось от Снежка на расстоянии человеческого голоса, к нему на помощь подоспели товарищи и спасли его.
Снежок, вспоминая теперь об этом случае и оглядываясь на свою прошлую жизнь, решил, что таких страшных событий он пережил немало. И потому он будет действовать не как человек, который может еще надеяться на спасение, а как человек, уверенный в том, что непременно спасется.
В течение всех шести дней Снежок даже часа не провел без дела. Как мы уже говорили, он собрал много обломков погибшего корабля, плавающих вокруг, и соорудил солидный по размерам и прочности плот, затратив на это немало времени и труда, и бережно сложил на нем все съедобное, что ему удалось отыскать среди остатков судна. Закончив эту работу, Снежок занялся рыбной ловлей.
Около места, где произошло кораблекрушение, было много рыбы, большей частью акул. Прожорливые хищники, насытившиеся мясом несчастных негров, все же не покинули места катастрофы. На милю вокруг, где были рассеяны обломки судна, виднелись головы этих чудовищ. Они плавали то попарно, то группами, выставив из воды огромные, похожие на паруса, плавники, и шныряли по океану во всех направлениях в поисках новой добычи.
Снежку, как он ни старался, не удалось поймать ни одной акулы. Однако здесь было немало и другой довольно крупной рыбы, привлеченной надеждой поживиться, которую сулило разбившееся судно. То были альбакоры, бониты и много других океанских рыб. А вообще-то, исключая подобные печальные случаи, их можно лишь редко увидеть на поверхности океана.
С помощью гарпуна на длинной рукоятке — и когда только Снежок успел его смастерить! — он убил несколько рыбин. Таким образом к концу шестого дня его «кладовая» значительно пополнилась запасами: тут оказался альбакор, несколько бонит и три спутника акулы-лоцман-рыба и две прилипалы.
Выпотрошив рыб, Снежок нарезал их мясо тонкими пластами и разложил на бочках, чтобы оно хорошенько провялилось на солнце.
Стояла прекрасная погода, и повеселевший Снежок развил самую энергичную деятельность, стараясь любым способом раздобыть побольше еды, что, как мы видим, ему вполне удалось.
Теперь Снежок был спокоен: он и Лали продержатся не только несколько дней или недель, а, пожалуй, и целый месяц.
Водой они тоже были сравнительно обеспечены. Смерив бочонок каким-то одному ему известным способом, он точно рассчитал количество воды в нем и на сколько ее может хватить. Он с удовольствием убедился, что при строжайшей экономии они будут обеспечены водой на несколько недель.
И с этой мыслью он, впервые за все это время, спокойно и крепко уснул.
Не подумайте, что Снежок в продолжение всех ночей, проведенных ими на плоту, совсем не спал. Нет, часа два в ночь ему все же удавалось подремать. Ночи были темные, безлунные, кругом, на воде и на небе, одна чернота — и Снежку приходилось проводить их настороже, всматриваясь в темноту: вдруг пройдет какой-нибудь корабль и, проскользнув мимо, неслышный и незримый, лишит их единственной возможности спастись!
Маленькая Лали тоже принимала участие в этих ночных бдениях и сменяла Снежка, когда он, устав, уже не мог бороться со сном.
Но в эту ночь сторожить было бесполезно — ни луны, ни звезд не было, вокруг царила такая беспросветная тьма, что корабль мог пройти чуть ли не вплотную мимо плота и остаться незамеченным. Снежку и Лали ничего не оставалось делать, как лечь спать. И они растянулись на подстилках из парусины, как на самой удобной и мягкой постели, дожидаясь прихода волшебного сна.
Глава XX. ПРИ ВСПЫШКЕ МОЛНИИ
Не успел Снежок улечься, как сразу же захрапел.
Такой мощности звуки, какие издавал носом во сне Снежок, на океане редко услышишь, разве только если фыркнет кит, разбрызгивая воду, или запыхтит дельфин.
Но могучий храп Снежка не разбудил Лали. Раньше она его очень боялась, а теперь привыкла, и этот храп не только не мешал ей спать, но, наоборот, словно убаюкивал ее.
Было уже далеко за полночь, а они все спали. Но потому ли, что Лали спала более чутко, или потому, что Снежок всхрапнул особенно оглушительно, но только Лали вдруг проснулась.
Догадавшись, что ее разбудило, Лали улеглась поудобнее, собираясь опять заснуть, как вдруг увидела нечто такое, что сильно напугало ее, заставив забыть о сне.
В эту самую минуту непроницаемо-черное небо озарилось молнией, но сверкнула она не стрелой, не зигзагами, как обычно, а широкой полосой, которая на секунду закрыла весь небесный свод сплошным огненным покровом.
Поверхность океана тоже озарилась ярким блеском. И среди множества обломков и вещей, усеявших океан далеко вокруг — к ним глаза Лали за эти дни успели уже привыкнуть,-она увидела что-то необычное.
То была фигура красивого мальчика. Он, как ей показалось, стоял на коленях в воде или на чем-то едва над ней возвышавшемся.
При яркой вспышке света она успела разглядеть и кое-какие предметы возле него; среди них — два тонких шеста, поставленных стоймя, с какими-то белыми лоскутьями между ними.
Неудивительно, что это неожиданное явление так сильно поразило Лали. Откуда взяться человеку здесь, среди открытого океана, и как он удерживается на поверхности, стоя на коленях в воде? Неужели это действительно настоящий, живой мальчик? Или это только видение, внушенное ей воображением или вызванное причудливым сном, от которого она только что очнулась? Поэтому первым ее порывом было разбудить своего спутника.
Не дожидаясь вторичной вспышки молнии, она бросилась к своему черному опекуну.
— Что, что?-встрепенулся Снежок, внезапно разбуженный среди великолепного храпа. — Ты говоришь, увидела что-то? Да что же ты могла увидеть? Кругом ведь темно, как под землей. В таких потемках, Лали, дитятко, собственного носа и то не разглядишь. Небо черно, как кожа у меня, старого негра, и ни одной звездочки на нем. Ты, верно, ошиблась, моя чернушечка, ошиблась!
— Нет, Снежок, — уверяла Лали, путая португальские слова с негритянскими, — я не ошиблась. Когда я это видела, сверкнула молния, и на минутку стало светло-светло, как днем. И мне показалось, что я… нет, я действительно увидела кого-то!
— Мужчину или женщину?-недоверчиво спросил Снежок.
— Не мужчину и не женщину.
— Не мужчину и не женщину? Как же это? Тогда, верно… Может, это была сирена?
— Нет, Снежок! Тот, кого я видела, был похож на мальчика. Да, да, теперь я ясно припоминаю… на того мальчика!
— На какого же мальчика? Что ты болтаешь, Лали?
— На того самого мальчика, который был на судне. Помнишь молоденького англичанина, который служил на «Пандоре» юнгой?
— А-а-а! Так это ты о нем говоришь? Ну, этот мальчуган, мне думается, давно уже утонул либо плывет с остальными на большом плоту. Я знаю наверняка, что капитан его с собой не взял, потому что видел малыша возле камбуза уже после того, как гичка отчалила… Ну-ка, постой!.. Честное слово, там, в наветренной стороне, кто-то разговаривает! Слышишь, малютка?
— Слышу, Снежок. Это тот же голос, и он похож на голос того мальчика. Да, да, в точности, как у него.
— У кого — у него?
— Ах, да у этого юнги… Ой! Слышишь? Он опять что-то сказал, и кто-то ему отвечает.
— Боже милостивый! А ведь верно, моя чернушечка, я тоже слышу, что разговаривают двое. Один, как тот мальчик, о котором ты говоришь, а другой мужским голосом. Кто бы это мог быть? Неужто души кого-либо из утопленников или разорванных акулами? Прислушайся еще, Лали! Может, разберешь, кто это такие.
С этими словами негр быстро приподнялся и, положив руку на одну из бочек импровизированного фальшборта, замер, прислушиваясь.
Маленькая Лали тоже приподнялась и, стоя подле своего спутника, стала всматриваться в темноту. Она надеялась, что вот-вот опять блеснет молния и она увидит того мальчика с «Пандоры». Какой он красивый! Недаром она его не забыла.
Глава XXI. ВЕСЛА НА ВОДУ!
— Пришел наш смертный час!
С этими страшными словами Бен Брас поднял голову с плота и стал, напряженно прислушиваясь, всматриваться в темноту.
Вильям ужаснулся словам своего защитника, но ничего не ответил — он тоже весь превратился в слух и зрение.
Было так темно, что наши скитальцы не видели друг друга. В такую ночь не только плота или лодки — корабля под всеми парусами не разглядишь, даже если он пройдет совсем рядом.
Но они не только ничего не видели, но ничего и не слышали: вокруг царила полная тишина, нарушаемая лишь шорохом ночного ветра и журчанием воды, которую разрезал их утлый плотик.
Несколько минут ничего не было слышно, кроме этого дуэта ветра и воды, и Брас начал думать, что они ошиблись или их обманул слух. Человеку спросонья может что угодно померещиться. И голос-то был неясный, похожий на бормотание. Может быть, это пыхтел дельфин или еще какой-нибудь неизвестный ему житель океана. Много их таких, которых даже самому бывалому матросу не приходилось ни видеть, ни слышать, потому что они редко показываются из воды. А может, это проворчал один из тех обитателей океана с человеческим обличием, у которых такое странное название, вроде манати или ламантина, или как их там еще звать!
Самое же удивительное, что Вильям все еще стоит на своем, будто слышал голос девочки, как матрос его ни уверял, что это ему показалось и что он принял за голос крик птицы или морской сирены. Бен готов уже был остановиться на последнем предположении, но одно его смущало: нежный голосок был не один — ему отвечал мужской голос, и этому обстоятельству матрос никак не мог найти объяснения.
— А ты, Вильм, тоже слышал голос мужчины? — спросил он наконец таким тоном, словно хотел либо окончательно рассеять свои сомнения, либо полностью их подтвердить.
— Да, Бен, конечно, слышал. Он говорил негромко, вернее — бормотал. Но не думаю, чтобы это был Легро. О, если это он!
— Кому-кому, Вильм, а тебе-то следовало бы запомнить голос Легро! Неужто ты забыл воронье карканье этого негодяя с его французским говором? Будем надеяться, что это был не он. Хорошо, если мы ошиблись, потому что, когда мы опять попадем к ним в лапы, пощады нам не будет. А теперь и подавно, потому что они, должно быть, и жадные и голодные, как акулы.
— Ох, Бен, хорошо, если это не они! Тогда бы…
— Тише, тише, малыш! — прервал его матрос. — Говори шепотом. Если это они и так близко, лучше, чтобы они нас не услыхали. А увидеть нас, пока не рассветет, они не смогут. Хорошо бы еще раз услышать эти голоса и проверить, откуда они идут. Я не помню, с какой стороны их слышал.
— А я помню. Оба голоса шли оттуда. — Вильям показал в подветренную сторону.
— Оттуда, думаешь?
— Уверен в этом.
— Странно все это, — сказал матрос. — Если это те, что на большом плоту, они должны были быть с другой стороны от нас. Или, может, ветер переменился? Потому что, когда мы от них уходили, мы были у них с подветренной стороны. Неужто ветер в самом деле переменился? Впрочем, это возможно — в этих местах ветер редко дует с запада. Да и без компаса не угадаешь, где находишься: кругом темно, на небе ни звездочки. А хоть бы даже и была какая, все равно по ней ничего не узнаешь. Вот Полярная звезда — это дело другое! Только в этих широтах ее не увидишь. Так ты верно говоришь, будто голоса шли с подветренной стороны?
— Я в этом уверен, Бен: голоса шли оттуда.
— Тогда давай и мы двинемся, чтобы уйти от них. Живее за дело, малыш! Уберем-ка наш парус из мяса акулы, а то он нас толкает по ветру, прямо к ним. Придется грести. Значит, весла наши нам понадобятся. Постараемся до света уйти от них подальше, чтобы нам их больше не видеть и не слышать.
Они быстро поднялись и стали снимать с веревок мясо, чтобы разложить его на парусине, а «мачтам», то есть веслам, на которых оно висело, вернуть их прежнее назначение.
Работали они молча, временами останавливаясь, чтобы прислушаться.
Бен Брас и Вильям сняли уже мясо и принялись отвязывать веревки, закрепленные на веслах. И в этот момент внимание их задержалось на той из них, которая, стягивая горловину брезентового «бака» с водой, удерживала его в том положении, которое не давало воде вылиться. К счастью для них, они действовали с осторожностью. Не прояви они ее и вытащи весло, к которому эта веревка была привязана, — запас воды быстро бы уменьшился, а то и весь вылился бы в океан, прежде чем успели бы заметить несчастье.
Но на одном весле далеко не уедешь, а другое, оказывается, нельзя освободить, потому что оно выполняет крайне ответственную функцию. Тут они вспомнили, что у них имеется несколько обломков от гандшпуга, съеденного акулой. Хорошо, что Бен Брас выловил их из воды. Теперь один из них можно приспособить к делу. Они вынули весло, вставили вместо него самый длинный из обломков и привязали к нему мешок с водой — вся операция заняла несколько минут. Теперь, когда у них было опять два весла, они уселись по краям плота и, работая каждый своим, принялись грести против ветра, уходя прочь от таинственных голосов.
Глава XXII. «ЭЙ, НА КОРАБЛЕ!»
Не успели они и десяти раз взмахнуть веслами (оба гребли совершенно бесшумно и все время прислушиваясь), как до них донеслись те же звуки, которые Вильям принял за голос девочки. Как и прежде, эти звуки были едва слышны, словно говорившие вели спокойную беседу.
— Не значиться мне больше в судовых списках Беном Брасом, если это и вправду не голос девочки! — вскричал матрос. — Но что за черт! С кем она там разговаривает? И девочка-то совсем маленькая, ну не больше гайки. Да что это, черт возьми, может значить?
— Не знаю. Неужели это сирена?
— А что ж, возможно…
— А разве сирены существуют?
— Существуют ли? Вот так вопрос! Кто посмеет сказать, что их нет? Одни лишь сухопутные крысы, которые над всем смеются да ни во что не верят. А почему не верят? Да потому, что сроду ничего диковинного не видали, разве только телят о двух головах да цыплят о четырех ногах. Ясное дело, сирены водятся в море — тут и разговаривать не о чем! Я сам их видел, и не одну. Мне пришлось плавать с одним товарищем, так тот мне рассказывал, что он их в Индийском океане встречал целыми косяками. Волосы у них, рассказывал он, длинные, ниже плеч, как у молоденьких школьниц, которые прогуливаются стайками где-нибудь на окраине в Портсмуте или Грэйвсэнде… Тише! Опять она!
И действительно, в эту минуту опять послышался тоненький высокий голосок девочки лет восьми-десяти. Вибрируя, он ясно отдавался на воде, и, судя по его интонациям, девочка с кем-то разговаривала.
И тут же, отвечая ей, послышался другой, мужской голос.
— Если то была сирена, — шепотом проговорил Бен, — значит, это дедушка-водяной. Занятная, шут возьми, парочка! Вот задали загадку! Что это, по-твоему, значило бы, малыш?
— Не знаю, — машинально ответил юнга.
— Важно одно, — облегченно вздохнул матрос, — что это не большой плот! На нем никакой девочки не было. И мужчина не каркает, как Легро. Мне спросонья сперва почудилось, будто это он… А коли тут близко косячок маленьких сирен да между ними затесалось несколько водяных, то пугаться нечего… Главное дело, это не француз и не кто-либо из его гнусной компании. Слава тебе, Господи! Слушай, малыш, а может, это подходит к нам какой-нибудь корабль?
Одна мысль об этом заставила его разом вскочить, как будто он хотел скорее убедиться, так ли это или не так.
— Знаешь что, Вильм, подам-ка я им голос! Будь что будет, подам-и все! А ты слушай хорошенько, что мне ответят!.. Эй, на корабле!
Крик был направлен в ту сторону, откуда раздавались эти таинственные голоса. Ответа на его оклик не последовало. Матрос секунду, две внимательно прислушивался и повторил свое: «Эй, судно!»-более громким голосом.
Чей-то голос, словно эхо, повторил его слова, но то было не эхо. На океане эха не бывает. К тому же тот, кто повторил этот принятый между моряками оклик «Эй, на корабле!», произнес его иначе, чем матрос, совсем с другим, неанглийским произношением, да и звук его голоса был не как у англичанина. Но все же это был человеческий голос, и притом голос мужчины. Довольно-таки грубый, резкий голос, но стоит ли говорить, что он показался нашим скитальцам приятнее всякой музыки! И за словами: «Эй, на корабле!» — последовали и другие, исходившие из тех же уст.
— Боже милосердный! — кричал этот странный голос. — Кто это там, черт возьми, орет? С «Пандоры» кто-нибудь? Это вы, капитан? Или вы, масса Легро?
— Негр! — всплеснул руками Брас. — Ей-богу, это Снежок, наш кок с «Пандоры»! Клянусь Нептуном, это он! Не пойму только, как этот черный тут оказался. И на чем он плавает? На большом плоту его с остальными не было. Я думал, он удрал вместе с капитаном. А если это так, значит, он кричит с гички.
— Нет, это не гичка, — ответил юнга. — Я своими глазами видел Снежка возле камбуза уже после того, как гичка отчалила. А так как и на большом плоту потом его не оказалось, я думал, что он утонул или не успел сойти с горящего судна… Но ведь это в самом деле его голос. Слышишь? Опять кричит!
— Эй-эй, э-э-эй, на корабле! — еще раз громко прокатилось над водой. — Слушай, корабль, кто это у вас сейчас кричал? Какой это корабль? Как его звать? Или это вовсе и не корабль? Может, кто с «Пандоры»? Потерпевшие кораблекрушение?
— Да, это мы! — ответил Бен. — Потерпевшие кораблекрушение с «Пандоры». Кто зовет? Снежок, это ты?
— Да, да, я! А вы кто? Это вы, масса капитан?
— Нет.
— Значит, вы, масса Легро?
— Да ну тебя с твоим массой Легро! Это я, Бен! Бен Бpac!
— Боже ж ты мой! Неужто масса Брас? Да как вы тут оказались? Вы же были на большом плоту!
— Был, да сплыл! А теперь на своем собственном… А ты, Снежок, тоже на своем?
— На своем, на своем, масса Бен! Построил его из обломков да из бочек.
— Ты один на плоту?
— Не совсем. Со мной моя чернушечка! Девочка из каюты. Помните маленькую Лали?
— Так это она? — пробормотал Бен, припоминая маленькую пассажирку на «Пандоре»— А-а! Помню, помню, Снежок!.. Ты стоишь на месте или двигаешься?
— Торчу, словно бревно, все на одном месте! Мы и мили не прошли с тех пор, как порох взорвался.
— Ну так жди нас! У нас есть весла. Мы сейчас к вам подойдем.
— Вы сказали «мы»? Разве вы не один на плоту?
— Со мной малыш Вильм.
— Малыш Вильм?! Ох, и хороший же он мальчуган и до чего храбрый! Я видел, когда спускался вниз в каюту за моей чернушечкой, как он топором отбивал решетки люка, чтобы выпустить из трюма негров… Эх, все равно ничего хорошего для них не получилось! Одних сожрали акулы, а другие утонули! Господи, как они кричали, прыгая с судна в воду, чтобы спастись от огня!
Из этого разговора, вернее — монолога, произносимого Снежком, к ним долетали только отдельные слова. И Бен с юнгой, торопясь скорее двинуться в путь, не стали бы и слушать его, если бы голос негра не служил им ориентиром, помогающим добраться к нему в этой темноте. Теперь, когда они знали, что невдалеке Снежок, они повернули плот и двинулись в ту самую сторону, откуда только недавно еще так стремительно убегали.
Они неслись так быстро — теперь их подгонял еще и попутный ветер, — что к тому времени, как Снежок заканчивал свой бессвязный рассказ, они были уже в полукабельтове от него, различая сквозь темноту неясные очертания оригинального «судна», которое Снежок смастерил для себя и для Лали.
В эту минуту опять сверкнула молния, и пассажиры обоих плотов увидели друг друга. Через несколько секунд плоты оказались рядом, и обе команды так горячо и радостно кинулись навстречу, так весело приветствовали друг друга, словно с этим неожиданным свиданием миновали все опасности и самая угроза смерти.
Глава XXIII. ПЛОТЫ СОШЛИСЬ
Путешественники, даже незнакомые друг другу, повстречавшись в безлюдной пустыне, вероятно, не пройдут мимо, не обменявшись хотя бы несколькими словами. А если они старые знакомые, то наверное задержатся друг возле друга, откладывая как можно дольше минуту расставания. И если случайно окажется, что путь их лежит в одном направлении, как же они будут счастливы, что очутились вместе, что отныне смогут делить и труд и компанию!
В точности так же, как два путешественника или две группы путешественников встретились бы в пустыне на суше, так встретились среди водной пустыни океана оба эти плота. Их пассажиры были не чужие друг другу, а старые знакомцы. Если они до сих пор и не были друзьями, то теперь, в подобных обстоятельствах, они неизбежно должны были стать ими. Страх перед общей опасностью заставляет ягненка жаться ближе ко льву, а свирепого ягуара ластиться к робкой лани, которая уже не трепещет от такого опасного соседства.
Но между этими двумя так удивительно соединившимися группами не было вражды.
Естественно, что после такой встречи не могло быть и речи о том, чтобы опять расстаться. Все четверо понимали, что у них одно стремление, одно желание, — ведь они были жертвами кораблекрушения, все скитались по океану и потому только и мечтали о том, чтобы вырваться из этой водной пустыни, избавиться от опасности, грозившей им смертью. Оставаясь вместе, они могли скорее добиться спасения. Тогда для чего же им было разделяться и добиваться своей цели
порознь?
Надо прямо сказать, что они даже и не помышляли о разлуке. С минуты их встречи разум говорил им, что у них теперь одна судьба, одна общая цель, а потому необходимо объединить свои усилия, работая в дальнейшем сообща.
И тут же, после первых приветствий и расспросов, Бен Брас и Снежок решили соединить плоты.
— Вот что, Снежок, — сказал матрос, — найдется у тебя лишний канат?
— У меня его тут хоть завались, — ответил бывший повар «Пандоры». — Целая бухта крепчайшего сезеня. Годится?
— Еще как годится! — сказал матрос и, перекинув через бочку фальшборта сооруженного Снежком плота один конец переброшенного ему сезеня, крикнул: — Крепи на ней канат, дружище Снежок! До света мы этим, пожалуй, обойдемся, а когда рассветет, свяжем плоты покрепче.
Бывший повар, повинуясь команде матроса, схватил брошенный ему конец и привязал его к одной из досок своего оригинального «судна». Бен в это время привязал другой конец к обломку гандшпуга, послужившего в свое время рулем на его плоту.
Выполнив свою часть работы и рассказав затем друг другу о том, что каждый из них пережил с момента гибели злосчастной «Пандоры», они решили, что всем им — благо теперь еще ночь — надо отдохнуть, чтобы встать с первой же зарей и подумать, как получше соединить оба плота в один.
Глава XXIV. ПЕРЕСТРОЙКА ПЛОТА
Едва занялся рассвет, все уже были на ногах. Первым поднялся Бен Брас и мигом всех разбудил. Лучи восходящего солнца вновь осветили фигуры четверых скитальцев, но выражение их лиц было совсем иное, чем накануне вечером. Конечно, до настоящего веселья было далеко, но они стали живее, бодрее, ибо эта новая встреча родила в них и новые надежды на спасение. Даже маленькая Лали и та понимала, что, так нежданно объединившись, они станут сильнее и им легче будет бороться с опасностью: двое таких крепких людей, как Снежок и матрос, работая сообща, сумеют сделать много такого, что было бы не по силам каждому из них в отдельности, не говоря уже о том, что и работа будет спориться лучше.
Самый факт их удивительной встречи казался Снежку и матросу не простой случайностью. Недаром обстоятельства до сих пор складывались для них самым счастливым образом-они не только выходили в прошлом из самых, казалось, затруднительных положений, но и в дальнейшем их жизнь на какое-то время была ограждена от гибели.
И хотя сам Бен Брас приложил все старания, чтобы избежать этой встречи, теперь их уверенность в спасении окрепла, и они с еще большей надеждой смотрели в будущее.
Вот почему Бен Брас вскочил с первыми же лучами и поднял остальных.
Матрос слишком хорошо знал, как мало можно доверять причудам погоды даже в такой штилевой полосе океана: долго царившее затишье может в любую минуту смениться штормом. Надо поторопиться с перестройкой плота — пусть это будет один плот, зато такой большой и прочный, что никакая буря ему не будет страшна.
Умелому матросу Брасу построить такой плот не казалось трудным делом. Теперь, когда в их распоряжении было два плота да кругом еще плавало столько строительного материала, оно казалось вполне осуществимым. Словом, надо попытаться!
Наскоро посоветовавшись между собой, они решили разобрать меньший плот, для того чтобы его доски пошли на достройку второго плота, так как он был больше и надежнее.
Они не собирались вносить больших изменений в плот Снежка, устройство которого свидетельствовало о немалой изобретательности бывшего кока «Пандоры», а тем более полностью его перестраивать. Решено было сделать плот только попросторнее и понадежнее.
Однако, прежде чем приняться за работу, следовало подкрепиться. И Снежок не поскупился на угощение: сухари и вяленая бонита… из тех запасов, которые он заготовлял с таким усердием все эти дни.
За неимением огня бывший кок был лишен возможности показать себя во всем блеске своего поварского искусства. Намокшие в морской воде сухари слегка горчили на вкус. Но какое это имело значение для волчьего аппетита нашей голодной четверки! Завтрак показался им превосходным, тем более что горьковатые сухари они запивали пресной водой с добавленным в нее вином.
Вином? Откуда же у них взялось вино? — удивится, должно быть, читатель. С таким же вопросом обратился к Снежку и матрос, пораженный такой роскошью, как бочонок вина на плоту у кока.
Ответ был прост. Маленький бочонок с канарским, хранившийся у капитана в каюте, попал в океан вместе со многими другими вещами, а так как он был неполон, то преспокойно плавал, слегка лишь погрузившись в воду, откуда Снежок его и выловил.
Сразу же после завтрака закипела работа по перестройке плота. Прежде чем начать разбирать меньший плот, сняли вялившееся на нем мясо акулы и перенесли на второй. После этого опорожнили брезентовый «бак» — великое изобретение матроса, — теперь уже ненужный, и с величайшей осторожностью перелили из него воду в более надежное хранилище-в один из пустых бочонков, служивших фальшбортом. Туда же перенесли весла, обломок гандшпуга, топор и брезент, и, только когда меньший плот совсем опустел, его разобрали, а доски, два бруса и обломки рей, из которых он состоял, закрепили на должных местах.
Так они работали не покладая рук весь день, позволив себе передохнуть один час, чтобы пообедать. С помощью весел переезжали они на недостроенном плоту с места на место, выуживая из воды всякие полезные для них вещи, которые Снежок не успел или не сумел один выловить.
Солнце близилось уже к закату, а работа далеко еще не была закончена. Но они легли поспать, не тревожась: небо обещало назавтра такой же ясный день. И если погода останется хорошей, то к полудню они закончат работу. У них будет такой просторный плот, что на нем хватит места и для них самих, и для всех их запасов, а уж крепок он будет настолько, что устоит против самого сильного ветра, какой только возможен в этой зоне Атлантического океана, где царит вечный штиль.
Глава XXV. «КАТАМАРАН"[14]
На следующее утро, как только рассвело, они возобновили работу.
Уложив и тщательно пригнав друг к другу бревна, они связали их вместе канатом, и все трое — матрос, Снежок и юнга — принялись изо всех сил затягивать его.
Плот получился продолговатой формы, напоминая дощаник для ремонта судов или плоскодонный паром. Он был футов в двадцать длиной, а шириной, в средней части, — около десяти. По краям его были опять размещены в должном порядке порожние бочки: одна уложена поперек у носа, другая тоже поперек — у кормы. Остальные четыре — всего их было шесть штук — вдоль обоих бортов, по две с каждой стороны. Этим достигались равновесие и симметрия вновь построенного плота. В общем, выглядел он теперь как настоящее мореходное судно, и Брас, его главный строитель, торжественно окрестил его «Катамараном».
На другой день, часам к двенадцати, «Катамаран» был готов. Если бы Снежок действовал один, он бы его в этом виде и оставил: негр все еще не верил, что у них есть хотя бы незначительная, но все же какая-то возможность добраться до берега на такой посудине. Однако матрос — а уж он-то в этих делах разбирался лучше — думал иначе. Он считал, что такое предприятие вполне осуществимо. Сейчас они находились в самом центре южного пассата. Даже будучи предоставлен самому себе и плывя по течению, плот со временем неминуемо должен пристать где-нибудь у берегов Южной Америки. Под парусами же его скорость еще увеличится. Правда, очень быстро такая неуклюжая посудина не пойдет, но все-таки они вполне могут рассчитывать, что хотя медленно, зато наверно они доберутся до твердой земли. Бен понимал, что это только вопрос времени и все зависит от того, насколько им хватит продовольствия и в особенности запасов воды.
Обдумав все, матрос решил, что у них есть кое-какие шансы на успех; счастья попытать стоит и поэтому следует установить на плоту мачту с парусом. На худой конец, они ведь ничем не рискуют, их смогут подобрать и в том случае, если они будут идти под парусом, а не только плыть по течению.
К счастью, материалов для постройки мачты и паруса у них было под руками сколько угодно. Неподалеку плавала контрбизань «Пандоры» со всей оснасткой. Из нее выйдет хорошая мачта и поперечная рея, и останется лишь натянуть парус, а тогда уж «Катамаран» даст ходу!
И матрос приступил к оснастке «Катамарана». Снежок и юнга помогали ему. К концу третьего дня посередине этого диковинного судна уже высилась настоящая мачта с поперечной реей, а на ней бессильно повис широкий парус, словно ожидая первого дуновения западного ветра.
Надо сказать, что тот ветер, благодаря которому Бен и Вильям добрались до обломков невольничьего судна, где они встретились со своим товарищем Снежком, дул не туда, куда матрос собирался повести судно, а как раз в противоположную сторону. Правда, это не был ветер, какого им хотелось бы в этих широтах, а всего лишь легкий бриз, и, если не считать его, вот уже много дней после гибели невольничьего судна стоял полный штиль. Начался он в ту ночь, когда два плота соединились вместе, и с тех пор штиль длился непрерывно, включая и те три дня, когда они были заняты постройкой «Катамарана».
На четвертый день — никаких перемен. Ни малейшего движения ветра. Поверхность океана как полированная. Несуразный, необычный корабль со своими шестью бочками, укрепленными по бортам наподобие фальшборта, с массивной, сужающейся кверху мачтой, одиноко торчащей посередине, отражался в воде, как в зеркале.
Однако ни «капитан» посудины Бен Брас, ни те из его команды, которые были достаточно взрослыми, чтобы задуматься о будущем и принять меры на случай всяких неожиданностей, не жалели об этом вынужденном бездействии, хотя катамаранцы не оставались без дела и на неподвижном плоту. Без устали работая веслами — на их счастье, у них оказалось несколько весел, — они избороздили вдоль и поперек все тот же небольшой, в квадратную милю, кусочек океана, по которому плавали уцелевшие обломки злополучной «Пандоры».
Таким образом им удалось выловить и сложить на плоту много таких «блуждающих» находок: в будущем все могло пригодиться.
Среди них Бен неожиданно обнаружил… свой собственный матросский сундучок! В нем нашлась смена белья, полный парадный костюм, который он надевал, когда сходил на берег, и множество различных мелочей, которые могли пригодиться им в предстоящем путешествии.
Сам же сундучок решено было использовать как шкаф.
В таких же трудах провели они и четвертый день.
Едва только на следующее утро взошло солнце, как зеркально гладкая до того поверхность океана внезапно вся сморщилась от ряби; казалось, ветер дует прямо с солнца.
Полотнище паруса скользнуло вверх по гладкой мачте. И когда оно туго натянулось, закрепленное шкотами, «Катамаран» понесся по волнам.
Роковое место, где погиб невольничий корабль, осталось позади.
— На запад! Так держать! — закричал Бен Брас, глядя, как надулся парус, и плот, создание его собственных рук, полетел по волнам, словно ожившая птица.
— На запад! Есть так держать! — закричали одновременно Снежок и юнга.
А у Лали глазки так и засияли от радости — такой ликующий вид был у ее спутников!
Глава XXVI. ВИЛЬЯМ И МАЛЕНЬКАЯ ЛАЛИ
Это был во многих отношениях благоприятный ветер. Во-первых, он дул в нужном направлении, во-вторых, дул ровно и постоянно, не превышая по силе легкого бриза, но и не затихая до штиля, мучившего их до этого. Штиля «капитан» «Катамарана» опасался не менее, чем урагана.
Это был как раз такой ветер, в каком они нуждались для испытания нового плота. Чуть рябивший поверхность воды, он в то же время так надувал паруса, что шкоты были натянуты, как тетива лука.
Так как ветер дул точно с востока, то та часть «Катамарана», которую Бен именовал носом, была обращена прямо на запад. А чтобы судно не бросало из стороны в сторону и не крутило ветром-не поворачивало через фордевинд, как говорят моряки, — наши кораблестроители соорудили на корме рулевое приспособление, чтобы управлять им. Это было просто длинное весло от большой шлюпки «Пандоры». Весло положили вдоль, опустив одним концом в воду, а посередине прикрепили его веревками к бочке, находившейся у кормы, причем так, что оно могло двигаться как рычаг — влево и вправо — и, таким образом, служить рулем. С помощью этого нехитрого приспособления «Катамаран» можно было поворачивать в любом направлении — не только по ветру, но и в наветренную сторону, лишь бы только ветер не дул прямо навстречу.
Правда, теперь кому-либо из них все время приходилось стоять у «штурвала», как называл шутливо Бен рулевое приспособление.
Первую вахту «капитан» выстоял лично сам, считая это, поскольку судно проходило испытание, слишком ответственным делом, чтобы его можно было доверить Снежку или Вильяму. Ну, а уж потом, когда судно по-настоящему ляжет на курс и его мореходные качества будут проверены и окажутся безукоризненными, придется постоять на вахте и остальным двум членам экипажа.
Итак, «Катамаран» плыл по курсу уже больше часа. Все было в полном порядке, происшествий никаких. «Капитан» сидел на корме, его вахта у штурвала еще не кончилась. Он один только следил за ходом своего корабля. Снежок возился среди припасов, разбросанных по плоту, наводя среди них некое подобие порядка; для всякой вещи он старался отыскать место, где та всего менее страдала бы от разрушительного действия волн и ветра.
Вильям и маленькая Лали находились около бочки, на носу плота. Бочка была почти совсем пуста и потому высоко держалась над водой. Они ничем не были заняты, если не считать делом их тихий, задушевный разговор и по временам радостные восклицания по поводу того, что судьба так счастливо свела их снова вместе, дав им двух таких храбрых защитников.
Надо сказать, что на корабле во время короткого путешествия, столь ужасно и неожиданно закончившегося, они виделись мало, а знали друг о друге еще меньше. Хорошенькая креолка находилась почти все время в своей каюте — девочке редко разрешалось покидать ее, а юный англичанин, живя в вечном страхе, чтобы ему не досталось от капитана или его помощников, не осмеливался показываться на запретной территории, разве только выполняя какое-нибудь поручение своего свирепого начальства.
Да и в тех случаях он бывал там ровно столько, сколько требовалось для выполнения поручений, зная, что стоит ему задержаться около каюты, как его или немедленно изругают, или даже столкнут в шпигат
[15], а то грубыми пинками заставят убраться к себе на бак.
Неудивительно поэтому, что при таких неблагоприятных обстоятельствах юнге редко приходилось видеться с креолочкой, ставшей, как уже мы рассказывали, благодаря особым обстоятельствам его спутницей на злосчастном судне.
Хотя он почти не говорил со своей юной попутчицей и совсем не знал ни ее душевных свойств, ни характера, зато внешность ее он изучил прекрасно, до мельчайших подробностей. Не было ни одной черточки на хорошеньком личике, ни единого колечка вьющихся, черных, как смоль, волос, которые ускользнули бы от его взгляда.
Ах, как часто стоял он, наполовину скрытый парусами, и следил за ней, когда ей случалось задержаться на мгновение у двери каюты! В окружении грубых негодяев, составлявших команду «Пандоры», она напоминала ему беззащитного ягненка, попавшего в стаю волков.
Как часто при виде ее у него сильнее начинало биться сердце от непонятного ему самому чувства, в котором смешались и боль и радость!
Теперь же, сидя рядом с этим прелестным созданием на борту «Катамарана»
— пусть это было всего лишь хрупкое суденышко, которое в любую минуту мог разнести в щепы ветер или навсегда поглотить черные океанские волны, — Вильям больше не чувствовал страха и, любуясь ее личиком, ощущал лишь непонятное, но радостное чувство.
Глава XXVII. СЛИШКОМ ПОЗДНО!
Уже почти два часа, как «Катамаран» шел под парусом, а наши друзья все еще оставались на прежних местах, занимаясь своими делами. Наконец Снежок, покончив с укладкой припасов, предложил сменить Бена у штурвала, на что матрос с готовностью согласился и, оставив весло, направился на середину плота к своему сундучку. Встав на колени, он начал в нем рыться: Бену хотелось перебрать содержимое сундучка — может, в нем найдется что-нибудь такое, что пригодилось бы в их трудном положении.
Вильям и маленькая Лали все еще сидели на носу плота. По привычке взор юноши был устремлен вдаль; однако он то и дело посматривал на свою спутницу, стараясь развлечь ее разговором.
Девочка не говорила по-английски — она знала только несколько фраз, услышанных ею от английских и американских моряков, посещавших факторию ее отца на побережье Африки. Однако эти немногие фразы, повторяемые ею, были не только грубоваты, о чем она по своей наивности не подозревала, но и не совсем понятны, чтобы с их помощью можно было поддерживать хоть сколько-нибудь длительный разговор. Поэтому они говорили на родном языке креолочки. Вильям знал много португальских слов, так как большинство моряков на «Пандоре» были португальцами. Правда, этот жаргон был в большом ходу на побережье Африки, но он совсем не похож на португальское наречие, распространенное по берегам и большим рекам в тропиках Южной Америки.
Тем не менее, изъясняясь на этом жаргоне, Вильям был в состоянии, помогая себе знаками и жестами, кое-как поддерживать тот немногословный, отрывистый разговор, который он вел со своей спутницей.
В течение более двух часов, которые матрос простоял у штурвала, ничто не нарушило мирных занятий наших скитальцев.
Вскоре, однако, внимание Вильяма и его подружки привлекла очень странная рыба, плававшая на расстоянии около кабельтова впереди плота. Оба даже вскочили со своих мест и, сгорая от любопытства, следили за диковинным созданием.
Однако интерес, вызванный у них этой рыбой, был не из приятных. Наоборот, они смотрели на нее с чувством отвращения, почти с ужасом: это было одно из самых отвратительных чудовищ, обитающих в морских глубинах.
Длиной рыба была больше метра, и ее туловище постепенно сужалось к хвосту. У обычных рыб нет шеи, у этой же шея как будто была. Так, по крайней мере, казалось. Причина скрывалась в странной форме головы: короткая, но очень широкая, она далеко выдавалась в стороны. Голова и передняя часть туловища рыбы выглядели молотком на рукоятке. На обоих концах «молотка» находились большие глаза золотистого цвета.
Ноздрей сверху не было видно: они оказались на нижней стороне головы. А немного сзади них темнела подковообразная щель — рот. И когда пасть раскрывалась, в ней видно было несколько рядов острых зубов с пильчатыми краями.
Вильям не знал, какая это рыба, хотя она довольно часто встречается в некоторых частях океана. Но ему, к счастью или к несчастью, не приходилось видеть подобных тварей. Так как Лали спросила у него, что это за рыба, да и ему самому тоже хотелось знать, как она называется, он обратился к Бену. Бен, высунув голову из-за крышки сундучка и взглянув в направлении, указанном мальчиком, немедленно определил, что за чудовище плыло за кормой в виде почетного эскорта.
— Это молот-рыба, — коротко ответил он. — Один из видов акулы, причем самый что ни на есть отвратительный.
Сказав это, матрос снова погрузился в свои поиски, и голова его исчезла за откинутой крышкой сундучка. На рыбу он не обращал ни малейшего внимания. Этого животного, думал он, им нечего опасаться.
Да, так полагал Бен Брас сначала. Но какой обманчивой оказалась его спокойная уверенность! Через каких-нибудь десять минут он оказался футах в шести от страшной пасти, и ему угрожала непосредственная опасность быть растерзанным четырьмя рядами ужасных зубов чудовища.
Когда «капитан» «Катамарана» лаконично определил животное как молот-рыбу, Вильям вспомнил, что когда-то читал о ней в книгах по естественной истории и в романах о путешествиях. Действительно, это была молот-рыба, разновидность акулы; из-за устройства головы ее называют также «балансир-рыба». Научное ее название-«зигэна». Она считается одной из самых прожорливых из всего семейства акул, к которому она принадлежит.
Итак, чудовище было на расстоянии кабельтова от плота, прямо впереди по ходу. Оно вырисовывалось сквозь прозрачную воду океана во всем своем ужасающем безобразии. Акула плыла все в том же направлении, с равномерной скоростью, держась, таким образом, на одном и том же расстоянии от плота, — ну прямо разведчик или почетный курьер, сопровождающий «Катамарана» в его путешествии через Атлантический океан.
Некоторое время Вильям и Лали еще следили за рыбой, но так как картина не менялась: акула плыла по-прежнему, держась на том же расстоянии от плота, то это занятие быстро им надоело и они стали смотреть по сторонам.
Вскоре, однако, внимание юнги было привлечено новым зрелищем, и он даже вскрикнул дважды.
Первый раз в его возгласах слышалось веселое удивление, но затем их сменили тревога и смятение.
— Эй! — закричал он сначала, повернувшись и глядя на корму «Катамарана». — Смотрите, Снежок заснул! Ха-ха-ха, вот так старый кок! Смотрите, как спит, даже весло выскользнуло у него из рук!..
Но тут же у юноши вдруг вырвался тревожный крик, а затем торопливые восклицания, говорившие о непосредственной опасности:
— Ой, весло! Смотрите, весло!.. Оно поворачивается!.. Осторожней! Лали, осторожней!
Закричав, чтобы предупредить об опасности, юноша, расставив руки, подскочил к своей спутнице, словно желая защитить ее.
Но было уже поздно — выскользнувший из рук заснувшего штурвального конец рулевого весла повис над водой.
Оставшись без управления, «Катамаран» стал разворачиваться по ветру, отчего весло, в свою очередь, тоже повернулось, как огромный рычаг, вокруг своего крепления на кормовой бочке, зацепило концом маленькую Лали и, продолжая движение, далеко отбросило ее в синие океанские волны.
Глава XXVIII. ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!
— Упала! Упала в воду! — закричал Вильям при виде того, как девочка, подхваченная поднявшимся концом весла, была отброшена далеко от плота в океан.
Сам уже не сознавая, что кричит, юноша ринулся на край плота с намерением броситься в воду для спасения Лали, но в этот момент весло качнулось назад и, ударив его сзади под коленки, подбросило с такой силой, что он рухнул на плечи стоявшему на коленях Бену Брасу и, перелетев через его голову, свалился прямо к нему в сундучок.
Бен слышал тревожный крик мальчика и почти одновременно всплеск, когда Лали упала в воду. Он круто повернулся и хотел было подняться, но в эту-то самую минуту Вильям, с силой брошенный ему на спину, свалил его опять на колени.
Когда Вильям, перемахнув через него, очутился в сундучке, матрос уже оправился от неожиданности и вскочил на ноги.
— Кто? Где? Кто упал?..-закричал Бен растерянно. — Ведь ты же тут! Да что случилось?
— Бен, Бен! — закричал ему в ответ Вильям, барахтаясь в сундучке, среди пожитков матроса — Маленькая Лали… она… ее сшибло веслом!.. Спаси ее! Ах, спаси же ее!
Но этот ответ и мольба мальчика были уже излишними. Матрос все понял. Он слышал всплеск и быстро огляделся вокруг: девочки на плоту не было. Ясно, кто из команды «Катамарана» упал за борт.
Расходившиеся по поверхности круги указывали место, где девочка ушла под воду. Как раз, когда Бен поднялся, она вынырнула и, крича и захлебываясь, стала судорожно бить по воде своими ручонками, инстинктивно стараясь удержаться на поверхности.
В эту решительную минуту храброму матросу даже не пришло в голову задумываться о том, как он должен поступить. Прыжок — и он у края «Катамарана»; другой — он на одной из бочек; третий — и он уже в океане, в шести футах от плота.

Если бы он был предупрежден о том, что случилось, хотя бы на десять секунд раньше, ему понадобилось бы только несколько взмахов руками, чтобы достигнуть места, где девочка упала в воду. К несчастью, из-за столкновения с Вильямом прошло еще несколько секунд. И вот в течение этих-то немногих секунд плот хотя и оставался без управления, а все же, плывя под парусом, довольно быстро уходил все дальше и дальше. Поэтому, когда матрос прыгнул в океан, барахтавшаяся в воде девочка была уже далеко за кормой, на расстоянии почти кабельтова.
Если бы Лали умела плавать, то это опять-таки было бы полбеды. Матрос знал, что добраться до плота ему с ней будет нетрудно: он может выплыть с ношей и потяжелее. Но он понимал, что девочка еле держится на поверхности и в любой момент может снова уйти под воду.
Матросу это стало ясно еще в ту секунду, когда он только бросился к ней на помощь. Поэтому, рассекая мощными взмахами воду, он спешил вовсю, напрягая каждый мускул рук и ног.
Тем временем Вильям вскочил на ноги и побежал на корму. Быстро взобравшись на бочку как раз в том месте, где крепилось злополучное весло, так что оно оказалось под ним, он, дрожа от волнения, следил за происходящей сценой, бросая взгляды то на беспомощно барахтавшуюся Лали, то на спешащего к ней быстрого пловца.
А Снежок тем временем преспокойно спал здоровым, непробудным сном, каким негры спят у себя в жарких странах. Ни крик Вильяма о помощи, ни восклицания матроса не оказали никакого действия на барабанные перепонки Снежка. Не слышал он и пронзительных криков Лали, хотя при этом было произнесено его собственное имя.
Ну, а раз ни один из этих звуков не вывел его из оцепенения, то теперь он и подавно мог продолжать свой сон как ни в чем не бывало, не видя и не слыша, что творилось вокруг. Ведь матрос плыл молча, крики девочки удалялись, становясь все тише и тише, а Вильям, теперь единственный спутник Снежка, был слишком поглощен происходящим-он не только кричать, но и дышать боялся.
Да, в эти мучительные мгновения, переживаемые катамаранцами, Снежку спалось так уютно и крепко, словно он растянулся на койке в своем камбузе, укачиваемый неторопливым ходом доброго парусника.
Вильям даже не подумал о том, чтобы разбудить его, потому что, по правде сказать, он не совсем еще пришел в себя. Голова его так и гудела от пережитого потрясения. На корму он бросился и вскочил на бочку, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает… И драма, развязки которой он ожидал с таким глубоким беспокойством, так приковала его к себе, что он и думать забыл о Снежке и о том, что его надо разбудить.
Молчание длилось недолго. Впрочем, для актеров и зрителя этой волнующей драмы оно могло показаться и долгим. Нарушил его радостный крик Вильяма, короткое и бурное «ура» — матрос достиг желанной цели! Вот он приподнимает Лали и, поддерживая ее одной рукой, другой гребет в сторону плота.
Глава XXIX. СПАСЕНА!
— Вот так Бен! Ура! Он спас ее!..
Возможно, что жесты, сопровождавшие этот взрыв восторга, были настолько бурными, что бочка качнулась и выскользнула у Вильяма из-под ног, или же истинная причина происшедшего заключалась в том, что его нервы чересчур ослабели после столь долгого и сильного напряжения, но, как бы то ни было, при последнем крике «ура» Вильям потерял равновесие и полетел с бочки, свалившись прямо на мирно спавшего повара.
Очевидно, чувство осязания у спящего было более тонким, чем чувство слуха, и негр наконец проснулся.
— Что за чертовщина! -закричал он, вскочив на колени и стараясь выбраться из-под Вильяма, свалившегося ему на спину. — Что за черт? Что за шум? Кто это кричал «ура»?.. Ты кричал, Вильям? Мне приснилось, кто-то крикнул «ура»… Что, разве ты увидел корабль?.. Нет? А где же масса Брас и где наша маленькая девочка? Ой!..
Вопросы следовали друг за другом с такой быстротой, что мальчик не успевал ответить ни на один из них. Но последнее восклицание Снежка сказало о том, что вряд ли это было нужно.
Окинув плот быстрым и пристальным взглядом и увидев, что на нем нет Бена, а главное, нет его дорогой Лали, негр остолбенел от удивления и ужаса.
Он взглянул на воду. Как все люди, много плававшие по океану, он, по издавна выработавшейся у него привычке, сразу же посмотрел за корму: упавший за борт всегда окажется за кормой идущего под парусом судна. И негр был прав. Он тут же заметил Бена Браса, или, вернее, только его голову, чуть возвышавшуюся над волнами. А рядом с ней виднелась маленькая головка с черными локонами и крошечная ручка, доверчиво обнимавшая матроса за плечо.
Снежок мигом понял все. Вильям мог ничего не объяснять. Ему стало ясно, что произошло, пока он спал. Он не понял лишь причину происшедшего и даже не заподозрил, что несчастье случилось по его собственному нерадению. Но все равно беспокойство, испытываемое им, от этого нисколько не уменьшилось. Да что там беспокойство… он ощущал ужасную тревогу!
Это чувство возникло не сразу. Сначала, когда он увидел, что девочку поддерживает такой прекрасный пловец, как его старый товарищ, он не сомневался в конечном исходе происшествия, настолько не сомневался, что даже не бросился им на помощь, хотя в первую секунду именно так и думал поступить.
Однако он тут же убедился, что опасность, грозящая Лали и ее храброму спасителю, не миновала.
Не подумал и Вильям об этой опасности, когда кричал «ура», выражая свою радость. Он видел, что матрос подобрал девочку, и, безгранично веря в мужество и ловкость их защитника, не сомневался в том, что тот доберется до «Катамарана» вместе со своей нетяжелой ношей. Вне себя от радости, юнга не принял в соображение одного обстоятельства: «Катамаран» шел под парусом с такой скоростью, что даже самый быстрый пловец — один, без всякой ноши — и то не догнал бы его. В такую горячую минуту не обратил внимания на это печальное обстоятельство не только юнга, но даже Снежок, а ведь, надо сказать, Снежок был не только хороший кок, но опытный мореход. Однако почти тут же негр увидел опасность и понял, в чем она заключалась. Быстро встав на корточки около кормовой бочки, он схватил конец рулевого весла, который сам же раньше выпустил из рук с такой преступной небрежностью, и, хотя ему до сих пор и в голову не приходило, что сам он был всему причиной, принялся изо всех сил спасать положение.
Сильные руки негра заставили «Катамаран» повернуться против ветра и таким образом приблизиться к пловцу. Но наш рулевой увидел вдруг нечто, отчего бросил весло так внезапно, словно руку его разбил паралич или конец весла превратился в раскаленное железо.
Одно было ясно: причиной был не паралич. Его рука, выпустившая весло — правая рука, — потянулась к левому бедру, где на поясе у него висел в ножнах длинный нож. Он схватился за рукоятку, но не для того, чтобы его вытащить, а чтобы убедиться, на месте ли он.
Мгновение — и рука отдернулась. Негр был уже на ногах. О весле он больше не думал и, подбежав к краю плота, прыгнул в воду.
Глава XXX. МОЛОТ-РЫБА
Поведение негра, бросившего рулевое весло и прыгнувшего в воду, было некоторое время непонятно Вильяму. Зачем Снежок сделал это? Разве матрос не мог один доплыть с девочкой до плота? Ведь он без труда поддерживал ее. Да и, кроме того, Снежок был бы гораздо полезнее, оставаясь на плоту и продолжая управлять им. Стоило бы ему постоять у руля еще несколько минут — и пловец оказался бы рядом с «Катамараном». Ну, а теперь, когда он выпустил весло, плот снова развернулся и, встав носом по ветру, стал удаляться в противоположную от матроса сторону.
Однако этого тревожного обстоятельства Вильям даже не заметил, а если и заметил, то спустя мгновение уже забыл о нем.
Всего несколько секунд следил он за негром. Неприятные мысли теснились у него в голове: почему негр, перед тем как прыгнуть, схватился за рукоятку ножа, чуть-чуть его вытащил и снова сунул обратно? Мгновенное подозрение промелькнуло в голове у мальчика. Зачем негру понадобился нож, если целью его было спасение пловца? Уж не пришла ли ему в голову дьявольская мысль — уменьшить число тех, которые нуждаются в пище и воде?
Правда, это подозрение возникло лишь на секунду и, возникнув, тотчас вызвало в юноше глубокое раскаяние. Как мог он так дурно подумать о Снежке?
Раскаяние пришло мгновенно, потому что взгляд его упал на…
Только теперь странный поступок негра стал ему понятен — не для убийства плыл Снежок к Бену Брасу, а для спасения!
Только от кого спасать? Неужели действительно была опасность, что матрос утонет и он нуждался в помощи для себя и девочки?
Но Вильям уже не спрашивал себя об этом. Зачем догадки и предположения? Опасность, угрожавшая его покровителю, предстала пред ним во всей своей ужасающей реальности. Этот плоский темный диск с серповидной выемкой посередине, который быстро скользил, пеня воду, не мог быть ничем иным, как спинным плавником акулы. И Вильям понял, какая грозит им опасность.
Ведь это та самая акула, которую он и крошка Лали спокойно наблюдали совсем недавно, опаснейшая молот-рыба. Сквозь прозрачную воду вырисовывалась ее молотообразная голова и зловеще светящиеся, навыкате глаза. Страшное зрелище!
И вот мальчик остался единственным свидетелем этой волнующей, потрясающей сцены, а участниками ее оказались Снежок, молот-рыба, Бен Брас и девочка, которую он спасал.
Еще в тот момент, когда Вильям понял, зачем негр бросился в воду, действующие лица разыгрывающейся трагедии расположились как бы на углах огромного равнобедренного треугольника, причем Снежок и акула находились в углах у основания, а Бен со своей ношей — в углу при вершине. Эта последняя точка оставалась почти неподвижной, а две другие двигались по направлению к ней: человек и акула состязались в скорости.
Вот как все это произошло: ушей чудовища, плывшего до этого впереди «Катамарана», достиг всплеск упавшей в воду Лали и более тяжелый и еще более громкий всплеск тела матроса, прыгнувшего с плота. Молот-рыба с хищным инстинктом, характерным для всей породы акул, мгновенно повернулась и поплыла, заходя за корму плота, где, как она чуяла, неминуемо должно оказаться то, что упало за борт, — будь то предмет или человек.
И вот, когда хищник подбирался таким образом к кормовой струе «Катамарана», Снежок, заметив веерообразный плавник и направление, в котором он двигался, разгадал его намерение.
Но едва только Снежок бросился в воду, акула, отклонившись от своего первоначального направления, поплыла в сторону негра — по-видимому, она решила переменить объект нападения. Однако, то ли негр пришелся ей не по вкусу, то ли она была испугана его храбростью — он плыл прямо ей навстречу,
— что бы там ни было, она метнулась назад, поплыв по прежнему курсу, навстречу Бену.
Разумеется, матрос, плывя с девочкой, почти потерявшей сознание и стеснявшей его движения, вряд ли мог защититься от нападения акулы, да еще такой акулы, как молот-рыба. Снежок знал это, и именно это побудило его броситься на помощь.

Что же касается самого негра, то трудно было найти в водах океана более опасного для акулы противника. Плавать он умел, как рыба, а нырять, как морская утка. Не раз он встречался лицом к лицу с акулой в ее родной стихии, не раз выходил победителем из такой встречи. Не за себя он боялся, выходя на этот поединок, а за тех, кого собирался спасать.
Уже в самом начале акула была ближе к Бену: она начала движение раньше. Но хотя им нужно было преодолеть почти равные расстояния, Снежок знал, что его соперник, превосходя по скорости, придет к цели первым.
Эта мысль приводила его в жгучее беспокойство, почти отчаяние.
Он неистово бил по воде руками и ногами, громко кричал и вообще всячески старался отвлечь внимание акулы на себя.
Однако ни его шумные движения, ни крики не принесли никакой пользы: хитрое животное не обращало на них внимания. Ее темный спинной плавник, словно парус под сильным ветром, несся навстречу более доступным для нее жертвам.
Стороны равнобедренного треугольника становились неравными очень медленно, но верно. Теперь это был уже косой треугольник, и Снежок с каждой секундой все яснее видел это.
— Ах, бедняжка Лали! — кричал он голосом, прерывавшимся от волнения. — Ой! Масса Бен, ради всех святых, берите же вправо — слышите, вправо! — а я заплыву между вами и этой свирепой тварью! Впра-а-а-во!.. Так, правильно. Вы только продержитесь, Бен! Только бы успеть доплыть, а я уж расправлюсь с этой тушей!
Указание Снежка возымело действие. До сих пор матрос не замечал опасности, единственной мыслью его было догнать плот. О каком нападении акулы мог он думать! Он даже не заметил приближения молот-рыбы. Дело в том, что плавник акулы был хорошо виден со стороны «Катамарана», то есть сбоку, но его трудно было заметить, глядя на него спереди. Неудивительно поэтому, что жертвы, на которых акула готовила нападение, не замечали ее приближения. И только при виде Снежка, прыгнувшего с «Катамарана» и плывущего ему навстречу, у матроса мелькнуло подозрение: акула! В то же мгновение он вспомнил, что Вильям спрашивал его об этом животном, а он кратко ответил ему, что оно называется молот-рыбой.
Теперь только Бен понял, что их настигает акула. Однако откуда ждать ее нападения, он не знал, пока не услышал предупреждающих криков Снежка: «Берите же вправо!»
Матрос был слишком высокого мнения об опыте бывшего кока, чтобы пренебречь его советом, и, как только услышал этот крик, повернул вправо так быстро, как только может это сделать пловец с одной свободной рукой. К счастью, этого было достаточно, и вскоре соотношение всех пловцов изменилось
— вместо треугольника они образовали теперь прямую линию: на одном конце был матрос, на другом акула, а посередине Снежок.
Глава XXXI. ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Из-за такой церемены в расположении пловцов акула потеряла свои преимущества. Противником ее был уже не обессиленный обремененный ношей и безоружный матрос — да если бы даже и имелось оружие, все равно руки у него были заняты, — нет, теперь ей предстояло схватиться с вооруженным длинным ножом, бодрым, полным сил противником, который с детства привык к водной стихии и чувствовал себя в воде, может быть, не хуже самой акулы. Во всяком случае, негр мог спокойно продержаться на воде в течение нескольких часов, да и под водой не меньше, чем любое животное, дышащее воздухом.
Но Снежок вовсе не собирался погружаться глубоко в воду.
Ну уж нет, ни на дюйм! Наоборот, чем ближе к поверхности, тем лучше.
Он отлично понимал, что под водой-то его и подстерегала опасность.
Как вы уже знаете, ему не один раз приходилось вступать в поединок с акулой в ее родной стихии. Правда, ему больше доводилось иметь дело не с молот-рыбой, а с белой акулой, однако он знал кое-что и о повадках этого вида акул.
Дело в том, что молот-рыба и другие особи этого вида нападают только тогда, когда их жертва находится под ними. В противном случае им приходится перевернуться на спину или на бок, и тем круче, чем ближе к поверхности воды лежит их добыча. Если же она совсем на поверхности, то акула в силу своеобразного расположения рта и строения челюсти выгибается брюхом наружу.
Это обстоятельство хорошо известно всякому, кто провел свою жизнь на море, и особенно тем, кому не раз приходилось вступать в поединок с акулой.
Например, ловцы жемчуга в Красном море нисколько не боятся нападения акулы. Оружием защиты у них служит простая палка, заостренная с обеих сторон и для крепости обожженная в огне. Называют они ее «эстака».
Имея при себе это простое оружие — его носят в петле на поясе, — они не боятся нырять за жемчугом, хотя в эти места и наведываются акулы. Как только прожорливый хищник бросается на них, ловцы, дождавшись, когда тот проделает свое водное сальто, выгнувшись брюхом наружу и откроет огромную пасть, ловко суют эстаку в пасть хищника, и ему остается только убраться восвояси с разинутой пастью или же закрыть ее, себе на погибель. Однако в эти воды заходят и другие акулы, с которыми не так-то легко справиться. Называются они «тинтореры», и ловцы жемчуга опасаются их не меньше, чем моряки — обыкновенных акул.
Молот-рыба — свирепый хищник, и ее боятся больше, чем какую-либо другую акулу. Несомненно, однако, этот страх наполовину вызывается ее ужасной внешностью.
Снежок знал, что животное не может причинить ему вреда, предварительно не приняв своей обычной позы вполоборота, и поэтому приблизился к ней с намерением держаться на самой поверхности, не давая животному очутиться над ним.
Итак, поединок был теперь неизбежен.
Акула, хотя несколько и сбитая с толку происшедшим перемещением, видимо, все-таки не отказывалась от намерения во что бы то ни стало отведать человечины. Двое белых от нее ускользнули, но на этот счет у нее не было особого предпочтения, и чернокожий Снежок казался ей не менее аппетитным, чем Бен Брас и маленькая Лали.
Трудно, конечно, утверждать, что акула рассуждала именно таким образом или что она вообще могла рассуждать. Да и времени у нее не было для того, чтобы рассуждать.
Когда Снежок оказался между акулой и намеченными ею жертвами, курчавую голову негра и молотообразный череп хищника разделяло такое расстояние, что между ними нельзя было бы и трех раз уложить гандшпуг.
Положение не из приятных, и всякий другой на месте Снежка не выдержал бы и поддался бы страху.
Но не тут-то было! Опытный боец был готов к поединку, действуя с таким бесстрашием и решительностью, будто на нем был амулет, который давал ему полную уверенность в победе.
Вильям, стоя на корме «Катамарана», затаив дыхание, наблюдал все перипетии этого зрелища. Он увидел, как негр вытащил нож из ножен, но он недолго задержался в его руках — чтобы высвободить и удобнее маневрировать, избегая своего противника, Снежок взял нож в зубы. В таком необычном виде предстал он для встречи со свирепым властителем морских глубин.
Глава XXXII. ПО КРУГУ
Было бы естественно предположить, что акула мгновенно ринется на своего противника, движимая лишь одним желанием: сожрать его как можно скорее. Но нет! Несмотря на свою прожорливость, характерную вообще для всех видов акул, этому хищнику свойственна и большая инстинктивная осторожность. Этот морской тигр, так же как и тигр, обитающий на суше, может чутьем угадать, легко ли достанется ему добыча или противник окажется опасным.
Должно быть, такая мысль (если это
можно вообще назвать мыслью) мелькнула в безобразной голове молот-рыбы: слишком уж решительный вид был у Снежка! Вполне вероятно, что если бы негр стал удирать от нее, а не поплыл ей навстречу, то акула тотчас же набросилась бы на него.
Вдобавок противник был примерно такой же крупный, как она сама, да и храбр не менее, чем она. Возможно также, что две лоцман-рыбы — обычные спутники акулы, — подплыв чуть ли не к самому носу Снежка и осмотрев его темное туловище, как хорошие разведчики, доложили своему хозяину, что приближаться к намеченной ими добыче нужно с осторожностью.
Как бы там ни было, акула, по-видимому, сразу обнаружила в противнике нечто такое, что изменило ее тактику: вместо того чтобы безрассудно броситься на Снежка или хотя бы плыть с той же скоростью, с какой она приближалась к нему раньше, акула, находясь уже на расстоянии нескольких морских саженей, вдруг стала сбавлять ход; ее бурые веерообразные, тихо колебавшиеся по бокам плавники уже не помогали ей в прежнем стремительном движении.
Более того, подплыв к негру почти вплотную, она вдруг подалась чуть в сторону, словно решила напасть на противника с тыла или даже проплыть мимо.
Интересно, что обе лоцман-рыбы, плывшие по сторонам у самых ее глаз, казалось, направляли движение акулы.
Негр был явно сбит с толку этим неожиданным маневром. Он ждал мгновенного нападения и сумел бы отразить его; он даже вытащил нож изо рта и зажал крепко в правой руке, готовясь нанести смертельный удар.
Нерешительность хищника вызвала и у него некоторое замешательство.
Ага!.. Снежок сообразил, что хитрая тварь норовит его обойти, чтобы броситься на беззащитных Бена и Лали за его спиной.
Как только это подозрение мелькнуло в него в голове, он повернулся в воде и поплыл наперерез акуле, чтобы, если возможно, перехватить ее.
Впрочем, теперь уже не имело значения, собирается ли хищник возобновить свой первоначальный план нападения на матроса и его ношу или это был просто маневр, чтобы зайти негру с тыла; так или иначе, Снежок выбрал правильную тактику. Негр сообразил, что если ловкий противник подберется к нему с тыла, то ему, так же как матросу с девочкой, придется плохо. Если бы акуле удалось обойти его и поплыть навстречу матросу, то каким бы хорошим пловцом ни был Снежок, за рыбой ему все равно не угнаться.
И тут ему пришла в голову мысль, как предотвратить опасность, которой он боялся больше всего: чтобы акула не обошла его и не бросилась на беззащитную пару. Вынув изо рта свой нож. Снежок закричал:
— Эге-ге-гей! Масса Брас, берите-ка вправо! Ей придется тогда ходить по кругу. Ради Бога, держитесь у меня за спиной, или вы пропали!
Но матрос вряд ли нуждался в этом совете: он и сам уже увидел опасность и начал маневр, который негр советовал ему предпринять.
Теперь все они двигались по кругу, или, точнее, по трем концентрическим окружностям, причем матрос с девочкой двигался по меньшему. Снежок-по кругу со средним радиусом, а акула со своими спутниками — по внешнему, самому большому. Ее горевшие злобой глаза были устремлены к центру: она только и ждала случая, чтобы прорваться через второй круг, охраняемый негром. Целых пять минут продолжалась эта схватка, причем без явного перевеса на чьей-либо стороне. И все же преимущество в этом состязании было на стороне игрока, плывущего по внешней окружности. Хотя акуле и приходилось преодолевать наибольшее расстояние, однако для нее это было своего рода спортивное состязание, для ее же партнеров — тяжкий труд, сопряженный к тому же с опасностью утонуть.
Если бы череп животного имел другое строение, а мозг был совершенней, то оно продолжало бы эту игру, и тогда его главному противнику, Снежку, пришлось бы либо просить пощады, либо отправиться на съедение рыбам. Но еще раньше туда же отправился бы обремененный ношей пловец, находившийся позади него.
Однако, как все животные, будь они сухопутные или водные, акула тоже не всегда способна проявить достаточное терпение и, бывает, приходит в ярость. И вот хищник, придя именно в такое расположение духа — по-видимому, свойственное водным хищникам, так же как и людям, — решил наконец нарушить правила этой игры и тем самым положить ей конец.
Не выдержав, акула внезапно вышла из своего круга и двинулась к Бену Брасу и маленькой Лали, приникшей к его плечу. Словом, несмотря на предостережение своих двух спутников и на поблескивающий под водой нож негра, акула бросилась стремглав к центру трех кругов. Ей пришлось пройти так близко от приплюснутого носа негра, что ее клейкая чешуя чуть не коснулась его выпяченных губ. Стоило Снежку протянуть руку — и его удар пронзил бы насквозь увертливого врага.
Снежок действовал иначе и так ловко, так проворно, будто заранее уже знал об этом новом маневре акулы. Как только бок хищника скользнул на дюйм от его носа, он вдруг опять схватил нож в зубы и, действуя одновременно руками и ногами, сделал в воде прыжок и, взметнувшись всем телом, вскочил хищнику на спину.
Одно мгновение — и левая рука его вцепилась в костистый нарост над левым глазом акулы, мускулистые пальцы впились в орбиту глаза, а длинный нож в правой руке заходил вверх и вниз, то сверкая в воздухе, то скрываясь под водой, с равномерностью парового молота.
Сделав свое дело, Снежок преспокойно слез со скользкого седла. Рядом плавала акула, или, вернее, ее труп, который окрашивал кровью лазурные волны на несколько морских саженей вокруг.
Глава XXXIII. ПОГОНЯ ЗА «КАТАМАРАНОМ»
Как было уже сказано ранее, стоявший на корме Вильям следил за этой сценой, затаив дыхание. Едва только он увидел, что акула мертва, а Снежок вышел из поединка невредимым и победителем, мальчик, не в силах больше сдерживаться, закричал от охватившей его радости.
Однако крик этот тут же смолк и за ним последовал другой, выражавший совсем иные чувства. То был крик уже не радости, а ужаса.
Оказывается, драма в открытом океане, разыгрываемая перед ним, единственным зрителем, еще не закончилась. Предстоял новый, не менее волнующий акт, причем теперь юнга был уже не зрителем, а его участником.
И акт этот начался. Отчаянный крик, который вырвался у юнги, возвестил его начало.
Наблюдая за поединком между Снежком и акулой, Вильям упустил из виду одно очень важное обстоятельство.
Теперь в опасности был не только негр, но и Бен Брас и маленькая Лали, да и сам он-словом, судьба всей маленькой команды зависела сейчас от него самого, или, вернее, от того, удастся ли ему взять их спасение в свои руки; если это удастся, то они могут быть еще спасены, в противном случае наверняка погибнут.
Читатель, наверно, удивляется: о каком странном обстоятельстве, сулившем такой ужасный исход, может идти речь? Ничего таинственного, однако, тут не было. Просто «Катамаран», имея на себе наполненный ветром парус, уходил, как и следовало ожидать, все дальше от пловцов.
Вот почему юнга закричал от ужаса. Теперь, когда он перестал беспокоиться за исход поединка, он сразу осознал эту новую опасность. И, должно быть, Бен Брас тоже заметил ее. Не прошло и мгновения, как зычный голос матроса разнесся далеко над океаном.
— Вильм! — кричал он, стараясь держать голову как можно выше над водой, чтобы его лучше было слышно. — Ви-и-льм, голубчик, держи рулевое весло да разворачивайся! Слышишь? Становись против ветра, а не то нам конец!
Снежок тоже пытался кричать, но он так запыхался после долгой, напряженной борьбы с акулой, что изо рта его вылетали лишь бессвязные звуки, похожие скорее на хрюканье дельфина, чем на членораздельную человеческую речь. Понять его было совершенно невозможно.
Да и вряд ли это было нужно, так как Вильям сам увидел, в чем была опасность, и поспешно принял нужные меры. Руководствуясь собственным соображением и отчасти указаниями Бена Браса, он бросился к рулевому веслу и, вцепившись в него обеими руками, изо всех сил старался развернуть «Катамаран».
Через некоторое время ему удалось повернуть плот против ветра, или, точнее говоря, поставить его настолько «близко к ветру», насколько вообще такого рода судно могло выполнить этот маневр. И тут он вдруг увидел, что его усилия совсем или почти совсем бесполезны. Сбавив ход, плот со своим огромным, неуклюжим парусом продолжал удаляться от догонявших его пловцов, и расстояние между ними, как заметил Вильям, все увеличивалось. Даже Снежок, который, покончив с акулой, направился прямо к «Катамарану»,-даже он не приближался ни на дюйм к гонимому ветром плоту.
Наступил самый напряженный момент. Тревога, казалось, достигла наивысшего предела: все видели, что плот не поддается управлению и уходит все дальше и дальше…
В таком положении дело долго оставаться не могло. Видно было, что оба пловца изнемогают от усталости. Снежок, плававший, как морская утка, мог еще продержаться некоторое время, но матрос, обремененный ношей, неминуемо должен был скоро пойти ко дну. Да и Снежок не мог плыть до бесконечности. Если погоня за уходящим по ветру «Катамараном» продолжится, негр неминуемо тоже окажется жертвой всепоглощающего океана.
В течение нескольких минут — они казались часами — продолжалось состязание между людьми и плотом без каких-либо видимых успехов для той или другой стороны. Правда, некоторая перемена в их взаимном расположении все же произошла Вначале негр плыл на несколько саженей позади Бена Браса и спасенной им девочки. Теперь позади были они, и, увы, они отставали все больше и больше. И хотя Снежок уплывал все дальше и дальше от Бена, к «Катамарану» он не приближался. Плот оказался более быстрым парусником, чем Снежок — пловцом.
Вначале, когда Снежок бросился догонять плот, он рассчитывал быстро добраться до него и повернуть его в сторону обессилевшего пловца.
Уверенный в своем умении плавать, он считал это вполне осуществимым. Но теперь, проплыв следом за плотом несколько минут, он убедился, что расстояние между ним и «Катамараном» не только не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. И им овладело сильнейшее беспокойство.
И беспокойство это росло: напрасно греб он во всю мочь, напрасно работал он крепкими ногами, напрягая все силы,-все та же широкая синяя полоса воды отделяла его от «Катамарана».
И когда наконец он увидел, что все усилия тщетны и что «Катамаран» уходит, беспокойство его сменилось мучительной тревогой. Неизвестно, было ли все на самом деле так, как ему казалось, но он решил, что догнать плот невозможно, и прекратил свои усилия.
Однако он не собирался оставаться на месте. Отказавшись от преследования «Катамарана», он ловко, как бобер, повернулся в воде и взглянул назад. Там, на расстоянии примерно двухсот морских саженей, виднелись две точки, настолько сливаясь друг с другом, что они казались одним пятнышком, черневшим над гребнями волн.
Да и заметить их можно было, только приподнявшись на несколько дюймов над водой.
И Снежок приподнялся еще выше, ибо знал, что там чернелось…
Ни секунды не колеблясь, он, рассекая воду, поплыл прямо туда.
Его не раздирали больше противоречивые чувства. Одна мысль завладела им целиком. Он плыл не с осознанной целью помочь, а лишь побуждаемый отчаянием, чтобы, пока в нем есть еще хоть капля сил, не дать утонуть маленькой Лали-ребенку, вверенному его попечению, а если сила и иссякнет, то погрузиться вместе с девочкой в огромную бездонную могилу, от которой не остается ни следа, ни надгробия.
Глава XXXIV. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПАРУСА
Негр и матрос плыли теперь навстречу друг другу. Бен, правда, двигался довольно медленно, но нельзя сказать, чтобы и Снежок плыл назад быстро. Впав в отчаяние, он не чувствовал прежней решимости. Он даже не отдавал себе отчета, зачем он вернулся, разве только затем, чтобы утонуть вместе с двумя другими. По-видимому, теперь всех их ждал именно такой конец.
Как ни медленно они плыли, встретились они скоро. В их глазах застыло тяжкое отчаяние, какое бывает у людей, утративших последнюю надежду.
«Катамаран» был уже теперь на таком расстоянии, что если бы он даже стал на якорь, то вряд ли бы они добрались до него вплавь. Уже плот и привязанные вокруг него бочки скрылись из виду. Один лишь парус белел вдали, словно курчавое облачко, летящее по небу, да и он вот-вот грозил превратиться в белую точку, а там, может быть, и исчезнуть из виду. Какая уж тут надежда!
Бен Брас недоумевал, почему парус все еще не был убран. В первые минуты, нагоняя плот, он кричал Вильяму, чтобы тот отпустил шкоты, кричал до хрипоты, пока не стал задыхаться и совсем потерял голос. Да и плот тем временем отнесло так далеко, что вряд ли юнга услышал его. Наконец матрос перестал кричать; он продолжал плыть, храня мрачное молчание, недоумевая, почему Вильям не выполнил его приказа, и испытывая от этого грусть и досаду. Еще бы — ведь убери юнга парус, они могли бы еще надеяться нагнать «Катамаран»!
И в ту минуту, когда матрос погрузился в свое угрюмое молчание, он увидел, что к нему приближается Снежок. Как же тут не предаться отчаянию! Даже такой отличный пловец, как негр, отказался от попытки догнать плот. Ясно, значит, что для него дело и вовсе безнадежно.
Через несколько мгновений пловцы очутились рядом. Они обменялись взглядами и поняли друг друга без слов. Каждый прочел в глазах другого ожидавшую его страшную участь. Им суждено утонуть.
Первый нарушил тягостное молчание Снежок:
— Послушайте, масса Бен, вы, должно быть, совсем обессилели. Дайте-ка мне нашу девочку!.. Ну-ка, Лали, возьмись за мое плечо, пусть масса Брас переведет немножко дух.
— Нет, нет, не надо! — запротестовал матрос безнадежным тоном. — Чего уж там, подержу-ка ее еще немного. Все равно недолго осталось…
— Т-ш-ш! — перебил его негр свистящим шепотом и многозначительно показал взглядом на Лали. — Я так понимаю, — продолжал он спокойным тоном, предназначавшимся для девочки, — что опасности пока нет. Ясное дело, мы потихоньку догоним «Катамаран». Ветер переменится и пригонит его к нам… Говорите лучше по-французски. Бедная крошка не знает французского языка, — обратился он снова к Бену, переходя на жаргон, употребляемый жителями французских колоний. — Я-то знаю, что и вам, и мне, и плоту-всем нам конец! Но пусть хоть девочка не знает об этом до последней минуты. Зачем ей напрасно мучиться!
— Ладно, ладно! — забормотал Бен, мешая без разбору французские и английские слова. — Бедная девочка, пусть она, правда, не знает, что ее ждет впереди! Помилуй нас, Господи!.. Вот и плота уже не видно! Куда он девался?.. Не видишь ты его, Снежок?
— Ах ты, Боже праведный, нет его! — ответил негр, приподняв голову над водой.-Исчез! Кончено дело — теперь мы его больше не увидим!
Нота отчаяния в его голосе прозвучала еле слышно. Если до этого у них была еще какая-то слабая надежда на спасение, то теперь, когда плот исчез и даже его парус не виднелся на фоне голубого неба, и она пропала. И поэтому этот новый поворот в разыгрывавшейся драме не изменил настроения его главных участников. Смерть смотрела им в лицо с неумолимой неотвратимостью. Если в чем и произошла перемена, так это не в их настроении, а в действиях. Пловцы больше не двигались по какому-либо определенному направлению: им некуда было плыть. Парус исчез, и они теперь не знали, где находится плот. Может быть, он затонул, оставив их одних среди безбрежного океана?
— Да и к чему плыть?! — сказал Бен в отчаянии.-Только силы тратить, а их у нас и так немного осталось.
— И правда, не к чему, — согласился негр. — Будем плавать на одном месте — так легче будет, мы дольше продержимся. Послушайте, масса Бен, дайте мне нашу девочку! Вы, ей-ей, больше моего устали… Лали, держись за мое плечо… Вот так.
И, подплыв к матросу, негр осторожно снял ослабевшие руки девочки с его плеч и переложил их на свои.
Бен больше не пытался отказываться от благородного предложения своего товарища. Теперь, признаться, эта помощь была ему как нельзя более нужна. Они продолжали плавать, стараясь расходовать сил столько, сколько нужно было для того, чтобы удержаться на поверхности воды.
Глава XXXV. В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ
В течение нескольких минут оказавшиеся за бортом катамаранцы оставались все в том же опасном положении, почти не двигаясь среди темно-синих волн, словно повиснув между водой и воздухом, между жизнью и смертью. Ни негр, ни белый больше не думали о том, как избавиться от смерти, — они не сомневались в том, что наверняка погибнут.
Да и как могли они в этом сомневаться! Для них это был только вопрос времени. Пройдет час, два, а может, и меньше, потому что усталость и напряжение уже подточили их силы, — и все будет кончено. Они не избегнут законов природы: закона тяготения, или, точнее говоря, закона удельного веса, и погрузятся в бездонную и неведомую глубь океана; и маленькая Лали — это прелестное безропотное дитя, невинная жертва судьбы, — разделит их горестный жребий: исчезнет навсегда из этого мира.
Все это время девочка не обнаруживала никаких признаков панического страха, что при данных обстоятельствах было бы только естественно. Рожденная и выросшая в стране, где человеческая жизнь ценится недорого, она привыкла к зрелищу смерти, а это до известной степени лишает смерть ее ужаса, — ведь люди, часто наблюдавшие ее, обладают более стоическим равнодушием.
Но было бы ошибочно предположить, что девочка безразлично относилась к своей участи. Наоборот, она испытывала вполне естественный страх. Однако потому ли, что ее сознание было затемнено крайней опасностью положения, или она не чувствовала, насколько велика эта опасность, но поведение ее с начала и до конца было отмечено каким-то почти сверхъестественным спокойствием. Возможно также, что ее поддерживала вера в своих мужественных защитников. Оба они даже в эти роковые минуты избегали говорить ей о том, что жить им осталось недолго.
И все-таки они были в этом уверены далеко не в равной степени. Белый ощущал неизбежность гибели больше, чем негр. Трудно сказать почему. Может быть, потому, что Снежку очень часто приходилось бывать на самом краю гибели и всякий раз ему удавалось избегнуть ее, и, несмотря на, казалось бы, полную невозможность спастись, в его груди еще теплился слабый луч надежды.
Другое дело — матрос. Ни тени уверенности не оставалось в его душе. Он считал, что идут последние минуты его жизни. Раз или два у него мелькнула мысль самому положить конец борьбе и вместе с ней мучительным переживаниям этого страшного часа. Стоило ему только перестать двигать руками-и он пойдет ко дну. Его останавливал только врожденный инстинкт, которому претит самоуничтожение и который подсказывает нам, или, вернее, принуждает нас, дожидаться того последнего мгновения, когда смерть придет сама.
Так, в силу разных причини рассуждая по-разному, три выброшенных за борт скитальца с «Катамарана» продолжали держаться на воде. Маленькая Лали
— потому, что рядом был Снежок; Снежок — потому что где-то в глубине души еще теплился слабый луч надежды; а матрос — потому, что инстинкт самосохранения удерживал его от совершения поступка, который при любых обстоятельствах считается в цивилизованном обществе преступлением.
Никто не проронил ни слова после тех нескольких фраз, основной смысл которых Снежок и матрос старались скрыть от Лали, говоря по-французски.
Ужас приближающейся смерти сковал язык Снежка и матроса. Долго хранили почти совсем обессиленные пловцы глубокое молчание.
Глава XXXVI. СУНДУЧОК В МОРЕ
Ничто не прерывало безмолвия этой торжественной минуты. Слышно было только, как волны, гонимые легким ветерком, плескались о тела измученных пловцов. Но трое несчастных даже не замечали этого, как не замечали и криков морской чайки. А если и замечали, то эти пронзительные крики только усиливали объявший их ужас.
И вдруг среди этого глубокого молчания и глубочайшей безнадежности послышался голос… Оба пловца вздрогнули от испуга, словно это был голос с того света. И действительно, он звучал так нежно, будто и впрямь исходил из другого мира. Но ничего сверхъестественного, однако, не было. Это был голос маленькой Лали.
Уцепившись за плечо негра, девочка видела дальше, чем державший ее Снежок или матрос, плывший рядом, так как находилась на несколько дюймов выше, чем они. Поэтому она заметила то, чего не могли увидеть измученные пловцы, еще боровшиеся за то, чтобы удержаться на поверхности океана: какой-то темный предмет плыл по воде довольно близко от них.
Ее слова так поразили обоих мужчин, что они сразу очнулись от своего оцепенения.
— Что ты видишь, маленькая Лали? Что, что там такое, а? — закричал Снежок первый. — Взгляни-ка опять, дорогая девочка! — продолжал он, стараясь в то же время приподнять повыше плечо, за которое держался ребенок. — Что ты увидела? Не плот, не «Катамаран», а?
— Да нет, нет, — ответила Лали, — не «Катамаран»… Это что-то маленькое, четырехугольное, вроде ящика.
— Ящика? Откуда же тут взяться ящику? Ящик! Ах, черт возьми…
— Разрази меня гром, если это не мой сундучок! — перебил его матрос, поднимая голову над водой, как гончая в поисках раненой утки. — Ну да, это он и есть, не будь я Бен Брас!
— Ваш сундук? — переспросил Снежок, в свою очередь поднимая курчавую голову над водой, чтобы лучше видеть — Вот чертовщина!.. Так и есть! Как же это случилось? Вы же оставили его на плоту!
— В том-то и дело, что оставил,-ответил матрос. — Можно сказать, последняя вещь, которую я держал в руках, перед тем как прыгнуть в воду. Я и сам глазам своим не верю — старый мой сундучок! Так и есть.
Разговор этот велся торопливо, и не успел он закончиться, как наши пловцы двинулись по направлению к так неожиданно появившемуся предмету.
Глава XXXVII. ВМЕСТО СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА
Может, на самом деле это вовсе и не был сундучок Бена Браса, но то, что это плыл сундучок, а не что-либо другое, было очевидно. Устойчиво державшийся на воде, он сулил помощь нашим пловцам, до того обессилевшим, что еще немного — они бы не выдержали и пошли ко дну.
Это действительно был матросский сундучок, и к тому же принадлежавший Бену Брасу. Он-то уж никак не мог ошибиться: ему ли не узнать этой плотной обшивки из парусины, обшивки, сделанной им самим и собственноручно же окрашенной голубой масляной краской, для того чтобы сделать ее непромокаемой! А эти ручки из крепкой веревки -не он ли сам их сплел и прикрепил! А буквы «Б. Б.»! Ведь это же его собственные инициалы, крупно нарисованные им на боку, как раз под самой замочной скважиной, вместе с якорем наискосок, звездами и другими причудливыми изображениями, свидетельствовавшими о немалом искусстве его обладателя.
В первую минуту, когда он убедился, что это его собственный сундучок, Бен решил, что произошло несчастье и плот погиб.
— Эх, Вильм, Вильм, бедный малыш! — сказал он. — Если это так, кончено его дело…
Однако такое предположение вскоре отпало, и мысли матроса приняли иное направление.
— Нет, — сказал он, возражая против своей первой гипотезы, — быть того не может! С чего бы это плот мог вдруг развалиться? Ветра нет, море тихо… Да просто не с чего такому случиться!.. Ага, теперь я понял!.. Вот что, дружище мой Снежок, это не иначе, как дело рук Вильма. Это он бросил сундучок, понадеявшись, что тот доплывет до нас. Вот каким образом он к нам и попал. Ай да мальчишка, ай да молодец!.. Ну, хватайся за сундучок. Теперь не все еще потеряно!
Совет был излишним. Не сговариваясь, оба ухватились за ручки сундучка.
Что и говорить, при таких обстоятельствах сундучок представлялся им весьма заманчивой вещью. Говорят, утопающий хватается за соломинку, а тут им представлялась возможность ухватиться не за соломинку, а за матросский сундучок! Плыл он дном вниз и крышкой вверх — ну, прямо, будто стоял возле койки Бена в кубрике фрегата! Очевидно, в этом положении его удерживала полоса железа, подбитая снизу и теперь служившая как бы грузилом. Сундучок так высоко поднимался над водой, что ясно было — он пуст или почти пуст. Даже ручки, приделанные с каждой стороны и отстоявшие на несколько дюймов от крышки, находились над водой.
За эти ручки удобно было держаться, и это было настолько заманчивым, что матросу не требовалось уговаривать Снежка, чтобы он схватился за одну из них, в то время как он, Бен, найдет себе опору, держась за другую.
По молчаливому соглашению, оба подплыли: один с одной, другой с другой стороны сундучка, и тут же ухватились за его ручки.
Благодаря этому сундучок сохранил равновесие и хотя из-за прибавившегося веса и погрузился на несколько дюймов глубже в воду, крышка его, к их огромной радости, все же возвышалась над поверхностью, даже когда на нее легла легкая фигурка девочки. Между поверхностью воды и захлопнутой крышкой все еще оставалось несколько дюймов, так что вода не могла проникнуть в глубь сундучка.
Глава XXXVIII. ДОГАДКИ НАСЧЕТ «КАТАМАРАНА»
Своеобразную группу представляли наши пловцы через две-три минуты после того, как добрались до сундучка. По правую сторону, наискосок от края, вытянулась фигура матроса, причем левую руку он по локоть пропустил через плетеную петлю ручки. Таким образом, добрая половина его веса приходилась на плавучий сундучок, и, чтобы держаться на поверхности, ему приходилось только слегка грести правой рукой. Как он ни устал, это было ему по силам: после всего перенесенного то был не труд, а отдых.
С другой стороны сундучка, в точно такой же позе, плыл Снежок, с той только разницей, что он, наоборот, опирался правой рукой, а греб левой.
Как уже было отмечено, маленькая Лали переместилась с плеча Снежка на более возвышенное место-на крышку сундучка — и лежала на животе, удобно держась ручками за выступающий край.
Излишне говорить, что благодаря такой перемене в положении и обстоятельствах произошла также перемена и в их планах на будущее. Смерть, правда, могла им казаться все такой же неизбежной, как и несколько минут назад, — она все еще стояла у порога, — только теперь она не так уж торопилась… С помощью этого сундучка — чем не первоклассный спасательный круг! — они продержатся на воде много часов, пока, обессилев от жажды и голода, не пойдут ко дну. Все зависит от того, сколько времени они смогут так протянуть. А окажись у них некоторый запас продовольствия и воды, то они могли бы рассчитывать на долгое путешествие, хотя и совершая его таким необычным способом. Но, конечно, все это при условии, если не налетит буря и не нападут акулы.
Увы! В любой момент можно было ждать и того и другого.
Правда, они пока не думали о такой опасности, как и о том, что погибнут от голода или его неразлучной спутницы — жажды. Удивительное совпадение, что сундучок приплыл к ним в момент, когда они едва не погибли, произвело не менее удивительную перемену в мыслях моряка и негра, породив у них если не твердую уверенность в спасении, то, во всяком случае, некое блаженное предчувствие, что их еще ждет впереди другая, более надежная и постоянная помощь и что им не суждено утонуть, или, по крайней мере, пока еще не суждено утонуть.
Надежда, сладкая, утешительная надежда, вспыхнула в их груди, а вместе с ней пришла и решимость продолжать борьбу за спасение своей жизни. Оба могли теперь свободно обмениваться разными соображениями и советами, и они принялись толковать о своем положении.
Прежде всего они стали гадать, каким образом появился здесь сундучок. Предположение, пришедшее в первый момент в голову его хозяину, будто плот погиб и сундучок — просто один из обломков происшедшего крушения, оказалось несостоятельным, а потому было тут же отвергнуто. Никакого сильного движения водных или воздушных стихий, которые могли бы разрушить «Катамаран», не произошло. Это замысловатое сооружение, целое и невредимое, плавало где-то в океане, красуясь своими фантастическими очертаниями.
Правда, его нигде не было видно. Даже маленькая Лали, которой, поскольку она находилась на более высоком месте, поручено было вести наблюдение, ничего не видела, хотя и старалась выполнить свою задачу со всей тщательностью.
Если бы плот находился на расстоянии одной-двух лиг
[16], то большой четырехугольник паруса был бы достаточно хорошо виден. Но никакого паруса девочка не заметила.
Так она и доложила своим спутникам: ничего вокруг, только море и небо.
Отсюда можно было заключить, что «Катамаран» если даже и не утонул, то его отнесло так далеко, что им никогда его не догнать. Однако моряк, умудренный опытом, не предавался отчаянию. Догадки его были более утешительного характера. Основываясь на кое-каких других фактах и хорошенько пораскинув умом, он решил, что появление среди морских волн морского сундучка — дело не случайное. Это, несомненно, работа рук Вильяма, действовавшего по какому-то плану.
— Будь уверен, Снежок, — говорил он коку, — мальчишка выбросил этот сундучок за борт, наперед зная, что, если мы не догоним «Катамаран», он нас выручит. Сундук-то стоял посередине плота, когда я в нем рылся. Что ж, он сам, что ли, прыгнул в воду? Да ведь в нем были всякие вещи, а сейчас, будь уверен, он пуст — иначе бы так не плыл. Взял, значит, малыш этот самый сундучок, вытряхнул из него все мои вещички, и раз его — за борт! И очень умно сделал. Вот голова! Только он мог такое сообразить. Я и прежде замечал, что он дошлый парень. Ты только подумай, какой это молодец! А?
После этого потока похвал Бен переживал про себя свои восторги.
— Может быть, очень даже может быть, — согласился с ним негр.
— А потом он вот что сделал,-продолжал Бен плести свою цепь догадок.
— Что же?
— Взял да убрал парус. Не знаю только, почему он не сделал этого раньше. Я же ему кричал, и он, должно быть, меня слышал. Сдается мне, он ничего не мог с ним поделать. Сейчас я вспоминаю, что, поднимая наш парусишко, я затянул на шкотах такой узел, что ой-ей! Как же он мог быстро его развязать? Ведь пальцы-то у него маленькие! Вот в чем и была загвоздка! А теперь он убрал наконец парус, значит, ему удалось все-таки развязать мой узлище, а может, он просто взял да перерубил канат— вот почему мы и паруса не видим, а на самом деле «Катамаран» совсем близехонько. Быть того не может, чтобы он далеко уплыл, особенно если парус был уже спущен, когда мы увидели, что он исчез из виду.
— А ведь верно! Я тоже заметил, что парус ни с того ни с сего вдруг исчез, будто его кто сдернул.
— Значит, Снежок, — продолжал матрос все более веселым тоном, — если все так, как мы гадаем, то плот от нас недалеко ушел — на один или, может, на два узла. Видеть далеко мы ведь не можем, потому что сидим по шею в воде. Во всяком случае, я скажу тебе: плот наверняка идет по ветру, и без паруса его понесет не быстрее, чем мы поплывем. Это уж точно. Поэтому давай-ка махнем милю или две ему навстречу, а тогда видно будет, барахтается ли он еще где-то тут или прости-прощай навеки. Это будет, пожалуй, самое лучшее, а?
— Точно, масса Брас, это будет самое правильное! Ничего лучше не придумать, как пуститься и нам по ветру.
И без дальнейших разговоров они принялись осуществлять свою задачу. Один греб правой рукой, другой левой, но оба с одинаковой силой и решимостью. Быстрота их движения стала такой, что море так и пенилось вокруг и брызги долетали даже до уцепившихся за крышку сундучка пальчиков маленькой Лали.
Глава XXXIX. ПО ВЕТРУ
Плыли они недолго. Вдруг Лали вскрикнула — и двое мужчин прекратили свои усилия.
Пока матрос и кок усердно трудились, Лали, стоя на коленях на крышке, смотрела вперед. И внезапно она увидела нечто, вызвавшее если не радостный, то, во всяком случае, достаточно веселый возглас.
— Что такое, Лали? — нетерпеливо спросил негр. — Ты что-то увидела? Святое небо, да неужто же «Катамаран»?
— Да нет же! Это только бочка плывет по воде…
— Бочка? Какая такая бочка? — удивился негр.
— Наверно, одна из пустых бочек от нашего плота… Ну да, на ней веревки.
— Так и есть, — подтвердил Бен, который, приподнявшись как можно выше, тоже увидел бочку. — Разрази меня гром! Все-таки, видать, наш плотик развалился… Э, нет! Все понятно!.. Это работа нашего Вильма — он обрубил у бочки веревки. Послал нам ее в помощь, на случай, если нам не повстречается сундучок. Обо всем подумал! Говорю тебе, голова у него!..
— А что, если б нам доплыть до этой бочки и тоже прихватить ее на буксир? — предложил кок. — Это было бы не лишним. Поднимется ветер, и тогда сундучок не очень нам поможет. Зато бочка еще как пригодится — в самый раз будет!
— Правильно, Снежок! Захватим и бочку. Сундучок сослужил нам хорошую службу, а все-таки бочка в бурном море более верное дело. Так и держи на нее
— она прямехонько перед нами.
Через пять минут пловцы поравнялись с бочкой. По веревкам они сразу узнали, что это бочка от плота. И матрос тут же разглядел, что веревки не перерезаны аккуратно ножом или каким-либо другим острым орудием, а, видимо, «перепилены» в спешке, так как концы их измочалились и во все стороны торчат волокна.
— Опять работа Вильма! Он, видать, перерубил веревки старым топором. А топор-то у нас тупой… Ура нашему славному мальчишке!..
— Постой-ка! — закричал Снежок, прерывая бурные восторги матроса. — Держитесь пока за сундучок, масса Брас, а я заберусь на бочку и взгляну-может, и увижу наш «Катамаран».
— Правильно, Снежок! Валяй, забирайся! Я буду один держать сундучок.
Снежок, высвободив руки из веревочной петли, подплыл к бочке и после некоторой возни наконец вскарабкался на нее.
Для этого ему пришлось проявить большую ловкость: бочка крутилась у него под ногами, грозя сбросить. Но такая водная гимнастика была Снежку нипочем. Балансируя, ему удалось найти достаточно устойчивое положение, чтобы как следует оглядеть расстилавшийся кругом океан.
Матрос с беспокойством наблюдал за его движениями. Ведь недаром же они получили две весточки от сообразительного юнги, говорившие о том, что тот находится где-то поблизости! Как он ожидал, так в действительности и случилось. Едва негр утвердился на бочке, как громко закричал:
— «Катамаран»! «Катамаран»!
— Где? — крикнул ему матрос. — По ветру?
— Точно по ветру!
— А далеко, славный ты наш кок, далеко?
— Близко, совсем близко — не дальше, чем на расстоянии свистка боцмана. Не больше трех — четырех кабельтовых.
— Ладно, слезай с бочки… Как по-твоему, что нам теперь делать, дружище Снежок, а?
— Самое лучшее,-закричал в ответ негр,-попытаться мне догнать наш плот! Парус на нем спущен, и он плывет не быстрее, чем бревно красного дерева в тихую погоду в тропиках. Я сейчас двинусь к нему, и тогда мы с Вильмом подойдем к вам на веслах.
— Думаешь, догонишь плот, Снежок?
— Догоню, как же иначе! Вы с Лали плывите да смотрите, чтобы не ушли от вас ни бочка, ни сундучок,-бочка нам даже нужнее. Мне бы только добраться до плота, а уж там я пригоню его к вам!
Проговорив это, негр накренил бочку и соскользнул в воду. Еще раз дав совет держаться ближе к месту, где они сейчас находятся, негр, загребая во всю длину своих мускулистых рук, поплыл, вспенивая воду и фыркая не хуже какого-нибудь представителя семейства китовых.
Глава XL. СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА НА ВОДУ!
Вряд ли нужно говорить, что, в то время как происходили описываемые события, Вильям, находившийся на «Катамаране», чуть не лишился рассудка от беспокойства. Сначала он бросился к рулевому веслу, намереваясь выполнить первое указание Бена Браса, но, убедившись, что все его отчаянные попытки повернуть плот безуспешны, перешел к выполнению второго приказа матроса — принялся спускать парус. Однако недаром Бен недоумевал, испытывая при этом горестную досаду, почему его последнее распоряжение не было выполнено или, по крайней мере, выполнено недостаточно проворно. (Потом он все же решил, что Вильям в конце концов убрал парус, хотя истинная причина задержки Бену все еще оставалась неизвестна.) А между тем предположение, которым он поделился со Снежком, будто он «затянул такой узел, что ой-ей», и Вильям, наверно, не сможет его развязать, было правильно. Оказался Бен прав и в том, что в конце концов парус был спущен и Вильям или сумел развязать его «узлище», или же просто перерубил канат.
Верным оказалось второе. Действительно, с тугим морским узлом справиться юнге было не по силам. Вильям пробовал развязывать его и так и этак, наконец, махнув на все рукой, схватил топор и перерубил шкоты.
Парус тут же опустился, но было уже поздно; и когда Вильям опять взглянул на океан, его взору представилась бесконечная однообразная голубая гладь, и кругом ни точки, ни пятнышка.
Он понял, что впервые остался совершенно один-одинешенек среди безбрежного океана.
От такой мысли можно было прийти в отчаяние и, оцепенев от ужаса, потерять всякую способность действовать. И если бы на месте юнги был какой-нибудь другой юноша, то так бы оно и случилось. Но не таков был Вильям! Недаром он отправился в море, гонимый жаждой приключений: только юноша с предприимчивым и решительным складом ума мог решиться на такое.
Он не смирился перед судьбой, не пал духом, а продолжал напрягать все силы ума и тела в надежде как-то помочь катамаранцам в постигшей их катастрофе. Кинувшись обратно к рулевому веслу и отцепив его от крюка, на котором оно крепилось, служа рулем, он принялся грести им, чтобы двинуть судно против ветра.
Что и говорить, старался он изо всех сил, и все-таки ему вскоре пришлось убедиться, что от его усилий толку нет. Огромный плот, по выражению Снежка, был прямо как «бревно красного дерева в тихую погоду в тропиках».
Дело оказалось еще хуже: юнга увидел, что плот не только не идет против ветра или остановился, но он продолжает двигаться по ветру.
В этот критический момент ему пришло в голову… Он и раньше бы об этом подумал, если бы не был так поглощен надеждой, что сумеет поставить плот против ветра. Но как только эта затея провалилась, его сразу же и осенило: нужно выбросить что-нибудь плавучее за борт. Это позволит его спутникам дольше продержаться на воде.
Первый предмет, который попался ему на глаза, был сундучок моряка. Стоял он, как вы знаете, посередине плота, на том самом месте, где Бен Брас исследовал его содержимое.
Крышка была откинута, и Вильям увидел, что сундучок почти пуст: все вещи валялись рядом. Матрос раскидал свои пожитки, когда в нем рылся. И чего тут только не было! Какой выбор и в каком количестве!
Самый вид сундучка наводил на мысль о возможности использовать его в нужных Вильяму целях: его крашеный парусиновый чехол был водонепроницаемым. Стоит только захлопнуть крышку — и вот вам настоящий буй, который сыграет роль спасательного круга. Во всяком случае, ничего лучшего ему пока не подвернулось, и, не мешкая ни секунды, юноша захлопнул крышку; замок при этом защелкнулся, и сундучок оказался запертым. Схватив его за одну из плетеных ручек, юнга поволок сундучок на край плота… и вот он уже качается на волнах.
Удачно, что сундучок даже в воде сохранял свое обычное положение, плывя дном вниз. И как хорошо держался он на воде, будто был сделан из пробки! Ничего удивительного! Юнга вспомнил, что однажды он слышал разговор на баке «Пандоры» относительно этого самого сундучка. Разглагольствовал при этом главным образом сам Бен Брас, хваливший замечательные мореходные качества своего изделия.
— Мой сундук что судно! — хвастал бывший матрос военного фрегата. — Все равно, что спасательный пояс в случае, если кто оказался бы выкинутым в море. Если такое, не приведи Бог, случится, он удержит на воде, почитай, всю команду малой, а то и большой шлюпки!
Отчасти благодаря этому воспоминанию у юнги и возникла мысль спустить сундучок на воду. И теперь, глядя, как он удаляется за кормой «Катамарана», Вильям испытывал радость, чувствуя, что его спутник и защитник мог им справедливо гордиться: он не подвел! Но еще больше он радовался тому, что сундучок, возможно, спасет от смерти не только Бена, но и ту, которая была ему еще дороже, — маленькую Лали.
Глава XLI. НАБЛЮДЕНИЕ С ВЫШКИ
Отправив сундучок за борт, Вильям не успокоился на этом и решил, что нужно послать по воде потерпевшим еще что-либо: может, новая посылка, дойдя до них, даст им лишний шанс уберечься от неминуемой гибели на дне океана.
Что еще такое пустить бы в ход? Может, доску? Нет, всего лучше бочку, одну из порожних бочек из-под воды. Вот это было бы здорово, ну просто здорово!
Сказано — сделано. Ножа не оказалось, и Вильям перерубил веревки топором. И вот бочка, отделившись от плота, плывет за кормой, догоняя матросский сундучок. Плывет она, однако, не очень быстро. Ведь паруса-то на ней нет, и потому ветер не подгоняет ее. А все же плот плыл быстрее сундучка и бочки, потому что ветер, как-никак, подгонял его. Вильям правильно рассудил, что для обессилевших пловцов, какими, несомненно, были сейчас и Бен и Снежок, лишний кабельтов, отделяющий их от плота, может сыграть решающую роль.
И он подумал, что, чем больше плавучих предметов будет сброшено на воду им в подмогу, тем больше вероятности, что хоть один из них они заметят и доберутся до него. Поэтому Вильям, не мешкая, принялся перерубать веревки у второй бочки, чтобы пустить и ее по воле волн.
Освободив таким образом вторую бочку, он проделал то же самое с третьей, потом перешел к четвертой и принялся было за пятую, намереваясь оставить только шестую с драгоценным запасом воды. Он знал, что, если даже обрубить все бочки, плот все равно не затонет. Этого он нисколько не боялся. И тем не менее, уже собираясь обрубить веревки, прикреплявшие к плоту пятую бочку, он вдруг остановился. Внимание его было привлечено одним странным обстоятельством: третья и особенно четвертая бочки, вместо того чтобы плыть в кильватере за кормой, покачивались у борта, словно не желая расставаться со своим старым другом — плотом.
В первую секунду Вильям ничего не мог понять. Но он быстро сообразил, в чем тут причина. Раз бочки не поддерживали больше плот на плаву, то он глубоко осел в воду, и поэтому ветер не мог уже гнать его быстрее, чем бочки. Таким образом, бочки и «Катамаран» двигались сейчас по ветру одинаково быстро, или, точнее, одинаково медленно.
Сначала юнга был этим недоволен, однако он тут же рассудил, что это будет на руку пловцам, — ведь не бочки плывут быстрее, а «Катамаран» плывет медленнее. Поэтому
если трое его друзей смогут догнать бочки, то они с таким же успехом догонят и плот, и это будет чудесно! Ведь и в самом деле теперь плот шел так медленно, что даже самый плохой пловец мог бы без труда его настигнуть, в том случае, конечно, если расстояние между ними будет не очень велико.
Именно — не очень велико! В этом-то вся суть. Вильям забеспокоился. Далеко ли отстали от плота его трое спутников и смогут ли они доплыть до него? Где они сейчас? Он не был уверен в направлении, потому что неуправляемый плот поворачивался к ветру то носом, то бортами, то кормой.
Ничего не было видно, кроме сундучка, который к этому времени был уже на расстоянии в несколько сот морских саженей с наветренной стороны, чуть поближе к нему — бочка первая, и еще ближе — бочка вторая. Хорошо, однако, что они pacтянулиcь в одну линию, словно помогая угадать, где находились, если они еще не утонули, наши трое пловцов.
Больше того, эти три предмета не только помогали угадать направление, но они его точно указывали. Ведь плот мог двигаться только в ту сторону, куда дует ветер, или, как говорят моряки, «по ветру», а поэтому оказавшиеся за бортом его пассажиры должны находиться в той стороне, откуда дует ветер.
Он окинул взглядом часть океана до самого горизонта — и влево и вправо: ведь пловцы могли отклониться в сторону.
Однако напрасно он смотрел. Ничто не нарушало монотонности бегущих волн, ничто, кроме все того же сундучка, бочек да нескольких чаек, сверкавших своими белоснежными крыльями.
Пробежав по доскам плота, Вильям взобрался на единственную оставшуюся бочку фальшборта — самый высокий, не считая мачты, пункт наблюдения. С трудом удерживая равновесие, он опять окинул взглядом наветренную сторону и снова ничего не увидел: только бочки, сундучок и все те же чайки, лениво взмахивающие похожими на маленькие кривые сабли крыльями. Они чувствовали себя над безбрежным океаном как дома. Да океан и был для них домом, местом их жилья.
Испытывая все более сильное разочарование, Вильям спрыгнул с бочки и, подскочив к мачте, начал на нее карабкаться.
Несколько секунд — и он уже на верхушке. Держась обеими руками за мачту, Вильям опять взглянул вдаль.
Он смотрел, смотрел и не видел ничего, что походило на его пропавших спутников. От напряжения мышцы рук и ног совсем ослабели — приходилось спускаться, и он в отчаянии соскользнул вниз, на дощатый настил «Катамарана».
Чуть отдохнув, Вильям снова полез на мачту. И опять, не отрывая глаз, стал следить за движением сундучка и бочек. Если они ни на что больше не пригодятся, то послужат ему хотя бы ориентиром, указывая нужное направление.
Еще более удобным ориентиром служили юнге чайки. Как раз в той стороне, описывая короткие круги, носились сейчас над водой две чайки. Их, видимо, занимал какой-то предмет внизу, почти под водой. И хотя они были далеко от Вильяма, время от времени до него доносились их пронзительные крики. То, что они видели, возбуждало их любопытство или, может, какое-то еще более острое чувство.
Кружа над этим местом, они то и дело возвращались к его центру, и взгляд наблюдающего за ними Вильяма невольно останавливался на предмете, чернеющем на водяной глади. Предмет этот благодаря своему цвету отчетливо выделялся на голубом фоне воды. Был он совсем черный, чернее всего обитающего в океане, если не считать гигантского кита «мистицетус» с его очень темной окраской. Характерна была и форма предмета — почти шарообразная.
Вильям, пользуясь только методом доказательства от противного, мог бы догадаться, что это такое. Ясно, что это не черный альбатрос, не глупыш и не фрегат-птица. Хотя по цвету они и похожи на этот предмет, но очертание тел этих птиц совсем другое. Да и вообще ни у одного из обитателей океана не может быть таких контуров: ни у животного, ни у рыбы. Предмет этот был круглый, как шар, напоминающий морского ежа, а уж черный, словно смазанный дегтем блок! Да это же… да это же курчавая голова их кока Снежка! А несколько подальше от него виднеются еще два предмета, тоже темные и круглые, но все же не такие черные и круглые, как первый. Должно быть, это головы Бена и маленькой Лали. Чайки, по-видимому, тоже ими очень заинтересовались, потому что они подлетают то к одной, то к другой голове, вьются над ними, беспрестанно испуская пронзительные крики. И крики эти доносятся теперь гораздо отчетливее до слуха Вильяма, который будто прирос к мачте.
Глава XLII. СНОВА НА БОРТУ
Юнга слез с мачты, как только убедился, что его спутники не утонули, а целые, невредимые плывут неподалеку от плота. Тогда, ободренный надеждой, он решил, что не ослабит своих усилий, пока они не будут спасены.
Соскользнув на доски плота, он подскочил к брошенному рулевому веслу и принялся грести против ветра. Надо правду сказать, что продвигался плот вперед не очень быстро, однако Вильям был доволен и этим: по крайней мере, плот уже не уходил от его товарищей, а, наоборот, приближался к ним. Ясным доказательством тому служила последняя бочка, у которой он перерубил веревки и спустил на воду: теперь она уплывала уже в подветренную сторону. Значит, сам плот двигался против ветра.
Сундучок и первая бочка были спущены на воду раньше; у последней бочки он обрубил канаты не сразу, а некоторое время раздумывал, стоит ли их рубить. Поэтому первая бочка, так же как и сундучок, плыли далеко с наветренной стороны. Юнга, глядя с мачты, заметил, что пловцы находятся недалеко от сундучка и поэтому вряд ли пропустят его.
Вильям спустился со своей наблюдательной вышки, так и не убедившись, видели ли сундучок его друзья или нет. А теперь ему, занятому греблей, и вовсе не было времени лезть на мачту. Главное, что плот движется в нужном направлении — против ветра. С каждой морской саженью он ближе к спасению жизни своих спутников; каждая сажень означает, что пловцам придется сделать на один взмах руки меньше, а они настолько устали, что и такое усилие для них не шутка. Как же он может оставить весло хотя на секунду? И Вильям греб изо всех сил, поглощенный одной целью — двигаться против ветра. К счастью, ветер, и до того уже довольно тихий, становился все слабее, будто и ему хотелось помочь делу спасения людей, и Вильям с удовольствием заметил, что бочки, которые он перегнал, уже далеко позади. Значит, плот шел вперед!
И тут глазам его представилось радостное зрелище. Он так был занят веслом, что ни на секунду не поднимал головы, чтобы взглянуть за борт, и когда наконец посмотрел в наветренную сторону, то с удивлением увидел, что не только бочка и сундучок подплывали все ближе, но что на крышке сундучка лежит кто-то и, вытянув руки, держится за выступающий край, а по обеим сторонам сундучка темнеют два шара, причем один из них круглее и чернее. Ясно было, что эти два шара-человеческие головы.
Загадочная картина скоро разъяснилась: на крышке сундучка лежала Лали, а по бокам его плыли Бен Брас со Снежком. Сундучок поддерживал на воде всех троих. Ура! Они спасены!
Теперь Вильям был в этом твердо убежден. Но этой радостной уверенности еще не испытывали трое пострадавших. Дело в том, что Вильям стоял на возвышенном месте плота и мог видеть любое их движение, в то время как они все еще не могли разглядеть его.
Но если он будет стоять, подумал юнга, и смотреть на них, то он им не поможет. Удовольствовавшись несколькими радостными восклицаниями, он снова взялся за весло и стал грести с еще большей энергией. Уверенность в успехе придала ему новые силы.
Когда он опять оторвался от своего занятия и, выпрямившись, бросил взгляд на океан, картина переменилась: маленькая Лали по-прежнему лежала на крышке сундучка, но рядом виднелась лишь одна голова-голова матроса. Его можно было узнать по белому лицу и длинным волосам.
«Но куда же девалась макушка кока? Где его курчавая голова? Неужели вместе с телом отправилась на дно океана?» — с тревогой спрашивал себя юнга. Но в следующую же секунду он получил самый удовлетворительный ответ на свой вопрос. Негр, видимый теперь целиком, сидел верхом на бочке: он просто был не на том месте, где юнга искал его глазами, вот почему он не сразу его заметил.
Однако рассудительный юноша не стал терять время на ахи и охи, а принялся опять энергично работать веслом.
Так он греб и греб, пока не услышал свое имя. Подняв глаза, он увидел, что Снежка нет на бочке и круглая черная физиономия его выглядывает из воды на расстоянии какого-нибудь кабельтова от «Катамарана».
Его оттопыренные уши оставляли пенистый след на воде по обе стороны головы, указывая точное направление, в котором он плыл, — прямо к плоту. А то, что он свирепо вращал белыми, как сама пена, белками глаз и вовсю фыркал и отдувался своими толстыми губами и вода так и ходила волнами вокруг него, указывало, что он всеми силами старался нагнать «Катамаран».
— Эй-эй! На плоту! — закричал он, задыхаясь, как только юнга мог его услышать. — Греби-ка сюда, Вильм, греби во всю мочь!.. Ух, и устал же я, прямо не могу больше! А уж представляю, что делается с теми двумя! Они позади, в кабельтове от меня.
И, кончив свою речь громким «У-у-ф!», произнесенным отчасти для того, чтобы избавиться от воды, попавшей в рот, а также и для того, чтобы выразить свое удовлетворение, кок поплыл к плоту, не сбавляя хода.
Спустя несколько секунд долгие усилия Снежка наконец увенчались успехом: с помощью юнги он вскарабкался на плот.
Едва переведя дух, негр схватил второе весло, и под дружными ударами двух весел плот достиг наконец сундучка. Оставшиеся двое членов команды были взяты на борт. Так они избавились от смерти, которая столь недавно казалась им неотвратимой.
Глава XLIII. ПОЧИНКА ПЛОТА
Вскарабкавшись на плот, Бен, этот здоровяк и великан, был в таком изнеможении, что не мог даже стоять на ногах. Сделав шаг, он покачнулся и без сил повалился на доски. О маленькой Лали позаботился Вильям. Поддерживая ее, почти неся на руках, он осторожно уложил ребенка на парусину около мачты. Если не считать нескольких слов, слабым голосом произнесенных девочкой, понявшей, что она спасена, то юнга был вполне вознагражден за свою нежную заботу благодарностью, которой так и светились глаза маленькой креолочки.
Снежок, измученный не меньше других, тоже растянулся на плоту. Долго все они, молча и не шевелясь, лежали на досках, чувствуя, что не в состоянии двинуть ни единым членом, ни произнести хотя слово.
Однако Вильям не бездействовал: уложив Лали, он тут же пошел в тот угол «Катамарана», где находилась небольшая бочка, прикрепленная к толстым доскам плота и наполовину погруженная в воду. Она была с драгоценным канарским. Осторожно вынув втулку-они нарочно привязали бочонок отверстием кверху,-он опустил в него маленький жестяной ковшик, случайно оказавшийся среди вещей матроса в сундучке. Он был привязан на веревке к бочонку наподобие тех ковшиков, какими пользуются виноторговцы. Зачерпнув сладостную влагу, он поднес ковшик сначала к губам маленькой Лали, потом своему дорогому защитнику Бену Брасу, после чего, зачерпнув из бочонка еще раз, дал хлебнуть вина его настоящему хозяину — Снежку.
Дух лозы, некогда росшей на склонах Тенерифа, оказался чудодейственным. Через несколько минут матрос и кок вновь обрели способносгь думать о том, какие меры предосторожности надо будет предпринять и с чего в первую очередь необходимо начать.
Прежде всего, решили они, следует выловить пустые бочки, которые Вильям спустил на воду. Лишившись этих бочек, плот не только дал большую осадку, но и вообще потерял часть своей мореходности.
И потом сундучок! Хозяин его чувствовал к нему теперь особое расположение. Его выловили в первую очередь, а за ним — ту самую бочку, на которую вскарабкался Снежок, чтобы получше видеть. И сундучок и бочка были близко — им не пришлось долго грести, чтобы их выудить.
Зато другие три бочки отнесло довольно далеко в подветренную сторону, и с каждой секундой они уплывали все дальше. Но так как они еще не скрылись из виду, то команда «Катамарана» не видела особой трудности в том, чтобы их догнать.
И действительно, это оказалось нетрудным делом. Матрос работал одним веслом, кок — другим, а Вильям указывал, куда грести. Несколько дружных взмахов весел— и плот одну за другой настиг уплывавшие бочки. Их выудили, наново закрепили веревками, придав бочкам прежнее положение. И если бы не мокрая одежда троих скитальцев, побывавших в воде, да не их измученные лица, никто бы и не догадался о происшествии на борту «Катамарана».
Что же касается мокрой одежды, то она недолго причиняла им неудобство: жаркое солнце, сиявшее в небе, быстро ее высушило. С этой стороны ущерб действительно был невелик, ибо они просыхали так быстро, что всех троих, а особенно Снежка, окутало густое облако пара. Вскоре на них и нитки мокрой не осталось.
Потому ли, что у негра в теле было больше естественного тепла, чем у остальных, или потому, что солнечные лучи прямо-таки обжигали, он дымился, как куча угля, когда из него гонят смолу. А потому сквозь завесу пара, за которой скрылись его голые плечи и голова, трудно было разглядеть, черный он или белый. И, как будто Юпитер, окруженный этим облаком, негр продолжал говорить и действовать, помогая матросу и Вильяму вылавливать из воды бочки, пока все они не были водворены на место, парус снова поставлен и «Катамаран», будто ничего не случилось, пошел по ветру, разрезая морские волны.
На этот раз, однако, они позаботились о том, чтобы узлы на шкотах были завязаны как следует. Теперь, по правде сказать, Снежку следовало бы сделать выговор, внушив ему быть в будущем поосмотрительнее. Однако катамаранцы сочли это лишним: опасность, от которой они спаслись, можно сказать, чудом, впредь послужит ему достаточным уроком.
Единственно, о чем им пришлось пожалеть, — это о потере значительной части запасов продовольствия: той вяленой рыбы, которую Снежок сушил еще до того, как двое плотов соединились, и вяленого мяса акулы, перенесенного с меньшего плота. Чтобы высушить всю рыбу на солнце, ее разложили на бочки фальшборта, те самые бочки, на которых Вильям обрубил канаты. Рыба свалилась в воду и либо пошла ко дну, либо осталась плавать на поверхности. В результате оказалось, что, хотя все другие беды были исправлены, большая часть запасов погибла. Может, они и не утонули, а их унесло водой, а вернее всего, их съели хищные птицы, парящие в небе, или не менее прожорливые хищники, сновавшие в морских глубинах. С глубоким огорчением думал Снежок о том, как уменьшились их запасы, и это чувство разделяли и все остальные члены команды. Однако они переживали эту потерю не так остро, как могло бы быть при других обстоятельствах: слишком приподнятое было у всех настроение после недавнего столь чудодейственного спасения. К тому же следовало надеяться, что они сумеют пополнить свои запасы точно таким же образом, каким добыли их в первый раз.
Глава XLIV. АЛЬБАКОРЫ
Вскоре им действительно представилась такая возможность.
Не успел парус наполниться ветром, как они увидели за бортом косяк самой красивой рыбы, какая только встречается в океанских просторах. Рыб было несколько сот. Как и в косяках обыкновенной макрели, все они были почти одного размера и плыли ряд к ряду. Но эти рыбы меньше макрели и, достигая примерно футов четырех в длину, при основательной толщине были пропорциональной и красивой формы, какая свойственна всем видам этого семейства.
Даже за один цвет их можно назвать очень красивыми созданиями. Голубая, как бирюза, отсвечивающая золотом спинка, серебристо-белое, переливающееся, как перламутр, брюшко. Спинные плавники в два ряда, ярко-желтые. Большие круглые глаза с серебристым ободком зрачков.
Длинные, серповидной формы спинные плавники, хорошо развитые и очень своеобразные: с глубоким желобком под ними вдоль хребта, в который они, когда находятся в спокойном состоянии, входят с такой удивительной точностью, что их даже не видно, будто и нет.
Если не считать красивой окраски, большого размера и еще кое-каких особенностей, рыбу эту вполне можно было принять за макрель, что не было бы большой ошибкой, ибо они принадлежат к тому же роду, что и макрель, только к другому виду. И этот вид самый красивый.
— Альбакоры! — закричал Бен Брас, как только косяк рыб поравнялся с плотом. — Ну-ка, Снежок, достанем наши удочки! Вот уж будет клев на таком ветерке! Теперь мы пополним нашу кладовую. Только, чур, никто ни слова, а то они сразу наутек… Тише, кок, тише, ты, старый камбуз!
— Какое там «тише», масса Брас! Неужто вы думаете, что они уплывут от «Катамарана»? Этого нам нечего бояться! Смотрите, как они шныряют: то они по левому борту, потом — раз! — и они уже по правому. Будто нигде не могут найти себе места.
Действительно, рыбы принялись странно маневрировать. Некоторое время, поравнявшись с плотом, они, не обгоняя и не отставая от него, плыли рядом, вдоль правого борта. Это было им нетрудно-плавники их чуть двигались, придерживаясь одинаковой с плотом скорости. И все они держались так точно параллельно ходу плота и параллельно друг другу, что можно было подумать, будто они связаны между собой невидимыми нитями. И вдруг неожиданно, как меняется узор в калейдоскопе, параллельное движение по отношению к плоту и друг к другу нарушилось. Шевельнув хвостами, весь косяк одновременно повернулся перпендикулярно к плоту и — раз! — нырнул под него.
Секунду их не было видно, а затем они появились, на этот раз уже вдоль правого борта, все время сохраняя параллельное к нему движение. Весь маневр был выполнен с такой точностью и слаженностью, что даже лучший в мире кадровый офицер не смог бы добиться от своих солдат такой четкости в движениях. Направо! Налево! Как будто им всем одновременно приходило желание повернуться, и в этот же миг хвосты их трепетали и они поворачивались все разом, показывая серебристые полоски брюшка, и затем так же дружно ныряли под киль «Катамарана».
Этот удивительный маневр они проделали несколько раз, переходя от правого борта к левому и обратно. Поэтому-то Снежок и заявил так уверенно, что пока рыбы двигаются подобным образом, нечего бояться, что они уплывут от «Катамарана».
Только Бен Брас понял, почему Снежок так сказал. Вильям же немало удивился, когда бывший кок так уверенно заявил об этом, да и вел он себя, словно нисколько не боялся отпугнуть столь робких на вид рыб.
— Послушай, Снежок, — сказал мальчик, — почему это ты говоришь, будто нам нечего бояться, что они уплывут от «Катамарана»?
— Потому, мой милый, что неподалеку есть кто-то другой, кого рыбки боятся больше, чем нас с тобой. Так я думаю. Я не вижу, кто это, но думаю, что не иначе, как длинное рыло.
— Что это значит — длинное рыло?
— Как — что? Длинное рыло, и все тут. Ну ладно, если хочешь, длинный нос. Посмотри-ка туда, по левому борту. Видишь? Негр знает, что тот недалеко. Вот почему рыбки мечутся туда и сюда, держась около нас. А пока они здесь, мы и поймаем несколько штук.
— Да это акула!-закричал юнга, увидев в некотором отдалении, там, куда указывал негр, по левому борту, какую-то большую рыбу.
— Акула? А вот и нет! — возразил негр. — Не акула. Если бы это была акула, рыбы не торчали бы у нас под бортом. Они бы резвились около акулы, как маленькие птички около орла или ястреба. Нет, этот хитрый зверь не акула, это длиннорылый-он настоящий враг альбакора! Пока он близко, рыбки от нас не уйдут.
Сказав это, негр принялся разбирать крючки и с помощью Бена наживлять на них приманку, проделывая все это с невозмутимым видом, подтверждавшим его уверенность в правоте своих слов.
Глава XLV. МЕЧ-РЫБА
Вильям, с таким интересом наблюдавший за появившейся необычайной рыбой, подошел к левому краю, чтобы получше ее разглядеть. Но левый борт был обращен к юго-западу, и заходящее солнце мешало ему. Заслонив глаза рукой от солнца, он все смотрел, смотрел, но, кроме морских волн, так ничего и не увидел. Снежок, хотя и был всецело поглощен своей возней с лесками и крючками, все же посматривал, как юнга вел свое наблюдение.
— Ты напрасно туда смотришь. Видишь, альбакоры по левому борту? Значит, длинный нос по правому. Уж будь спокоен, они постараются не быть с этим голубчиком на одной стороне.
— Туда смотри, туда, Вильм!-вмешался Бен.-Видишь? Вон туда, прямо за кормой! Неужто не видишь?
— Вижу!.. — закричал Вильям. — Посмотри, Лали, какая странная рыба! Я никогда не видел ничего подобного.
Юнга говорил правду. Хотя молодой моряк успел избороздить не одну милю Атлантического океана, такой рыбы ему не случалось видеть. Он мог бы проделать сотни миль в любом океане и все равно ни разу ее не встретить.
Рыба, которая представилась взорам экипажа «Катамарана»,-один из самых редких обитателей океана. Облик у нее настолько своеобразный, что, если бы даже Бен Брас и не сказал ему, как она называется, юноша сам об этом догадался бы. Длиной рыба была футов восемь или десять. Ее продолговатая костистая морда выступала вперед на длину одной трети всего тела. По существу, этот отросток — продолжение верхней челюсти, совершенно прямой и целиком состоящей из кости, сужающейся к концу, как рапира.
В остальном рыба не казалась безобразной: она ничем не походила на многих океанских хищников с присущим им ужасным обликом. В меч-рыбе чувствовалась некоторая настороженность в сочетании с удивительной стремительностью: она словно кралась. Как уже заметил Снежок, в пристальных глазах рыбы было свирепое, подстерегающее выражение, говорившее, что все существование хищника проходит в преследовании добычи.
Неудивительно поэтому, что Вильям принял эту рыбу за акулу: во-первых, потому, что ему мешало солнце, а во-вторых, у нее был целый ряд признаков, делавших ее похожей на некоторые разновидности акул, и нужно было хорошенько рассмотреть и уметь хорошо разбираться в таких вещах, чтобы обнаружить разницу. Вильяму прежде всего бросился в глаза большой серповидный плавник, поднимавшийся на несколько дюймов над водой, хвост с такой же выемкой, как у акулы; хищные глаза и настороженные движения — все то, что характерно и для акулы.
Но в одном эта рыба отличалась от акулы — она плыла не так медленно, как акула. По-видимому, это была одна из самых быстроплавающих рыб. Стоило альбакорам метнуться от одного борта к другому, как хищник повторял это движение с такой быстротой, что за ним невозможно было уследить.
Движения его были бы совсем неуловимы, если бы не две интересные особенности: во-первых, плавая, эта диковинная рыба издает шорох, напоминающий шорох ливня в лесу; а во-вторых, рыба эта на ходу внезапно меняет свою окраску — то она бурая, когда животное неподвижно, то вдруг пестрая, в голубую и синюю полоску, а иногда целиком бирюзового цвета.
Но не по этим особенностям Вильям смог опознать рыбу, а по ее сужающемуся, длинному, прямому, как рапира, носу. Кто хоть раз ее видел, не мог уже ошибиться и не узнать ее по этому бесспорному признаку. А юному моряку случилось однажды видеть такой нос, только не на воде и не под водой, а у себя в родном городке, куда случайно, проездом, привезли коллекцию диковинок природы, осмотр которой, надо признаться, сыграл немалую роль в его желании убежать из дому и стать моряком. Он подробно тогда осмотрел кость, сохраняемую под стеклянным колпаком, и выслушал объяснение, что этот экспонат — нос меч-рыбы. И теперь, в тропических волнах Атлантики, почти таких же прозрачных, как тот стеклянный колпак, он сразу узнал это грозное оружие меч-рыбы.
Глава XLVI. МОРСКИЕ РЫЦАРИ МЕЧА
Пока Вильям смотрел на удивительную рыбу, она неожиданно бросилась к плоту. Это движение вызвало характерный свистящий шелест; ее огромное тело мелькнуло в воде, и изогнутый, как восточная сабля, спинной плавник прочертил на поверхности воды длинный пенистый след.
Этот бросок был явно направлен к косяку плавающих вдоль «Катамарана» альбакоров.
Но их не так-то легко было застигнуть врасплох. Испытывая, по всем признакам, жесточайший страх, они тем не менее ни на секунду не теряли присутствия духа и, как только меч-рыба кинулась на них, словно по команде, с быстротой молнии метнулись на другую сторону плота.
Увидев, что нападение не удалось, меч-рыба вдруг остановилась с внезапностью, говорившей о ее подлинном плавательном мастерстве. Вместо того чтобы продолжать преследование, она, нырнув под «Катамаран», трусливо крадучись, предпочла следовать за плотом. Казалось, что если ей не удалось схватить добычу силой, то она решила действовать хитростью.
Вильяму стало ясно, что альбакоры держались около «Катамарана» не столько потому, что надеялись поживиться чем-нибудь, а потому, что плот служил им хорошей защитой от грозного противника. Этим, надо полагать, и объясняется, что не только альбакоры и родственные им бониты, но и другие виды рыб, которые ходят косяками, зачастую держатся близко к встречающимся им кораблям, китам и к любым крупным предметам, плавающим в открытом океане.
Тот способ нападения, какого придерживается меч-рыба — она стремительно бросается на жертву и насаживает ее на свой длинный, тонкий нoc, — весьма рискован для самого хищника. Ведь стоит «мечу» промахнуться и удариться о борт корабля или о другое такое препятствие, достаточно твердое, чтобы противостоять стремительному выпаду, и ее оружие либо сломается, либо вонзится в это препятствие с такой силой, что его собственник окажется пригвожденным и падет жертвой своей опрометчивой жадности.
Поскольку испуганные альбакоры были слишком поглощены наблюдением за движениями их противника, Снежок, понимая, что рыбы вряд ли удостоят своим вниманием крючки, которые он наживлял для них, не стал забрасывать удочки, а оставил их лежать на плоту, ожидая, пока меч-рыба уберется восвояси или отстанет настолько, что альбакоры смогут на какое-то время забыть о ее присутствии.
— Толку нет закидывать удочки, — сказал негр, обращаясь к матросу,-пока это хитрое рыло поблизости. Надо подождать, пока оно уберется, чтобы альбакоры не видели и не слышали его.
— Твоя правда, — ответил Бен. — А жаль. Они бы здорово клевали, если бы не эта дрянная рыбина! Я-то уж их знаю!
Еще много чего узнали от матроса о повадках альбакоров и их врага все присутствующие и особенно его любимец — юнга. Вильям испытывал необыкновенный интерес к альбакорам и жадно расспрашивал о них Бена. В промежутке, пока они дожидались какой-нибудь перемены в тактике преследователя альбакоров, Бен рассказал присутствующим несколько случаев из собственной жизни, в которых альбакор или меч-рыба, а иногда и обе рыбы выступали как главные действующие лица.
Среди других историй Бен сообщил и о том, как корабль, на котором он сам плавал, был пробит носом меч-рыбы.
В минуту, когда это произошло, никто на корабле даже не подозревал о случившемся. Команда обедала внизу, и только один из матросов, оказавшийся в это время на палубе, услышал громкий всплеск воды. Выглянув за борт, он увидел, что какое-то крупное тело погружается в воду, и, решив, что это тонет кто-то из команды, мгновенно поднял крик: «Человек за бортом!»
Команду выстроили, сделали перекличку: все оказались налицо. И хотя матросы так и не узнали причины этого загадочного случая, тревога их быстро улеглась и об этом деле забыли.
Вскоре после этого кому-то из матросов — им как раз и оказался сам Бен Брас — пришлось лезть на мачту такелажить, и, находясь наверху, он заметил, что сбоку в корабле, над самой ватерлинией, торчит что-то длинное. Спустили лодку, осмотрели в этом месте судно, и оказалось, что это нос меч-рыбы, отломившийся от ее головы. А то, что матрос принял за утопающего человека, была сама меч-рыба, убитая сотрясением при ударе о корабль.
Она пробила насквозь своим «мечом» и медную обшивку судна, и толстую доску левого борта. Матросы, спустившись в трюм, обнаружили, что конец «меча», пройдя через стенку трюма, торчит на восемь-десять дюймов внутри его, зарывшись в уголь.
При всей невероятности этой истории, рассказанной Беном Брасом, в ней нет ни слова выдумки. Что она правдива, знал и Снежок, так как он сам мог рассказать несколько таких же, лично им пережитых историй. Не усомнился в ее достоверности и Вильям, который читал про такой же случай и слышал, будто в Британском музее имеется даже доказательство такого происшествия: кусок толстой корабельной доски с застрявшим в ней носом меч-рыбы, и что каждый, кто этим интересуется, может этот экспонат увидеть.
Едва Бен закончил свою интересную историю, как со стороны охотившейся за альбакорами меч-рыбы последовало движение, ясно говорившее, что она намерена изменить свою тактику: причем не отступать, а, наоборот, еще смелее ринуться в атаку. Уж слишком заманчиво выглядел крупный косяк жирных альбакоров. Вид их, столь близких и вместе с тем столь неуловимых, был для нее, должно быть, невыносимо соблазнителен. А может быть, меч-рыба была настолько голодна, что решила, чего бы ей это ни стоило, ими пообедать.
С таким намерением она подплыла к «Катамарану» поближе и, то и дело меняя направление, стала носиться с места на место вдоль бортов, а раза два она даже стремительно кидалась к косяку, чтобы внести в него смятение и расстроить ряды.
Ей это удалось: красивые рыбы, перепугавшись пуще прежнего, вместо того чтобы плыть, как плыли до сих пор, сомкнутыми, стройными рядами, параллельно друг другу, сбились в беспорядочную кучу, а потом кинулись врассыпную, кто куда.
В этой сумятице большая группа альбакоров совсем отбилась от косяка и отстала от «Катамарана», оказавшись в его кильватере на несколько саженей.
На них-то теперь и были устремлены голодные глаза хищника, но только на мгновение, потому что в следующий миг он с такой быстротой врезался между ними, что вокруг только брызги полетели. Шум от его стремительного движения отдался далеко вокруг по океану.
— Гляди, гляди, Вильм! — крикнул матрос, боясь, чтобы его любимец не упустил этого любопытного зрелища.-Ты только посмотри, что это чудище вытворяет, а! Помяни мое слово, она сейчас подцепит парочку альбакоров на свой вертел!..
Бен едва успел договорить эти слова, как меч-рыба врезалась в самую середину перепуганной стайки. Вода брызнула фонтаном, из нее выскочили на поверхность несколько альбакоров и тут же ушли под воду. В течение нескольких минут поверхность океана в этом месте кипела ключом, пенясь и пузырясь, — ничего нельзя было разглядеть за этой завесой. Вскоре над водой показалась голова меч-рыбы с нанизанными на самый конец ее длинного носа двумя красивыми рыбами.
Несчастные создания судорожно извивались на нем, силясь освободиться из этого мучительного положения, однако усилия эти длились недолго. Чуть не в то же мгновение меч-рыба коротким движением головы вскинула в воздух сначала одну, потом другую жертву… Но упали они не в воду, а прямо в глотку жадному хищнику. Меч-рыба, лишенная зубов или других каких-либо приспособлений для прожевывания пищи, прекрасно обошлась без них, препроводив добычу всю целиком в свою ненасытную утробу.
Глава XLVII. АЛЬБАКОРОВ ЛОВЯТ УДОЧКОЙ
Катамаранцы с таким интересом следили за маневрами меч-рыбы, что почти совсем забыли о своем горестном положении. Особенно увлечены были редкостным зрелищем Вильям с маленькой Лали. И долго еще после того, как матрос и Снежок занялись другими, более важными делами, они, стоя рядом, смотрели в ту сторону, где только что виднелась меч-рыба…
Только что виднелась и вот уже исчезла. Проглотив парочку альбакоров, прожорливое чудище, видно, нырнуло глубоко в воду или, может, метнулось куда-то в другое место, подальше.
И куда только не глядели юнга и маленькая Лали! И за корму, где меч-рыба недавно продемонстрировала свое искусство, и в стороны, и вперед. Они смотрели так тщательно во всех направлениях потому, что, зная, какая мастерица меч-рыба плавать, понимали, что эта громадина может за две-три секунды проделать расстояние в несколько сот саженей в любую сторону.
Однако меч-рыбы нигде не было видно. И юнга так же, как Лали, хотя они с удовольствием еще полюбовались бы манипуляциями, которые умеет проделывать своим носом меч-рыба, вынужден был наконец примириться с тем, что представление кончилось, поскольку главный актер, очевидно, отправился показывать свое искусство где-то в другом месте океана.
— Похоже, очень похоже, что она и на самом деле убралась, — ответил Снежок на расспросы юнги. — Хорошо, если бы так и было. Тогда и нам удалось бы подцепить на удочку хотя бы парочку этих рыб. Взгляни-ка на них сейчас! Совсем по-другому себя ведут. Спокойны, ничего не боятся. Значит, длиннорылый повернул нос в другую сторону. Убрался, должно быть, восвояси.
Снежок правильно отметил: поведение альбакоров явно изменилось. Вместо того чтобы, как прежде, обезумев от тревоги, носиться от одной стороны плота к другой, они мирно плавали рядом, не отставая и не уходя вперед.
Более того, чувствовалось, что теперь альбакоры возьмут наживку, в то время как при меч-рыбе, сколько ни старались Снежок с матросом подсунуть им ее под самый нос, они упорно отказывались к ней притронуться.
Матрос со Снежком решили возобновить свои рыболовные операции. Насадили каждый на свою удочку по кусочку мяса акулы — и приманка выглядела тем соблазнительнее, что крючок удилища был обмотан лоскутком красной фланели; настоящей лески у них, конечно, не было — ее заменяла плетеная веревка в несколько футов длиной.
С плеском одновременно погрузились в воду оба крючка, и не успели еще исчезнуть круги на поверхности воды, как раздался другой, более громкий всплеск, и вода так и вспенилась: на крючках бились, бешено извиваясь, два альбакора. Быстро втащив их на плот, наши рыбаки сразу же пристукнули их ударом гандшпуга в голову.
Они не стали тратить время, рассматривая пленниц или радуясь пойманной добыче. Зато юнга с маленькой Лали не могли досыта налюбоваться этими красивыми созданиями, очутившимися так близко от них, а матрос и негр, наскоро поправив приманку на удочках, слегка растрепанную зубами тунцов-ведь альбакоры принадлежат к семейству тунцовых, — опять закинули удочки в воду.
На этот раз рыбы не ухватились за наживку с прежней жадностью.
Словно заподозрив что-то неладное, весь косяк робко шарахнулся от нее. Но она так заманчиво ходила у самого их носа, что сперва одна, затем другая рыбка стали подплывать все ближе и, отхватив кусочек, вдруг роняли его и испуганно кидались прочь, словно учуяв что-то неприятное в его вкусе или запахе.
Такое осторожное пощипывание продолжалось несколько минут, пока наконец один из альбакоров, очевидно более отважный, чем его спутники, или, может быть, с более пустым, чем они, брюхом, не вытерпел, глядя на этот соблазнительный кусочек, и, сказав себе: «Прощай, осторожность!» — бросился к наживке на удочке Бена, проглотив ее единым махом вместе с крючком и несколькими дюймами плетеной веревки.
Теперь можно было не опасаться, что рыба сорвется с крючка. Его бородка прочно засела во внутренностях рыбы еще до того, как Бен рванул удочку, чтобы вогнать крючок глубже. Дернув второй раз, он вытянул рыбу на середину плота, где, как и ее двух предшественниц, прикончил ударом гандшпуга в голову.
Снежок в это время продолжал усердно «тралить» своей удочкой; тем же занялся и другой рыбак, который, сведя счеты со второй пойманной им рыбой, насадил свежую приманку и снова закинул удочку в воду.
Но что-то опять напугало альбакоров: к ним вернулась их прежняя робость. Рыбаки, как видно, тут были ни при чем — рыб встревожило что-то другое, невидимое с плота.
Альбакоры подвинулись к нему так близко, что можно было разглядеть каждое их движение, каждую мельчайшую подробность — вплоть до блеска радужной оболочки их глаз.
Наблюдавшая за ними четверка увидела, что рыбы смотрят вверх. Стали глядеть вверх и наши рыболовы, и ничем не занятые юнга с Лали: все уставились на небо. Но там не видно было ничего такого, что могло бы нагнать страх на альбакоров. «Почему же тогда они так тревожно смотрят вверх?» — подумали юнга с Лали. Матрос тоже недоумевал: и он видел лишь голубое, безоблачное небо и ничего больше.
Только Снежок, у которого знаний океанской жизни было вдвое больше, чем у всех троих вместе, не отвел, как они, взгляда, а, наоборот, в течение нескольких минут все упорнее всматривался в небо. И наконец у него вырвался удовлетворенный возглас: он разглядел нечто такое, чем, по его мнению, и объяснялось странное поведение альбакоров.
— Фрегат!.. — пробормотал Снежок сквозь зубы. — Да их там два: самец и самка, должно быть. Может быть, поэтому рыба так и перепугалась.
— Что? Фрегат? — повторил матрос.
Это было название одной из самых своеобразных, блуждающих над океаном хищных птиц. Натуралисты обозначают их именем «пеликанус аквила», а моряки за быстрый полет и изящное строение тела знают больше под названием, какое дал ей Снежок.
— Да где ж ты его увидел? Где он? Никакой птицы не вижу! Где он, а?
— А вот… почти прямо над головой… Возле того облачка. Вот они — один, а рядом другой: самец и самочка. Я ясно вижу обоих.
— Ну и острые глаза у тебя, Снежок! А я так никакой птицы не вижу… А, вот они! Их две, верно! Правильно, дружище, ясное дело — это фрегаты! Их сразу узнаешь по крыльям: ни у одной другой птицы, что летает над океаном, таких нет. И ни одна из них не поднимается так высоко, как эта. Крылья у нее, когда она их распускает, футов двенадцати в ширину, а отсюда они кажутся не больше ласточкиных. Значит, птицы поднялись на добрую милю. Правильно я говорю, Снежок?
— На милю, масса Бен? Скажите лучше — на две. Совсем укрылись от ветра. И застыли на одном месте. Здорово, должно быть, спят!
— Спят? — отозвался юнга. В тоне его послышалось крайнее изумление. — Уж не хочешь ли ты сказать, Снежок, что птица может спать на лету?
— Эх, малыш Вильм, мало же ты знаешь о повадках птиц в здешних местах! Может спать на лету? Конечно, они спят на лету. А иной раз сложат крылья, прижав их к туловищу, и спрячут под крыло голову… Верно я говорю, масса Бен?
— Не знаю, Снежок, не могу точно сказать, так оно или не так, — неуверенно ответил бывший матрос военного фрегата. — Я слышал об этом, только мне кажется — ерунда это!
— Вот так сказали!-ответил Снежок, насмешливо покачав головой. — Почему же ерунда? Ведь может корабль-фрегат «спать» на воде, убрав паруса? Почему же фрегат-птица не может спать в воздухе? Что вода для фрегат-корабля, то воздух для фрегат-птицы. Что ей может там помешать спать? Разве только сильный ветер. В сильный ветер ей там, конечно, не уснуть.
— Вот что, дружище…-ответил матрос. По тону его чувствовалось, что у него нет определенного мнения на этот счет. — Может, ты прав, а может, и нет. Я не говорю, что ты врешь, и нисколечко этого не думаю. Одно знаю, что много раз видел фрегатов, неподвижно замерших в воздухе, вроде как сейчас вот, не двигаясь ни в подветренную, ни в наветренную сторону. А все-таки я не верю, что они на лету спят. Я сколько раз видел: они при этом то складывают свой похожий на вилку хвост, то раскрывают его, как портной ножницы. И мне думается, что сна у них в это время ни в одном глазу нет. Если бы они спали, как же они могли бы так шевелить хвостом? Он у птиц хоть из перьев, а все же в нем есть тяжесть. Как же фрегат им во сне ворочает?
— Ну, ну, масса Бен, — сказал негр еще более покровительственным тоном, словно жалея матроса за то, что он не мог выдвинуть более солидного довода, — а вы разве не шевелите во сне большим пальцем или ступней, а то и всей ногой? И потом, по-вашему, выходит, что фрегат и вовсе не отдыхает, не спит. Вы же знаете, что плавать он не умеет, потому что на ногах у него совсем малюсенькая перепонка. И на воде он держится не лучше, чем какая-нибудь цесарка или старая курица, привыкшая к своей навозной куче. Ведь спать на воде для фрегата — такое же невозможное дело, как для нас с вами, масса Бен.
— Ладно уж, Снежок,-медленно, словно подыскивая ответ, сказал матрос, — я бы и рад с тобой согласиться: то, что ты говоришь, как будто похоже на правду… А все-таки, хоть убей, не пойму, как так птица может спать на лету. Да это то же самое, если бы я поверил, что могу повесить, зацепив за краешек облака, свою старую брезентовую шляпу. А в то же время, по совести сознаюсь, никак в толк не возьму, как же на самом деле фрегаты отдыхают. Разве только они каждую ночь возвращаются на берег, а поутру летят назад.
— Вот так сказали, масса Брас! Да неужто вы ничего умнее не придумали? Люди говорят, будто фрегат никогда не отлетает от берега дальше чем за сто лиг. Враки! Этот негр,-ткнул себя Снежок в грудь,-видал такого старого самца среди самого Атлантического океана на гораздо более далеком расстоянии, чем сто лиг, от берега. Они и сейчас на таком же расстоянии. Хорошо, если бы это было правдой, будто фрегат никогда не залетает от земли дальше чем на сто узлов, тогда бы нам, может, и удалось его поймать. Господи! Да ведь мы сейчас вдвое дальше от земли, а эти вот длиннокрылые птицы висят у нас высоко над головой и спят так же спокойно, как этот негр, — ткнул он опять себя в грудь, — спал, бывало, в камбузе на старушке «Пандоре».
На этот раз Бену нечем было крыть. Прав ли был негр в своих доводах или только хитроумно придал им видимость правды, но факт остается фактом. Высоко в небе маячили два темных силуэта, ясно выделяясь на его ярко-голубом фоне. Хотя они висели очень высоко и явно не двигались, все же видно было, что это живые существа, что это птицы, и именно того особого вида, к которому и матрос и негр при всем своем научном невежестве сразу и безошибочно их отнесли.
Глава XLVIII. ФРЕГАТ
Фрегат («пеликанус аквила»), вызвавший на «Катамаране» столько оживленных споров, во многих отношениях существенным образом отличается от прочих океанских птиц. Хотя его обычно причисляют к пеликанам, он почти ничем не похож на эту уродливую, неуклюжую, напоминающую домашнего гуся, птицу.
От большинства других птиц, промышляющих добычу, летая над океаном, он отличается прежде всего тем, что у него между пальцами только небольшая плавательная перепонка, а когти на ногах такие же, как у орла или у сокола.
Он и в других отношениях сильно походит на этих птиц, так что моряки, исходя из этого сходства, не делают между ними различия и попросту зовут фрегата морским соколом, фрегат-соколом или фрегат-орлом. Так зовется и крупный альбатрос,
летающий в поисках добычи над океаном.
У фрегата-самца сплошь черное, как агат, туловище и только клюв ярко-красный, очень длинный, сплюснутый и к концу круто загнутый книзу. Самка вся тоже черная, только на брюшке у нее большое белое круглое пятно.
Ноги у фрегата, по сравнению с туловищем, короткие. Пальцы, как мы уже говорили, снабжены большими когтями, из которых средний покрыт чешуей и сильно загнут крючком. Ноги у фрегата до самой ступни покрыты перьями, в чем опять-таки проявляется его сходство с сухопутными хищными птицами. У них имеется еще один общий и характерный признак — средний палец у фрегата загнут внутрь, как бы для того, чтобы им можно было цепляться, садясь на дерево, что он и делает, когда прилетает на берег, где зачастую вьет на дереве гнездо или ночует, садясь на ветку, как на насест.
В сущности, эта птица является, можно сказать, промежуточным звеном между хищными птицами, обитающими на суше, и перепончатыми, которые преследуют добычу на океане.
Возможно, что фрегат продолжает линию, начатую рыболовом-птицей и морским орлом. Они добывают себе пищу из воды, однако в поисках ее не залетают далеко от берега.
Фрегат, которого действительно можно назвать морским соколом или орлом за его смелость, силу, за все качества, свойственные ему, так же как и этим царственным птицам,-отлетает так далеко от берега, что его нередко можно увидеть над самой серединой океана.
Удивительное свойство есть у этой птицы, которому орнитологи до сих пор не находят объяснения. Дело в том, что перепонок на лапах у нее почти нет, следовательно, плавать она не может. И правда, никто никогда не видел, чтобы фрегат садился на воду отдыхать. Не может он держаться и на волне: строение ног и туловища делает это невозможным. Но тогда как и где он все-таки отдыхает, когда у него устают крылья? На этот вопрос действительно очень нелегко ответить.
Некоторые, как, например, Бен Брас, утверждают, будто фрегат каждую ночь возвращается ночевать на берег. Но если вспомнить, что долететь ему до своего насеста — значит иной раз отмахать на крыльях чуть не тысячу миль, не говоря уже об обратном путешествии к месту его рыбной ловли, — то такого рода предположение теряет всякое правдоподобие. Многие моряки придерживаются мнения, что он спит, высоко повиснув в воздухе. Таково было и мнение Снежка.
И вот это мнение или предположение — назовите как хотите, — над которым Бен Брас посмеялся и слегка даже поиздевался, как над самой невероятной несуразицей, в конце концов, может быть, не так уж далеко от истины. Как часто бывало, что диковинные истории, рассказанные каким-нибудь матросом, принимались за россказни, за самые фантастические бредни, подобно, например, рассказу о фрегате, и подвергались осмеянию с научной точки зрения кабинетными учеными-натуралистами, а в конце концов оказывались чистейшей правдой.
Почему утверждение моряков, будто фрегат спит на лету, не может оказаться правильным? Ведь оно основано на личном наблюдении, а вовсе не является матросской выдумкой, какой ее считают умные и высоко о себе мнящие, но часто ошибающиеся преподаватели естественных наук.
Давайте проверим: так ли уж неправдоподобна теория моряков насчет сна фрегата?
Что фрегат может отдыхать в воздухе, не подлежит никакому сомнению. Нередко можно наблюдать, как наблюдали сейчас наши катамаранцы, что он, распростерши крылья, неподвижно висит в воздухе и только чуть покачивает своим длинным раздвоенным хвостом, временами то раскрывая его, то складывая, по меткому выражению матроса, как портной ножницы. Это движение, возможно, чисто мышечного характера и вполне совместимо с состоянием сна или дремоты, в котором птица находится отдыхая. Как бы там ни было, она держится, не меняя положения, не двигаясь с места, иногда в течение многих минут не делая ни одного движения, а только раздвигает и сдвигает длинные, изящно изогнутые перья своего раздвоенного хвоста.
Рыба спит, не делая сколько-нибудь заметных усилий, чтобы удержаться в этом положении в воде. Почему не могут делать этого в воздухе некоторые птицы, чье тело гораздо легче рыбьего, а костяк снабжен воздушными полостями, помогающими им держаться в воздухе?
Фрегат редко когда отдыхает в обычном понятии этого слова. Его ритмичный, грациозно-легкий полет на стройных при всей их огромной длине крыльях — распростертые, они нередко достигают десяти футов-доказывает, что в воздухе он чувствует себя, может быть, так же покойно и легко, как на ветке дерева. Достоверно известно, что он неделями, месяцами подряд не знает, что значит отдыхать на дереве или на каком-нибудь другом высоком месте.
Правда, если фрегат рыбачит вблизи берега, он обычно на берегу же и ночует. Если же он залетает далеко в море, так и проводит всю ночь на крыльях. Фрегат не ищет отдыха, как это делают многие другие океанские птицы, вроде его ближайшего сородича — глупыша. Он не садится отдыхать ни на мачту корабля, ни на какой-нибудь иной высокий шест на судне, а постоянно носится над мачтами плывущих кораблей, словно находит в этом удовольствие, и отрывает иной раз клювом клочки цветной материи на флагштоке.
О фрегате, захваченном на месте преступления, когда он занимался этим делом, рассказывают забавный анекдот. Матрос, который влез на верхушку мачты и схватил его, был простой деревенский парень, служивший на корабле только временно. Был он длинный и худой, как жердь. И вот команда на борту корабля после этого случая постоянно потешалась над ним, уверяя, что фрегат, который привык узнавать матросов по выправке, ошибся, приняв новичка за шест, а не за матроса, и пал жертвой собственной ошибки.
Строго говоря, фрегат не рыбачит, как остальные хищные птицы на океане. Так как он не может ни плавать, ни нырять, то не может, конечно, и вылавливать рыбу из воды. Но, в таком случае, чем же он существует? Где находит он пропитание? Скажем коротко: он ловит добычу в воздухе и питается главным образом всякого рода летучей рыбой и летучими каракатицами. Когда тe, спасаясь от своих преследователей, выскакивают из воды, ища безопасности в воздухе, фрегат подстерегает их и камнем падает сверху, хватая прежде, чем те успевают вернуться в свою столь же опасную для них стихию, из которой только что выпрыгнули.
Кроме летучек, фрегат ловит и рыб, имеющих обыкновение выскакивать из воды на поверхность, а иногда отнимает добычу у глупыша, у чайки, морской ласточки и другой тропической птицы, умеющей и нырять и плавать, причем сначала он силой заставляет их выпустить рыбу, а затем подхватывает ее в воздухе, прежде чем та упадет обратно в воду.
В бурю эта своеобразная хищная птица прямо-таки благоденствует: это — время самого обильного для нее лова, так как она может хватать рыбу, выкинутую бурей прямо на бурлящую волнами поверхность воды. А когда на океане царит полный штиль, она прибегает к другому способу: силой заставляет птиц, выловивших рыбу из воды, отдать ей свою законную добычу. Больше того, она вынуждает их даже отрыгнуть уже проглоченную рыбу.
Поразительное мастерство полета не только дает ей возможность без промаха схватить выброшенный кусок — она пускается и на такие фокусы: если случится, что рыба попала в клюв не так, как ей удобно, она подбрасывает ее в воздух, ловит снова и снова, пока не сможет проглотить.
Глава XLIX. МЕЖДУ ДВУМЯ ХИЩНИКАМИ
Птицы, за которыми так внимательно следили катамаранцы, внезапно вышли из состояния неподвижности и, кружа в воздухе, стали по спирали спускаться все ниже и ниже к воде.
Вскоре они оказались так низко, что алый, выдававшийся вперед, как у пыжащегося голубя, зоб у самца был уже отчетливо виден. Стройные по своим очертаниям тела птиц с длинными, серпом изогнутыми крыльями и изящным раздвоенным хвостом четко вырисовывались на фоне небесной синевы.
Альбакоры совсем перестали обращать внимание на приманку, предлагаемую им Снежком и Брасом, и быстро засновали в воде туда и сюда, пока не рассеялись по океану во все стороны.
Неужели это страх перед нависшими над ними фрегатами заставил их так изменить обычную для них тактику?
Нет, такое поведение было вызвано чем-то другим — не страхом. Они, по-видимому, бросились за чем-то, чего ни самим им, ни нашей четверке на плоту еще не было видно.
Бен Брас и Снежок знали, что альбакоры подняли такую суету совсем не потому, что испугались фрегатов: им они вовсе не были страшны. Но юнга, который мало еще разбирался в жизни океана, хотя и заметил, что вид у альбакоров вовсе не испуганный, не понял, почему они вдруг так заметались, и, показывая на птиц, которые были сейчас не выше чем в сотне саженей над поверхностью воды, обратился к старшим товарищам:
— Неужели такая большая рыба тоже боится фрегатов?
— Да они вовсе не альбакоров высматривают, — ответил матрос. — И альбакоры их не боятся. Здесь где-то неподалеку другая рыба, только не видать какая. Не видно ее и этим голубым красавцам. Но они ищут ее во все глаза. Видишь, как они носятся вокруг. И уж, ясное дело, как та рыба завидит альбакоров, так от страха и выпрыгнет разом из воды.
— О какой другой рыбе ты говоришь? — спросил матроса юнга.
— Понятно о какой-о летучей. О той самой, что в свое время спасла нас от голодной смерти, помнишь? Тут где-то близко целый косяк ее. И фрегаты тоже ее учуяли, вот почему они и кружат над этим местом. Они заметили альбакоров, а так как знают, что те тоже охотятся за летучими рыбками, то и спустились вниз, чтобы быть поближе к игре. Пока альбакоры не увидели крылатых созданий и не врезались между ними, фрегату придется только облизываться. Ему ничего не сделать, пока вспугнутые альбакорами рыбы не выскочат из воды. А эти голубые красавцы все еще, кажется, их не видят, но, судя по маневрам, помяни мое слово, сейчас заметят!.. Вот! Что я тебе говорил, Вильм? Погляди туда. Охота началась!
И действительно, несколько альбакоров внезапно повернули в сторону, параллельную курсу «Катамарана», и молниеносно пронеслись вперед в прозрачной воде.
Зрители на плоту увидели, как несколько белых пятен сверкнуло на мгновение в воздухе и тут же исчезло в воде.
Катамаранцы по серебристому блеску прозрачных плавников-крыльев сразу узнали косяк летучих рыбок; сейчас за ними охотились самые опасные из их врагов — альбакоры.
Некоторые летучие рыбки так и не успели взвиться в воздух, став добычей своих преследователей.
Фрегаты кружили и над преследователями и над преследуемыми, дожидаясь своего часа. И как только эти хорошенькие создания показались над водой, птицы камнем кинулись вниз между двумя отрядами войск, каждая выбирая себе жертву. Налет получился удачный. Катамаранцы увидели, как оба фрегата взмыли вверх, держа в клюве по летучей рыбке.
Однако одному фрегату показалось, должно быть, мало только схватить рыбку — ему захотелось еще и поиграть ею: внезапно тряхнув головой, он подбросил свою добычу вверх и поймал ее на лету, и так много раз. Натешившись вволю, он, как только рыбка очутилась у него опять в клюве, проглотил ее целиком. Вместе со своими плавниками-крыльями она исчезла у него в глотке, куда до нее, без всякого сомнения, попадало много таких, как она.
Но по одной рыбке фрегатам, как видно, было мало; едва они их проглотили, как заняли прежнюю позицию, дожидаясь удобной минуты, чтобы кинуться вниз за новой жертвой.
И катамаранцам посчастливилось: им привелось наблюдать один из тех исключительно интересных эпизодов, происходящих порой на океане, ту маленькую трагедию, которая часто разыгрывается в природе, причем действующими в ней лицами стали три сотворенные ею существа, и все три совершенно разные.
Фрегат, высматривая новую добычу, наметил себе в жертву летучую рыбку прямо под собой, которая случайно оказалась совсем одна. Потому ли, что она плавала или летала хуже своих товарок, но она отбилась от всей стаи.
Но больше она не мешкала, и вполне понятно почему: за нею следом мчался вовсю альбакор фута в три длиной. И альбакор и летучая рыбка пустили в ход всю силу мышц, заключенную в их плавниках: одна, чтобы удрать, а другая, чтобы помешать ей это сделать.
Для находившихся на плоту было совершенно очевидно, что альбакор останется в этом состязании победителем. Увы, это поняла и летучая рыбка. Крошечное создание, рассекая плавниками прозрачную воду, казалось, все так и дрожало от страха. И наши зрители решили, что сейчас она взметнется в воздух и оставит своего жадного преследователя в дураках.
Несомненно, это было единственным выходом для затравленной летучей рыбки, и несомненно также, что она так именно и собралась сделать, как вдруг увидела длинные черные крылья и жадно вытянутую шею маячившего над ней фрегата.
Этого зрелища было достаточно, чтобы чуть-чуть задержать рыбку под водой, правда всего лишь на одно короткое мгновение. Вот положение! Вверху
— этот уродливый красный зоб и хищно вытянутая шея. Внизу— страшная пасть, готовая раскрыться и поглотить ее. На спасение не было никакой надежды.
Фрегат, в нетерпеливом ожидании маячивший над ней, бросился, не теряя времени, чтобы схватить ее. Но был ли он слишком уверен в добыче или по какой-то другой необъяснимой причине, он оказался наглядной иллюстрацией к старинной и всем известной пословице о том, что от чашки до рта еще далеко; короче говоря, летучая рыбка от него ускользнула.
С «Катамарана» видели, как он кинулся к ней, широко раскрыв клюв и алчно растопырив когти, чтобы вцепиться в нее. Но… весь боевой пыл пропал даром: серебристо-белая рыбка стрелой сверкнула мимо него и упала невдалеке в океан. Катамаранцы поняли, что летучая рыбка спаслась.
Глава L. СНЕЖОК ЛЕТИТ КУВЫРКОМ В ВОДУ
И теперь все с удивлением смотрели на фрегата: потому что, вместо того чтобы подняться опять вверх и возобновить свою охоту либо за упущенной им рыбкой, либо за какой-нибудь другой, он остался на поверхности океана и, распростерши крылья, стал бить ими по воде с такой силой, что брызги так и летели вокруг, окутывая его сплошным водяным облаком.
При этом он пронзительно кричал, не смолкая ни на минуту.
Но это не был победный крик. Наоборот, чувствовалось, что ему самому угрожает опасность или что он стал жертвой какого-то хищника, еще более могучего, чем сам. В течение нескольких секунд длились эти необъяснимые движения, похожие на усилие высвободиться. На протяжении нескольких квадратных ярдов вся поверхность океана ходила ходуном, волнуемая усилиями какого-то живого существа под водой. А птица в это время все продолжала кричать и пенить крыльями воду, словно гигантский, разыгравшийся на воле пеликан.
Никто на плоту не мог понять, чем объясняется такое странное поведение старого фрегата.
Даже Снежок, который считал, что нет ничего на океане, чего он не мог бы объяснить, был удивлен и растерян не меньше остальных.
— Да что ж это такое с ним творится, Снежок, а? — спросил Бен в надежде, что кто-кто, а уж негр сумеет найти объяснение этому странному поведению фрегата. — Фрегат задел за что-то килем… Разрази меня гром, если он не пойдет сейчас ко дну!
— Разрази и меня гром!-ответил Снежок, бесцеремонно заимствуя излюбленное восклицание матроса. — Провалиться мне на месте, если я знаю, что тут происходит! Батюшки, видно, кто-то ухватил птицу за ногу!.. Может, это акула, а может, длиннорылый… А не то…
Снежок сказал бы «меч-рыба», если бы успел закончить свою фразу. Но ему это не удалось. В тот самый момент, когда он, строя догадки, удивленно вращал своими белками, что-то сильно стукнуло в днище плота. Удар пришелся как раз в ту доску, на которой стоял Снежок, и был так силен, что она выскочила из своих креплений и, подлетев кверху, сбила его с ног, да не просто сбила, а как из катапульты выбросила с «Катамарана» прямо в океан.
И это было еще не все! Доска, которая смахнула Снежка в воду, мгновенно вернулась на свое прежнее место — она была одной из самых тяжелых деревянных частей плота, — но, вместо того чтобы остаться на месте, опять подскочила кверху и тут же свалилась в воду, словно ее потащила туда чья-то невидимая, но сильная рука — рука какого-нибудь морского божества, может, самого Нептуна.
Да и не только доска — весь плот пришел в движение, словно кто-то невидимый залез под него и тряс, качал его вверх и вниз. Так быстры и так сильны были эти таинственные толчки, что оставшиеся на плоту еле удерживались на ногах.
Вместе с плотом ходуном ходила и вода под ним; из-под досок, на которых наша тройка, как акробаты, проделывала чудеса ловкости, чтобы не потерять равновесия, слышался громкий плеск и шум; и через несколько секунд после первого сильного толчка волны кругом так и пенились белыми шапками.
Негр, опомнившись от невольного сальто-мортале, вынырнул на поверхность, но, увидев, что плот все еще качает вверх и вниз, не решился взобраться на него, а поплыл рядом, все время испуганно и невнятно что-то бормоча. Даже отважный Бен Брас, бывший матрос военного фрегата, столько раз глядевший смерти в глаза, и тот сейчас испугался.
Да и как же иначе! Он не мог объяснить себе, какая сила природы могла вызвать это загадочное сотрясение, а необъяснимое, естественно, вызывает страх.
— Черт возьми! — крикнул Бен Брас с дрожью в голосе.-Что за дьявол возится там под нами?! Кит это, что ли, трется спиной о плот? Или…
Но он не успел договорить, как вновь послышался грохот, словно доска, так таинственно подпрыгивавшая, раскололась вдруг надвое.
Этот звук, что его ни вызвало бы, оказался апогеем всей сумятицы. После этого «скачки» плота прекратились, волны от его непрерывного качания постепенно улеглись, и наконец, подпрыгнув в последний раз, он поплыл, как обычно, по успокоившейся поверхности океана.
Глава LI. УДАР НАСКВОЗЬ
Лишь только «Катамаран» пришел в равновесие, Снежок, вскарабкался на него. Вид у негра был такой забавный, что, когда он стоял, весь мокрый, и вода так и лилась с него, всякий, увидев это, не мог бы не расхохотаться. Но его товарищам было не до смеха. Наоборот, они были подавлены: до сих пор они не понимали, что было причиной этой только что закончившейся странной передряги с плотом. Страх, который она им внушила, продолжал держать всех троих в своей власти и словно лишил их языка. Снежок первый нарушил молчание.
— Силы небесные!-воскликнул он, стуча зубами, как кастаньетами.-Что ж это такое было?.. Как вы думаете, масса Бен, кто это там затеял такую возню у нас под плотом?.. Вода кругом пеной кипела, так что ничего за ней не видать было. Боже мой, не дьявол ли это?
По испуганному лицу негра видно было, что он серьезно считает, будто именно черт вызвал всю эту таинственную суматоху.
Хотя матрос и сам не был свободен от суеверий, однако он не разделял наивной веры Снежка. Тщетно искал он объяснения этому странному происшествию, но все же никак не мог приписать его действию сверхъестественных сил. Удар, покачнувший доску, на которой стоял Снежок, дал сильный толчок всему плоту. Впрочем, возможно, этот необъяснимый и неожиданный удар произошел и вполне естественным путем: мало ли кто мог его нанести — огромная рыба или иное чудище, вынырнувшее из пучины. А вот то, что на «Катамаране» и потом продолжалась качка, да еще такая, что весь экипаж едва не попадал в воду, — это больше всего смущало Бена Браса. Он никак не мог понять, почему эта рыба или иная тварь, стукнувшись головой о киль, не поспешила после такой опасной встречи сию же минуту удрать.
В первую минуту Бен подумал, что под плотом кит. Он слыхал, что киты попадают под суда. Но само упорство этого загадочного существа, продолжавшего, как ни странно, атаковать плот, свидетельствовало, что все происшедшее не может быть чистой случайностью. Но если нападение было намеренным и виновник его — кит, так просто они бы не отделались. Матрос знал, что кит не оставил бы их в покое, лишь покачав плот. Одним взмахом хвоста морской великан подбросил бы суденышко в воздух, швырнул в пучину или, разбив вдребезги, разметал обломки по волнам.
Он уже наверняка проделал бы с ними что-нибудь в этом роде, — так полагал Бен Брас. Стали быть, это не кит едва не опрокинул их в море.
А если так, что же это было?.. Акула? Нет, не она! Правда, бывают акулы длиной и с доброго крупного кита, но матрос никогда не слыхал, чтобы они нападали на проходящие суда.
И вот наши скитальцы стояли, раздумывая над загадочным происшествием, как вдруг Снежок громко вскрикнул — наконец-то он сообразил в чем дело. Едва лишь негр оправился от страха, как первой его мыслью было осмотреть доску, с которой он сделал вынужденное сальто-мортале, словно акробат с трамплина.
И вот тут-то — на том самом месте, где он стоял, — обнаружилось нечто такое, от чего сразу все сделалось понятным. Из бревна чуть наискосок торчал, выдаваясь на целый фут, острый костяной предмет. Он так крепко засел в дереве, словно его вогнали туда ударами кузнечного молота. Сразу было видно, что он вошел в доску снизу: острие все в зазубринах и вокруг отверстия — щепки.
Впрочем, Снежок не стал долго раздумывать. Стоило ему только взглянуть на этот предмет, которого раньше здесь и в помине не было, как весь страх его моментально прошел. Взрыв хохота, скорее напоминавший продолжительное ржание, возвестил, что Снежок снова стал самим собой.
— Ей-богу!.. — воскликнул он.-Эй, масса Бpac! Гляньте-ка на штучку, которая задала нам такого страха! Поди ж ты! Кто бы подумал, что у этой длиннорылой уродины такая силища! Вот штука-то!
— Да это меч-рыба!-вскричал Бен.
Действительно, остроконечная кость, торчавшая из доски, оказалась мечевидным отростком одной из этих странных тварей.
— Правильно, Снежок, меч-рыба, она самая!
— Да нет, это только ее рыло, — пошутил негр. — Самой рыбы и близко не видать. Так вот какое черное тело я видел под плотом! Теперь-то ее и след простыл. Обломала себе носище — и это ее и убило. Подохла да тут же ко дну пошла.
— Так и есть, — подхватил матрос. — «Меч» сломался, покуда она билась и все рвалась на волю. Слыхал я, как что-то трахнуло, будто треснул корабельный брус; и потом сразу же плот перестало швырять, все успокоилось. Господи помилуй! Ну и удар! Доска-то, поди, самое малое — дюймов пяти толщиной, а вот видишь, длиннорылый пробил ее насквозь да еще наружу «меч» высунул на фут с лишним. Ну и ну! Что за диковинные, сумасбродные твари водятся в океане!
Этим философским рассуждением матроса и закончилось приключение.
Глава LII. МЕРТВАЯ ХВАТКА
Теперь уже весь этот странный эпизод перестал быть загадкой для обоих взрослых. Ясно было, что меч-рыба проткнула доску своим отростком и сломала его. Очевидно, «удар мечом» не был нанесен с намерением напасть на «Катамаран». Это произошло совершенно случайно.
Да и вряд ли могло быть иначе: ведь удар оказался роковым для самого меченосца. Несомненно, сейчас чудовище лежало мертвым где-нибудь на дне морском: костяной клинок сломался почти у самого основания, а его обладатель не мог жить без своего оружия. Даже если страшное увечье не сразу убило меч-рыбу, все равно потеря этой длинной «шпаги», посредством которой она только и добывала себе пропитание, наверняка должна была сократить остаток ее дней, и развязка не замедлила наступить.
Но ни матрос, ни бывший кок не сомневались, что рыба совершила самоубийство против собственной воли.
Бен Брас объяснял все это Вильяму просто и логично. Меч-рыба погналась за стайкой альбакоров. Ослепленная стремительностью своего бурного натиска и страшной прожорливостью, она не заметила плота, покуда не наткнулась своим длинным «мечом» на доску и не пробила ее насквозь. Не в силах вытащить глубоко застрявший в дереве мечевидный отросток, огромная рыбина билась до тех пор, пока не наступила катастрофа. Очевидно, это произошло так: плот подбросило кверху, а потом вдруг накренило со всего размаха вниз — она и напоролась на доску.
Не было необходимости все это подробно объяснять юнге: Вильям и без того уже знал кое-что. Из прежних разговоров на эту тему ему были известны случаи, когда меч-рыба вот так же легкомысленно «фехтовала» своим оружием.
Впрочем, сейчас было не до этого. Как только «Катамаран» принял прежнее положение и Снежок вскарабкался на плот, взоры всей команды, в том числе и негра, вновь обратились к странному зрелищу, которое занимало их внимание до этого столкновения. Все принялись наблюдать за необычным поведением фрегата.
Птица все еще носилась над самой водой, металась из стороны в сторону, билась и, вздымая брызги, хлопала крыльями. Маленькое облачко пены, окружая ее словно ореолом, всюду следовало за ней.
Даже Бен Брас и Снежок, разгадавшие странную историю с меч-рыбой, не могли понять, что творится с птицей. За всю свою жизнь на море они не видели, чтобы так вел себя фрегат или какой-либо иной пернатый хищник океана.
Долго стояли они, дивясь и переговариваясь между собой. В чем же тут причина? Видно было, что судорожные движения птицы непроизвольны, что происходит какая-то борьба. К тому же она дочти непрерывно кричала — от страха или боли, а может быть, и от того и другого.
Но почему она так упорно держится у самой поверхность моря? Ведь известно, что эта птица может взмыть в воздух почти вертикально и взлететь так высоко, что за ней не угнаться ни одному из крылатых созданий.
Вопрос этот долго оставался неразрешимым для матроса и негра. Они не только не могли найти ключ к его решению, но даже не пытались строить сколько-нибудь правдоподобные предположения.
Добрых десять минут ломали они себе головы. И вот наконец-то задача была решена: загадочное происшествие получило объяснение. Но злосчастная птица не была добровольной участницей этой драмы — она попала в плен.
Казалось, фрегат начинает изнемогать. По мере того как силы его слабели, крылья все тише хлопали по воде, брызги пены уже не вздымались вокруг и море волновалось меньше. Теперь зрители увидели, что птица была не одна: там, внизу, какая-то рыба вцепилась ей в ногу. По форме, величине и лазоревой окраске легко можно было признать альбакора. Несомненно, это был тот самый хищник, который одновременно с птицей состязался в погоне за летучей рыбкой.
Так вот почему фрегат не мог подняться над водой! Но это еще не все. Видимо, альбакор, измученный схваткой, тоже выбился из сил: он уже не носился стрелой из стороны в сторону, как вначале, а двигался еле-еле. Стало видно, что лапа морского ястреба вовсе не застряла в пасти у рыбы, как думали катамаранцы, — нет, птица стояла на голове у альбакора, словно забравшись на жердь, и балансировала на одной ноге.
Чудо из чудес! Что это все могло бы значить?
Борьба фрегата и альбакора как будто приближалась к развязке: теперь схватки перемежались паузами. После каждого перерыва птица все тише взмахивала крыльями, рыба все медленнее шевелила плавниками. Под конец оба хищника замерли: фрегат над океаном, альбакор в воде.
Если бы птица не распростерла так широко свои могучие крылья, она, наверно, погрузилась бы в глубь океана. Рыба все еще время от времени делала слабые попытки cтaщить ее вниз, под воду. Но мешали крылья, раскинувшиеся почти на десять футов над водой.
Это диковинное зрелище разыгралось прямо перед «Катамараном», и плот, идя по ветру, все приближался к месту поединка. С каждым мгновением силуэты противников вырисовывались все отчетливее. Но лишь когда «Катамаран» подошел вплотную и обоих выбившихся из сил борцов взяли на борт, выяснилось окончательно, как они сцепились между собой.
Оказалось, что схватка произошла совершенно случайно, помимо желания обеих сторон.
Да и как могло быть иначе? Альбакор слишком силен для клюва фрегата, слишком велик, чтобы птица могла заглотать его своим громадным зевом. Со своей стороны, разве решился бы фрегат вторгнуться во владения могущественного морского хищника?
Причиной встречи, которая привела к такой роковой путанице, оказалось то, что они погнались за одной в той добычей. То была маленькая летучая рыбка, которой удалось ускользнуть от врагов, подстерегавших ее в обеих стихиях — и в воздухе и в воде.
Бросившись на летучую рыбку, птица промахнулась и угодила кривыми когтями прямо в глаз альбакору. То ли когти пришлись как раз по глазной впадине, то ли слишком глубоко погрузились они в волокнистую ткань мозга, — так или иначе, они там застряли. И ни птица, ни рыба, страстно жаждавшие сбросить мучительное ярмо, не могли положить конец вынужденному содружеству. Разлучить их пришлось Снежку. Им объявили развод, самый эффективный, какой когда-либо давался судом со времен сэра Крессуэлла Крессуэлла
[17].
Суд был короткий. Каждому из преступников был вынесен приговор, и казнь свершилась тотчас же вслед за осуждением — рыбу оглушили ударом по голове; иная кара, не менее скорая, постигла птицу-ей попросту свернули шею.
Так погибли два морских тирана, будем надеяться, что такое же возмездие за свои злодеяния получат все тираны земли!
Глава LIII. МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Новое появление меч-рыбы — не была ли это та самая, что уже однажды повстречалась им?-разогнало всех альбакоров по соседству с «Катамараном». Вернее же, они заметили стайку летучих рыбок и пустились в погоню, так что теперь поблизости не осталось ни одного альбакора, кроме того, который был вырван из когтей фрегата.
Оправившись от волнения после этого необычного происшествия, почти столь же странного, как и предшествующий случай, команда занялась осмотром плота: нет ли повреждений от толчка.
К счастью, ничего серьезного не было обнаружено. Была пробита доска, в которой крепко застрял костяной отросток, но это оказалось сущим пустяком. Правда, «меч» почти весь целиком, кроме выдававшейся над доской верхней части, торчал на несколько футов вниз. Но все-таки его не стали вытаскивать: он не особенно мешал «Катамарану» на ходу.
Доска чуть сдвинулась с места, бревно, другое расшаталось — вот и все. Что стоило исправить этакую безделицу умелым рукам Снежка и матроса!
Оба они закинули было снова удочки в воду, насадив на крючки приманку; но солнце уже садилось, а клева все не было. Ни одного живого существа: ни альбакора, ни рыбы, ни птицы — не было видно на фоне заката. Солнце, медленно опускавшееся в безмолвную пучину океана, оставило их одних в пурпуровой мгле.
Невесело было им в этот сумеречный час. Правда, они пережили столько захватывающих приключений, что им было некогда скучать. Днем волнующие происшествия не давали задуматься над истинным положением вещей. Но сейчас, когда повсюду вновь воцарился покой, мысли их невольно обратились к прежнему: как мало надежд спастись из этой безбрежной водной пустыни, простирающейся словно до самых границ мироздания!
Печальным взглядом провожали они солнце, погружавшееся в море. Золотое светило исчезло на западе, там, куда стремились и они. Если бы только в этот момент они могли быть там, где светил сияющий шар, — о, тогда они очутились бы на суше! Уже одна мысль о земле, о чудесной, незыблемо твердой земле охватила блаженным трепетом эти несчастные жертвы кораблекрушения, цеплявшиеся за свой утлый плот среди безграничного океана.
Их угнетала мертвая тишина, царившая кругом. Малейшее дуновение ветерка замерло перед заходом солнца. Море сделалось спокойным, гладким, как стекло. Сумерки сгущались, и в этой зеркальной поверхности отразились мириады мерцающих звезд, мало-помалу высыпавших на небе.
Было что-то величественное и грозное в этой торжественной тишине, и им стало страшно.
Изредка молчание нарушалось какими-то звуками. Но они скорее наводили грусть, чем радовали. Ибо то были звуки, которые можно услышать только в безмолвной пустыне океана: крик морской чайки, напоминающий чей-то дикий хохот, пронзительный свист птицы-боцмана.
У наших скитальцев сегодня появилась еще одна причина для уныния: они тревожились о потере столь необходимых запасов сушеной рыбы.
Правда, прожорливый океан поглотил только часть провизии. Но и об этом стоило погоревать — не так-то легко будет возместить утрату.
Пока они охотились за альбакорами в надежде на удачный улов, это их не так беспокоило. Зато теперь, когда вся стая ушла и у них остались всего лишь три рыбки, они острее почувствовали свое бедствие. Мало было надежды, что попадется другой такой косяк.
По мере того как сумерки сгущались, все более глубокое уныние овладевало нашими друзьями. Прошел час, другой, но печальные скитальцы не обменялись ни словечком.
Глава LIV. ВЕЧЕР НА ПЛОТУ
Уныние не может длиться вечно — так уж устроила благодетельница-природа. Бывают времена, когда тоска овладевает сердцем более или менее надолго, но такие моменты всегда сменяются светлыми проблесками — и наступает если не радость, то, во всяком случае, некоторое облегчение.
Примерно через час после захода солнца люди на «Катамаране» вновь воспрянули духом, словно освободившись от тягостного настроения, угнетавшего их.
Конечно, произошло это не без причины. Что-то изменилось в окружающей природе: поднялся легкий бриз и подул на запад, как раз в том самом направлении, куда так стремились катамаранцы.
И они пустились в путь. Несмотря на страшный удар мечом, полученный «Катамараном», плот понесся с попутным ветром так быстро, словно хотел показать, что нападение меч-рыбы вовсе не вывело его из строя.
Всякое движение оказывает благотворное действие на человека, впавшего в тоску, особенно если двигаешься в нужном направлении.
«Вперед!» — вот слово, ободряющее павших духом, чудодейственное слово для отчаявшихся.
Никто на «Катамаране» и не помышлял о том, что бриз отнесет их к твердой земле или хотя бы продержится так долго, что продвинет плот на много миль по океану. Но уже одна только мысль, что они все-таки не стоят на месте, подбодрила их.
И они стали подумывать об ужине. Снежок с готовностью вскочил на ноги и отправился к своим запасам.
Его «кладовая» помещалась посередине плота. И так как далеко идти было незачем, а выбирать припасы не из чего, то вскоре он вернулся на корму, где неподалеку уселись его товарищи. В руках он держал с полдюжины соленых морских сухарей и несколько кусков вяленой рыбы.
Это был весьма скудный и неприхотливый ужин; при виде его любой бедняк пренебрежительно скривил бы губы. Но катамаранцы, для которых он предназначался, оказали ему весьма радушный прием.
Тут же, перед их глазами, на настиле «Катамарана», лежал еще больший деликатес — то был альбакор, по вкусу не уступающий ни одной из океанских рыб. Но мясо альбакора пришлось бы есть сырым, а у Снежка была запасена вяленая рыба, что, по мнению катамаранцев, было гораздо вкуснее.
Вообще в положении наших скитальцев не приходилось быть слишком разборчивыми, особенно если можно запить ужин глотком канарского вина, но-увы!-вино распределялось весьма экономно и щедро разбавлялось водой.
Надо сказать, что Снежок был очень бережлив. Может быть, именно этому свойству он был обязан тем, что остался в живых. Ведь если бы негр не собирал так усердно и не хранил так тщательно свои запасы, наверно, и сам он, и маленькая Лали уже давно погибли бы голодной смертью.
Поедая свой более чем скромный ужин, Снежок погоревал о том, что нет огня, на котором можно было бы поджарить альбакора. Уж кто-кто, а шеф камбуза отлично знал, какой лакомый кусочек эта рыба!
Он и в самом деле сильно огорчался не столько за себя, сколько за свою любимицу Лали. Как охотно угостил бы он ее чем-нибудь повкуснее вяленной на солнце рыбы и соленых сухарей! Но так как об огне нечего было и мечтать, приходилось отказаться от удовольствия приготовить ужин для Лали. Чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить себя, он дал девочке сладкого канарского больше, чем им всем полагалось.
Как ни микроскопичны были порции, доставшиеся на долю каждого, все же выпитое вино еще больше подбодрило наших скитальцев.
Покончив с ужином, Снежок, Вильям и Лали легли спать. На «собачьей вахте» остался Бен Брас-править рулевым веслом и нести все прочие обязанности дежурного.
Глава LV. СНЕЖОК ВИДИТ ЗЕМЛЮ
Долгие ночные часы простоял на вахте Бен Брас. Верный своему долгу, он ни на минуту не оставлял рулевое весло. Ветер продолжал дуть все в ту же сторону, и плот быстро шел на запад, подгоняемый экваториальным течением.
С океана стал подниматься легкий туман, и звезды скрылись из виду. Казалось бы, теперь рулевому уже нельзя будет держать курс по-прежнему. Но Бен считал, что ветер не меняет направления, и, руководствуясь этим, вел плот. И впоследствии оказалось, что он не ошибся.
Лишь перед самым рассветом его сменил Снежок, приняв вахту и заняв его место у рулевого весла.
Бен не решился разбудить негра и, вероятно, великодушно оставался бы на посту до угра, если бы тому вздумалось еще поспать.
Снежок проснулся не по своей охоте и не потому, что его потревожил товарищ, — его охватила дрожь от сырого тумана. Очнувшись, он несколько минут весь трясся, словно в лихорадочном ознобе, так что навешанные на нем побрякушки из слоновой кости дребезжали, стукаясь одна о другую.
Не скоро еще Снежок окончательно пришел в себя: из всех видов климата африканский негр хуже всего переносит холодный. Не раз он похлопывал себя обеими руками по широкой груди крест-накрест, так что кончики пальцев почти сходились на позвоночнике, пока ему удалось наконец восстановить кровообращение. Лишь тогда, спохватившись, что самое время становиться на вахту, к рулю, он предложил сменить матроса.
Разумеется, тот и не подумал отказаться. Но прежде чем лечь спать, он дал Снежку необходимые указания, как вести «Катамаран», чтобы не отклониться от взятого курса.
Тем временем Вильям, верно, видел во сне отчий дом в Англии, а крошка Лали грезила о своей африканской родине. Матросу же, скорее всего, снилось, что он благополучно «погрузился» на бак британского фрегата, идущего под всеми парусами, а кругом, растянувшись на нарах или подвесных койках, спят сотни таких же матросов, как он сам.
В первый час вахты Снежок ни о чем не думал и старался только, следуя инструкции матроса, вести «Катамаран» по курсу.
Между прочим, ему было наказано наблюдать, не покажется ли где парус. Но в таком густом тумане, какой окружал их сейчас, не удалось бы заметить и самый большой корабль, пройди он даже в одном кабельтове от «Катамарана».
Поэтому Снежок и не пытался разглядеть что-либо в океане.
Но он не прекратил своих наблюдений, чего и требовал матрос, — ведь моряку уши служат не хуже, чем глаза.
Если и не увидишь корабль, зато услышишь голоса команды или другие случайные звуки на борту. Случалось не раз, что таким образом судно выдавало свое присутствие и в самую темную ночь, и в глухой туман на море.
Правда, в такую погоду чаще бывает, что корабли подходят и удаляются, и ни один из них не знает о том, как близко другой.
Подобно двум призракам-великанам, они встречаются посреди океана и молчаливо расходятся вновь, каждый бесшумно следуя своим путем.
Уже светало, а черный кормчий все еще не слышал ни звука, кроме шелеста ветра в парусе «Катамарана» и глухого плеска волн, ударявшихся о пустые бочки по краям плота.
Наступило утро. Над горизонтом показался верхний краешек солнечного диска, и под его лучами туман стал медленно, но заметно рассеиваться. И тогда вдруг перед глазами у Снежка возникло нечто такое, что кровь его с быстротой молнии прихлынула к сердцу, забившемуся в бешеном восторге, словно хотело выскочить из могучей груди.
В то же мгновение он вскочил на ноги, бросил рулевое весло, словно в руках у него очутился раскаленный докрасна железный брусок, и, ринувшись вперед, на правый борт «Катамарана», встал, жадно всматриваясь в морскую даль.
Что же могло так внезапно потрясти нашего негра? Какое зрелище поразило его?
Он увидел землю!
Глава LVI. ЗЕМЛЯ ЛИ ЭТО?
Казалось бы, при виде этого зрелища, столь неожиданного и радостного, он тотчас же завопит на весь мир о своем открытии.
Но этого не случилось. Наоборот, он молчал: и когда прошел вперед по настилу плота, и когда, спустя некоторое время, стоял на носу и смотрел вдаль.
Вот она, страстно желанная, нежданная, негаданная земля! Поэтому-то он все еще опасался объявить о ней спутникам. И немало прошло времени, пока он решился поверить, что зрение не обманывает его.
Правда, негр не отличался обширными познаниями в географии морей, но ему были хорошо знакомы тропические широты Атлантики. Не раз проделал он этот страшный путь через экватор: однажды закованный в цепи и частенько потом на службе у работорговцев, помогая перевозить «живой груз» таким же бесчеловечным способом. Ему было известно, что там, где они, по всей вероятности, находятся сейчас, поблизости нет ни клочка земли, будь то остров, скала или риф. Никогда не приходилось ему видеть или слышать о чем-либо подобном. Он знал, что здесь есть остров Вознесения и маленький необитаемый островок Святого Павла. Но ни один из них не мог оказаться на пути «Катамарана».
Что же все-таки он увидел? Не ослеп же он! Картина острова отпечаталась на сетчатке у него так ясно, с такой отчетливостью, что это не могло быть обманом зрения.
Только вполне уверившись, он решился наконец: закричал громовым голосом и разбудил своих спутников. Все сразу вскочили на ноги, мигом очнувшись от сна.
— Земля! — орал Снежок.
— Земля? — откликнулся Бен Брас, вскакивая и протирая заспанные глаза. — Земля, говоришь, Снежок? Да что ты! Быть не может! Тебе, верно, почудилось, дружище!
— Земля? — переспросил Вильям. — Да где же, Снежок?
— Земля! — воскликнула маленькая Лали, догадавшись, что значит это слово, хоть оно и было сказано на чужом языке.
— Да где же она? — осведомился матрос, пробираясь по доскам на плоту, чтобы зайти спереди паруса, заслонявшего ему поле зрения.
— Вон, вон! — твердил Снежок. — Вон там, масса Брас, как раз у штирборта, справа!
— А ведь верно… право, земля!.. — подтвердил матрос, пристально вглядываясь в незнакомые очертания, смутно виднеющиеся сквозь туман. — Провалиться мне на месте, если это не земля! Да, да, это остров, хоть и небольшой, а все ж таки островок!
— Вот так штука! Да там люди!.. Гляньте, масса Брас, они ходят там повсюду. Я вижу их так же ясно, как солнце на небе. Да их там целые
десятки! Снуют себе взад-вперед. Туда, туда смотрите!
«Вижу, как солнце на небе» — не совсем точно сказано, так как момент был выбран малоподходящий. Дневное светило все еще скрывалось в тумане, и поэтому трудно было различить неясные контуры острова, или, вернее, того, что наши скитальцы принимали за остров.
Только Снежок, который дольше всех всматривался в эту «землю» и выработал в себе особую зоркость зрения, ясно различил там множество движущихся фигур. Теперь, когда он обратил на это внимание своих спутников, Бенy Брасу и Вильяму также стало казаться, что и они их увидели.
— Разрази меня гром! — воскликнул матрос. — А ведь и вправду люди! Мужчины и даже женщины, и в белых платьях! Кто они, откуда взялись?.. Черт побери! Я глазам своим не верю! Сроду не слыхивал, чтобы на этой стороне в Атлантике был остров! Разве только он выскочил из моря за какой-нибудь год, другой!.. Ну, а ты что скажешь, Снежок? Уж не Летучий ли это Голландец
[18] или скала, что как раз сейчас высунулась из воды? Или все-таки самый настоящий остров?
— Что вы! Не водится здесь Летучий Голландец. Нет, масса Брас, ваш негр зря не бросает слов на ветер. Это — остров, самая настоящая земля. Вот увидите сами! Только повернем «Катамаран» и подойдем чуть ближе.
Послушавшись совета Снежка, матрос пробрался обратно через весь плот, взялся за рулевое весло и повернул «Катамаран» носом вперед, прямо к неведомой, только что открытой земле.
Остров казался очень невелик — он занимал ярдов сто на горизонте. Впрочем, не всегда удается правильно определить на глазок, особенно если, как сейчас, мешает туман.
Казалось, остров возвышался на несколько футов над уровнем моря. С одной стороны он заканчивался крутым обрывом, с другой — отлого спускался к воде.
Люди виднелись главным образом на возвышенности. Кое-где они стояли, собираясь группами по трое и по четверо, в других местах прогуливались парами и в одиночку.
Видимо, они были неодинакового роста и одеты по-разному. Даже сквозь туман можно было разглядеть, что на них самые разнообразные цветные платья. Встречались тут и рослые люди; рядом с ними попадались другие, казавшиеся карликами. Снежок утверждал, что эти «малютки» — дети тех, кто повыше.
Позы их также были различны. Некоторые стояли выпрямившись, с какими-то длинными копьями за плечами; другие, также вооруженные, нагибались к земле. Многие усердно трудились, равномерно ударяя по земле огромными кирками, как если бы рыли яму.
Правда, все эти манипуляции виднелись неясно, так что катамаранцы никак не могли понять, что за работы ведутся на острове.
Действительно ли у них перед глазами остров, а фигуры — точно ли люди? Снежок не сомневался и с жаром отстаивал свою точку зрения. Однако Бен был настроен несколько скептически и держался менее решительно. Впрочем, это не мешало ему клясться и божиться, поминутно изъявляя желание тотчас же «провалиться на этом самом месте», если только это не остров.
Матрос не оспаривал факт существования острова. В те времена, о которых мы рассказываем, то и дело возникали внезапно новые земли посреди океана-там, где раньше о них и понятия не имели. И сейчас, когда, казалось бы, мореплаватели избороздили океан вдоль и поперек, обследовав каждый дюйм, там все еще нередко открывают скалы, отмели, даже неведомые острова.
Итак, Бена смущало вовсе не это. Его озадачивало другое: слишком уж много было там людей.
Если бы на этой земле им встретилось человек двадцать-двадцать пять, ну тогда еще можно было бы объяснить, почему остров оказался обитаемым. Правда, такое объяснение едва ли пришлось бы по душе ему самому и его спутникам. Возможно, что это потерпевшие крушение матросы с «Пандоры» основали временную колонию на маленьком островке и, усердно работая кирками, роют колодцы в поисках пресной воды.
Впрочем, едва ли это был экипаж погибшего в волнах невольничьего корабля: против этого говорили и самая многочисленность населения, и ряд других обстоятельств. Уверившись, что им не придется столкнуться с шайкой головорезов с «Пандоры», катамаранцы набрались смелости подойти поближе.
Однако, невзирая на всю очевидность, матрос все еще сомневался, что перед ними остров. Еще менее он мог поверить, что эти фигуры, сновавшие на берегу, — действительно человеческие существа.
Ничто не могло заставить Бена Браса поверить в это, пока «Катамаран» не подошел к берегам фантастического острова так близко, что он совершенно ясно заметил развевающийся на нем флаг.
Флаг был сделан из алой материи, какая обычно идет на знамена, и водружен на высоком конусообразном древке, Он свободно развевался по ветру, и даже туман, наполовину его заволакивавший, не мог совсем скрыть его из виду. Слишком редко встречается в океане такой яркий красный цвет. Разве это может быть наряд какого-либо из морских обитателей — длинные перья тропической птицы, которые так высоко ценятся полинезийскими вождями, или багряный зоб морского ястреба?
Нет, это могло быть только полотнище флага, и ничто иное!
Так в конце концов решил Бен Брас. И это его убеждение, выраженное на присущем ему своеобразном жаргоне, вселило уверенность в сердца всех. Итак, тот предмет, который виднеется на горизонте, должно быть, скала или риф, или остров, а движущиеся на нем существа — несомненно, мужчины, женщины и дети.
Глава LVII. КОРОЛЬ КАННИБАЛОВЫХ ОСТРОВОВ
Торжественное заявление матроса рассеяло все сомнения. Конечно же, темное пятно там, впереди, — это остров, а вертикальные фигурки на нем — человеческие существа. При этой мысли сильнейшее возбуждение охватило катамаранцев.
Чувство это овладело ими с такой силой, что они больше уже не могли сдерживаться и все разом подняли радостный крик.
Если бы они вняли голосу осторожности, то не стали бы столь бурно выражать ликование. Правда, на острове не было разбойничьей шайки — жертв крушения «Пандоры». Зато там могли оказаться другие, столь же злобные и кровожадные дикари.
Кто мог поручиться, что там не живут людоеды?
Может показаться странным, что мысль эта мелькнула в уме у наших скитальцев. Однако именно об этом сразу подумали все они, и в первую очередь сам Бен Брас.
Жизненный опыт матроса не только не опроверг того, что он слышал в детстве о племенах, пожирающих людей, — наоборот, этот опыт еще более укрепил его веру в существование людоедов.
Бен Брас бывал на островах Фиджи, где познакомился с их королем Такомбо, прямым наследником династии Хоки-Поки-Вити-Вум, и с другими вельможами этого племени каннибалов. Он видел их огромные котлы для варки человеческого мяса; горшки и сковороды, где оно тушилось; блюда, на которых оно подавалось на стол; ножи, которыми обычно его резали; кладовые, набитые человечиной и насквозь пропитанные человеческой кровью. Более того, матрос был очевидцем одного грандиозного пиршества, где подавались тела убитых мужчин и женщин: и жареные, и вареные. В угощении принимали участие сотни придворных Такомбо. И рядом с ними сидел, взирая нa этот омерзительный церемониал, с внешне невозмутимым и довольным видом сам капитан нашего матроса, капитан британского фрегата,-да, коммодор британской эскадры, который имел в своем распоряжении столько пушек, что мог стереть с лица земли весь остров Вити-Bay!
Нелегко понять образ действий этого англичанина, которого звали чуть ли не «его сиятельство». Единственное объяснение, которое здесь напрашивается, следующее: его ограниченный ум находился в плену у нелепой, но — увы! — нередко слишком удобной теории международного невмешательства — самого опасного бюрократизма, который когда-либо сковывал щепетильную совесть глупца в чиновничьем мундире.
Далеко не так действовал Уилкс, этот янки-командир, к которому мы так любим придираться. Он также посетил остров людоедов Вити-Вау. Но во время пребывания на острове Уилкс навел на него свои сорокафунтовые пушки и задал такой урок и королю и его подданным, что они если и не отреклись от своего противоестественного национального обычая, то уж, во всяком случае, закаялись справлять его и по сей день.
В самом деле, хорошенькое невмешательство! Международная деликатность по отношению к племени кровожадных дикарей! Нация людоедов — поистине, разве это нация? Тогда почему не признать национальное право за любой шайкой разбойников, которой посчастливилось завоевать себе независимое существование? Увы! Мир полон необоснованных претензий, отравлен ядом политического лицемерия.
Конечно, сам Бен Брас так не рассуждал — за него это делает его биограф. Бен мыслил узко и практически: он твердо верил в существование людоедов. И пока плот, с которым он, помимо воли, связал свою судьбу, шел к таинственному острову, матрос не переставал страшиться его обитателей.
Поэтому он хотел подойти к берегу со всевозможными предосторожностями. Но только он собрался посоветовать это своим спутникам, как все его благие намерения рухнули. Снежок издал радостный крик «ура», ему вторил Вильям, и к общему хору присоединился полудетский голосок малютки Лали.
Предостережение матроса запоздало, хотя это, может быть, и было необходимо для безопасности команды «Катамарана». Неосторожный возглас возымел совершенно неожиданный эффект: произошло нечто такое, что изменило весь ход мыслей не только у Бена Браса, но и у его спутников.
Шумный хор голосов нарушил спокойствие океана и вызвал внезапную перемену во всей картине острова, или, вернее, во внешнем виде его обитателей. Если это были человеческие существа, то они принадлежали к странной, очень странной расе: у них имелись крылья! Как же иначе они могли бы, заслышав крики с «Катамарана», оторваться от твердой земли и все как один взлететь высоко в воздух?
Впрочем, катамаранцам не приходилось долго ломать себе голову. Если еще можно сомневаться, что перед ними остров, то его обитатели уже перестали быть загадкой.
— Да это птицы!-вскричал негр.-Только и всего!
— Правильно, Снежок! — согласился матрос.
— Ну да, самые настоящие птицы! Что ж, тем лучше! Так оно и есть. Кое-кого я даже узнаю. Тут и фрегаты, и глупыши, и много других. А вот и выводок буревестников, сдается мне… Да тут есть всякие — и большие и малые!..
Больше не стоило строить догадок о том, что за существа населяют остров. Загадочные фигурки, которые ввели в заблуждение команду «Катамарана», оказались, правда, двуногими, но отнюдь не людьми и даже не земными обитателямв. То были «жители воздуха». Когда их спугнули странные крики, которые донеслись до них впервые, они бросились искать спасения в родной стихии, где можно было не страшиться преследований врагов на земле и в воде.
Глава LVIII. ЭТО КИТ!
Отлет птиц разрушил предположения катамаранцев, но все же не поколебал их до конца. Остров оставался на месте, перед глазами у всех, правда совершенно пустынный, покинутый обитателями. Достаточно было одного возгласа, чтобы внезапно началось массовое переселение.
Над островом по-прежнему развевался флаг. Но на берегу, как видно, не было ни одного существа, которое с гордостью салютовало бы этому одинокому знамени.
Да, здесь не ступала нога человека. Разве иначе птицы прожили бы так долго, словно в заповеднике, что в конце концов их испугал самый звук человеческого голоса?
А если на острове никого нет, значит, отпадает всякая необходимость в дальнейших предосторожностях, следует только присматривать за плотом. И, придя к решению высадиться на берег необитаемого острова, матрос и Снежок вместе с Вильямом усердно взялись за весла, чтобы поскорее причалить.
Подгоняемый бризом и усилиями гребцов, «Катамаран» понесся по воде с большой быстротой.
Не прошло и нескольких минут, как «Катамаран» уже очутился в каких-нибудь ста саженях от таинственного острова и, скользя по волнам, все более приближался к нему.
Остров был уже близко. Утренний туман рассеялся в лучах восходящего солнца, и перед катамаранцами яснее вставала загадочная земля там, впереди. Бен Брас, бросив весло, еще раз обернулся, чтобы заново разглядеть ее.
— Ну и земля! — воскликнул он с первого же взгляда. — Как же, хорошенький остров, держи карман шире! Разрази меня гром, если это остров!.. Какая же тут земля -ни клочка ее нет! Так, что-то вроде скалы. Да нет, не скала, скорей на кита смахивает!.. Ну да, кит, очень похоже!
— Очень, очень похоже! — откликнулся Снежок, далеко не в восторге от того, что обнаружилось такое сходство.
— Да это и есть кит! — во всеуслышание заявил матрос уверенным тоном. — Самый настоящий… Ну да, — продолжал он, как бы осененный внезапной догадкой, — теперь-то все ясно. Это большой кашалот. Удивляюсь, как это не пришло мне в голову раньше. Его убили с какого-нибудь китобойца, вон оно что! Видите, флаг торчит на спине? Они и поставили веху. Это чтобы легче было найти тушу, как только возвратятся сюда… Китобои вернутся обязательно, вся надежда на это.
Кончив свои объяснения, Бен выпрямился, взобрался на самое высокое место на «Катамаране» и, не удостаивая кита больше взглядом, стал жадными глазами обозревать море вокруг.
Всем сразу стало понятно, с какой целью он снова принялся за разведку, — его окрыляла надежда.
— Кит наверняка был убит, — рассуждал матрос. — Ну, а где же тогда китобои?
Добрых десять минут обозревал он океан, пока не обследовал все кругом.
Сначала взгляд его горел надеждой и уверенностью, но мало-помалу на лицо матроса снова легла тень, и это настроение немедленно передалось его спутникам.
Насколько охватывал глаз, на море не видно было паруса.
Ни одно пятнышко не омрачило сияющую морскую даль.
С глубоко разочарованным видом «капитан» «Катамарана» покинул свой наблюдательный пост и снова обернулся к мертвому кашалоту. Теперь их отделяло всего около ста саженей; и расстояние это уменьшалось — плот под парусом подходил все ближе.
Оптический обман рассеялся вместе с туманом, непомерно увеличивавшим и искажавшем очертания предметов.
Уже нельзя было принять тушу кашалота за остров, но она все еще поражала своими громадными размерами. Теперь она скорее походила на большую черную скалу, возвышавшуюся над океаном. Кит имел более двадцати ярдов в длину; а тем, кто смотрел на него сбоку, с плота, он казался еще крупнее.
Через пять минут они подошли, спустили парус и остановили плот. Бен закинул канат на один из грудных плавников, и вот уже «Катамаран» ошвартовался около кашалота, как маленький тендер рядом с огромным военным судном.
Бену Брасу вздумалось взобраться на самую вершину этой горы из китового уса и жира. Как только плот был надежно закреплен, матрос начал свое восхождение.
Но оказалось, что вскарабкаться на китовую тушу не так-то легко.
Да и опасность грозила немалая — очень уж трудно было удержаться на скользкой коже морского великана, сочащейся маслянистой жидкостью, которую, как известно, выделяет кашалот.
Читатель, наверно, подумает, что такому пловцу, как Бен Брас, не страшно даже и поскользнуться: ведь падение в воду с высоты нескольких футов не грозит сколько-нибудь серьезными ушибами. Но если представить себе, что вокруг туши в поисках добычи рыскало множество акул, станет понятно, какая опасность подстерегала в случае падения отважного моряка.
Но не таков был Бен Брас, чтобы спасовать перед какой бы то ни было опасностью. С помощью Снежка он воспользовался одним из грудных плавников кита, к которому был пришвартован плот, и таким образом ему удалось вскарабкаться на спину мертвого чудовища.
Едва только он пристроился на новом месте поудобнее, ему бросили конец каната, и на кашалота взобрался Снежок. Оба моряка пошли к хвосту или, по выражению матроса, на «корму» этого своеобразного «судна».
Здесь, в задней части, возвышалась пирамидальная глыба жира, заметно выдаваясь над хребтом кита. Это был ложный, или жировой, спинной плавник, какой обычно имеется у кашалотов.
Взобравшись на эту выпуклость, моряки сделали привал. То была самая высокая точка на туловище кита; там развевался флаг на тонком древке. Они встали рядом, пристально всматриваясь в залитую солнцем, сверкающую морскую даль.
Глава LIХ. НА КИТОВОЙ ТУШЕ
Цель их совместной разведки была все та же, что и ранее. Вот они стоят на туше убитого кита. А где те, кто его загарпунили?
Тщательно обследовав горизонт, матрос вернулся к осмотру морского гиганта и обнаружил здесь некоторые ранее не замеченные предметы. Высоко поднятый флаг, известный среди китоловов под названием «веха», оказался не единственным свидетельством того, какой смертью погиб кашалот.
В боку у него торчали два больших гарпуна. Железное острие каждого глубоко вонзилось в жировой пласт животного. Из кожи выступали массивные деревянные рукояти; от них шли в воду лини с привязанными на концах толстыми колодами, которые держались на поверхности воды, как поплавки.
Бен сразу же признал в них буи, какие имеются в снаряжении каждого китобойного судна. Они были ему хорошо известны, и он умел ими пользоваться. В былые времена, прежде чем стать матросом военного флота, он работал гарпунером и знал толк во всем, что связано с профессией китобоя.
— Да, — заключил он, узнав орудия своего прежнего ремесла, — точь-в-точь, как я сказал. В эти воды заходил китобоец и охотился на кашалота… А впрочем, пожалуй, тут я и промахнулся, — заметил он, задумавшись на минутку. — Почем знать, может, здесь и не было никакого судна. Что-то больно не по душе мне эти буи.
— Буи-то? — переспросил Снежок. — Вот эти колоды, что держатся на воде?.. Чем же они вам не нравятся, масса Брас?
— Да если бы не они, я знал бы наверняка, что здесь побывало судно.
— А то как же? Обязательно! — утверждал Снежок. — Иначе откуда бы взялись и флаг и гарпуны?
— Эх! — вздохнул матрос. — Да они могли сюда попасть, хотя бы гарпунеров здесь и близко не было. Ничего-то ты, брат, не смыслишь в том, как ловят китов!
Такая речь привела негра в замешательство.
— Видишь ли, друг, — продолжал матрос, — буи здесь, потому что китиха еще не издохла, когда уходили вельботы. (Бывший китолов, как принято среди его прежних товарищей, говорил о китах всегда в женском роде.) Да, наверно, она была еще жива, — снова продолжал он. — Для того ей и привязали буи, чтобы далеко заплыть не могла. Там, видно, проходило целое стадо кашалотов, а потому матросам с китобойца не стоило время терять, возясь с раненой. Вот они и запустили в нее парочку гарпунов с буями, а в спину ей воткнули веху. Сначала, как я увидел все это, то думал совсем по-другому. Смотри, флаг торчит почти что прямо. А ну-ка, смекни, каким манером китобои могли всадить его так метко с вельбота? Опять-таки, у кого бы хватило духу, пока китиха не издохла, взобраться сюда да поставить флаг?..
— Ваша правда, — прервал Снежок.
— Да нет,-возразил матрос,-то-то и есть, что неправда… Поначалу я и сам так подумывал, а теперь вижу, что маху дал, вот как ты сейчас, Снежок. Погляди: древко от флага на спине у китихи не прямо торчит, а будто немножко накренилось в одну сторону. Это потому, что китиха, издыхая, чуть-чуть на бок повернулась. Что ж, разве трудно хорошему гарпунеру, коли он мастер своего дела, всадить флаг с вельбота? Так оно и было.
— Пусть так, — согласился Снежок. — Какая разница? Кита-то все равно убили.
— Разница большая. В этом все дело.
— Не пойму что-то, масса Брас.
— Сам подумай! Если бы в ту пору, как китиху отравляли на тот свет, за ней охотились с вельботов, — ну, это другое дело! Тогда и китобоец был здесь, покуда шла работа. Значит, он и сейчас где-нибудь неподалеку.
— Что ж, верно, так оно и есть.
— Эх, Снежок, кто теперь знает, где наши китобои? Китиха и с буями могла не одну милю проплыть с того места, где ее загарпунили. Знавал я таких, что по двадцать узлов делали, покуда не окачуривались… А эта старуха была здоровенная — таких крупных я и не видывал. Прежде чем подохнуть, и она, верно, так же далеко заплыла, уж никак не ближе… А тогда вряд ли китобоец нагонит ее, да в нас вместе с ней.
Матрос замолчал и снова вперил взгляд в море. Еще раз он тщательно, испытующе осмотрел горизонт. Потом все с тем же разочарованным видом вновь принялся разглядывать тушу кита.
Глава LX. ДИКОВИННАЯ КУХНЯ
Весь день матрос и бывший кок «Пандоры» вели наблюдение с «вышки» на мертвом кашалоте.
Впрочем, они оставались здесь не только ради этого. И на мачте «Катамарана» можно было бы устроить такой же наблюдательный пункт.
Но многое заставляло их держаться около туши, вместо того чтобы продолжать путь на запад. Больше всего они надеялись на возвращение китобоев, которые убили кашалота, — ведь, наверно, те не бросят такую ценную добычу.
Кроме того, катамаранцы чувствовали себя как-то спокойнее около гиганта-словно стояли на якоре у берегов настоящего острова. Отчасти и это побуждало их продлить стоянку.
Были у них и другие соображения. В общем, им хотелось оставаться здесь на причале еще некоторое время.
В долгие часы бодрствования они внимательно изучали ближайшую обстановку; предметом обсуждения сделалась и китовая туша. Посовещавшись, катамаранцы приняли решение — не покидать морского великана, покуда не удастся хотя бы отчасти использовать на будущее его останки.
Бывший китолов знал: под черной кожей этого кашалота, по которой они так бесстрашно ходят уже двое суток, имеются ценные вещества, которые могли бы им пригодиться, для того чтобы создать известный комфорт на «Катамаране».
Прежде всего толстые пласты жира, который можно выварить или вытопить. Такой крупный кит, как этот, может дать самое малое бочонков сто.
Впрочем, это меньше всего их интересовало. Чтобы вытапливать жир для торговых целей, надо иметь котлы, бочки для его хранения, судно для перевозки, а у них ничего этого не было.
Зато Бен знал, что в черепе кашалота имеются отложения чистого спермацета, который и без всякой обработки может им пригодиться,-об этом они уж позаботятся. Добыть его можно простейшим способом: стоит только вскрыть спермацетовый «мешок», находящийся в огромном черепе кашалота. Там обнаружится выстланная тонкой клетчаткой полость, в которой содержится не менее десяти-двенадцати больших бочек чистого спермацета.
Да им вовсе и не нужно так много. Достаточно двух — трех бочек, чтобы осуществить то, что надумали Снежок с матросом.
Немало натерпелись они без топлива: не так даже важно погреться, как сварить себе пищу. Наконец-то их лишения кончились. Теперь они смогут сделать запас спермацета на много дней: в «мешке» у кашалота его сколько угодно. На плоту же имеется шесть бочек, из них пять пустых. Если наполнить жиром только некоторые из них, то плот нисколько не пострадает: не уменьшится ни его плавучесть, ни мореходные качества.
И Снежок и Бен Брас видели, с каким отвращением Лали ест сырую пищу. Только жестокий голод мог заставить ее проглотить свою порцию. Оба они страдали от этого-им так хотелось раздобыть для нее что-нибудь получше, более подходящее для нежного детского организма.
Итак, задолго до того как наши путешественники задумали покинуть китовую тушу — вернее, сразу же, как только они там устроились, — Бен Брас, Снежок, а также взобравшийся на спину чудовища Вильям вскрыли топором большую полость в «мешке» у кита. Затем они опустили туда большой жестяной котелок, оказавшийся в морском сундучке матроса, и извлекли котелок обратно полным жидкого спермацета.
Котелок отнесли на «Катамаран», и путешественники тотчас же принялись разводить огонь.
Котелок был живо переоборудован в светильню. Рассучив несколько кусков просмоленного каната, наши изобретатели погрузили их в китовый жир — и светильня готова. Оставалось только зажечь фитиль.
Но недаром Бен Брас курил свою трубку без малого тридцать лет: как же ему было не оказаться на должной высоте? В том сундучке, откуда извлекли котелок, нашлись и необходимые принадлежности, чтобы высечь огонь, — трут, кремень, кресало. В водонепроницаемом отделении матросского сундучка трут сохранился совершенно сухим, так что светильню можно было зажечь тотчас же.
И действительно, вскоре огонь весело запылал, и язычки уже лизали края котелка. Над пламенем наши скитальцы успешно зажарили большой ломоть вяленой рыбы.
Сегодня все пообедали на славу: это была самая роскошная трапеза с того момента, как они были вынуждены спасаться с палубы горящей «Пандоры».
Глава LXI. СБОРИЩЕ АКУЛ
Спермацет все еще ярко пылал, фитиль не выгорел до конца — и Снежку не хотелось прекращать стряпню. Он задумал зажарить побольше рыбы на ужин. В отличие от своих собратьев по профессии, бывший кок не любил, чтобы драгоценное топливо уходило зря. Как только эта мысль пришла ему на ум, он достал еще ломоть акульего мяса и, как прежде, подвесил его над огнем.
Глядя на его хлопоты, Бен Брас также загорелся блестящей идеей. Ведь вот стряпает же кок ужин заблаговременно. А что, если приготовить еды и на весь следующий день — словом, если заготовить впрок всю сырую провизию, какая только найдется под рукой? Тогда им огонь вообще не потребуется. А кроме того, жареная или хорошенько прокопченная в огне и дыме провизия куда лучше сохранится, чем сырая. В самом деле, любая рыба, консервированная таким образом — будь то сельдь, морская щука, треска, скумбрия, — может лежать месяцами и не испортится. Что и говорить, мысль превосходная! Как только Бен Брас поделился ею с остальными, тут же было решено привести ее в исполнение.
Нечего было опасаться нехватки топлива. Бен утверждал, что в «мешке» очень крупного кашалота-как раз такого, как их кит, — нередко содержится до пятисот галлонов жидкого спермацета. Кроме того, к их услугам было огромное количество китового мяса и целые горы жира. Да еще немало и других горючих веществ имеется в туше кашалота.
Словом, нежданно-негаданно команда «Катамарана» получила в свое распоряжение такой громадный запас топлива, что его хватило бы на целый год поддерживать пылающий костер.
А раз горючего имелось в изобилии, можно было поставить стряпню на широкую ногу. Беда только в том, что провизии было маловато. Их серьезно беспокоила мысль о том, что в «кладовой» припасов осталось совсем мало.
Пока Бен Брас и Снежок стояли и раздумывали, тихо жалуясь друг другу, как помочь горю, в уме у моряка мелькнула новая мысль.
— Гляди-ка, друг! — воскликнул он. — Да ведь нам ничего не стоит доверху набить кладовку! Здесь столько мяса, что тебе его не перестряпать до седых волос!
С этими словами матрос указал на воду.
Все поняли, что он имел в виду. Десятки синих и белых акул сновали вокруг туши кашалота со своей свитой «лоцманов» и прилипал. Море буквально кишело ими. На сотни саженей в окружности вряд ли можно было найти клочок морского пространства в пять квадратных метров, где не торчали бы из воды острия их жестких, зловеще выглядевших плавников.
Все эти морские хищники собрались у мертвой туши кашалота, вопреки их обычным повадкам. Они отнюдь не готовились к нападению: особое устройство пасти не позволяет акуле пожирать тушу большого кита. Несомненно, они следовали по пятам за охотниками в тот момент, когда кашалота загарпунили, и теперь оставались около забитого кита; инстинкт подсказывал им, что китобои, возвратясь, займутся разделкой, бросая им время от времени порядочные куски мяса.
— Эге! — воскликнул матрос. — Они как будто изрядно проголодались и накинутся на любую приманку. Стоит только захотеть — и мы наловим их, сколько душе угодно!
— А крючки для акул, масса Брас? Где мы их достанем на «Катамаране»?
— Да ты, братец, не беспокойся,-уверенно сказал матрос. — Ну и черт с ними, с крючками! Взгляни, вон там есть нечто поважнее твоих крючков. Акулы сейчас смирнехонькие, словно черепаха, если перевернешь ее на спину. Они всегда такие, как соберутся около мертвого кашалота… Видишь вон те штуки, что торчат в боку у кита? Да если я с ними не добуду парочку, другую акул, скажешь, что я в жизнь свою гарпуна в руки не брал! Бросай свою кухню, Снежок, живо! Иди помогай! Вот поймаем и разделаем несколько акул, тогда сможешь опять за дело приниматься. Закатим такую стряпню, что чертям тошно станет! А сейчас скорей, дружище, поторапливайся!
С этими словами Бен стал карабкаться на тушу.
Снежок понял, что его старый приятель задумал разумное дело. Он отложил кусок рыбы, который держал над огнем, и последовал за матросом на крутой бок кашалота.
Глава LXII. ОПАСНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Бен захватил топор и, подойдя к одному из гарпунов, все еще торчащих в туловище кита, стал вырезать его.
В несколько минут он вырубил целую полость вокруг гарпуна и все углублял ее, до тех пор пока почти не обнажилось зазубренное острие.
Тут Снежок в нетерпении ухватился за крепкую деревянную рукоять и, дернув со всей своей геркулесовой силой, вырвал гарпун, застрявший в мягком жировом пласте.
К несчастью, стремясь высвободить гарпун, Снежок не рассчитал своих усилий.
После нескольких безуспешных попыток неожиданно для него гарпун легко поддался. Размахнувшись слишком сильно, негр потерял равновесие и поскользнулся. Осклизлая кожа кашалота словно убежала у него из-под ног, и он покатился вниз с таким шумом, будто шлепнулся на подтаявший лед.
Как ни досадна казалась неудача, все-таки это было еще не самое худшее. Разве падение так напугало негра, что он в страшнейшей тревоге громко закричал? И недаром — ему грозила сейчас куда более страшная опасность.
Туша лежала так, что вокруг гарпуна на боку у кита оставалось большое пространство — крутой наклон, заканчивающийся обрывом прямо к воде. Огромный бок кашалота, сочащийся маслянистой жидкостью, лоснился, как зеркало. С этой кручи и упал Снежок.
Падение было так стремительно, что негр не мог ни остаться лежать там, где поскользнулся, ни встать на ноги: он по инерции покатился в воду.
Силы небесные, что-то будет с ним теперь?! Там, внизу, уже поджидали десятки акул: разинув голодные пасти, они глядели на него горящими алчностью глазами. Заметив, что на кита взобрались два человека и один из них работает топором, все акулы бросились на эту сторону, решив, что начинается разделка туши.
Ничтожная случайность спасла Снежка от страшной участи — иначе чудовища сожрали бы его живьем. Падая, он крепко ухватился за гарпун; выпусти он его из рук — пришлось бы негру проститься с жизнью.
К счастью, у него достало присутствия духа крепко цепляться за гарпун; а возможно, он проделал это машинально. Как бы то ни было — гарпун он удержал. Посчастливилось ему также, что катился он не в сторону, где плавали буи, а в противоположную.
И то и другое оказалось для него спасением.
На полпути к воде падение внезапно задержалось, или, вернее, замедлилось, опять-таки только благодаря счастливой случайности: натянулся линь, привязанный к рукоятке гарпуна. Скатываясь, негр размотал канат с одной стороны до самого конца; другой конец оставался прикрепленным к бую, плававшему на воде по другую сторону китовой туши.
Но как ни велика была тяжесть буя, который, волочась по воде, служил противовесом падавшему негру, все же ее было недостаточно, чтобы удержать могучее тело Снежка. Правда, он стал катиться медленнее, но в конце концов все-таки упал бы в море и тотчас же очутился бы в желудках у акул. Но тут к нему подоспел на выручку Бен Брас. И как раз вовремя!
В ту минуту, когда Снежок уже почти касался пятками воды — до нее оставалось не более шести дюймов, — матрос успел ухватиться за линь и остановить падение.
Но только это и смог Бен Брас! Вскоре обнаружилось, что он не может втащить негра наверх. Сил его хватило ровно настолько, чтобы с помощью тяжелого буя удерживать кока на весу, когда удалось приостановить падение. Снежок повис между жизнью и смертью, цепляясь за скользкую кожу кашалота буквально зубами и ногтями.
Негр понимал, что положение его опасное, более того: почти безнадежное! Снизу ясно доносился шум — это плавали в воде акулы. Негр тревожно глянул туда-и замер в испуге: он увидел острия черных треугольных плавников и огромный светящиеся глаза, зловеще вращающиеся в глубоких глазницах. При этом зрелище дрогнуло бы самое стойкое сердце. И Снежок ужаснулся до глубины души.
— Держите, масса Бен! — невольно вскричал он. — Держите крепче, бога ради! Ни чуточки ниже, не то проклятые бестии слопают меня с потрохами!.. Ради всех святых, покрепче!
Но излишня была эта страстная мольба. И без того Бен напрягал все свои силы, удерживая канат. Сильнее тянуть он не мог: не смел даже переменить позу, чуть сдвинуть руку. Малейшее движение грозило гибелью его чернокожему другу.
Стоило только линю ослабнуть, опуститься чуть ниже — и Снежок останется безногим калекой; ведь и так уже его пятки болтаются в нескольких дюймах от поверхности воды, чуть ли не у самых акульих морд.
Быть может, за весь свой богатый приключениями жизненный путь негр не висел так низко над бездной. Достаточно ничтожной случайности, чтобы нарушить равновесие,-и он неминуемо попадет в лапы смерти!
Вряд ли можно усомниться в том, чем кончилось бы это трагическое происшествие, если бы матрос и кок были предоставлены только самим себе. С каждым мгновением истощались силы матроса, а тело негра становилось все тяжелее: слабея, он уже с трудом цеплялся за скользкую кожу кита.
Помощи, казалось, ждать было неоткуда — конец очевиден… Снежку придется, выражаясь фигурально, «отправиться к праотцам».
Но час негра еще не пробил. И это он понял, когда вдруг чьи-то юношеские, но сильные руки ухватились рядом с ним за линь. То были руки «малыша Вильма».
С самого момента, когда Снежок поскользнулся и упал, юнга понял всю опасность, грозившую его другу, и, стремительно вскарабкавшись наверх по плавнику кита, поспешил на помощь Бену.
Схватись он за линь секундой позже — все было бы кончено.
Но он подоспел вовремя — висевший над бездной Снежок был спасен. Матрос и Вильям общими усилиями медленно, но верно тащили негра вверх по скользкому наклону и опустили на широкую горизонтальную «площадку» у самой вершины этой горы из костей и жира.
Глава LXIII. УМЕЛО БРОШЕННЫЙ ГАРПУН
Прошло некоторое время, пока Снежок перевел дух и к нему вернулось обычное спокойствие. Матрос также совершенно задохнулся. И они долго не могли приступить к выполнению плана, который привел их на спину кита.
Едва Снежок оправился настолько, что смог заговорить, он горячо поблагодарил сначала Бена, который спас его от гибели, более страшной, чем смерть в волнах океана, а потом и Вильяма.
Но Бен глядел не на старого друга, спасенного от смерти, а на молодого, который помог избавить Снежка от нее.
Он смотрел на юношу глазами, в которых читалась живейшая радость.
Проворство и отвага, которые обнаружил его любимец во время этого происшествия, несказанно радовали Бена Браса.
Пожалуй, не один сверстник Вильяма или даже постарше его, вместо того чтобы, подобно нашему юнге, поспешить на помощь, остался бы на плоту, остолбенев от испуга, или же, в лучшем случае, из сочувствия поднял бы бесполезный крик, разразился воплями… Так думал Бен Брас.
Опасаясь испортить Вильяма высказанной вслух похвалой, Бен промолчал.
Но по выражению его взгляда, обращенного на юношу, видно было, что сердце честного моряка полно гордости и любви к юнге, к которому он давно уже питал почти отеческую привязанность.
Коротко поздравив друг друга с благополучным избавлением, как это обычно делается после пережитой опасности, все трое снова принялись за столь неожиданно прерванные занятия.
Вильям заменил Снежка, занимавшегося нехитрой стряпней, которую тому пришлось внезапно оставить по приказу «капитана».
Юнга вернулся на плот, будто бы заняться поджариванием рыбы. На самом деле ему больше всего хотелось успокоить Лали, которая все еще тревожилась, не зная толком, чем кончилось происшествие.
Бен отдышался и, как только пришел в себя, сразу же принялся за осуществление той задачи, ради которой вскарабкался на спину кашалота.
Взяв гарпун у негра, все еще крепко державшего его, словно страшась выпустить из рук, матрос стал втаскивать буй наверх.
С помощью Снежка ему вскоре удалось извлечь буй из воды и поднять на горизонтальную «площадку», где они находились.
Колода пока не требовалась — нужен был только линь, поэтому его отвязали и оставили буй лежать.
Вооружившись гарпуном, бывший китолов встал на свой наблюдательный пост; но на этот раз он искал уже не землю, а обозревал море вокруг.
Целое сборище акул расположилось около мертвого кита. Особенно много их было там, где только что Снежок чуть не угодил им в пасть.
Некоторые, явно разочаровавшись, бросились врассыпную. Но большинство осталось на месте, все еще дожидаясь, не удастся ли вернуть роскошное пиршество, которое только поманило их.
Бен намеревался загарпунить с полдюжины этих безобразных морских чудищ, чтобы их мясом пополнить запасы на «Катамаране». Как ни омерзительно выглядят эти твари и какое отвращение они нам ни внушают, однако мясо многих из них превосходно, особенно некоторые лакомые кусочки. Оно могло бы украсить стол любого гастронома, не говоря уже об изголодавшихся скитальцах.
Убить нескольких акул, тех самых, которые еще так недавно едва не проглотили Снежка, большой трудности не представляло. Для этого гарпунеру нужно было, чтобы они подплыли поближе. Но кожа кита была слишком скользкой, и матрос не отважился спуститься по этой опасной крутизне. Поэтому он решил попытать счастья в другом месте.
Дальше, по направлению к хвосту кашалота, спуск постепенно становился менее крутым и кончался отлого у самой воды. Там, почти на поверхности моря, лежали две большие, едва прикрытые водой хвостовые лопасти, раскинувшись на много ярдов в разные стороны.
Около хвоста кашалота носились несколько акул. Если посчастливится и они подплывут поближе, тогда можно будет бросить гарпун. Если же нет, гарпунер сумеет их приманить и пустить в ход свое оружие.
Бен велел Снежку принести несколько кусков жира, вырезанных из туши кита вместе с гарпуном, а сам пошел к хвосту. Он то и дело останавливался и острием гарпуна протыкал множество отверстий в ноздреватой коже кита, чтобы и он сам и его спутник, идущий вслед, получили более надежную точку опоры.
Облюбовав себе место у самой развилины хвостового плавника, он особенно тщательно проделал еще три отверстия. Наконец, приготовив все как следует, матрос встал и, нацелив гарпун, стал поджидать акул. Те как будто сначала не решались. Но бывший китобой знал, как этому помочь,-стоит только швырнуть вводу кусок жира, который Снежок держит в руках, и, едва раздастся всплеск, десятки акул, широко разинув пасти, ринутся схватить его.
Все пошло, как по-писаному.
Едва только бросили кусок в море, как можно ближе к китовой туше, — не менее двадцати акул накинулось на угощение. Но — увы! — не все вернулись обратно. Одной из них, пронзенной гарпуном Бена Браса, пришлось проститься с родной стихией. Ее извлекли из воды и втащили по скользкому наклону на самый верх кашалотовой туши.
Там, как акула ни билась, как отчаянно ни рассекала воздух страшными ударами задних плавников, негр живо расправился с ней топором, призвав на помощь всю свою силу и ловкость.
Еще одну акулу «подцепили» и отправили на тот свет тем же способом; за ней другую, третью… и так до тех пор, пока Бен Брас не нашел, что запасов акульего мяса на «Катамаране» хватит на самое длительное путешествие.
Что бы ни случилось, теперь они надолго обеспечены пищей, так же как и водой.
Глава LXIV. ИЗОБИЛЬНЫЕ ВОДЫ
Лучшие куски акульего мяса, снятые с костей и нарезанные тоненькими ломтиками, коптились и жарились на спермацетовой светильне.
В «мешке» у кашалота горючего было столько, что при желании можно было бы зажарить всех акул на десять миль в окрестности; а ведь их там плавала не одна сотня. Действительно, эта зона океана, где был найден мертвый кашалот, хоть и очень удалена от суши, тем не менее изобилует фауной во все времена года. Иногда на целые мили кругом море кишит рыбами разных видов, а воздух полон птицами. В этих водах встречаются большие стада кашалотов. Они греются на солнышке, время от времени выпуская из своих дыхал фонтаны воды и пара, или медленно плывут вперед, изредка неуклюже кувыркаясь. На их месте появляются стаи дельфинов, альбакоров, тунцов и других обитателей морских глубин — все они в погоне за своей излюбленной добычей. Тут же, хотя в меньшем количестве, охотятся и акула и меч-рыба, сопровождаемые своими «лоцманами» и прилипалами, морских чудищ привлекает обилие тех тварей, которыми они питаются. На солнце сверкают стайки летучих рыбок, в волнах плещутся, всегда настороже, тунцы, а над ними вверху, в небе, тучами носятся, буквально затемняя солнечный свет, пернатые хищники: чайки, глупыши всевозможного оперения, тропические птицы, фрегаты, альбатросы и десятки других птичьих пород, еще мало известных и не описанных натуралистами.
Правда, эти большие океанские просторы не всюду заселены так густо: иногда на обширных пространствах редко-редко попадется какая-нибудь птица или рыба. Судно идет день за днем и ночь за ночью, не встречая на своем пути ни единого живого существа. Можно проплыть сотни миль, и глаз не порадуется жизни ни в воде, ни в воздухе.
Это настоящие пустыни океана; так же как и на материке, пустыни эти кажутся не только необитаемыми, но и вообще неприспособленными для жизни.
Чем же объясняется такая разница, если море, по-видимому, везде одинаково?
Те водные пространства, где жизнь бьет ключом, отличаются различной глубиной: иной раз это всего несколько морских саженей, иногда же бездонная пучина. Подлинное объяснение иное. Ключ к решению этой задачи кроется не в глубине океана, а в направлении морских течений.
Всякому известно, что океаны пересекаются течениями; иногда они тянутся на сотни миль в ширину, а иной раз суживаются до нескольких узлов. Эти океанские течения постоянны, хотя определить их точные границы нелегко. Причиной их служат вовсе не временные штормы, а ветры, дующие постоянно в одном и том же направлении. Таковы пассаты в
Атлантическом и Тихом океанах, муссоны в Индийском океане, памперосы в Южной Америке и норды в Мексиканском заливе.
Есть и другая причина, оказывающая, быть может, гораздо более сильное влияние, чем ветры (впрочем, она обычно меньше принимается в расчет): это — вращение Земли вокруг своей оси. Несомненно, именно поэтому пассаты дуют на запад; здесь сказываются центробежные силы земной атмосферы. Если это было бы не так и ветры дули бы на север и на юг, то они сталкивались бы на экваторе.
Но я вовсе не собираюсь писать диссертацию на тему о ветрах или океанских течениях — я ведь не ученый. И все-таки мне известно, что в этой области господствуют величайшие заблуждения, точно так же, как по вопросу о приливах и отливах. Ведь метеорологи до сих пор не уделяли должного внимания вращению нашей планеты, которое является истинной и главной причиной этих явлений.
Я коснулся этой темы не потому, что наша книжка специально посвящена океану. Дело в том, что морские течения играют большую роль в этой книге. И на ее страницах я пытаюсь объяснить загадочное явление: почему некоторые зоны океана так богаты жизнью, в то время как другие мертвы и пустынны. Причиной тому морские течения. Там, где сталкиваются встречные течения, как бывает нередко, они обычно приносят с собой множество органических веществ, растительных и животных остатков, которые либо задерживаются, либо вовлекаются в большие океанские водовороты. Это — морские водоросли с дальних берегов, выброшенные бурей и затерявшиеся и океане, птицы, упавшие в море мертвыми во время перелета, или же их помет, плавающий на поверхности воды; рыбы, погибшие от мора, естественной или насильственной смертью — ведь и «рыбье племя» подвержено общему закону природы, закону упадка и гибели,-все эти органические вещества носятся по воле течений, скопляются на нейтральной «почве» и служат пищей мириадам живых существ, многие из которых едва ли стоят на более высокой ступени эволюции, чем те, чьи останки они поглощают.
На этих водных пространствах кишат в несметном количестве плавающие в верхних слоях воды беспозвоночные улитки — янтипа, атланта; разнообразные крылоногие моллюски, сифонофоны, которых называют парусными медузами, головоногие моллюски, а также мириады медуз.
Таковы эти зоны океана, которые моряки зовут «изобильные воды». Здесь находят излюбленный приют и киты со своими неизменными спутниками, служащими им пищей, и акулы, и дельфины, и меч-рыбы, и летучие рыбки, и прочие существа, живущие в океане. А высоко над морем, в воздухе, парит множество пернатых — это либо враги обитателей морских глубин, либо их помощники, образующие вместе с ними единую цепь взаимного уничтожения.
Глава LXV. КИТ В ОГНЕ
Быть может, нас также слишком «отнесло вдаль» морскими течениями. Прекратим это затянувшееся отступление и возвратимся к нашим скитальцам, затерянным в океане. Мы оставили их, когда они готовились жарить акул — да не отдельными кусками, а целыми тушами, как если бы собирались угостить рыбным обедом команду большого фрегата.
Как известно, топлива было достаточно. Но без фитилей нелегко разжечь спермацет и поддерживать огонь. Впрочем, изготовить фитиль не составит затруднений: достаточно старого каната, подобранного среди обломков «Пандоры» и припрятанного на всякий случай. Стоит только расщипать его — и из просмоленных волокон получится отличный фитиль, который долго будет гореть в светильне. Их тревожило другое: не было очага для варки пищи. Маленький жестяной котелок, в котором наши скитальцы готовили накануне свое единственное блюдо, не годится для грандиозного пиршества, затеваемого ими сейчас. В крайнем случае, конечно, можно пустить в ход и его, но тогда потребуется много времени и терпения. А время слишком дорого, чтобы тратить его попусту; что же до терпения, то вряд ли можно ожидать его в подобных условиях.
Конечно, очаг им крайне необходим. Но на «Катамаране» нет ничего, что могло бы его заменить. А если развести на плоту такой огонь, какой им хочется, без настоящего очага, это далеко небезопасно, и все может окончиться большим пожаром.
Эта мысль не приходила им на ум до тех пор, пока они не наготовили для обжарки бифштексов из акульего мяса.
Теперь они серьезно призадумались, но выхода из положения, по-видимому, не находилось.
Что делать, как соорудить кухонную плиту?
Снежок вздохнул при мысли о своем камбузе с целым арсеналом горшков и сковородок; особенно вспоминался ему громадный медный котел, в котором он, бывало, наваривал целые горы мяса, море разливанное горохового супа.
Но не таков был Снежок, чтобы предаваться праздным сожалениям, по крайней мере, надолго. Правда, приверженцы «науки» и пустые болтуны пытаются утверждать, что его расе присуще отсутствие высокого интеллекта, хотя сами они куда бездарнее представителей этой расы. Снежок же был одарен редкой изобретательностью, особенно во всем, что касалось кухни и кулинарного искусства. Не прошло и десяти минут, как возник вопрос о печи, а негр уже предложил свой план, который мог бы конкурировать с любым из патентов, столь широковещательно разрекламированных торговцами скобяным товаром, но при первой же проверке далеко не оправдывающих ожиданий. Этот план оказался подходящим для обстановки, в которой находился изобретатель, и, по-видимому, в данных условиях это был единственно возможный проект.
Не в пример другим изобретателям, Снежок тотчас же объявил свою идею во всеуслышание.
— А зачем это нам? — воскликнул он, как только его осенила догадка.
— К чему нам котел?
— Да ведь иначе нельзя, Снежок, — отозвался матрос, выжидающе глядя на собеседника.
— Отчего бы не развести огонь здесь?
Беседа происходила на спине у кита, на том месте, где убивали акул и разрубали их на части.
— Здесь? — все еще недоумевая, повторил матрос. — Да что толку разводить огонь, раз у нас все равно нет посуды: ни котла, ни сковороды…
— Да ну ее совсем, эту посуду, обойдемся и без нее! — ответил бывший повар. — Погодите, масса Брас, вот я покажу вам, как смастерить такой котел, что чудо! Туда можно будет собрать весь жир из туши нашего старичины-кашалота, как вы его зовете.
— Ну-ка, друг, расскажи в чем дело.
— Сейчас. Давайте сюда топор, и я вам все покажу.
Бен дал Снежку топор, и негр выполнил свое обещание. Он энергично принялся за работу над тушей и несколькими ударами хорошо отточенного инструмента прорубил в жировом слое большую полость.
— Ну, масса Брас, — воскликнул он, кончив работу и торжествующе, с видом победителя, размахивая топором, — что вы на это скажете?! Вот вам жаровня! Разве не войдет туда весь жир, столько, сколько нам вздумается? Как прикажете рыть яму — шире, глубже, как вам угодно? Хотите — живо сделаю глубокую, как колодец, и широкую, как колея от фургона? Ну что, масса Брас?
— Браво, молодец, Снежок! У тебя, дружище, мозги здорово работают, что там ни толкуй о вашем брате эти горе-философы! Я вот белый, а мне в жизни такая выдумка на ум не взбредет. Лучшего очага нам и не требуется. Живо лей сюда спермацет, бросай паклю и поджигай! И сразу же давай стряпать.
Яма, прорубленная Снежком в кашалотовой туше, тотчас же была наполнена жиром из спермацетового «мешка».
Затем они набросали туда паклю, полученную из рассученного каната.
Сверху, над ямой, путешественники устроили специальное приспособление, напоминающее колодезный журавль. С одной стороны подставили гандшпуг, с другой— весло. Сам «журавль» был сделан из длинной железной стрелы гарпуна, найденного в туше кашалота.
На него, как на вертел, плотно нанизали ломти акульего мяса.
Когда все было налажено, снизу подняли наверх светильню, и фитиль был зажжен.
Просмоленная пакля вспыхнула моментально, словно трут. Вскоре над спиной у кашалота на несколько футов вверх взвилось яркое пламя. Бифштексы аппетитно шипели и румянились над огнем, обещая в недалеком будущем поджариться в самую меру.
Посторонний зритель, наблюдая пламя издали, с моря, и не разобравшись в чем дело, мог бы подумать, что кашалот в огне.
Глава LXVI. БОЛЬШОЙ ПЛОТ
В то время как все птицы и рыбы в океане дивились такому невиданному зрелищу-пылающему костру на спине у кашалота — милях в двадцати отсюда им бы представилась совсем иная картина.
Если сценка, разыгравшаяся на кашалоте, носила скорее комический характер, то здесь происходила подлинная трагедия, трагедия жизни и смерти.
Эстрадой для нее служила площадка, грубо сколоченная из досок и корабельных брусьев,-короче говоря, плот. Действующие лица были мужчины — только мужчины. Правда, чтобы признать их человеческими существами, требовалось известное усилие воображения, да еще знакомство с теми обстоятельствами, которые привели их сюда. Человек посторонний, помня, какими они были ранее, или взглянув на верно изображавшие их портреты, пожалуй, усомнился бы в том, что это люди. Да и как можно было бы его порицать за подобную ошибку!
Если эти странные существа, скорее скелеты, чем живые люди, до некоторой степени еще походили на людей, то по духовному облику они были сущими дьяволами. Был здесь среди них даже и не труп, а голый остов, с которого начисто ободрали мясо. Окровавленные кости с сохранившимися на них кое-где кусочками хряща свидетельствовали, что труп был освежеван совсем недавно. Впрочем, скелет был неполный — некоторых костей не хватало, кое-какие из них валялись тут же рядом, на бревнах, а иные приходилось искать в таких местах, что при одном взгляде волосы вставали дыбом.
Самый плот представлял продолговатую площадку, футов двадцати в длину и пятнадцати в ширину. Он был сколочен из обломков мачт и бревен. Сверху устроен неровный помост из досок, кусков фальшборта, крышек от люков, каютных дверей, сорванных с петель, планок от ящиков с чаем, клеток и прочего корабельного имущества. На плоту стояла огромная бочка и два-три небольших бочонка. По краям привязано было несколько пустых бочонков, служивших поплавками, чтобы плот устойчивее держался на воде. В центре возвышалась одинокая мачта, где небрежно был укреплен большой треугольный парус-не то контрбизань, не то крюйс-брамсель.
У степса
[19] мачты валялось множество разных предметов: весла, гандшпуги, выломанные доски, спутанные обрывки троса, два топора, с полдюжины котелков и чарочек, какие обычно в ходу у моряков, множество начисто обглоданных позвонков акул и… две-три кости совсем иного рода, подобные тем, о которых мы уже упоминали. Их форма и размеры не оставляли места сомнениям: то были берцовые кости человека.
Среди всего этого разнородного хлама находились человек двадцать-тридцать. Одни из них сидели или стояли, другие лежали, растянувшись во весь рост, или бродили, пошатываясь, — то ли под влиянием винных паров, то ли потому, что от слабости на ногах не держались. Отнюдь не качка была виной их странной походки. Океан был совершенно спокойным, и грубо сколоченный плот лежал на воде неподвижно, как колода.
Стоило только посмотреть на подножие мачты, чтобы понять в чем дело: там стоял небольшой бочонок, издававший сильный запах рома.
Эти живые трупы, едва державшиеся на ногах, были пьяны.
Но царило здесь не шумное возбуждение, говорившее о недавних излишествах, а скорее сменивший их нервный упадок сил.
На плоту раздавались не шутливые выкрики захмелевших собутыльников, но бред и хихикание сумасшедших. И не мудрено: ведь некоторые из них обезумели, допившись до белой горячки.
Но бочонок с ромом опустел, и на плоту не осталось больше ни капли дьявольского зелья.
Никто не обращал внимания на сумасшедших. Они свободно шатались повсюду, что-то бессвязно бормоча; их речь, обильно уснащенная проклятиями и богохульствами, изредка прерывалась воплями, взрывами дикого хохота.
Только в тех случаях, когда они нарушали покой кого-нибудь менее «экзальтированного» или когда двое из них случайно зaтeвaли ссору, разыгрывалась дикая сцена, в которой принимали участие все. Кончалось обычно тем, что одного из драчунов сбрасывали в море и заставляли поплавать, покуда ему не удавалось вскарабкаться обратно на утлый плот. Впрочем, сброшенный в море никогда не оставался за бортом. Как бы пьян он ни был, все же инстинкты не настолько отупели в нем, чтобы заставить забыть о самосохранении. В дико блуждавшем взгляде еще теплилась искорка разума, подсказывавшего, что черные треугольники, которые десятками мелькают вокруг плота, стремительно и круто рассекая волны, — это спинные плавники страшных акул. Достаточно было увидеть хотя бы одну из них, чтобы привычный ужас оледенил каждого матроса, даже мертвецки пьяного.
Этот «душ», сопряженный с испугом, как правило, приводил безумствующего в сознание. Во всяком случае, на плоту водворялось спокойствие, до тех пор пока вскоре не затевалась новая, еще более безобразная драка.
* * * *
Так как большой плот, где находился экипаж сгоревшего судна, давно уже скрылся из виду, то читатель мог и позабыть о нем. Однако ни плот, ни его команда не погибли. Уцелели, правда, не все, но большинство еще оставалось в живых, и это были наиболее сильные, энергичные и злобные люди.
Недоставало почти двадцати человек. Мы уже знаем, почему не было капитана и его пяти спутников, бежавших на гичке. Понятно также отсутствие бывшего кока, английского матроса и юнги, а также крошки Лали.
Но среди людей, толпившихся на нескладном плоту, не хватало примерно шести, а может быть, и больше человек. Их отсутствие могло показаться загадочным не посвященному во все подробности этого злополучного рейса. Правда, обглоданный скелет и разбросанные повсюду человеческие кости могли бы порассказать кое-что об исчезнувших, по крайней мере тому, кто знает, до каких крайностей может довести свои жертвы голод.
Пусть же те, кого судьба хранила от подобных испытаний, прислушаются к разговорам на плоту в этот самый момент, когда мы хотим снова продолжать историю экипажа «Пандоры». Наше правдивое повествование объяснит ему, почему из тридцати с лишним матросов, первоначально составлявших команду, на плоту осталось всего двадцать шесть человек да обглоданный скелет.
Глава LXVII. КОМАНДА ЛЮДОЕДОВ
— Ну! — вскричал чернобородый человек, в чьем истощенном облике нелегко было признать некогда тучного бандита с невольничьего корабля, француза Легро. — Пора опять попытать счастья. Черт побери!.. Надо поесть, не то мы умрем!
А что эти люди собираются есть?
На плоту решительно не было ничего съестного, ни кусочка мяса. И так все время, начиная с того дня, как плот отошел от горящего судна. Небольшой ящик с морскими сухарями — вот и все, что матросы впопыхах успели захватить с палубы «Пандоры».
Каждому на долю досталось по два сухаря; нечего и говорить, что они исчезли в течение одного дня. Правда, моряки взяли с судна вдоволь воды да еще запаслись ею во время ливня, который пришел на помощь Бену Брасу и Вильяму. Пока шел дождь, матросы на большом плоту тоже наполнили водой свои рубашки и разостланный парус.
Но теперь и эти запасы драгоценной влаги подходили к концу. В бочке оставалось всего по одной-две порции.
Но как ни мучила людей жажда, голод терзал их еще сильнее.
Что имел в виду Легро, когда сказал: «Надо поесть»? Разве здесь, на плоту, была какая-нибудь пища, которая помогла бы им избежать этого страшного выбора — «поесть или умереть»? И почему они до сих пор еще живы? Ведь уже много дней прошло с момента, как они проглотили последнюю крошку морского сухаря, так скупо поделенного между всеми!
На все эти вопросы можно дать только один ответ. Страшно сказать его вслух, жутко даже подумать о нем!
О, этот начисто обглоданный скелет там, на плоту, явно принадлежащий человеку, эти кости, разбросанные повсюду, некоторые видишь даже в руках у матросов, расправляющихся с ними самым омерзительным образом!.. Разве можно еще усомниться в том, чем питаются эти изголодавшиеся изверги!..
Да, именно это и еще мясо небольшой акулы, которую им удалось подманить и убить гандшпугом, — вот и все, что служило им пищей с того момента, как они покинули «Пандору». А между тем море кругом кишело акулами. Самое малое
— десятка два их рыскали в волнах, в поле зрения людей на плоту. Но — смешно сказать! — так пугливы были эти чудовища, что не представлялось случая поймать их: ни одна не решалась подплыть поближе. Любые ухищрения не имели успеха. Напрасно те из моряков, кто потрезвее, по целым дням занимались ловлей. Вот и сейчас некоторые возились с рыболовными снастями: охотились на этих свирепых тварей, забрасывая далеко в воду крючки с приманкой из… человеческого мяса!
Все это они проделывали чисто автоматически, давно убедившись в неосуществимости подобных замыслов и все же упорствуя в своем отчаянии. Акулы держались настороже. Может быть, их страшила участь товарки, которая осмелилась подплыть слишком близко к этому диковинному суденышку, а может, тайный инстинкт подсказывал им, что рано или поздно они сами всласть полакомятся теми, кто сейчас так жаждет поживиться ими.
Так или иначе, акулы не шли на приманку. И тогда голодающие матросы стали пожирать друг друга волчьими взглядами. Мысли этих людей вновь обратились к чудовищному решению, которое должно было спасти их от голодной смерти.
И здесь, на плoту, так же как на палубе невольничьего судна, Легро все еще сохранял какую-то роковую власть над матросами. Бена Браса больше не было-и некому было противиться его деспотическим наклонностям.
Теперь Легро стал своего рода диктатором над товарищами по несчастью, над этими живыми трупами.
Все это время он в своих поступках руководствовался не столько честностью, сколько необходимостью удерживать подчиненных в повиновении, не давая вспыхнуть открытому мятежу. Поэтому при его правлении, хотя голодали все, больше всего страдали слабейшие.
Вместе с ним делили власть несколько самых сильных моряков: они составили личную охрану этого негодяя, готовые в трудный момент встать за него горой. За это они получали большие порции воды и лучшие куски омерзительной пищи.
Такая несправедливость не раз приводила к жестоким дракам, которые едва не кончались кровопролитием.
И если бы не эти редкие взрывы протеста, Легро со своей кликой установили бы деспотический режим, который дал бы им власть над жизнью слабейших.
Дело к тому и клонилось. На плоту создавалась абсолютная монархия — монархия людоедов, где королем должен был стать сам Легро. Однако до этого еще не дошло — по крайней мере, сейчас, когда возник вопрос о жизни и смерти. Как только появилась необходимость избрать новую жертву для чудовищного, но неизбежного заклания, эти несчастные выказали себя в какой-то степени республиканцами: они потребовали кинуть жребий, что было самым беспристрастным решением.
В момент, когда дело идет о жизни и смерти, люди обычно превозмогают свою неохоту к жеребьевке и признают ее орудием справедливости.
Конечно, Легро со своими жестокими телохранителями воспротивились бы этому, если бы чувствовали себя достаточно сильными, — точно так же, как противятся баллотировке другие могущественные и столь же свирепые политики,
— но бандит сомневался в прочности своей власти. Еще в самом начале плавания Легро и его клика со зверской жестокостью предложили на съедение голодающим юнгу Вильяма, что было встречено окружающими довольно благосклонно. Если бы не нашелся на плоту один честный малый — английский матрос, — юноша, наверно, первым сделался бы жертвой этих чудовищ в человеческом образе. Но поскольку выбор должен был пасть на кого-либо из их среды — о, тогда совсем другое дело! У каждого нашлись свои приятели, которые ни за что не допустили бы такого жестокого произвола. А Легро больше всего боялся общей свалки, в которой мог поплатиться жизнью не только любой другой матрос, но и он сам. Еще не настал момент для чрезвычайных мер. И всякий раз, когда перед моряками вставал вопрос: «Кто следующий?» — приходилось прибегать к жребию.
Вопрос этот поднимался сейчас снова, уже во второй раз. Поставил его сам Легро, выступив в качестве оратора.
Никто не ответил согласием, но никто и не возражал, даже знака не подал. Наоборот, казалось, предложение было встречено молчаливым, но безрадостным согласием, хотя все понимали его чудовищность и прекрасно отдавали себе отчет в жестоких последствиях.
Им было известно, откуда ждать ответа. Уже дважды обращались они к этому страшному оракулу, чье слово должно было прозвучать смертным приговором одному из них. Дважды признали они волю рока и безропотно подчинились ей. Предварительных приготовлений не требовалось-обо всем уже давно договорились. Оставалось только бросить жребий.
Когда Легро задал свой вопрос, на плоту началось движение. Можно было подумать, что слова его выведут матросов из апатии, но этого не случилось. Лишь некоторые обнаружили признаки испуга: у них побледнели лица и губы сделались белыми. Большая часть команды так отупела от страданий, что до них уже не доходил весь ужас происходящего и жизнь стала им не мила.
Впрочем, те, кто еще держался на ногах, поднялись с мест и окружили человека, бросившего им вызов.
В силу общего молчаливого согласия Легро выступал распорядителем. Он должен был метать банк в этой страшной игре жизни и смерти, где и сам принимал участие. Два-три его соучастника встали рядом, готовясь помогать ему, словно выполняя роль крупье
[20]. Какой бы важной и торжественной ни представлялась жеребьевка, все должно было разрешиться чрезвычайно просто. Легро взял в руки продолговатый брезентовый мешок, по форме напоминающий диванный валик; в таком мешке матросы обычно держат свой выходной костюм для воскресных прогулок на берегу. На дне его лежали двадцать шесть пуговиц-по числу участников жеребьевки,-тщательно пересчитанные. Это были обыкновенные форменные пуговицы, какие видишь на куртке матроса торгового флота: черные роговые, с четырьмя дырочками. Матросы еще раньше спороли их с одежды для той же цели, что и сейчас, — теперь они должны были послужить им еще раз. Пуговицы были так тщательно подобраны, что даже на глаз их почти невозможно было отличить друг от друга. Только одна резко выделялась среди всех остальных. В то время как другие были агатово-черными, эта ярко алела, густо-багровая, словно замаранная кровью. Так оно и было на самом деле. Ее нарочно выпачкали в крови — красный цвет должен был служить эмблемой смерти.
Разницу между этой пуговицей и другими никак нельзя было уловить на ощупь. Даже чуткие пальцы слепорожденного не смогли бы отличить ее среди остальных, — где уж там мозолистым, перепачканным дегтем матросским лапам!
Красная пуговица была брошена в мешок вместе со всеми другими. Тот, кому она попадется, умрет!
Приготовлений не понадобилось; даже очередность не вызывала споров. Все это уже много раз обсуждалось открыто и обдумывалось втайне. Все пришли к заключению, что в конце концов шансы одинаковы и не все ли равно, чья судьба решится раньше. Красная пуговица с тем же успехом могла достаться и первому и последнему в очереди.
Поэтому никто не колебался приступить к страшной жеребьевке.
Как только Легро протянул матросам мешок, приоткрытый ровно настолько, чтобы могла пройти человеческая рука, один из них выступил вперед и небрежно и вместе с тем как-то по ухарски запустил пальцы в отверстие…
Глава LXVIII. ЛОТЕРЕЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Один за другим подходили матросы и доставали из мешка пуговицы. Каждый, вынув свою, показывал ее на раскрытой ладони так, чтобы все могли видеть, какого она цвета, и потом откладывал ее в сторону, к другим; впрочем, едва ли она понадобится еще раз на случай такой же лотереи.
Несмотря на всю важность церемонии, на плоту не царила торжественная тишина. Несчастные даже перебрасывались шутками, пока тянули жребий. Посторонний наблюдатель, не зная страшных условий игры, подумал бы, что матросы, потехи ради, затеяли лотерею с каким-нибудь пустячным выигрышем.
Но были и такие, на лицах у которых читались совсем иные чувства. Некоторые подходили тянуть жребий с убитым видом, они, трусливо опуская руку в мешок, тряслись так сильно, что становилось ясно: люди эти всецело во власти страха, несказанно более мучительного, чем простой азарт игры в обычной лотерее.
Наиболее трусливые и робкие, подходя к мешку, дрожали всем телом, а вынув счастливый жребий, предавались самому бурному, безудержному веселью. Были и такие, которые не могли даже скрыть дьявольской радости, что спасли свою шкуру, и пускались в пляс, словно неожиданно сделались наследниками громадного состояния.
Эта странная лотерея отличалась от многих других: здесь выигравшим считался тот, кому достался пустой билет, а вынувший красную пуговицу проигрывал жизнь.
Легро держал мешок с напускной беспечностью. Но каждый, заглянув внимательно ему в лицо, понял бы, что это-чистое притворство. В дальнейшем обстоятельства показали, что хвастунишка-француз был, в сущности, трус. Правда, разъярившись или пылая местью, он мог броситься в драку даже с опасностью для жизни; но в таком поединке, как сейчас, где требовалось хладнокровие, где единственным его противником выступала сама Фортуна и он не мог отыграться на какой-либо бесчестной уловке, притворная храбрость окончательно его покинула.
Пока лотерея только начиналась и в мешке было много пуговиц, ему как-то удавалось сохранять маску равнодушия. Шансов на жизнь было еще много-почти двадцать против одного! Но жеребьевка тянулась — матросы один за другим показывали на ладони черную пуговицу, — и лицо француза все заметнее искажалось. Кажущееся хладнокровие начало изменять ему: в глазах засверкало лихорадочное возбуждение, близкое к ужасу.
Как только чья-нибудь рука показывалась из темного мешка, неся ее владельцу жизнь или смерть, Легро поспешно и тревожно впивался взглядом в этот крошечный роговой кружок, который матрос держал между указательным и большим пальцем. И всякий раз, как пуговица оказывалась черной, лицо его мрачнело.
Но когда вынули и двадцатую, а красная все еще не показывалась, — сам распорядитель страшно взволновался. Теперь он уже не в силах был скрывать свою тревогу. Шансы на жизнь падали с такой быстротой, что ужас овладел им. Сейчас уже было пять против одного-оставалось еще шесть счастливых жребиев.
В этот страшный момент, пытаясь обдумать происходящее, Легро прервал жеребьевку. Может, лучше передать мешок кому-нибудь другому? Пожалуй, счастье тогда переменится и улыбнется ему — недаром он горячо проклинал судьбу, когда был вытащен одиннадцатый номер. Все это время он всячески ухищрялся, чтобы красный жребий был вытащен из мешка: нет-нет, да и перетряхнет пуговицы — авось красная окажется наверху или как-нибудь попадется под руку ближайшему на очереди. Не тут-то было! С непостижимым упорством она оставалась на самом дне.
А что, если он передаст мешок другому и сам попытает счастья с двадцать первым жребием? «Не стоит!» — мысленно ответил он себе. Лучше уж держаться до конца. Неужели последней останется красная пуговица? Нет, едва ли — это в высшей степени невероятно. С самого начала было двадцать пять шансов против одного. Правда, прошло уже двадцать черных — совершенно непостижимо!
— а красная все не появлялась. Однако ее можно ожидать каждую минуту, точно так же, как и любую из шести черных.
Итак, менять порядок не имело смысла. Француз внутренне подобрался и, снова приняв вид храбреца, сделал знак окружающим, что готов продолжать.
Еще один матрос вынул номер двадцать первый. По-прежнему черная пуговица!
Вытащили из мешка номер двадцать второй— черная!
Двадцать три и двадцать четыре — то же самое!
Теперь оставались только две пуговицы. Решения судьбы ждали двое. Один из них — сам Легро, другой — ирландский матрос, быть может наименее преступный из всей этой бандитской шайки. Тот или иной должен был сделаться жертвой своих спутников-людоедов!..
Вряд ли есть необходимость доказывать, что за последний момент интерес к этой роковой лотерее усилился. Страшные условия ее были таковы, что и сначала все следили за ходом игры с самым напряженным и жадным вниманием. Изменилось только отношение участников: оно сделалось менее болезненным, когда опасный исход не угрожал больше каждому из них.
Лотерея приближалась к концу, и большинство были уже вне опасности, но тем мучительнее терзал страх тех, чья жизнь еще колебалась на чаше весов. По мере того как их становилось все меньше и они видели, что шансы на спасение падают, ужас охватывал их сильней. Когда же наконец в мешке остались только две пуговицы, а на очереди — двое жеребьевщиков, интерес к лотерее резко повысился.
Помимо жеребьевки, еще и другие обстоятельства привлекали внимание окружающих. Казалось, сама судьба захотела принять участие в этой жуткой драме. А может, здесь вмешалась странная, чрезвычайно странная игра случая…
Эти двое матросов, которые сейчас последними остались ждать приговора судьбы, уже давно были соперниками, или, вернее, настоящими врагами. Они смертельно ненавидели друг друга, точно были связаны вендеттой — кровной местью, обычной на Корсике.
Вражда эта возникла не здесь — она зародилась еще на «Пандоре», с первых же дней плавания.
Началось это с ссоры между Легро и Беном Брасом, в которой француз потерпел постыдное поражение. Ирландский матрос, честный по натуре и симпатизировавший Бену Брасу отчасти как своему соотечественнику, встал на сторону британского моряка, чем вызвал неукротимую злобу француза. В свою очередь, ирландец платил ему той же монетой. Легро бешено ненавидел Ларри О'Гормана — так звали ирландца — и при всяком удобном случае задевал его. Даже Бен Брас не был ему так противен. Памятуя полученный урок, француз стал относиться к английскому матросу если и не по-дружески, то с некоторым почтительным страхом. Вместо того чтобы упорствовать в ревнивом соперничестве, Легро примирился со своим второстепенным положением на невольничьем корабле и перенес всю злобу на сына Изумрудного острова.
[21] Между ними нередко происходили мелкие стычки, из которых победителем обычно выходил лукавый француз. Но ни разу еще не возникала такая распря, чтобы обоим пришлось помериться силами в отчаянной борьбе — не на жизнь, а на смерть. Обычно враги старались избегать друг друга. Француз втайне побаивался противника, быть может подозревая в нем какую-то скрытую силу, которая пока еще не обнаруживалась, но могла развернуться вовсю в смертном бою. Ирландец же не чувствовал никакой склонности к ссорам, что встречается крайне редко среди его соотечественников. Это был человек мирного нрава и весьма немногословный-поистине редкостный случай, если принять во внимание, что звали его Ларри О'Горман.
В характере ирландца имелось немало добрых черт, но, быть может, самой лучшей была именно эта. По сравнению с французом его можно было счесть сущим ангелом, а среди всех остальных негодяев на плоту он казался наименее дурным. К лучшим его нельзя было причислить, так как это слово вообще не подходило ни к кому из всей разношерстной команды.
По своему внешнему облику противники отличались как нельзя более. Француз был черноволосый, с большой бородой, а ирландец — рыжий и безбородый. Однако роста они были почти одинакового: высокие, статные, оба они выделялись своим плотным, крепким сложением, даже некоторой дородностью.
Но разве такой вид имели они сейчас — в момент, когда участвовали в торжественной церемонии, которая должна была обречь на гибель одного из них! Вдобавок их трагическое положение вызывало кровожадный интерес у тех, кто должен был остаться в живых.
Оба они так исхудали, что одежда свободно болталась на отощавших телах. С глубоко запавшими глазами и торчащими скулами, с плоской, ввалившейся грудью, на которой можно было все ребра пересчитать, они казались скорее обтянутыми сморщенной кожей скелетами, чем людьми, в которых еще теплится дыхание жизни. Пожалуй, ни один из них не годился для той цели, на которую их обрекла жестокая неизбежность.
Легро как будто был менее истощен. Вероятно, это объяснялось его властью над командой, — пользуясь своим положением, он захватывал себе львиную долю пищи, столь скудно распределяемой между остальными. Впрочем, быть может, так только казалось благодаря густой растительности, покрывавшей его лицо, которая, скрывая крайнюю худобу черт, придавала ему более упитанный вид.
Но не будем говорить о них вновь. Нам только хотелось показать в настоящем свете, до каких крайностей, до каких чудовищных помыслов и еще более чудовищных дел может довести человека голод. Как бы мы ни содрогались от омерзения, именно так думали в этот тяжкий час жертвы кораблекрушения с «Пандоры».
Глава LXIX. ВЫЗОВ ОТВЕРГНУТ
Когда подошел момент тянуть последний жребий — другого уже не понадобится, — наступила пауза: обычное затишье перед бурей, готовой вот-вот разразиться.
Воцарилось молчание, такое глубокое, что, если бы не волны, плескавшиеся о пустые бочки, можно было бы услышать, как упадет на доски булавка. В шуме моря слышался похоронный плач, какой-то мрачный аккомпанемент к кощунственной сцене, разыгрывавшейся на плоту. Чудилось, что в этих пустых бочках заключены души грешников: они испытывают адские муки и вторят шуму волн криками агонии.
Два матроса, один из которых был неизбежно обречен, стояли лицом к лицу; остальные толпились около, образуя круг. Взоры всех были прикованы к ним, но противники смотрели только друг на друга. Ожесточение, злоба, ненависть сверкали во взглядах, которыми они обменивались; но еще ярче светилась у них в глазах надежда увидеть врага мертвым.
Обоих воодушевляла мысль, что сама судьба избрала их среди всех товарищей для столь необычного поединка. И они твердо верили в это.
Убеждение это было так сильно, что ни один из них и не помышлял противиться приговору рока, смирившись с мыслью, что «так уж, видно, на роду написано».
Однако они не были фаталистами, а больше верили в силу и ловкость, чем в слепой случай.
Именно на это и рассчитывал ирландец, выступив с новым предложением.
— Я так полагаю, — сказал он, — давай попытаем, кто из нас лучший.
— Тянуть жребий — штука нехитрая, тут шансы равны; может, выживет как раз что ни на есть худший. Клянусь святым Патриком, это не по чести, так никуда не годится! Пусть живет тот, кто достойнее. Правильно я говорю, ребята?
У ирландца нашлись сторонники, поддержавшие его. Предложение это, столь для всех неожиданное, показалось вполне разумным: оно открывало новые перспективы.
Перестав трепетать за свою жизнь, матросы могли теперь уже более спокойно ждать исхода борьбы. Чувство справедливости еще не совсем угасло в их сердцах. Вызов ирландца показался им делом чести. Многие склонны были поддержать его и высказались в этом духе.
У Легро было больше приверженцев, но они молчали, выжидая, что ответит противнику их вожак.
Все ждали, что Легро охотно примет вызов — ведь ему так не повезло в этой лотерее. К тому же он и раньше нередко торжествовал над своим соперником.

Но Легро решительно отказался. Наоборот, он возложил все упования на судьбу. Правда, внимательный наблюдатель по всему виду и поступкам француза заподозрил бы, что Легро рассчитывает на какую-то хитрость. Но никто особенно не следил за ним. Ни один человек не обратил внимания, что Легро мимоходом пожал руку одному из своих сторонников. А если бы даже кто и заметил, что из того? Попрощался с товарищем, ища у него сочувствия в момент опасности, — как же иначе истолковать этот жест?
Однако, если бы окружающие присмотрелись к этому прощальному приветствию повнимательнее, им стало бы понятно то равнодушие к смерти, которое с этого момента так явно выражалось в поведении Легро. Ясно было, что сейчас между обоими матросами произошло нечто значительное.
После этого беглого рукопожатия Легро больше не колебался. Он сразу же заявил, что ко всему готов и твердо намерен остаться при своем решении тянуть жребий.
— Черт побери! — вскричал он в ответ на вызов ирландца. — Может, думаешь, ирландец, что я струсил? Проклятие! Никому и в голову не взбредет такая небылица. Но я верю в свое счастье, хоть Фортуна подчас меня надувала, да и сейчас строит каверзы не хуже прежнего! Впрочем, как будто и ты у нее тоже не в фаворе, так что шансы равны. Ну что ж, давай попытаем еще раз!.. Черт возьми! Видно, в последний раз придется ей поиздеваться над кем-нибудь из нас-это уж наверняка!..
Разумеется, О'Горман не имел права менять установленный порядок лотереи; поэтому те, кто высказался против ее продолжения, оказались в меньшинстве. Матросы шумно требовали, чтобы сама судьба решила — который из двух?
Легро все еще держал мешок с двумя пуговицами — черной и красной. Заспорили — кому тянуть жребий. Вопрос был не в том, кто первый — второго все равно не будет, достаточно вынуть пуговицу одному. Если окажется красная
— умрет он; если черная — его противник.
Кто-то предложил, чтобы мешок взял человек посторонний и хорошенько перетряхнул его.
Но Легро воспротивился. Если уж ему доверили присматривать за порядком, он сам доведет дело до конца. Все видели, заявил он, много ли было пользы от того положения, которое ему навязали. Нет, совсем наоборот! Ничего, кроме неудачи, это ему не принесло. А уж если не повезло, всякий знает: такому злосчастью, может, и конца не будет. Впрочем, ему безразлично-так или иначе, все равно: тот, кто держит мешок, ничего хорошего не получит. Но раз он взялся и провел всю эту лотерею на свою беду, теперь уж он ее ни за что не бросит, пусть даже в награду за это поплатится жизнью.
Речь Легро имела успех.
Большинство высказались в его пользу, настаивая, чтобы он продолжал держать мешок.
Решено было: выбор сделает ирландец, вынув предпоследнюю пуговицу.
О'Горман не протестовал против такого распорядка, да к тому и не было серьезных оснований. Казалось, идет обычная игра — орел или решка. «Если орел — я выиграл, если решка — то проиграл». Но здесь эта формула приобретала новый, жуткий смысл, более подходящий к данному случаю: «Если орел — я буду жить, если решка — умру». Мысль эта мелькнула в мозгу у Ларри О'Гормана, когда он, смело подойдя к мешку, опустил кулак в его темное нутро и вынул… черную пуговицу!
Глава LXX. НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
В мешке осталась красная. Удивительно, что она оказалась последней, но такие странности случаются иногда. Жребий выпал на долю Легро. Лотерея кончилась: француз проиграл свою жизнь.
Какой смысл имело теперь продолжать игру? Но, к удивлению зрителей, он на это решился.
— Черт! — воскликнул он. — Опять не повезло!.. Ну ладно! — хладнокровно прибавил он, несколько удивив всех.-Дай-ка и я вытяну жребий. Хоть погляжу на эту клятую штучку, что будет стоить мне жизни!
С этими словами он опустил правую руку в мешок, в то же время продолжая придерживать его левой. Несколько секунд он что-то нащупывал там, внутри, как будто не сразу нашел пуговицу. Роясь таким образом, он опустил отверстие, которое зажимал левой рукой, и, ловко переместив пальцы, придержал мешок у самого дна. Делалось это, видимо, для того, чтобы засунуть пуговицу в угол и ухватить ее пальцами.
Несколько мгновений мешок висел у него на левой руке, пока сам он силился поймать маленький роговой кружок. Наконец ему это удалось. Он вынул правую руку, в которой что-то было крепко зажато, — очевидно, страшная эмблема смерти. Его спутники, охваченные любопытством, затаив дыхание, столпились вокруг, ловя все движения Легро.
Еще мгновение держал он кулак сжатым, высоко подняв его, чтобы все могли видеть. Затем стал медленно разжимать пальцы и показал раскрытую ладонь. Там оказалась пуговица, вынутая из мешка, но, ко всеобщему изумлению, не красная, а черная.
Только двое не разделяли общего удивления: то был сам Легро, хотя, казалось, ему-то и следовало дивиться более всех остальных, и матрос, который несколько минут назад встал рядом с ним и тайком передал ему что-то из рук в руки.
Неожиданный конец лотереи вызвал страшное волнение.
Несколько человек схватили мешок, вырвав его из рук у Легро. Мешок сразу же вывернули наизнанку — и на доски плота упала красная пуговица.
Матросы пришли в ярость и громко кричали, что их обманули. Некоторые строили догадки, каким образом негодяю удалось так сплутовать. Сообщник Легро, горячо поддерживаемый им самим, утверждал, что никакого обмана и в помине не было: произошла ошибка в счете пуговиц с самого начала, когда их клали в мешок.
— Вполне возможно, вполне возможно! — убеждал матрос, помогший Легро сжульничать. — Просто положили одной пуговицей больше — двадцать семь вместо двадцати шести, вот и все. Что ж, раз мы все помогали считать, никто и не виноват. Придется теперь снова тянуть. Только на этот раз смотрите считайте поаккуратнее!..
Возражать никто не посмел — все согласились. Но многие были убеждены, что с ними сыграли скверную шутку, и даже догадывались, каким образом это было подстроено.
Кто-нибудь из жеребьевщиков достал себе пуговицу, точно такую же, как те в мешке; зажав ее в кулак, он опустил руку и тотчас же вынул.
Двадцать шесть матросов тянули жребий — который же из них плут?
Многие подозревали в мошенничестве самого Легро. Бросалось в глаза его странное поведение. Зачем он опустил в мешок сжатый кулак и вынул его, так и не разжав пальцы? Уже одно это казалось довольно подозрительным; было замечено и еще кое-что. Но потом матросы припомнили, что ведь и некоторые другие вели себя точно так же. Итак, улик, чтобы вывести виновного на чистую воду, не находилось. Поэтому ни у кого не было сил и охоты выдвинуть обвинение с риском для себя.
Впрочем, такой человек нашелся. До сих пор он еще не высказывался — ждал, пока пройдет какое-то время после того, как распорядитель вытянул последний, всех разочаровавший жребий. Человек этот был Ларри О'Горман.
Пока остальные матросы выслушивали доводы сообщника Легро и
один за другим охотно соглашались, ирландец стоял в стороне, видимо, глубоко погруженный в какие-то подсчеты.
Только под конец, когда все как будто пришли к соглашению вторично тянуть жребий, он очнулся от задумчивости и, стремительно выступив на середину, со всей решимостью крикнул:
— Нет!.. Нет, ни за что! — продолжал он. — Никаких жребиев, мои милые, покуда не разберемся хорошенько в этом маленьком дельце! Тут что-то нечисто,-все с этим согласны. Да только как найти плута? Пожалуй, я скажу вам, кто этот гнусный негодяй, у которого не хватило ни смелости, ни чести поставить на карту жизнь вместе со всеми нами.
При этом неожиданном вмешательстве на говорившего сразу же обратились взоры всех матросов. Сторонники разных партий одинаково были заинтересованы в разоблачении, которым угрожал О'Горман.
Если только удастся уличить мошенника, все будут смотреть на него, как на человека, который должен был вытащить красную пуговицу; следовательно, с ним и надлежит поступить соответственно. Это стало понятно, прежде чем с чьих-либо уст сорвался малейший намек. Те из матросов, которые ни в чем не были повинны, разумеется, чрезвычайно желали найти «паршивую овцу», чтобы не пришлось вторично тянуть опасный жребий; а так как к ним принадлежала почти вся команда, можно себе представить, с каким вниманием матросы ждали, что им скажет ирландец.
Все стояли, пожирая его нетерпеливыми взглядами. Только в глазах у Легро и его сообщника читались совершенно иные чувства. Жалкий вид француза особенно бросался в глаза: у него отвисла челюсть, губы побелели, в них не осталось ни кровинки, взгляд его горел дьявольской злобой. Весь облик напоминал человека, которому угрожает позорная и страшная участь, и он бессилен ее отвратить.
Глава LXXI. ЛЕГРО ПЕРЕД СУДОМ
Кончив речь, О'Горман устремил в упор взгляд на француза. Все поняли, кого он имеет в виду.
Легро сначала весь затрепетал под взором ирландца. Но, увидев, что необходимо призвать на помощь всю свою наглость, он сделал над собой усилие и ответил тем же.
— Черт побери! — воскликнул он. — Что это ты на меня так уставился? Уж не вздумалось ли тебе на меня поклеп взвести? Я, что ли, такую подлость сделал?
— А то нет! — ответил ирландец.-Да провались я к самому дьяволу в преисподнюю, если на тебя возвожу поклеп! Не такой человек Ларри О'Горман, чтобы бродить вокруг да около, мистер Легро! Я тебе прямо в лицо скажу: это ты, красавчик, собственной персоной, положил в мешок лишнюю пуговицу! Да, именно ты, мистер Легро, а не кто-нибудь другой!
— Врешь! — завопил француз, угрожающе размахивая руками. — Врешь!
— Потише, французишка! Ларри из Голуэя не запугаешь, куда уж тебе, хвастун! И опять скажу: это ты подбросил пуговицу!
— А ты откуда знаешь, О'Горман?
— Доказать можешь?
— Есть у тебя улики? — спросили несколько матросов сразу.
Среди них особенно обращал на себя внимание сообщник француза.
— Да что вам еще нужно, когда и так уж все ясно, как день? Когда я сунул руку в мешок, там было только две пуговицы и ни черта больше! Я перещупал их обе,-все не знал, какую взять! Да будь там третья, разве она не попалась бы мне? Могу поклясться на святом кресте Патрика блаженного — больше там пуговиц не было!
— А это еще ничего не значит, могло быть и три, — настаивал приятель Легро. — Третья, должно быть, закатилась куда-нибудь в складку, вот ты ее и не нащупал!
— Какие там еще, к дьяволу, складки! Закатилась-то она в ладонь к этому мошеннику, больше ей некуда было! В кулаке у него — вот где она была! Пожалуй, скажу вам, и как она туда попала. Дал ее ему вон тот парень, тот самый, который сейчас ко мне с ножом к горлу пристал-докажи да докажи… Попробуй-ка соври, Билль Баулер! Я своими глазами видел, как ты шептался с французишкой тогда, когда ему пришел черед. Видел я, как вы жали друг другу лапы и ты что-то сунул ему потихоньку. Тогда я толком не разглядел, но-клянусь Иисусом!-все думал: что за дьявольщина? Ну, а теперь-то знаю, что это такое было,-пуговица!
Слова ирландца заслуживали внимания-так к ним матросы и отнеслись. Улики против Легро были вескими и в глазах большинства убедительно доказывали его виновность.
Нашлись и еще свидетели, поддержавшие обвинение. Матрос, который тянул жребий перед О'Горманом, решительно утверждал, что в мешке были только три пуговицы. А другой, стоявший в очереди за человека до него, твердил с такой же уверенностью, что, когда он тащил жребий, в мешке было всего четыре. Оба заверяли, что они уж никак не могли ошибиться в счете. Недаром, мол, они «общупали» каждую пуговку в отдельности — им все хотелось узнать ту, в крови. Боже сохрани ее вытащить!
— Эх, да что толковать! — воскликнул ирландец. Ему, видно, не терпелось добиться осуждения противника, виновного в плутовстве.-Французишки это дело-и все тут! Зря он, что ли, возился и ковырялся в мешке! Все это сплошное надувательство. Пуговица была у него в кулаке все время. Клянусь Иисусом! Ему полагается смертный жребий, это так же верно, как если бы он его вытянул. Умереть должен он!
— Каналья! Лжец! — кричал Легро. — Если я умру, ты…
С этими словами он прыгнул вперед с ножом в руке, явно покушаясь на жизнь своего обвинителя.
— Стой! — заревел ирландец, отпрянув подальше от нападающего. И, в свою очередь выхватив нож, он встал в позицию защиты. — Стой, лягушатник, собачий сын, а не то я мигом отправлю тебя в ад без покаяния, прежде чем успеешь прочитать «Отче наш» за свою мерзкую душу, хоть она — видит Бог! — в этом здорово нуждается! Ну, а теперь подходи, — продолжал ирландец, хорошенько укрепившись на своей позиции.-Ларри О'Горман готов встретить и тебя и любого другого, кто бы там ни прятался за твоей гнусной спиной!
Глава LXXII. ДУЭЛЬ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
Жеребьевка, происходившая на плоту, которая велась до сих пор с некоторой торжественностью, близилась к неожиданной развязке.
Но теперь никто не помышлял вторично обратиться к богине удачи. Уже не было больше нужды прибегать к ее приговору. И без того скоро наполнится кладовая этой шайки людоедов; порукой тому — смертельная вражда двух вожаков потерпевшего кораблекрушение экипажа: Легро и О'Гормана.
Скорая гибель ждет одного или другого, а возможно, и обоих. Противники намеревались вложить клинок в ножны не ранее, чем он вонзится в тело врага,
— об этом неопровержимо свидетельствовали их позы, исполненные решимости.
Никто не пытался вмешаться, никто не встал между ними, чтобы разнять. Конечно, у каждого из них имелись друзья, или, выражаясь точнее, сторонники, но они были так же бесчувственны, как и обычные почитатели «чемпионов ринга».
При иных обстоятельствах каждая партия бывает огорчена поражением своего чемпиона, на которого она делает ставку. Но здесь, на плоту, зрители жаждали смерти любого из противников.
И та и другая сторона охотнее согласилась бы на гибель своего избранника, чем допустить, чтобы оба вышли из схватки живыми.
Каждый матрос в этой разбойничьей шайке, движимый эгоистическим инстинктом, ждал исхода предстоящего столкновения, и инстинкт этот заглушал в нем всякую приверженность к вожаку. Некоторые, быть может, и испытывали кое-какие дружеские чувства к Легро или О'Горману, но большинству было совершенно безразлично, кто из двоих будет убит. Нашлись даже такие, которые в глубине души тайно лелеяли надежду увидеть обоих противников жертвами взаимной вражды. О, тогда не скоро еще пришло бы время возобновлять эту ненавистную лотерею, к которой они-увы!-вынуждены были прибегать уже не раз.
Обе партии насчитывали теперь почти одинаковое число сторонников. Еще десять минут назад у француза было значительно больше приверженцев, чем у его соперника-ирландца. Но поведение Легро во время лотереи оттолкнуло многих. Большинство считали, что он действительно допустил плутовство. И это трусливое мошенничество так кровно задевало всех, что даже те, кто раньше был равнодушен к Легро, теперь сделались его врагами.
Но, не говоря уже о личных соображениях, даже здесь, среди этого сборища подонков, были такие, в ком еще не окончательно умолк голос чести, требовавший «игры по правилам»; и жульничество француза вновь пробудило это чувство в их сердцах.
Как только противники выказали твердую решимость вступить в смертный бой, толпа на плоту как бы машинально разделилась на две группы: одни встали позади Легро, другие — позади ирландца.
Матросы разместились на обоих концах плота, и так как обе группы по числу людей были почти одинаковы, равновесие не нарушилось. Посередине плота имелась горизонтальная площадка, не предоставлявшая преимуществ ни одному из противников; на ней-то и должна была разыграться кровавая драма.
Решено было биться на ножах. Правда, на плоту имелось и другое оружие: топоры, тесаки, гарпуны, но пользоваться ими противникам воспрещалось. Да и что может быть честнее доброго матросского ножа, какой имеется у каждого из них!
Итак, каждый вооружился своим собственным ножом, отвязав его от ремня. Нога выдвинута вперед, чтобы лучше противостоять натиску врага, рука с обнаженным клинком поднята; мускулы напряжены до отказа; глаза горят огнем ненависти, которая может окончиться только со смертью, — так стояли они друг против друга.
За спиной у каждого встали его сторонники, образовав полукруг, в центре которого находился их чемпион. Все они жадно ловили каждое движение противников, зная, что один из них, а быть может, и оба, уже на пути в преисподнюю.
Заходящее солнце озаряло эту страшную дуэль. Золотой шар уже низко опустился над горизонтом. Солнечный диск казался зловеще багровым — освещение, вполне подходящее для такого зрелища. Немудрено, что враги безотчетно обернулись на запад и вперили взор в светило. Оба они думали, что, быть может, никогда больше не придется им любоваться сверкающим солнечным блеском…
Глава LXXIII. НЕНАВИСТЬ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ
Противники сошлись не сразу. Некоторое время они сторонились друг друга, страшась приблизиться, — так грозно сверкали острые ножи у них в руках. Однако они не оставались неподвижными и бездеятельными, наоборот — оба были все время начеку, передвигаясь из стороны в сторону, описывая короткую дугу и стараясь все время держаться лицом к противнику.
Изредка, через какие-то промежутки времени, но далеко не регулярно, кто-нибудь из них делал вид, что нападает, или же притворным отступлением пытался ослабить бдительность врага. И все же после нескольких таких вылазок и контрвылазок ни у кого не оказалось даже царапины, не пролилось ни капли крови.
Большинство зрителей следили с каким-то болезненным интересом. Но некоторые не выказывали ни малейшего волнения, с полным безучастием относясь к тому, кто станет победителем, а кто — жертвой. Им было безразлично, если даже оба падут в бою. Были на плоту и такие, что предпочли бы именно подобную развязку кровавой схватки.
Те же, кого увлек азарт борьбы, старались подбодрить дерущихся то криками, то увещаниями.
Но были здесь и зрители совсем иного рода, которых исход схватки, казалось, волновал не менее, чем тех, о ком мы только что говорили. То были акулы! Глядя, как они описывали круги, свирепо тараща глаза на людей, как тут было не подумать, что они понимают все, происходящее на плоту, сознают, что сейчас произойдет убийство, и только выжидают случая, который пойдет им на пользу!
Какова бы ни была развязка, ее не придется долго ожидать зрителям — ни тем, что на воде, ни тем, что под водой. Еще бы! Два разъяренных матроса с обнаженными клинками стоят лицом к лицу, и каждый страстно желает поразить противника. Никто их не разнимает; наоборот, зрители натравливают дерущихся друг на друга, подстрекая к убийству, — так долго ли тут до кровавого конца? Ведь это не дуэль на шпагах, где, искусно фехтуя, можно надолго затянуть борьбу, или на пистолетах, когда неумелый выстрел опять-таки может отсрочить исход.
Эти дуэлянты знали, что стоит им подойти друг к другу на расстояние вытянутой руки, — и тут же один из них получит смертельную рану.
Вот уже несколько минут, как противники встали в позицию нападения, но эта мысль все еще удерживает их на почтительном расстоянии.
Крики товарищей принимают уже иной характер. Вперемешку с поощрительными возгласами слышатся насмешки и издевательства. Раздаются возгласы: «А ведь хвастунишки-то струсили!»
— Живей, Легро! Всади ему нож!-кричат сторонники француза.
— Ну-ка, Ларри, задай ему! Хвати его хорошенько! — орут зрители, делавшие ставку на ирландца.
— Эй вы, оба, принимайтесь за дело! Бабы вы, а не мужчины! — вопят те, кто, казалось, не принадлежал ни к той, ни к другой партии.
Эти бесцеремонные советы, выкрикиваемые на разных языках, оказали нужное действие. Не успели умолкнуть последние возгласы, как участники поединка бросились друг на друга и, сойдясь вплотную, одновременно нанесли удары ножом. Но у каждого из них клинок напоролся на левую руку противника, быстро выставленную вперед, чтобы отразить удар. И они разошлись без особых увечий, отделавшись легкими ранами, ни один из них не был выведен из строя. Однако это их разъярило и сделало менее осторожными. Не заботясь больше о последствиях, они тотчас же снова сошлись. Зрители встретили их столкновение одобрительными криками.
Все ждали, что теперь-то скоро определится исход схватки, но им пришлось жестоко разочароваться. После нескольких безрезультатных выпадов с обеих сторон сражающиеся снова отступили, и на этот раз не получив серьезных ранений. Дикое бешенство ослепляло их, не давая нанести верный удар; а возможно, они ослабели от длительного голодания. Противники разошлись вторично, и ни один из них не был ранен смертельно.
И третья встреча оказалась столь же безрезультатной. Как только они сблизились, каждый схватил своей левой рукой правую противника, в которой тот держал оружие; и так, крепко ухватив друг друга за кисть, они продолжали борьбу. Теперь это было уже состязание не в ловкости, а в силе. Пока длится это вражеское «пожатие», опасности нет никакой: ведь никто из них не в силах пустить в ход нож. Каждый в любой момент может разжать свою левую руку, но тогда он освободил бы вражескую руку с ножом и тем немедленно подставил бы себя под удар.
Оба сознавали опасность и, вместо того чтобы разойтись, продолжали цепко держать друг друга.
Несколько минут они боролись таким странным манером, каждый стараясь повалить противника на плот. Если бы это удалось, оказавшийся наверху был бы близок к победе.
Они извивались, вертелись, гнулись, но все-таки как-то ухитрялись держаться на ногах.
Сражающиеся не стояли на одном месте, но метались по всему плоту: наталкивались на мачту, кружили около пустых бочек, наступали на разбросанные кругом кости. Зрители расступались, когда они приближались, проворно прыгая из стороны в сторону. Подмостки, на которых разыгрывалась эта страшная драма, непрестанно качались: не помогал ни балласт — пропитанные водой бимсы, ни пустые бочки, служившие поплавками.
Вскоре стало видно, что в этом состязании сдаст Легро. Француз не только уступал своему врагу-островитянину в мускульной силе, но и в состязании на выносливость все равно он оказался бы побежденным.
Зато Легро был хитрее ирландца, и в этот критический момент он прибегнул к одной уловке.
Кружа по плоту, француз прижал голову к правому рукаву куртки О'Гормана; рукав плотно охватывал запястье ирландца и касался кисти, в которой тот держал свой грозный нож. Вдруг Легро, едва не свихнув шею, ухватил зубами этот рукав и изо всей силы вцепился в него своими мощными челюстями. В мгновение ока его левая рука скользнула к правой; нож молниеносно переброшен из одной руки в другую; еще миг — и лезвие сверкнуло, угрожая пронзить грудь противника.
Казалось, судьба О'Гормана решена. Обе руки его были скованы — как же избегнуть удара?
Зрители молча, затаив дыхание ждали его неминуемой гибели. Но они и вскрикнуть не успели, как, к великому удивлению, увидели, что ирландец ускользнул от опасности.
К его счастью, сукно матросской куртки оказалось далеко не первосортным. Материя даже новая и то была плоховата, ну а теперь, после долгой и небрежной носки, она почти расползлась. Поэтому, когда О'Горман отчаянно рванулся, он высвободил руку из челюстей своего врага, оставив в зубах француза всего лишь лоскут.

Внезапно все переменилось: теперь перевес был на стороне ирландца. Не только его правая рука была снова свободна, но и левой он все еще держал своего соперника, сковывая его движения. Легро же мог действовать только левой, а это ставило его в крайне невыгодное положение.
Сразу смолкли крики, которыми сторонники француза только что собрались приветствовать его победу, казавшуюся несомненной. И борьба снова продолжалась в молчании.
Еще несколько секунд длился бой, пока не завершился совершенно неожиданно для всех.
Вне всякого сомнения, победителем вышел бы О'Горман, если бы схватка окончилась, как все и предполагали, смертью одного из бойцов. Случилось, однако, так, что никто не пал в этом кровавом поединке. Судьба хранила обоих, хотя для иной, но столь же страшной кончины, а одному из них суждено было погибнуть смертью вдесятеро ужаснее.
Как я уже говорил, счастье улыбнулось ирландцу. Он понял это и не замедлил воспользоваться своим преимуществом.
Все еще крепко сжимая кисть Легро, он действовал правой рукой с такой силой, которая, казалось, должна была решить исход борьбы; француз же, защищаясь левой, мог оказывать только слабое сопротивление, не в силах ни наносить, ни парировать удары.
Клинки врагов сталкиваются все чаще и чаще; еще несколько выпадов, но пока никто не ранен. Впрочем, этот безрезультатный бой длился недолго. Кончилось тем, что ирландец одним ловким ударом всадил лезвие врагу а ладонь, пронзив ему насквозь пальцы, ухватившиеся за нож.
Оружие выпало из разжавшейся руки и, пройдя сквозь щели в бревнах, пошло ко дну.
Вопль отчаяния вырвался у француза, когда он увидел занесенный над ним нож.
Но удар, грозивший ему, повис в воздухе. Прежде чем враг собрался его нанести, ему помешали. Кто-то из зрителей схватил поднятую руку ирландца и закричал громким голосом:
— Не убивай его! Нам не придется его съесть! Гляди туда!.. Спасены, спасены!
Глава LXXIV. ОГОНЬ!
С этими странными словами матрос, так неожиданно прервавший смертный поединок, протянул руку в морскую даль, словно указывая на что-то, замеченное им на горизонте.
Взоры всех тотчас же устремились в ту сторону. Магическое слово «спасены» поразило не только зрителей, но и актеров внезапно оборвавшейся трагедии. Сладостный звук этого слова укротил злобу в их сердцах. Ирландец, который, подобно большинству своих соотечественников, был вспыльчив от рождения и загорался легко — «как огниво от искры», — мгновенно остыл.
Он не вырвал у матроса руку, поднятую для удара: она ослабела; пальцы, которыми он крепко сжимал горло противника, разжались. И француз, очутившись на свободе, смог беспрепятственно отступить с поля боя.
Вместе с остальными О'Горман обернулся и стоял, всматриваясь в даль, туда, где кто-то увидел спасение для них всех.
— Что это там? — воскликнули, как один, несколько матросов. — Неужели земля?
Но нет, это было невозможно. Никто из них не был новичком в морском деле и не мог думать, будто он и на самом деле видит землю.
— Парус? Корабль?..
Вот это уже больше походило на правду; хотя, на первый взгляд, на горизонте не было заметно ни паруса, ни корабля.
— Что же это такое? — все снова и снова спрашивали матросы.
— Огонь! Как же вы не видите? — спросил матрос с глазами рыси — тот самый, чье вмешательство в поединок вызвало это неожиданное отклонение от программы. — Смотрите! — продолжал он. — Вон там, где солнышко садится. Маленькая точка, но я-то отлично вижу. Это, верно, светится нактоуз
[22] на корабле.
— Черт побери!-воскликнул какой-то испанец. — Это просто солнечный отблеск. Ты видел блуждающий огонек, приятель!
— Ба!-сказал другой.-Пусть даже ты прав и это в самом деле лампа с нактоуза, нам-то что до этого? Только себя раздразнить — и все без толку. Если это нактоуз, то судно обращено к нам кормой. Где уж нам догнать корабль!
— Клянусь Богом, огонь! Огонь! — вскричал зоркий маленький француз.-Я вижу его. Да, да, в самом деле! Но только… черт побери!.. это не лампа с нактоуза!
— И я вижу! — воскликнул другой.
— И я! — присоединился третий.
И тотчас же матросы заговорили все сразу: каждый вставлял свое слово, чтобы поддержать веру в этот огонек, зажегшийся на море. Никто не посмел усомниться, даже те, кто вначале отнесся недоверчиво.
Правда, этот свет, который показался в океане, был всего лишь крошечной искоркой, слабо мерцавшей на фоне неба; легко можно было ошибиться, приняв звезду за него. Но в этот час на западе, где еще рдеют лучи заходящего солнца, звезд не бывает.
Как ни огрубели морально матросы, но они еще не потеряли своих умственных способностей и, раздумывая над появлением огонька, не могли принять за звезду это желтоватое пятнышко, едва выделявшееся на таком же желтом закатном небе.
— Нет, это не звезда, бьюсь об заклад! — уверенно заявил один из них.
— А если это огонь на корабле, так не лампа с нактоуза. Уж будьте покойны, это я вам говорю! И кому это вздумалось тут болтать о нактоузах да о всяких там лампах! Может, что-то и светится на корабле, но тогда это камбузная плита — кок готовит кофе для команды.
Великолепное видение комфорта, вызванное перед ними, было уж слишком для умирающих от голода людей — нервы их не выдержали, и дикий крик ликования раздался в ответ на речь матроса. Камбуз, камбузная плита, кок, кофе для команды, тушеная говядина с картофелем и морскими сухарями, пудинг с изюмом, пирог с мясом, даже когда-то столь ненавистные гороховый суп и солонина — все это казалось теперь сказкой из иного мира, радостями прошлого, которыми больше никогда уже не придется наслаждаться.
Теперь, когда перед глазами у них вспыхнул огонек камбузной плиты — за который они принимали этот свет в океане, — самые дикие фантазии возникли в их разгоряченном мозгу.
Мгновенно были позабыты и недавний поединок и его участники. У каждого матроса на плоту все помыслы, все взгляды, исполненные страстного желания, оставались прикованными к этой светлой точке, которая тускло мерцала на красноватом фоне неба, озаренного закатным солнцем.
Пока они так смотрели, крошечная искорка, казалось, росла и разгоралась; не прошло и нескольких минут — и это была уже не искра, а яркое пламя, окруженное светящимся ободком.
Постепенно бледнели краски закатного неба и усиливалась темнота вокруг — вот чем объясняется эта перемена.
Так думали зрители, уверившись более чем когда-либо, что огонек, который они видят там, вдали,- пламя камбузной плиты.
Глава LXXV. НА МАЯК!
Когда искорка на горизонте разгорелась в яркое пламя, все на плоту воодушевились одним стремлением — поскорее добраться до места, где показался свет. Будь то в камбузе или еще где-нибудь, будь это пламя плиты или свет лампы-все равно огонь горит на борту корабля. В этой зоне океана не было земли; откуда же взяться огню посреди моря, если не на корабле?
В том, что это было судно, никто не сомневался ни на мгновение.
Все так были уверены, что несколько матросов, едва только мысль эта пришла им в голову, закричали что есть силы: «Эй, на корабле, эй!»
Но в окликах матросов сейчас уже не было прежней силы: их голоса ослабели так же, как их изможденные тела. Правда, если бы моряки кричали и вдесятеро сильнее, их все равно не услышали бы на таком расстоянии: свет был еще очень далеко от плота.
Огонек горел не меньше чем в двадцати милях от них. Но в том возбужденном состоянии, в котором они находились сейчас под влиянием жажды, голода и безумного волнения, вызванного открытием, у них возникло обманчивое представление о расстоянии: многим показалось, будто огонек совсем близко.
Впрочем, среди них нашлись рассуждавшие более разумно. Они не тратили сил попусту, надрываясь в бесполезном крике, а старались убедить других в необходимости приложить всю энергию и подойти к огню поближе.
Некоторые думали, что для этого особых усилий не потребуется: ведь свет как будто приближается к ним. И в самом деле так казалось. Но более умудренные опытом моряки знали: это только оптический обман, вызванный тем, что море и небо с каждой минутой становятся все темнее.
И словом и личным примером эти матросы убеждали товарищей идти на огонек — все они верили, что свет горит на судне.
— Давайте пойдем навстречу, — говорили они, — если корабль стоит здесь, на пути; а если нет, сделаем все, чтобы нагнать его.
Уговоров не понадобилось — даже самые ленивые из команды горячо принялись за работу. Новая надежда на жизнь, неожиданно открывшаяся перспектива спасения от смерти, казавшейся многим уже неизбежной, воодушевили их, заставили напрячь все силы. Никогда раньше они не работали с таким рвением, с таким единодушием, еще недавно столь чуждым им, как сейчас, когда они гнали свой неповоротливый плот вперед, в море.
Одни бросились к веслам, другие принялись хлопотать вокруг паруса.
Давно уже никто не обращал на него внимания; он болтался, свисая с мачты и слегка вздуваясь под случайным бризом. Матросы не имели ни малейшего представления, куда держать курс, а если бы даже они и наметили курс, все равно у них не хватило бы решимости следовать ему. Уже много дней носились они в океане, отдавшись на волю волн и ветров.
Теперь парус живо был поднят снова и приведен в состояние полной готовности. Натянули и укрепили как следует шкоты, установили совершенно прямо мачту, чтобы она не кренилась набок.
Так как «судно», к которому они направились, находилось не совсем с подветренной стороны, им пришлось управляться с парусом при ветре на траверзе. С этой целью двух матросов назначили к рулю. Правда, это была всего лишь широкая доска, поставленная на самый край и прикрепленная наклонно к бревнам на кормовой части плота. Но при помощи этого нехитрого приспособления им удалось вести плот «носом вперед», прямо на огонек.
Гребцы сели с обеих сторон. Почти каждый, кто не был занят у паруса или руля, помогал грести. Весел на всех не хватило, и тем, кому не досталось, пришлось орудовать чем попало-гандшпугами, обломками досок,-словом, всем, что хоть немного годилось в помощь гребцам.
Борьба шла не на жизнь, а на смерть — так, во всяком случае, думали матросы. Они твердо верили, что корабль близко. Вот-вот они его нагонят-в этом их спасение; если же не удастся — все погибнут. Еще день без пищи — и кто-нибудь из них умрет. Еще день без воды — и каждого ждут муки страшнее самой смерти.
Благодаря их дружным усилиям и широкому парусу громоздкий плот довольно быстро шел по воде — правда, далеко не так быстро, как им хотелось бы. Иногда они молчали; но время от времени сквозь шум весел слышались их голоса, и — увы! — слишком часто это были нечестивые речи.
Они кляли плот, его неповоротливость, медлительность, с которой они шли к кораблю, кляли и самый корабль за то, что он не идет им навстречу. Теперь те, кто прежде думал, что огонек движется к ним, отказались от этой мысли. Наоборот, сейчас, после почти целого часа гребли, всем казалось, что корабль удаляется.
Не проходило и минуты, чтобы кто-нибудь не впивался взглядом в огонек. Гребцы, сидевшие к нему спиной, то и дело оборачивались и глядели через плечо, чуть не рискуя свихнуть себе шею, и все это только для того, чтобы с огорченным видом снова принять прежнюю позу.
Многие не могли скрыть горького разочарования. Некоторые утверждали, что огонек уменьшается, что корабль на всех парусах уходит от них и что нет ни малейшей надежды нагнать его.
Матросы за веслами начали уставать.
Были и такие, которые выражали вслух сомнение — а вдруг вообще ничего этого нет: ни корабля, ни огонька на корабле? Ведь то, что они заприметили, было всего лишь светлое пятнышко в океане, какой-то искрящийся предмет, может быть, фосфоресцирующая мертвая рыба или моллюск, всплывшие на поверхность. Многим из них и не то еще доводилось видеть на своем веку! И кое-кто прислушивался к этим речам довольно доверчиво.
Недовольство все усиливалось и с течением времени, верно, привело бы к тому, что моряки побросали бы весла, как вдруг всеобщее напряжение, достигнув высшей точки, разрешилось неожиданно и одновременно для всех — свет погас!
Он исчез внезапно, на глазах у матросов, не сводивших с него взгляда. Свет гаснул не постепенно, как бледнеет и тает, скрываясь из виду, звезда,
— нет, он потух сразу, как если бы кто быстро задул его.
«Словно бочку соленой воды опрокинули на камбузную плиту»,-вспоминал один матрос, увидевший исчезновение огня.
Едва свет погас, гребцы тотчас же отшвырнули весла и бросили руль. Стоит ли дальше вести плот? Ни луны, ни звезд на небе. Огонек был их единственной путеводной звездой, и, когда он исчез, они не имели ни малейшего понятия, куда держать курс. Ветер то и дело менял направление, но даже если бы он дул все время в одну сторону, всякий знал, как ненадежно ему доверяться, особенно с таким парусом и рулем!
Если и прежде матросы были почти убеждены, что преследуют в океане блуждающий огонек, и готовы были бросить погоню, то теперь стоило только ему погаснуть, как ночное плавание прекратилось.
Отчаяние вновь овладело матросами, и с дикими, злобными проклятиями они бросили парус на произвол судьбы-пусть ветры несут их по волнам, в любое место на океане, где, по воле рока, их злосчастная доля завершится мучительной агонией!
Глава LXXVI. ТЬМА КРОМЕШНАЯ
Ночь была темная — как образно говорят испанцы, «словно горшок дегтя».
Трудно было представить себе, что она станет еще темней. И все же вскоре с воды тихо поднялся густой туман, окутавший большой плот.
В таком мраке ничего нельзя было разглядеть-даже огонек, если бы он и загорелся вновь.
Пока не было тумана, они все высматривали огонек: то один, то другой вставал на вахту, с отчаянной надеждой ожидая, не зажжется ли он вновь. Но по мере того как воздух все больше насыщался испарениями, это мрачное упорство понемногу ослабевало и под конец покинуло их.
К полуночи туман настолько сгустился, что ничего не стало видно на расстоянии и шести футов. Люди на плоту смутно различали только своих самых ближайших соседей, да и то словно сквозь прозрачную серую пелену.
Но темнота не мешала им разговаривать. Так как вместе с призрачным огоньком погасла всякая надежда на помощь, естественно, их мысли должны были направиться по другому руслу. Матросы вспомнили о той драме, от которой их так неожиданно отвлекли.
Голод, жгучий, нестерпимый голод, заставил их перенестись мысленно к сцене, которую так и не удалось закончить должным образом, чему помешал блеснувший впереди обманчивый свет. И теперь моряки задумались над тем, как по-иному сложилось бы все, не сделайся они жертвой миража.
Вот что занимало их мысли и служило темой для разговоров. И в этот торжественный, полуночный час, в туманной мгле, мрачно нависшей над бездонной пучиной, они снова принялись обсуждать страшный вопрос: «Кто следующий?»
Прийти к решению теперь, казалось, уже не так трудно, как прежде.
Большая часть матросов надумала, какого держаться курса. О том, чтобы опять бросать жребий, и речи не было. Да и к чему? Они уже прошли через это. Ну, а если те двое еще не свели счеты до конца, то, без сомнения, дело должно решиться только между ними. Тут и спорить не о чем.
Все единогласно заявили, что на съедение изголодавшимся скитальцам пойдет либо Легро, либо О'Горман. Иными словами, надо снова продолжать поединок, который так неожиданно пришлось отложить.
Пожалуй, такое решение вряд ли можно признать несправедливым, разве только по отношению к ирландцу. В тот момент, когда ему помешали, победа была уже за ним. Будь у него еще полсекунды-враг лежал бы бездыханным у его ног.
Любой третейский суд вынес бы решение в пользу О'Гормона и, быть может, избавил бы его от дальнейшей необходимости рисковать жизнью. Но здесь, где судьями выступали жертвы кораблекрушения, разбойничья шайка с невольничьего судна, причем добрая половина склонялась на сторону его противника, приговор был иной.
Большинством голосов постановили: поединок между ирландцем и Легро начнется снова и закончится только со смертью одного из участников.
Впрочем, сейчас нельзя было возобновить схватку: мешали ночь и мрак. Но с первыми же солнечными лучами смертный бой возобновится.
Порешив таким образом, бывшие матросы с «Пандоры» улеглись отдыхать. Правда, спалось им не так покойно, как на баке невольничьего судна. Жажда, голод, страх перед беспросветным будущим, не говоря уже о жестком ложе,-плохие спутники для сна. Да и измучены были матросы и телом и духом почти до полного изнеможения.
Некоторые спали. Они заснули бы даже в преддверии ада, у врат Плутона, под вой Цербера, раздающийся прямо у них над ухом.
Лишь немногие не могли или не хотели уснуть. Всю ночь напролет то один, то другой, а иногда и двое сразу, бродили по плоту или ползали по доскам, едва ли сознавая толком, что делают. Просто чудо, как эти люди не свалились за борт — ведь они были, в полном смысле слова, почти лунатиками. Но, несмотря на всю неестественность движений, им как-то удавалось удерживаться на плоту. Бултыхнуться через край — значило бы прямехонько угодить головой в пасть акул, которые уже поджидали, готовясь растерзать жертву своими острыми зубами. Быть может, сохранять равновесие этим бессонным скитальцам помогал какой-то инстинкт или же смутное предчувствие опасности.
Глава LXXVII. ТАЙНЫЙ СГОВОР
Большинство матросов задремали, но тишины, полной, глубокой тишины, все еще не было. Временами слышался то шепот ветра, шелестевшего в поднятом парусе, то слабый плеск волн, рассекаемых тяжелыми бревнами плота.
Звуки эти перемежались с шумным дыханием спящих: кто ненароком всхрапнет, кто пробормочет что-то-непроизвольные речи человека, которому снится страшный сон.
Изредка раздавался шум совсем иного рода. Это несколько отверженных, которым не удалось заснуть, завели короткий разговор. Или же кто-нибудь, спросонок наткнувшись на распростертое тело сотоварища и нарушив его сладостный отдых, вернул несчастного к сознанию мучительной действительности, от которой тот искал забвения во сне.
Обычно в таких случаях затевалась злобная перебранка. Угрозы, проклятия градом сыпались с языка и у разбуженного и у того, кто его потревожил. И вслед за тем оба, все еще ворча, умолкали.
В этот час, когда ночь всего темнее, а туман гуще, два матроса примостились у подножия мачты: впрочем, заметить их можно было, только подойдя вплотную.
Согнувшись в три погибели, на коленях, подавшись туловищем вперед, они упирались в доски обеими руками.
Поза была явно неподходящая для отдыха. И в самом деле, если бы кто-нибудь понаблюдал за ними или подслушал их тихий разговор, он понял бы, что помыслы этих людей далеки от сна.
Но кто мог увидеть их в этой кромешной тьме? Правда, некоторые их спутники лежали всего в нескольких футах, но они либо спали, либо находились слишком далеко, чтобы расслышать шепот этих двух матросов.
А те продолжали разговаривать чуть слышно, поочередно подставляя губы к самому уху собеседника. И пока они шептались, по выражению их взглядов можно было догадаться, о чем — или, вернее, о ком — идет речь.
Речь шла о человеке, который лежал, растянувшись во весь рост на бревнах, неподалеку от мачты и как будто спал. Да он и в самом деле крепко спал: оглушительный храп вырывался временами из его рта.
Этот спящий, так шумно храпевший матрос был ирландец О'Горман — один из участников прерванной дуэли, которая должна была возобновиться на рассвете. Какие бы злодейства ни совершил он за свою жизнь (а за ним числилось немало грехов, ведь мы назвали его только наименее преступным из всей этой злодейской шайки!), трусом он, во всяком случае, не был. Если человек может так крепко спать, зная, что ждет его при пробуждении, значит, он храбр и не боится смерти.
Два матроса у мачты не сводили с него глаз. Однако они не могли отчетливо разглядеть лежащего. Сквозь белую пелену тумана смутно вырисовывалось человеческое тело, раскинувшееся на досках, причем видны были только нижняя часть туловища и ноги. Впрочем, даже при свете дня им не удалось бы увидеть отсюда его плечи и голову: их заслоняла пустая бочка из-под рома, о которой мы уже говорили.
Пока в бочке оставалась хоть капля, ирландец больше всех увеселял себя этим напитком: теперь же, когда ром был распит, возможно, самый запах спиртного привлек сюда матроса, подыскивавшего местечко для отдыха.
Так или иначе, оно должно было стать его последним приютом в жизни. Волей жестокого рока О'Горману не суждено уже было проснуться!
Такова была судьба, которую готовили ему два притаившихся у мачты матроса.
— Вот здорово спит! — шепнул один из них на ухо другому.-Слышишь, как храпит? Черт побери! Чисто боров!
— Да, спит, хоть из пушки стреляй! — подтвердил другой.
— Это хорошо! — тихонько сказал первый матрос, многозначительно пожав плечами. — Если обладим дельце как следует, ему уж тогда не очухаться… Верно говорю, парень?
— Как скажешь, так и сделаю, — заявил другой. — Да что нужно-то?
— Главное — без шума. Стукни разок — и готово! Только это надо умеючи. Пырнешь его ножом прямехонько в сердце-он и не шевельнется. Сам не заметит, как очутится на том свете. Даже зависть берет, как подумаю, что он так легко отделается от всей этой чепухи!
— Как бы шуму-то не вышло!
— Да это легче легкого — не труднее, чем бултыхнуться за борт. Кто-нибудь из нас зажмет ему рот, ну а другой… понял теперь?
Какое ужасное злодеяние должен совершить другой, матрос не решился сказать даже по секрету, шепотом!
— Ну, а если даже все сойдет гладко, — возразил его сообщник, — завтра что будет? Пожалуй, сразу догадаются, чьих рук это дело. Обязательно скажут на нас, на тебя-то уж, как пить дать, после вчерашнего… Об этом ты не подумал?
— Как бы не так! Я все обмозговал.
— Ну и что?
— Прежде всего дадим им пожевать, небось не станут тогда разбираться. А там если и заварится каша, наши-то куда сильнее. Эх, будь что будет!.. Лучше сразу в гроб улечься, чем каждый день умирать понемножку!
— Что правда, то правда.
— Да ты не трусь! Из-за них в беду не попадем. Я кое-что надумал, как их провести. Устроим так, будто он сам на себя руки наложил, — и все тут!
— Да что ты говоришь!
— Ну и непонятливый же ты! Туману тебе, что ли, в башку напущено! Не знаешь разве — у ирландца нож есть, да еще какой острый! Уж кому-кому знать, как не мне. Что ж, разве его стащить нельзя? Вот нож и найдут там, где полагается: будет торчать в ране, от которой ирландец окачурится. Понял теперь?
— Понял, понял!
— Первое дело — надо нож стянуть. Иди-ка лучше ты. Я не решусь. А ну как он сам проснется? Сразу смекнет, зачем я тут около него верчусь. А ты себе пройдешь мимо как ни в чем не бывало. Попытка не пытка — худа не будет.
— Что ж, попробую подцепить, — ответил другой. — Давай сейчас, что ли?
— Чем скорее, тем лучше. Нож добудем, а там уж что-нибудь надумаем. Достань, ежели сумеешь.
Проговорив это, матрос остался на месте. Другой поднялся на ноги и пошел прочь от мачты, по-видимому, без всякой цели. Однако путь этот привел его к пустой бочке из-под рома, туда, где лежал спящий ирландец, не слышавший его приближения.
Глава LXXVIII. ПОД ПОКРОВОМ ТЬМЫ ЗЛОДЕЙСТВО СОВЕРШИЛОСЬ
Вряд ли нужно объяснять, кто такие эти два матроса, тайком строившие злые козни. Первый, конечно, француз Легро; другой — его сообщник, тот самый, который помог ему смошенничать, когда тянули жребий.
Читатель, вероятно, уже понял из беседы этих людей о дьявольском замысле зарезать спящего О'Гормана.
У француза была не одна причина совершить это страшное преступление — и каждая в отдельности могла толкнуть на злодейство такую испорченную натуру. Он всегда ненавидел ирландца, а сейчас, после всего происшедшего днем, эта глубокая, смертельная ненависть усилилась еще больше. Уже одного этого было достаточно, чтобы негодяй Легро зарезал своего врага. Впрочем, действовать именно так побуждали его и другие, более серьезные и обоснованные соображения. Как известно, матросы в конце концов договорились, чтобы с первыми же лучами зари прерванный поединок был завершен. Легро знал, что следующий акт этой кровавой драмы будет последним, и, судя по только что разыгравшейся сцене, смертельно боялся развязки. Еще прежде, чем занавес упал после первого действия, он понял, что мог лишиться жизни; и теперь, чувствуя себя слабее противника, страшно трусил при мысли о последней схватке.
Чтобы избежать ее, он готов был на все, на любую низость и преступление, даже на такое коварное убийство.
Легро знал, что, если он хочет добиться удачи и уничтожить врага, необходимо, чтобы никто из матросов не стал свидетелем преступления: тогда против убийцы не будет прямых улик и суда товарищей бояться нечего.
Вопрос только в том, удастся ли совершить злодейство под покровом ночи, в полной тишине. Впрочем, вскоре это должно решиться.
Хитрость, задуманная Легро, едва ли имела бы успех в другой обстановке. Зарезать несчастного его собственным ножом, чтобы создать видимость самоубийства, — уж слишком все это белыми нитками шито! Но Легро был уверен, что здесь, на плоту, следствие не будет производиться по всей строгости закона. Вероятно, матросы поведут дело об убитом без соблюдения каких бы то ни было формальностей.
Во всяком случае, так для него куда меньше риска, чем во время поединка, который, по всей вероятности, завершится для него смертельным исходом.
Он больше не колебался в решении совершить это злое дело. И с этой целью он сделал первый шаг: послал своего сообщника похитить нож.
Кража удалась вполне.
Добравшись до бочки из-под рома, негодяй молча присел; несколько минут он оставался там, потом встал и
направился обратно к мачте. Как ни была ночь темна, Легро все же заметил: что-то блеснуло в руке у сообщника. Француз знал, что это то самое оружие, которого он так страстно домогался.
Да, спящего предательски обезоружили.
И вот оба матроса стоят друг против друга; и за этот краткий миг нож был тайком передан сообщником настоящему убийце.
Затем оба с внешне беззаботным видом еще некоторое время оставались около мачты, будто разговаривая о самых будничных делах. Однако, беседуя, они как бы нечаянно слегка передвинулись с места — чуть-чуть, так что трудно было бы заметить даже при дневном свете. Еще и еще несколько таких еле уловимых движений, перемежающихся короткими паузами, — и вот уже заговорщики незаметно очутились у самой бочки. Один из них присел тут же, рядом; другой, обойдя кругом, вскоре последовал примеру товарища и уселся с противоположной стороны.
До сих пор в поведении обоих матросов не было ничего особенного, что могло бы привлечь внимание их спутников на плоту. Даже если бы кто и проснулся, сплошной мрак, скрывавший движения заговорщиков, помешал бы понять в чем дело.
Никто не видел, как убийцы сели рядом со своей спящей жертвой; никто не заметил, как оба сразу, протянув руки, склонились над ирландцем. Один душил его, накинув на лицо одеяло, другой, ударив в грудь сверкающим клинком, пронзил сердце.
Мгновение — и оба кончили свое подлое дело. В этом кромешном мраке некому было глядеть на убийство, кроме самих злодеев. Некому было услышать глухой крик, заклокотавший в горле умирающего, а если бы кто и уловил, то ему померещилось бы, что это вскрикнул сосед, которого мучит кошмар.
Убийцы, сами ужаснувшись тому, что сделали, дрожа, прокрались обратно к мачте.
Жертва их осталась распростертой недвижно, с лицом, обращенным вверх, на том же месте, где ее застигли убийцы.
Всякий, кто склонился бы сейчас над лежащим матросом, подумал, что он все еще спит.
Увы, это был сон смерти!
Глава LXXIX. КОГДА ПОГАС СВЕТ
Мы покинули команду «Катамарана» в самом разгаре хлопот, когда они на спине у кашалота занимались копчением акульего мяса.
Катамаранцам хотелось иметь столько провизии, чтобы ее хватило на все путешествие — хотя бы на скудном пайке — в другой конец Атлантического океана.
Чтобы сделать такой запас, им пришлось проработать не только целый день, но несколько часов и ночью. Все это время они поддерживали ярко пылавший огонь, подбавляя свежего спермацета в самодельный очаг, который соорудили на спине у морского великана. Топлива жалеть нечего: его было столько, что можно было бы жарить бифштексы из акулы все двенадцать месяцев в году.
Но оказалось, что китовый жир не может гореть без фитиля, а так как они слишком дорожили своим запасным канатом, чтобы расщипать его весь на паклю, то по необходимости им пришлось экономить.
Решив, что акульего мяса про запас нажарено недостаточно, наши скитальцы собирались на следующий день снова приняться за стряпню. А чтобы не жечь фитиль зря, прежде чем уйти спать, они погасили огонь.
Причем потушили его довольно оригинальным способом: зачерпнув из спермацетового «мешка» кашалота побольше жидкости, вылили ее всю в очаг. Огонь ярко вспыхнул напоследок и сразу угас, оставив их в полной темноте.
Впрочем, они без труда добрались к себе на плот, где собирались провести остаток ночи. За последние дни они столько раз проделали этот путь
— с кашалота на «Катамаран» и обратно, что теперь могли свободно подниматься и спускаться и с завязанными глазами. Да, в сущности, и сейчас, в этот последний ночной переход, они чувствовали себя так, словно на глазах у них лежит повязка, — такая непроницаемая, сплошная тьма окружала убитого кита.
Пробравшись ощупью по скользкой спине кашалота, они спустились вниз по канату, привязанному к громадному грудному плавнику; поужинали порцией горячего жаркого, которое догадались захватить с собой, и, запив его глотком разбавленного канарского, улеглись спать.
Чувствуя себя более спокойными за будущее, чем все последнее время, они вскоре заснули. И вокруг кашалота и «Катамарана», сливавшихся во тьме в какую-то черную плавучую массу, наступила глубокая тишина.
В этот самый момент менее чем в десяти милях отсюда разыгрывалась далеко не столь мирная сцена. Читатель уже, наверно, догадался, какой огонь увидели матросы с большого плота, приняв его в своем воображении за камбузную плиту; в действительности это был спермацетовый очаг на спине у кита.
Когда свет погас, началась шумная ссора, достигшая апогея как раз в то время, когда команда «Катамарана» ужинала акульими бифштексами и прихлебывала винцо.
Уже давно катамаранцы погрузились в сладкий сон, позабыв обо всех окружающих опасностях, а на большом плоту еще долго тянулись раздоры.
Все четверо катамаранцев крепко проспали остаток ночи. Как ни странно, но, ошвартовавшись около громадины-кита, они чувствовали себя надежнее, чем если бы их крошечное, утлое суденышко одиноко носилось посреди океана. Правда, безопасность эта существовала только в их воображении, и все-таки на душе у них стало как-то спокойнее.
Светало, а они все еще спали. Наступил час рассвета, но все кругом было окутано густой пеленой. Туман был такой плотный и непроницаемый, что с «Катамарана» не видно было китовой туши, хотя их отделяло всего несколько футов.
Первым зашевелился Бен Брас. Снежок никогда не был ранней пташкой, и, если бы только позволили обстоятельства или ему вздумалось пренебречь своими обязанностями, он охотно провалялся бы до полудня. Но Бен знал, что впереди еще много дела и нельзя терять время попусту. «Капитан» «Катамарана» уже отказался от всякой надежды на возвращение китобойца. Итак, чем скорее они закончат все приготовления и смогут выйти из дрейфа, чтобы продолжить свой прерванный рейс на запад, тем больше у них шансов в конце концов достигнуть земли.
Бен бесцеремонно растолкал Снежка. Пока он будил его, проснулись также Вильям и Лали, так что теперь вся команда была уже на ногах и в полной боевой готовности.
В качестве утренней трапезы был сервирован на скорую руку завтрак по-матросски. После этого Снежок и моряк вместе с юнгой вскарабкались на спину кашалота, чтобы вновь приняться за прерванную стряпню; а Лали, по обыкновению, осталась сторожить «Катамаран».
Глава LXXX. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ
Бывший кок повел за собой своих помощников на самый верх туши. Но не сразу удалось ему разыскать свою кухню. Немало времени шарил он ручищей по осклизлой коже кита, покуда наконец не нащупал край ямы.
Остальные подоспели, когда он вставлял новый кусок фитиля. Живо запылал яркий огонь, и зашипела первая порция акульих бифштексов, подвешенных над пламенем.
Теперь оставалось только ждать, пока все куски поджарятся.
Не требовалось даже поливать их собственным соком, достаточно было только время от времени поворачивать и слегка передвигать куски рыбы, насаженные на гарпун вместо вертела так, чтобы каждый ломоть надлежащим образом подрумянился над огнем.
Эти несложные кулинарные операции лишь изредка требовали внимания повара. Как только Снежок увидел, что его «кухонная плита» работает на полный ход, он примостился подле на корточках — наш повар всегда предпочитал сидячее положение стоячему. Товарищи его оставались на ногах.
Не прошло и пяти минут, как вдруг негр вскочил так стремительно, словно кто-нибудь дал ему сзади пинка.
В то же мгновение у него вырвался крик: «Бог ты мой!»
— Что случилось, Снежок? — спросил Брас.
— Ш-ш-ш! Неужели не слыхали?
— Да нет же, — ответил матрос.
Юнга тоже подтвердил, что ничего не слышал.
— Ну, а я слышал.
— А что ж такое?
— Сам не знаю.
— Да это, верно, зашипели акульи бифштексы или, может, птица пискнула в воздухе.
— Ну нет, не то и не другое. Ш-ш! Масса Брас, знаете, что мне показалось? Совсем особенные звуки — будто самые настоящие человеческие голоса. Тихо, помолчите минутку! Авось опять услышим!
Как ни мало поверили Снежку его спутники, пришлось повиноваться. Пожалуй, они и не обратили бы особенного внимания на его слова, если бы не знали, что негр от природы был одарен исключительно острым слухом. Об этой способности можно было судить по его большим, прекрасно развитым ушам. Впрочем, это и без того было известно нашим скитальцам, так как и раньше они не раз убеждались в его чудесном даре. Поэтому они, последовав его совету, замолчали и стали внимательно прислушиваться.
В это мгновение, к удивлению Бена Браса и Вильяма, а также и самого негра, снизу донесся тоненький голосок Лали.
— Снежок! — позвала девочка, обращаясь к своему постоянному покровителю.-Я слышу, как люди разговаривают. Вон там, на воде. А ты разве не слышишь?
— Ш-ш-ш, маленькая! — хрипло зашептал негр, наклонившись вниз, к Лали. — Тихо, милочка, не болтай чепухи! Смотри же ни словечка, будь славной девочкой!..
Ребенок, напуганный этим градом посыпавшихся предостережений, замолчал. Снежок сделал знак товарищам соблюдать тишину и снова стал напряженно вслушиваться.
Это лишнее свидетельство убедило Бена Браса и юнгу, что негр действительно слышал нечто большее, чем шипение акульего жаркого; без лишних слов они последовали его примеру и стали прислушиваться.
Ждать пришлось недолго.
Они и сами услышали звуки, которые никак нельзя было спутать с шумом океана. То были голоса людей.
Голоса раздавались издали, хотя, возможно, были ближе, чем казалось.
Виною тому был густой туман, который, как известно, заглушает всякий шум.
Впрочем, расстояние, будь оно далеким или близким, все сокращалось. Прислушиваясь, катамаранцы уже через несколько минут убедились, что люди, произносившие эти звуки, эти слова, приближались к кашалотовой туше.
Как же они двигаются сюда? Ведь не пешком же по воде? Значит, они на борту корабля?
Вопросы эти волновали наших путешественников. О, если бы только можно было получить благоприятный ответ! Тогда и они, в свою очередь, закричали бы «ура». И в надежде на ответный отклик сквозь мрачную сень тумана понесся бы морской привет: «Эй, на корабле, эй!»
Но почему же его не слышно? Почему люди с «Катамарана» стоят, прислушиваясь к этим голосам, и не подают сигнал, а в их взглядах читается скорее страх, нежели радость избавления?
Впрочем, достаточно нескольких слов, вырвавшихся у Бена Браса, чтобы объяснить и это молчание и недовольство, читающееся на их лицах.
— Проклятие! Это большой плот!
Глава LXXXI. НЕПРИЯТНЫЕ ДОГАДКИ
— Проклятие! Это большой плот!
Что за странные речи ведет матрос и почему так зловеще звучит его голос? Откуда эти злые предчувствия? Почему это суденышко, которое они зовут «большой плот», внушает такой страх всей команде «Катамарана»?
Ну, что касается Бена Браса и юнги Вильяма, здесь все ясно. Пусть читатель припомнит, как встревожились они сначала, услыхав точно так же, как сейчас, во мраке ночи, голоса Снежка и крошки Лали; с какими предосторожностями, с какой опаской они долго не решались приблизиться к негру, спрятавшемуся за бочками. Вспомним, почему они были так настороже: юнгу терзал настоящий ужас перед этой шайкой людоедов, которая не задумается его сожрать, а великодушный его защитник опасался стать жертвой их мести.
Все эти страхи еще не были позабыты и ожили с новой силой при одной только мысли: а может, большой плот близко?
Снежку незачем было бы так бояться матросов с «Пандоры», если бы не припомнилось ему кое-что. Как раз перед самым взрывом на невольничьем судне он понял по злобному обхождению капитана и его помощника, что они считают виновником катастрофы именно его. Негр знал, что это справедливо, и в то же время имел все основания полагать, что и остальные матросы отнюдь не заблуждаются на этот счет. Больше он с ними после этого не встречался, — и к счастью для него, так как иначе они наверняка выместили бы на нем всю свою безудержную ярость. У Снежка хватило ума это понять. И вот почему он так же сильно, как Бен Брас и юнга, жаждал избежать дальнейших встреч с затерянным в океане экипажем погибшего корабля.
Маленькой же Лали нечего было особенно бояться. Но она испугалась, видя страх своих спутников.
— Большой плот… — проговорил Снежок, машинально повторяя последние слова матроса. — Неужели это он, масса Брас?
— Разрази меня гром! Не знаю, что и думать. Снежок… Если только это он…
— А вдруг он, что тогда? — спросил негр, видя, что Брас неожиданно остановился и не договорил.
— Ну тогда нам несдобровать, попадем в переделку! Навряд ли они разжились где-нибудь провизией с тех пор, как мы дали от них тягу! Чудно, право, как это они выжили, если только это действительно матросы с «Пандоры». Может, им, как и нам, удалось раздобыть мяса акулы, а может, они ели…
Тут матрос внезапно оборвал речь, взглянув на Вильяма. Видно, то, что он хотел сказать, не годилось для ушей подростка.
Впрочем, Снежок отлично его понял и в знак согласия глубокомысленно покачал головой.
— Опять же, насчет воды, — продолжал матрос. — В ту пору у них еще оставалось немножко, ну а сейчас наверняка вся вышла. Зато рому у них было-море разливанное! Да это и к худшему, отсюда и пошли все беды. Правда, во время дождя они могли набрать воду в рубашки или в брезент, как и мы. Только где уж им-не такие они люди, чтобы об этом позаботиться, когда рядом стоит вот эдакая бочища с ромом! Ну, а сейчас, я думаю, если у них и было чего пожрать-ты меня понимаешь, Снежок,-то уж воды ни капли! Подыхают, поди, от жажды. А раз так…
— …а раз так, значит, они отберут у нас всю воду, какой мы запаслись. Тут нам и крышка!
— Это-то уж наверняка,-продолжал матрос.-Да ведь им этого мало-украсть нашу воду, что нам дороже всего на свете. Обдерут все дочиста, да еще и убьют в придачу… Дай Бог, чтобы это были не они.
— Что вы говорите, масса Брас? А если это гичка с капитаном и матросами? Как вы думаете?
— Что ж, может, и так, — ответил Бен. — Они у меня и вовсе из головы выскочили. Все может быть. Ну тогда еще с полбеды: нам нечего их так бояться, как тех, с большого плота. Пожалуй, им не приходится так тяжко. Ну, а если им и туговато, все же их не так много, чтобы нас запугать. Там и всего-то человек пять-шесть. Я беру на себя троих из шайки; ну а вы с Вильямом зададите хорошенькую взбучку остальным. Эх, кабы это были они! Но едва ли: лодка у них хорошая, есть и компас; стоило им только как следует взяться за весла, так их давно уж и след простыл. Эй, друг, у тебя уши получше! Навостри-ка их хорошенько да послушай. Ведь голоса матросов с «Пандоры» тебе все знакомы-попытайся, может, кого и признаешь.
За все время, пока негромко, почти шепотом, шел этот разговор, таинственные голоса молчали. Сначала, как только они послышались, казалось, будто разговаривают два-три человека. Впрочем, звуки доносились крайне неясно, словно люди находились еще далеко или же говорили очень тихо.
Теперь катамаранцы прислушивались, ожидая, не донесется ли до них какое-нибудь громче сказанное слово, и в то же время им этого вовсе не хотелось. Они предпочли бы никогда не слышать этих голосов.
Одно время казалось, что их мольба услышана. Прошло целых десять минут-и ни звука, ни голоса…
Сначала молчание успокоило их. Но вдруг в уме у Бена Браса мелькнула новая догадка-и все его думы и стремления приняли совершенно иной оборот.
А что, если они слышали голоса совсем чужих людей? Почему это обязательно должна быть команда погибшего невольничьего судна: либо негодяи-людоеды большого плота, либо капитанская шайка на гичке? Кто знает, может, все-таки это разговаривают матросы на палубе китобойца?
Бывший гарпунер об этом прежде не подумал. А теперь догадка так потрясла его, что он с трудом заставил себя сдержать крик: «Эй, на корабле!»
Но помешала другая, быстро мелькнувшая мысль, которая снова призвала его к осторожности. Если эти люди, голоса которых они слышали, не команда китобойца, а матросы с невольничьего судна, то окликнуть их-значит, наверняка навлечь неизбежную гибель на себя самого и на своих спутников.
Он шепотом поделился своими мыслями со Снежком, на которого они произвели точно такое же впечатление. Негру так же страстно хотелось крикнуть: «Эй, на корабле!» — и в то же время он сознавал, насколько это опасно.
Противоречивые чувства боролись в груди у обоих друзей. Как больно было думать, что тут же, рядом, так близко, что можно его окликнуть, находится корабль, который мог бы спасти их от всех опасностей! И, быть может, корабль так и пройдет мимо, бесшумно скользя по воде, скрытый от их взоров этим густым туманом. Еще какой-нибудь час, и он очутится далеко в океане, и никогда больше его команда не услышит зова наших скитальцев.
Одно-единственное слово, один возглас — и они спасены! И все-таки катамаранцы не решались: ведь этот крик может выдать их врагу и погубить.
Ими овладело сильное искушение: рискуя жизнью, дать опасный сигнал. Несколько секунд они колебались — молчать или окликнуть: «Эй, на корабле!» Но осторожность советовала замкнуть уста, и под конец восторжествовало благоразумие.
Такое решение было принято не случайно. Бывший гарпунер пришел к нему путем размышлений, основанных на его прежнем профессиональном опыте.
Если это китобойное судно, рассуждал Бен Брас, то оно должно вернуться на поиски кашалота. Команда знает, что кит убит: об этом говорят и буи и флаг. Бен Брас был уверен, что матросы непременно захотят вернуться на розыски кашалота. Именно эта уверенность все время поддерживала в нем надежду и заставляла его так долго оставаться подле кашалотовой туши. Не каждый день удается подцепить посреди океана этакую находку-кашалота, который может дать без малого сотню бочек спермацета! Он знал, что такое сокровище не бросишь на произвол судьбы, а попытаешься отыскать во что бы то ни стало.
Все говорило за то, что голоса послышались с китобойца. А в таком случае команда, задавшаяся целью найти кита, едва ли решится продолжать путь в тумане. Скорее они лягут в дрейф и станут дожидаться, покуда погода не прояснится. Таким образом, катамаранцы все-таки могли надеяться, что, когда туман рассеется, они увидят страстно желанный корабль на месте. И они решили хранить молчание.
Было еще очень рано. Заря только занималась. Когда появится светило и его могучие лучи разгонят мрак, тогда только наши скитальцы убедятся окончательно, чьи это голоса: людей или же людоедов, этих чудовищ в образе человеческом!
Глава LXXXII. НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
Им не пришлось дожидаться, пока спадет туман. Задолго до того, как солнце приподняло дымку с океана, катамаранцы уже знали, кто их соседи. Нет, то были не друзья, а смертельные враги, те самые, которых они так боялись.
Открытие не заставило себя долго ждать. Дело обстояло так.
Все трое, Снежок, матрос и Вильям, по-прежнему оставались на туше кашалота, внимательно вслушиваясь. Бен Брас с юношей стояли, а негр полулежал, приникнув своим большим ухом к коже кита; видно, он считал, что так слышнее.
Напрягать слух им, однако, не пришлось. Когда наконец донесся звук — это оказался человеческий голос, да такой громкий и грубый, что даже глухой мог бы его расслышать.
— Черт побери! — воскликнул кто-то с явным изумлением. — Поглядите-ка, ребята! Среди нас мертвец!
Если бы эти слова произнес сам демон тумана, они не могли бы сильнее потрясти ужасом наших скитальцев, стоявших на спине у кашалота. Иностранный акцент и кощунственное ругательство могли изобличать любого, говорившего по-французски, но самый голос нельзя было не признать по его тембру: слишком часто гремел он у них в ушах с такими же резкими, неприятными интонациями.
— Ох, да это масса Легро! — пробормотал негр. — Каждый скажет — это он!
Друзья не ответили Снежку. Впрочем, ответа и не требовалось. В тумане зазвучали новые голоса.
— Мертвец? — вскричал другой моряк. — Ну да, так и есть. Кто такой?
— Да это ирландец! — воскликнул третий. — Смотрите, его убили! Вот и нож торчит меж ребер. Зарезан!
— Ну, это его нож! — произнес кто-то. — Как мне не узнать! Ведь раньше он мне принадлежал. Взгляните, там, на ручке, должно быть проставлено имя хозяина. Он тут же его и вырезал, в тот самый день, как купил нож у меня.
Наступила пауза, матросы замолчали, словно желая проверить сказанное.
— Правильно! — сказал один из них, продолжая вести самочинное следствие. — Вот оно, имя, — Ларри О'Горман.
— Он покончил с собой! — произнес еще один, раньше молчавший матрос.
— Это самоубийство!
— А что мудреного? — подтвердил другой. — Так или иначе, ему была бы крышка. Вот парень и надумал: чем скорее, тем лучше, да и с плеч долой!
— Как так? — спросил еще один, видимо, не согласившись с мнением тех, которые высказывались до него. — Зачем же помирать было ему одному, а не всем нам?
— Забыл, что ли, брат, сегодня ему драться с мосье Легро?
— Нет, не забыл. А что с того?
— А ну-ка, пораскинь мозгами!
— Никак не пойму, почему именно он был на очереди отправиться к праотцам, а не кто иной. Эй, ребята, смотрите! Дело тут нечисто! Ирландца зарезали его собственным ножом! Это-то ясно. Вряд ли это он сам над собой совершил. На кой черт это ему сдалось! Тут дело нечисто!
— А виновник кто, на кого думаешь?
— Не знаю я ничего, братцы! Если видели, скажите. Кто-нибудь да знает, как все это вышло. Мокрое дело, не иначе! Назовите злодея!..
Молчание длилось больше минуты. Никто не отвечал. Если матросы и знали, кто убийца, они не собирались его выдавать.
— Послушайте, ребята! — вмешался какой-то матрос, чей резкий голос прозвучал, словно крик гиены. — Я хочу жрать, как акула, у которой все нутро рассохлось с голодухи. Давайте отложим разбирательство, покуда не перекусим. Там будет видно, кто его на тот свет отправил. А может, никто и не виноват. Ну, что скажете?..
Никто не ответил на это гнусное предложение.
Тут опять раздался громкий крик, вызванный совершенно иной причиной. Все, что говорилось в дальнейшем, не имело никакого отношения к обсуждавшемуся вопросу.
— Огонь! Огонь! — вопили голоса.
— Тот самый, что вы видели вчера ночью! Камбузная печь! Э, да судно близехонько — всего каких-нибудь ярдов сто!
— Эй, на корабле! Корабль, эй!
— Эй, на корабле! Что за судно?..
— Эй, вы, там! Что ж вы, черти, не отвечаете?
— За весла, ребята! Живо за весла! Заснули там эти олухи, что ли, глаз еще не продрали?.. Эй, на корабле, эй, эй!..
Нетрудно было догадаться, что значат эти речи. Матрос и Снежок безнадежно переглянулись. Они уже узнали, что творится за спиной у них. Там, в самодельном очаге, ярко пылал спермацет, и над огнем румянились бифштексы. Взволновавшись, они совсем позабыли обо всем этом. Пламя, светясь сквозь туман, выдало их присутствие людям на плоту. Катамаранцы услышали приказ сесть за весла, смутно уловили тотчас же раздавшийся плеск воды и поняли, что большой плот несется прямо на них.
Глава LXXXIII. ЕСТЬ ВЫТРАВИТЬ ТРОС!
— Вон, вон они! Сюда плывут?.. — пробормотал Снежок. — Что делать, масса Брас? Если останемся, несдобровать нам!
— Останемся? Как бы не так! — воскликнул матрос. Теперь он говорил громко, так как шептаться уже не было смысла. — Все, что угодно, только не это!.. Живей, Снежок, живей, Вильям! Обратно на плот! Дай Бог ноги, только бы выбраться отсюда, с этой китовой туши, подобру-поздорову! У нас еще много времени, а там посмотрим, чья возьмет! Да не вешай ты нос, Снежок! Наш старый «Катамаран» — суденышко что надо! Я строил его сам, а ты мне помогал. Помнишь, друг! Уж мне ли не знать, каков он на ходу! Мы их еще перегоним!
— Обязательно, масса Брас! — подтвердил Снежок и сразу же вслед за матросом спустился вниз по канату на «Катамаран», где их уже ждал Вильям.
Перерезать канат, которым маленькое суденышко было прикреплено к плавнику кашалота, и оттолкнуть плот от причала оказалось делом нескольких минут.
Однако как ни кратки были эти мгновения, за это время взошло солнце и вся панорама чудесно изменилась.
Туман, носившийся над океаном, почти растаял в его жарких лучах, и глазам открылась непривычная картина. Все предметы поблизости от убитого кашалота можно было охватить одним взглядом-все они были на виду.
Как гигантская черная скала, возвышалась над морем туша морского великана. Сбоку виднелся крошечный «Катамаран» с поднятым парусом, только что отчаливший от нее. На нем хлопотала команда: двое мужчин и парнишка; ведь маленькая креолочка была только пассажиркой. Мужчины энергично работали веслами, а мальчик держал руль.
Меньше чем в ста ярдах за кормой виднелся большой плот и на нем около двадцати неясно различимых фигур. Кто сидел за веслами и усердно греб, кто правил рулем, а кто возился с парусом. Два матроса стояли на носу, громко отдавая приказания. Все они, видимо, были поражены столь неожиданно открывшейся картиной и не знали, что подумать, куда держать курс.
Люди на большом плoту были взволнованы и удивлены сильнее, чем катамаранцы: эти уже больше ничему не удивлялись. Они поняли все, едва только услышали голоса матросов, принимавших участие в своеобразном следствии, производившемся на плоту. Изумление, которое они испытывали сначала, теперь сменилось страхом.
А матросы на большом плоту все еще не могли оправиться от потрясения. Да и не мудрено — любого поразило бы это видение, которое так внезапно возникло у них перед глазами, сначала смутно рисуясь в тумане, но мало-помалу становясь все отчетливее.
Сколько же здесь удивительного! Вон гигантская туша кита; на спине у него разведен костер, и языки пламени высоко вздымаются к небу; над огнем стоит «журавль», и на нем что-то подвешено для копчения; рядом — плот, так похожий на их собственный, с таким же парусом и пустыми бочками, поддерживающими его на плаву; на нем хлопочут трое людей, — все эти чудеса, все эти странные, необычайные явления могли изумить самого равнодушного наблюдателя. Некоторые матросы чуть языка не лишились на время; зато другие бурно выражали свое удивление громкими криками и возбужденными жестами.
Первый приказ, который отдал Легро (это его голос услышали на «Катамаране»), был следующий: идти полным ходом к темной массе, или, вернее, к маяку, пылающему на ее вершине. Матросы тотчас же повиновались. Всех их мучил какой-то безотчетный страх: а вдруг огонек, как и прежде, снова скроется с глаз?
Но по мере того как они подходили ближе и туман редел, все становилось виднее. Изумление матросов не уменьшилось, но они стали лучше ориентироваться в окружающей обстановке.
Поспешное отступление катамаранцев само по себе уже было показательно: маленький плот отчаливал. Это больше, чем что-либо другое, помогло матросам с «Пандоры» понять, почему те пустились в бегство.
Сначала они никак не могли сообразить, что это за люди на маленьком плоту. Было видно, что их четверо, но туман все еще мешал ясно разглядеть их фигуры, черты и выражение лиц. Будь там только двое, а вместо плота — простой помост из досок, тогда, пожалуй, можно было бы догадаться. Ведь, помнится, именно на таком плоту удрали Бен Брас с мальчишкой. Может быть, это они и есть? Но кто же тогда двое остальных? И откуда взялись на этом стремительно убегающем суденышке шесть бочек, парус и прочие корабельные принадлежности?
Матросы не стали терять время на догадки. Хватит и того, что эти четверо, увидя их, пустились наутек. Уже одно это казалось неопровержимым доказательством того, что у них имеется что-то ценное, что стоит спасать, — неужели вода?
Кто-то обронил это слово. Оно внесло сильнейшее смятение в эту разноплеменную команду, где все терзались мучительной жаждой. Не колеблясь ни мгновения, матросы кинулись к веслам и изо всех сил пустились в погоню за «Катамараном».
Глава LXXXIV. ПОГОНЯ
На веслах и под парусом матросы в несколько минут добрались до кашалотовой туши. Они ее хорошенько разглядели, догадались, как она сюда попала, но все еще не могли надивиться фейерверку там, наверху.
Когда они проходили под сенью этой громадины, кто-то предложил сделать остановку, уверяя, что пищи здесь хватит на всех. Но большинством предложение было отвергнуто.
— К черту! — загремел властный голос Легро. — Пищи у нас вдоволь! Вода — вот что нам нужно сейчас до зарезу! Где мы возьмем воду на ките? А вот у тех, кто удирает, кто бы они ни были, уж наверняка есть вода. Давайте сначала пустимся за ними! Нагоним — и сразу же обратно. А если не удастся, вернемся все равно!
Это показалось настолько разумным, что никто не возражал. Под одобрительный гул голосов решение было принято. Гребцы с новыми силами взялись за весла, и плот промчался мимо туши, оставив позади, за кормой, и черную массу и пылающий на ней маяк.
Словно пытаясь оправдать свое поведение перед остальными, Легро продолжал:
— Не дрейфьте, найдем эту дохлую рыбищу! Глядите, туман рассеивается. Еще полчасика-и следа от него не останется. Да мы увидим эту китовую тушу миль за двадцать: вон какой дым от нее валит, словно из пекла! Гребите так, чтобы чертям тошно стало! Видите эти бочки?.. Уж будьте покойны — в какой-нибудь из них отыщется водица! Подумать только — вода!
Пожалуй, не требовалось повторять это магическое слово, чтобы вдохнуть новые силы в измученных жаждой моряков. Они и так уже гребли что было сил.
Погоня длилась примерно минут десять: их разделяло каких-нибудь двести ярдов или чуть меньше.
Собственно говоря, они уже могли смутно видеть друг друга, но черты лица все еще нельзя было разглядеть.
У катамаранцев было одно преимущество: они-то знали, кто гонится за ними по пятам.
Зато матросы на большом плоту и понятия не имели, кто эти четверо и почему они так стремятся уйти от встречи. Было видно, что взрослых только двое, но это не давало ключа к разгадке: кто же эти беглецы?
Разумеется, никто не подумал перебрать в уме всех, кто вместе с ними совершал рейс на «Пандоре». Но если бы это даже и пришло кому-нибудь в голову, ни один из них не поверил бы даже на минутку, что черный кок Снежок и португальская девочка, которую, кстати, редко даже видели на палубе невольничьего судна, сумели остаться в живых.
Только когда туман совсем рассеялся-вернее, поредел настолько, что казался прозрачной дымкой, — преследователи узнали беглецов.
И тут все сомнения исчезли.
Одного из четверых на палубе стремительно убегавшего суденышка можно было признать безошибочно. Этот гигантский округлый торс, покрытый черной кожей и увенчанный шарообразной головой, из всех живых существ на земле мог принадлежать лишь бывшему коку с «Пандоры». Негр разделся, чтобы ему удобнее было грести. Какое тут может быть сомнение! Разумеется, это Снежок.
Как только негра узнали, матросы разразились криками. В течение нескольких минут воздух звенел голосами его бывших спутников, убеждавших африканца «отдать якорь».
— В дрейф, Снежок! — кричали матросы. — Зачем перерубил трос?.. Стой, погоди! Держись! Сейчас подойдем. Не бойся — худа не сделаем…
Снежок «держался», правда, не так, как хотелось бы его прежним сотоварищам. Все их просьбы имели как раз обратное действие, он с еще большей силой приналег на весла, чтобы избежать этой «дружеской встречи», грозившей, как ему было отлично известно, неминуемой гибелью.
И Снежок не поддался на уговоры. К тому же Бен Брас подавал ему здравые советы. Поэтому негр оставался глух ко всем настояниям преследователей и в ответ только энергичнее работал веслами.
Уговоры сменились приказами, затем угрозами и протестами. Матросы клялись жестоко отомстить Снежку и всячески расписывали те страшные муки, которые ждут его, стоит только ему попасться к ним в руки.
Но угрозы не действовали, так же как и слезные мольбы. И матросы, мало-помалу убедившись в этом, притихли.
Молчаливое, но упорное сопротивление, с которым Снежок отклонял все их домогательства, привело в ярость тех, кто раньше тщетно его молил, и в порыве злобы они с еще большей энергией пустились вдогонку за убегавшим от них суденышком.
Между преследователями и беглецами все еще оставалось двести ярдов. Двести ярдов в океане, на ровном, без препятствий, пространстве! Что будет дальше: уменьшится ли расстояние и «Катамаран» попадет в лапы врагу или же расстояние будет увеличиваться и плот спасется?
Глава LXXXV. ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ
Что ждет катамаранцев — избавление или плен? Вот что занимало умы обеих команд: и тех, кто убегал, и тех, кто преследовал. Впрочем, вопрос этот и не обсуждался.
На обоих плотах люди из сил выбивались: одни, чтобы убежать, другие — помешать их бегству. Но как непохожи были причины, толкавшие на борьбу каждую из сторон!
Катамаранцы верили, что, идя на веслах и под парусом, борются за собственную безопасность; и они не заблуждались, так как матросы с «Пандоры» охотились за ними с самыми враждебными намерениями, стремясь отнять у них все, даже самую жизнь.
Так неслись они в безбрежном океане. Страх неудержимо гнал беглецов вперед. За ними летела погоня, обуреваемая кровожадными инстинктами.
«Катамаран», бесспорно, превосходил большой плот мореходными качествами, и, будь только ветер немного посвежее, наши скитальцы вскоре оставили бы преследователей далеко позади.
На беду, сейчас дул самый слабый бриз, и потому исход погони решали весла.
Тут «Катамаран» сильно уступал своему сопернику: на нем имелась всего одна-единственная пара весел, а на большом плоту матросы располагали примерно двенадцатью парами, включая гандшпуги и прочие корабельные принадлежности. И в самом деле, когда команда пустилась в погоню, за весла взялась сразу целая дюжина гребцов.
Пусть даже они гребли не в такт и неумело, все-таки им всем вместе удавалось нагонять скорость, большую, чем на «Катамаране», и экипаж маленького плота с ужасом увидел, что преследователи берут верх.
Расстояние сокращалось хотя и не очень быстро, но заметно.
Тревога росла: еще немного-и их настигнут.
Под такой угрозой люди, склонные легко падать духом, прекратили бы всякие усилия и сдались бы на милость рока, казавшегося почти неизбежным.
Но ни английский матрос, ни негр не были малодушными. Это были люди прочной закалки. Даже сейчас, когда исход погони складывался не в их пользу, они обменивались ободряющими словами, поддерживая друг друга в обоюдном решении: не складывать рук до тех пор, пока между ними и их безжалостными преследователями останется хотя бы только шесть футов.
— Нет, — воскликнул матрос, — не к чему весла бросать! От них пощады не жди, что от твоих акул. Знаю я их повадки!.. Держись, Снежок, ни одного удара веслом зря! Авось мы еще вымотаем из них душу!
— За меня не тревожьтесь, масса Брас! — возразил негр. — Я буду грести, пока есть хоть капля силы в руках и дыхание в груди. Будьте покойны!
Казалось, команда «Катамарана» вступила в борьбу с самой судьбой. Но не все еще было потеряно. Что-то должно было их ободрять и воодушевлять на новые усилия Но что же?
Чтобы ответить на этот вопрос, стоило только оглянуться назад.
Там, на некотором расстоянии от преследующего их плота, на водной глади можно было заметить нечто новое. Наискось через весь горизонт протянулась темная полоса. Рядовой наблюдатель, пожалуй, не обратил бы на нее внимания, но для опытного глаза Бена Браса (моряк сидел за веслами лицом как раз в ту сторону) эта полоса имела особый смысл. Он знал, что скоро волнение на море усилится и ветер будет крепчать. Да и тучи, собиравшиеся с огромной быстротой за кормой, указывали, что надвигается буря.
Бен Брас тут же поделился своими наблюдениями со Снежком. И это окрылило их надеждой на спасение.
Оба думали, что сильный попутный ветер поможет им уйти от преследователей. По-прежнему сосредоточив все силы на том, чтобы вести вперед «Катамаран», они в то же время глаз не спускали с океана за кормой, следя за ним еще с большей тревогой, чем за нагонявшими их матросами.
— Эх, только бы не подпустить их близко!-прошептал Бен Брас товарищу-гребцу.-Продержаться бы еще хоть четверть часика! Бриз вот-вот настигнет, а тогда у нас будет хоть капля надежды. Сейчас они нас нагоняют, но ветер нагонит их, пожалуй, еще быстрее. Эх, подул бы ветерок, свежий, крепкий! Видишь, вода рябит там, в трех узлах, за кормой большого плота? Греби же, Снежок, коли жизнь мила! Гром меня разрази! Вон они нас нагоняют!
В последних словах матроса прозвучала нотка отчаяния: как видно, «капитану» «Катамарана» положение стало казаться безнадежным. Снежок только печально кивнул головой в знак согласия: бывший кок разделял мрачные предчувствия своего товарища.
Глава LXXXVI. ПЕРЕРЕЗАН ПОПОЛАМ
Несколько секунд матрос и Снежок молчали. Оба были слишком заняты греблей и своими наблюдениями, чтобы найти время для разговоров.
Преследователи подняли крик. Пока не было полной уверенности в исходе погони, матросы держались молча, но, как только они убедились, что их неповоротливый плот идет быстрее и перегонит «Катамаран», в воздухе снова зазвучали их дьявольские, злобные голоса. Беглецам вдогонку неслись грозные оклики, требования остановиться вперемешку с угрозами жестоко отомстить за неповиновение.
Особенно выделялся угрожающими речами и жестами один из них, видимо занимавший важное положение на плоту. Человек этот был Легро.
Стоя впереди, почти на самом носу, с длинным багром в руке, он, казалось, командовал остальными, всячески подстрекая их к нападению. Слышно было, как он рассказывал своим, что видел у беглецов съестные припасы и воду, целую бочку воды, прикрепленную к «Катамарану».
Что до того, ложны или правдивы эти речи! Все равно они сделали свое дело, воодушевив матросов за веслами.
«Вода!»-звенело музыкой в ушах у них. При одном звуке этого слова все как один напрягли свои силы до предела.
Большой плот понесся еще быстрее, словно торопя развязку. Он нагонял своего соперника. Не прошло и десяти минут, как он очутился так близко от кормы «Катамарана», что решительный человек мог бы перепрыгнуть с одного плота на другой.
Команда «Катамарана» смотрела с отчаянием-враг приближался…
Они видели, как сзади набегают черные волны с белыми пенящимися гребнями; видели, как небо над головой у них все больше и больше заволакивается грозовыми тучами. Но, казалось, небеса грозно хмурились словно для того, чтобы сделать еще мрачнее ужасную судьбу, настигающую их.
— Разрази меня гром! Слишком поздно! Нам уже не спастись! — вскричал Бен Брас, намекая на запоздалый ветер.
— Слишком поздно? — откликнулся Легро с большого плота.
Отвратительно было глядеть на француза: такой свирепый вид придавали ему белые зубы, хищно сверкавшие сквозь черные усы.
— Слишком поздно, говорите вы, Бен Брас? А почему бы это так, разрешите спросить? Для нас-то не поздно нахлебаться вволю из вашей бочки с водой! Ха-ха-ха!.. Эй ты, бродяга! — продолжал он, обращаясь к негру. — Ты что ж это весла не бросаешь? Черт побери! На что они тебе сдались, мерзкая черномазая образина? Не видишь разве — еще несколько секунд, и мы всех вас возьмем на абордаж? Весла долой, говорю тебе, и не задерживай! Посмей только ослушаться — шкуру спустим живьем, когда попадешься к нам в лапы!..
— Никогда, масса Гро, — гордо ответил Снежок, — не спустить вам шкуру с меня! Живым не дамся — раньше умру! Знайте, у меня есть нож. И, клянусь, не один из вас будет убит, покуда меня схватите! Так берегитесь же, масса Гро! Лучше вам связаться с самим дьяволом, чем наложить лапу на старину Снежка!
Француз не удостоил ответом эту угрозу противиться до конца. У него не было времени вести дальнейшие переговоры. Сейчас плоты сошлись так близко, что все его внимание было поглощено каким-то новым замыслом.
Легро, увидев, что «Катамаран» можно достать багром, схватил его и, наклонившись вперед, вонзил абордажный крюк в корму маленького суденышка.
Одну-две секунды длилась борьба, и в результате оба плота, верно, столкнулись бы, если бы не находчивость английского матроса: ловким ударом весла он не только оторвал багор от плота, но и вышиб его из рук Легро.
В то же мгновение француз, потеряв равновесие, покачнулся и внезапно провалился, но не упал навзничь, а продолжал держаться стоймя, словно ноги его попали в щель между бревнами плота.
Так оно и было. Как только на обоих плотах оправились после первого потрясения, все увидели, что от Легро осталось только полчеловека-с подмышек до макушки; нижняя половина туловища застряла между досками, не дававшими французу целиком погрузиться в море.
Быть может, для него лучше было бы совсем упасть в воду… Так или иначе, самый смелый прыжок вниз головой не мог бы кончиться для него более печально.
Не успел он провалиться между бревнами, как из глотки у него вырвался отчаянный вопль и все черты внезапно побледневшего лица дико исказились. Очевидно, произошло нечто более страшное, чем простой шок от падения в воду по пояс.
Один из товарищей — тот самый злодей, его сообщник, о котором мы уже говорили, — бросился вперед, чтобы освободить Легро из западни: было очевидно, что француз не может выбраться собственными силами.
Матрос схватил его за плечи и начал было тащить вверх, как вдруг неожиданно выронил и с криком ужаса отпрянул назад.
Столь странное поведение стало понятным, только когда все увидели, что обратило матроса в такое стремительное бегство.
Это был уже не Легро и даже не его труп — от него оставалась только верхняя часть туловища, начисто перерезанная на уровне живота словно гигантскими ножницами.
— Акула! — вскричал кто-то, высказывая общую мысль, которая одновременно пронеслась в уме у всех: и у матросов на большом плоту, и у команды «Катамарана».
Так плачевно завершилась жизнь этого грешника, который, безусловно, заслужил страшную кару и, наверно, не был достоин лучшей доли.
Глава LXXXVII. НЕПРЕДВИДЕННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Зрелище, столь неожиданное и, главное, столь жуткое, не могло не произвести сильнейшего впечатления на всех, кто был его очевидцем. Настроение преследователей изменилось, и они на время почти приостановили погоню. В свою очередь, катамаранцы ослабили усилия. На несколько секунд и та и другая сторона словно оцепенели под действием
каких-то чар. На обоих плотах поднятые весла замерли в воздухе.
Эта передышка пошла на пользу «Катамарану», более легкому на ходу, чем плот преследователей. К тому же его команда скорее пришла в себя от изумления — какое им было дело до того, что приключилось с Легро! Спутники полусъеденного француза еще не решили, продолжать ли им погоню, а катамаранцы уже ушли вперед на расстояние, равное нескольким плотам в длину: так стремительно убегали они от опасного соседства.
Это удивительное событие настолько ужаснуло разбойничью шайку с «Пандоры», что одно мгновение они готовы были поверить во вмешательство сил, более могущественных, чем простой случай. Далеко не все из них были друзьями несчастного, на долю которого выпал столь необычный жребий. В их памяти все еще было свежо прерванное расследование; будь только оно доведено до конца, думали многие, виновность Легро была бы доказана и он был бы обличен как убийца О'Гормана.
На большом плоту многие и не подумали бы продолжать погоню, если бы дело шло только о том, чтобы отомстить за Легро. Но они все находились во власти иного, более могущественного побуждения: их терзала жажда, и они были убеждены, что на убегающем плоту найдется чем ее утолить.
На досках еще валялась половина туловища искалеченного француза. Но это недолго занимало их мысли. Вскоре они и совсем позабыли о нем, когда снова раздался крик «Вода!», заставивший их опять ринуться в погоню.
Еще раз взялись они за весла, еще раз принялись грести изо всех сил, но
— увы! — с гораздо меньшим успехом. Мучительная жажда все еще гнала их вперед, но в их действиях уже не было прежнего единодушия, которое всегда является залогом победы. Не стало человека, который заставлял их идти за собой. И матросы действовали теперь так нерешительно и несогласованно, что заранее были обречены на неудачу.
Быть может, если бы все осталось неизменным, они наверстали бы упущенные возможности и со временем нагнали беглецов на «Катамаране». Но за эти полные волнения минуты передышки на море произошла перемена, которая должна была решить судьбу и беглецов и преследователей.
Темная линия на дальнем краю горизонта, за которой с самого начала так пристально следили на «Катамаране», больше уже не была узкой полосой мрака. Все то время, пока длилась погоня, полоса росла и теперь закрыла небо и океан. Тяжелые, черные тучи заклубились на небе, быстрые пенящиеся волны вскипели на море, с разбегу ударяясь о бочки на обоих плотах. Все предвещало если не шторм, то, по крайней мере, сильный ветер. Казалось, теперь-то исход погони будет совершенно иной.
И вот все переменилось. К тому времени, как потерпевшие кораблекрушение матросы на своем неуклюжем большом плоту снова пустились в погоню, они увидели, что более легкий на ходу «Катамаран», широко распустив по ветру парус, стремительно ускользает от них.
Погоня прекратилась. Возможно, матросы и не отказались бы от нее, если бы волны, вздымавшиеся вокруг, не напомнили им о новой опасности. Пена захлестывала их с головой, океан с каждым порывом ветра грозил потопить их плохо управлявшийся плот. Хлопот у них было по горло, и, теряя последние остатки сил, они цеплялись за бревна своего кое-как сколоченного суденышка.
Глава LXXXVIII. ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ
Так еще раз катамаранцы избавились от страшной опасности, вырвались буквально «из когтей смерти».
Тот самый бриз, который так вовремя умчал их от преследователей «Катамарана», вскоре превратился в сильный ветер и все крепчал, обещая перейти в еще более страшное для мореплавателей явление-в грозу океана, шторм.
Плоты уже больше не были на виду друг у друга. И пяти минут не прошло после того, как Легро взял их на абордаж, а сильный ветер уже подхватил «Катамаран»: быстроходное маленькое суденышко далеко унеслось вперед от громоздкого вражеского плота.
Еще час — и «Катамаран» благодаря хорошему рулевому был на несколько миль дальше к западу. В это время большой плот, который не мог идти на веслах и плохо слушался руля, казалось, отдался на волю ветров. Матросы, находившиеся на нем, безнадежно пытались идти в фордевинд.
Несмотря на то что ветер крепчал, а океан все больше волновался, катамаранцы не отчаивались. Бен Брас словно не замечал опасности и уговаривал своих товарищей не падать духом.
Были приняты все меры, чтобы предотвратить возможную катастрофу. Как только катамаранцы заметили, что преследователи остались позади и что с этой стороны опасность им больше не грозит, они тотчас же спустили парус на мачте, так как ширина его была слишком велика для все усиливающегося ветра. Его не убрали совсем, а только укоротили, зарифовав кое-как, чтобы наполовину уменьшить поверхность, подставляемую ветру. И это оказалось как раз тем маневром, который был необходим, чтобы сделать «Катамаран» еще более устойчивым на ходу.
Нельзя сказать, чтобы «капитан» и его команда не боялись за безопасность плота. Наоборот, они испытывали сильный страх, столь естественный в их положении, и поэтому принимали все меры, чтобы избежать грозившей гибели.
Положение, в котором они очутились, было для них совершенно ново. С тех пор как они соорудили свой незамысловатый плот, они ни разу не повстречали на своем пути шторм или хотя бы сильный ветер. С момента гибели «Пандоры» погода им благоприятствовала. Они плавали «в летних водах», посреди тропического океана, где нередко проходят целые недели, и ни ветры, ни волны не нарушают безмятежную морскую гладь, — словом, в океане, где штиль опаснее шторма. До сих пор они еще не сталкивались с резкими атмосферными явлениями; самое большее-их подгонял свежий бриз, и тогда «Катамаран» проявлял себя как превосходный парусник.
Но устоит ли он перед бурей, которая может перейти в шторм или даже в грозный ураган?
Предвидя эти события, наши скитальцы не слишком были уверены в своем благополучии. Они трепетали от ужаса. И они со страхом глядели ввысь, на все мрачнеющее небо и на бурю, готовящуюся вот-вот обрушиться на них.
Целое утро бриз все крепчал и в полдень стал очень сильным. К счастью для команды «Катамарана», он не перешел в шторм, иначе их утлое суденышко было бы разнесено вдребезги.
Хотя волнение на океане по сравнению с тем, что происходит в шторм, было весьма умеренным, команда едва могла сохранять свой плот в целости. Мало радости было думать, что, случись настоящий шторм, «Катамаран» непременно разлетится на куски. Они могли лишь тешить себя надеждой, что, прежде чем это произойдет, они пристанут к твердой земле или, что еще вероятнее, их подберет какое-нибудь судно.
Но сейчас катамаранцы и не помышляли о благополучном завершении странствий: так незначительны были шансы на спасение и такой отдаленной казалась самая его перспектива. Стоило им только задуматься над этим, как они вспоминали всю безвыходность положения и впадали в глубокое уныние. Впрочем, сегодня у них не хватало времени уноситься фантазией так далеко — к концу своих скитаний. Их тело и дух были слишком заняты тем, чтобы не дать этим странствиям трагически оборваться. Мало того, что им приходилось держаться настороже перед каждой накатывающейся волной и следить, чтобы «Катамаран» выдерживал ее натиск,-надо было еще присматривать, чтобы не разошлись связывающие бревна канаты.
Уже несколько раз океан обрушивался на них. Не будь крошка Лали и Вильям так крепко привязаны к основанию мачты, их обоих смыло бы волной и они, конечно, погибли бы в мрачной пучине океана.
Двое сильных мужчин с величайшим трудом могли удерживаться на плоту; чтобы их не смыло за борт, пришлось прикрепить и себя к бревнам, обмотав веревки вокруг кисти.
Однажды нахлынула громадная волна и затопила их, так что они очутились на несколько футов под водой. В этот тяжкий миг все четверо решили, что настал их последний час. Несколько секунд им казалось, будто они идут ко дну и никогда больше не увидят дневного света.
Скорее всего, так и случилось бы, если бы их не спасло своеобразное устройство плота: не так-то легко потонуть порожним бочкам — они тотчас же всплыли обратно на поверхность, снова вынеся вверх, из воды, «Катамаран» и его команду.
К счастью, Бен Брас и Снежок не слишком полагались на волю случая, когда строили свой необычный плот. Бывалый моряк предвидел, что их может застигнуть в пути такая буря, как сегодня. И вместо того чтобы соорудить временное суденышко, годное для плавания только в тихих водах, матрос не пожалел трудов, стремясь сделать плот возможно более мореходным. Вместе со Снежком они приложили всю свою силу, чтобы попрочнее скрепить бревна и бочки канатами, и все свое мастерство для умелого использования не слишком-то пригодного материала, находившегося в их распоряжении.
Уже плавая на «Катамаране», они продолжали возиться с ним каждый день, чуть ли не каждый час, внося все новые усовершенствования.
Зато теперь они пожинали плоды своих трудов — ведь только благодаря этой предусмотрительности и трудолюбию сумели они благополучно противостоять буре.
Понадейся они на удачу и предайся лености, что было бы, пожалуй, понятно в том отчаянном положении, в каком они тогда находились, сегодня наступил бы их последний день-«Катамаран», может быть, и не пошел ко дну, но развалился бы на куски, и никто из экипажа не остался бы в живых после такой катастрофы.
Как бы то ни было, и плот и команда выдержали бурю. Перед заходом солнца ветер стих, сменившись легким бризом. Тропическое море мало-помалу вернулось к своему обычному состоянию — наступило затишье. И «Катамаран», снова распустив свой широкий парус, устремился с попутным ветром вперед в лучах золотого светила, медленно спускавшегося к западному краю безоблачного неба.
Глава LXXXIX. ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ КРИК
Ночь оказалась приятнее дня. Ветер больше не был им врагом. Сменивший его бриз благоприятствовал скитальцам больше, чем полный штиль, так как делал их плот устойчивым против мертвой зыби.
К полуночи стихла и зыбь. Так как буря длилась недолго, то волнение было слабое, да и оно вскоре совсем улеглось.
Наконец-то они могли подумать об отдыхе, таком необходимом после стольких трудов и треволнений. Проглотив несколько кусков невкусной пищи и запив их чаркой разбавленного канарского, все легли спать.
Ни сырые доски, служившие постелью, ни насквозь промокшая одежда, облипавшая тело, не помешали им заснуть.
В более суровом климате им было бы, пожалуй, неуютно. Но здесь, в тропическом поясе, на океане ночью бывает так жарко, что «мокрые простыни» кажутся не только терпимыми, но порой даже приятными.
Итак, катамаранцы все до одного улеглись отдыхать.
Обычно они поступали иначе: по ночам кто-нибудь оставался на вахте — сам «капитан», или бывший кок, или же юнга. Само собой разумеется, малышка Лали была освобождена от этих обязанностей.
Такая обязательная ночная вахта имела двойной смысл: нужно было вести «Катамаран» по его курсу и в то же время наблюдать за морем, не покажется ли где парус.
В эту ночь, если бы они встали на вахту, им прибавилась бы еще одна обязанность: не следует забывать, что они все еще не избавились окончательно от своих недавних преследователей. Те, наверно, также шли под ветром.
Катамаранцы ни о чем не позабыли. Но хотя эта мысль не шла у них из ума, все равно они не в силах были противиться сну. Пусть плот идет куда хочет, пусть встречный корабль, если попадется на пути, неслышно проплывет мимо, пусть даже их нагонит большой плот, если так угодно судьбе,-будь что будет, ничто не помешает им заснуть глубоким, беспробудным сном.
И вдруг все разом проснулись — их поднял на ноги крик, который мог бы разбудить и мертвеца. Дикий вопль пронесся над морем с такими странными, нечеловеческими интонациями, что, казалось, он мог возникнуть только в пучине океана. Это был короткий, отрывистый крик, но такой громкий, что даже Снежок очнулся от оцепенения.
— Что за чертовщина? — первый спросил негр, потирая себе уши, чтобы убедиться, не сделался ли он жертвой иллюзии.
— Право, не знаю, — отозвался матрос, тоже ошеломленный тем, что слышал.
— Как будто кто-то тонет, масса Брас?
— Похоже, что акула разорвала человека… Так мне все это сразу и вспомнилось.
— Ей-богу, ваша правда! Точь-в-точь так кричал напоследок масса Гро!
— А все-таки, — продолжал матрос после минутного раздумья, — что-то непонятно. Не человек это крикнул, нет, нет! В жизни не слыхал, чтобы человеческая глотка могла издать такой вопль.
— А ведь большой плот не близко. Как вы вышибли багор тогда, мы и пустились наутек. Такой взяли старт, что куда уж тем с «Пандоры»! Им не удалось подойти хоть чуточку ближе — ей-ей, не вру! Нет, оттуда крика не услышишь…
— А вы поглядите-ка вон туда! Там что-то виднеется! — вскричал Вильям, вмешавшись в разговор.
— Да где же? Что там такое?-спросил матрос.
— Вон там! — ответил юнга, указывая вправо. — Примерно в трех кабельтовых от нас на воде. Какой-то черный предмет, вроде лодки.
— Лодка! Разрази меня гром! Да, теперь и я вижу. И правда она! Да только откуда ей взяться здесь, посреди Атлантического океана?
— Правильно, лодка! — вставил Снежок. — Могу сказать наверное.
— Похоже, что так, — сказал матрос, вглядевшись еще пристальнее. — Да, это лодка!.. Вот, вот, теперь еще лучше видно… Эге, в ней кто-то есть! Я вижу только одного: торчит посередине, будто мачта. Пожалуй, тот самый, что крикнул сейчас, если то не был сам дьявол. Нет, что ни говори, люди так не кричат!..
Словно в подтверждение последних слов матроса, крик снова повторился точь-в-точь, как прежде. Правда, сейчас, когда они уже очнулись ото сна, он произвел на них несколько иное впечатление.
Несомненно, это был голос человека — ничем иным он не мог быть даже в этой обстановке, — но человека, в котором угасла последняя искра разума.
Пожалуй, команда «Катамарана» еще оставалась бы в недоумении, если бы все ограничилось только этим вторично раздавшимся криком. Однако тотчас же полились какие-то речи — бессвязные, но все же членораздельные, затем раздался взрыв хохота, какой можно услышать только в коридорах дома для сумасшедших.
Все как один стояли, слушали и дивились.
Ночь была безлунная, темная, но уже близился рассвет. Заря окрашивала розоватыми тонами небо. В сером полусвете раннего утра, слабые лучи которого играли на поверхности воды, можно было отчетливо разглядеть любой предмет и на значительном расстоянии.
Действительно вдали виднелось нечто вроде лодки, посреди которой маячила человеческая фигура. Да, это лодка и кто-то в ней стоит. Оттуда несутся эти восклицания, этот хохот, к которым они прислушиваются. Какое может быть сомнение-там сумасшедший!
Но безумец он или нет, зачем бежать от него? Здесь, на плоту, двое сильных мужчин, которые не побоялись бы встретиться с помешанным где угодно
— пусть даже посреди океана. Heт, эта встреча им не страшна. Как только они воочию убедились, что увидели лодку и человека в ней, сразу же скомандовали: «Лево руля!»-и направили плот прямо к шлюпке.
Минут через десять после того, как наши путешественники изменили курс, они ясно увидели свою цель. Стоило им только всмотреться повнимательнее, и за несколько секунд их любопытство было удовлетворено вполне. Теперь они поняли, что собой представляет это странное суденышко и его еще более странный экипаж!
Перед ними была гичка с невольничьего судна, и посреди нее стоял капитан злосчастного погибшего корабля.
Глава ХС. БЕЗУМЕЦ ПОСРЕДИ ОКЕАНА
Теперь уже катамаранцам незачем было строить какие-либо предположения: ни таинственный предмет на воде, напоминавший лодку, ни человеческая фигура, там видневшаяся, не были больше загадкой. Тайна рассеялась, когда и гичка и человек в ней были опознаны.
Единственное, что их еще смущало, — почему в лодке оказался только один человек вместо шести?
Там должно быть шестеро. Ведь именно столько спаслось в гичке с горящего судна: еще пять, кроме того, кто сейчас находится в ней и в ком, как ни странно он изменился, все еще можно узнать капитана невольничьего судна.
А где же те, которых не хватает: помощник капитана, плотник и матросы-все, кто сбежал вместе с ним? Может быть, они лежат на дне лодки и потому их не видно с «Катамарана»? Или все они погибли в какой-нибудь страшной катастрофе и только этот один остался в живых?
Гичка сидела в воде неглубоко. Верхний край фальшборта заслонял от катамаранцев все, что там происходило. Если они хотели что-нибудь разглядеть, надо было подойти поближе, а на это они не решались.
В самом деле, как только наши путешественники узнали лодку и человека, они тотчас же спустили парус и легли в дрейф, работая веслами, чтобы держаться подальше.
Сделали они это под влиянием какого-то инстинктивного страха. Ведь те, кто спасся на гичке, ни на грош не лучше, чем люди с большого плота: на невольничьем судне командиры были такими же подонками, как и большая часть матросов. Зная это, катамаранцы колебались-не опасно ли подойти близко? Если в лодке все еще оставалось шестеро, да вдобавок без пищи и без воды, то они ни на минуту не задумаются ограбить «Катамаран», так же как собирались те, другие, с большого плота. Пощады здесь не жди. А раз помощи не получишь, то лучше держаться от них подальше.
Мысли эти стремительно пронеслись в уме у Бена Браса, и он не замедлил сообщить их своим спутникам.
Но были ли те пятеро все еще в гичке?
Может быть, они лежат на дне? Впрочем, едва ли они спят. Да и как можно заснуть под эти вопли и стоны? Ведь капитан все еще продолжает кричать, лишь время от времени делая передышку.
— Гром и молния! — пробормотал Снежок.-Уж, верно, в лодке никого нет, кроме старого капитана. Да и от него самого осталась одна только шкура: ума-то он уже давно решился. Он буйный!
— Пожалуй, ты прав, Снежок, — согласился матрос. — Из всех только он один и остался. Видишь, как гичка высоко поднялась над водой? Может быть, кроме капитана, там и есть кто, но не больше одного, двух. Бояться нечего — можно подойти поближе. Давай повернем и как-нибудь пристанем к борту. Согласен?
— Да я не прочь, масса Брас… право, не прочь. Раз вы так думаете, так чего нам бояться? Я ведь такой — готов и на риск пойти. Если кто там и есть еще кроме нашего капитана, все равно им с нами не справиться. Мы двое стоим не меньше четверых, уж не говорю о нашем Вильме!
— Почти наверняка, — отвечал матрос, все еще колеблясь, — он там один. Лучше всего подойдем вплотную и захватим лодку. Пожалуй, придется нам с ним повозиться, если он и вправду спятил; а ведет себя он так, что, видать, совсем рехнулся. Ну да ничего, авось как-нибудь справимся!.. Лево руля!.. И давай разберемся хорошенько, что там такое творится!
Снежок взялся за рулевое весло и, повинуясь приказу своего «капитана», снова повел «Катамаран» к дрейфующей гичке, матрос же и Вильям стали грести.
Трудно сказать, заметил ли человек в гичке плот. Скорее всего, это не дошло до его сознания. Страшные вопли и бессвязные речи, казалось, ни к кому не были обращены. То был лишь дикий бред помешанного.
Все еще царил серый предрассветный сумрак, и над водой поднимались легкие испарения. Правда, катамаранцы даже сквозь дымку тумана узнали гичку и капитана «Пандоры», но удалось им это потому, что все происшествия были слишком свежи в их памяти. И лодка и человек в ней виднелись лишь смутно. Возможно, капитан их не заметил и до сих пор не догадывается об их присутствии.
Пока они приближались, с каждым мгновением становилось все светлее. Теперь их, несомненно, уже увидели, так как человек в гичке продолжал вопить, выкрикивая бессмысленные слова: «Эй, парус! Корабль, эй! Что это за судно? Стой, будьте вы прокляты! Стой, чертовы олухи, а не то я вас потоплю!»
Так беспорядочно выкрикивал он отрывистые фразы, перемежая их пронзительными воплями и сопровождая свою речь возбужденными и нелепыми жестами. Все это могло бы вызвать смех, если бы не производило такого гнетущего впечатления.
Свидетели этой сцены уже не сомневались: бывший капитан «Пандоры» сошел с ума.
Приближаться к нему опасно, — это понимали и катамаранцы. Поэтому, подойдя к лодке на полкабельтова, они перестали грести, решив вступить в переговоры и посмотреть, не удастся ли успокоить помешанного разумными словами.
— Капитан! — закричал моряк, окликнув своего бывшего командира самым дружелюбным тоном. — Это я! Неужели не узнаете? Я — Бен Брас, матрос с вашей старой «Пандоры». Мы все время плавали здесь, на этом маленьком плотишке, с тех самых пор, как сгорело судно. Я и Снежок…
Дьявольский вой вырвался из глотки помешанного и прервал речь матроса, только что собравшегося вкратце рассказать о своих злоключениях. Теперь катамаранцы были так близко, что могли ясно видеть выражение лица капитана, его безумную мимику и дико вращающиеся глаза. Не могло быть сомнений, что он сошел с ума. Дальнейшие события вскоре доказали это.
Все время, пока матрос говорил с капитаном, тот молчал. Но, едва услышав слово «Снежок», сумасшедший неожиданно пришел в сильнейшее возбуждение: страшный крик потряс воздух, судорога исказила черты лица, глаза зажглись таким огнем безумия, что жутко стало глядеть.
— Снежок! — завопил он. — Ты сказал — Снежок, назвал имя этого чертова пса! Давай его сюда!.. Ах, дьявол его побери! Это он поджег мой корабль!.. Где он? Пустите меня к нему! Дайте задушить черномазого собственными руками! Я покажу подлому негру, как держать свечку, которая озарит ему дорогу прямо в ад! Снежок!.. Да где же он, где?
Его дико блуждающие зрачки внезапно застыли. И все видели, как он уставился на негра, словно отчаянно силясь разглядеть его.
Пожалуй, Снежок и задрожал бы под этим взглядом, да, к счастью, не успел его заметить. В тот же миг безумец снова испустил отчаянный вопль, подскочил на несколько футов вверх и стремительно ринулся в море.
На одну-две секунды он исчез под водой. Затем снова вынырнул на поверхность и, рассекая волны сильными взмахами, поплыл к «Катамарану».
Глава ХСI. ПОТЕРЯВШИЙ РАЗУМ ПЛОВЕЦ
Еще несколько мгновений — и он был уже у самого плота. И как смогли бы скитальцы помешать ему взобраться на «Катамаран», не применив грубой силы? Пришлось снова схватиться за весла, и плот понесся в противоположную сторону.
Но безумец плыл с такой быстротой, что несколько раз едва не ухватился за борт рукой. Только когда Бен Брас и Снежок стали грести еще быстрее, они увидели, что сумасшедший их не настигнет. Опять началась погоня, которая пока что разыгрывалась вничью, так как и преследователь и беглецы шли почти с одинаковой скоростью, а если и был небольшой перевес, то на стороне капитана.
Трудно сказать, как долго могла бы длиться эта странная погоня. Быть может, до тех пор, пока не истощились бы силы, которые придавало капитану безумие, и он бы не утонул, — ведь несчастный как будто и думать забыл о том, чтобы вернуться к себе на гичку. Он ни разу даже не оглянулся посмотреть, как далеко позади она осталась. Нет, он плыл только вперед; и взгляд его оставался неотступно прикованным к тому, кто, казалось, всецело завладел его душой, — к негру. Сумасшедший думал только о нем — это было ясно из его речей. Даже в воде он призывал проклятия на голову Снежка; имя это не сходило с уст безумца, угрозы не прекращались.
Погоня не могла затянуться надолго, даже если бы продолжалась до полного изнеможения потерявшего рассудок пловца. Сверхъестественная сила, свойственная безумию, не всегда будет поддерживать его — рано или поздно настанет момент, когда он беспомощно пойдет ко дну.
Но рок судил иначе. Не такой смертью должен был погибнуть несчастный: его ждал иной, более страшный, насильственный конец. Сам он еще не подозревал о нем, а на «Катамаране» уже заметили приближение катастрофы.
Позади, на расстоянии меньше кабельтова, его преследовали два морских чудовища. Страшно было глядеть на этих тварей-то были акулы с головой-молотом! Они были отчетливо видны: поднявшись на поверхность, они плыли за ним, и их темные спинные плавники торчали кверху треугольными остриями. Хотя катамаранцы их прежде не замечали, но, как видно, акулы уже давно держались около гички, несомненно следуя за ней.
Сейчас они бок о бок неслись вперед, вслед за пловцом, с совершенно очевидными намерениями. Они гнались за ним так же яростно, как он гнался за «Катамараном».
Несчастный не видел их и вовсе о них не помышлял. Но даже если бы капитан их и заметил, он вряд ли сделал бы малейшую попытку спастись. Скорее всего, они показались бы ему такими же кошмарными видениями, как те, что уже теснились в его мозгу.
Так или иначе, ему не ускользнуть от этих грозных и разъяренных чудовищ, которые охотятся за ним, — разве только вмешаются люди на плоту. Но если они и пожелают протянуть ему руку помощи, то для этого потребуется самое быстрое и умелое вмешательство. И что же? Они не только захотели спасти его, но страстно устремились на помощь. Сердца катамаранцев дрогнули, когда они увидели этого несчастного помешанного в такой ужасной опасности. Пусть они страшились его, как самого смертельного врага, — все-таки это был человек, их ближний, который вот-вот должен был стать добычей акул.
Чем бы ни грозила эта опасная встреча с буйным помешанным, от которого можно было ожидать всего, — будь что будет! Они перестали грести и повернули обратно навстречу пловцу. Даже Снежок изо всех сил старался подвести «Катамаран» возможно ближе и поспеть на выручку бедняге, который стремился к собственной гибели, ослепленный безумной ненавистью.
Однако их добрые намерения оказались напрасными-человеку суждено было погибнуть! Акулы настигли его прежде, чем катамаранцы успели приблизиться и сделать что-нибудь для его спасения. Те, кто так жаждал его спасти, увидели это и прекратили все старания, оставшись свидетелями трагической катастрофы.
Все произошло с быстротой молнии. Чудовища подплывали к намеченной жертве с обеих сторон, и вот их неуклюжие тела очутились рядом с ним. Сначала ему попалось на глаза одно из них, и так как в этот момент инстинкт заговорил в нем сильнее развенчанного разума, несчастный метнулся в сторону. Но как раз это движение и бросило его во власть другой акулы-та молниеносно перевернулась на спину и схватила его своей широко разинутой пастью.
Раздался страшный крик, и катамаранцы увидели только полтуловища капитана.
Несчастный вскрикнул всего лишь раз. Он не успел повторить вопль, даже если бы хватило сил, — вторая акула подхватила изуродованный обрубок тела и унесла его в безмолвную пучину океана.
Глава ХСII. НА ЛОДКЕ
Ход назад, к гичке!
Такое решение, естественно, возникло у команды «Катамарана» после того, как они сделались свидетелями ужасной сцены. Оставаться здесь было незачем. Мгновенно обагрившиеся кровью воды, где разыгралась трагедия, уже не представляли интереса для ее невольных зрителей. И, снова повернув плот к дрейфующей гичке, они направились к ней со всей быстротой, какую давали плоту весла и вновь поставленный парус.
Они уже не раздумывали, есть ли в лодке люди и спят ли они или бодрствуют. После всего, что случилось, трудно было представить, чтобы кто-нибудь находился на борту. Наверно, уже задолго до этого часа гичку покинули все, кроме одинокого безумца, который, стоя посередине ее, произносил свои бессмысленные речи, обращая их лишь к океану.
Куда же девались остальные? Вот что занимало команду «Катамарана». Но они так и не смогли найти ответа.
Оставалось только строить догадки; но ни одна из них не выдерживала критики.
Катамаранцы знали о том, что происходило на большом плоту, и это наполняло сердца их отвращением.
Быть может, и на гичке люди вели себя так же? Впрочем, это казалось маловероятным. Известно было, что лодка отошла от горящего судна, нагруженная таким запасом провизии и воды, которого хватило бы если не на долгое путешествие, то, во всяком случае, на много дней. Вильям мог это подтвердить-он собственными глазами видел, как они отчаливали. Так почему же плавание в гичке закончилось столь трагически? Голод не мог быть причиной гибели экипажа. Не могла быть и буря. Так что же тогда?
Если бы на лодку обрушились волны, они затопили бы или опрокинули ее. И тогда капитан не смог бы один управлять ею. Да и как ему удалось бы остаться в живых, единственному из всех шестерых?
Но за это время не было такого сильного шторма, который мог бы вызвать подобную катастрофу. Если только лодка не управлялась из рук вон плохо, моряки никак не могли очутиться за бортом.
Все еще не зная, как найти ключ к этой странной загадке, катамаранны продолжали грести — и наконец подошли к гичке вплотную.
Глазам их открылось ужасающее зрелище. И все-таки они не понимали, что здесь произошло, все оставалось столь же необъяснимым, как и прежде. По всему, что они увидели, можно было только догадываться, что в лодке разыгралась какая-то страшная трагедия и что причиной таинственного исчезновения команды была не ярость стихий, а рука человека.
На дне лодки лежал труп, обезображенный множеством ран: любая из них могла быть смертельной. Лицо было зверски изрезано; череп пробит в нескольких местах, словно следовавшими один за другим ударами тяжелого молота; на груди и на всем теле зияли бесчисленные раны, нанесенные каким-то острым оружием.
Этот истерзанный труп, потерявший человеческий облик, лежал наполовину в воде, скопившейся на дне лодки и походившей на кровь. Ее было так много и она была такого густого, темного оттенка, что как-то не верилось, будто вся эта кровь вытекла из ран одного человека. Алая жидкость, заливая мертвое тело, окрасила его в такой же кроваво-красный цвет.
Невозможно было распознать черты этого страшно обезображенного трупа. Топор, нож или другое оружие изуродовали его до неузнаваемости. Но, несмотря на это, Бен Брас и Снежок вскоре узнали, кто это был. Одежда, обрывки которой местами еще сохранились на теле, помогла признать его. То был помощник капитана с невольничьего судна, слишком хорошо им знакомый.
Но и это открытие не пролило света на таинственное происшествие — наоборот, все стало еще более запутанным. Человек этот был убит-об этом свидетельствовали раны. Судя же по обильному кровоизлиянию, они были нанесены, когда жертва еще жила.
Само собой напрашивалась мысль, что злодейство совершил сошедший с ума спутник. Множество ран, резаных, рваных, колотых, и самый их характер говорили о том, что здесь орудовала рука безумца, — добрую их половину он нанес жертве после смерти, когда жизнь уже угасла в теле.
До сих пор все казалось понятным: безумный капитан убил своего помощника. Оставались невыясненными мотивы убийства. Но разве помешанному нужны какие-нибудь причины, чтобы совершить убийство?
Все же остальное было окутано тайной. Где остальные четверо, чем объяснить их отсутствие? Что с ними сталось? Команда «Катамарана» могла только высказывать догадки — одну страшнее другой. Наиболее разумным показалось то, что предполагал Снежок.
Наверно, капитан и его помощник, утверждал негр, сговорились между собой. Они решили убрать с дороги других и захватить для себя все запасы воды и продовольствия, чтобы таким образом иметь больше шансов выжить. Тем или иным путем им удалось осуществить свой жестокий замысел. Может быть, завязалась драка, и эти двое силачей, более крепкие, чем остальные, оказались победителями: а может, обошлось и без всякой борьбы. Злодеяние могло совершиться ночью, пока ничего не подозревавшие товарищи крепко спали, или даже среди бела дня, когда команда напилась до бесчувствия,-ведь недаром на гичке, среди прочих запасов, имелся спирт!
Омерзительно было даже представить себе все это; тем не менее ни Снежок, ни матрос не могли прогнать эти мысли. Иначе нельзя было объяснить ту ужасающую драму, которая произошла в этой залитой кровью лодке.
Если только их догадки справедливы, неудивительно, что единственный оставшийся в живых участник таких сцен сделался буйно помешанным-разум его не выдержал!
Глава ХCIII. «КАТАМАРАН» ПОКИНУТ
Некоторое время катамаранцы стояли и рассматривали гичку и безжизненное тело в ней; во взглядах их читалось отвращение.
Впрочем, они прошли уже через столько ужасов, что и это чувство притупилось и мало-помалу совсем прошло.
Не время и не место было предаваться чувствительности и бесплодным раздумьям. Слишком сильно угнетали их собственные бедствия, и, вместо того чтобы понапрасну строить догадки о прошлом, они обратили свои мысли к будущему.
Прежде всего надо было решить: что делать с гичкой?
Конечно, они возьмут ее себе — какой тут может быть вопрос!
Правда, «Катамаран» сослужил им добрую службу. До сих пор он спасал им жизнь, и только ему они были обязаны тем, что еще не утонули.
Им было так уютно на самодельном суденышке! Только бы продолжалось затишье: пока у них еще остается вода и съестные припасы, они чувствуют себя в полной безопасности. Но плот движется вперед слишком медленно, и путешествие может затянуться дольше, чем хватит запасов, а это означает верную смерть. Едва ли им посчастливится в другой раз наловить рыбы; а если выйдет вся вода, и думать нечего раздобыть ее снова. Пожалуй, придется дожидаться целые недели, пока опять пройдет такой ливень: а если при этом разразится буря, не удастся собрать ни единой кварты воды.
Но тихий ход-это не единственный упрек, который можно адресовать «Катамарану».
В прошлую ночь, во время бури, они на опыте убедились, как ненадежен их плот: если его настигнет настоящий шторм, бурное море разнесет его в щепки. Под натиском волн лопнут тросы и разойдутся бревна. А если даже они и устоят и порожние бочки-поплавки удержат плот на плаву, все равно волны смоют катамаранцев за борт, — и они найдут свою смерть в океане.
Сколько еще пройдет времени, пока они пристанут к твердой земле, и можно ли надеяться на неизменно хорошую погоду?
Вот если у них будет такая превосходная гичка — тогда совсем другое дело!
Бен Брас отлично знал ее: не раз он плавал на ней гребцом.
Это была легкая, быстроходная лодка, даже когда она шла только на веслах. А если установить еще и парус, то при попутном ветре смело можно рассчитывать на скорость от восьми до десяти узлов в час. Тогда, возможно, в недалеком будущем удастся попасть в полосу пассатов и позднее бросить якорь в каком-нибудь порту на южноамериканском побережье, а может, в Гвиане или Бразилии.
Размышления эти заняли всего несколько секунд. Все было обдумано задолго до того, как они подошли к гичке.
И, конечно, неудивительно, что такие мысли как-то сами собой приходили на ум при одном виде лодки.
Сейчас в их распоряжении очутилась гичка с высокими мореходными качествами. Как же могло прийти им в голову бросить ее на произвол судьбы? Нет, надо покидать плот…
Если они и задумались, прежде чем перебраться со всеми своими пожитками с «Катамарана» на гичку, то всего на краткий миг, прикидывая в уме, как бы поудобнее обставить свое переселение.
Прежде всего придется привести лодку в надлежащий порядок, а тогда уже и перебираться. Итак, едва оправившись от потрясения, вызванного представшим перед ними отвратительным зрелищем, матрос и Снежок сразу же принялись за работу: надо было убрать мертвое тело с глаз долой, а также удалить всякий след кровавой борьбы, происходившей в гичке.
Изуродованный труп был выброшен в море и сразу же исчез под водой. Впрочем, едва ли он пошел на дно: на этом месте все еще кружили те хищные чудовища, которые растерзали потерявшего разум капитана. Они алчно подстерегали новую добычу для своего ненасытного брюха.
Катамаранцы вычерпали красную от крови воду, начисто отмыли кровяные пятна на досках и сполоснули лодку свежей морской водой, выплеснув потом и ее за борт. Так работали они до тех пор, пока от прежних ужасов и следа не осталось.
Наши скитальцы сохранили в лодке то немногое, что в ней нашлось,-авось пригодится в дальнейшем. Правда, там не оказалось ни кусочка съестного, ни капли воды, годной для питья. Но зато им достался вполне исправный корабельный компас. А матрос слишком хорошо знал цену этому сокровищу, чтобы расстаться с ним, с таким компасом не сбиться с пути даже в самую облачную погоду.
Когда в гичке все было готово для новоселья, путешественники принялись переносить сюда свои запасы с «Катамарана». С особыми предосторожностями они подняли на борт бочку воды, так же как и маленький бочонок драгоценного канарского. Затем перенесли с одного суденышка на другое сундучок, в котором была уложена сушеная рыба, весла и другое имущество, причем в гичке все было так пристроено, чтобы у каждой вещи был свой уголок.
Места хватило на все с избытком-лодка была просторная, рассчитанная на двенадцать человек; и команда «Катамарана» сумела расположиться в ней со всем своим скарбом вполне удобно.
Напоследок перенесли мачту и парус. Их сняли с «Катамарана», чтобы установить на гичке, и оказалось, что по размерам они как раз к ней подходят.
Итак, на плоту не осталось ничего, что могло бы пригодиться нашим путешественникам в дальнейшем плавании. После того как «Катамаран» лишился мачты и паруса, он казался совершенно опустевшим. Когда развязали канаты, соединявшие гичку с плотом во время переселения на новое «судно», какое-то уныние охватило всех. Они успели привязаться к своему суденышку, такому утлому и нелепому на вид, как люди привыкают к любимому дому. Да ведь это и был их дом среди водной пустыни, и они не могли расстаться с ним без глубокого сожаления.
Может быть, отчасти поэтому у них не хватило духу сразу же приналечь на весла и уйти подальше от плота. Впрочем, и без того нашлись причины задержаться вблизи «Катамарана».
На гичке предстояло еще установить мачту и прикрепить к ней парус; и так как лучше было проделать это все сразу, они тотчас принялись за работу.
Пока они были этим заняты, гичка шла по ветру, делая два-три узла в час. Но оба суденышка все не могли расстаться, так как ветер с той же скоростью гнал вперед и лишенный снастей плот, который теперь неглубоко сидел в воде. Когда же наконец мачта была установлена на самой середине лодки и скитальцы готовились поднять парус, расстояние между гичкой и плотом оказалось меньше кабельтова.
«Катамаран» все шел позади, за кормой, и так быстро, словно твердо решил не остаться одиноким среди этой безлюдной водной пустыни.
Глава XCIV. СТАДО КАШАЛОТОВ
Казалось, настал момент навсегда проститься с плотом, который спас их от стольких опасностей. Еще несколько мгновений — парус будет поднят и лодка быстро понесется по волнам; они никогда больше не увидят еле-еле ползущий вслед «Катамаран». Еще несколько миль — и он навсегда скроется из глаз. Так предполагали они, начиная ставить парус.
Как мало думали они о том, что ждет их впереди! Рок не сулил им такой внезапной разлуки. Счастье еще, что «Катамаран» так упорно следовал за ними по пятам, как бы предлагая приют-тихую гавань, «островок спасения», где они смогут укрыться. Увы! Скоро-скоро им так понадобится пристанище!
Итак, они принялись ставить парус. С такелажем управились как следует
— парусину натянули на рею, фалы закрепили и сделали все, что полагалось; оставалось только поднять и подтянуть парус.
Последнее было минутным делом, но заняться этим не пришлось.
Матрос и Снежок стали уже подтягивать парус, как вдруг у Вильяма вырвалось восклицание, и оба они прервали работу.
Юнга вглядывался в океанскую даль, не отрывая глаз от какой-то точки. Рядом стояла Лали и смотрела в туже сторону.
— В чем дело, Вильм? — нетерпеливо спросил матрос, подумав, не парус ли увидел юноша.
Вильям и сам загорелся этой надеждой. Он заметил на горизонте какой-то беловатый диск, который показался было ему поднятым парусом, но тут же исчез, словно растаял в воздухе.
Вильяму стало стыдно, что он только зря поднял тревогу. Едва он собрался оправдаться, как снова показалось что-то белое, поднимаясь к самому небу. На сей раз все это заметили.
— Вот, вот что я видел! — сказал поднявший панику юнга, признаваясь в своей ошибке.
— Эх, малыш, если ты это принял за парус, — возразил матрос, — то ты ошибаешься. Это кашалот выпускает свой фонтан, только и всего.
— Да тут не один… — сказал Вильям. — Посмотрите вон туда, там их с полдюжины!
— Правильно, паренек! Только какое там с полдюжины, скажи лучше — с полсотни! Примерно столько и будет, никак не меньше. Ведь ты увидел шесть фонтанов сразу!.. Да тут их большое стадо — пожалуй, целый косяк!
— Вот так штука! — вскричал Снежок, рассмотрев китов. — Они идут сюда!
— Верно… — пробормотал бывший гарпунер; в тоне его не чувствовалось радости по поводу такого открытия. — Прямо на нас. Эх, не по душе мне это!.. Они перекочевывают куда-то, это я вижу. Боже сохрани, попасться им на пути в такое время — да еще в такой лодчонке, как наша!
Услышав это, катамаранцы перестали возиться с парусом. Стадо китов, которое делает переход или забавляется прыжками, — зрелище настолько редкое и в то же время захватывающее, что вызывает величайший интерес; и путешественник, который оставит его без внимания, верно, должен быть поглощен очень серьезными занятиями.
Как великолепны движения этих морских великанов, когда они, рассекая волны, прокладывают себе путь в лазурной стихии, то вздымая ввысь перистые столбы белого пара, то взметая свои широкие, веерообразные хвостовые лопасти! Иногда они подскакивают на несколько футов вверх, а потом шлепаются обратно в воду всем своим гигантским телом, вызывая такое волнение, что в океане вздымаются громадные волны с белыми гребнями, словно изошел сильный шторм.
Такие мысли проносились в голове у бывшего китобоя, когда он увидел, что стадо кашалотов мчится прямо на их утлое суденышко. Он знал, что мертвая зыбь, которая поднимается на пути у кита, идущего напролом, может потопить самую большую лодку. А если хоть одному из этих китов, что несутся сейчас прямо на них, вздумается мимоходом выпрыгнуть из воды, едва ли скитальцы смогут что-нибудь поделать — гичка разлетится в щепы.
Впрочем, уже не было времени размышлять над всякими случайностями. В тот момент, когда катамаранцы впервые заметили китов, те находились на
расстоянии не более мили отсюда; а так как они двигались со скоростью десяти узлов в час, то не прошло и нескольких минут, как передний был уже почти рядом — там, где находились лодка и покинутый плот.
Киты двигались довольно беспорядочно, хотя там и сям попадались группы из четырех или пяти особей, которые шли стройной шеренгой. Стадо занимало пространство около мили в окружности; и как раз в самом центре его, на несчастье, покачивались на волнах две хрупкие скорлупки: гичка и брошенный «Катамаран».
Это был один из самых громадных косяков, какие только приходилось видеть Бену Брасу в своей жизни. В нем насчитывалось около сотни голов, все взрослые самки с сосунками; среди них выделялся единственный старый самец-вожак и защитник стада.
Не успел матрос кончить свои наблюдения, как кашалоты уже шли мимо; море взволновалось на целые мили вокруг, как если бы пронесся шторм, оставив после себя мертвую зыбь.

Киты проходили один за другим, плавно скользя по воде с такой грацией, которая могла бы вызвать восхищение любого, кто наблюдал бы за ними из безопасного места. Но люди, смотревшие с гички, трепетали, глядя на их величественные движения, слыша их шумное дыхание, подобное грохоту прибоя.
Киты уже почти все прошли, и команда гички только что собралась вздохнуть свободнее, как вдруг они заметили, что самый крупный в косяке, старый самец, отстал от остальных и теперь идет прямо на них. Из воды высовывались его голова и часть спины объемом в несколько морских саженей. Время от времени он ударял хвостом по воде, словно подавал сигнал идущим впереди, указывая им путь или предостерегая от грозящей опасности.
Злобой дышал весь облик «патриарха» морей. Едва заметив его, Бен вскрикнул, предупреждая товарищей. Но крик вырвался у него лишь инстинктивно: ничто уже не могло предотвратить грозную встречу.
Никто не успел не только сделать, но и подумать что-либо. Почти в тот же самый миг, как раздался предостерегающий крик матроса, кит обрушился на них. Все они почувствовали, как их с силой подбросило в воздух, словно выстрелом из катапульты: и сразу же вслед за тем они полетели головой вниз, в бездонную пучину океана.
Все четверо сейчас же вынырнули вновь. Матрос и Снежок, придя в себя первыми, стали искать глазами гичку. Увы! Ее не было. На воде плавали обломки: разбросанные в беспорядке весла, гандшпуги, оторванные доски и другие предметы. Среди них барахтались фигурки, в которых можно было узнать юнгу Вильяма и малютку Лали.
Картина мгновенно изменилась.
Раздалась команда: «Ход назад, на „Катамаран“! И через двадцать секунд юнга уже плыл рядом с матросом к плоту. Туда же, посадив себе на левое плечо Лали и рассекая волны, устремился и Снежок.
Еще минута — и все четверо очутились на суденышке, которое покинули так недавно. И на этот раз они спаслись от гибели в пучине океана!
Глава XCV. ХУЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
В этом событии, только что приключившемся с ними, ничего загадочного не было. Когда Бен Брас почувствовал страшный удар, он знал, кто его нанес.
Недаром он предупреждал других, какими опасностями грозит косяк кашалотов во время перекочевки. Правда, спутники его сначала не представляли этого, зато теперь они убедились воочию. Грозный час настал и вновь миновал. Очутившись снова на плоту, они увидели, что ничто более не угрожает их жизни.
Объяснений не требовалось. Обломанные доски с гички, плававшие в воде, и потрясение, ими пережитое, достаточно красноречиво рассказывали, как все произошло. Одним ударом хвоста снизу вверх старый самец разнес лодку вдребезги с такой же легкостью, словно это была яичная скорлупа; обломки он швырнул в воздух на несколько футов вверх вместе со всеми людьми и предметами, находившимися в гичке.
Захотелось ли кашалоту сделать это назло или он просто решил порезвиться, только на это морскому гиганту понадобилось не больше усилий, чем отмахнуться от мухи. Позабавившись, старый самец поспешил вслед за весело играющим косяком, скользя в волнах с таким невозмутимым видом, словно ничего особенного не случилось.
В самом деле, для него ровно ничего не значило ни крушение, ни все, что оно несло с собой. А вот для тех, кого он так бесцеремонно опрокинул, это было настоящей трагедией.
Теперь только, когда катамаранцы довольно сносно устроились на плоту и понемножку стали успокаиваться, они почувствовали всю глубину своего несчастья.
Все их запасы были выброшены в море; весла и другие предметы их обихода носились по волнам; и, что всего хуже, совершенно исчез из виду морской сундучок матроса, который они недавно, спешно перебираясь на гичку, набили до отказа акульим мясом. С таким тяжелым грузом он наверняка пошел ко дну, унося с собой все ценные запасы. Правда, бочка с водой и маленький бочонок с канарским еще не потонули-так тщательно они были закупорены. Но что толку в питье, когда нет еды? А у них не осталось ни кусочка!
Несколько минут они ничего не делали, созерцая обломки — зрелище полнейшего разорения.
Можно было подумать, что это бездействие было вызвано отчаянием, под влиянием которого они как бы оцепенели.
На самом деле причина была иная. Не такие они были люди, чтобы отчаиваться. Они только и ждали удобного момента приняться за работу. А это было невозможно, пока хотя немного не улеглась бы страшная мертвая зыбь, поднятая китами.
На море вздымались волны, «громадные, как горы»; и плот, где катамаранцы кое-как примостились, скорее на четвереньках, нежели стоя на ногах, так сильно качало из стороны в сторону, что они едва удерживались на нем.
Мало-помалу на океане установилось обычное спокойствие, и наши скитальцы, успевшие за это время многое обдумать, принялись за дело.
У них пока еще не было какого-либо определенного плана на будущее.
Прежде всего им хотелось подобрать кое-какие обломки крушения, рассеянные по волнам, и, если возможно, снова оснастить плот, на котором они опять нашли себе пристанище.
К счастью, поблизости виднелась мачта — она вместе с реей и державшимся на ней парусом плавала неподалеку от разбитой лодки. Так как это были наиболее нужные снасти, которых лишился «Катамаран», то теперь, когда они нашлись, казалось, нетрудно будет восстановить плот в его первоначальном виде.
Прежде всего следовало приложить все усилия, чтобы раздобыть хоть какие-нибудь весла. А на это придется затратить немало времени и сил. На лишенном снастей плоте не было даже палки, которая могла бы заменить весло. Им пришлось грести руками.
За время их вынужденного безделья обломки крушения отнесло довольно далеко — вернее, плот, державшийся на воде благодаря пустым бочкам, проплыл мимо них и ушел на несколько кабельтовых вперед.
Надо было идти против ветра — и двигались они медленно, так медленно, что с досады кровь вскипала.
Снежок уже собрался было прыгнуть за борт и пуститься за веслами вплавь, но матрос об этом и слышать не хотел. Он тут же напомнил чернокожему другу, какой опасностью грозят акулы, кишащие в воде. Правда, негр отнесся к этому довольно легкомысленно, но более осторожный товарищ удержал его. Набравшись терпения, они принялись вновь грести руками.
Наконец им удалось поймать два весла, и с этого момента работа пошла живее.
Потом они нашли мачту и парус, выловили их из моря и втащили на плот; опять водворили в надежное место бочонки с водой и вином; один за другим подобрали рассеявшийся по океану инвентарь. Только железные инструменты и топор затонули на дне Атлантического океана.
Но самым тягостным была потеря сундучка со съестными припасами. Это было непоправимо и предвещало еще более страшное несчастье — утрату жизни.
Глава XCVI. САМЫЙ МРАЧНЫЙ ЧАС
Снова смерть во всей своей мрачной неизбежности смотрела им в лицо. Они очутились без всякой провизии. Ни крошки не сохранилось из всех тех запасов, которые так заботливо и искусно собирались и заготовлялись впрок. Кроме того, что было упаковано в сундучке, на плоту еще кое-где оставались отдельные ломти вяленой рыбы. Их также перенесли в гичку, и, когда она перевернулась, эти запасы тоже утонули.
Подбирая обломки крушения, катамаранцы искали свою провизию в надежде, не удастся ли выловить хоть несколько затерявшихся кусков, но ничего не нашлось. Те припасы, которые плавали на воде, были подхвачены либо акулами, либо другими прожорливыми хищниками океана.
Впрочем, если бы даже нашим скитальцам и попались эти уцелевшие куски, все равно в этот тяжкий момент они не прикоснулись бы к ним: пища, пробывшая столько времени в морской воде, стала бы слишком соленой. Тем не менее они знали, что настанет время, когда придется отбросить подобные причуды. И в самом деле, через несколько часов все четверо почувствовали такие муки голода, что теперь уже не отказались бы и от самой грубой и невкусной пищи. С того момента, когда так спешно пришлось покинуть стоянку у туши кашалота, им еще ни разу не удалось как следует поесть. Урывками, на ходу, они съедали кусочек рыбы, выпивали глоток воды.
Как раз перед последней катастрофой они собрались закусить по-настоящему. Но прежде чем приступить к обстоятельной трапезе, они ждали, когда будет поставлен парус и лодка понесется своим путем.
Одним ударом хвоста кашалот разрушил весь тот уют, который они пытались себе создать. К несчастью, крушение, так много уничтожившее, нисколько не повлияло на их аппетит.
Время шло. Они продолжали трудиться в поте лица, подбирая обломки крушения, а голод все усиливался; все четверо почувствовали, что таких мучений они еще не испытывали с самого начала этого долгого и опасного плавания.
Работа не спорилась у людей, почти до полусмерти измученных голодом.
Поместив в надежном месте различные предметы, подобранные в океане, так, чтобы их не смыло обратно в воду, они принялись раздумывать, где бы раздобыть новые запасы провизии.
Конечно, прежде всего они подумали о рыбах. Ведь только они и могли бы послужить им пищей.
Воодушевленные прежними успехами в рыбной ловле, катамаранцы и сейчас охотно занялись бы ею, если бы, к несчастью, обстоятельства не изменились.
Среди безвозвратно затерявшихся в море вещей оказались и крючки. А гарпуны, послужившие им столь смертоносным оружием, так и остались в туше кашалота. Они торчали в спине у мертвого великана, превращенные в самодельный вертел для поджаривания мяса акулы. Словом, все железные предметы, даже их собственные ножи, брошенные в гичку как попало, очутились на дне морском.
Не осталось ни кусочка металла, из которого можно было бы смастерить крючок, а если бы и удалось разыскать, что пользы в том? Все равно негде достать хоть крошечку мяса для наживки.
Казалось, сколько ни ломай себе голову, нет ни малейшей возможности наловить рыбы. С отчаянием в душе они были вынуждены в конце концов отказаться от этой мысли.
В этот тяжкий час они вспомнили о кашалоте, но не о том выскочившем из воды морском великане, чьи вражеские действия так неожиданно омрачили их радужные перспективы; нет, им вспомнился убитый кашалот, у громадной туши которого они недавно делали стоянку. Там, быть может, удастся раздобыть хотя бы что-нибудь съестное. А если нет, найдется вдоволь китового мяса или жира. Правда, мясо у кашалота жесткое, но жизнь поддержать оно все же может. Зато там его столько, что можно битком набить провизионные склады для команды не только большого корабля, но и целой эскадры!
Пожалуй, им и удалось бы найти обратный путь. Они шли по ветру — ветер же дул все еще с той стороны. Все расстояние, пройденное за ночь, можно пройти обратно в короткое время.
Впрочем, даже в лучшем случае, если им придется бороться только со стихиями, и то это будет трудным предприятием с сомнительным исходом.
На пути у них вставало препятствие, более страшное, чем сопротивление ветра или опасение сбиться с курса.
Наверно, на покинутую стоянку вернулись их преследователи; и, быть может, в этот момент они пришвартовывают свой плот к тому самому огромному грудному плавнику, где еще так недавно стоял «Катамаран».
Поэтому мысль о том, чтобы вернуться к кашалоту, не встретила поддержки и тут же была отклонена.
Мрачные думы терзали катамаранцев, пока они сидели и размышляли над этим вопросом; мрачные, как эти ночные тучи, которые стремительно опускались на море и окутывали их непроницаемой мглой.
Никогда еще они так не падали духом! И все же никогда они не были столь близки к избавлению от всех бедствий. Этот самый тяжкий час уныния предшествовал их спасению, так же как самый темный час ночи — тот, который предшествует дню.
Глава XCVII. ВЕСЕЛЯЩАЯ ЧАРОЧКА
Они и не пытались сдвинуться с того места, где застало их заходящее солнце.
Наши скитальцы до сих пор еще не установили мачту с парусом, а трудиться над веслами, казалось, не имело смысла. Стоило ли терять силы на греблю, если все равно движешься так медленно! Да и вообще возникал вопрос: что пользы и дальше держать курс на запад? Так или иначе, нет ни малейших шансов добраться до твердой земли прежде, чем они умрут голодной смертью, А умереть от голода они могут и не трогаясь с места. Такая смерть одинаково мучительна, что здесь, что там. Не все ли равно, под какими широтами проведут они последние минуты своей жизни?
Таково было состояние духа, в которое впали катамаранцы под влиянием пережитых бедствий. Ими овладело какое-то оцепенение, напоминавшее скорее бесчувствие отчаяния, чем покорность судьбе.
Так печально тянулось время в темноте и угрюмом молчании, как вдруг одно незначительное обстоятельство заставило их встрепенуться. Это был голос Бена Браса, предлагавшего ужинать. Услышав его со стороны, можно было вообразить, что моряк сошел с ума. Но его товарищи так не думали. Они поняли, что он имел в виду. И от них не укрылся тот нарочито жизнерадостный тон, которым он хотел их подбодрить. Предложение, сделанное Беном, вовсе уж не было такой бессмыслицей; правда, назвать «ужином» то, что он предлагал, можно было только условно.
А впрочем, что за важность! Все же это было нечто такое, что могло заменить ужин, правда, не столь существенный, как им хотелось бы. Но зато это могло не только продлить им жизнь, но и на мгновение облегчить сердце от гнетущей тяжести. То была чарка канарского.
Катамаранцы не забыли, чем они владеют. Иначе, пожалуй, они впали бы в еще большее отчаяние. В бочке оставалось немного драгоценного виноградного сока, надежно хранившегося в их старой «кладовой». До сих пор они удерживались от соблазна пригубить его, сберегая на крайний случай. Теперь, казалось, момент настал, и Бен Брас предложил на ужин чарку вина.
Разумеется, никто и не думал возражать против столь заманчивой перспективы.
Вынули втулку из бочонка, взяли маленькую роговую мерку, найденную среди обломков разбитой гички, тщательно прикрепили ее к бечевке, опустили в бочонок и вынули оттуда, полную сладкого вина. И пошла она гулять вкруговую
— от одного к другому; первыми коснулись ее хорошенькие губки маленькой Лали. Еще и еще окунали чарку и наконец водворили втулку на прежнее место. Так, без излишних церемоний, закончился этот ужин.
И не знаю, было ли то бодрящее действие вина или же наступила естественная душевная реакция, обычно приходящая на смену отчаянию,-только оба они, и матрос и Снежок, закупорив бочку, вновь принялись строить планы на будущее. И снова робкая надежда закралась в их сердца. Беседа шла о том, не попытаться ли немедленно, не теряя ни минуты, снова установить мачту и поднять парус. Правда, ночь была черна, как смола, но что из того?
Можно проделать это и без света; а если понадобятся канаты, то-уж будьте покойны!-они и с ними управятся без труда, будь ночь хоть вдесятеро темнее. Так выразился по этому случаю Снежок, хотя это и казалось физически невозможным.
Убеждая товарища, матрос приводил следующий довод: если идти вперед, худа не будет. Раз двигателем будет парус, от них больше не потребуется усилий, независимо от того, тронется ли плот или станет неподвижно на месте.
Конечно, рассуждение было малоубедительное. Вряд ли с его помощью можно было добиться толку и убедить негра, по природе фаталиста, который порой бывал весьма бездеятельным. Но Бен Брас пустил в ход еще один более серьезный довод, и Снежок с готовностью согласился.
— Только вперед! — молвил Бен. — Так скорей увидим судно, если оно попадется на пути. А если заляжем здесь, что твоя колода, то как бы не нагрянули сюда те мучители. Знаешь, ведь они идут с наветренной стороны да еще под парусом… Если только не вернулись назад, к кашалоту. Ну, тогда нам нечего их бояться. А впрочем, кто его знает: лучше принять меры. Давай поставим napyc!
— Вот славно, масса Брас! — ответил Снежок, который и раньше противился только для виду. — Правильно вы говорите. Только скомандуйте — и я отвечу: «Есть ставить парус!» Ветерок-то чудесный!.. Хотите — примемся за дело сию же минуту!
— Ладно, — откликнулся матрос, — давай начнем! Натягивай парусину! Чем скорей, тем лучше…
Больше они ни о чем не говорили. Изредка только передавались вполголоса указания или приказ Бена, вместе со Снежком занятого установкой мачты на «Катамаране». Как только с этим управились, поставили вертикально рею, туго натянули и закрепили шкоты; и мокрый парус, поднятый снова, наполнился ветром и с каким-то певучим звуком помчал плот по волнам.
Глава XCVIII. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК ИЛИ КОРАБЛЬ В ОГНЕ?
Теперь «Катамаран» снова шел под парусом по своему прежнему курсу. Казалось, для команды все опять стало по-старому, как было до встречи с убитым кашалотом. К несчастью, это было далеко не так!
Обстоятельства изменились к худшему. Тогда у них еще оставалась провизия; правда, на полный рацион не хватало, но все-таки имелись небольшие запасы, рассчитанные на довольно продолжительное время. Более того, в их распоряжении имелось кое-какое оружие и инструменты, при помощи которых они в случае нехватки могли пополнить свои запасы.
Совсем другое было сейчас. «Катамаран» служил им все так же верно и надежно, оснастка была та же, что и тогда, мореходные качества нисколько не пострадали. Зато снабжение было уже не на прежней высоте, особенно «продовольственный отдел», и это тяжко угнетало команду.
Вскоре уныние охватило их снова; но, несмотря на это, катамаранцы не могли противиться сну. Пусть читатель вспомнит, что в прошлую ночь из-за сильной бури они спали мало; да и в позапрошлую едва удалось чуть-чуть вздремнуть — так они заняты были поджариванием мяса акулы.
Истощенный организм настоятельно требовал отдыха. Все буквально с ног валились — и команда в полном составе отправилась на покой. Никто не остался даже на вахте у руля.
Порешили на том: пустить плот по воле ветра, пусть идет куда хочет.
Дыхание небес! Только оно одно уносило «Катамаран» все дальше по его пути.
Как далеко ушел плот, предоставленный самому себе, не записано в вахтенном журнале. Засечено только время; известно, что полночь наступила раньше, чем пробудился кто-либо из команды,-так крепко уснули все, умаявшись с установкой паруса.
Первым очнулся Вильям.
Юнга никогда не спал крепко, а в эту ночь сон его был особенно тревожен. На душе было неспокойно; еще прежде, чем он прилег отдохнуть, его мучило какое-то неясное волнение. Меньше всего он боялся за собственную судьбу. Хотя он и был еще молод, но уже чувствовал себя настоящим моряком и не мог терзаться только эгоистическими соображениями — он волновался за малютку Лали.

Вот уже много дней, как он следил за переменой во всем облике этого юного существа. Он замечал, как мало-помалу щеки ее становились все бледнее, как быстро таяла ее маленькая фигурка. Сегодня, после этого страшного потрясения, которое им всем пришлось вынести, юная креолочка особенно, казалось, ослабела — больше чем когда бы то ни было. И, засыпая, юнга томился грустным предчувствием, что именно она сделается первой жертвой тех тяжких испытаний, которые им еще сулит судьба, и что скоро-скоро это должно свершиться.
Юношеская привязанность и тревога за милую ему девочку не давали юнге заснуть крепко.
И хорошо, что так случилось, — иначе, пожалуй, его не разбудило бы яркое пламя, около полуночи вспыхнувшее на море, на траверзе «Катамарана». А если бы он не проснулся, ни ему, ни его трем спутникам не пришлось бы, пожалуй, больше увидеть человеческое лицо, разве только в предсмертной агонии, взглянув в глаза друг другу.
Озарив далеко кругом темные воды океана, пламя осветило спящих катамаранцев. Оно сверкнуло юнге прямо в глаза — и Вильям проснулся.
Встрепенувшись, он смотрел на видение, которое поразило и в то же время встревожило его. Да, сомнений быть не может — это корабль или какое-то его подобие; но таких кораблей юнга еще не встречал.
Казалось, судно объято огнем. Большие клубы дыма поднимались с палубы и стлались над кормой, ярко озаренной огненными столбами, которые вздымались ввысь перед фок-мачтой, достигая почти нижних вантов. Всякий непривычный к такому зрелищу человек, едва взглянув, тотчас же подумал бы: на судне пожар!
А между тем Вильям уже должен был разбираться в том, что видел сейчас. К несчастью, зрелище горящего корабля не было для него ново. Он сам был очевидцем гибели судна, которое привезло его в Атлантический океан, да так и оставило здесь по сей день, в страшнейшей опасности для жизни.
Но воспоминания об этом пожаре не очень-то помогли ему понять, что сейчас творится у него перед глазами. Он видел, как на палубе «Пандоры» люди метались в диком ужасе, спасаясь от пламени. Здесь же, на корабле, который маячит вдали, бросается в глаза совершенно обратное. Он видит, как люди стоят перед самыми огненными столбами и не только остаются спокойными вблизи бушующего пламени, но как будто даже стараются разжечь его еще сильнее.
Подобное зрелище могло поразить ужасом и глубоко смутить даже самого бывалого моряка. При виде этого невольно хотелось спросить: «Что это, корабль-призрак или корабль в огне?»
Глава ХСIХ. КИТОБОЙНОЕ СУДНО
Все эти наблюдения, так подробно нами описанные, отняли у юнги не более десяти секунд. В мгновение ока одним взглядом охватил он это странное зрелище, так неожиданно открывшееся перед ним. Ему и в голову не пришло доискиваться ответа на возникший вопрос. Потрясенный ужасом и изумлением при виде этого призрачного явления, он быстро разбудил товарищей.
Все трое, очнувшись, сразу же закричали. Но крики, вырвавшиеся одновременно, свидетельствовали о самых противоречивых чувствах. Девочка взвизгнула в сильнейшем испуге. Снежок завопил, обуреваемый смешанным чувством изумления и тревоги. А матрос, к вящему удивлению Вильяма и других, возликовал безудержно и вскочил на ноги так проворно, что резким движением чуть не опрокинул «Катамаран».
Не успел никто и рта раскрыть, чтобы спросить в чем дело, как Бен Брас уже стоял, выпрямившись, и кричал и вопил что было силы.
Матрос все отчетливее повторял такой привычный, давно знакомый отклик: «Эй, на корабле!»-вместе с другими приветствиями, принятыми по морскому обычаю, когда видят проходящее судно.
— Убей меня Бог, это корабль! — вставил словечко Снежок. — И на судне пожар.
— Да нет же! — нетерпеливо возразил бывший гарпунер. — Ничего подобного! Это просто китобойное судно, на котором вытапливают жир из убитых кашалотов. Не видишь разве, как люди стоят у салотопенных котлов и подбрасывают туда куски жира?.. Боже милосердный! А что, если они пройдут мимо, да так и не услышат, что мы их окликаем!.. Эй, на корабле! Эй, китобой!..-И матрос снова закричал во всю мочь своих богатырских легких.
Тут и Снежок присоединил к нему свой зычный голос. Моментально сообразив со слов бывшего гарпунера, в чем дело, он понял, как важно, чтобы их услыхали.
Несколько минут «Катамаран» гремел криками: «Эй, на корабле! Эй, китобой!..» Казалось, их можно было услышать даже дальше, чем находилось отсюда это загадочное судно. Но, к ужасу катамаранцев, им не отвечали.
Теперь они уже ясно различали корабль и видели все, что делалось на борту. Два огненных столба, высоко поднимаясь из-под огромных салотопенных котлов, установленных перед самой фок-мачтой, освещали не только палубу, но и океан на многие мили кругом.
Наши скитальцы видели, как большие клубы густого дыма, озаренные желтоватым отблеском бушующего пламени, окутывают корму и как в зареве ярких огней маячат призрачные тени людей, кажущихся великанами. Одни стоят перед самой топкой, другие расхаживают вокруг, и все усердно заняты каким-то делом, которое показалось бы любому, кроме бывшего гарпунера, сплошной чертовщиной.
Но, несмотря на всю отчетливость, с которой они это видели, и на близость корабля, люди на плоту не могли добиться, чтобы их услышали, как громко они ни кричали.
Это показалось катамаранцам таким странным, что и в самом деле они готовы были поверить, будто перед ними корабль-призрак, а гигантские фигуры, виднеющиеся на нем, не люди, а привидения.
Но бывший гарпунер был слишком умудрен опытом, чтобы поверить такой нелепице. Он знал, что это обыкновенное китобойное судно со своим экипажем, и понимал также, почему матросы не отвечают на его оклик: они попросту не слышат. Рев пламени заглушает все остальные звуки, и китобои не различают даже голосов стоящих рядом товарищей.
Все это пришло на ум Бену Брасу, и смертельный ужас охватил его при мысли, что корабль может пройти мимо, так и не услышав и не заметив их.
Вероятно, они не миновали бы столь плачевного исхода, если бы удача не благоприятствовала им. Их спасло одно обстоятельство, которое и привело к более счастливому завершению эту случайную встречу двух скитальцев океана — «Катамарана» и китобойца.
Китобойное судно, где, судя по всему, перетапливался жир недавно загарпуненного кита, легло в дрейф против ветра; конечно, теперь оно не могло быстро двигаться вперед, да, впрочем, команда и не слишком заботилась об этом.
Пока китобоец медленно подходит, держась носом почти по ветру, катамаранцы смогут без труда подвести свое суденышко к нему вплотную с наветренной стороны.
Матрос живо сообразил, какой козырь у них в руках. Как только он убедился, что с такого расстояния их оклики все равно не услышать, тотчас же бросился к рулевому веслу, повернул его и повел плот прямо на китобойное судно, словно решился с ним столкнуться.
Еще несколько мгновений-и «Катамаран» очутился на расстоянии одного кабельтова от носовой части судна. И тут-то Снежок с матросом снова подняли оглушительный крик: «Эй, на корабле!..» Хотя на этот раз оклик и был услышан, но ответили на него не сразу. Матросы, привлеченные возгласами людей на плоту, глазели на освещенную огнями воду и, завидев прямо под носом своего корабля такое диковинное суденышко, на мгновение оцепенели от удивления.
Однако бывший гарпунер вскоре нашел с ними общий язык. И через десять минут катамаранцы уже не дрожали от холода в насквозь промокшей одежде, а голодный желудок уже не терзал их, делая еще несчастнее. Теперь они стояли перед жарко пылавшим огнем, около стола, накрытого для обильной и питательной трапезы. Их окружало множество простых, честных людей, и каждый наперебой старался превзойти другого в заботах о том, чтобы им было хорошо.
Глава С. КОНЕЦ ПОВЕСТИ
Итак, катамаранцы уже больше не были «затерянными в океане». Они объединились с экипажем китобойного судна, а их маленькая пассажирка нашла себе приют и ласку в каюте капитана.
Сам «Катамаран» не был брошен и не «отдал якорь», как говорят моряки. Его разобрали на части и подняли на борт корабля, где он еще должен был послужить для самых разнообразных целей: найдут себе применение и канаты, рангоут и парус, бревна пойдут в распоряжение плотника, а бочки попадут к бондарю, где их, вероятно, наполнят тем дорогостоящим спермацетом, вытапливанием которого занята команда.
Побыв недолго на судне, Бен Брас убедился, насколько правильна оказалась его догадка. Это был тот самый китобоец, чьи матросы загарпунили с вельботов и оставили «на буях» мертвого кашалота. Убитый кашалот был самцом из большого косяка, за которым охотились китобои. Не отставая от судна, вельботы погнались за другими кашалотами: китобои убили нескольких из них, но в пылу погони потеряли след того, кого ранили первым.
Все же они собирались отправиться на его поиски, как только кончат обрабатывать туши пойманных кашалотов. Теперь благодаря указаниям Бена Браса капитану китобойного судна куда легче будет разыскать потерянную добычу. Кашалот, по мнению капитана, должен был дать семьдесят-восемьдесят бочонков жира; и, конечно, стоило потрудиться, чтобы вернуться за ним.
На следующий день после того, как потерпевших крушение взяли на борт, судно, погасив огни салотопок, отправилось на поиски кашалота, оставленного «на буях».
К тому времени бывшая команда «Катамарана» уже успела рассказать своим спасителям обо всех приключениях. Наши скитальцы страшились, как бы не встретить около туши разбойничью шайку с большого плота. Такая возможность очень заинтересовала матросов с китобойца. И когда корабль подходил к месту, где ожидали найти оставленного кашалота, все взоры устремились на океан.
Поиски убитого кашалота увенчались успехом. Китобои увидели его в тот момент, когда садилось солнце. Еще до наступления ночи, в сумерках, судно легло в дрейф рядом с тушей. Когда корабль подошел, в воздух взвилась большая стая морских птиц, расположившихся на плавучей массе, — очевидно, людей здесь не было. Большого плота нигде не было видно; никаких признаков того, что он сюда возвращался. Зато сохранилось потешное сооружение вроде колодезного журавля, воздвигнутое катамаранцами на самом верху туши. Оно оставалось точь-в-точь в том виде, как они его бросили, только ломти акульего мяса обуглились и превратились в пепел, да внизу уже не пылал огонь, который их сжег.
Впрочем, недолго была покрыта тaйнoй судьба, постигшая жертвы крушения невольничьего корабля. Дня через три после того, как китобои, разделав тушу кашалота, вытопили жир, судно снова пустилось в плавание. Вскоре они натолкнулись на странную находку: на воде плавали два-три корабельных бруса и несколько пустых бочек. Нетрудно было признать в них обломки большого плота с «Пандоры», носившиеся по волнам неподалеку от места, где китобои только что разделывали убитого кашалота.
Можно было догадаться, что произошло. Буря, которую стойко выдержал «Катамаран», оказалась роковой для большого плота. Сколоченный как попало, управляемый из рук вон плохо, он разбился вдребезги, и несчастные матросы, не имея сил уцепиться за бочку или брус, вероятно, пошли ко дну. И Вильям рассказывал потом:
— Так погиб экипаж невольничьего судна. Ни один из них — ни спасавшиеся в гичке, ни на большом плоту — никогда больше не увидел земли. Они погибли в безбрежном океане, погибли страшной смертью, и никто не протянул им руку помощи, никто не оплакивал их!
Поистине, казалось, что чернокожие невольники — жертвы их зверской жестокости — были отомщены!
Если бы в нашу задачу входило рассказать всю последующую историю катамаранцев, это было бы очень приятным занятием, — пожалуй, приятнее, чем описывать плавание их знаменитого «судна».
Но нам остается место только для того, чтобы коротко заключить повествование.
На другой день после того, как Снежок ступил на палубу китобойного судна, он был назначен главным корабельным поваром. В этой высокой должности он оставался несколько лет и покинул ее лишь для того, чтобы занять такое же положение на борту превосходного судна под командованием капитана Бенджамена Браса, который вел постоянную торговлю с Африкой. Но разве это была та самая «африканская коммерция», какой занимались на «Пандоре» и других невольничьих кораблях! О нет, не такие товары перевозил на своем судне капитан Брас! Его трюмы были полны не чернокожими, а белой слоновой костью, желтым золотым песком и страусовыми перьями. И недаром ходили слухи, что после каждого такого рейса на африканское побережье капитан и владелец этого судна всякий раз имел обыкновение совершать экскурсию в Английский банк, где вносил на свой текущий счет кругленькую сумму.
После того как много лет он с неизменным успехом занимался своей торговлей, этот бывший гарпунер, матрос военного флота, некогда командир «Катамарана» и капитан африканского торгового судна, решил удалиться на покой. Он нашел себе тихую пристань и «бросил якорь» на вилле в Хэмпстед Хауз, где и по сей день наслаждается своей трубкой, стаканчиком грога и приятным досугом.
Что же касается «малыша Вильма», то его уже давно перестали так звать-с тех самых пор, как он сделался капитаном первоклассного клипера и повел торговлю с Ост-Индией. Да разве подходит это имя детине шести футов росту, который стоит на шканцах своего собственного корабля, и такой из себя молодец и лицом и фигурой, что, как видно, ему без труда удалось взять в жены нежно любящую его девушку!
Она-красавица, с глубоким, исполненным благородства взглядом, с пышными черными, как смоль, волосами и очень смуглым цветом лица. Кое-кто считает, что в жилах у нее течет восточная кровь и что капитан вывез ее из Индии, возвращаясь на родину после одного из своих обычных рейсов. Но более близкие друзья могли бы рассказать иную историю, которую слышали от него самого: они знают, что жена его-креолка, уроженка Африки, и зовут ее Лали.
Слыхали они также, что впервые он познакомился с ней на борту невольничьего судна и что детская дружба, выросшая потом в любовь, накрепко связала их, когда они — жертвы кораблекрушения — носились по волнам на плоту, затерянные в просторах Атлантического океана.
МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК
или
Путешествие на дне трюма

Глава I. МОИ ЮНЫЕ СЛУШАТЕЛИ
Меня зовут Филиппом Форстером. Я уже старик. Я живу в тихой, маленькой деревушке, которая стоит на морском берегу, в глубине очень широкой бухты, одной из самых широких на нашем острове.
Я назвал нашу деревню тихой — она и есть тихая, хотя претендует на звание морского порта. Есть у нас пристань, или мол, из тесаного гранита. Здесь вы обычно увидите один-два шлюпа, столько же шхун, иногда бриг.
[23] Большие суда не могут войти в бухту. Но вы всегда заметите немалое количество рыбачьих лодок. Одни вытащены на песок, другие скользят по бухте, и из этого вы можете вывести заключение, что благосостояние деревни больше зависит от улова, чем от торговли. Так и есть на самом деле.
Это моя родная деревня — здесь я родился и здесь собираюсь умереть.
Несмотря на это, мои земляки очень мало обо мне знают. Они зовут меня «капитаном Форстером» или попросту «капитаном», считая, что я единственный человек в наших краях, заслуживающий этого звания.
Строго говоря, я его недостоин. Я никогда не служил капитаном ни в армии, ни во флоте. Я был только хозяином торгового судна — другими словами, шкипером. Но мои соседи — люди вежливые, и благодаря их вежливости я стал называться «капитаном».
Они знают, что я живу в хорошеньком домике в полумиле от деревни, на берегу моря; знают, что я живу один, потому что моя старая служанка вряд ли может считаться «обществом». Каждый день они видят, как я прохожу по деревне с подзорной трубой под мышкой. Они замечают, что я выхожу на мол, внимательно рассматриваю прибрежные воды и затем возвращаюсь домой или брожу еще час-другой по берегу. Вот и все, что моим согражданам известно обо мне — о моих привычках и обо всей моей жизни.
Они убеждены, что я когда-то был великим путешественником. Они знают, что у меня много книг и что я много читаю, и решили, что я необыкновенный ученый.
Я действительно много путешествовал и много читал, но простые деревенские люди ошибаются относительно моей учености. В юности я не имел возможности получить хорошее образование, и все, что я знаю, усвоил самоучкой, занимаясь наспех и с перерывами, в короткие периоды затишья в моей бурной жизни.
Я сказал, что мои земляки мало знают обо мне, и вас это, конечно, удивляет. Ведь среди них я начал свою жизнь и среди них же собираюсь ее закончить. Но это легко объяснить. Двенадцатилетним мальчиком я ушел из дому, и в течение сорока лет нога моя не ступала на родную землю и глаза мои не видели никого из местных жителей.
Нужно быть уж очень знаменитым человеком, чтобы тебя вспомнили после сорока лет отсутствия. Уйдя отсюда мальчиком и вернувшись зрелым человеком, я убедился в том, что меня совершенно забыли. С трудом вспоминали даже моих родителей. Они умерли еще до того, как я, совсем маленьким, ушел из дому. Вдобавок мой отец был моряком, он редко бывал дома. В моих воспоминаниях о нем осталось только, как я горевал, когда узнал, что его корабль погиб и он утонул вместе с большей частью экипажа. Увы! Моя мать ненамного его пережила. И так как они умерли давным-давно, естественно, что их забыли соседи, с которыми они были не слишком близки. Вот чем объясняется то, что я оказался чужим человеком в своих же родных местах.
Но вы не должны думать, что я одинок, что у меня нет товарищей. Я оставил профессию моряка и вернулся домой, чтобы провести остаток дней в покое и мире, но я не избегаю людей и я не угрюмый человек. Наоборот, я очень люблю и всегда любил встречаться с людьми и, будучи стариком, охотно провожу время в обществе молодежи, особенно мальчиков. Могу похвастаться, что со всеми деревенскими мальчуганами я в большой дружбе. Часами я помогаю им запускать змея и гонять кораблики по воде, ибо помню, как много удовольствия получал от всего этого в детстве сам.
Играя со мной, дети вряд ли догадываются, что добрый старик, который умеет так забавлять их и при этом забавляется сам, провел большую часть своей жизни в бурных приключениях, среди смертельных опасностей. Но именно такова история моей жизни.
Кое-кто в деревне знает, однако, отдельные эпизоды моей биографии — происшествия, о которых они слышали из моих уст, потому что я никогда не отказываюсь сообщить об увлекательных приключениях тем, кому интересно меня послушать. И даже в нашей тихой деревушке я нашел аудиторию, которая ценит рассказчика. Мои слушатели — школьники. Невдалеке от деревни имеется знаменитая школа, которую именуют «учебным заведением для юных джентльменов», — вот откуда взялись мои самые внимательные слушатели.
Мы не раз встречались с этими мальчиками на прогулках вдоль берега, и, судя по моей обветренной, «просоленной» коже, они сообразили, что я могу порассказать им немало о диких странах и необыкновенных происшествиях, которые случались со мной во время далеких странствий. Мы встречались часто, почти ежедневно, и вскоре подружились. По их желанию я начал рассказывать им отдельные случаи из своей жизни. Не раз видели меня на берегу сидящим на траве в кругу опрятно одетых мальчуганов. Их раскрытые рты и горящие глаза свидетельствовали об интересе, с которым они слушали мои истории.
Не стыжусь сказать, что я сам находил удовольствие в этих рассказах, как все старые моряки и военные, которые, вспоминая прошлое, сражаются сызнова в давно минувших боях.
Таким образом, некоторое время я рассказывал им только отдельные эпизоды. Однажды, встретившись со своими юными друзьями как всегда, лишь несколько ранее обычного, я заметил, что они чем-то озабочены. Они сбились в кучу. И я увидел, что один из них, самый старший, держит в руке сложенный листок бумаги, на котором, по-видимому, было что-то написано.
Я подошел поближе. Мальчики, не промолвив ни слова, вручили мне бумагу. Прочитав обращение, я понял, что послание адресовано мне.
Я развернул его и сразу догадался, в чем дело. Это была «просьба», подписанная всеми присутствующими:
«Дорогой капитан!
Сегодня мы свободны целый день. Мы думали, как бы провести его получше, и решили просить вас доставить нам удовольствие и рассказать о каком-нибудь замечательном происшествии, случившемся с вами. Мы хотели бы услышать что-нибудь захватывающее, потому что знаем, что в вашей жизни было много приключений. Выберите то, что вам самому больше всего нравится, а мы обещаем слушать внимательно и уверены, что нам нетрудно будет сдержать такое обещание. Итак, дорогой капитан, сделайте это для нас, и мы всегда будем вам благодарны».
Я не мог ответить отказом на такую вежливую просьбу. Без колебаний я объявил, что расскажу моим юным друзьям целую главу из своей жизни. Я выбрал то, что считал наиболее интересным для них: повесть о моем детстве и о первом путешествии по морю — путешествии, которое произошло в настолько странной обстановке, что я назвал его «Путешествием на дне трюма».
Мы уселись на прибрежной гальке. Перед нами был широкий морской простор. Мальчики собрались вокруг меня. И я начал.
Глава II. СПАСЕННЫЙ ЛЕБЕДЕМ
С самого раннего детства я любил воду. Мне следовало бы родиться уткой или ньюфаундлендом.
[24] Отец мой был моряком, дед и прадед — также. Должно быть, от них я унаследовал это влечение. Во всяком случае, тяга к воде была у меня так сильна, словно вода была моей родной стихией. Мне рассказывали, хотя сам я этого не помню, что еще маленьким ребенком меня с трудом отгоняли от луж и прудов. И в самом деле, первое приключение в моей жизни произошло на пруду, и я запомнил его хорошо. Правда, оно не было ни столь страшным, ни столь удивительным, как те приключения, которые мне случилось испытать впоследствии. Оно было скорее забавным. Но я расскажу его вам, чтобы показать, как велика была моя страсть к воде.
Я был тогда еще совсем маленьким мальчиком. И это странное происшествие, случившееся в преддверии моей жизни, явилось как бы предзнаменованием будущего. Оно как будто предвещало, что мне предстоит пройти через многие испытания судьбы и пережить немало приключений.
Я уже сказал, что был в то время совсем малышом. Меня только что начали пускать одного, без взрослых, и я находился как раз в том возрасте, когда дети любят спускать на воду бумажные кораблики. Я уже умел делать их,
вырывая страницы из старых книг и газет, и часто посылал свои «суда» путешествовать через большую лужу, которая заменяла мне океан. Но скоро мне показалось этого мало. Я собрал за шесть месяцев карманные деньги, экономя их специально для этой цели, и приобрел у старого рыбака полностью оснащенный игрушечный корабль, который он смастерил на досуге.
Мой корабль имел всего шесть дюймов
[25] в длину и три дюйма в ширину, и если бы его тоннаж был зарегистрирован (а он, конечно, не прошел регистрацию), то он составил бы около полуфунта. «Утлое суденышко», — скажете вы, но в ту пору оно представлялось мне ничем не хуже настоящего трехпалубного корабля.
Я решил, что он слишком велик для лужи, где купались утки, и начал искать место, где он мог бы по-настоящему показать свои морские качества.
Скоро я нашел очень большой пруд — вернее, озеро, где вода была чиста, как кристалл, и тихий ветерок рябил ее поверхность. Этого ветра было достаточно, чтобы надувать паруса и нести мой маленький кораблик, как птицу на крыльях. Часто он пересекал весь пруд, прежде чем я успевал обежать вокруг, чтобы поймать его вновь. Много раз мы с ним состязались в скорости с переменным успехом. Иногда побеждал он, иногда я, в зависимости от того, был ли ветер попутным или дул навстречу кораблику.
Красивый пруд, на берегах которого я забавлялся и провел лучшие часы моего детства, не был общественной собственностью. Он был расположен в парке, принадлежавшем частному лицу. Парк начинался от конца деревни, и, конечно, пруд принадлежал владельцу парка. Это был, однако, доброжелательный и лишенный предрассудков джентльмен. Он разрешал жителям деревни проходить по своим землям и не только не возражал против того, чтобы мальчики пускали кораблики по его прудам и бассейнам, но даже позволял им играть в крикет на площадках парка, с тем чтобы дети вели себя осторожно и не портили кустов и растений, которыми были обсажены аллеи. С его стороны это было очень любезно. Мы, деревенская детвора, это чувствовали и вели себя так, что мне ни разу не приходилось слышать о каком-либо значительном ущербе, причиненном парку и пруду.
Парк и пруд существуют до сих пор — вы, наверно, знаете их. Но добрый джентльмен, о котором я говорю, давно ушел из этого мира, потому что его уже тогда называли «старым джентльменом», а это было шестьдесят лет назад.
По маленькому озеру плавала стая лебедей — точнее, их было шесть. Водились там и другие довольно редкие птицы. Дети любили кормить эти красивые создания. У нас было принято приносить кусочки хлеба и бросать птицам. Я тоже был в восторге от них и при малейшей возможности являлся к озеру с набитыми хлебом карманами.
Птицы, особенно лебеди, так приручились, что ели прямо из рук и нисколько не боялись нас.
У нас был забавный способ кормежки. В одном месте берег пруда был чуть покруче, он образовывал нечто вроде насыпи высотой около трех футов
[26]. И пруд был здесь поглубже, так что лебеди могли подняться на сушу только с помощью крыльев. Берег был почти отвесный, без выступов или ступенек. Он именно нависал над водой, а не спускался к ней.

Сюда мы и заманивали лебедей. Они настораживались, уже завидев нас издали. Мы насаживали кусок хлеба на расщепленный кончик длинного прута и, поднимая его высоко над головами лебедей, забавлялись, глядя, как они вытягивали длинные шеи и иногда подпрыгивали на воде, стараясь схватить хлеб, — совсем как собаки при виде лакомого куска. Вы сами понимаете, сколько тут было веселья для мальчишек!
Теперь перейдем к происшествию, о котором я хочу рассказать.
Однажды я пришел на пруд, по обыкновению неся свой кораблик. Было рано, и, дойдя до берега, я убедился, что мои товарищи еще не явились. Я спустил кораблик на воду и зашагал вокруг пруда, чтобы встретить свое «судно» на другой стороне.
Ветра почти не было — кораблик двигался медленно. Спешить было нечего, и я брел по берегу. Выходя из дому, я не забыл о лебедях, моих любимцах. Надо признаться, они не раз заставляли меня пускаться на небольшие кражи: куски хлеба, которыми были набиты мои карманы, я добывал тайком из буфета.
Так или иначе, но я принес с собой их обычную порцию и, выйдя на высокий берег, остановился перед птицами.
Все шестеро, гордо выгнув шеи и слегка приподняв крылья, плавно заскользили по направлению ко мне. Вытянув клювы, они не спускали с меня глаз, следя за каждым моим движением. Они знали, что я звал их не зря.
Я достал ветку, расщепил ее на конце, приладил хлеб и стал забавляться уловками птиц, старавшихся схватить добычу.
Кусок за куском исчезал с конца ветки, и я уже почти опустошил карманы, как вдруг край дерна, на котором я стоял, обвалился у меня под ногами, и я бултыхнулся в воду.
Я ушел с шумом, как большой камень, и так как совершенно не умел плавать, то камнем и пошел бы прямо ко дну, если бы мне не случилось попасть в самую середину стаи лебедей, которые испугались не меньше моего.
Не то чтобы я сохранил присутствие духа, но просто, повинуясь инстинкту самосохранения, свойственному каждому живому существу, я попытался спастись, размахивая руками и стараясь ухватиться за что-нибудь. Утопающие хватаются и за соломинку, но в моих руках оказалось нечто лучшее, чем соломинка, — я ухватился за лапу самого большого и сильного из лебедей и держался за нее изо всех сил, ибо от этого зависела моя жизнь.
При падении мне в глаза и уши набралась вода, и я плохо соображал, что делаю. Сначала я слышал только плеск и крики вспугнутых лебедей, но в следующую секунду уже сообразил, что птица, которую я держу за ногу, увлекает меня к другому берегу. У меня хватило ума не отпустить лапу-и в одно мгновение я пронесся через половину пруда, что в конечном счете было не так уж много. Лебедь даже не плыл, а, скорее, летел, ударяя крыльями по поверхности воды и помогая себе свободной лапой. Без сомнения, страх удвоил его силы и энергию, а то он не мог бы тащить за собой существо, которое весило столько же, сколько он сам. Затрудняюсь сказать, сколько это продолжалось. Думаю, что не очень много времени. Птица могла еще продержаться на воде, но я бы долго не выдержал. Погружаясь, я набирал воду ртом и носом и уже начал терять сознание.
Но тут, к величайшей своей радости, я почувствовал что-то твердое под ногами. Это были камешки и галька на дне озера — я стоял на мелком месте. Птица, стремясь вырваться, пронеслась над самыми глубокими и опасными частями озера и оттащила меня в другой конец пруда, изобилующий мелями.
Я не мешкал ни минуты. Я был бесконечно рад, что закончил свое путешествие на буксире, и, разжав руку, выпустил лапу лебедя. Птица, почувствовав свободу, немедленно поднялась в воздух и полетела, пронзительно крича.
Что касается меня, то, нащупав наконец дно, шатаясь, чихая и отфыркиваясь, я окончательно встал на ноги, побрел к берегу и вскоре оказался в безопасности, на твердой земле.
Я был до того перепуган всем случившимся, что совершенно забыл о своем кораблике. Не думая о том, как он закончит плавание, я побежал во всю прыть и остановился лишь тогда, когда оказался дома. Вода так и текла с меня ручьями, я вымок насквозь и тут же стал сушить мокрую одежду возле горящего очага.
Глава III. ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Пожалуй, вы подумаете, что урок, который я получил, отбил у меня охоту подходить близко к воде. Ничуть не бывало! Случай на пруду не научил меня осторожности, но оказался благодетельным для меня в другом отношении: как ни был я мал, я все же понял, как опасно попадать в глубокие места, не умея плавать. Опасность, которой я с таким трудом избежал, заставила меня принять новое решение, а именно — научиться плавать.
Мать одобрила мое намерение. То же самое писал мне отец из дальних стран. Он даже посоветовал наилучший способ обучения. Этого только мне и нужно было, и я с жаром принялся за дело в надежде стать первоклассным пловцом. Раз или два в день, в теплую погоду, после школы я отправлялся на море и плескался в воде, как молодой дельфин.
Старшие мальчики, уже умевшие плавать, дали мне несколько уроков, и скоро я испытал величайшее удовольствие, когда смог впервые плыть на спине без всякой посторонней помощи. Хорошо помню, что я был очень горд, совершив этот свой первый подвиг пловца.
Разрешите, юные слушатели, дать вам хороший совет: учитесь плавать! Это уменье пригодится вам скорее, чем кажется. Как знать, может, вам придется его применять, спасая других, а может быть, и самих себя.
В наше время случаев утонуть представляется гораздо больше, чем в старые времена. Многие ездят по морям, океанам и большим рекам, и количество людей, которые ежегодно подвергают опасности свою жизнь, отправляясь в путешествие по делу или ради удовольствия, даже трудно себе представить. В бурную погоду многие из них, не умея плавать, тонут.
Я не собираюсь, конечно, утверждать, что даже самый лучший пловец, потерпевший кораблекрушение где-нибудь вдали от берега, например в середине Атлантического океана или посреди пролива Ла-Манш, может надеяться, что доплывет до берега. Разумеется, это ему не удастся. Но и вдали от суши можно спастись, если доплыть до шлюпки, до какой-нибудь доски или пустой бочки.
Было немало примеров, когда люди спасали свою жизнь таким простым способом. К месту катастрофы может подойти другой корабль, и хорошему пловцу нужно только продержаться на поверхности воды, пока его не подберут. А не умеющие плавать пойдут ко дну.
К тому же вы знаете, что большинство кораблей терпит крушение не в середине Атлантического океана и вообще не в открытом море. В редких случаях буря достигает такой исключительной силы, чтобы море «разгулялось», как говорят моряки, и разбило корабль в щепки. Большинство крушений происходит вблизи берега. Именно тогда бывают человеческие жертвы, которых не было бы, если б все на корабле умели плавать. Каждый год мы узнаем, что сотни людей тонут в кабельтове
[27] от берега; целые корабли, со всеми, кто находится на борту — переселенцами, солдатами, матросами, — погружаются в воду, — и только несколько хороших пловцов остаются в живых. Такие же несчастья происходят на речках шириной в каких-нибудь двести ярдов
[28]. Вы сами, наверно, слышали, как люди каждый год умудряются тонуть даже в неширокой, но студеной речке Серпентайн
[29].
Все это общеизвестно, и приходится удивляться беспечности людей и их нежеланию учиться плавать.
Приходится также удивляться тому, что правительство не заставляет молодежь учиться этому простому делу. Впрочем, основным занятием правительства во все времена было скорее облагать налогами, чем обучать свой народ.
Однако мне кажется, что для правительства было бы уж совсем не трудно заставить всех морских путешественников запасаться спасательными поясами. Я берусь доказать, что тысячи жизней каждый год могут быть спасены с помощью этого дешевого и простого приспособления. И никто не станет ворчать ни на стоимость, ни на неудобство спасательного пояса.
Правительство очень заботится о том, чтобы заставить путешественников заплатить за никчемный клочок бумаги, называемый заграничным паспортом. Как только вы заплатили, чиновникам становится безразлично, скоро ли вы и ваш паспорт пойдете на дно моря.
Итак, юные слушатели, хочет или не хочет этого ваше правительство, прислушайтесь к моему совету и сделайтесь хорошими пловцами! Возьмитесь за это немедленно — только в теплую погоду — и затем уже не пропускайте ни одного дня. Сделайтесь пловцами прежде, чем станете взрослыми. Потом у вас не будет ни времени, ни желания учиться плаванию. А между тем, не умея плавать, вы можете утонуть еще до того, как у вас появится первый пух на верхней губе. Лично я не раз бывал на волосок от смерти в воде. Водная стихия, которую я так любил, как бы задалась целью сделать меня своей жертвой. Я бы мог упрекнуть волны в неблагодарности, но не делал этого потому, что знал, что они неодушевленны и не отвечают за свои поступки. И вот однажды я безрассудно доверился им.
Это случилось через несколько недель после моего вынужденного купанья в пруду, когда я уже немного умел плавать.
Все это произошло не на том пруду, где плавали лебеди, потому что он служил для украшения парка и был частной собственностью. Купаться в нем было запрещено.
Но жители морского побережья и не нуждаются в прудах и озерах для купания. Они купаются в великом соленом море. И у нашего поселка, как и у других подобных же деревушек, был свой морской пляж. Конечно, первые уроки плавания я брал в соленой воде.
Место, где купались жители нашего поселка, было выбрано не совсем удачно. Правда, пляж был прекрасный: с желтым песком, белыми ракушками и галькой, но в морской глубине здесь скрывалось подводное течение, опасное для всех, кроме хороших, выносливых пловцов.
Местные жители рассказывали, что кто-то утонул, унесенный этим течением, но это случилось давно, и об этом почти забыли. Позже раза два или три купальщиков уносило в море, но их в конце концов спасали посланные вслед лодки.
Помню, эти факты тогда произвели на меня сильное впечатление. Но самые почтенные жители поселка — старые рыбаки — не любили говорить на эту тему. Они либо пожимали плечами и помалкивали, либо отговаривались ничего не значащими словами. Кое-кто из них даже вовсе отрицал существование подводного течения, другие утверждали, что оно неопасно. Я, однако, замечал, что родители не позволяли мальчикам купаться вблизи опасного места.
Долго я не понимал, почему мои односельчане так упорно не хотят признаться, что подводное течение существует. Когда я вернулся в поселок через сорок лет, я наткнулся на все то же таинственное пожимание плечами, хотя за это время народилось новое поколение, сильно отличающееся от того, с которым я когда-то расстался. Жители не хотят говорить о подводном течении, несмотря на то что в мое отсутствие произошло еще несколько случаев, доказывающих, что оно действительно существует и что оно действительно опасно.
Но теперь я стал старше и лучше понимаю людей. Скоро я понял истинную причину странного поведения моих односельчан. Наш поселок считается морским курортом и получает некоторый доход от приезжих, которые проводят здесь несколько недель летом. Это и так не первосортный курорт, а если бы пошли слухи о подводном течении и о том, как люди тонут из-за него, то к нам стало бы ездить еще меньше людей или вовсе никто не стал бы ездить. Поэтому, чем меньше вы говорите о подводном течении, тем больше вас уважают местные мудрецы.
Итак, мои юные друзья, я сделал длинное вступление к довольно обыкновенной истории, но дело в том, что я утонул, попав в это прибрежное подводное течение — именно утонул!
Вы скажете, что я, во всяком случае, не захлебнулся до смерти. Может быть, но я был в таком состоянии, что ничего не почувствовал бы, даже если бы меня разрезали на куски, и никогда не вернулся бы к жизни, если бы не мой спаситель. Этим спасителем оказался молодой рыбак из нашего поселка, по имени Гарри Блю. Ему я обязан своим вторичным рождением.
История, повторяю, самая обыкновенная, но я ее рассказываю для того, чтобы вы знали, как я познакомился с Гарри Блю, так как он оказал решительное влияние на всю мою последующую жизнь.
Я отправился на пляж купаться, как обычно, но вошел в воду в новой для меня и пустынной части берега. Считалось, что в этом месте подводное течение особенно сильно, и действительно, оно мгновенно подхватило меня и понесло в открытое море. Меня отнесло так далеко, что всякая надежда доплыть до суши пропала. Страх и уверенность в гибели так сковали мне тело, что я не в состоянии был удержаться на поверхности и начал погружаться в глубину, как кусок свинца.
Я не знал тогда, что мне не суждено еще умереть. Не помню, что было потом. Помню только, что передо мной появилась лодка и в ней человек. Вокруг меня как бы спустились сумерки, а в ушах раздавался грохот, похожий на удары грома. Сознание мое померкло, как пламя задутой свечи. Оно вернулось ко мне благодаря Гарри Блю. Когда я почувствовал, что еще жив, и открыл глаза, то увидел человека, стоящего возле меня на коленях. Он растирал мне руками тело, нажимая на живот под ребрами, и щекотал ноздри пером, всячески стараясь вырвать меня у смерти.
Гарри Блю удалось вновь вдохнуть в меня жизнь. Он тут же взял меня на руки и отнес домой, к матери, которая едва не потеряла рассудка, увидев меня в таком состоянии. Мне влили в рот вина, к ногам приложили горячие кирпичи и бутылки, дали понюхать нашатыря, закутали в теплые одеяла. Было принято еще много мер, и много лекарств пришлось мне проглотить, пока решили, что опасность миновала и что я, вероятно, выживу.
Наконец все успокоились, а через двадцать часов я уже снова был на ногах как ни в чем не бывало.
Казалось, бы, такой случай мог научить меня осторожности. Но я не внял голосу рассудка и повел себя совсем иначе, а почему и как, вы узнаете из следующих глав.
Глава IV. ЯЛИК
Нет, все уроки прошли даром! Я побывал на краю гибели, но это не только не отбило у меня тягу к воде, но даже наоборот.
Знакомство с молодым лодочником скоро переросло в прочную дружбу. Его звали, как я сказал, Гарри Блю, и он обладал смелым и добрым сердцем. Нечего и говорить, что я крепко привязался к нему, да и он ко мне. Он вел себя так, как будто я его спас, а не он меня. Он положил много трудов, чтобы сделать из меня образцового пловца, и научил меня пользоваться веслами так, что в короткое время я стал грести вполне уверенно, гораздо лучше, чем другие мальчики моего возраста. Я греб не одним веслом, как дети, а двумя, как взрослые, и управлялся без всякой посторонней помощи. Это было великое достижение. И я всегда гордился, когда Гарри Блю поручал мне взять его шлюпку из заводи, где она стояла, и привести ее в какое-нибудь место на берегу, где он ждал пассажиров, желающих покататься. Проходя мимо судов, стоявших на якоре или вблизи пляжа, я не раз слышал насмешливые восклицания вроде: «Гляди, какой забавный малыш на веслах!» или «Разрази меня гром! Посмотрите на этого клопа, ребята!»
Я слышал и другие шутки, сопровождаемые раскатами хохота. Но это меня ничуть не смущало. Наоборот, я очень гордился тем, что могу вести лодку куда нужно без всякой помощи и, пожалуй, быстрее, чем те, кто был ростом вдвое выше меня.
Прошло немного времени, и надо мной перестали смеяться, разве только кто-нибудь из приезжих. Односельчане же увидели, что я умею управлять лодкой, и, несмотря на мой юный возраст, стали относиться ко мне даже с уважением — во всяком случае, шутки прекратились. Часто меня называли «морячком» или «матросиком», а еще чаще «морским волчонком». Дома во мне всячески поддерживали мысль о профессии моряка. Отец хотел сделать меня моряком. Если бы он дожил еще до одного плавания, я отправился бы с ним в море. Мать всегда одевала меня в матросское платье излюбленного тогда фасона — синие штаны и куртка с отложным воротником, с черным шелковым платком на шее. Я гордился всем этим. И отчасти мой костюм и породил кличку «морской волчонок». Это прозвище мне нравилось больше других, потому что его придумал Гарри Блю, а с тех пор как он спас меня, я считал его своим верным другом и покровителем.
Его дела в то время процветали. У него была собственная лодка — вернее сказать, две лодки. Одна из них была много больше другой — он называл ее шлюпкой, — и она постоянно была занята, особенно когда на ней хотели покататься трое или четверо пассажиров. Вторую лодку, маленький ялик, Гарри купил недавно, и она предназначалась для одного пассажира, потому что на ней меньше приходилось работать веслами. Во время купального сезона шлюпка, конечно, была в действии чаще. Почти каждый день на ней катались отдыхающие, а ялик спокойно стоял у причала. Мне было позволено брать его и кататься сколько угодно, одному или с товарищами. Обычно после школьных занятий я садился в ялик и катался по бухте.
Редко я бывал один, потому что многие мои однокашники любили море и все они смотрели на меня с величайшим уважением, как на хозяина лодки. Мне стоило только захотеть, и я тут же находил себе спутника.
Мы катались почти ежедневно, если море было спокойно. Понятно, в бурную погоду ездить на крошечной лодочке было нельзя, сам Гарри Блю запретил такие прогулки.
Наши рейсы совершались лишь на небольшом расстоянии от поселка, обычно в пределах бухты, и я всегда старался держаться берега и никогда не отваживался отойти подальше, потому что в море любой случайный шквал грозил мне опасностями.
Однако со временем я осмелел и чувствовал себя как дома и вдалеке от суши. Я стал уходить на милю от берега, не думая о последствиях. Гарри заметил это и повторил свое предупреждение. Может быть, этот разговор и подействовал бы на меня, не услышь я через минуту, как он говорил обо мне кому-то из своих товарищей:
— Замечательный парень! Верно, Боб? Молодчина! Из него выйдет настоящий моряк, когда он вырастет!
Я решил, что далекие прогулки не под таким уж строгим запретом, и совет Гарри «держать по берегу» не произвел на меня должного впечатления.
Вскоре я и вовсе ослушался его. Невнимание к советам опытного моряка едва не стоило мне жизни, как вы сейчас в этом убедитесь.
Но прежде позвольте отметить одно обстоятельство, которое перевернуло вверх дном мою жизнь. Случилось большое несчастье: я потерял обоих родителей.
Я уже говорил, что мой отец был моряком. Он командовал судном, которое, помнится мне, ходило в американские колонии. И отца так подолгу не бывало дома, что я вырос, почти не зная его. А это был славный, мужественный моряк с обветренным, почти медного цвета, и при этом красивым и веселым лицом.
Моя мать была сильно к нему привязана, и, когда пришло известие о гибели судна и моего отца, она не могла совладать с горем. Она стала чахнуть, ей больше не хотелось жить, и для нее осталась лишь надежда присоединиться к отцу в другом мире. Ей недолго пришлось ждать исполнения своих желаний: всего через несколько недель после того, как до нас дошла ужасная весть, мою бедную маму похоронили.
Таковы были обстоятельства, которые изменили всю мою жизнь. Теперь я стал сиротой, без средств к существованию и без дома. Родители мои были люди бедные, семья наша целиком зависела от заработков отца, а он не мог принять никаких мер на случай своей смерти. Мы с матерью остались почти без денег. Может быть, судьба была милостива, что увела ее из этой жизни — жизни, в которой не осталось больше места для радостей. И хотя я долго оплакивал мою дорогую, милую матушку, но впоследствии не мог удержаться от мысли, что, пожалуй, лучше, что она ушла от нас. Долгие-долгие годы прошли бы, прежде чем я смог помочь ей, и холод и мрак нищеты стали бы ее уделом.
Последствия смерти родителей оказались для меня чрезвычайно серьезны. Я не остался, конечно, на улице, но условия моей жизни совершенно изменились. Меня взял к себе дядя, который ничем не походил на мою нежную, мягкосердечную мать, хотя и был ее родным братом. Напротив, это был человек сердитый, с грубыми привычками. И скоро я убедился в том, что он относится ко мне нисколько не лучше, чем к своим работникам и служанкам.
Мои школьные занятия кончились. С тех пор как я переступил порог дома дяди, меня больше в школу не посылали. Но мне не позволяли и сидеть без дела. Мой дядя был фермером, и он нашел для меня работу: с утра до вечера я пас свиней и коров, погонял лошадей на пашне, ходил за овцами, носил корм телятам… Я был свободен только в воскресенье — не потому, что дядя мой был религиозен, но таков уж обычай: в этот день никто не работал. Вся деревня строго соблюдала этот обычай, и дядя был вынужден ему подчиняться — в противном случае, мне думается, он заставил бы меня трудиться и в воскресенье.
Поскольку мой дядя не интересовался религией, меня не понуждали ходить по праздникам в церковь, и мне предоставлялось право бродить по полям и вообще делать все, что угодно. Вы сами понимаете: я не мог шататься по деревне и развлекаться лазаньем за птичьими гнездами, когда передо мной лежало лазурное море. Как только у меня появлялась возможность удрать из дому, я отправлялся к воде и либо помогал моему другу Гарри Блю возить пассажиров по бухте, либо забирался в ялик и уходил на нем в море ради собственного удовольствия. Так я проводил воскресенья.
При жизни матери мне внушали, что грешно проводить воскресенье в пустой праздности. Но пример дяди научил меня иному, и я пришел к заключению, что этот день — самый веселый из всех дней недели.
Впрочем, одно из воскресений оказалось для меня далеко не веселым и, больше того, едва ли не последним днем моей жизни. И, как всегда, в новом приключении участвовала моя любимая стихия — вода.
Глава V. ОСТРОВОК
Было прекрасное воскресное утро. Майское солнце ярко сияло, и птицы наполняли воздух радостным щебетаньем. Резкие голоса дроздов смешивались с нежными трелями жаворонков, а над полями то здесь, то там звучал неумолчный монотонный крик кукушки. Сильное благоухание, похожее на запах миндаля, разливалось в воздухе: цвел боярышник, и легкий ветерок разносил его запах по всему побережью. Зеленые изгороди, поля молодой пшеницы, луга, пестревшие золотыми лютиками и пурпурным ятрышником в полном цвету, птичьи гнезда в живых изгородях — все эти прелести сельской природы манили многих моих сверстников, но меня больше увлекало то, что лежало вдали, — спокойная, блистающая пелена небесно-голубого цвета, искрящаяся под лучами солнца, как поверхность зеркала. Великая водная равнина — вот где были сосредоточены все мои желания, вот куда я рвался всей душой! Мне казалось, что море красивее, чем волнуемая ветром пшеница или пестревший цветами луг; легкий плеск прибоя музыкальнее, чем трели жаворонка, а йодистый запах волн приятнее аромата лютиков и роз.
Когда я вышел из дому и увидел улыбающееся, сияющее море, мне страстно, почти неудержимо захотелось окунуться в его волны. Я спешил поскорее удовлетворить свое желание и потому не стал ждать завтрака, а ограничился куском хлеба и чашкой молока, которые раздобыл в кладовой. Поспешно проглотив то и другое, я бросился на берег.
Собственно говоря, я покинул ферму украдкой, так как боялся, что смогут возникнуть препятствия. Вдруг дядя позовет меня и прикажет остаться дома! Хотя он не возражал против прогулок по полям, но я знал, что он не любит моих поездок по воде и уже не раз запрещал их.
Я принял некоторые меры предосторожности. Вместо того чтобы пойти по улице, которая вела к большой береговой дороге, я выбрал боковую тропу — она должна была привести меня к пляжу кружным путем.
Никто не помешал мне, и я достиг берега никем не замеченный — никем из тех, кого могло интересовать, куда я делся.
Подойдя к причалу, где молодой лодочник держал свои суденышки, я увидел, что шлюпка ушла в море, а ялик остался в моем распоряжении. Ничего другого мне и не нужно было: я решил совершить на ялике большую прогулку. Первым делом я забрался в него и вычерпал всю воду со дна. Там накопилось порядочно воды — по-видимому, яликом уже несколько дней не пользовались, а обычно дно его много воды не пропускало. К счастью, я нашел старую жестяную кастрюлю — она служила для вычерпывания воды — и, поработав минут десять—пятнадцать, осушил лодку в достаточной степени. Весла лежали в сарае, за домиком лодочника. Сарай стоял неподалеку. Я, как всегда, взял весла, не спрашивая ни у кого разрешения. Я вошел в ялик, вставил уключины, вложил в них весла, уселся на скамью и оттолкнулся от берега. Крохотная лодочка послушно повиновалась удару весел и заскользила по воде, легкая и подвижная, как рыба. И с веселым сердцем я устремился в искрящееся голубое море. Оно не только искрилось и голубело, оно было спокойно, как озеро. Не было ни малейшей ряби, вода была так прозрачна, что я мог видеть под лодкой рыб, играющих на большой глубине.
Морское дно в нашей бухте покрыто чистым серебристо-белым песком; я видел, как маленькие крабы, величиной с золотую монету, гонялись друг за другом и преследовали еще более мелкие создания, рассчитывая позавтракать ими. Стайки сельдей, широкая плоская камбала, крупный палтус, красивая зеленая макрель и громадные морские угри, похожие на удавов, — все резвились или подстерегали добычу.
В это утро море было совершенно спокойно, что редко случается на нашем побережье. Погода как будто была создана специально для меня — ведь я предполагал совершить большую прогулку, как уже говорил вам.
Вы спросите, куда я направлялся. Слушайте, и вы сейчас узнаете.
Примерно в трех милях
[30] от берега виднелся маленький островок. Собственно говоря, даже не островок, а группа рифов или скал площадью около тридцати квадратных ярдов. Высота их достигала всего нескольких дюймов над уровнем воды, и то только в часы отлива, потому что в остальное время скалы были покрыты водой, и тогда виднелся лишь небольшой тонкий столб, поднимавшийся из воды на несколько футов и увенчанный бочонком. Столб поставили для того, чтобы небольшие суда во время прилива не разбились о подводный камень.
Островок был виден с суши только во время отлива. Обычно он был блестящего черного цвета, но порой, казалось, покрывался снегом в фут вышиной и тогда выглядел гораздо привлекательнее. Я знал, почему он меняет цвет, знал, что белый покров, который появляется на островке, — это большие стаи морских птиц, которые садятся на камни, делая передышку после полета, или же ищут мелкую рыбешку и рачков, выброшенных сюда приливом.
Меня всегда привлекал этот небольшой островок, может быть, потому, что он лежал далеко и не был связан с берегом, но скорее оттого, что на нем густо сидели птицы. Такого количества птиц нельзя было найти нигде в окрестностях бухты. По-видимому, они любили это место, потому что в часы отлива я наблюдал, как они отовсюду тянулись к рифу, летали вокруг столба, а затем садились на черную скалу, покрывая ее своими телами так, что она казалась белой. Эти птицы были чайки, но, кажется, там их насчитывалось несколько пород — покрупнее и помельче. А иногда я замечал там и других птиц — гагар и морских ласточек. Конечно, с берега трудно было их различить, потому что самые крупные из них казались не больше воробья, и если бы они не летали такой массой, их бы вовсе не было видно.
Полагаю, что из-за птиц меня больше всего и тянуло на островок. Когда я был поменьше, я увлекался всем, что относится к естественным наукам, особенно пернатыми созданиями. Да и какой мальчик не увлекается этим! Возможно, существуют науки, более важные для человечества, но ни одна так не приходится по вкусу жизнерадостной молодежи и не близка так их юным сердцам, как наука о природе. Из-за птиц или по какой-либо другой причине, но я всегда мечтал съездить на островок. Когда я смотрел на него — а это случалось всякий раз, когда я оказывался у берега, — во мне пробуждалось желание исследовать его из конца в конец. Я знал его очертания в часы отлива и мог бы нарисовать их, не видя самого островка. По бокам островок был ниже, а в середине образовывал кривую линию, напоминая гигантского кита, лежащего на поверхности воды; а столб на его вершине напоминал гарпун, застрявший в спине кита.
Мне очень хотелось потрогать этот столб, узнать, из какого материала он сделан, высок ли вблизи, потому что с берега казалось, что он высотой не больше ярда. Мне хотелось выяснить, что представляет собой бочонок наверху и как закреплено основание столба в земле. Вероятно, столб был вбит очень прочно. Мне случалось видеть, как в штормовую погоду гребни волн перекатывались через него и пена вздымалась так высоко, что ни скал, ни столба, ни бочонка вовсе не было видно.
Ах, сколько раз и с каким нетерпением ждал я случая съездить на этот островок! Но случая все не представлялось. Островок лежал слишком далеко для моих обычных прогулок, и слишком опасно было отправляться туда одному на утлой лодчонке, а плыть со мной никто не соглашался. Гарри Блю обещал взять меня туда с собой, но в то же время посмеивался над моим желанием посетить островок. Что ему эта скала! Он не раз проплывал мимо нее, даже высаживался там и привязывал лодку к столбу, чтобы пострелять морских птиц или половить рыбу по соседству, но мне ни разу не случилось сопровождать его в этих увлекательных поездках. Я все надеялся, что он как-нибудь возьмет меня с собой, но под конец утратил всякую надежду: ведь я был свободен только по воскресеньям, а воскресенье было для моего друга самым трудовым днем, потому что в праздник множество людей едет кататься по морю.
Долго я ждал напрасно и наконец решил больше не ждать. В это утро я принял дерзкое решение взять ялик и одному отправиться на риф. Таков был мой план, когда я отвязал лодочку и ринулся на ней в сверкающий голубой простор моря.
Глава VI. ЧАЙКИ
Я назвал свое решение дерзким. Сама по себе затея не представляла ничего особенного. Она была дерзкой только для мальчика моего возраста. Надо было пройти три мили на веслах по открытому морю, почти совершенно потеряв из виду берег. Так далеко я еще никогда не ходил. Даже половины этого расстояния я не проделывал. Редко случалось мне одному, без Гарри, выходить из бухты даже на милю от берега, да и то по мелководью; с ним-то я обошел всю бухту, но в таких случаях мне не приходилось управлять лодкой, и, доверяя уменью лодочника, я ничего не боялся. Другое дело — одному: ведь все зависело от меня самого. Если что-нибудь произойдет, никто не окажет мне помощи, не даст совета… Едва я отъехал на милю, как моя затея стала мне казаться не только дерзкой, но и безрассудной, и я уже готов был повернуть обратно.
Но мне пришло в голову, что кто-нибудь, может быть, смотрит на меня с берега. Что, если какой-нибудь мальчик из тех, что мне завидуют — а такие были в деревне, — видел, как я отправился на остров? Он тотчас догадается, почему я повернул назад, и уж наверняка станет называть меня трусом. Отчасти благодаря этой мысли, а отчасти потому, что желание посетить островок все-таки еще не прошло, я приободрился и приналег на весла.
В полумиле от рифа я бросил весла и обернулся, чтобы посмотреть на него, потому что он лежит как раз за моей спиной. Я сразу заметил, что островок весь находится над водой — прилив в это время был на самой низкой точке. Но черных камней не было видно из-за сидевших на них птиц. Казалось, что там находится стая лебедей или гусей. Но я знал, что это чайки, потому что многие из них кружили в воздухе, некоторые то садились, то поднимались снова. Даже на расстоянии полумили отчетливо были слышны их крики. Я мог бы услышать их и на еще более дальнем расстоянии, потому что ветра совсем не было.
Трудно выразить, как мне хотелось попасть на риф и посмотреть на птиц вблизи. Я думал подойти к ним поближе и остановиться, чтобы последить за движениями этих красивых созданий, так как многие из них непрерывно перелетали с места на место и я не мог определить, что они собираются делать.
В надежде, что они меня не заметят и мне удастся подплыть поближе, я старался грести бесшумно, опуская весла в воду так осторожно, как переступает лапами кошка, подстерегающая мышь.
Приблизившись таким образом на расстояние около двухсот ярдов, я поднял весла и оглянулся. Птицы меня не замечали. Чайки — пугливые создания, они хорошо знакомы с охотничьими ружьями и разом снимаются с места, как только подойдешь к ним на расстояние ружейного выстрела. У меня не было ружья, и им нечего было бояться. Даже если бы и было ружье, я не умел им пользоваться. Возможно, что, заметив ружье, они улетели бы, потому что чайки в этом отношении напоминают ворон и прекрасно знают разницу между ружьем и рукояткой мотыги. Им хорошо знаком блеск ружейного ствола.
Я долго разглядывал их с большим интересом. Если бы мне пришлось на этом закончить прогулку и тотчас вернуться назад, я все же считал бы себя вознагражденным за потраченные усилия. Птицы, которые теснились около камней, все были чайки, но здесь были две породы, различные по размерам и не совсем одинаковые по цвету: одни были черноголовые, с сероватыми крыльями, другие — покрупнее первых и почти целиком белые. И те и другие выглядели так, словно ни одно пятнышко грязи никогда не касалось их снежно-белого оперения, а их ярко-красные лапки были похожи на ветви чистейшего коралла.
Я видел, что все они были заняты. Одни охотились за пищей, состоявшей из мелкой рыбешки, крабов, креветок, омаров, двустворчатых раковин и других морских животных, выброшенных последним приливом. Другие сидя чистили себе перья и словно гордились их видом.
Однако, несмотря на кажущуюся счастливую беспечность, чайки, как и другие живые существа, не были свободны от забот и дурных страстей. На моих глазах разыгралось несколько свирепых ссор — я так и не мог определить их истинную причину. Особенно забавно было наблюдать, как чайки ловили рыбу: они падали пулей с высоты больше чем в сто ярдов и почти бесшумно исчезали под водой, а через несколько мгновений появились снова, держа в клюве сверкающую добычу.
Из всех птичьих маневров на земле и в воздухе, я думаю, самый интересный — это движение чайки-рыболова, когда она преследует добычу. Даже полет коршуна не так изящен. Крупные виражи чайки, мгновенная пауза в воздухе, когда она нацеливается на жертву, молниеносное падение, кружево взбитой пены при нырянии, внезапное исчезновение этой крылатой белой молнии и появление ее на лазурной поверхности — все это ни с чем нельзя сравнить! Никакое изобретение человека, использующее воздух, воду или огонь, не может дать такого прекрасного эффекта.
Я долго сидел в своей лодочке и любовался движениями птиц. Довольный тем, что моя поездка не прошла даром, я решил до конца выполнить свой план и высадиться на остров.
Красивые птицы оставались на местах почти до того момента, когда я уже вплотную подошел к острову. Казалось, они знали, что я не собираюсь причинить им никакого вреда, и доверяли мне. Во всяком случае, они не опасались ружья и, поднявшись в воздух, летали над моей головой так низко, что я мог бы сбить их веслом.
Одна из чаек, как будто самая крупная из стаи, все время сидела на бочонке, на верху сигнального столба. Возможно, что она показалась мне особенно большой только потому, что сидела неподвижно и я мог лучше разглядеть ее. Но я заметил, что, перед тем как снялись с места другие птицы, эта чайка поднялась первая, с пронзительным криком, похожим на команду. Очевидно, она была вожаком или часовым всей стаи. Такой же порядок я заметил у ворон, когда они отправляются грабить бобы или картофель на огородах.
Отлет птиц меня почему-то опечалил. Самое море как будто потемнело, с рифа пропала его белая одежда, обнажились голые скалы с черными, блестящими, как будто смазанными смолой, камнями. Но это было еще не все. Поднялся легкий ветерок, облако закрыло солнечный диск, зеркальная поверхность воды замутилась и посерела.
Риф имел теперь довольно унылый вид. Но так как я решил его исследовать и приехал именно с этой целью, я налег на весла, и вскоре киль моего суденышка заскрипел, коснувшись камней.
Я увидел маленькую бухточку, которая вполне годилась для моей лодки. Я направил туда нос ялика, высадился на берег и зашагал прямо к столбу, на который столько лет смотрел издали и с которым так сильно хотел познакомиться поближе.
Глава VII. ПОИСКИ МОРСКОГО ЕЖА
Скоро я дотронулся руками до этого куска дерева и почувствовал такой прилив гордости, как будто это был Северный полюс и я его открыл. Я был немало удивлен действительными размерами столба и тем, как я обманывался, глядя на него издали. С берега он казался не толще шеста от граблей или от вил, а бочонок — размером с довольно крупную репу. Как же я был удивлен, когда увидел, что на самом деле столб втрое толще моей ноги, а бочонок больше меня самого! Это была, в сущности, настоящая бочка вместимостью в девять галлонов
[31]. Она была насажена на конец столба так, что его верхний конец входил в дыру на дне бочки и таким образом надежно ее поддерживал. Бочка была выкрашена в белый цвет; впрочем, об этом я знал и раньше, часто наблюдая с берега, как она блестит на солнце. Столб же был темный когда-то, может быть, даже черный, но волны, которые в бурную погоду хлестали его своей пеной, совершенно обесцветили его.
Я ошибся и в высоте столба. С берега он казался не выше человеческого роста, но на скале он возвышался надо мной подобно корабельной мачте. В нем было не меньше двенадцати футов — да, по крайней мере двенадцать!
Я неверно судил и относительно площади островка. Раньше мне казалось, что в нем около тридцати квадратных ярдов, но я убедился, что на самом деле гораздо больше — около акра
[32]. Островок был усеян камнями разных размеров, от мелкой гальки до валунов с человека величиной, среди скал, из которых состоял островок, лежали и более крупные глыбы. Все камни были покрыты черной вязкой массой, похожей на смолу. Кое-где росли большие пучки водорослей, в том числе хорошо знакомый мне вид морской травы, на которую я потратил немало трудов, таская ее на дядин огород для удобрения картофеля.
Осмотрев сигнальный столб и подивившись истинным размерам бочки на его вершине, я оставил его и принялся исследовать риф. Я хотел взять с собой на память об этой знаменательной и приятной поездке какую-нибудь диковинную раковину. Но это оказалось вовсе не легким делом, значительно более трудным, чем я предполагал. Я уже говорил, что камни были покрыты вязкой массой, которая делала их скользкими. Они были такими скользкими, как будто их вымазали мылом, и ступать по ним было очень сложным делом. Я сразу упал и получил несколько основательных ушибов.
Я колебался, идти ли мне дальше в этом направлении: мой ялик остался на другой стороне рифа. Но вдруг я увидел на конце узкого полуострова, выдававшегося в море, множество редких раковин и решительно отправился за ними.
Я уже раньше подобрал несколько раковин в расселинах скал; одни были пустые, в других сидели моллюски. Но это были самые обыкновенные раковины: трубянки, сердцевики, острячки, голубые двустворчатые. Я не раз находил их в морской траве, которой удобряли огороды. Не
было ни одной устрицы, о чем я искренне пожалел, потому что проголодался и с удовольствием съел бы дюжины две. Я находил только маленьких крабов и омаров, но их нельзя есть сырыми.
Продвигаясь к концу полуостровка, я искал морских ежей
[33], но пока не нашел ни одного. Мне давно хотелось найти хорошего ежа. Иногда они попадались у нас на взморье, но редко, и очень ценились в качестве украшения для каминной полки. Они могли быть на этом отдаленном рифе, редко посещаемом лодочниками, и я медленно бродил, тщательно обыскивая каждый провал и расселину между скал.
Я надеялся найти здесь что-нибудь редкое. Блестящие раковины, из-за которых я отправился в поход, казались мне еще более яркими по мере приближения. Но я не спешил. Я не боялся, что раковины удерут от меня в воду: их обитатели давно покинули свои дома, и я знал, что они не вернутся. Я продолжал неторопливо продвигаться вперед, когда вдруг, дойдя до конца полуостровка, увидел чудесный предмет — темно-красный, круглый, как апельсин, но гораздо крупнее апельсина. Но, я думаю, нечего описывать вам, как выглядит панцирь морского ежа.
Я взял его в руки и любовался закругленными формами и забавными выступами на спинке панциря. Это был один из самых красивых морских ежей, каких я когда-либо видел. Я поздравлял себя с удачей — для этого стоило съездить на риф.
Я вертел в руках свою находку, рассматривал чистенькую, белую комнатку, в которой когда-то жил еж. Через несколько минут я оторвался от этого зрелища, вспомнил о других раковинах и отправился на новые поиски.
Остальные раковины были мне незнакомы, но так же красивы. Здесь оказались три или четыре разновидности. Я наполнил ими карманы, набрал полные пригоршни и повернул обратно к лодке.
О ужас! Что я увидел! Раковины, морской еж — все посыпалось у меня из рук, словно было сделано из раскаленного железа. Они упали к моим ногам, и я сам едва не свалился на них, потрясенный картиной, которая открылась моим глазам. Что это? Лодка! Лодка? Где моя лодка?
Глава VIII. ЯЛИК УПЛЫЛ
Итак, именно лодка была причиной моего крайнего изумления. Вы спросите, что же случилось с лодкой. Утонула? Нет, не утонула — она уплыла.
Когда я взглянул на то место, где оставил лодку, ее там не было. Бухточка среди скал была пуста!
Тут не было ничего таинственного. Я сразу все понял, потому что сейчас же увидел свою лодку. Она медленно удалялась от рифа.
Я не привязал ее и даже не вытянул конец каната на берег, и бриз, ставший теперь свежее, вывел ее из бухточки и погнал по воде.
Сначала я был просто поражен, но через секунду или две мое удивление перешло в тревогу. Как мне достать лодку? Как вернуть ее к рифу? А если это не удастся, как добраться до берега? До него было по меньшей мере три мили.
Я не мог бы проплыть такое расстояние даже ценой жизни, и у меня не было никакой надежды, что кто-нибудь явится ко мне на помощь.
Вряд ли кто-либо на берегу видел меня и знал о моем положении. Вряд ли кто заметил и лодку. Ведь на таком расстоянии, как я сам убедился, небольшие предметы теряются вдали. Казалось, что скалы рифа выступают над водой не больше чем на фут, а на самом деле больше чем на ярд. Таким образом, лодка вряд ли будет замечена, и никто не обратит внимания на мое бедственное положение — разве что посмотрит в подзорную трубу. Но можно ли на это рассчитывать?
Чем больше я думал, тем больше убеждался, что своим несчастьем обязан собственному легкомыслию.
Несколько минут я был в полной растерянности и не мог принять никакого решения. Я принужден был оставаться на рифе, потому что другого выхода не было. Затем мне пришло в голову, что я могу броситься вплавь за лодкой и вернуть ее обратно. Пока что она отошла от островка на какие-нибудь сто ярдов, но с каждой минутой уходила все дальше.
Если догонять лодку, то это надо делать не теряя времени, ни одной секунды!
Что мне еще оставалось делать? Если я не догоню лодку, я попаду в очень тяжелое, даже опасное положение. И я решил попробовать.
Я мгновенно сорвал с себя одежду и запрятал ее между камней. Потом снял башмаки и чулки; рубашка тоже последовала за ними, чтобы она не стесняла движений. Я словно готовился выкупаться. В таком виде я бросился в воду — без разбега, потому что глубина была достаточная у самых камней. Я направился к лодке по прямой линии.
Я старался плыть изо всех сил, но все же приближался к ялику очень медленно. Иногда мне казалось, что лодка удаляется от меня с такой же скоростью, с какой я плыл, и эта мысль наполняла меня досадой и страхом.
Если я не догоню ялик, мне придется вернуться на риф или пойти ко дну, потому что, гонясь за ним, я понял, что добраться вплавь до берега для меня так же трудно, как переплыть Атлантический океан. Я был хорошим пловцом и мог бы, если понадобится, проплыть целую милю, но одолеть три мили было уже выше моих сил. Этого я не мог бы сделать даже для спасения своей жизни. Кроме того, лодка удалялась не по направлению к берегу, а в противоположную сторону, к выходу из бухты, а оттуда, в случае неудачи, мне пришлось бы преодолеть десять миль.
Я начал сомневаться, стоит ли гнаться за яликом, и стал подумывать о возвращении на риф, пока еще не выдохся окончательно, но тут увидел, что ялик слегка изменил курс и повернул в сторону. Это произошло благодаря неожиданному порыву ветра с другой стороны. Лодка приблизилась ко мне, и я решил сделать еще одну попытку.
Попытка увенчалась успехом. Через несколько мгновений я радостно ухватился руками за край борта. Это дало мне возможность передохнуть после долгого заплыва.
Отдышавшись, я попытался влезть в лодку, но, к моему ужасу, маленькое суденышко не выдержало моей тяжести и перевернулось вверх дном, как корыто, а я оказался под водой.
Я вынырнул на поверхность и, снова ухватившись руками за лодку, попробовал сесть верхом на киль. Однако из этого ничего не вышло, потому что я потерял равновесие и так накренил лодку, что она перевернулась еще раз и пришла в нормальное положение. В сущности, только это мне и было нужно, но, заглянув в лодку, я убедился, что она зачерпнула много воды. Под весом воды лодка настолько осела, что я перебрался через борт и влез в нее без особого труда. Но через секунду я увидел, что положение ничем не улучшилось, потому что она начала тонуть. Вес моего тела еще больше утяжелил ее, и я понял, что если не прыгну опять в воду, то она быстро пойдет ко дну. Сохрани я хладнокровие и выпрыгни вовремя, лодка осталась бы на поверхности. Но я был сильно напуган и ошеломлен бесконечным нырянием, сообразительность меня покинула, и я торчал в лодке, стоя по колена в воде. Я хотел было вычерпать воду, но чем? Жестяная кастрюля исчезла вместе с веслами. Без всякого сомнения, она потонула, пока лодка переворачивалась, а весла плавали вдалеке.
В полном отчаянии я начал вычерпывать воду пригоршнями, но не успел сделать и нескольких движений, как почувствовал, что ялик погружается. В следующее мгновение он затонул прямо подо мной, а я принужден был поработать руками и ногами, чтобы уйти от водоворота, который образовался на месте его гибели.
Я посмотрел на то место, где он исчез. Я знал, что это уже навсегда. Мне оставалось только одно — плыть обратно к рифу.
Глава IX. СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБ
Я добрался до рифа не без труда. Рассекая грудью воду, я чувствовал, что иду против течения, — это начинался прилив. Именно прилив и ветер угнали у меня лодку. Но я достиг рифа вовремя — каждый лишний фут обошелся бы мне дорого.
Усилие, которое я потратил, чтобы вылезть на берег, могло стать последним, если бы оно не довело меня до скалы. Это было все, на что я был способен, — до такой степени я устал. К счастью, у меня хватило сил на это последнее усилие, но я был совершенно измучен и несколько минут, стараясь отдышаться, лежал на краю рифа, на том месте, где вылез из воды.
Однако я недолго находился в бездействии. Положение было не такое, чтобы тратить время попусту. Зная это, я вскочил на ноги и огляделся.
Не знаю, почему я прежде всего посмотрел в сторону погибшей лодки. Быть может, во мне шевелилась смутная надежда, что она всплывет. Но об этом и думать было нелепо. На море не было ничего, и только бесполезные теперь весла плыли вдали, по волнам, и как будто дразнили меня. С таким же успехом они могли бы пойти ко дну вместе с лодкой.
Затем я обратил свой взгляд в сторону берега, но и там ничего не было видно, кроме низкой и ровной полосы земли, на которой стоял поселок. Людей на берегу я не заметил, даже с трудом различал дома, потому что, как бы в добавление к моему унынию и окружавшим меня опасностям, и самое небо стало заволакиваться, а вместе с облаками появился и свежий бриз.
Волны сделались так высоки, что закрывали от меня берег. Впрочем, даже в хорошую погоду я не мог бы разобрать очертания людей на берегу, потому что от рифа до ближайшей окраины поселка было больше трех миль.
Звать на помощь было бессмысленно. Даже в безветренный день меня бы не услышали. И, прекрасно зная это, я и не пытался открыть рот.
Я ничего не мог заметить на поверхности моря: ни корабля, ни шлюпа, ни шхуны, ни брига — ни одного судна не виднелось в бухте. Было воскресенье, и суда находились на стоянках. По той же причине и рыбачьи лодки не выходили в море, а все шлюпки для катанья из нашего поселка отправились к знаменитому маяку — в том числе, вероятно, и лодка Гарри Блю.
На севере, востоке, западе и юге не было ни одного паруса. Кругом лежала водная пустыня, и я чувствовал себя заживо погребенным.
Я хорошо запомнил жуткое чувство одиночества, которое охватило меня. Помню, что я прислонился к скале и зарыдал.
К тому же неожиданно вернулись чайки. Может быть, они сердились на меня за то, что я их прогнал: они летали над самой моей головой, испуская оглушительные, резкие крики, как бы намереваясь напасть на меня. Теперь я думаю, что они делали это скорее из любопытства, чем от злобы.
Я обсудил свое положение, но так и не придумал ничего. Мне оставалось только одно — ждать, пока не подойдет помощь извне. Другого выхода не было. Я никак не мог выбраться с островка сам.
Но когда приедут за мной? Ведь только по счастливой случайности кто-нибудь с берега вдруг обратит внимание на риф. Впрочем, без подзорной трубы меня все равно оттуда не увидят. Всего один — два лодочника имели подзорные трубы — я это знал, — и одна была у Гарри Блю. Но далеко не каждый день они пользовались этими трубами. И десять шансов против одного, что они не направят их на риф. Зачем им смотреть в этом направлении? Этим путем суда никогда не ходят, а корабли, направляющиеся в бухту, всегда далеко обходят опасный риф. Таким образом, надежда, что меня заметят невооруженным глазом или в трубу, была очень слаба. Но еще слабее была надежда, что меня подберет какое-нибудь судно, раз путь судов не лежит мимо рифа.
Полный таких неутешительных мыслей, я уселся на скалу и стал ждать дальнейших событий.
Я тогда не предвидел возможности умереть с голоду на островке. Я не думал тогда, что дело может принять настолько дурной оборот. Но именно так и могло получиться. Предотвратить беду могло лишь одно обстоятельство: Гарри Блю увидит, что ялик пропал, и начнет искать его.
Конечно, он этого не заметит до наступления темноты: вряд ли он вернется с пассажирами раньше. Однако, когда начнет вечереть, он наверняка отправится домой. Увидев, что лодочка отвязана, он, естественно, подумает, что взял ее я, потому что я единственный из мальчиков и вообще из жителей поселка пользовался этой привилегией. Увидев, что лодки нет, что даже к ночи она не вернулась, Блю пойдет к дяде. Тогда начнется тревога и меня станут искать. В конце концов все это приведет к тому, что меня найдут.
Меня не столько беспокоила мысль о собственной судьбе, сколько страх перед тем, что я наделал. Как я теперь посмотрю Гарри в глаза? Чем я возмещу убыток? Дело серьезное — у меня денег нет, а дядя не станет платить за меня. Обязательно надо возместить лодочнику потерю лодки, но как это сделать? Разве что дядя разрешит мне отработать этот долг Гарри… А я бы работал по целым неделям, пока не окупится стоимость ялика, лишь бы у Гарри нашлось применение моим силам.
Я сидел и высчитывал, во сколько могла обойтись лодочнику утонувшая лодка. Я был целиком поглощен этими мыслями. Мне не приходило в голову, что моя жизнь в опасности. Я знал, что меня ждет голодная и холодная ночь. Я промокну насквозь: прилив целиком покроет камни рифа, и мне всю ночь придется стоять в воде.
Кстати, какова будет глубина воды? Дойдет ли мне до колен?
Я осмотрелся, думая найти какие-нибудь указания об уровне воды. Я знал, что риф полностью покрывается приливом, я это сам видел раньше. Но мне, как и многим прибрежным жителям, казалось, что вода заливает риф только на несколько дюймов.
Сначала я не мог найти ничего такого, что бы указывало на обычную высоту воды, но наконец взгляд мой упал на сигнальный столб. На нем был нанесен уровень приливной волны, он был даже отмечен белым кружком — без сомнения, с целью указать на это морякам, Представьте себе, как я был потрясен, какой ужас я испытал, когда убедился, что уровень воды достигает высоты не меньше шести футов выше основания столба!
Чуть не теряя рассудок, я бросился к столбу. Я прижался к нему вплотную. Увы! Мои глаза не обманули меня: линия приходилась намного выше моей головы. Я с трудом доставал до нее даже кончиками пальцев вытянутой руки.
Меня охватил неописуемый ужас, когда я понял, что мне угрожало: прилив зальет скалы раньше, чем придет помощь. Волны сомкнутся над моей головой — я буду смыт с рифа и утону в водной пучине!
Глава X. Я ВЗБИРАЮСЬ НА СТОЛБ
Теперь я убедился в том, что моя жизнь в опасности — вернее, что меня ждет неизбежная смерть. Надежда, что меня спасут в тот же день, была с самого начала слаба, теперь она почти вовсе исчезла. Прилив начнется задолго до наступления ночи. Вода быстро достигнет высшей точки, и это будет конец. Даже если меня хватятся до вечера — а это, как я уже говорил, было сомнительно, — все равно будет поздно. Прилив ждать не станет.
Смешанное чувство ужаса и отчаяния, охватившее меня, надолго сковало мои движения. Я ничего не соображал и некоторое время ничего не замечал вокруг себя. Я только оглядывал пустынную морскую ширь, поворачиваясь из стороны в сторону, и беспомощно смотрел на волны. Не было видно ни паруса, ни лодки. Ничто не нарушало однообразия водной пелены, только белые крылья чаек хлопали вокруг меня. Птицы уже не раздражали меня своим криком, но время от времени то одна, то другая возвращалась и пролетала над моей головой. Они словно спрашивали, что я делаю здесь и почему не покидаю этих мест.
Луч надежды вдруг вывел меня из мрачного отчаяния. Мне снова попался на глаза сигнальный столб, так напугавший меня, но теперь он произвел на меня обратное действие: мне пришло в голову, что он спасет меня.
Вряд ли нужно объяснять, что я решил взобраться на верхушку столба и просидеть там, пока не схлынет прилив. Половина столба была выше отметины — значит, выше самой высокой точки прилива. На верхушке я буду в безопасности?
Весь вопрос в том, как влезть по столбу, но это казалось нетрудным. Я хорошо лазил по деревьям и, конечно, быстро справлюсь с этим несложным делом.
Открытие нового убежища вселило в меня новые надежды. Нет ничего легче, как забраться наверх. Мне предстояло провести там тяжелую ночь, но опасность миновала. Она была в прошлом — я еще посмеюсь над ней.
Воодушевленный этой уверенностью, я снова приблизился к столбу, чтобы взобраться наверх. Я хотел только попробовать. У меня оставалось еще достаточно времени до начала прилива. Я просто хотел убедиться в том, что в нужную минуту смогу спастись этим путем.
Оказалось, что это довольно трудно, особенно внизу, где столб до высоты первых шести футов был покрыт той же черной скользкой массой, которая покрывала и камни. Я невольно вспомнил скользкие, нарочно смазанные салом столбы, служившие развлечением на праздниках в нашем поселке
[34].
Неоднократные попытки ни к чему не привели, пока я не вскарабкался наконец выше отметины. Одолеть верхнюю часть столба оказалось легче, и скоро я очутился на верхушке.
Я протянул руку, чтобы ухватиться за верхний край бочонка и влезть на него. Я уже поздравлял себя с находчивостью, как вдруг мысли мои приняли иное направление, и я снова впал в отчаяние.
Мои руки были слишком коротки — они не доставали до верхнего обода бочки. Я мог дотянуться только до середины, в том месте, где бочка расширяется, но не мог ухватиться за нее, ни влезть наверх, ни удержаться на месте. Не мог я и оставаться там, где был. Я ослабел и через несколько секунд вынужден был соскользнуть к подножию столба.
Я попробовал еще раз, но без результата. Потом еще раз — снова то же самое. Затея была бессмысленной. Раскидывая руки и сгибая ноги, я никак не мог подняться выше того места, где начиналась бочка, и, протянув руки, доставал только до ее середины. Конечно, я не мог удержаться в таком положении: у меня не хватало опоры, и я вынужден был снова скользить вниз.
Новая тревога охватила меня, когда я сделал это открытие, но на этот раз я не поддался отчаянию. Возможно, что перед лицом приближающейся опасности мой мозг стал работать быстрее. Во всяком случае, я овладел собой и стал думать, что бы мне предпринять.
Будь у меня нож, я мог бы сделать надрезы на столбе и, упираясь в них ногами, подняться повыше. Но ножа у меня не было и делать надрезы было нечем, разве что грызть дерево зубами. Положение становилось чрезвычайно трудным.
Наконец меня осенила блестящая мысль. Что, если натаскать камней к основанию столба, навалить их так, чтоб они были выше отметины, и встать на них? Так и нужно сделать.
Возле столба уже лежало несколько камней, положенных, как видно, для его устойчивости. Надо прибавить еще, соорудить керн, то есть нечто вроде старинного могильника или пирамиды из камней, и забраться наверх.
Новый план спасения так мне понравился, что я немедленно стал приводить его в исполнение. На рифе было сколько угодно обтесанных водой камней, и я предполагал, что в несколько минут моя насыпь будет готова. Но, немного поработав, я стал понимать, что это дело займет гораздо больше времени, чем я думал. Камни были скользкие, носить их было трудно. Одни были слишком тяжелы для меня, а другие, те, что полегче, вросли в песок так основательно, что я не мог их оторвать.
Несмотря на это, я работал изо всех сил. Я знал, что если хватит времени, то я успею построить достаточно высокий керн. Больше всего я боялся не поспеть.
Приливная волна начинала подниматься. Медленно, но неуклонно она подходила все ближе и ближе, — я это чувствовал!
Я не раз падал, напрягая все силы в этой борьбе. Колени мои были разодраны в кровь острыми камнями. Но я не обращал никакого внимания на трудности, на боль и усталость. Мне угрожала большая опасность — потерять жизнь! И не надо было понукать меня, чтобы я превозмог все препятствия в работе.

Мне удалось довести насыпь до высоты собственного роста раньше, чем прилив стал заливать скалы. Но я знал, что этого мало. Еще два фута — и мой керн сровняется с отметиной на столбе. Я упорно продолжал работать, не отдыхая ни одной секунды. Работа же становилась все труднее и труднее. Все близлежащие камни пошли в дело, и за новыми приходилось ходить все дальше. Я совершенно изранил себе руки и ноги, и это еще больше мешало работе. Теперь приходилось вкатывать камни на высоту моего роста. Я выбивался из сил. Вдобавок большие куски скалы внезапно срывались с вершины кучи и скатывались, грозя разбить мне ноги.
Наконец после долгого труда — прошло два часа или даже больше — работу пришлось прервать, но насыпь еще далеко не была готова. Излишне, пожалуй, говорить вам, что мне помешало. Да, это был прилив, который, подобравшись к камням, сразу обрушился на них. Это произошло не так, как на берегу, где прилив наступает постепенно, волна за волной. Здесь волна достигла уровня прибрежных скал и, перекатившись через них, залила остров первым же потоком и сразу на порядочную глубину.
Я не переставал трудиться, пока не залило скалы. Я работал, стоя по колени в воде, склонясь к ее поверхности, иногда почти погружаясь в нее. Я доставал большие камни и относил их к насыпи. Я работал, а пена била мне в лицо, меня окатывало с головой так, что я боялся захлебнуться. Но я работал, пока глубина и сила волн не выросли до того, что я уже не мог больше стоять на скалах. Тогда, передвигаясь то ползком, то вплавь, я притащил к куче камней последний камень и водрузил его на вершине, затем взобрался туда сам. Я стоял на самой высокой точке своего укрепления, плотно охватив шест сигнального столба правой рукой. С трепещущим сердцем стоял я и глядел на прибывающее море.
Глава XI. ПРИЛИВ
Не могу сказать, что я с уверенностью ждал результатов своей выдумки. Совсем наоборот — я дрожал от страха. Будь у меня больше времени на постройку керна, чтобы сделать его выше волн и достаточно крепким, я был бы спокойнее. В сигнальном столбе я не сомневался: он был испытан и выдержал уже не одну бурю за много лет. Я боялся за только что построенный керн, за его вышину и прочность. Что касается вышины, то мне удалось поднять насыпь на пять футов — ровно на один фут ниже отметки на столбе.
Таким образом, я должен был стоять на фут в воде, но это меня мало беспокоило в таких трудных обстоятельствах. Не это было причиной моих тяжелых предчувствий. Другая мысль меня волновала: меня беспокоила белая отметка на столбе. Я знал, что она обозначает высшую точку приливной волны, когда море спокойно, совершенно спокойно. Но море не было спокойным. Довольно свежий ветер вздымал волны не меньше фута, а может быть, и двух футов вышиной. Если так, то мое тело окажется на две трети или на три четверти в воде, не считая гребней волн, которые будут меня обдавать с головой.
Но это все было бы ничего. А что, если ветер усилится и перейдет в бурю или просто начнется сильное волнение? Тогда вся моя работа ни к чему. Потому что в бурю мне не раз случалось видеть, как белая пена обдает риф и поднимается на много футов над вершиной сигнального столба.
Да, если разыграется буря, я пропал!
Такое опасение возникало у меня то и дело.
Правда, некоторые обстоятельства мне благоприятствовали. Стоял прекрасный месяц май, утро было чудесное. В другом месяце скорее можно ожидать шторма. Но и в мае бывают штормы. На суше может стоять безоблачная погода, а в это время в море гибнут корабли. Да, наконец, пусть даже и не поднимется ураган — обыкновенное волнение легко смоет меня с моей кучи камней.
Меня тревожило и другое — керн был сделан неплотно. Я и не пытался построить его по-настоящему; для этого не было времени. Камни были навалены друг на друга как попало, и, встав на них, я сразу почувствовал, что это довольно шаткая опора. Что будет, если они не смогут сопротивляться течению, напору прилива и ударам волн? Если так, то, значит, я трудился напрасно. Если они рухнут, то вместе с ними рухну и я и больше не встану!
Неудивительно, что сомнения мои все увеличивались. Я не переставал думать о том, что будет, если такая беда случится, и тщательно оглядывал поверхность бухты — только для того, чтобы еще больше разочароваться.
Долго оставался я в первоначальном положении, крепко обнимая столб, прижавшись к нему, как к самому дорогому другу. И верно, это был мой единственный друг: если бы не он, я бы не мог соорудить керн. Без столба его мгновенно размыла бы вода, да и я не смог бы удержаться на нем стоя.
Если бы я не держался за столб, мне трудно было бы сохранить равновесие.
Я сохранял это положение, почти не двигая ни одним мускулом. Боялся даже переступить с ноги на ногу, чтобы камни не покатились, потому что собрать их во второй раз было невозможно: для этого не оставалось времени. Уровень воды вокруг подножия столба был уже выше моего роста, и мне пришлось бы плавать.
Я все время оглядывался, не двигая при этом корпусом, а лишь поворачивая шею. Я смотрел то вперед, то назад, то по сторонам, не прекращая своих наблюдений, и не меньше полусотни раз подряд убедился в том, что никто не идет мне на помощь. Я следил за уровнем прилива и за большими волнами, которые неслись к рифу и бились о скалы, как будто возвратясь из далекого странствия. Казалось, они разъярены и угрожают мне, и негодуют на то, что я забрался в их приют. Что нужно тут мне, слабому смертному, в их собственном обиталище, в месте, предназначенном для их суровых игр? Мне казалось, что они говорят со мной. У меня началось головокружение-мне чудилось, что я уже сорвался и тону в темном водном пространстве.
Волны поднимались все выше и выше. Вот они залили верхушку моей насыпи и покрыли ступни, вот они подмывают мне колени… Когда же они остановятся? Когда прекратится прилив?
Еще рано, рано! Вода поднимается все выше, выше! Я стою уже по пояс в соленом потоке, а пена омывает меня, брызжет мне в лицо, окатывает плечи, забирается в рот, в глаза и уши — я задыхаюсь, я тону!.. О Боже!
Вода достигла высшей точки и залила меня почти целиком. Я сопротивлялся с отчаянным упорством, крепко прижавшись к сигнальному столбу. Это продолжалось долго и, если бы все оставалось без изменения, я мог бы удержаться на своем месте до утра. Но перемена приближалась: на меня надвигалась самая большая опасность.
Наступила ночь! И, словно сигнал к моей гибели, ветер, все усиливаясь, стал переходить в бурю. Облака сгущались еще в сумерки, угрожая дождем, и вот он грянул потоками — ветер принес дождь. Волны становились все круче и несколько раз обдали меня с головой. Это были потоки такой силы, что я с трудом их выдержал, меня едва не сорвало.
Сердце у меня замирало от страха. Если волны превратятся в могучие, бурные валы, я не смогу больше сопротивляться, и меня снесет.
Последняя волна сдвинула меня с места, и мне пришлось переменить положение и утвердиться более прочно. С этой целью я слегка приподнялся на руках, нащупывая ногами более высокую и надежную точку на насыпи, но в этот момент нагрянула новая волна, сорвала мои ноги с насыпи и отнесла их в сторону. Цепляясь руками за столб, я повис на секунду почти в горизонтальном положении. Наконец волна прошла. Я снова попытался достать ногами до камней — именно достать, потому что под моей тяжестью камни стали расползаться у меня под ногами, как будто их неожиданно смыло. Я не мог больше держаться, соскользнул по столбу и вслед за развалившейся кучей камней полетел в воду.
Глава XII. Я ДЕРЖУСЬ НА СТОЛБЕ
К счастью, я выучился плавать, и довольно искусно. В ту минуту это мое достижение оказалось чрезвычайно полезным. Только поэтому я и не утонул. Я немного умел нырять, а не то мне пришлось бы совсем плохо, потому что, погрузившись в воду, я тут же очутился почти на самом дне, среди безобразных черных камней.
Я недолго там оставался и вынырнул на поверхность, как утка. Удерживаясь на волнах, я оглянулся. Я хотел найти сигнальный столб, но это было не так легко, потому что пена залепляла мне глаза. Словно собака-водолаз, отыскивающая в воде какой-нибудь предмет, вертелся я в волнах, стараясь найти столб. Я с трудом соображал, не понимая, куда он делся, — вода ослепила и оглушила меня.
Наконец я его заметил. Он был от меня уже не так близко, как я предполагал, — на расстоянии многих ярдов, пожалуй, не меньше двадцати. Я отчаянно боролся с волнами и ветром. Если бы эта борьба продлилась еще минут десять, меня бы унесло так далеко, что я уже не в состоянии был бы вернуться назад.
Как только я увидел столб, я поплыл к нему, не отдавая себе отчета, зачем это нужно. Просто меня гнал туда инстинкт, мне казалось, что там я найду спасение. Я поступал, как все утопающие: хватался за соломинку. Я утратил последнюю каплю хладнокровия, и при этом меня не покидало сознание того, что, добравшись до столба, я все еще буду далек от безопасности. Я не сомневался, что смогу доплыть до него, — это было в моих силах и возможностях.
Я мог бы легко влезть на столб и добраться до бочки, но не дальше. Влезть на бочку я был не в состоянии, даже под страхом смерти. Я уже сделал несколько попыток и убедился, что мне это не под силу. А я был уверен, что девятигаллонный бочонок достаточно велик, чтобы послужить мне убежищем, где я без труда дождусь конца шторма.
Кроме того, если бы я взобрался наверх до наступления ночи, меня бы, возможно, увидели с берега, и все приключение окончилось бы благополучно. Мне положительно казалось, что, когда я влез в первый раз на столб, меня заметил один — нет, даже несколько человек, праздно бродивших по пляжу; и, вероятно, решив, что я один из мальчуганов, которые нарушили святость воскресного дня, забравшись на риф для пустых забав, они перестали обращать на меня внимание.
Конечно, тогда я не мог влезть на столб: я быстро выдохся. Кроме того, как только мне пришло в голову соорудить насыпь, нельзя уже было терять ни секунды времени.
Эти мысли не приходили мне в голову, пока я плыл, стараясь добраться до столба. Но кое о чем я подумал. Я понял, что не сумею взобраться на бочку. Я стал соображать, что же мне делать, когда доплыву до столба, — это было мне совсем неясно. Буду стараться держаться за столб, как и раньше, но как мне удержаться возле него? Так я и не решил этого вопроса, пока не ухватился за столб.
После долгой борьбы с ветром, приливом и дождем я снова обнял его, как старого друга. Он и был для меня чем-то вроде друга. Если бы не этот столб, я пошел бы ко дну.
Достигнув столба, я уже как бы чувствовал себя спасенным. Было нетрудно, держась за него руками, лежать всем остальным туловищем в воде, хотя, конечно, это было довольно утомительно.
Если бы море было спокойно, я бы мог долго оставаться в таком положении, пожалуй, до конца прилива, а это было все, что мне требовалось. Но море не было спокойно, и это меняло дело. Правда, на время оно почти утихло и волны стали меньше, чем я и воспользовался, чтобы отдохнуть и отдышаться.
Но это была короткая передышка. Ветер подул снова, полил дождь, и море забушевало опять, еще сильнее, чем раньше. Меня подбросило вверх, почти до самой бочки, и тотчас потащило вниз, к камням, потом завертело волчком вокруг столба, который служил мне как бы стержнем. Я проделывал акробатические упражнения не хуже любого циркача.
Первый натиск волн я выдержал мужественно. Я знал, что борюсь за спасение своей жизни, что бороться необходимо. Но это давало слабое утешение. Я чувствовал, как недалек от гибели, меня одолевали самые мрачные предчувствия. Самое худшее было еще впереди, и я знал, что еще несколько таких схваток с морем — и силы мои вконец иссякнут.
Что бы такое сделать, чтобы удержаться на месте? Я ломал себе голову над этим в перерыве между двумя валами. Будь у меня веревка, я привязал бы себя к столбу. Но веревка была так же недоступна для меня, как лодка или как уютное кресло у камина в доме дяди. Не было смысла и думать о ней. Но в эту минуту словно добрый дух шепнул мне на ухо: если веревки нет, надо ее заменить чем-нибудь!
Вам не терпится узнать, что я придумал? Сейчас услышите.
На мне была надета плисовая куртка — просторная одежда из рубчатого плиса, какую носили дети простых людей, когда я был мальчиком. При жизни матери я носил ее только по будням, а теперь не расставался с ней и в праздники. Не будем умалять достоинства этой куртки. Позже я стал хорошо одеваться, носил платье самого лучшего сукна, какое только могут произвести на свет ткацкие станки западной Англии, но за все свои наряды я не отдал бы кусочка моей старой плисовой куртки. Мне кажется, я имею полное право сказать, что обязан ей жизнью.
Так вот, на куртке был ряд пуговиц — не нынешних роговых, костяных, слабеньких… нет! Это были хорошие, крепкие металлические пуговицы размером с шиллинг и с железными «глазками» в середине. На мое счастье, они были крупные и прочные.
Куртка была на мне, и тут мне тоже повезло, потому что ее могло и не быть. Ведь, отправляясь в погоню за лодкой, я сбросил куртку и штаны. Но, вернувшись, я надел снова и то и другое, потому что стало вдруг довольно свежо. Все это произошло весьма кстати, как вы сами сейчас увидите.
Зачем мне понадобилась куртка? Для того, чтобы разорвать ее на полосы и привязать себя к столбу? Нет! Это было бы почти непосильной задачей для человека, затерянного в бушующем море и у которого в распоряжении только одна свободная рука для вязания узлов. Я даже не мог снять куртку, потому что промокшая ткань прилипла к телу, как приклеенная. Я ее и не снял.
Мой план был гораздо лучше: я расстегнул и широко распахнул куртку, плотно прижался грудью к столбу и застегнул куртку на все пуговицы с противоположной стороны столба.
К счастью, куртка была достаточно просторной. Дядя оказал мне неоценимую услугу, заставив меня и по праздникам носить эту широкую, старую плисовую куртку, хотя в то время я думал иначе.
Застегнув все пуговицы, я получил возможность отдохнуть и подумать — это был первый случай за все время.
Теперь меня уже не могло смыть, и мне нечего было бояться. Я мог сорваться с рифа только вместе со столбом. Я стал составной частью столба, как бочка на его верхушке, и даже больше, потому что корабельный канат не мог бы так прочно меня с ним связать, как полы моей крепкой куртки.
Если бы от близости к столбу зависело мое спасение, я мог бы сказать, что уже спасен. Но увы! Опасность еще не миновала. Через некоторое время я увидел, что положение мое улучшилось лишь немногим. Громадный вал пронесся над рифом и окатил меня с головой. Я даже подумал, что устроился еще хуже, чем раньше. Я был так плотно пристегнут к столбу, что не мог взобраться повыше; вот почему мне пришлось выдержать новое купанье. Волна прошла, я остался на месте, но какой в этом толк? Я скоро задохнусь от таких повторных купаний. Силы меня оставят, я соскользну вниз и утону, — и тогда можно будет сказать, что я умер если не со знаменем, то "с древком в руках".
Глава XIII. ПОДВЕШЕН К СТОЛБУ
Однако я не потерял присутствия духа и стал снова думать, как бы подняться над уровнем волн. Я мог бы это сделать, не расстегивая ни одной пуговицы. Но как мне удержаться наверху? Я очень скоро соскользну вниз. О, если бы здесь была хоть какая-нибудь зарубка, узелок, гвозди! Если бы, наконец, был у меня нож, чтобы сделать надрез! Но узелок, зарубка, гвоздь, нож, надрез — все это было недостижимо…
Нет! Нужно совсем другое. Я вспомнил, что столб суживается кверху, верхушка его стесана со всех сторон и заострена, а на острие надет бочонок, или, вернее сказать, часть верхнего конца столба пропущена в дно бочонка.
Я вспомнил, как выглядит узкая часть столба: там вокруг него есть выступ, нечто вроде кольца, или «воротника». Хватит ли этого небольшого выступа для того, чтобы зацепить за него куртку и помешать ей соскользнуть вниз? Необходимо попытаться это сделать.
Не дожидаясь новой волны, я «атаковал» конец столба. Ничего не вышло — я слетел обратно, внизу меня снова ждали мои горести: меня опять окатило водой.
Вся беда была в том, что я не мог как следует натянуть воротник куртки — мешала голова.
Я полез снова, задумав на этот раз другое. Как только схлынула волна, у меня появилась новая надежда: надо попробовать закрепиться наверху не курткой, а чем-нибудь другим.
Но чем же? И это я придумал! Вы сейчас узнаете, что именно. На плечах у меня были помочи — не современные матерчатые подтяжки, а два крепких ремня оленьей кожи. Я и решил повиснуть на них.
Пробовать и соображать не было времени. Я не имел ни малейшего желания находиться внизу — и опять отправился наверх. Куртка помогла мне. Я натянул ее, откинувшись изо всех сил на спину и стиснув ногами столб.
Таким образом я получил возможность оставаться наверху подольше, не испытывая усталости.
Устроившись как следует, я снял помочи. Я действовал с величайшей осторожностью, несмотря на неудобную позу. Я постарался не уронить ни одного из ремней, связав их вместе. Узел я сделал как можно крепче, экономя каждый свободный кусочек ремня. На конце я сделал петлю, предварительно опоясав помочами столб, продвинул эту петлю вверх, пока она не оказалась выше выступа на столбе, и затянул ее. Мне осталось только пропустить ремень через застегнутую на все пуговицы куртку, опоясать себя свободным концом и завязать его. Я все это сделал довольно быстро и, откинувшись назад, налег на ремень всей своей тяжестью. Я даже убрал ноги и висел с минуту, как повешенный. Если бы какой-нибудь лоцман увидел меня в таком положении в свою трубу, он наверняка решил бы, что я самоубийца или что произошло кошмарное преступление.
Я очень устал и наглотался воды. Вряд ли я сознавал весь комизм своего положения. Но теперь я мог смеяться над опасностями. Я был спасен от смерти. Это было все равно, что увидеть Гарри Блю с его лодкой на расстоянии десяти ярдов от столба. Пусть буря крепчает, пусть льет дождь, пусть воет ветер, пусть вокруг меня беснуются пенистые гребни! Невзирая ни на что, я останусь здесь, наверху.
Правда, мое положение нельзя было назвать особенно удобным. Я сразу начал соображать, как бы устроиться получше. Ноги у меня затекли, и мне приходилось опускать их и повисать на ремне, что было неприятно и даже опасно. Однако был выход и из этого неудобства, и я скоро нашел его. Я разорвал штаны снизу до колен — кстати, они были сделаны из той же плотной ткани, что и куртка, — и, закрутив жгутом повисшие вниз концы, обвел их вокруг столба и крепко завязал. Это обеспечило покой нижней части моего тела. Таким образом, полувися, полусидя, я провел остаток ночи.
Если я скажу вам, что в свое время начался отлив и снова обнажились скалы, вы решите, что я, конечно, тотчас отвязался от столба и спустился вниз. Нет, я этого не сделал: я больше не доверял этим скалам.
Мне было неудобно, но я оставался на столбе — я боялся, как бы не пришлось еще раз все начать сначала. Вдобавок я знал, что наверху меня скорее заметят, когда настанет утро, и с берега пошлют ко мне на помощь.
И помощь мне была послана, или, вернее, пришла сама собой.
Не успела Аврора позолотить морской горизонт, как я увидел лодку, несущуюся ко мне со всей возможной скоростью. Когда она подошла поближе, я увидел то, что мне лишь грезилось раньше: на веслах сидел Гарри Блю!
Не стану распространяться о том, как повел себя Гарри, как он смеялся, кричал, размахивал веслом, как бережно и осторожно снял меня со столба и положил в лодку. И когда я рассказал ему всю историю и сообщил, что его ялик пошел ко дну, он не стал сердиться, а только улыбнулся и сказал, что могло быть и хуже. И с того дня ни разу ни один упрек не сорвался с его уст — ни слова о погибшем ялике!
Глава XIV. ЗАВТРА — В ПЕРУ!
Опасное приключение на рифе не оказало на меня никакого действия — я не стал бояться воды. Пожалуй, я еще больше ее полюбил именно за то волнение, которое испытываешь при опасностях.
Вскоре я почувствовал непреодолимое желание увидеть чужие страны, пересечь океан. Каждый раз, когда я глядел на бухту, эта мысль приходила мне в голову. Видя на горизонте белые паруса, я думал, как счастливы должны быть те, которые плывут на этих кораблях. С удовольствием поменялся бы я местом с последним матросом из их экипажа.
Может быть, меня не так бы тянуло в море, если бы домашняя моя жизнь сложилась получше, если бы у меня были добрый отец и любящая мать. Но мой суровый старый дядя мало заботился обо мне. Таким образом, лишенный семейных уз, которые привязывали бы меня к дому, я еще больше стремился в океан. Я очень много работал на ферме, а к такому образу жизни меня совсем не влекло. Нудная работа только разжигала мое стремление отправиться в далекие края, повидать чудесные страны, о которых я читал в книгах и о которых рассказывали матросы, бывшие рыбаки из нашего поселка, приходившие теперь на побывку в родные места. Они толковали о львах, тиграх, слонах, крокодилах, обезьянах величиной с человека, о змеях, длинных, как якорный канат. Короче говоря, мне надоела тупая, однообразная жизнь, которую я вел дома и которая в моем представлении была возможна только в нашей стране, потому что, судя по рассказам моряков, во всех остальных странах можно было встретить сколько душе угодно диких зверей, заманчивых приключений и всяких невероятных чудес.
Помню одного молодого парня, который прокатился на остров Мэн и вернулся с такими рассказами о своих приключениях среди чернокожих и удавов, что я мучился от зависти к человеку, пережившему такие волнующие истории
[35]. Я неплохо знал правописание и арифметику, но о географии имел самые смутные представления. Поэтому я толком не разбирался, где находится остров Мэн, но решил при первой возможности съездить туда и поглядеть на чудеса, о которых рассказывал парень.
Хотя это было для меня сложным предприятием, но я не терял надежды, что мне удастся его осуществить. В особых случаях из нашего поселка на остров Мэн ходила шхуна, и я рассчитывал как-нибудь совершить на ней это трудное плавание. Это могло оказаться нелегким делом, но я решил сделать все, что возможно. Я догадался завязать приятельские отношения с некоторыми матросами шхуны и просил их взять меня с собой, когда они пойдут в очередной рейс.
Пока я терпеливо дожидался этой возможности, произошел случай, который заставил меня принять новое решение и окончательно вытеснил из моей головы и шхуну и трехногий остров
[36].
Милях в пяти от нашего поселка, на берегу той же бухты, как вы знаете, находится большой город — настоящий морской порт, куда заходят большие корабли — крупные трехмачтовые суда, плавающие во все части света с большими грузами.
В один прекрасный день мне посчастливилось отправиться в город вместе с дядиным батраком, который вез на продажу овощи и молоко. Меня послали в качестве помощника присматривать за лошадью, пока он будет заниматься распродажей продуктов.
Наша тележка случайно проезжала мимо пристани, и я получил прекрасную возможность увидеть громадные суда, стоявшие вдоль набережной, и полюбоваться их высокими, стройными мачтами и изящной оснасткой.
Мы остановились около одного корабля, который мне
особенно понравился. Он был больше всех соседних судов, и его красиво суживающиеся кверху мачты поднимались на несколько футов выше остальных. Но не величина и изящные пропорции так сильно привлекли мое внимание, хотя я сразу залюбовался ими. Самым интересным для меня было то, что кораблю предстояло скорое отплытие — на следующий день. Я узнал это, прочитав на большой, прикрепленной на видном месте доске следующее объявление:
«И Н К А»
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЕРУ
З А В Т Р А
Сердце мое забилось, как перед ужасной опасностью, но истинной причиной этого волнения была безумная мысль, возникшая в моем мозгу тут же, как только я прочел короткую, волнующую надпись.
Почему бы мне не отправиться в Перу завтра?
Почему бы и нет?
Но тут передо мной встали большие препятствия. Их было много, это я хорошо знал. Во-первых, дядюшкин батрак, который находится рядом, обязан привезти меня домой.
Само собой разумеется, нечего и думать просить у него разрешения съездить в Перу.
Во-вторых, надо было, чтобы меня согласились взять с собой моряки. Я был не настолько наивен, чтобы не подумать о громадной сумме денег, которая понадобится для оплаты длительного путешествия в Перу или в любую другую часть света. А без денег не возьмут на борт и маленького мальчика.
У меня не было денег, даже чтобы заплатить за проезд на пароме. Вот первая трудность, с которой я столкнулся. Как же мне попасть в число пассажиров?..
Мысли мои неслись, как молнии. Не прошло и десяти минут, в течение которых я разглядывал красавец корабль, и такие препятствия, как отсутствие денег на проезд и находившийся тут же работник с фермы, улетучились из моей головы. И с полной уверенностью в своих силах я пришел к заключению, что непременно отправлюсь в Перу завтра.
В какой части света лежит Перу, я знал не больше, чем луна в небе, — даже меньше, потому что с луны в ясные ночи, должно быть, хорошо видно Перу.
В школе я учился только чтению, письму и арифметике. Последнюю я знал неплохо; потому что наш школьный учитель был большой мастер по части счета и очень гордился своими познаниями, которые передавал и своим ученикам. Это был главный предмет в школе. Географией же он пренебрегал, почти вовсе не преподавал ее, и я не знал, где находится Перу, хотя и слышал, что есть на свете такая страна.
Матросы, приезжавшие на побывку, рассказывали о Перу, что это жаркая страна и плавание до нее от Англии занимает шесть месяцев. Говорили, что эта страна изобилует чудесными золотоносными жилами, чернокожими, змеями и пальмами.
Этого для меня было достаточно. Именно о такой стране я и мечтал. Словом, решено — я еду в Перу на «Инке»!
Но следовало немедленно продумать план действий: где достать деньги на проезд и как убежать из-под присмотра Джона, правившего тележкой.
Казалось бы, первое представляло собой более трудную задачу, но на самом деле это было вовсе не так уж сложно, — по крайней мере, я тогда так предполагал.
У меня на этот счет были определенные соображения. Я много наслышался о мальчиках, которые убегали в море, поступали на корабль юнгами и впоследствии становились умелыми матросами. У меня было впечатление, что в этом нет ничего трудного и что любой мальчик, достаточно рослый и проворный, будет принят на корабль, если только захочет работать.
Я опасался только насчет своего роста, потому что был невысок, даже ниже, чем мне полагалось по возрасту, хотя и отличался крепким сложением и выносливостью. Не раз слышал я попреки и насмешки над тем, как я мал. Я боялся поэтому, что меня, пожалуй, не возьмут в юнги. А я твердо решил наняться на «Инку».
Относительно Джона у меня были серьезные опасения. Сперва я думал просто удрать и предоставить ему возвратиться домой без меня. Но, подумав, решил, что из этого ничего не выйдет. Джон утром вернется сюда с полдюжиной работников, возможно даже с дядей, и меня начнут разыскивать. Весьма вероятно, что они успеют прийти до отплытия «Инки», потому что корабли редко уходят в море рано утром. Глашатай объявит на площади о моем побеге. Они обойдут весь город, вероятно, обыщут судно, найдут меня, отдадут дяде и отвезут домой, где, без всякого сомнения, меня жестоко высекут.
Я слишком хорошо изучил дядюшкин нрав, чтобы представить себе иной конец моего побега. Нет, нет, нельзя, чтобы Джон с тележкой вернулся домой без меня!
Небольшое размышление окончательно убедило меня во всем этом и в то же время помогло составить лучший план. Новым моим решением было отправиться домой вместе с Джоном, а бежать уже прямо из дому.
Стараясь ничем не выдать своих намерений и ни в коем случае не вызвать подозрений Джона, я уселся в тележку и отправился назад в поселок.
Я приехал домой с таким видом, как будто ничего со мной не произошло с тех пор, как утром я выехал в город.
Глава XV. Я УБЕГАЮ ИЗ ДОМУ
Мы приехали на ферму поздно, и весь остаток вечера я старался вести себя так, как будто ничего особенного у меня в мыслях и не было. Родственники и работники фермы и не догадывались о великом плане, таившемся в моей груди, — о плане, при мысли о котором сердце мое сжималось.
Были минуты, когда я начинал жалеть о принятом решении. Когда я глядел на привычные лица домашних — все-таки это была моя семья, другой ведь у меня не было, — когда я представлял себе, что, может быть, я их больше никогда не увижу, когда я думал, что некоторые из них, может быть, будут тосковать обо мне, когда я думал о том, как я их обманываю, строя тайные планы, о которых они ничего не подозревают, — словом, когда такие мысли пробегали у меня в мозгу, я уже почти отказывался от своих намерений.
В минуты таких колебаний я готов был поверить свою тайну кому угодно. И, без сомнения, если бы кто-нибудь посоветовал мне остаться дома, я бы остался тогда, хотя в конце концов, раньше или позже, моя своенравная натура и любовь к воде все равно снова увлекли бы меня в море.
Вам кажется странным, что я не обратился за советом к старому другу, Гарри Блю? Ах, именно это и следовало бы сделать, если бы Гарри был поблизости, но несколько месяцев назад ему надоело работать лодочником, он продал свою лодку и поступил рядовым матросом во флот. Если бы Гарри оставался по-прежнему здесь, быть может, меня не так тянуло бы в море. Но с тех пор как он уехал, мне каждый день и час хотелось последовать его примеру. Каждый раз, когда я смотрел на море, меня страшно тянуло уйти в плавание. Чувство это трудно объяснить. Заключенный в тюрьме не испытывает такого настойчивого желания выйти на свободу и не глядит через прутья решетки с такой тоской, с какой я глядел на морскую синеву и стремился уйти далеко-далеко, за дальние моря.
У меня не было никого, с кем я мог бы поделиться своей тайной. На ферме жил один молодой работник, которому я доверял. Он мне очень нравился, и, кажется, я тоже пришелся ему по душе. Двадцать раз пытался я рассказать ему о своем плане, но слова застревали у меня в горле. Я не опасался, что он сразу выдаст мой план бегства, но боялся, что он начнет меня отговаривать и, если я все же останусь при своем убеждении, он меня выдаст. Не было смысла поэтому советоваться с ним, и я так ничего ему и не сказал. Я поужинал и лег спать, как обычно. Вы думаете, что ночью я встал и бежал из дому? Как бы не так! Я лежал в постели до утра. Спал я очень мало. Мысль о побеге не давала мне заснуть, а когда я забывался сном, то видел большие корабли, волнующееся море, видел, как я лезу на высокую мачту и травлю
[37] черные, просмоленные канаты, пока у меня не появляются волдыри на ладонях.
Сначала я предполагал убежать ночью, что легко можно было сделать, не разбудив никого. У нас в поселке не было воров, и двери на ночь закрывались только на задвижку.
Дверь дядиного дома по случаю жаркого, летнего времени и вовсе оставалась открытой настежь. Я мог бы ускользнуть из дому, даже не скрипнув дверью.
Но, несмотря на юный возраст, я обладал способностью рассуждать логично. Я сообразил, что рано утром меня хватятся на ферме и начнут искать. Кто-нибудь из моих преследователей уж наверно доберется до порта и найдет меня там. С таким же успехом я мог бы убежать от Джона, когда мы стояли в гавани. Кроме того, до города пять или шесть миль — я пройду их самое большее за два часа. Я приду слишком рано, люди на судне еще не возьмутся за работу, а капитан будет в постели, и я не сумею поговорить с ним и попроситься добровольцем к нему на службу.
По этим соображениям я остался дома до утра и нетерпеливо ждал заветного часа.
Я позавтракал вместе со всеми. Кто-то заметил, что я очень бледен и «не в себе». Джон приписал это тому, что я вчера провел целый день на солнце, и это объяснение удовлетворило всех.
Я боялся получить какое-нибудь задание после завтрака — скажем, править лошадью, от чего нелегко было избавиться. Вместе со мной могли поставить на работу еще кого-нибудь, и мое отсутствие сразу было бы замечено. К счастью, в этот день для меня не нашлось никакой работы и я не получил никаких распоряжений.
Воспользовавшись этим, я взял игрушечный кораблик, который так забавлял меня в часы досуга. У других мальчиков тоже были шлюпы, шхуны и бриги, и мы часто устраивали гонки на пруду в парке. Была суббота, а в субботу в школе не занимались. И я знал, что мальчики отправятся к пруду сейчас же после завтрака, если не раньше. Не было ничего подозрительного в том, что, бережно обняв свой кораблик, я прошел через двор фермы и зашагал по направлению к пруду, где, как я и предполагал, мои товарищи уже занимались своими кораблями, которые носились под всеми парусами.
«Что-то будет, — думал я, — если я им сейчас все расскажу? Какой поднимется шум!»
Мальчики встретили меня радостно. Я был занят на ферме по целым дням, довольно редко с ними виделся и еще реже принимал участие в их играх.
Как только игрушечный флот закончил свой первый рейс через пруд — маленькое состязание, в котором мой шлюп оказался победителем, — я распрощался с товарищами и, взяв кораблик под мышку, зашагал дальше.
Они очень удивились, что я так неожиданно покидаю их, но я нашел какое-то объяснение, которое их вполне удовлетворило.
Я перелез через стену парка и еще раз поглядел издали на друзей моего детства. Слезы выступили у меня на глазах: я знал, что оставляю их навсегда.
Я обогнул крадучись стену и скоро добрался до проезжей дороги, которая вела в город. Но я не пошел по ней, а пересек ее и углубился в поля на другой стороне дороги. Я это сделал затем, чтобы попасть под прикрытие леса, который на порядочном расстоянии тянулся вдоль дороги. Я намеревался, пока возможно, идти лесом, зная, что, останься я на дороге, я могу встретить там односельчан, которые расскажут, что видели меня, и направят погоню в нужном направлении. Я не знал, в котором часу уходит «Инка», и это меня сильно беспокоило. Если я приду слишком рано, меня могут еще поймать и вернуть. С другой стороны, явись я слишком поздно, корабль уйдет — и это меня страшило больше, чем перспектива быть высеченным за попытку к бегству.
Именно эта мысль мучила меня все утро и продолжала мучить и дальше, потому что мне и в голову не приходило, что есть еще одна опасность: получить отказ и не быть принятым на корабль. Я даже забыл, что мал ростом. Величие моих замыслов возвысило меня в собственных глазах до размеров взрослого человека.
Я дошел до леса, пробрался через него из конца в конец, и никто меня не заметил. Я не встретил ни лесничего, ни сторожей.
Выйдя из-под защиты деревьев, я пошел полем, но теперь я уже был так далеко от поселка, что мне не грозила опасность встретить знакомых. Я старался не терять из виду море, так как знал, что дорога все время идет вдоль берега, и я шел вдоль дороги.
Наконец вдали показались высокие шпили города — значит, я шел правильно.
Я перебирался через канавы и ручьи, перелезал через изгороди, топтал чужие огороды и в конце концов достиг городских предместий. Не отдохнув, я двинулся дальше и разыскал улицу, которая вела к пристани. За крышами домов виднелись мачты. Сердце мое забилось, когда я поглядел на самую высокую их них, с вымпелом, гордо реявшим по ветру.
Не спуская глаз с вымпела, я торопливо пробежал по широким сходням, взобрался по трапу
[38] и через секунду стоял на палубе "Инки".
Глава XVI. «ИНКА» И ЕЕ ЭКИПАЖ
Я подошел к главному люку, где пятеро или шестеро матросов возились около ящиков и бочек. Они грузили судно и с помощью талей
[39] спускали ящики и бочки в трюм. На матросах были фуфайки с засученными рукавами и широкие холщовые штаны, выпачканные жиром и смолой. Один из них был в синей куртке и таких же штанах, и я принял его за помощника капитана. Я был глубоко уверен, что капитан такого большого корабля — великий человек и, конечно, одет с ослепительной роскошью.
Человек в синей куртке отдавал распоряжения, которые, как я заметил, не всегда исполнялись беспрекословно. Часто слышались возражения и поднимался гомон — несколько голосов спорили о том, как лучше сделать.

На борту военного корабля дело обстоит совсем по-другому: там приказы офицера исполняются без возражений и замечаний. На торговых судах не так: распоряжения помощника капитана часто принимаются не как приказания, а как советы, и команда выполняет их, как считает нужным. Конечно, это не всегда так, многое зависит от характера помощника. Но на борту «Инки» строгой дисциплины, по-видимому, не было. Крики, визг блоков, грохот ящиков и скрип тачек на сходнях смешивались в одно целое и создавали невероятный шум. Никогда в жизни я не слыхал такого шума и несколько минут стоял совершенно оглушенный и растерянный.
Наконец наступило временное затишье: спускали в трюм огромную бочку и бережно устанавливали ее на место.
Один из матросов случайно заметил меня. Он насмешливо прищурился и крикнул:
— Эй, коротышка! Что тебе-то тут нужно? Грузишься на наш корабль, а?
— Нет, — отозвался другой, — видишь, он сам капитан — у него собственный корабль!
Это замечание относилось к моему суденышку. Я принес его с собой и держал в руках.
— Эй, на шхуне! — заорал третий. — Куда держите? Грянул взрыв хохота. Теперь уже все заметили мое присутствие и разглядывали меня с оскорбительным любопытством.
Я стоял и молчал, ошеломленный встречей, которую мне устроили эти «морские волки». Тут помощник подошел ко мне и более серьезным тоном спросил, что я делаю на борту.
Я сказал, что хочу увидеться с капитаном. Я был в полной уверенности, что где-то здесь есть капитан и что с ним-то и следует говорить о таком важном деле.
— Увидеться с капитаном? — повторил мой собеседник. — Какое у тебя дело к капитану, мальчуган? Я — помощник. Может быть, этого достаточно?
Секунду я колебался, но затем подумал, что раз передо мной стоит помощник капитана, то лучше сразу же объявить ему о моих намерениях. И я ответил:
— Я хочу быть матросом!
Полагаю, что громче им никогда не приходилось хохотать. Поднялся настоящий рев, к которому и помощник присоединился от всего сердца.
Среди оглушительного хохота я услышал несколько весьма унизительных для меня замечаний.
— Гляди, гляди, Билл, — кричал один из них, обращаясь к кому-то в стороне, — гляди, паренек хочет быть матросом! Лопни мои глаза! Ах ты, сморчок в два вершка от горшка, да у тебя силенок не хватит закрепить снасть! Матро-о-ос! Лопни мои глаза!
— А мать твоя знает, куда тебя занесло? — осведомился другой.
— Клянусь, что нет, — ответил за меня третий, — и отец тоже не знает. Ручаюсь, парень сбежал из дому… Ведь ты смылся потихоньку, а, малыш?
— Послушай, мальчуган, — сказал помощник, — вот тебе совет: вернись к своей мамаше, передай почтенной старушке привет от меня и скажи ей, чтобы она привязала тебя к ножке стула тесемкой от нижней юбки и держала так годиков пять — шесть, пока ты не вырастешь.
Этот совет породил новый взрыв хохота.
Я чувствовал себя униженным всеми этими грубыми шутками и не знал, что ответить. В полной растерянности я выдавил из себя, заикаясь:
— У меня… нет матери…
Суровые лица моряков смягчились. Раздались даже сочувственные замечания, но помощник продолжал все так же насмешливо:
— Ну, тогда отправляйся к отцу и скажи ему, чтобы он задал тебе хорошую трепку.
— У меня нет отца!
— Бедняга, он, значит, сирота! — жалостливо сказал один из матросов.
— Нет отца… — продолжал помощник, который казался мне бесчувственным зверем. — Тогда отправляйся к бабушке, дяде, тетке или куда хочешь, но чтобы тебя здесь не было, а не то я подвешу тебя к мачте и угощу ремнем. Марш! Понял?
По-видимому, этот зверь не шутил. Смертельно напуганный угрозой, я отступил, повинуясь приказанию.
Я дошел до трапа и собирался уже сойти по сходням, как вдруг увидел человека, который шел навстречу мне с берега. На нем были черный сюртук и касторовая
[40] шляпа. Он был похож на купца или другого горожанина, но что-то во взгляде его подсказало мне, что это моряк. У него было обветренное лицо и в глазах выражение, характерное для людей, проводящих жизнь на море. И брюки из синей морской ткани придавали ему совсем не сухопутный вид. Мне пришло в голову, что это и есть капитан.
Я недолго оставался в сомнении. Пройдя трап, незнакомец вошел на палубу, как хозяин. Я услышал, как он на ходу бросал приказания тоном, не допускающим возражений.
Он не остановился на палубе, а решительно направился к шканцам
[41].
Мне показалось, что я могу еще добиться своего, если обращусь непосредственно к капитану. Без колебаний я повернулся и последовал за ним.
Мне удалось проскочить мимо помощника и матросов, которые пытались перехватить меня на бегу, и я настиг капитана у самых дверей его каюты.
Я ухватил его за полу.
Он удивленно обернулся и спросил, что мне нужно.
В нескольких словах я изложил свою просьбу. Единственным ответом мне был смех. Потом, обернувшись, он крикнул одному из матросов:
— Эй, Уотерс! Возьми карапуза на плечи и доставь на берег. Ха-ха-ха!
Не сказав больше ни слова, он спустился по трапу и исчез.
Объятый глубокой горестью, я почувствовал только, как крепкие руки Уотерса подняли меня, пронесли по сходням, потом по набережной и опустили на мостовую.
— Ну-ну, рыбешка! — сказал мне матрос. — Послушай Джека Уотерса — держись до поры до времени подальше от соленой воды, чтобы акулы тебя не съели!
Помолчав и подумав немного, он спросил:
— Ты сиротка, малыш? Ни отца, ни матери?
— Да, — ответил я.
— Жаль! Я тоже был сиротой. Хорошо, что ты так рано потянулся в море, это чего-нибудь да стоит. Будь я капитан, я бы взял тебя. Но я, понимаешь, только рядовой матрос и ни черта не могу тебе помочь. Но я приду сюда опять, а ты к тому времени, пожалуй, будешь маленько покрупнее. Вот возьми эту штуку на память и вспомни обо мне, когда мы опять ошвартуемся в гавани, и, кто знает, может быть, я выхлопочу тебе койку… А теперь — до свиданья! Иди домой, будь хорошим парнем и оставайся на суше до тех пор, пока не вырастешь.
Проговорив это, добродушный матрос протянул мне свой нож, повернулся и отправился обратно, а я остался один на набережной.
Пораженный таким неожиданно хорошим отношением, я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за фальшбортом
[42]. Машинально положив нож в карман, я некоторое время стоял, не двигаясь с места.
Глава XVII. НЕ ВЫШЕЛ РОСТОМ!
Размышления мои были не из приятных. Никогда еще в жизни я не был так огорошен. Разлетелись в дым все мои мечты о том, как я буду брать рифы на парусах, как увижу чужие страны. Все мои планы окончательно рухнули.
Я чувствовал себя униженным и опозоренным. Мне казалось, что все прохожие знают, что случилось и в каком жалком положении я нахожусь. На палубе, у борта, я видел ухмыляющиеся лица матросов. Некоторые громко смеялись. Я не мог этого вынести и без оглядки побежал прочь. На набережной лежали мешки с товарами, стояли большие бочки и ящики. Они не были собраны вместе, а разбросаны повсюду, и между ними образовались проходы.
Я залез в один из таких проходов, где меня никто не мог увидеть и где я сам не мог видеть никого. Там я почувствовал себя так, как будто избавился от какой-то опасности, — так отрадно убежать от насмешек, даже если их не заслуживаешь.
Среди ящиков был один небольшой, подходящий для сидения. Я уселся на него и стал размышлять.
Что мне делать? Отбросить все мечты о море и вернуться на ферму, к ворчливому, старому дяде?
Вы скажете, что это было бы самым разумным и естественным в моем положении. Может быть, вы и правы, но мне такой выход в голову не приходил. Вернее, я решительно отбросил его, как только он пришел мне в голову.
«Нет, — говорил я себе, — я еще не побежден; я не отступлю, как трус. Сделал один шаг — сделаю и второй. Что в том, что меня не хотят брать на это большое, важное судно? В порту стоят другие суда — десятки других! На любом из них мне будут рады. Я перепробую все, прежде чем переменю свое решением „Отчего мне отказали? — спрашивал я себя, продолжая свой монолог. — Отчего? Они даже не сказали, по какой причине. Ах, да! Маленький рост! Говорили, что мне не закрепить снасть. Я хорошо знаю, что значит закрепить снасть. Конечно, они хотели этим оскорбительным выражением сказать, что я слишком мал, чтобы быть матросом. Но юнгой ведь я могу стать! Я слышал, что бывали юнги и помоложе меня. Интересно, какой у меня рост? Эх, будь у меня плотничья линейка, я бы измерил себя. Как глупо, что я этого не сделал дома! Нельзя ли проделать это сейчас?“
Тут мои размышления прервались, потому что я заметил на одном из ящиков надпись мелом: «4 фута». По-видимому, кто-то обозначил длину ящика, потому что в высоту он не мог иметь четыре фута. Возможно, это была пометка плотника или она была сделана для матросов, чтобы они знали, как грузить ящик. Благодаря этой пометке я за три минуты узнал свой рост с точностью до дюйма.
Я поступил так: лег плашмя на землю пятками к одному краю ящика, а затем выпрямился и пощупал рукой, не соприкасается ли моя макушка с другим концом ящика. Не хватало почти целого дюйма. Напрасно я изо всех сил вытягивал шею — я никак не мог дотянуться до края ящика. Впрочем, это не имело большого значения. Ясно, что раз длина ящика четыре фута, значит, во мне неполных четыре.
Я поднялся на ноги, обескураженный результатом измерения.
Мне никогда нс приходило в голову, что я такой маленький. Какой мальчик не считает себя почти мужчиной! Но теперь я убедился в том, что действительно мал ростом. Неудивительно, что Джек Уотерс назвал меня рыбешкой, а другие объявили, что я не смогу закрепить снасть.
Уверившись в том, что я настоящий лилипут, я впал в полное уныние и мысли мои приобрели мрачный оттенок. Теперь я знал, что меня не возьмут ни на одно судно. Не бывало еще юнги такого маленького роста. Я таких не видал. Наоборот, мне случалось встречать рослых парней, которые служили в командах бригов и шхун, посещавших нашу гавань, и которых почему-то именовали «юнгами». Нет, дело безнадежное! Придется вернуться домой. Но я опять уселся на ящик и продолжал раздумывать. Уже в раннем детстве ум мой был склонен к изобретательству. Скоро у меня зародился новый план, который, казалось, вполне годился, чтобы осуществить мое первоначальное намерение.
Тут мне пришла на помощь память. Я вспомнил истории про мальчиков и взрослых, которые тайком прокрадывались на суда и уходили с ними в море. Когда суда отходили далеко от берега, беглецы покидали свои убежища и продолжали путешествие в качестве матросов.
Воспоминания об этих отважных героях едва успели промелькнуть у меня в мозгу, как я решил последовать их примеру. Я мгновенно принял решение: спрятаться на борту какого-нибудь корабля — ну, скажем, того же корабля, с которого меня выгнали с таким позором. Это был единственный корабль в порту, который готовился к отплытию. Впрочем, по правде сказать, если бы таких кораблей была и дюжина, я все-таки выбрал бы «Инку».
Вы удивитесь, почему я избрал именно этот корабль, но это легко объяснить. Я был так обижен на моряков, особенно на помощника капитана, за невежливое обращение, что мне захотелось отомстить им.
Я знал, что они не выбросят меня за борт. Если не считать помощника, — все они люди не жестокие. Конечно, они не упустили случая подшутить надо мной, но некоторые из них пожалели меня, когда узнали, что я сирота.
Итак, решено: я отправляюсь в плавание на этом большом корабле — наперекор помощнику, капитану и команде!
Глава XVIII. Я ПРОНИКАЮ НА КОРАБЛЬ
Но как пробраться на корабль? И как укрыться на нем? Вот какие трудности тотчас встали передо мной.
Явиться на палубу только затем, чтобы снова быть изгнанным? Нельзя ли подкупить кого-нибудь из матросов, чтобы они пропустили меня на палубу? Но чем подкупить? У меня совсем не было денег. Мой кораблик и моя одежда — последняя очень плохого качества — вот и все, что мне принадлежало. Я бы отдал кораблик, но минутное раздумье убедило меня в том, что ни один матрос не оценит вещь, которую сам легко может сделать; я считал, что любой матрос, если захочет, без труда смастерит кораблик. Нет, матроса не подкупишь игрушкой, нечего и думать об этом!
Вспомнил! У меня ведь есть ценная вещь — часы. Правда, это обыкновенные, старомодные серебряные часы и стоят они немного, но идут хорошо. Я получил их от моей бедный матери вместе с другими, более ценными, но те присвоил дядя. Старые, дешевые часы мне разрешено было носить, и, по счастью, они как раз оказались у меня в кармане. Нельзя ли таким образом подкупить Уотерса или кого-нибудь из матросов, чтобы они тайком пропустили меня на борт и укрыли, пока судно не выйдет в море?
Я решил попытать счастья.
Пожалуй, главная трудность теперь — увидеть Уотерса или другого матроса так, чтобы остальные не присутствовали, и рассказать ему, что я задумал. Придется бродить вокруг корабля, пока кто-нибудь из них не выйдет на берег один.
Я надеялся, что в крайнем случае сумею и сам пробраться на судно, особенно вечером, когда матросы окончат работу и уйдут на нижнюю палубу. В таком случае мне даже незачем сговариваться с матросами. В темноте я сумею пройти мимо вахтенных и спрятаться где-нибудь внизу. Я, конечно, без труда найду убежище между бесчисленными ящиками и бочками.
Но сомнения тревожили меня. Будет ли корабль стоять в порту до вечера? И не настигнет ли меня дядя с работниками?
Признаться, первое меня волновало меньше. На судне все так же, как и вчера, красовалось объявление: «Инка» отправляется в Перу завтра». Но когда будет это «завтра»? Во всяком случае, едва ли судно собирается отплыть сегодня, — на набережной еще лежит множество тюков с товарами, несомненно предназначенных для этого корабля. Кроме того, я не раз слышал, что суда дальнего плавания отправляются не очень-то аккуратно.
Я рассудил, что вряд ли корабль уйдет сегодня и что ночью я смогу пробраться на борт.
Была еще другая опасность — быть пойманным и доставленным домой. Но, по зрелом размышлении, это казалось маловероятным. На ферме не хватятся меня до вечера, да и вечером вряд ли станут искать, рассчитывая, что ночью так или иначе я сам вынужден буду вернуться. Значит, с этой стороны нет поводов для опасений.
Я перестал думать о доме и начал готовиться к выполнению своего плана.
Я рассчитывал, что мне придется скрываться на судне не меньше двадцати четырех часов, может быть, больше. Нельзя же столько времени оставаться без еды! Но где запастись едой? Я уже говорил, что у меня совсем не было денег. Я не мог купить еду и не знал, где и как раздобыть деньги.
Тут мне пришла в голову превосходная мысль: продам свой кораблик и на вырученные деньги куплю еду.
Игрушечное судно мне теперь не нужно — отчего не расстаться с ним?
Без дальнейших размышлений я вышел из своего убежища между бочками и отправился по набережной искать покупателя для моего кораблика.
Я скоро нашел его. Это была лавка морских игрушек. Поторговавшись немного с хозяином, я продал кораблик за шиллинг
[43].
По-настоящему мое маленькое суденышко с его оснасткой стоило в пять раз дороже, и при других обстоятельствах я бы с ним не расстался и за такую цену. Но торгаш понял, что я нахожусь в затруднительном положении, и воспользовался этим.
Теперь у меня было достаточно денег. Я отправился в другую лавку и на все деньги купил сыру и сухарей, каждого товара на шесть пенсов
[44]. Рассовав провизию по карманам, я вернулся на прежнее место между грузами и снова уселся на ящик. Я порядком проголодался, так как обеденный час давно прошел, и накинулся на сыр и сухари, что весьма облегчило мои карманы.
Приближался вечер, и я решил выйти на разведку. Надо было выяснить, в каком месте легче всего взобраться на борт, когда придет время. Матросы могут заметить, что я слоняюсь возле судна, но, конечно, им и в голову не придет, что я делаю это с определенной целью.
А что, если они опять начнут насмехаться надо мной? Тогда я стану отвечать им и, пользуясь этим, высмотрю все, что мне нужно.
Не теряя ни минуты, я начал прогуливаться по набережной с нарочито небрежным видом. Я остановился около носовой части корабля и посмотрел наверх. Палуба опустилась почти до уровня набережной, потому что нагруженное судно сидело теперь гораздо глубже. Но высокий фальшборт закрывал от меня палубу. Я сразу заметил, что нетрудно будет с набережной влезть на него и проникнуть на судно, держась за ванты
[45]. Я решил, что это будет самый правильный путь. Конечно, надо действовать с большой осторожностью. Если ночь будет не слишком темная и вахтенный матрос меня заметит, все будет кончено: меня примут за вора, схватят и посадят в тюрьму. Но будь что будет — я шел на риск.
На борту все утихло. Не слышно было ни шума, ни голосов. Товары все еще лежали на набережной — значит, погрузка не кончилась. Но матросы прекратили работу, и я видел, что на трапе и вокруг люка никого нет. Куда они делись?
Крадучись я поднялся до середины трапа. Передо мной был большой люк и палуба. Не видно было ни синей куртки помощника, ни засаленных фуфаек матросов. По-видимому, вся команда ушла в другую часть корабля.
Я остановился и прислушался. Откуда-то из передней части судна до меня донеслись приглушенные голоса. Я знал, что это голоса матросов, беседующих друг с другом. Вдруг я увидел человека, который прошел мимо трапа. Он нес большой котел, из которого валил пар. Там, очевидно, находился кофе или какая-нибудь другая горячая пища. Без сомнения, это был ужин для матросов, и нес его кок
[46]. Вот почему работа прекратилась и матросы ушли на носовую часть корабля: они готовились ужинать.
Отчасти из любопытства, отчасти побуждаемый новой, только что возникшей у меня мыслью, я поднялся на палубу. Я увидел матросов далеко в передней части судна. Некоторые расположились на брашпиле
[47], другие — прямо на палубе, держа в руках оловянные миски и складные ножи. Меня никто не заметил, никто не смотрел в мою сторону. Все их внимание было сосредоточено на коке и на дымящемся котле.
Я торопливо оглянулся — кругом никого не было. Моя новая мысль приобрела более четкие очертания.
— Сейчас или никогда! — прошептал я и, нагнувшись, без оглядки побежал по палубе к основанию грот-мачты. Теперь я находился у самого края открытого люка. В него-то я и собирался забраться. Лестницы не было, но с талей свисал канат, конец которого уходил вниз, в трюм.
Я потянул канат и удостоверился, что он надежно закреплен наверху. Крепко ухватив его обеими руками, я осторожно спустился вниз.
Счастье, что я не сломал себе шеи, потому что выпустил из рук канат раньше, чем спустился донизу.
Я отделался только сотрясением, упав на дно трюма.
Но я сейчас же вскочил на ноги и, перебравшись через несколько ящиков, еще не расставленных на места, спрятался за бочкой и притаился во мраке и тишине.
Глава XIX. УРА! МЫ ОТЧАЛИЛИ!
Спрятавшись за бочкой, я пристроился поудобнее и через пять минут заснул так крепко, что все колокола Кентербери
[48] не разбудили бы меня. Последней ночью я мало спал, да и в предыдущую ночь не много — мы с Джоном рано выехали на рынок. Усталость от длительного путешествия пешком и непрерывное в течение целых суток напряжение нервов, только теперь несколько ослабшее, сломили мои силы. Я заснул, как сурок, и спал так долго, что моего сна хватило бы на несколько сурков.
Сам не понимаю, как меня не разбудил шум погрузки: визжали блоки, ящики с грохотом опускались в трюм, но я ничего не слышал.
Проснувшись, я почувствовал, что спал очень долго. «Уже, наверно, глубокая ночь», — подумал я. Меня окружал полный мрак. Раньше в трюм из люка падала полоска света, но теперь она исчезла. Итак, наступила ночь, черная, как смола, что, впрочем, вполне естественно, если сидеть за большущей бочкой, спрятанной в трюме корабля.
«Который теперь час? Должно быть, матросы уже давно пошли спать и сейчас храпят в своих подвесных койках. Скоро ли рассвет?»
Я прислушался. Не нужно было обладать хорошим слухом, чтобы уловить звуки падения больших предметов.
Как видно, на палубе еще шла погрузка. Я слышал голоса матросов, хотя не очень отчетливо. Иногда до меня доносились восклицания, и я разбирал слова: «Налегай!», «Еще давай!» и наконец «Раз-два, взяли!», выкрикиваемые хором.
«Неужели они не прекращают работы даже ночью?»
Впрочем, это не очень меня удивило. Может быть, они хотят воспользоваться приливом или попутным ветром и потому так спешат закончить погрузку.
Я продолжал прислушиваться, ожидая, когда прекратится шум, но час шел за часом, а стук и шум не прекращались.
«Какие молодцы! — подумал я. — Должно быть, они спешат, хотят отправиться как можно скорее. К утру мы, следовательно, отчалим. Тем лучше для меня — я скорее выберусь из этого неудобного места. Неважная у меня здесь постель, да и есть опять хочется».
Последняя мысль заставила меня вспомнить о сыре и сухарях, и я тотчас накинулся на них. После сна я сильно проголодался и поглощал их с большим аппетитом, хотя это и происходило среди ночи.
Шум погрузки продолжался. «Ого! Они будут работать до утра! Бедняги, работа тяжелая, но, без сомнения, они получат за нее двойную плату». Вдруг шум прекратился и наступила полная тишина. Я не мог расслышать ни малейшего шороха наверху.
«Наконец-то они закончили погрузку, — решил я, — и теперь пошли спать. Должно быть, скоро утро, но еще не рассвело, иначе я увидел бы хоть полоску света. Ну что ж, я еще посплю…»
Я снова улегся, как раньше, и попытался заставить себя спать. Прошло около часа, и мне почти удалось заснуть, но тут до меня снова долетел стук ящиков.
«Что такое? Опять работают! Они спали какой-нибудь час. Не стоило и ложиться».
Я прислушался и убедился в том, что матросы и в самом деле работают. В том не было ни малейшего сомнения. Опять стук, шум и визг блоков, как и раньше, но только не такой громкий.
«Странная команда! — думал я. — Работает всю ночь… Наверно, это смена, она пришла сменить первую».
Это было вполне допустимо, и такое объяснение удовлетворило меня. Но больше я не мог заснуть и лежал прислушиваясь.
Они все продолжали работать. И я слышал шум в течение всей ночи, которая показалась мне самой длинной в моей жизни. Матросы работали, отдыхали часок и вновь принимались за работу, а я не видел никаких признаков рассвета — ни одного светлого луча!
Мне пришло в голову, что, может быть, я дремлю и что эти часы работы на самом деле не часы, а минуты. Но если это только минуты, то у меня разыгрался какой-то совершенно необыкновенный аппетит, потому что за это время я трижды яростно накидывался на провизию, пока почти все мои запасы не оказались исчерпанными.
Наконец шум совершенно прекратился. Несколько часов я ничего не слышал. Кругом царила полная тишина, и я снова заснул.
Проснувшись, я опять услышал шум, но эти звуки были иного рода. Они наполнили меня радостью, потому что я смутно слышал характерное «крик-крик-крик» брашпиля и громыханье большой цепи. И хотя, находясь в глубине трюма, трудно наверняка определить источник шума, я догадывался, что происходило наверху. Поднимали якорь — корабль отправлялся в плавание!
Я с трудом удержался от радостного восклицания. Я боялся, что мой голос могут услышать. И тогда меня, конечно, немедленно выволокут из трюма и отправят на берег. Я сидел тихо, словно мышь, и слушал, как большая цепь с грохотом ползла через клюз
[49]. Этот резкий звук, неприятный для других ушей, показался мне музыкой.
Лязг и скрежет скоро прекратились, и до меня донесся новый звук. Он походил на шум сильного ветра, но я знал, что это не ветер. Я знал, что это плеск моря вокруг бортов судна. Звук этот доставил мне величайшее наслаждение — я понял, что наш корабль движется! "Ура! Мы отчалили!"
Глава XX. МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Непрерывное движение судна и ясно слышимый звук бурлящей воды убедили меня в том, что мы отошли от пристани и движемся вперед. Я был совершенно счастлив — опасность вернуться на ферму миновала. Теперь я уже несусь на соленых волнах и через двадцать четыре часа буду далеко от берега, среди просторов Атлантического океана, где никто меня не настигнет и не вернет назад. Удачный исход моего плана опьянял меня.
Странно только, что они вышли в море ночью — ведь еще совсем темно. Но, наверно, у них опытный лоцман, который знает все выходы из бухты настолько хорошо, что может вывести судно в открытое море в любое время суток.
Меня несколько озадачивала необыкновенно длинная ночь. В этом было даже что-то таинственное. Я уже начал подозревать, что проспал весь день, а бодрствовал две ночи вместо одной. Что-то здесь, по-видимому, мне приснилось. Впрочем, я был так рад отплытию, что не стал ломать себе голову попусту. Для меня не имело никакого значения, ушли мы в море ночью или днем, лишь бы благополучно выйти в открытый океан. Я улегся и стал ждать желанной минуты, когда смогу выйти на палубу.
Я с нетерпением ждал этой минуты по двум соображениям. Во-первых, потому, что мне очень хотелось пить. Сыр и черствые сухари еще больше увеличили жажду. Я не был голоден, часть провизии у меня еще оставалась, но я бы охотно обменял ее на чашку воды.
Во-вторых, я хотел выйти из своего убежища, потому что кости мои ныли от лежания на голых досках и от скрюченной позы, которую я вынужден был принять из-за недостатка места.
Все суставы у меня так болели, что я едва мог повернуться. А лежать неподвижно было еще хуже. Это укрепило мою уверенность в том, что я проспал весь день, — ведь одна ночь на голых досках все-таки не утомила бы меня так сильно.
Несколько часов подряд я вертелся во все стороны, страдая от жажды и от ломоты в костях.
Неудивительно, что мне хотелось как можно скорее покинуть узенькую нору и выйти на палубу. Но я рассудил все же, что следует преодолеть и жажду и боль в теле и остаться на месте.
Я знал, что по портовым правилам полагается выходить из бухты в море, имея лоцмана на борту, и если я сделаю глупость, показавшись на палубе, то меня доставят на берег в лоцманской шлюпке и все мои усилия и страдания пропадут даром.
Предположим даже, что лоцмана на корабле нет, — все равно мы ведь находимся на трассе рыбачьих лодок и маленьких каботажных судов
[50]. Одно из них, идущее в гавань, может подойти к нам, меня сбросят на его палубу, как связку канатов, и доставят на сушу.
Вот почему я решил, что благоразумнее оставаться в своем убежище, несмотря на жажду и боль в суставах.
В течение часа или двух судно легко скользило по воде. Должно быть, погода была тихая и корабль находился еще в пределах бухты. Потом, как я заметил, он начал слегка покачиваться и плеск воды по бокам стал резче и настойчивее. То и дело слышались удары волн о борт и потрескивание шпангоутов
[51].
Но в этих звуках не было ничего неприятного. Как видно, мы выходили из бухты в открытое море, где ветер был свежее, а волны выше и сильнее. «Скоро лоцмана отпустят, — думал я, — и я смогу выйти на палубу».
По правде сказать, я не очень радовался предстоящей встрече с командой корабля — у меня были серьезные опасения на этот счет. Я вспомнил грубого, свирепого помощника и бесшабашных, равнодушных матросов. Они возмутятся, когда узнают, какую штуку я с ними сыграл, и, чего доброго, изобьют меня или как-нибудь еще обидят. Я не ждал, что они хорошо ко мне отнесутся, и с удовольствием уклонился бы от такой встречи.
Но уклониться было невозможно. Я не мог проделать весь рейс, сидя в трюме, то есть провести несколько недель или даже месяцев без еды и питья. Рано или поздно мне придется выйти на палубу и решиться на встречу.
Тревожась при мыслях об этой неизбежной встрече, я начал испытывать страдания уже не нравственного характера. И они были хуже жажды и ломоты в костях. Какая-то новая беда надвигалась на меня. Голова закружилась, на лбу выступил пот. Я почувствовал дурноту, сердце и желудок у меня как будто сжались. В груди и горле появилось такое ощущение, как будто мне вдавили ребра внутрь и легкие утратили способность расширяться и дышать.
Я ощущал тошнотворный запах затхлой воды, которая скопляется обычно в глубине трюма, и слышал, как она булькает под настилом, куда натекла за долгий срок.
По всем этим признакам нетрудно было определить, что именно меня беспокоит: это была морская болезнь, и ничего больше. Зная это, я не встревожился. Мне становилось плохо, как всякому, у кого начинается приступ этой странной болезни. Конечно, я чувствовал себя особенно скверно: жажда жгла меня, а воды поблизости не было. Я был убежден, что стакан воды облегчил бы мои страдания: тошнота пройдет, и я свободно вздохну. Я готов был отдать все за один глоток.
Страх перед лоцманом помогал мне крепиться довольно долго.
Качка становилась все резче, а запах воды в трюме все тошнотворнее. Дурнота
и напряжение стали невыносимы.
«Наверно, лоцман уже уехал. Во всяком случае, я больше не могу терпеть. Надо выйти на палубу, иначе я умру! О!..»
Я поднялся и начал ощупью пробираться вдоль большой бочки.
Я обогнул ее и дошел до отверстия, через которое влез сюда. Но тут, к величайшему своему изумлению, я обнаружил, что оно закрыто!
Я не верил себе и ощупывал все кругом, водя руками вверх и вниз. Нет сомнений — отверстие заставлено!
Повсюду мои руки натыкались на отвесную стену, которая, насколько я мог судить, представляла собой боковую сторону огромного ящика. Ящик этот стоял как раз в промежутке между бортом корабля и бочкой и был поставлен настолько вплотную, что не осталось ни щелки, в которую я мог бы просунуть палец.
Я попытался сдвинуть ящик руками, напряг все силы, потом надавил плечом, но ящик даже не шелохнулся. Это был огромный короб, наполненный тяжелым грузом. Даже силач вряд ли сдвинул бы его с места, а с моими силенками нечего было и думать об этом.
Мне пришлось отказаться от этой попытки. Я двинулся назад вдоль бочки, надеясь выйти с другого конца. Но когда я достиг другого конца, мои надежды рассеялись, как дым. Даже руку нельзя было просунуть между знакомой мне бочкой и такой же соседней, которая заполняла собой все пространство вплоть до шпангоутов! Мышь не проскользнула бы между ними.
Я исследовал верхи обеих бочек, но так же безрезультатно. Там хватило бы места просунуть руку, но не больше. Между верхами округлых стенок бочек и громадным бимсом
[52], протянутым наверху поперек трюма, оставалось лишь несколько дюймов — даже при моем маленьком росте я не сумел бы проскользнуть в эту щель.
Предоставляю вашему воображению, что я почувствовал, когда убедился, что я заперт, пленен, замурован между грузами!
Глава XXI. ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
Теперь я понял, почему ночь показалась мне такой длинной. Света было достаточно, но он не доходил до меня. Его закрывал большой ящик. Прошел целый день, а я этого не знал. Люди работали днем, а я думал, что это полночь. Не одна, а две ночи и целый день прошли с тех пор, как я спустился в свое убежище. Неудивительно, что я ощущал голод, жажду и боль во всем теле. Короткие перерывы в работе матросов наверху означали завтрак и обед. Длинный перерыв перед тем, как подняли якорь, означал вторую ночь, когда все спали.
Я вспомнил, что заснул сейчас же после того, как забрался в свой тайник. Это было за несколько часов до захода солнца. Я спал крепко и долго — без сомнения, до следующего утра. Вечером погрузка продолжалась, а я ничего не слышал. Находясь в глубоком, беспробудном сне, я не почувствовал, как проход загородили ящиком, да и не одним.
Теперь мне все было ясно, и самое ясное во всем этом — тот ужасающий факт, что я заперт, как в коробке.
Не сразу я понял весь ужас своего положения. Я знал, что заперт и что никаких моих усилий не хватит для того, чтобы выбраться наружу. Но я не боялся этих трудностей. Сильные матросы, которые поставили эти грузы, могут их и отодвинуть. Мне стоит только крикнуть и тем обратить на себя внимание.
Увы! Мне в голову не приходило, что мои отчаянные вопли вовсе не будут услышаны. Я не подозревал, что люк, через который я опустился на канате в трюм, был теперь плотно закрыт тяжелым щитом, что поверх щита была натянута толстая просмоленная парусина и что все это, вероятно, так и останется до конца путешествия. Если бы люк даже не был закрыт, и то меня не услышали бы. Мой голос затерялся бы среди сотен тюков и ящиков, пропал бы в беспрестанном рокоте волн, плещущих о борта корабля.
Вначале, как вы знаете, я не очень встревожился. Я думал только, что мне придется долго дожидаться глотка воды, в которой я так нуждался. Конечно, потребуется несколько часов работы, чтобы отодвинуть ящики и освободить меня. А пока что мне придется страдать. Вот и все, что меня беспокоило.
И только после того, как я накричался до хрипоты и вдоволь настучался в доски борта каблуками башмаков, так и не дождавшись ответа, — только тогда начал я вполне понимать свое подлинное положение, только тогда начал я оценивать весь его ужас, только тогда понял, что не сумею выйти отсюда, что у меня нет никакой надежды на спасение, — короче говоря, что я заживо погребен!
Я кричал, стонал, вопил.
Кричал я долго, не знаю точно, сколько времени. Я не переставал кричать, пока не ослабел и не выбился из сил.
В перерывах я прислушивался — ответа не было. Только мое собственное эхо прокатывалось по всему трюму. Но ни один человеческий голос извне не отзывался на мои стенания.
Теперь я понял, почему умолкли голоса матросов. Я слышал хор их голосов, когда поднимали якорь, но тогда корабль стоял на месте и вода не плескалась у бортов. Кроме того, как я узнал впоследствии, тогда люки были открыты, а закрыли их уже потом, когда мы вышли в море.
Долго я прислушивался, но до ушей моих не доходили ни слова команды, ни матросская речь. Если до моего слуха не долетали их громкие, густые голоса, то как же им услышать мой голос?
«Они не могут меня услышать! Никогда! Никогда никто не придет ко мне на помощь! Я умру здесь! Я непременно умру здесь!..»
К такому мрачному выводу я пришел, когда окончательно потерял голос и совершенно ослабел. Морская болезнь на время уступила место бурным порывам отчаяния, но затем физическое недомогание вернулось и, соединившись с душевными муками, повергло меня в такое страшное состояние, какого я никогда еще не испытывал. Долго я лежал беспомощный в полном оцепенении. Мне хотелось умереть. Я и в самом деле полагал, что умираю. Я серьезно думаю, что в ту минуту рад был ускорить наступление смерти, если бы это было в моей власти. Но я был слишком слаб, чтобы убить себя, даже если бы у меня имелось оружие. Впрочем, оружие-то у меня было, только я забыл о нем в своем смятении.
Вы удивитесь, услышав такое признание — признание в том, что я хотел умереть. Но надо попасть в мое тогдашнее положение, чтобы представить себе весь ужас отчаяния. О, это страшная вещь! Желаю вам никогда ее не испытать!
Я был убежден, что умираю, но не умирал. Люди не умирают ни от морской болезни, ни от отчаяния. Не так-то легко расстаться с жизнью.
Правда, я был как полумертвый и некоторое время лежал без сознания.
В таком состоянии оцепенения я пролежал несколько часов подряд.
В конце концов сознание начало возвращаться ко мне, а с ним вернулась и энергия. Странное дело: мне захотелось есть. В этом отношении морская болезнь имеет такую особенность: больные едят охотнее, чем здоровые. Впрочем, желание пить было куда сильнее, чем желание есть, и мучения мои не смягчились надеждой на утоление жажды. Что касается голода, то с ним я кое-как еще мог справиться: у меня в кармане сохранились куски сухарей и немного сыра.
Не стоит рассказывать вам обо всех тяжелых мыслях, которые роились у меня в мозгу. Несколько часов подряд я был жертвой страшного приступа отчаяния. Несколько часов я лежал, или, вернее, метался, в безысходной тоске. Наконец, к моему облегчению, пришел сон.
Я заснул, потому что перед этим долго не спал. И это вместе с упадком сил от долгих страданий перебороло мои муки. Несмотря на все свои бедствия, я забылся сном.
Глава XXII. ЖАЖДА
Спал я недолго и не очень крепко. Во сне я переживал всякие опасности и страхи, но не было ничего страшнее действительности, когда я проснулся.
Я не сразу понял, где нахожусь. Только раскинув руки в стороны, вспомнил, в каком положении оказался: я наткнулся руками на деревянные стены моей темницы. Я едва мог повернуться в ней. Еще одного маленького мальчика, вроде меня, было бы достаточно, чтобы заполнить все пространство, в котором я был заключен.
Еще раз осознав свое ужасное положение, я опять разразился криками. Я вопил и стонал изо всех сил. Я еще не совсем утратил надежду, что матросы услышат меня, — ведь я уже говорил, что не знал ни того, какое количество грузов окружает меня, ни того, что люки нижней палубы плотно закрыты.
Хорошо еще, что я не сразу узнал всю правду. Она могла бы свести меня с ума. Проблески надежды облегчали мои страдания и поддерживали меня, пока я не решился твердо взглянуть в лицо страшной судьбе.
Я продолжал кричать, иногда по нескольку минут подряд, иногда отрывисто, но ответа не было, и промежутки между моими воплями становились все дольше и дольше. Наконец я охрип и замолчал.
Несколько часов я лежал опять в оцепенении — то есть оцепенел мой мозг, но, к сожалению, не тело. Наоборот, я был весь во власти ужасных мук. Это были муки жажды, самого тяжелого и изнурительного из всех физических страданий. Никогда я не подозревал, что человек может так мучиться от отсутствия глотка воды. Читая рассказы о путешествиях в пустыне и о потерпевших крушение моряках, умирающих от жажды, я всегда думал, что их страдания преувеличены. Как все английские мальчики, я вырос во влажном климате, в местности, богатой ручейками и источниками, и никогда не страдал от жажды. Иногда, забравшись в поле или на морской берег, где не было воды для питья, я чувствовал неприятную сухость в горле, которую мы называем жаждой, но это мимолетное ощущение вполне исчезало после глотка чистой воды. И даже отрадно было терпеть, зная, что впереди тебя ждет утоление. В таких случаях мы бываем настолько терпеливы, что отказываемся от воды из случайного пруда в поисках чистого колодца или прозрачного ключа.
Но это, однако, еще не жажда, это только первая и самая низшая ее степень — степень, граничащая с удовольствием. Представьте себе, что вокруг вас нет ни колодца, ни ручья, ни пруда, ни канала, ни озера, ни реки — никакой свежей воды на сотни миль, никакой влаги, которая могла бы утолить вашу жажду, — и тогда ваши переживания приобретут новый характер и утратят всякий оттенок приятного.
В сущности, жажда моя была не так уж велика, ведь я оставался без воды сравнительно недолго. Я уверен, что и до того мне случалось по целым дням обходиться без питья, но я не обращал на это никакого внимания, потому что знал, что утолить жажду ничего не стоит в любой момент. Но теперь, когда воды не было, когда ее нельзя было раздобыть, я впервые в своей жизни почувствовал, что жажда — это настоящее мучение.
От голода я не страдал. Провизия, которую я приобрел за кораблик, еще не кончилась. У меня оставалось несколько кусочков сыра и сухарей, но я не решался к ним притронуться. Они лишь увеличили бы жажду. Мое высохшее горло требовало только воды — вода в то время казалась мне самой желанной вещью в мире.
Я был в положении Тантала
[53]: не видел воды, но слышал ее. До моего слуха все время доносился шум от всплесков воды, бьющей о борта корабля. Я знал, что это морская вода, она соленая и пить ее нельзя, даже если я до нее доберусь. Но все-таки я слышал, как льется вода. И эти звуки раздавались у меня в ушах, как насмешка над моими страданиями.
Не стоит рассказывать о всех томивших меня мучительных мыслях. Достаточно сказать, что долгие часы я изнывал от жажды, без малейшей надежды избавиться от этой пытки. Я чувствовал, что она может убить меня. Я не знал, скоро ли это случится, но был уверен, что рано или поздно жажда будет причиной моей смерти. Я читал о людях, которые мучились несколько дней, прежде чем умереть от жажды, и пытался вспомнить, сколько дней длилась их агония, но память изменяла мне. Кажется, самое долгое — шесть или семь дней. Такая перспектива была ужасной. Неужели мне суждено терпеть такую пытку шесть или семь дней? Разве я выдержу еще хотя бы один такой день? Нет, это невыносимо! Я надеялся, что смерть придет раньше и избавит меня от лишних мук.
Но почти в ту минуту, когда я уже в отчаянии стал мечтать о скорой смерти, до моего слуха долетел звук, который мгновенно изменил весь ход моих мыслей и заставил забыть ужас моего положения. О сладостный звук! Он был похож на шепот ангела милосердия.
Глава XXIII. СЛАДОСТНЫЙ ЗВУК
Я лежал, или, вернее, стоял, согнувшись, прислонившись плечом к одному из шпангоутов, который пересекал мою крошечную комнатушку сверху донизу, деля ее на две почти равные части. Я принял такое положение просто для разнообразия. С тех пор как я оказался в этом узком помещении, я испробовал множество всяких поз, чтобы не оставаться постоянно в одном и том же положении. Иногда я стоял, иногда сгибался, часто ложился то на один бок, то на другой, временами даже на живот, лицом вниз.
Теперь, чтобы отдохнуть немного, я встал на ноги, хотя и в согнутом положении, потому что потолок моего помещения был ниже моего роста. Мое плечо опиралось о шпангоут, голова наклонилась вперед и почти касалась большой бочки, а рука опиралась о ту же бочку.
Ухо мое, конечно, было рядом с ней, оно почти приникло к ее крепким дубовым клепкам. Через эти самые клепки и донесся до меня звук, который произвел такую внезапную и приятную перемену в моем настроении.
Звук этот можно было определить очень просто: это плескалась вода внутри бочки. Она двигалась из-за качки, да и сама бочка, не слишком устойчиво державшаяся на своем месте, слегка покачивалась.
Первый всплеск воды прозвучал для меня, как музыка. Но я боялся радоваться — мне хотелось еще раз убедиться, что это так.
Я поднял голову, прижался щекой к дубовым клепкам и с волнением прислушался. Ждать пришлось довольно долго, потому что как раз в этот момент судно шло тихо, с едва заметной раскачкой. Я ждал терпеливо — и мое терпение было вознаграждено. Наконец послышалось: буль-буль-буль…
Буль-буль-буль! Нет сомнения, в бочке вода. Я не мог удержаться от радостного крика. Я чувствовал себя, как утопающий, который неожиданно достиг берега и знает, что спасен.
Эта внезапная перемена подействовала на меня так, что я почти лишился чувств. Я откинулся назад и впал в полуобморочное состояние.
Но оно продолжалось недолго. Новый острый приступ жажды заставил меня перейти к действию. Я снова встал и потянулся к бочке.
Зачем? Ну конечно, для того, чтобы найти втулку, вынуть ее и пить, пить без конца! С какой же другой целью стал бы я приближаться к этой бочке?
Увы, увы! Радость моя померкла, едва родившись. Правда, не сразу. Я обшарил всю выпуклую поверхность бочки, ощупал ее кругом, пересчитал все клепки, тщательно изучил ее дюйм за дюймом, клепку за клепкой. Да, у меня ушло порядочно времени на то, чтобы убедиться, что втулки на этой стороне бочки нет, — вероятно, она с другой стороны или на верхушке. Но если втулка там, я не смогу до нее дотянуться, и, следовательно, эта втулка для меня все равно, что не существует.
Разыскивая втулку, я не забыл и об отверстии для крана. Я знал, что в каждой большой бочке делается еще одно отверстие для крана, которое помещается посередине, в то время как втулка обычно бывает в одном из днищ. Но и этого отверстия я не нашел. Зато я убедился, что с обеих сторон к бочке плотно приставлены ящик и еще одна бочка. Последняя показалась мне такой же, как и та, что была передо мной.
Мне пришло в голову, что и в другой бочке может быть вода, и я отправился «на разведку», но смог ощупать только часть второй бочки и наткнулся на гладкие и крепкие дубовые доски, твердые как камень.
Только проделав все это, я понял всю безвыходность моего положения и опять впал в отчаяние. Я мучился еще больше, чем прежде. Я слышал бульканье воды в каких-нибудь двух дюймах от своего рта и… не мог напиться! Чего бы я не отдал сейчас хоть за одну каплю! Немного воды на донышке стакана, чтобы промочить пересохшее, воспаленное горло!
Если бы у меня был топор и если бы высота моего убежища позволяла им размахнуться, я разбил бы огромную бочку и яростно стал бы глотать ее содержимое. Но у меня не было ни топора, ни какого-либо другого орудия. И дубовые клепки были так же непреодолимы для меня, как если бы они были сделаны из железа. Доберись я даже до втулки, я все равно не смог бы вынуть затычку пальцами.
В порыве первой радости я и не подумал об этом затруднении.
Я опустился на доски и предался отчаянию, охватившему меня с еще большей силой. Не могу сказать, долго ли это продолжалось, но одно обстоятельство снова пробудило меня к жизни.
Глава XXIV. БОЧКА ПРОБУРАВЛЕНА
Я лежал на правом боку, подложив руку под голову, и вдруг почувствовал что-то твердое у себя под боком: казалось, выступ доски или какой-то другой жесткий предмет давит мне на бедро. Мне даже стало больно, и я подсунул руку под бедро, чтобы избавиться от этого предмета, и при этом приподнялся всем телом и очень удивился, не найдя ничего на полу, но тут же заметил, что этот твердый предмет находится не на досках, а в кармане моих штанов.
Что у меня там? Я ничего не мог вспомнить и даже думал, что это остатки сухарей. Но ведь сухари я держал в карманах куртки, они не могли попасть в штаны. Я ощупал карман снаружи. Это было что-то очень твердое и длинное. Я никак не мог вспомнить, что у меня есть при себе, кроме сыра и сухарей.
Мне пришлось встать, чтобы засунуть руку в карман. И тут я все понял: твердый продолговатый предмет, который привлек мое внимание, был не что иное, как нож, подаренный мне матросом Уотерсом. Я тогда машинально сунул его в карман и забыл о подарке.
Это открытие не произвело на меня, как я сейчас вспоминаю, никакого особенного впечатления. Я только подумал о славном матросе, который оказался так добр по сравнению с сердитым помощником капитана. Помню, такая же мысль промелькнула у меня и на набережной, когда я получил нож. Вынув нож, я положил его рядом, чтобы он не мешал мне, и снова улегся на бок.
Но не успел я еще по-настоящему устроиться, как вдруг меня осенила идея, заставившая меня подскочить, как будто я лег на раскаленное железо. Но если бы я лег на железо, то подскочил бы от боли, а тут причиной была новая радостная надежда. Ведь этим ножом я могу проделать отверстие в бочке и добраться до воды! Мысль эта показалась мне выполнимой: я не сомневался, что смогу ее осуществить. Добраться до содержимого бочки представлялось мне настолько верным делом, что мое отчаяние мгновенно сменилось надеждой.
Я торопливо пошарил кругом и взял нож. Я не успел как следует рассмотреть его на набережной, когда получил его от друга-матроса. Теперь я изучал нож тщательно, конечно на ощупь, и постарался, насколько мог, определить его прочность и годность для моего замысла.
Это был большой складной карманный нож с ручкой из оленьего рога, с одним-единственным лезвием. Такие ножи матросы носят обычно на шее на шнурке, продетом через специальную дырочку в черенке. Лезвие было прямое, с заостренным концом и по форме напоминало бритву. Как и у бритвы, тупая сторона лезвия была на ощупь очень широкая и прочная, и это было как нельзя кстати — ведь мне нужен был исключительно крепкий клинок, чтобы провертеть дыру в дубовой клепке.
Инструмент, который я держал в руках, как раз подходил для моей цели — он мог послужить не хуже любого долота. Ручка и лезвие были одинаковой длины, а в раскрытом виде нож имел в длину около десяти дюймов.
Я нарочно так подробно описываю этот нож. Он заслужил даже большего своими превосходными качествами, ибо только благодаря ему я сейчас жив и могу рассказать о том, какую неоценимую услугу он мне оказал.
Итак, я открыл нож, ощупал лезвие, стараясь с ним освоиться, потом еще несколько раз открыл и закрыл нож, испытывая упругость пружины, и наконец приступил к работе над твердым дубом.
Вас удивляет, что я так медлил? По-вашему, если я так страдал от жажды, мне следовало поскорее пробуравить бочку и напиться воды. Правда, искушение было велико, но меня никогда нельзя было назвать безрассудным мальчиком, и сейчас, более чем когда бы то ни было, я чувствовал необходимость соблюдать осторожность. Меня подстерегала смерть — ужасная смерть от жажды, если я не доберусь до содержимого бочки. Если с ножом что-нибудь случится — сломается лезвие или притупится острый конец, — я наверняка умру. Поэтому-то я предварительно изучил свое орудие и убедился в его прочности. Но если бы в эту минуту я подумал о том, что меня ждет дальше, я, может быть, действовал бы с меньшей осмотрительностью. Ведь если даже я обеспечу себя водой, что станет потом? Я спасусь от жажды. Но голод? Как утолить его? Вода — это не пища. Где взять еду?
Странно сказать, но в то время я не думал о еде. Нестерпимая жажда заставила меня забыть обо всем остальном. Ближайшая опасность — опасность умереть от недостатка воды — вытеснила из моей головы мысли о том, что будет дальше. Меня не страшила возможность умереть от голода.
Я выбрал на бочке место, где клепка была слегка повреждена, — немного пониже середины. Я рассудил, что бочка может быть наполнена только до половины. Необходимо было проделать дыру ниже поверхности воды, потому что в противном случае мне пришлось бы сверлить другую дыру.
Я принялся за работу и через небольшой промежуток времени убедился, что мне удалось углубиться в толстую клепку. Нож вел себя великолепно, и прочный дуб уступал еще более прочной стали прекрасного клинка. Кусочек за кусочком, волокно за волокном дерево отступало перед острым наконечником; стружки я пальцами вынимал из дырки и отбрасывал в сторону, чтобы дать простор клинку.
Я работал больше часа — конечно, в темноте. Я так освоился с темнотой, что у меня исчезло ощущение беспомощности, которое обычно возникает, когда человек погружается в темноту внезапно. У меня, как у слепых, обострилось осязание. Я не страдал от отсутствия света, я даже не замечал его отсутствия, как будто свет был и не очень нужен при такой работе.
Я действовал не так быстро, как плотники с их долотами или бондари со сверлами, но я знал, что подвигаюсь вперед. Углубление становилось все больше и больше. Клепка не могла быть толще дюйма, значит, я скоро ее продырявлю.
Я бы мог сделать это проворнее, если бы меньше думал о последствиях, но я боялся слишком надавливать на лезвие, помня старую поговорку: «Тише едешь — дальше будешь», и старался осторожно обращаться с драгоценным инструментом.
Прошло больше часа, когда по глубине проделанного отверстия я определил, что работа подходит к концу.
У меня дрожали руки, сердце стучало в груди. Я очень сильно волновался. В голову приходили тревожные мысли, меня томило ужасное сомнение: вода ли это? Я уже и раньше сомневался, но не так сильно, как сейчас, почти перед самым концом работы.
Господи, а что, если это не вода? Вдруг в бочке ром, или бренди
[54], или даже вино! Я знал, что все эти напитки не помогут утолить палящую жажду. Это возможно на мгновение, только на мгновение, а потом жажда разгорится еще сильнее. О, если там какой-нибудь спиртной напиток — я пропал! Тогда прощай последняя надежда, мне остается умереть, как часто умирают люди, — в чаду опьянения!
Я был настолько близок к внутренней поверхности клепки, что влага уже просачивалась через дерево в тех местах, где его просверливало острие ножа. Я медлил сделать последнее усилие — я боялся результатов. Но я колебался недолго, меня подгоняли мучения жажды. Я надавил, и последние волокна уступили. В то же мгновение из бочки брызнула холодная упругая струя. Она обожгла руку, в которой я сжимал нож, и сразу наполнила мой рукав. В следующую минуту я приник губами к отверстию и стал с наслаждением глотать — не спиртной напиток, не вино… нет, воду, холодную, вкусную, как влага родника!
Глава XXV. ВТУЛКА
О, как я пил эту чудесную воду! Мне казалось, что я никогда не напьюсь. Но наконец я напился досыта, жажда прошла.
Это произошло не сразу — первые жадные глотки не утолили жажды — вернее, утолили только на время. Мне хотелось еще и еще, и я снова ловил губами бьющую из отверстия струю. И так я пил и пил, пока желание глотать воду не исчезло, и я забыл о приступах жажды, словно ее вовсе и не было.
Даже самое яркое воображение не способно представить мучения жажды! Нужно испытать их самому, чтобы судить о них. Вы можете судить о жестокости этих страданий по тому, что люди, которых мучит жажда, ничем не брезгают, чтобы утолить ее. И все же, как только страдание окончилось, оно исчезает, как сон. Жажда — наиболее легко исцелимое страдание.
Итак, жажда прошла, я подбодрился, но обычная предусмотрительность меня не покинула. Перестав пить, я заткнул дырку указательным пальцем. Инстинкт подсказывал мне, что нельзя бессмысленно тратить драгоценную влагу, и я ему повиновался. Но скоро мой палец устал играть роль втулки, и я стал разыскивать что-нибудь другое. Я обшарил все кругом, но не мог раздобыть ничего подходящего, действуя только правой рукой, — левой я зажимал отверстие и боялся сдвинуться с места, чтобы тонкая струйка не превратилась, чего доброго, в поток.
Мне вспомнился сыр, и я достал из кармана все, что там оставалось. Но сыр был слишком мягок для такой цели и раскрошился, когда я попробовал заткнуть им отверстие. Его просто вырвало у меня из рук напором водяной струи. Сухари тоже никуда не годились. Что делать?
Ответ пришел сразу: я могу заткнуть дыру куском материи от куртки. Грубый материал будет как раз кстати.
Не теряя времени, я отрезал ножом лоскут от полы и лезвием просунул его в дыру. Но ведь скоро он промокнет!
Это затычка временная — я ее сделал только для того, чтобы пошарить кругом и раздобыть что-нибудь получше.
Опять я стал раздумывать. Излишне говорить, что размышления вновь повергли меня в отчаяние. К чему я избежал смерти от жажды? Для того, чтобы продлить мучения? Еще несколько часов — и я умру голодной смертью. Выхода нет. Мой небольшой запас пищи съеден. Два сухаря и горсть крошек сыра — вот все, что осталось. Я смогу поесть еще раз — это будет не очень сытная еда, и потом… о, потом голод, страшный голод, слабость, бессилие, изнеможение — смерть!
Избавившись от жажды, я почувствовал, как воскресают мои прежние страхи. Небольшой прилив бодрости был только последствием избавления от физической муки и продолжался лишь до тех пор, пока я снова не обрел способности спокойно мыслить. Бодрость покинула меня уже через несколько минут, и опять вернулось опасение умереть голодной смертью. Неправильно даже называть это опасением — это была определенная уверенность. Пятиминутного размышления было достаточно для того, чтобы убедиться в том, что смерть неминуема. Это было так же ясно, как то, что пока я еще жив. Не было никакой надежды ни выйти из этой тюрьмы, ни раздобыть пищу.
Да, я умру от голода, у меня нет иного выхода — разве что смерть от собственной руки. У меня были для этого средства, но, странное дело, безумие, которое раньше толкало меня на такой поступок, теперь прошло. Я раздумывал о смерти со спокойствием, которое меня самого удивляло.
Я мог умереть тремя доступными мне способами — от жажды, от голода и покончить самоубийством. Вероятно, вы удивитесь, когда узнаете, что я стал выбирать из этих трех способов наименее мучительный.
Я действительно сосредоточил на этом все свои помыслы, как только пришел к твердому убеждению, что мне не избежать смерти. Не удивляйтесь. Станьте на мое место — и вы увидите, что такие мысли были вполне естественны.
Первый способ я сразу отбросил, ибо он был не самый легкий. Я уже его испробовал, и для меня было очевидно, что трудно найти более мучительное средство закончить свое существование. Я колебался между двумя остальными. Некоторое время я спокойно взвешивал, какой из них лучше. К сожалению, я был воспитан почти как язычник: в те времена я даже не знал, что лишить себя жизни — это великий грех. Меня занимало только одно: какой из двух способов умереть окажется наименее болезненным.
Я долго сидел и хладнокровно, спокойно раздумывал обо всем этом. Какой-то внутренний голос шептал мне, что нехорошо отказываться от дарованной мне жизни, даже если это может избавить меня от длительных мучений.
И я внял этому голосу. Собрав все свое мужество, я решил ждать той минуты, когда сам собой придет конец моим несчастьям.
Глава XXVI. ЯЩИК С ГАЛЕТАМИ
Итак, я твердо решил, что не стану накладывать на себя руки. Я решил жить столько, сколько будет возможно. Хотя двумя сухарями нельзя было насытиться и один раз, я решил разделить их на четыре части, а промежутки между едой увеличить, чтобы насколько возможно дольше обходиться без пищи.
Желание продлить свое существование росло во мне с той минуты, как я избавился от мук жажды, и сейчас оно стало особенно сильно. Правда, у меня было какое-то предчувствие, что я выживу, что я не погибну от голода, и это предчувствие, хотя и очень слабое, возникавшее лишь время от времени, все же поддерживало во мне искорку надежды.
Затрудняюсь объяснить, как могла возникнуть надежда при таком безвыходном положении. Но я вспомнил, что несколько часов назад возможность добыть воду тоже представлялась мне безнадежной, а теперь у меня было столько воды, что я мог бы утопиться в ней. Смешно, что эта мысль пришла мне в голову, — утопиться!
Несколько минут назад, выбирая самый легкий способ смерти, я и об этом подумал. Я слышал, что это самый лучший способ покончить с собой. Собственно говоря, его я уже испробовал.
Когда Гарри Блю спас меня, я ведь утонул — то есть уже потерял сознание, и если бы пошел на дно, то на этом все бы и кончилось. Я уже знал, что утонуть не так страшно, и серьезно подумывал, не броситься ли мне в большую бочку и таким образом положить конец своим бедствиям. Это было в минуты отчаяния, когда я всерьез думал, как бы покончить с собой поскорее, но эти минуты проходили, и я опять чувствовал непреодолимое желание жить и жить! У меня вдруг появилось неопределенное предчувствие, что я как-то спасусь, что я все-таки выйду из своей страшной тюрьмы.
Я съел полсухаря и запил его водой, потому что мне опять захотелось пить, хотя я уже больше не испытывал сильной жажды. Я заткнул дыру в бочке и снова уселся на пол.
Мне не хотелось ничего делать. Я не надеялся, что мое положение хотя сколько-нибудь изменится. Что оставалось предпринять? Единственной надеждой — если это можно назвать надеждой — была возможность поворота судьбы, случай. Но я не представлял себе, каким образом обернется моя судьба, что поможет мне сохранить жизнь.
Трудно было переносить эти долгие часы мрака и тишины. Только иногда шевелилось во мне предчувствие, о котором я говорил раньше, но все остальное время я находился в мрачном состоянии.
Вероятно, прошло часов двенадцать, прежде чем я съел вторую порцию сухарей. Я сопротивлялся сколько мог, но вынужден был отступить перед голодом. Крошечный кусочек сухаря не насытил меня. Он только сделал мой аппетит еще более острым и настойчивым. Я выпил много воды, но влага, наполнившая желудок, не могла утолить голод.
Часов через шесть я опять поел — еще полсухаря. Больше я не мог терпеть, но, проглотив крошечную порцию, даже не почувствовал, что я ел. Я был голоден, как и прежде!
Следующий перерыв занял что-то около трех часов. Мужественное решение растянуть четыре порции на несколько дней оказалось бессмысленным. Дня не прошло, а все сухари исчезли.
Что же дальше? Что есть? Я подумал о своих башмаках. Я читал о людях, которые поддерживали себя тем, что жевали сапоги, пояса, гетры, сумки и седла, — одним словом, все, что делается из кожи. Кожа — органическое вещество и даже после дубления сохраняет в себе небольшое количество питательных элементов. Поэтому я и подумал о башмаках.
Я наклонился, чтобы развязать их, но в этот момент что-то холодное ударило меня по затылку. Это была струя воды. Тряпку вышибло из дыры — из бочки текла вода и лилась мне на шею. Неожиданное холодное прикосновение к коже заставило меня подскочить в изумлении.
Конечно, я перестал удивляться, когда сообразил, в чем дело.
Я заткнул отверстие пальцем, пошарил кругом, нашел тряпку и снова заткнул бочку.
Это повторялось не раз, и я потерял много воды зря. Тряпка промокла и легко поддавалась напору воды. Если я засну, большая часть воды утечет. Надо найти затычку получше.
С этой мыслью я приступил к работе. Я обыскал весь пол моей каморки в надежде наткнуться на пучок соломы, но ничего не нашел.
С помощью ножа я попытался отщепить планку от шпангоута, но крепкий крашеный дуб был очень тверд, и я долго не мог отделить достаточно большой кусок дерева. Под конец я, может быть, и добился бы своего, но тут мне пришло в голову взяться за ящик, сколоченный из обыкновенных еловых досок. От него легче отделить щепку, чем от твердого дуба, и, кроме того, мягкое еловое дерево гораздо больше годится для затычек, чем дуб.
Я стал ощупывать ящик в поисках места, откуда лучше отколоть щепку.
Я нашел наверху уголок, в котором боковая доска несколько выдавалась над крышкой, всадил лезвие в щель и начал действовать, прижимая его книзу и работая им одновременно как долотом и как клином. Через несколько секунд я уже убедился, что боковая доска держится плохо. Вероятно, в момент погрузки гвозди были вырваны от толчков и ударов. Во всяком случае, доска держалась настолько слабо, что качалась у меня под пальцами.
Я вынул лезвие. Не имело смысла работать ножом, когда можно было легко оторвать планку руками. Я подсунул нож под угол доски, ухватился за нее рукой и дернул изо всех сил.
Она поддалась моему нажиму. Затрещали и полетели гвозди. И тут я услышал новый звук, который заставил меня отпрянуть и прислушаться внимательнее. Что-то твердое сыпалось из ящика и со стуком падало на пол.
Интересно было узнать, что это такое. Я наклонился, протянул руки вниз и ухватил два каких-то кусочка одинаковой формы и твердости. И когда я ощупал их пальцами, я не мог удержаться от радостного крика.
Я уже говорил, что осязание у меня обострилось, как у слепого, но если бы оно и не обострилось, я и то мог бы сказать в эту минуту, что за два круглых, плоских предмета находятся у меня в пальцах. Здесь нельзя было ошибиться в ощущениях. Это были галеты!
Глава XXVII. БОЧОНОК С БРЕНДИ
Да, это были галеты величиной с блюдце и толщиной в полдюйма — гладкие, круглые, темно-коричневого цвета. Я так уверенно определил цвет, потому что знал, что это настоящие морские галеты. Их называют «матросскими», в отличие от белых «капитанских» галет, которые, по-моему, уступают первым по вкусу и по питательности.
До чего вкусными показались они мне! Не успел я достать их, как сразу откусил большой кусок — какая чудесная еда! — и сразу уничтожил всю галету, а за ней другую, третью, четвертую, пятую… Кажется, я съел больше, но не считал, потому что голод не давал мне остановиться. Конечно, я запивал их, неоднократно возвращаясь к бочке с водой.
За всю жизнь не запомню более вкусной еды, чем эти галеты с водой. Дело было не только в удовольствии от наполнения голодного желудка — хотя это само по себе, как все знают, уже представляет собой удовольствие, — не только в приятном сознании того, что я открыл еду, — дело было в сладостном ощущении, что спасена жизнь, с которой за минуту до этого я готовился расстаться. С таким количеством провизии я мог жить, несмотря на мрак заточения, недели и месяцы, пока путешествие не закончится и трюм не освободят от груза.
Я проверил свои запасы и еще раз убедился в том, что спасен.
Драгоценные галеты пересыпались у меня под пальцами и, ударяясь друг о друга, постукивали, как кастаньеты.
Этот стук был для меня музыкой. Я погружал руки глубоко в ящик и с удовольствием перебирал пальцами его богатое содержимое, как скряга, перебирающий золотые монеты.
Казалось, я никогда не устану рыться в галетах, определять на ощупь, насколько они толсты и велики, вынимать их из ящика и класть обратно, перемешивать их так и этак. Я играл ими, как ребенок играет барабаном, мячиком, волчком и цветными шариками, перекатывая их из стороны в сторону. Много времени прошло, пока эта детская игра мне не надоела.
Наверняка я занимался этим не меньше часа, пока не улеглось волнение, вызванное этим новым радостным открытием, и я вновь смог действовать и рассуждать спокойно.
Трудно описать, что испытывает человек, внезапно вырванный из объятий смерти. Избежать опасности — совсем другое дело, потому что в редких случаях в опасности отсутствует хотя бы маленькая надежда на благополучный исход. Но здесь, после того как смерть казалась неизбежной, переход от отчаяния к радости, к безбрежному счастью бывает так резок, что доводит до потрясения. Люди иногда умирают или сходят с ума от счастья.
Но я не умер, не сошел с ума, хотя, глядя со стороны на мое поведение, после того как я вскрыл ящик с галетами, можно было предположить, что я сумасшедший.
Первое, что привело меня в чувство, было открытие, что вода бьет из бочки сильной струей. Отверстие оказалось открытым. Это сильно огорчило меня, даже внушило ужас. Я не знал, давно ли уходит вода, — шум морских волн заглушал все другие звуки, а тем временем вода, возможно, лилась на пол и уходила под доски. Может быть, это началось с тех пор, как я в последний раз пил. Не помню, заткнул ли я тогда отверстие тряпкой, — уж очень я волновался. Вероятно, потеряно попусту уже порядочно воды. Меня снова охватило беспокойство.
Еще час назад я не очень испугался бы такой потери. Я был уверен, что воды хватит на все время, пока не иссякнет пища, то есть пока я буду жив. Но теперь я думал по-другому: теперь сроки моей жизни удлинились. Возможно, мне придется пить из этой бочки несколько месяцев и при этом оставаться замурованным. Каждая капля жидкости будет дорога. Если случится, что вода иссякнет до того, как корабль войдет в порт, то мне снова будет угрожать смерть от жажды. Понятно, почему я так испугался, увидев, что вода вытекает. Я моментально заткнул отверстие пальцем, затем тряпкой. Потом я снова взялся за изготовление настоящей деревянной втулки.
Без особого труда я отколол от крышки ящика подходящую щепку. Мягкий материал поддался острому лезвию моего ножа и скоро превратился в коническую втулку, которая точно подошла к размерам отверстия.
Славный моряк! Как я благословлял тебя за твой подарок!
Я бранил себя за небрежность и жалел, что пробил отверстие так низко. В свое время, однако, это было понятно: я заботился только о том, как бы скорее утолить жажду.
Хорошо, что я вовремя заметил этот фонтан воды. Если бы бочка опорожнилась до уровня отверстия, остатка хватило бы на неделю, не больше.
Как ни старался я установить размеры утечки, я ничего не мог придумать. Я стучал по бочке ножом, думая догадаться по звуку, много ли осталось воды. Но потрескивание шпангоутов и шум волн сильно мешали мне. Звук был гулкий, а это означало большую потерю. Такое предположение было далеко не из приятных. Чувство тревоги все росло. К счастью, отверстие было маленькое, не больше пальца, которым я его затыкал. Только за большой промежуток времени при такой тоненькой струе могло уйти много воды. Я тщетно старался припомнить, когда в последний раз пил, но напрасно.
Долго я раздумывал, изобретая метод, которым легче всего можно определить оставшееся в бочке количество воды. Я слышал, что пивовары, бондари и таможенные надзиратели в доках определяют количество жидкости в бочке, не прибегая к измерениям, но не знал, как это делается, и очень жалел об этом.
У меня был план, и план неплохой, но не было подходящего инструмента. Я знал, что уровень воды в бочке можно определить, если ввести в нее трубку или кишку.
Будь у меня хоть какой-нибудь шланг, я бы вставил его в отверстие и таким образом определил высоту воды в бочке, Но где достать шланг или кишку? Конечно, я не мог раздобыть ничего подобного, и от этой идеи пришлось отказаться.
Тут я придумал новый план и немедленно приступил к его осуществлению. Я даже удивился, как не додумался до него раньше, — до того он был прост. Следовало ни больше ни меньше, как проделать другую дыру повыше, потом еще одну… и так далее, пока вода не перестанет течь. Самая верхняя дыра покажет мне уровень жидкости. Таким образом я узнаю то, что мне нужно.
Если первая дыра придется слишком низко, я заткну ее втулкой и с остальными буду поступать так же.
Конечно, предстояло основательно поработать, но другого выхода не было. Кстати, работа меня развлечет, и я не буду тосковать, сидя без дела в темноте. Я уже готов был приступить к работе, когда мне пришло в голову просверлить сначала отверстие в другой бочке, стоявшей в конце моей крошечной каморки. Если и вторая тоже окажется с водой, то я могу успокоиться — двух таких бочек хватит на самое длинное путешествие.
Без промедления я повернулся ко второй бочке и стал просверливать в ней отверстие. Я не волновался, как раньше, потому что жизнь моя не так уж зависела от результата этой работы. И все же я был сильно разочарован, когда из нового отверстия брызнула не вода, а чистейшее бренди.
Снова я вернулся к первой бочке. Теперь мне необходимо было определить, сколько в ней воды, потому что от этого зависело мое дальнейшее существование.
Нащупав клепку в середине бочки, я поступил так же, как в первый раз. Через час или около того последний тонкий слой дерева начал подаваться под кончиком моего ножа. Я волновался сильно, но все-таки не так, как в первый раз. Тогда это было делом жизни и смерти, притом немедленной смерти. Теперь непосредственной опасности не было, но все же будущее оставалось туманным. Я не мог не нервничать, не мог и удержаться от радостного восклицания, когда по лезвию ножа полилась струйка воды. Я закупорил дырочку и стал сверлить следующую клепку, повыше.
И эта клепка подалась через некоторое время, и я был вознагражден за терпеливый труд тем, что пальцы мои снова стали мокрыми.
Еще выше — тот же результат.
Еще выше — здесь уже не было воды. Не важно: последняя дырка была на самом верху бочки. В предыдущей дырочке еще была вода, следовательно, уровень ее находился между двумя последними дырками. Значит, бочка наполнена больше чем на три четверти. Слава Богу! Этого хватит на несколько месяцев.
Вполне удовлетворенный этим результатом, я уселся и съел галету с таким удовольствием, словно это были черепаховый суп и оленье жаркое за столом у лорд-мэра.
Глава XXVIII. ПЕРЕХОЖУ НА СТРОГИЙ РАЦИОН
Я был всем доволен, и ничто теперь не причиняло мне беспокойства. Перспектива просидеть шесть месяцев взаперти, может быть, была бы неприятна при других обстоятельствах, но теперь, испытав ужасный страх мучительной смерти, я
относился к ней спокойно. Я решил терпеливо перенести свое долгое заключение.
Шесть месяцев предстояло мне провести в унылой тюрьме, шесть месяцев — никак не меньше! Вряд ли меня освободят раньше, чем через полгода. Долгий срок — долгий и трудный даже для пленного или преступника, трудный даже в светлой комнате с постелью, очагом и хорошо приготовленной пищей, в ежедневной беседе с людьми, когда постоянно слышишь звуки человеческих голосов. Даже при всех этих преимуществах находиться взаперти шесть месяцев — тяжелое испытание!
Насколько же мучительнее мое заключение — в узкой норе, где я не могу ни стоять в полный рост, ни лежать вытянувшись, где нет ни подстилки, ни огня, ни света, где я дышу затхлым воздухом, валяюсь на жестких дубовых досках, питаюсь хлебом и водой — самой грубой пищей, которую только способен есть человек! И так без малейших перемен, не слыша ничего, кроме беспрестанного поскрипывания шпангоутов и монотонного плеска океанской волны, — шесть месяцев такого существования не могли, конечно, быть радостной перспективой, способной утешить человека.
Но я не унывал. Я был так рад избавлению от смерти, что не заботился о том, как буду жить в ближайшее время, хотя и предвидел, как измучит меня тягостное заточение.
Я был преисполнен радости и веры в будущее. Не то чтобы я был счастлив, — нет, просто меня радовало количество имевшихся у меня средств к существованию. Однако я решил точно измерить свои запасы пищи и питья, чтобы определить, хватит ли их до конца путешествия. Надо было сделать это безотлагательно.
До сих пор у меня не было никаких опасений на этот счет. Такой большой ящик с галетами и такой неиссякаемый источник воды — да я их никогда не истреблю! Так я думал сначала, но, немного поразмыслив, стал сомневаться. Капля долбит камень, и самая большая цистерна с водой может истощиться за длительный промежуток времени. А шесть месяцев — это долгий срок: почти двести дней. Очень долгий срок!
Чтобы положить конец всем сомнениям, я решил, как сказано выше, измерить запасы еды и питья. Это явно было благоразумным поступком. Если еды и питья вдоволь, я больше не стану сомневаться, а если, наоборот, окажется, что их не так уж много, то надо будет принять единственную возможную меру предосторожности и перейти на сокращенный рацион.
Когда я вспоминаю теперь все эти события, я поражаюсь, насколько благоразумен я был в столь раннем возрасте. Удивительно, как осторожно и предусмотрительно может вести себя ребенок, когда его поступками руководит инстинкт самосохранения.
Я немедленно приступил к расчетам. Я положил на путешествие шесть месяцев, то есть сто восемьдесят три дня. Неделю, которая прошла с момента отплытия, я не принимал во внимание, так как боялся преуменьшить истинный срок плавания. Но мог ли я быть уверенным, что за эти шесть месяцев корабль придет в порт и будет разгружен? Мог ли я быть уверен относительно этих ста восьмидесяти трех дней?
Нет, не мог. Я далеко не был уверен в этом. Я знал, что обычно путешествие в Перу занимает шесть месяцев, но не знал, составляют ли эти шесть месяцев среднюю продолжительность плавания или это кратчайший срок. Ведь могут быть задержки в плавании из-за штилей в тропических широтах, из-за бурь вблизи мыса Горн, знаменитого среди моряков неустойчивостью своих ветров; могут встретиться и другие препятствия, и тогда путешествие продлится дольше ожидаемого срока.
Полный таких опасений, я начал изучать свои запасы. Было нетрудно определить, на сколько мне хватит пищи: для этого стоило лишь пересчитать галеты и установить их количество. Судя по их величине, мне достаточно было двух штук в день, хотя, конечно, от этого не растолстеешь. Даже одной в день, даже меньше одной хватит, чтобы поддержать жизнь. Я решил есть как можно меньше.
Скоро я узнал и точное количество галет. Ящик, по моим подсчетам, имел около ярда в длину и два фута в ширину, а в вышину — около одного фута. Это был неглубокий ящик, поставленный боком. Зная точные размеры ящика, я мог бы подсчитать галеты, не вынимая их оттуда. Каждая из них была диаметром немного меньше шести дюймов, а толщиной в среднем в три четверти дюйма. Таким образом, в ящике должно было находиться ровно тридцать две дюжины галет.
Но, в сущности, перебрать галеты поштучно было для меня не работой, а развлечением. Я вынул их из ящика и разложил дюжинами. Там действительно оказалось тридцать две дюжины, но восьми штук не хватало. Однако я легко догадался, куда делись эти восемь штук.
Тридцать две дюжины — это триста восемьдесят четыре галеты. Я съел восемь, значит, осталось ровно триста семьдесят шесть. Считая по две штуки в день, этого хватит на сто восемьдесят восемь дней. Правда, сто восемьдесят восемь дней — это больше, чем шесть месяцев, но я не был уверен, что мы проплаваем именно шесть месяцев, и поэтому пришел к выводу, что надо перейти на сокращенный рацион и съедать меньше двух галет в день.
А что, если за этим ящиком стоит еще один ящик с галетами? Это обеспечило бы меня провизией на самый большой срок. Что, если так? Почему бы и нет? Вполне может быть! При нагрузке судна считаются не с сортом товаров, но исключительно с их весом и формой упаковки, а потому самые разнородные предметы оказываются рядом благодаря размерам ящика, тюка или бочки, в которую они заключены.
Я знал об этом, но отчего не предположить, что два совершенно одинаковых ящика галет стоят рядом?
Но как убедиться в этом? Я не мог пробраться за ящик, даже пустой.
Я уже говорил, что он плотно закупорил то небольшое отверстие, через которое я пролез в трюм. Я не мог ни взобраться на ящик, ни подлезть под него. «Вот что, — воскликнул я, неожиданно сообразив: — я пролезу через него!»
Это было вполне выполнимо. Доска, которую я оторвал и которая составляла часть крышки, оставила дыру — я мог свободно пролезть в нее.
Верх ящика был обращен как раз ко мне, и, всунув в него голову и плечи, я могу пробить отверстие в его дне. И тогда я увижу, стоит ли там второй ящик с галетами.
Я не стал медлить с приведением своего плана в исполнение: расширил отверстие, пролез в него и пустил в ход нож. Мягкое дерево легко уступало клинку, но, поработав немного, я сообразил, что следует действовать совсем по-другому. Дело в том, что доски днища держались только на гвоздях. Несколькими ударами молотка можно было вышибить их без труда. У меня не было молотка, но я заменил его не менее крепким орудием — каблуками. Я лег на спину и стал так колотить ногами по днищу, что одна из досок отошла, хотя и не совсем — ее держало что-то твердое, стоящее позади ящика.
Затем я вернулся в прежнее положение и проверил то, что сделал. Да, я сорвал доску с гвоздей, но она еще держалась и мешала мне узнать, что находится за ней.
Я напряг все силы, надавил на нее и рванул в сторону, а потом вниз, пока не открылось отверстие, достаточное, чтобы просунуть руки. Да, там стоял ящик — большой, грубо сколоченный, похожий на тот, через который я только что пробрался. Но надо было еще определить его содержимое. Снова собрал я все силы и привел доску в горизонтальное положение так, чтобы она больше не мешала мне. Другой ящик отстоял от первого не больше чем на два дюйма. Я устремился к нему со своим ножом и скоро пробил ящик.
Увы! Надежда найти галеты разлетелась, как дым. В ящике лежала какая-то шерстяная ткань — не то сукно, не то одеяла, — притом так плотно упакованная, что твердостью напоминала кусок дерева. Там не было галет, и мне оставалось довольствоваться сокращенным пайком и по возможности растягивать дольше тот запас, который был в моем распоряжении.
Глава XXIX. ЕМКОСТЬ БОЧКИ
Следующим моим делом было уложить галеты обратно в ящик — вне ящика они создавали большое неудобство, занимая больше половины всего помещения. У меня едва хватало места, чтобы повернуться, поэтому я поспешил положить все галеты на прежнее место. Мне пришлось сложить их правильными рядами, но не горизонтально, как они лежали раньше, а вертикально, потому что ящик теперь стоял на боку, и я придал галетам такое положение, в какое их укладывают в пекарнях. Конечно, это не имело особого значения, потому что они занимали столько же места, лежали они плоско или стояли на ребре. В этом я убедился, когда уложил тридцать одну дюжину и четыре штуки. Ящик был снова полон, и еще оставалось небольшое пустое пространство в углу; этого пространства хватило бы ровно на восемь съеденных мною галет.
Теперь я точно знал, сколько провизии лежит у меня в «кладовой». При норме около двух галет в день я смогу продержаться немного более шести месяцев. Это будет не слишком роскошная жизнь, но я решил съедать даже меньше — у меня не было уверенности в том, что мои лишения не продлятся больше шести месяцев. Я твердо решил, что ограничусь в любом случае двумя штуками в день, а в те дни, когда мне легче будет переносить голод, я буду экономить по четверти, или по половине, или даже по целой галете. При такой экономии я смогу протянуть гораздо дольше.
Решив таким образом вопрос о пище, следовало выяснить, сколько воды могу я выпивать в день. Сначала мне это казалось непосильной задачей. Каким способом измерить остаток воды в бочке? Это была старая винная бочка — такие употребляются на судах для перевозки пресной воды для команды, — но я ведь не знал, какую жидкость она содержала раньше, и поэтому не мог определить на глаз емкость бочки. Знай я емкость, я мог бы приблизительно определить, сколько я выпил и сколько еще осталось. Особая точность здесь не требовалась.
Я хорошо помнил «таблицу мер жидкостей», и недаром это была самая трудная из таблиц для заучивания наизусть. Немало я получил в школе розог, пока научился повторять ее с начала до конца. Наконец я вытвердил ее так, что мог произнести всю без запинки…
Я знал, что винные бочки бывают самых различных размеров, смотря по сорту вина, которое в них налито. Я знал, что спиртные напитки — бренди, виски, ром, джин, а также вина — херес, портвейн, мадера, канарское, малага и другие сорта — перевозятся в бочках разной емкости, но обычно винная бочка содержит около сотни галлонов. Я даже вспомнил, сколько галлонов обычно полагается на каждый сорт, так как наш школьный учитель, великий любитель статистики, очень подробно обучал нас мерам жидкостей. Если бы я только знал, какое вино раньше возили в этой бочке, я бы моментально сказал, сколько она вмещает. Мне показалось, что от бочки пахнет хересом.
Я вынул затычку и попробовал воду на вкус. Раньше я и не думал разбираться в ее вкусе. Как будто это херес, но может быть и мадера, а тут уж разница в несколько галлонов — очень важный момент при подсчете. Нет, я не мог положиться на собственное суждение и сделать его основой для подсчета. Надо было придумать что-нибудь другое.
К счастью, наш школьный учитель обучил нас еще и другим правилам измерения емкости.
Я всегда удивлялся тому, что в школах простые, но полезные научные факты остаются в стороне, в то время как бедным мальчикам вколачивают в головы бесполезные и нелепые стишки. Без всякого колебания скажу, что обыкновенные таблицы мер, которые можно выучить за неделю, имеют гораздо большую ценность для человека — даже для всего человечества, — чем отличное знание мертвых языков. Греческий и латынь — вот истинные преграды для развития наук!
Итак, я уже сказал, что наш старый учитель передал нам некоторые сведения, касающиеся измерений, и, к счастью, они остались у меня в памяти.
Я знал объем куба, параллелепипеда, пирамиды, шара, цилиндра и конуса — последнее было мне теперь нужнее всего.
Я знал, что бочка — это два конуса, то есть два конуса, усеченных параллельно основаниям, которые расположены одно против другого. Зная, как измерить обыкновенный конус, я, конечно, знал, как измерить и усеченный.
Чтобы вычислить емкость бочки, нужно знать ее высоту (или половину высоты), длину окружности ее основания и длину окружности самой широкой части. Зная все это, я мог сказать, сколько в нее войдет воды, — другими словами, я мог сосчитать, сколько она содержит кубических дюймов жидкости. Узнав эту цифру, мне оставалось разделить ее на шестьдесят девять с чем-то и получить число кварт
[55], а затем простым делением на четыре превратить кварты в галлоны, если мне понадобится вычислить емкость в галлонах.
Значит, необходимо найти три основные величины, и тогда я сумею определить емкость бочки. Но в этом-то и заключалась вся трудность. Как найти эти три величины?
Я мог бы еще определить высоту, потому что это было для меня достижимо. Но как определить окружность в середине и по краям? Я не мог ни перебраться через верх бочки, ни подлезть под нее. И то и другое было для меня недоступно. Кроме того, передо мной была еще одна трудность: мне нечем было мерить — ни линейки, ни шнура, то есть никакого инструмента, которым можно было бы определить количество футов или дюймов. Так что, если бы я даже мог обойти вокруг бочки, все равно я оказался бы в затруднении.
Однако я решил не сдаваться, пока не придумаю чего-нибудь. Это занятие поможет мне развлечься. И, кроме того, как я уже говорил, это было делом первейшей важности. К тому же старик учитель внушал нам, что настойчивость часто приводит к успеху там, где успех кажется невозможным. Вспоминая его наставления, я принял решение не отступать, пока не иссякнут последние силы.
Поэтому я продолжал упорствовать и, скорее чем можно рассказать об этом, открыл способ измерить бочку.
Глава XXX. ЕДИНИЦА МЕРЫ
Прежде всего мне необходимо было узнать длину диаметра, проходящего через центр бочки, и скоро я нашел способ измерить его. Для этого мне требовались лишь жердочка или палка достаточной длины, чтобы ее можно было ввести в бочку в самом широком месте. Мне было ясно, что, вставив такую палку в дыру с одной стороны бочки и доведя ее до противоположной стенки — в точке, диаметрально противоположной этой дыре, я получу точный диаметр серединной части бочки: та часть палки, которая пройдет от стенки до стенки, и будет диаметром. Найдя диаметр, я помножу его на три — и получу окружность. В данном случае мне нужен был именно диаметр, а не окружность. Конечно, при обыкновенных условиях, когда бочка закупорена, легче измерить ее окружность в самом широком месте, чем найти диаметр. Вообще же годится любой способ: можно затем либо разделить окружность на три, либо умножить на три диаметр — результат для большинства практических целей будет один и тот же, хотя математически это не совсем точно.
По чистой случайности одно из просверленных мною отверстий находилось как раз на середине бочки.
Но где найти палку, спросите вы, где найти это орудие для измерения?
Доска от ящика для галет — вот вполне подходящий материал, из которого можно соорудить палку. Я это сразу сообразил и немедля принялся за дело.
Доска имела в длину немного больше двух футов, и ее не хватило бы, чтобы просунуть через бочку, которая на ощупь была шириной в четыре или пять футов. Но небольшого ухищрения оказалось достаточно, чтобы преодолеть это препятствие. Надо отколоть три планочки и соединить их концы — получится палка достаточной длины.
Так я и сделал. К счастью, доска легко раскалывалась вдоль волокна. Я строгал осторожно, стараясь сделать палку не слишком толстой и не слишком тонкой.
Мне удалось сделать три планки нужной толщины. Я обрезал концы наискось, обстрогал планки и подогнал их друг к другу, чтобы их можно было соединить.
Теперь надо было найти два шнурка, а это было самым легким делом в мире. У меня на ногах красовались башмаки, зашнурованные до самой лодыжки полосками телячьей кожи, каждая в ярд длиной. Я выдернул их из дырочек и связал ими планки. Теперь у меня в руках была палка длиной в пять футов — достаточно длинная, чтобы пройти насквозь через самую широкую часть бочки, и достаточно тонкая, чтобы пролезть через отверстие. Я немного расширил и его.
«Прекрасно! — думал я. — Сейчас мы и определим диаметр». Я поднялся на ноги. Трудно описать разочарование, которое я испытал, убедившись в том, что первая из моих операций, казавшаяся самой простой, не может быть выполнена. Я сразу же увидел, что это невозможно. Не потому, что дыра была слишком мала, и не потому, что палка была слишком широка. Тут я не сделал никакой ошибки — я ошибся в пространстве, на котором мне предстояло действовать. В длину моя кабина имела около шести футов, но в ширину меньше двух, а на уровне отверстия, в которое я собирался вложить палку, — еще меньше. Таким образом, всунуть линейку в отверстие было невозможно, разве что согнув ее так, что она наверно бы сломалась, потому что сухое дерево треснуло бы, как чубук глиняной трубки.
Я очень пожалел, что не подумал об этом раньше, но еще больше я жалел о том, что придется оставить мысль измерить бочку. Однако дальнейшие размышления натолкнули меня на новый план. Это доказывает, что не следует делать заключения слишком поспешно. Я открыл способ ввести в бочку палку не только не ломая, но и не сгибая ее.
Следовало развязать палку и вводить ее в бочку по частям: сначала ввести первую планку, потом привязать к ней вторую и двигать дальше, пока снаружи останется только кончик, а тогда привязать третью таким же образом.
Как будто здесь нет ничего трудного, и это так и оказалось, ибо через пять минут я осуществил свое намерение — только несколько дюймов палки осталось снаружи.
Осторожно держа в руке кончик палки, я стал подталкивать ее вперед, пока не почувствовал, что противоположный конец уперся в стенку бочки как раз напротив отверстия. Тогда я сделал на линейке зарубку ножом. Сбросив с общей длины толщину стенки, я получу точный диаметр бочки. Затем так же осторожно я вынул из бочки по частям всю палку, тщательно замечая места, где планки были связаны, чтобы потом связать их снова в том же месте. Здесь нужна была особая точность, потому что ошибка в какую-нибудь четверть дюйма в диаметре могла повлечь за собой разницу во много галлонов в определении емкости сосуда. Поэтому мне следовало быть весьма аккуратным в цифрах.
Теперь у меня был диаметр конуса у основания, то есть диаметр самой широкой части бочки. Оставалось определить диаметр усеченной вершины конуса, или основания бочки. Это представляло меньше трудностей — просто никаких! Я закончил измерение в несколько секунд: просунул палку вдоль днища бочки, пока она не уперлась в край.
Надо было еще определить длину бочки. Казалось бы, ничего нет проще, а мне пришлось помучиться, пока я определил ее с достаточной точностью. Вы скажете, что для этого стоило лишь приложить палку параллельно бочке и сделать зарубку точно на уровне концов бочки. Вы забываете, что это было бы легко при дневном свете, а ведь кругом была темнота. Я не мог быть вполне уверен, что палка у меня проходит прямо, а не косо. Ошибиться даже на дюйм — а я мог ошибиться и на несколько дюймов, — значило спутать все расчеты и сделать их бесполезными. Озадаченный, я прекратил измерение и некоторое время бездействовал.
Надо прежде всего сделать еще одну палку из двух планок от ящика. Так я и поступил.
Затем я проделал следующее: старую палку просунул вдоль дна бочки так, что она оперлась на выступавшие над ним закраины. Таким образом, палка оказалась строго параллельна плоскости днища, и с моей стороны конец палки выступал приблизительно на фут. Вторую палку я направил вдоль бока бочки под прямым углом к первой и прижал ее к самой широкой части бочки. Теперь я мог отметить на второй палке то место, где она касалась самой широкой части бочки. Ясно, что это и была половина длины бочки, а две половины всегда составляют целое. Ошибки быть не может, так как прямой угол я установил весьма тщательно.
Теперь у меня были все данные. Оставалось сделать вывод.
Глава XXXI. «QUOD ERAT FACIENDUM"[56]
Найти кубическое содержание бочки и перевести его потом в меры емкости — в галлоны и кварты, — в сущности, не представляло никакого труда и требовало только несложных арифметических вычислений. Я был достаточно образованным математиком, чтобы произвести эти вычисления без пера, бумаги, грифельной доски или карандаша. Впрочем, если бы у меня и было все это, я все равно не смог бы писать в темноте. Я хорошо умел считать в уме и мог складывать и вычитать, умножать и делить ряды цифр без помощи пера и карандаша.
Я сказал, что определить содержимое бочки в кубических футах и дюймах простым вычислением не представляло труда. Но прежде чем подсчитывать, предстояло разрешить еще один важный вопрос. Мои измерения диаметров и высоты не были выражены в футах и дюймах. Я измерил бочку просто кусками дерева и отметил расстояние зарубками. Ведь я не знал, сколько мои зарубки обозначают футов и дюймов. Можно было прикинуть в уме, но от этого пользы мало: у меня все-таки не будет данных, пока я не измерю обе палки.
Казалось бы, тут я столкнулся с действительно непреодолимым препятствием. Принимая во внимание, что у меня нечем было мерить — ни линейки с делениями, ни складного фута, никакой шкалы для измерения, — вы очень просто заключите, что мне пришлось отказаться от этой задачи. Если взять за основу длину палки, я не получу никаких сведений о том, что меня интересует. Для того чтобы вычислить объем бочки в кубических мерах и в мерах жидких тел, я должен сначала узнать наименьший и наибольший диаметры и высоту, выраженные в общепринятых мерах длины, то есть в футах и дюймах или в любых делениях линейки.
Как же, спрашиваю я, узнать мне футы и дюймы, когда у меня нет никакой линейки? Никакой! И я не могу сделать ее, ибо для этого нужна другая линейка, с делениями. И, уж конечно, я не могу прикидывать длину в футах и дюймах на глаз. Что же делать?
«Очевидно, ничего, — скажете вы. — Невозможное остается невозможным».
Но я рассудил иначе.
Я уже раньше предвидел эту трудность и поразмыслил о том, как мне ее преодолеть. Все это было заранее продумано. Я уже знал, что могу измерить мои палки с точностью до одного дюйма.
Как же именно?
А вот как.
Я сказал, что у меня не было чем мерить, и это правда, если понимать мои слова буквально. Но я, я сам был тем, чем следовало мерить, — я сам был единицей измерения! Если помните, я еще на пристани измерил свой рост и установил, что во мне почти полных четыре фута. До чего кстати пришлось это измерение!
Теперь, зная, что во мне четыре фута, я могу отметить эту длину на палке, и таким образом у меня окажется четырехфутовая мера.
Я сделал это без промедления. Дело оказалось простым и легким. Я лег на пол, уперся ногами в один из шпангоутов и поместил жердь между ногами. Потом вытянулся во весь рост, стараясь, чтобы палка лежала параллельно оси моего тела и касалась середины лба. Я тщательно нащупал пальцами ту точку на палке, которая приходилась напротив моей макушки, и потом сделал там зарубку ножом. Теперь в моем распоряжении была линейка длиной в четыре фута.
Но самое сложное было еще впереди. С четырехфутовой линейкой я ненамного приблизился к своей цели. Я мог теперь измерить диаметры, но этого было недостаточно. Требовалось измерить их абсолютно точно. Я должен был определить их в дюймах, даже в долях дюйма, потому что, как я уже сказал раньше, ошибка при вычислении хотя бы на полдюйма привела бы к разнице в несколько галлонов. Как же разделить четырехфутовую палку на дюймы и нанести на нее эти дюймы? Как это сделать?
Казалось бы, чего проще! Половина моего роста, который я уже отметил, даст два фута; еще половина даст один фут. Сделав снова зарубку на половине, я получу меру в шесть дюймов. Потом я могу и этот отрезок разделить на три дюйма, а если понадобится еще меньшая мера, то разделить три дюйма на три части и получить искомый минимум — один дюйм.
Да, все это просто в теории, но как осуществить это на практике, на обыкновенной палке, в кромешной тьме? Как найти половину от четырех футов? А ее надо определить точно и потом делить и делить — вплоть до дюйма.
Сознаюсь, что я несколько минут сидел и думал, совершенно озадаченный.
Впрочем, это продолжалось недолго; скоро я нашел способ преодолеть и это препятствие. Ремешки от башмаков — вот что послужит мне линейкой!
Лучшего нельзя было и придумать. Это были полоски отличной сыромятной телячьей кожи — ими можно было мерить с точностью до восьмой части дюйма, не хуже чем линейкой из самшита или слоновой кости.
Одного ремешка мне не хватило бы — я взял оба и связал их прочным, тугим узлом. Получилась полоска кожи длиной больше четырех футов. Приложив ее к палке, я обрезал излишек, чтобы в ремешке стало ровно четыре фута. Я проверил длину ремешка несколько раз по палке, натягивая его изо всех сил, чтобы не получилось никаких перегибов и узлов.
Малейшая ошибка лишила бы точности всю мою будущую шкалу, хотя вообще легче разделить четыре фута на дюймы, чем, наоборот, сложить из дюймов четырехфутовую линейку. В первом случае при каждом делении ошибка уменьшается, а во втором непрерывно увеличивается.
Убедившись, что мера взята точно, я соединил концы ремешка вместе, придавил их пальцами и сложил на середине. Затем тщательно разрезал ремешок ножом и таким образом разделил его на две половины, каждая по два фута. Ту половину, где был узел, я отбросил, а оставшуюся половину опять разделил и разрезал на две части. Теперь у меня было два куска, каждый по одному футу.
Один из этих кусков я сложил втрое, придавил и разрезал. Это была очень тонкая операция, и тут потребовалась вся ловкость моих пальцев, потому что легче было разделить ремешок на две части, чем на три. Я порядочно провозился, пока наконец не достиг желаемого.
Моей целью было нарезать куски по четыре дюйма каждый, чтобы потом, сложив четырехдюймовый отрезок дважды, получить один дюйм.
Так я и сделал.
Для проверки я разрезал нетронутую половину ремешка на кусочки по дюйму и сравнил их с ранее сделанными.
Я с радостью убедился в том, что первые точно соответствуют вторым. Разницы не было и на волосок!
Теперь у меня была точная мера, которую, следовало нанести на палку. У меня были куски длиной в один фут, в четыре дюйма, в два дюйма и в один дюйм. С их помощью я нанес деления на палке, превратив ее в нечто подобное измерительному прибору торговца тканями.
Все это заняло порядочно времени, так как я работал весьма тщательно и осторожно. Но терпение мое вознаградилось: теперь в моем распоряжении была единица меры, на которую я мог положиться, проводя вычисление, от которого зависела моя жизнь или смерть.
Я больше не медлил с вычислением. Диаметры были высчитаны в футах и дюймах, и я взял их среднюю арифметическую. Эту цифру я перевел в квадратные меры обычным способом (умножил на восемь и разделил на десять).
Это дало мне площадь основания цилиндра, равную площади основания усеченного конуса той же высоты. Результат я умножил на длину бочки — и получил ее емкость в кубических дюймах.
Разделив последнюю цифру на шестьдесят девять, я получил количество кварт, а потом галлонов. Так я установил, что бочка вмещала немного больше сотни галлонов.
Глава XXXII. УЖАСЫ МРАКА
Результат моих вычислений оказался более чем удовлетворительным. Восьмидесяти галлонов воды, считая по полгаллона в день, хватит на сто шестьдесят дней, а если считать по кварте в день, то на триста двадцать — почти на целый год! Я мог вполне обойтись одной квартой в день — да ведь не могло же плавание продолжаться триста двадцать дней! Корабль мог обойти за меньший срок вокруг света, как мне говорили. Хорошо, что я это вспомнил, — теперь я совершенно перестал тревожиться относительно питья. Но все же я решил пить не больше кварты в день и уже не беспокоиться, что мне не хватит воды.
Большей опасностью был недостаток пищи, но, в общем, это меня мало пугало, так как я твердо решил соблюдать самую жесткую экономию. Итак, всякое беспокойство в отношении пищи и питья у меня исчезло. Ясно, что я не умру ни от жажды, ни от голода.
В таком настроении я находился несколько дней и, несмотря на скуку заточения, в котором каждый час казался целым днем, постепенно приспособился к новому образу жизни. Часто, чтобы убить время, я считал минуты и секунды, занимаясь этим странным делом по нескольку часов подряд.
У меня были с собой часы, подаренные матерью, и я любовно прислушивался к их бодрому тиканью. Мне казалось, что у них особенно громкий ход в моей тюрьме, да это и было так — звук усиливался, отражаясь от деревянных стен, ящиков и бочек. Я бережно заводил часы, боясь, как бы они случайно не остановились и не сбили меня со счета.
Я не очень интересовался тем, который час. В этом не было смысла. Я даже не думал о том, день сейчас или ночь. Все равно яркое солнце не могло послать ни лучика, чтобы рассеять мрак моей темницы. Впрочем, я все же знал, когда наступает ночь. Вы удивитесь, конечно, как мог я это знать, — я ведь не считал времени в продолжение первых ста часов с тех пор, как попал на корабль, и в полном мраке, окружавшем меня, невозможно было отличить день от ночи.
Однако я нашел способ — и вот в чем он заключался. Всю жизнь я ложился спать в определенный час, а именно в десять часов вечера, и вставал ровно в шесть утра. Таково было правило в доме моего отца и в доме моего дяди — особенно в последнем. Естественно, что, когда наступало десять часов, меня сразу начинало клонить ко сну. Привычка была так сильна, что не изменяла мне и в этой новой для меня обстановке. И когда мне хотелось спать, я заключал, что, должно быть, уже десять часов вечера. Я установил, что сплю около восьми часов и в шесть утра просыпаюсь. Таким образом мне удалось урегулировать часы. Я был уверен, что таким же способом я сумею отсчитывать сутки, но потом мне пришло в голову, что привычки мои могут измениться, и я стал аккуратно следить за часами
[57]. Я заводил их дважды в сутки — перед сном и при вставании утром — и не боялся, что они внезапно остановятся.
Я был рад, что могу отличить ночь ото дня, но, по существу, их смена немного или даже вовсе ничего для меня не означала. Важно было, однако, знать, когда кончаются сутки, ибо только так я мог следить за путешествием. Я внимательно считал часы, и, когда часовая стрелка дважды обегала циферблат, делал зарубку на палочке. Мой календарь велся с большой аккуратностью. Я сомневался только в первых днях после отплытия, когда не следил за временем. Я определил количество этих дней наугад как четыре. Впоследствии оказалось, что я не ошибся.
Так проводил я недели, дни, часы — долгие, скучные часы во мраке. Я был в подавленном состоянии духа, иногда совсем опускал голову, но никогда не отчаивался.
Странно сказать, сильнее всего я страдал теперь от отсутствия света. Сначала мне причиняло большие муки мое согнутое положение и необходимость спать на жестких дубовых досках, но потом я привык. Кроме того, я придумал, как сделать свое ложе помягче. Я уже говорил, что в ящике, который находился за моим продовольственным складом, лежало сукно, плотно скатанное в рулоны, в том виде, как оно выходит с фабрики. Я сразу сообразил, как устроиться поудобнее, и немедленно привел свою мысль в исполнение. Я убрал галеты, увеличил отверстие, которое ранее проделал в обоих ящиках, и с трудом выдернул штуку материи. Дальше работа пошла легче, и через два часа я изготовил себе ковер и мягкое ложе, тем более драгоценное, что оно было сделано из лучшего сорта материи. Я взял столько, сколько понадобилось, чтобы вовсе не чувствовать под собой дубовых досок. Затем я убрал галеты в ящик, иначе они загромождали помещение.
Расстелив свою дорогостоящую постель, я растянулся на ней и почувствовал себя гораздо уютнее, чем раньше.
Но с каждой минутой я все больше мечтал о свете. Трудно описать, что испытываешь в полной темноте! Только теперь я понял, почему подземная темница всегда считалась самым страшным наказанием для узника. Неудивительно, что люди становились седыми и самые чувства изменяли им при таких обстоятельствах, — ибо в самом деле темнота так невыносима, как будто свет является основой нашего существования.
Мне казалось, что, будь я заключен в светлом помещении, время прошло бы вдвое скорее. Казалось, темнота увеличивает каждый час вдвое и как будто что-то материальное удерживает колесики моих часов и движение времени. Бесформенный мрак! Мне казалось, что я страдаю только от него и что проблеск света меня мгновенно бы вылечил. Иногда мне вспоминалось, как я лежал больной, без сна, считая долгие, мрачные часы ночи и нетерпеливо дожидаясь утра. Так медленно и совсем не весело шло время.
Глава XXXIII. БУРЯ
Больше недели провел я в этом томительном однообразии. Единственный звук, который достигал моих ушей, был шум волн надо мной. Именно надо мной — потому что я знал, что нахожусь в глубине, ниже уровня воды. Изредка я различал другие звуки: глухой шум тяжелых предметов, передвигаемых по палубе. Несомненно, там что-то действительно передвигали. Иногда мне казалось, что я слышу звон колокола, зовущий людей на вахту, но в этом я не был уверен. Во всяком случае, звук казался таким далеким и неотчетливым, что я не мог определенно сказать, действительно ли это колокол. И слышал я этот звук только в самую тихую погоду.
Я прекрасно знал, какова погода снаружи. Я мог отличить небольшой ветер от свежего ветра и от бури, знал, когда они возникли и когда кончились, — совсем так, словно находился на палубе. Качка корабля, скрип его корпуса говорили мне о силе ветра и о том, какова погода — плохая или хорошая.
На шестой день — то есть на десятый с момента отплытия, но шестой по моему календарю — началась настоящая буря. Она продолжалась два дня и ночь. Вероятно, это был необычайно сильный шторм — он сотрясал крепления судна так, как будто собирался разнести их вдребезги. Временами я думал, что большой корабль действительно разлетится на куски. Огромные ящики и бочки со страшным треском колотились друг о друга и о стенки трюма. В промежутках было ясно слышно, как могучие валы обрушивались на корабль с таким ужасным грохотом, как будто по обшивке изо всех сил били тяжелым молотом или тараном.
Я не сомневался, что судно, того и гляди, пойдет ко дну. Можете себе представить, что я испытывал тогда! Нечего и говорить, как мне было страшно. Когда я думал о том, что корабль может опуститься на дно, а я, запертый в своей коробке, не имею возможности ни выплыть на поверхность, ни вообще пошевелиться, меня сковывал еще больший страх. Я уверен, что не так боялся бы бури, если бы находился на палубе.
К довершению бед, у меня снова начались приступы морской болезни — так всегда бывает с теми, кто впервые плавает по морю. Бурная погода сразу вызывает тошноту и слабость, и с той же силой, с какой она возникает обычно в первые двадцать четыре часа путешествия.
Это очень легко объяснить — качка корабля во время бури усиливается.
Почти сорок часов продолжалась буря, пока море не успокоилось. Я понял, что шторм миновал, — я больше не слышал гула волн, которым обычно сопровождается движение корабля по бурному морю. Но, несмотря на то что ветер прекратился, корабль все еще качался, балки скрипели, ящики и бочки двигались и ударялись друг о друга так же, как и раньше. Причиной этому была зыбь, которая постоянно следует за сильным штормом и которая не менее опасна для корабля, чем буря. Иногда при сильной зыби ломаются мачты и корабль валится набок — катастрофа, которой моряки очень боятся.
Зыбь постепенно стихла, а через двадцать четыре часа прекратилась совершенно.
Корабль скользил как будто еще более плавно, чем прежде. Тошнота моя также стала утихать, я почувствовал себя лучше и даже веселее. Но так как страх заставил меня бодрствовать все время, пока бушевала буря, да и болезнь не оставляла меня во все время свирепой качки, то теперь я был совершенно измучен и, как только все успокоилось, заснул глубоким сном.
Сны мои были почти так же мучительны, как явь. Мне снилось то, чего я боялся несколько часов назад: будто я тону именно так, как предполагал, — заключенный в трюме, без возможности выплыть. Больше того, мне снилось, что я уже утонул и лежу на дне моря, что я мертв, но при этом не потерял сознания. Наоборот, я все вижу и чувствую и, между прочим, замечаю отвратительных зеленых чудовищ, крабов или омаров, ползущих ко мне, чтобы ухватить меня своими громадными клешнями и растерзать мое тело.
Один из них привлек мое особое внимание — самый большой и страшный из всех.
Он ближе всех ко мне.
С каждой секундой он все приближается и приближается, и мне кажется, что он уже добрался до моей руки и взбирается по ней.
Я ощущаю холодное прикосновение чудовища, его неуклюжие клешни уже на моих пальцах, но я не могу пошевелить ни рукой, ни пальцем, чтобы сбросить его.
Вот краб вскарабкался на запястье, ползет по руке, которую я во сне откинул далеко от себя. Он, кажется, собирается вцепиться мне в лицо или горло. Я это чувствую по настойчивости, с которой он продвигается вперед, но, несмотря из весь свой ужас, ничего не могу сделать, чтобы отбросить чудовище. Я не могу пошевелить ни кистью, ни рукой, я не могу двинуть ни одним мускулом своего тела. Ведь я же утонул, я мертв! Ой! Краб у меня на груди, на горле… он сейчас вопьется в меня… ах!..
Я проснулся с воплем и выпрямился. Я бы вскочил на ноги, если бы для этого хватило места. Но места не было. Ударившись головой о дубовую балку, я пришел в себя.
Глава XXXIV. НОВАЯ ЧАШКА
Несмотря на то что все это было во сне и никакой краб не мог взобраться по моей руке, несмотря на то что я проснулся и знал, что это лишь сон, — я не мог отделаться от впечатления, что по мне действительно прополз краб или какое-то другое существо. Я все еще ощущал легкое жжение на руке и на груди — и та и другая были открыты, — жжение, которое мог бы произвести зверек с когтистыми лапками. И я не мог отбросить мысль, что все же здесь кто-то был.
Я был так убежден в этом, что, проснувшись, машинально протянул руку и стал ощупывать свое ложе, надеясь поймать какое-нибудь живое существо.
Спросонья я все еще думал, что это краб, но, придя в себя, понял нелепость такой догадки — здесь ведь не могло быть краба. Впрочем, почему же нет? Краб мог жить в трюме корабля — его занесли на борт случайно вместе с балластом, а может быть, его затащил сюда кто-нибудь из матросов для забавы. Потом его бросили на произвол судьбы, и он скрылся в многочисленных уголках и щелях, которых достаточно среди трюмных балок. Пищу он мог найти в трюмной воде, в мусоре, а может быть, крабы, как хамелеоны, могут питаться воздухом?
[58] Я размышлял так только несколько минут, после того как проснулся, но, поразмыслив, отбросил эти предположения. Крабов я мог видеть только во сне. Если бы не сон, я бы и не подумал об этих существах. Конечно, здесь нет никакого краба, иначе я поймал бы его: ведь я ощупал каждый дюйм постели и ничего не нашел. В мою каморку вели только две щели, через которые крупный краб мог бы пролезть или скрыться, но я сразу же проверил эти щели, как только проснулся. Такой медлительный путешественник, как краб, не мог бы убежать через них в столь короткий промежуток времени. Нет, здесь не могло быть краба. И все-таки здесь кто-то был, ибо кто-то карабкался по мне. Я был в этом уверен.
Некоторое время я еще раздумывал над своим сном, но скоро неприятное ощущение исчезло. Ничего удивительного, что мне приснилось именно то, о чем я все время думал, пока бушевала буря.
Ощупав часы, я увидел, что спал очень долго — мой сон продолжался около шестнадцати часов! Это произошло потому, что я бодрствовал все время, пока длилась буря, да тут еще причиной была морская болезнь.
Я испытывал сильный голод и не мог удержаться от искушения съесть больше, чем мне полагалось. Я уничтожил целых четыре галеты. Мне говорили, что морская болезнь порождает сильный аппетит, и я теперь убедился, что это правда. Я готов был сразу уничтожить весь свой запас. Съеденные мною четыре галеты насытили меня лишь отчасти. Только боязнь остаться без пищи удержала меня от соблазна съесть в три раза больше.
Меня одолевала также жажда, и я выпил гораздо больше полагающейся порции. Но водой я не так дорожил, рассчитывая, что мне с избытком хватит питья до конца путешествия. Одно только меня беспокоило: когда я пил воду, я очень много разбрызгивал и проливал. У меня не было никакого сосуда — я пил прямо из отверстия в бочке. К тому же это было неудобно. Я вынимал затычку, и сильная струя била мне прямо в рот. Но я не мог пить без конца, нужно было перевести дыхание, а в это время вода обливала лицо, платье, заливала всю каморку и уходила попусту, пока я всовывал затычку обратно.
Если бы у меня был сосуд, в который я мог бы налить воду, — чашка или что-нибудь в этом роде!
Сначала я подумал о башмаках, которые были не нужны. Но подобное применение обуви мне претило.
До того как я просверлил бочку, я не колеблясь напился бы из башмаков или из любого сосуда, но сейчас, когда воды имелось вдоволь, дело обстояло иначе. Может, все же вымыть начисто один из башмаков для этой цели? Лучше, конечно, потратить немного воды на мытье башмака, чем терять большое количество воды при каждом питье.
Я уже собирался привести этот план в исполнение, когда лучшая мысль пришла мне в голову — сделать чашку из куска сукна. Я заметил, что материя была непромокаемая, — по крайней мере, брызгавшая на мою постель из бочки вода не проходила насквозь: мне всегда приходилось стряхивать брызги с материи. Поэтому кусок ее, свернутый в виде чашки, вполне пригодится для моей цели. И я решил сделать такой сосуд.
Нужно было отрезать широкий кусок ножом и свернуть его в несколько слоев в виде воронки. Узкий конец я связал куском ремешка от башмаков — и у меня получилась чашка для питья, которая служила мне, как если бы она была из фарфора или стекла. Теперь я мог пить спокойно, не теряя ни капли драгоценной влаги, от которой зависела моя жизнь.
Глава XXXV. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
За завтраком я съел так много, что решил в этот день больше не есть, но, проголодавшись, не смог выполнить свое благое намерение. Около полудня я не выдержал, сунул руку в ящик и вытащил оттуда галету. Я решил, однако, съесть на обед только половину, а другую оставить на ужин.
Поэтому я разделил галету на две части: одну отложил, а вторую съел и запил водой.
Вам, может быть, кажется странным, что мне ни разу не пришла в голову мысль прибавить к воде несколько капель бренди. Ведь я мог пить его сколько угодно: здесь его было не меньше ста галлонов. Но для меня в этом не было никакого прока. С таким же успехом бочонок мог быть наполнен серной кислотой. Я не касался бренди, во-первых, потому, что не любил его; во-вторых, потому, что мне от него становилось плохо и начинало тошнить — вероятно, это было бренди самого низкого сорта, предназначенное не для продажи, а для раздачи матросам (с кораблями часто отправляют самое плохое бренди и ром для команды); в-третьих, потому, что я уже пробовал это бренди: я выпил около рюмки и моментально почувствовал сильнейшую жажду. Мне пришлось выпить почти полгаллона воды, чтобы утолить ее, и я решил в будущем воздержаться от алкоголя — я хотел сохранить побольше воды.
По моим часам уже наступало время ложиться спать. Я решил съесть вторую половину галеты, оставленную на ужин, и после этого «отправиться на покой».
Приготовления ко сну заключались в том, что я менял положение на шерстяной подстилке и натягивал на себя один-два слоя материи, чтобы не закоченеть ночью.
Всю первую неделю после отплытия я сильно зяб. Я не страдал от холода с тех пор, как нашел сукно, — я закутывался в него с головой. Однако с некоторого времени ночи становились все теплее. После бури я вовсе перестал покрываться материей: ночью было так же тепло, как днем.
Сначала меня удивляла эта быстрая перемена в состоянии атмосферы, но, поразмыслив немного, я оказался в состоянии удовлетворительно объяснить это явление. «Без сомнения, — думал я, — мы все время плывем на юг и входим теперь в жаркие широты тропической зоны».
Я не совсем понимал, что это означает, но слышал, что тропическая зона — или просто «тропики» — лежит к югу от Англии, что там гораздо жарче, чем в самую жаркую летнюю погоду в Англии. Я знал, что Перу расположено в Южном полушарии и что нам надо пересечь экватор, чтобы попасть туда.
Это было хорошим объяснением того, почему так потеплело. Корабль шел уже около двух недель. Считая, что он делает по двести миль в день (а корабли, как я знал, часто делают и больше), он должен был уже далеко уйти от Англии, и климат, конечно, изменился.
В этих размышлениях я провел всю вторую половину дня и весь вечер и в десять часов решил, как уже говорил раньше, съесть вторую половину галеты и отправиться спать.
Сначала я выпил чашку воды, чтобы не есть всухомятку, потом протянул руку за сухарем. Я точно знал, где он лежит, потому что, поместив рулон сукна у шпангоута, я устроил себе нечто вроде полки, где держал нож, чашку и деревянный календарь. Я положил туда половину галеты и, конечно, мог найти это место рукой в темноте так же легко, как и при свете. Я так хорошо изучил каждый уголок и каждую щелку своего убежища, что мог в темноте безошибочно определить любое место размером с монету в пять шиллингов.
Я протянул руку, чтобы достать драгоценный кусочек. Вообразите мое удивление, когда, ощупав место, где полагалось лежать галете, я убедился в том, что ее там нет!
Сначала мне показалось, что я ошибся. Может быть, я положил оставшуюся половину галеты не на обычное место на полке? Тогда, конечно, ее там не может быть.
Чашку с водой я держал в руке, нож был на месте, а также палочка с зарубками и кусочки ремешков, которыми я мерил бочку, но половина галеты исчезла!
Куда же я мог ее положить? Кажется, больше некуда. Для верности я ощупал весь пол моей камеры, все складки и изгибы материи и даже карманы куртки и штанов. Я пошарил и в башмаках — не имея в них никакой нужды, я снял их, и они валялись в углу. Я не оставил не обследованным ни одного дюйма в помещении, обшарив все тщательнейшим образом, но так и не нашел половинки галеты!
Я искал ее так усердно не потому, что это была ценная вещь, но исчезновение ее с полки было странно, настолько странно, что над этим стоило призадуматься.
Может быть, я съел ее?
Предположим, что так. Может быть, в припадке рассеянности я взял галету, стал ее грызть и уничтожил, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Во всяком случае, у меня не осталось никаких воспоминаний о еде, с тех пор как я съел первую половинку. А если я все же проглотил и вторую, она не принесла мне пользы: я не чувствовал сытости, и мой желудок ничего не выиграл — я был голоден, как будто не прикасался к пище весь день.
Я отчетливо помнил, что положил кусок галеты рядом с ножом и чашкой. Почему он переменил место, если я его не брал оттуда? Я не мог случайно задеть его и сбросить вниз, потому что не делал никаких движений в том направлении. Но где-то он есть? Он не мог завалиться в щель под бочкой, потому что щель плотно забита материей. Я это сделал, чтобы выровнять поверхность, на которой лежал.
Так я и не нашел пропавшую галету. Она исчезла — либо в моем собственном горле, либо еще как-нибудь. Но если я съел ее, то жаль, что сделал это бессознательно, потому что не получил никакого удовольствия от еды.
Долго я колебался, взять ли мне другую галету из ящика или отправиться спать без ужина. Страх перед будущим заставил меня воздержаться от еды. Итак, я выпил холодной воды, положил чашку на полку и устроился на ночь.
Глава XXXVI. ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПРИШЕЛЕЦ
Я долго не спал и лежал, думая о таинственном исчезновении половины галеты. Я говорю: «таинственном», потому что в глубине души был убежден, что не ел ее, что она исчезла другим путем. Но каким именно, я не мог даже представить себе, ибо я был совершенно один. Я был единственным живым существом в трюме, и больше некому было дотронуться до еды. И вдруг я вспомнил свой сон о крабе! Может статься, это все-таки был краб? Конечно, утонул я во сне, но остальное могло быть и явью и по мне, может быть, в самом деле прополз краб? Неужели он съел галету? Я знал, что крабы обычно не едят хлеба. Но запертый в корабельном трюме, изголодавшийся краб мог съесть и галету. В конце концов, может, это действительно был краб?
То ли от этих мыслей, то ли из-за голодного урчанья в желудке я не спал несколько часов. Наконец я заснул, вернее — погрузился в дремоту, и каждые две-три минуты просыпался снова.
В один из таких промежутков мне показалось, что я слышу необычный шум. Корабль шел плавно, и я сразу отличил этот звук от мягкого плеска волн. Кстати, в последнее время волны плескались настолько тихо, что стук моих часов перекрывал их.
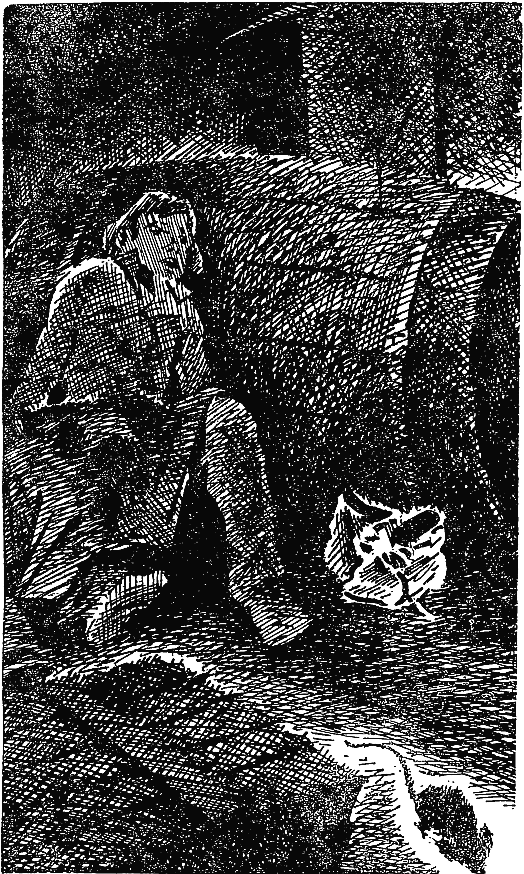
Новый звук, привлекший мое внимание, походил на легкое царапанье. Он доносился из угла, в котором валялись ненужные мне башмаки. Что-то скреблось у меня в башмаках!
«Ну, это и есть краб!» — сказал я самому себе. Сон окончательно покинул меня. Я лежал, настороженно прислушиваясь и готовясь схватить рукой вора, ибо теперь был уже уверен в том, что краб или не краб, но существо, которое скреблось у меня в башмаках, и есть похититель моего ужина.
Я опять услышал царапанье. Да, конечно, это в башмаках. Я приподнялся медленно и тихо, так, чтобы схватить башмак одним движением, и в этом положении стал ждать, когда звук повторится.
Я прождал порядочное время, но ничего не услышал. Тогда я ощупал башмаки и все пространство вокруг них — ничего! Казалось, башмаки лежат точно так, как я их сам положил. Я обследовал весь пол моей каморки, но с тем же результатом. Здесь решительно ничто не переменилось.
Я был в полном недоумении и довольно долго лежал прислушиваясь, но таинственный шум не повторялся. Сон постепенно овладевал мной, и я снова задремал, ежеминутно просыпаясь.
Вдруг раздался снова тот же звук. Я опять насторожился. Несомненно, кто-то скребется в башмаках. Но как только я бросился к ним, звук мгновенно прекратился, словно я напугал того, кто в них царапался. И опять я шарил везде и ничего не мог найти!
«Ага! — бормотал я. — Теперь я знаю, кто это! Вовсе не краб — краб не сумел бы так быстро выскочить из башмака. Это мышь. Только и всего». Странно, что я не подумал об этом раньше! Приди это сразу мне в голову, я бы не беспокоился. Это всего-навсего мышь. Если бы не сон, я и не подумал бы о крабе.
Я снова улегся с намерением заснуть и больше не тревожиться о мыши.
Не успел я лечь, как царапанье в углу возобновилось, и я подумал, что мышь, чего доброго, основательно испортит башмаки. Хотя здесь они были мне вовсе не нужны, я все-таки не мог допустить, чтобы их сгрызла мышь. Поднявшись, я рванулся вперед, чтобы схватить ее. Снова никакого результата.
Я даже не дотронулся до зверька, но мне показалось, что я слышу, как он удирает в щель между бочкой с бренди и бортом корабля.
Взяв в руки башмаки, я с огорчением убедился, что передок одного из них совершенно съеден. Странно, что мышь могла так много уничтожить, да еще в такой короткий срок! Ведь я совсем недавно держал в руках эти башмаки. Может быть, здесь действовали несколько мышей? Похоже на то.
Чтобы спасти обувь от окончательной гибели и избавить себя от новых волнений, я взял башмаки из угла, положил их рядом с собой и накрыл сверху слоем материи. Сделав это, я опять улегся спать.
Я дремал недолго и снова проснулся, на этот раз от явного ощущения, что по мне что-то ползет. Мне почудилось, что какое-то существо очень быстро пронеслось у меня по ногам.
Теперь сон меня уже совершенно покинул. Однако я не шевелился, а лежал и ждал, не повторится ли это снова.
«Конечно, — решил я, — это и есть мышь, и теперь она бегает кругом в поисках башмаков». Мне начинало надоедать это вторжение. Гнаться за мышью не было никакого смысла, потому что она убежит в щель, как только я пошевельнусь. Я решил лежать спокойно, дождаться, пока она взберется на меня, и тогда схватить се. Я не хотел убивать это маленькое существо, а намеревался только хорошенько прижать его или отодрать за ухо, чтобы оно не беспокоило меня больше.
Мне пришлось долго лежать, ничего не слыша и не чувствуя. Наконец мое терпение было вознаграждено. По слабому движению в складках материи, заменявшей мне одеяло, я убедился, что по ней что-то бегает, и мне показалось даже, что я различаю топанье маленьких лапок. Вот снова зашевелилась материя, и я ясно почувствовал, что какое-то существо взбирается по моей лодыжке и поднимается к бедру. Оно казалось слишком тяжелым для мыши, но у меня не было времени размышлять об этом — надо было его хватать сейчас же!
Я протянул руку, растопырив пальцы, но… о ужас!..
Вместо нежной, маленькой мышки рука моя сжала туловище животного ростом почти с котенка! Сомнений быть не могло — это была огромная, страшная крыса!
Глава XXXVII. РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫСАХ
Безобразное животное сразу проявило себя. Лишь только мои пальцы коснулись его гладкой шерсти, я почувствовал, что это крыса, — почувствовал дважды, ибо, прежде чем успел отдернуть руку, так безрассудно протянутую к ней, ее острые зубы глубоко прокусили мне большой палец. В то же мгновение в ушах у меня прозвучал угрожающий визг.
Я поскорее отнял руку и отскочил в самый дальний конец каморки, как можно дальше от моего неприятного гостя, и там скорчился, дожидаясь, когда уйдет отвратительное животное.
Все затихло, и я решил, что крыса скрылась в другую часть корабля. Наверно, она испугалась не меньше меня. Хотя вряд ли. Из нас двоих я был, конечно, напуган больше. Это доказывалось уже тем, что она сохранила достаточно сообразительности, чтобы укусить меня за палец, перед тем как пуститься в бегство, в то время как я потерял всякое присутствие духа.
Из этой короткой встречи мой противник вышел победителем, потому что, испугав меня, нанес мне вдобавок тяжелую и болезненную рану. Палец мой кровоточил. Я чувствовал, что кровь струится по всей руке так, что слипаются кончики пальцев.
Я бы мог отнестись к этому с полным спокойствием: что такое, в конце концов, укус крысы? Но дело было не только в этом. Меня тревожил вопрос: ушел ли мой враг совсем или он неподалеку и может еще вернуться?
Мысль, что крыса может вернуться — да еще осмелевшая, оставшаяся без наказания, — наполняла меня беспокойством.
Вы удивляетесь? Но я всю жизнь испытывал отвращение к крысам, даже, правду сказать, страх перед ними. В детстве это отвращение было у меня особенно сильно, но и позже, хотя мне впоследствии пришлось встречаться и сражаться с более опасными животными, ни одно из них не внушало мне такого страха, как обыкновенная вездесущая крыса. Страх здесь смешивается с отвращением, и неспроста, потому что я знаю множество достоверных случаев, когда крысы нападали на людей — и не только на детей, но и на взрослых мужчин, особенно на раненых и больных. Люди погибали от крысиных укусов, и эти отталкивающие всеядные животные пожирали потом трупы.
Мне много приходилось слышать таких историй в детстве — естественно, что в тот момент я вспомнил о них. Воспоминания эти нагнали на меня страх, граничащий с ужасом. А эта крыса оказалась одной из самых крупных, каких я когда-либо встречал. Она была так велика, что я поначалу с трудом мог поверить, что это крыса. На ощупь она была ростом с молодую кошку. Немного успокоившись, я замотал большой палец тряпицей, оторванной от рубашки. За пять минут боль в пальце стала ужасной — ведь крысиный укус почти так же ядовит, как укус скорпиона, — и хотя рана была не так уж велика, я знал, что она причинит мне сильные страдания.
Нечего говорить, что последние остатки сна у меня исчезли надолго. По существу, я не спал до утра, а потом каждую минуту просыпался от кошмарных сновидений. Мне снилось, что не то крыса, не то краб хватает меня за горло…
Долго я лежал и прислушивался, не вернется ли зверь, но до конца ночи не заметил ни малейших следов его присутствия.
Должно быть, я основательно помял крысу, ибо накинулся на нее со всей силой, — и это напугало ее так, что она не осмелилась явиться снова. Я утешал себя этой надеждой, в противном случае мне бы долго не удалось заснуть.
Конечно, теперь я понял, куда делась половина галеты и кто привел в негодность мои башмаки. Их не мог так испортить более слабый сородич крысы — мышь. Крыса, значит, уже давно бегала вокруг меня, а я ее и не замечал.
В течение многих часов, которые я пролежал прислушиваясь, перед тем как заснуть, одна мысль занимала мой мозг: что делать, если крыса вернется? Как ее уничтожить или, по крайней мере, как избавиться от непрошеного гостя? Я отдал бы в то время год жизни за стальной или вообще за любой капкан, которым можно поймать крысу. Но раздобыть такой капкан было невозможно, и я стал изобретать другой способ избавиться от неприятного соседа. Я имел полное право называть крысу соседом, потому что знал, что жилище ее недалеко и что в эту минуту она возится где-то на расстоянии трех футов от моего лица — скорее всего, под ящиком с галетами или под бочкой с бренди.
Долго я напрягал мозг, но не мог придумать, как бы изловить крысу, не подвергая себя опасности. Конечно, если она приблизится ко мне, можно схватить ее руками, как я это сделал раньше. Но у меня не было охоты повторять уже проделанный опыт. Я знал, через какую щель она проникает ко мне, — через промежуток между двумя бочками: с водой и с бренди.
Я предполагал, что если она вернется, то прежним путем. Что, если все отверстия, кроме одного, заткнуть кусками материи, потом впустить крысу и сразу же отрезать ей отступление, заткнув и последнее отверстие? Таким образом, она окажется в западне. Но я и сам попаду в нелепое положение. Я тоже окажусь в западне, и при этом враг вовсе не будет уничтожен, пока я не покончу с ним в рукопашной схватке. Конечно, я смогу победить и убить крысу: все-таки я сильнее и в состоянии задушить ее руками, но при этом, конечно, получу порядочное количество серьезных укусов, а с меня и одного уже было достаточно, чтобы не желать подобного поединка.
Как обойтись без капкана? Наступило уже утро, когда, усталый от планов и предположений, я впал в полудремотное состояние, так ничего и не придумав, как избавиться от проклятой твари, причинившей мне столько беспокойства и тревоги.
Глава XXXVIII. ВСЁ ЗА КРЫСОЛОВКУ!
Несколько часов я либо дремал, либо спал урывками, но потом проснулся и уже больше не мог спать, вспоминая о большой крысе. Да и боли в пальце было достаточно, чтобы разбудить меня. Не только большой палец, но и вся рука опухла и сильно болела. У меня не было никаких лекарств — оставалось только терпеть. Я знал, что воспаление скоро пройдет и мне станет легче, и крепился изо всех сил. Но малые беды отступают перед большими. Так было и со мной. Страх перед возвращением крысы беспокоил меня гораздо больше, чем рана. Все мое внимание было поглощено крысой, и я почти забывал о боли в пальце.
Не успел я проснуться, как мысли мои снова обратились к тому, чтобы так или иначе поймать моего мучителя. Я был уверен в том, что крыса вернется, потому что замечал новые следы ее присутствия. Погода все еще была тихая, и я отчетливо слышал случайные звуки — что-то вроде топота маленьких лапок по крышке пустого ящика. Раза два до меня донесся короткий, резкий звук, похожий на треск сверчка, — характерный писк крысы. Нет ничего противнее крысиного писка, а в тот момент он казался мне вдвойне противным. Вы смеетесь над моими ребячьими страхами, но я ничего не мог поделать с собой. Я не мог побороть неприятное предчувствие, что соседство крысы угрожает моей жизни, и, как вы потом убедитесь, мое предчувствие почти оправдалось.
Я боялся, что крыса нападет на меня, когда я буду спать. Пока я бодрствую, она мне не страшна. Она может меня укусить, как это уже случилось, но в этом большой беды нет: я как-нибудь уничтожу ее. Но что, если я засну крепко и это гнусное существо вопьется мне зубами в горло? Вот что заставляло меня мучиться! Я не могу спокойно заснуть, пока крыса не будет уничтожена, поэтому необходимо ее уничтожить поскорее.
Сколько ни думал, я не мог придумать ничего другого, как поймать ее руками и задушить. Для этого надо схватить крысу так, чтобы пальцы пришлись как раз вокруг ее горла. Тогда она не сможет вонзить мне зубы в руку, а остальное уже будет просто. Но в этом и заключалась главная трудность. Ведь хватать крысу придется в темноте, наугад, и она, конечно, воспользуется преимуществом своего положения. Больше того, палец мой в таком состоянии, что я вряд ли смогу удержать крысу рукой — раненый палец был на правой руке, — а не то что задушить ее насмерть. Я соображал, как мне защитить пальцы от ее зубов. Хорошо, если бы у меня была пара толстых перчаток!
Но их не было, и думать о них было напрасно…
Нет, не напрасно! Мысль о перчатках навела меня на новую идею — заменить их чем-нибудь другим. И это «другое» у меня имелось — мои башмаки. Надо всунуть кисти рук в башмаки и, предохранив себя таким способом от острых зубов крысы, давить ее между подошвами, пока она не испустит дух. Прекрасная идея! Я немедленно приступил к ее осуществлению.
Положив башмаки наготове, я притаился возле щели, через которую могла войти крыса. Все другие отверстия я тщательно заткнул и твердо решил, пропустив крысу внутрь моей каморки, заткнуть курткой и последнюю щель. Таким образом крыса окажется в моей власти. Тогда мне останется только надеть «перчатки» и приняться за дело.
Казалось, что или крыса сознательно поспешила принять мой вызов, или сама судьба обратилась против нее.
Только что я привел в порядок свой дом для «приема гостя», как топот лапок по материи и легкий писк дали мне знать, что крыса прошла через щель и уже находится внутри. Я хорошо слышал, как она бегает кругом, пока забивал отверстие курткой. Раза два она пробежала у меня по ногам. Но я не обращал внимания на ее движения, пока не сделал все, чтобы отрезать ей отступление. Затем я всунул pyки в башмаки и начал разыскивать врага.
Я так хорошо изучил все места в моей каморке и так точно знал каждый уголок, что мне не пришлось долго искать. Я поступал так: поднимал башмаки и опускал их снова, ударяя каждый раз по другому месту. Если удастся захватить хотя бы часть тела крысы, я смогу удержать ее и потом сдавить обоими башмаками. Останется только жать изо всех сил. Таково было мое намерение, но, несмотря на всю мою изобретательность, мне не удалось его осуществить. Дело кончилось совсем по-другому.
Я действительно придавил зверька одним башмаком, но мягкая материя, на которой все это происходило, подалась под нажимом, прогнулась, и крыса, визжа, тут же выскользнула. В следующее мгновение я почувствовал, как она карабкается мне на ногу и забирается под штанину.
Дрожь ужаса пробежала по моему телу, но я уже был разгорячен поединком и, отбросив башмаки, которые больше не были нужны, ухватил крысу в тот момент, когда она подобралась к моему колену. Я держал ее крепко, хотя она сопротивлялась с поистине удивительной силой и ее громкий визг страшно было слышать.
Я сжимал ее изо всех сил, даже не чувствуя боли в большом пальце. Материя штанины предохраняла от укусов мои пальцы, но я не обошелся без ран, потому что мерзкое животное впилось мне в тело и сжимало зубы до тех пор, пока в состоянии было двигаться. Только когда мне удалось схватить крысу за горло и задушить насмерть, зубы ее разжались, и я понял, что прикончил врага.
Я отпустил тело крысы и вытряхнул его из штанов, безжизненное и неподвижное. Вынув куртку из отверстия, я выбросил мертвую крысу туда, откуда она пришла.
Я почувствовал громадное облегчение. Теперь, когда я был уверен, что «госпожа крыса» больше не станет меня беспокоить, я улегся спать, решив отоспаться за все время, которое потерял ночью.
Глава XXXIX. ВРАЖЕСКАЯ СТАЯ
Моя уверенность в безопасности оказалась ошибочной. Не проспал я и четверти часа, как вдруг проснулся оттого, что мне показалось, будто что-то пробежало у меня по груди. Другая крыса? Во всяком случае, нечто весьма на нее похожее.
Несколько минут я лежал без движения и внимательно прислушивался. Но ничего не было слышно. Неужели мне приснилось, что кто-то по мне бегает? Нет! Только я подумал об этом, как снова услышал топот маленьких лапок по мягкой материи.
И верно: я тут же почувствовал эти лапки у себя на бедре.
Стремительно приподнявшись, я протянул руку. Ужас снова объял меня — я притронулся к огромной крысе, которая тут же отпрыгнула. Я слышал, как она пробирается в щель между бочками.
Но это не могла быть та крыса, которую я только что выбросил. Нет! Кошка может ожить после того, как ее уже считаешь мертвой, но я никогда не слышал, чтобы крысы обладали такой необыкновенной живучестью. Я был уверен, что убил крысу. Когда я выбрасывал ее, она была несомненно трупом. Конечно, это другая крыса!
Но, несмотря на всю нелепость такого предположения, я сквозь сон продолжал думать, что это та же самая крыса и она пришла мстить. Однако, проснувшись окончательно, я отбросил эту мысль. Нет, это не та крыса. Скорее всего, это ее подружка, размерами не уступающая первой, как я это заметил, когда притронулся к ней. Ну да, это самка, и она разыскивает самца, которого я убил. Но она проникла ко мне через ту же щель и, значит, видела мертвую крысу. Не собирается ли она отомстить за смерть супруга?
Сна опять как не бывало. Как мог я уснуть, зная, что рядом разгуливает отвратительное животное, которое пришло, быть может, с намерением напасть на меня!
При всей усталости я не мог позволить себе лечь спать, пока не разделаюсь с новым врагом.
Я был уверен, что крыса скоро вернется. Ведь я только дотронулся до нее, не причинив ей никакого вреда. Разумеется, она придет обратно.
Убежденный в этом, я занял прежнее положение около щели, держа куртку в руках. Приложив ухо к отверстию, я стал внимательно слушать.
Через несколько минут я вполне ясно услышал писк крысы снаружи и еще какие-то непонятные мне звуки.
Мне пришло в голову, что это какая-нибудь доска трется о пустой ящик, — такое маленькое животное едва ли могло само произвести столько шума. Шум продолжался, и я уже решил было, что крыса вошла в мою камеру, хотя звуки все-таки доносились снаружи. Значит, животное еще не внутри…
Еще раз мне показалось, что крыса прошла мимо меня, но я снова услышал писк снаружи. Опять и опять мне все чудилось, что я не один в камере, но все же я не решался заткнуть щель, боясь ошибки.
Наконец резкий писк раздался справа от меня, определенно внутри помещения. Я немедленно плотно заткнул курткой отверстие.
Я стал искать крысу, из осторожности предварительно засунув руки в башмаки. Я принял еще другую меру предосторожности ради собственной безопасности: привязал обе штанины к лодыжкам, чтобы крыса не поступила так, как ее предшественница.
Приготовившись, я стал исследовать пространство вокруг себя.
У меня не было ни малейшего желания встречаться с крысой, но я твердо решил избавиться от докуки и поспать хоть немного без помех. А это возможно только в том случае, если я убью крысу так же, как убил ее товарища.
Итак, я снова взялся за дело. Но какой ужас! Представьте себе мой безумный страх, когда я обнаружил, что вместо одной крысы у меня в помещении находится целая стая этих омерзительных существ! Тут не одна крыса, а около десятка! Они кишели повсюду, и я не мог опустить башмак, чтобы не ударить по одной из них. Они бегали вокруг меня, проносились по ногам, прыгали на руки, испуская свирепый писк, как бы угрожая мне!
По правде сказать, я был напуган почти до обморока. Я уже не думал о том, чтобы их убить. Я толком не знал даже, что делаю. Помню, что у меня хватило присутствия духа схватить куртку и вытащить ее из отверстия. Я принялся хлопать ею по полу вокруг себя, крича изо всех сил.
Мои крики и отчаянные движения произвели нужный эффект.
Я слышал, как крысы отступают в щель. И когда через несколько минут я ощупал руками пол моего убежища, я с радостью убедился, что оно пусто и все крысы ушли.
Глава XL. НОРВЕЖСКАЯ КРЫСА
Если одна крыса могла причинить мне столько мучений, то можете себе представить, как приятно сознавать, что их здесь, по соседству, целая армия! Их, вероятно, было гораздо больше, чем то количество, которое я только что обратил в бегство, потому что, затыкая курткой отверстие, я слышал писк и шорох снаружи. Наверняка здесь были десятки крыс. Я знал, что эти вредители кишат на многих кораблях, находя себе надежное убежище в многочисленных щелях между балками трюма. Я слышал также, что корабельные крысы самые свирепые. Понуждаемые голодом, они часто не останавливаются и перед тем, чтобы напасть на живые существа, не боясь даже кошек и собак. Они наносят большие повреждения грузам и причиняют много беспокойства на судах, особенно если корабль недостаточно хорошо осмотрен, заделан и очищен перед погрузкой и отправлением в рейс. Эти судовые крысы известны под именем «норвежских крыс», так как существует поверье, что они явились в Англию впервые на норвежских судах. Норвегия их родина
[59] или другая страна, это не имеет большого значения, потому что они распространены по всему земному шару. Я полагаю, что в любой части земли, где когда-либо приставали корабли, обязательно есть и норвежские крысы. Если они действительно вышли из Норвегии, то они хорошо приспособились ко всем климатам, потому что особенно изобилуют и процветают в тропиках Америки. Портовые города Вест-Индии и континенты Северной и Южной Америки кишат ими. В некоторых местах они причиняют такой вред, что городские власти назначили специальную «крысиную» премию за их уничтожение. Но, несмотря на это, они продолжают существовать в неизмеримых количествах, и деревянные причалы американских портов являются для них настоящими «тихими пристанями».
Норвежские крысы, в общем, не очень велики. Крупные экземпляры встречаются среди них в виде исключения. Дело тут не в размерах, а в свирепости и вредоносности, а также в огромной плодовитости, которая делает их необыкновенно многочисленными и опасными. Замечено, что в тех местах, где они появляются, в течение нескольких лет исчезают все другие виды крыс; предполагают, что норвежские крысы уничтожают своих более слабых собратьев. Они не боятся и ласок. Если они уступают последним в силе, зато превосходят их в количестве, — в жарких странах они превосходят своих врагов в отношении ста к одному. Даже кошки их боятся. Во многих странах кошка уклонится от встречи с норвежской крысой, предпочитая в качестве добычи жертву менее свирепого нрава. Даже большие собаки, кроме породы крысоловов, считают благоразумным избегать их.
У норвежских крыс есть странная особенность: они как будто чувствуют, когда сила на их стороне. Когда их мало и им угрожает опасность быть уничтоженными, они ведут себя смирно; но в тех странах, где им удалось расплодиться, они наглеют от безнаказанности и не боятся даже присутствия человека. В морских портах тропических стран они почти не прячутся, и в лунные ночи огромные стада крыс совершенно спокойно бегают повсюду, даже не пытаясь свернуть в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему. В лучшем случае они чуть посторонятся, чтобы затем прошмыгнуть у самых ваших каблуков. Вот каковы норвежские крысы!
Всего этого я не знал, когда начались мои приключения с крысами на корабле «Инка». Но и того, что я слышал от матросов, было совершенно достаточно, чтобы я чувствовал себя очень тревожно в присутствии такого большого количества этих опасных животных. Прогнав их из своей каморки, я отнюдь не успокоился. Я почти наверное знал, что они вернутся и, возможно, в еще большем количестве. Они будут все больше страдать от голода и, следовательно, будут становиться все свирепее и наглее, пока не осмелеют настолько, что нападут на меня. По-видимому, они не очень меня испугались. Хотя я и прогнал их криками, но они скреблись и пищали где-то по соседству. Что, если они уже голодны и замышляют новую атаку на меня? Судя по тому, что я о них слышал, в этом не было ничего невероятного.
Не стоит, пожалуй, и говорить, что одно представление о такой возможности вселяло в меня тревогу. Мысль, что я буду убит и растерзан этими ужасными существами, внушала мне еще больший страх, чем тот, когда я думал, что утону. Собственно говоря, я предпочел бы утонуть, чем умереть таким образом. Когда я на секунду представил себе, что меня ждет такая судьба, кровь похолодела в моих венах и волосы, казалось, зашевелились на голове.
Не зная, что предпринять, я несколько минут сидел — вернее, стоял на коленях, ибо не поднялся с колен с тех пор, как защищался от крыс, размахивая курткой. Мне все еще казалось, что у крыс не хватит смелости приблизиться ко мне, пока я на ногах и могу защищаться. Но что будет, когда я лягу спать? Они, конечно, осмелеют, и, когда им удастся запустить зубы мне в тело, они уподобятся тиграм, которые, отведав крови, не успокоятся, пока не уничтожат свою жертву. Нет, я не должен спать!
Но и вечно бодрствовать я тоже не в состоянии. В конце концов сон одолеет меня, и я не смогу ему противиться. Чем больше я буду бороться с ним, тем крепче я буду спать потом. И наконец я впаду в такое глубокое забытье, от которого, может быть, никогда не проснусь. Это будет страшный кошмар, который лишит меня способности двигаться и сделает легкой добычей для окружающих меня прожорливых чудовищ.
Некоторое время я мучился этими опасениями, но скоро меня осенила новая идея, и я несколько воспрянул духом. Надо снова заткнуть курткой щель, через которую проникали крысы. Так я надолго от них избавлюсь.
Это был очень простой способ преодолеть трудность. Без сомнения, он пришел бы мне в голову и раньше, но тогда я думал, что крыс всего две, и с ними я рассчитывал справиться по-другому. Теперь, однако, положение изменилось. Уничтожить всех крыс в трюме корабля — слишком сложная задача, это было просто невозможно. И я перестал об этом думать. Лучшим был мой последний план: закрыть главное отверстие и все другие, через которые может пролезть крыса, и таким путем обезопасить себя от вторжения врага.
Не медля ни минуты, я законопатил щель курткой. Удивляясь, как я не подумал об этом раньше, я улегся в полной уверенности, что теперь могу спать спокойно и сколько захочется.
Глава XLI. СОН И ЯВЬ
Я так устал от страхов и бессонницы, что едва опустился на свою постель, как перенесся в страну снов. Вернее, не в страну, а в море снов, потому что мне опять приснилось море. И, как и раньше, я лежал на дне, окруженный чудовищами, похожими на крабов, которые готовились меня проглотить.
Мало-помалу эти чудовища превращались в крыс. И тогда мой сон стал походить на явь. Мне снилось, что крысы собрались вокруг меня в огромном количестве и угрожают мне со всех сторон. У меня ничего нет для защиты, кроме куртки, и я размахиваю ею изо всех сил. А они становятся все смелее и смелее, видя, как мало ущерба я причиняю им этим оружием. Одна огромная крыса, больше всех остальных, ведет их в атаку. Это не настоящая крыса, а призрак той, которую я убил.
Таково было сновидение…
Я долго не подпускаю к себе противника. Но вот силы оставляют меня. Если не придет помощь, крысы одолеют. Я оглядываюсь, громко зову на помощь, но никто меня не слышит.
Враги заметили наконец, что силы мои иссякают. По знаку своего вожака они бросились на меня одновременно. Они напали на меня спереди, сзади, с боков, и, хотя я сыпал удары во все стороны в последнем, отчаянном усилии, все это было бесцельно. Я отбрасывал их дюжинами, швырял их одна на другую, но на смену упавшим приходили новые.
Больше я не мог сражаться. Сопротивление было напрасно. Они уже карабкались по моим ногам, по бокам, по спине. Они повисали на мне, как пчелиные рои виснут на ветках. И когда они уже собирались растерзать меня, я не выдержал их веса и тяжело упал на землю.
Это спасло меня: как только я коснулся пола, крысы отскочили и убежали стремглав, словно испугались того, что им удалось сделать.
Меня приятно удивила такая развязка. Сначала я не мог объяснить себе, в чем дело, но скоро мысли мои прояснились и я очень обрадовался, когда убедился в том, что все эти ужасы — только сон.
Впрочем, тут же мое настроение изменилось, и радость мгновенно исчезла. Не все здесь было сном. Крысы были на мне, и в этот момент они находились в моей каморке. Я слышал, как они носятся кругом. Я слышал их отвратительный визг. Я еще не успел приподняться, как одна из них пробежала по моему лицу.
Это было для меня новым источником ужаса. Как они проникли сюда? Уже сама таинственность этого нового вторжения потрясла меня. Как они пролезли? Неужели вытолкнули куртку из щели? Я машинально ее ощупал. Нет, куртка на месте, в том виде, как я ее оставил. Я достал куртку и снова пустил ее в ход, чтобы прогнать страшных грызунов. Опять я кричал и хлопал курткой по полу, и опять крысы ушли, но теперь я был в невероятном страхе, потому что не мог объяснить, как они добрались до меня, несмотря на все мои предосторожности.
Долгое время я сидел в глубоком унынии, пока не сообразил наконец, в чем дело: они прошли не через ту щель, которую я заткнул курткой, а через другое отверстие, забитое материей. Кусок материи был слишком мал — крысы вытащили его зубами.
Вот каким образом они прорвались! Но моя тревога от этого не уменьшилась. Наоборот, она возросла. Зачем эти существа так упорно возвращаются снова и снова? Почему мое убежище привлекает их больше, чем другие части корабля? Что им нужно? Загрызть и съесть меня?
Я не мог найти иную причину, чтобы объяснить их нападение.
Страх перед тем, что меня могут загрызть крысы, вызвал у меня прилив энергии. По часам я узнал, что проспал не больше часа, но не мог снова заснуть, пока полностью не обеспечу себе безопасность. Я решил привести мою крепость в порядок, более пригодный для обороны.
Я вынул куски материи из всех щелей и дыр и заново тщательно закупорил все лазейки. Я пошел даже на то, чтобы вынуть из ящика все галеты и достать два или три новых рулона материи для затычек. Потом уложил галеты на место и заткнул все отверстия.
Мне пришлось потрудиться возле ящика, потому что около него было много всевозможных щелей. Я вышел из затруднения при помощи большого рулона материи, поставив его стоймя и закрыв им все свободное пространство. На этой стороне теперь все было закрыто. Рулон стоял так плотно, что никакое живое существо не могло его обойти. Единственный недостаток этого укрепления был в том, что оно затрудняло мне доступ к галетам, потому что материя закрыла отверстие ящика. Но я подумал об этом заранее и сделал внутри камеры запас галет на неделю, на две. Когда я съем их, я могу отодвинуть рулон и, прежде чем крысы успеют добраться до щели, сделать запас еще на неделю.
Полных два часа ушло на то, чтобы закончить все эти приготовления. Я работал с большой тщательностью, стараясь сделать стены моей крепости попрочнее. Это не была игра: от этого зависела моя жизнь.
Проделав все самым аккуратным образом, я улегся спать. Теперь я был уверен в том, что высплюсь по-настоящему.
Глава XLII. ГЛУБОКИЙ СОН
Я не ошибся — я спал двенадцать часов подряд. Хотя не без кошмаров: мне опять снились ужасные сражения с крабами и крысами. Мой сон не освежил меня, несмотря на его длительность, как будто я и в самом деле сражался со своими страшными врагами. Но приятно было, проснувшись, убедиться в том, что незваные гости не возвращались и в моих укреплениях не появилось ни одной бреши. Я ощупал и нашел все на прежнем месте.
Несколько дней я прожил сравнительно спокойно. Я не боялся крыс, хотя знал, что они неподалеку. Когда погода была тихая — а она долго не менялась, — я слышал возню животных снаружи, слышал, как они что-то там делали, носились между ящиками с грузами, иногда испускали омерзительные вопли, словно сражались друг с другом. Но их голоса больше не пугали меня, ибо я знал твердо, что крысы не могут ко мне попасть. Если мне случалось на время передвинуть один из рулонов материи, защищавших мое убежище, я немедленно ставил его обратно, прежде чем хотя бы одна крыса успевала заметить, что отверстие открыто.
Мне было очень неудобно в таком заточении. Погода стояла необыкновенно жаркая. Ни малейшее движение ветерка не доходило до меня, и воздух в моем помещении не освежался. Я чувствовал себя как внутри печки. Весьма возможно, что мы пересекали экватор или, во всяком случае, находились в тропических широтах — вот откуда такое спокойствие в атмосфере, потому что в этих широтах бури бывают реже, чем в так называемых умеренных зонах. Только раз мы попали в бурю, которая продолжалась весь день и ночь. Как всегда, началась сильная качка. Корабль качало так, как будто он собирался перевернуться вверх дном.
На этот раз я не заболел морской болезнью, но мне не за что было держаться, и я катался по полу, то ударяясь лбом о бочку, то сваливаясь в сторону, пока мое тело не оказалось избитым, словно после града палочных ударов. Колебание судна заставляло бочки и ящики немного сдвигаться с места, и от этого затычки из материи ослабевали и вываливались.
Все еще боясь крысиного нашествия, я то и дело затыкал лазейки.
В общем, это занятие все-таки было приятнее, чем безделье. Оно помогало мне проводить время, и два дня бури и волнения на море показались мне короче двух обычных дней. Самыми горькими часами моего заключения были те, в которые я был предоставлен самому себе и своим мыслям. Часами я лежал на месте без движения, иногда даже без единой мысли в голове. И, лежа во мраке, одиночестве и тоске, я боялся, что разум оставит меня.
Так прошло больше двух недель — я знал это по зарубкам на палочке. Эти недели казались месяцами, даже годами — так медленно тянулось время! В промежутках между бурями кругом меня царило однообразное спокойствие, не происходило ничего такого, что можно было бы отметить и запомнить. Все время я строго придерживался установленного мной пайка. Несмотря на то что мне часто приходилось голодать так, что я мог бы съесть недельную порцию за один раз, я все-таки не выходил за пределы установленного рациона. Часто это стоило больших усилий. Скрепя сердце я откладывал в сторону для следующей еды полгалеты, которая словно прилипала к моим пальцам, когда я клал ее на полочку. Но, в общем, я мог поздравить себя: за исключением того дня, когда я съел за один раз четыре галеты, я не нарушил расписания и мужественно подавлял разгоревшийся аппетит.
От жажды я вовсе не страдал. Никаких трудностей с водой у меня не было. Установленного количества воды хватало даже с избытком. Иногда я пил меньше, чем полагалось, и всегда мог выпить столько, сколько хотелось.
Скоро запас галет, отложенный мной, подошел к концу. Это меня обрадовало. Значит, дни идут — прошло две недели с тех пор, как я пересчитал галеты и определил необходимое на данный срок количество. Итак, пришло время отправиться в «кладовую» и взять оттуда новый запас.
И тут у меня появилось странное опасение. Оно возникло внезапно, как будто в сердце вдруг кольнула стрела. Это было предчувствие большого несчастья, вернее — не предчувствие, а страх, порожденный тем, что я заметил в последнюю минуту. Я все время слышал снаружи шум, который приписывал моим соседям — крысам. Он доносился до меня часто, почти постоянно, и я привык к нему, но сейчас звук напугал меня — он шел со стороны, где стоял ящик с галетами.
Дрожащими руками я сдвинул с места рулон и погрузил руки в ящик. Милосердный Боже! Ящик был пуст!
Нет, не пуст. Запустив руку поглубже, я нащупал в нем нечто мягкое, скользкое… крыса! Животное отскочило в сторону, как только почувствовало мое прикосновение, и так же мгновенно я убрал руку. Машинально я начал снова шарить в ящике — и наткнулся на другую крысу! И еще, еще!.. Казалось, половина ящика набита ими — одна вплотную к другой. Они разбегались кто куда, некоторые, выскочив из отверстия, даже прыгали мне на грудь, остальные бросались на стенки ящика, испуская пронзительные крики.
Вскоре я разогнал их. Но — увы! — когда они скрылись и я стал обследовать свои запасы, то увидел, к своему отчаянию, что почти все галеты исчезли. В ящике не оставалось ничего, кроме кучи крошек на дне. Эти остатки крысы и поедали в ту минуту, когда я их спугнул.
Это было страшное несчастье. Я был так подавлен своим открытием, что долгое время не мог прийти в себя.
Я легко мог представить себе, что произойдет дальше. Мои продукты исчезли — голодная смерть глядела мне в лицо. Да, нет сомнений, смерть от голода
неминуема! Жалкими крохами, которые оставили мне мерзкие грабители — они бы доели все через час, не спугни я их, — нельзя было продержаться больше недели. И тогда… Что тогда? Голод, голодная смерть!
Выхода не было. Так я рассудил. Да и на что мог я рассчитывать?
Я чувствовал себя совершенно уничтоженным — настолько, что не принял никаких мер к тому, чтобы защитить ящик от дальнейших вторжений крыс. Я был уверен, что все равно мне придется отступить перед этим несчастьем — умереть от голода. Не было никакого смысла противиться судьбе. Лучше уж умереть сразу, чем через неделю. Жить еще несколько дней, зная, что тебя ожидает смерть, — ужасно, мучительно! Ожидание хуже самой смерти. И ко мне вернулись прежние мысли о самоубийстве.
Но только на минуту. Я вспомнил, что однажды стоял на пороге самоубийства, но чудесным образом избежал его. Снова луч надежды осветил мне будущее. Правда, надежда эта ни на чем не основывалась, но ее было достаточно для того, чтобы вдохнуть в меня новую энергию и спасти от полного отчаяния. Кстати, присутствие крыс тоже побуждало меня к действию. Они находились тут же, рядом, и угрожали снова забраться в ящик и уничтожить последние остатки моей еды. Теперь я мог избавиться от них, только действуя самым энергичным образом.
Крысы проникли в ящик не через то отверстие, через которое проникал в него я сам: оно было закрыто рулоном — и там они пройти не могли. Они вошли с противоположной стороны, через ящик с материей. Им удалось это сделать потому, что я сам снял одну из боковых досок этого ящика. Это произошло недавно — ведь им надо было прогрызть заднюю стенку, на что потребовалось бы, конечно, немало времени. Иначе они давно бы уже проникли внутрь и не оставили бы ни кусочка. Они, несомненно, и прошлые разы пробирались в мою каморку именно из-за этого ящика с галетами — здесь пролегал самый короткий путь к нему.
Я очень сожалел, что вовремя не подумал о сохранности моей кладовой. Собственно говоря, я думал об этом, но мне не приходило в голову, что крысы могут проникнуть в ящик сзади, а спереди его плотно прикрывал рулон материи.
Увы! Теперь уже поздно, сожаления ни к чему! И повинуясь инстинкту, который заставляет нас бороться за жизнь до последней возможности, я перенес остатки галет из ящика на полочку внутри моего убежища. Затем, забаррикадировавшись снова, я улегся на постель и стал думать о положении, которое казалось мне мрачнее, чем когда бы то ни было.
Глава XLIII. В ПОИСКАХ ВТОРОГО ЯЩИКА С ГАЛЕТАМИ
Долгое время размышлял я над своими делами, и ничего утешительного не приходило мне в голову. Я был в таком подавленном состоянии духа, что даже не пытался сосчитать количество оставшихся у меня галет — вернее, крошек. По величине этой небольшой кучки я примерно определил, что могу поддержать свое существование, исходя из самого маленького пайка, около десяти дней, не больше. Итак, мне осталось жить десять дней, в лучшем случае — две недели, а в конце этих двух недель умереть, причем я уже знал, что это будет медленная и мучительная смерть. Мне уже были ведомы муки голода, и я страшился испытать их вторично. Но избежать такого жребия не было надежды. В ту минуту, во всяком случае, я считал себя обреченным.
Я был так потрясен своим открытием, что долгое время не мог прийти в себя. Я был подавлен, малодушие овладело мной, мозг был словно парализован. И когда я пытался думать, мысли мои блуждали и возвращались снова и снова к моей страшной участи.
Потом я опомнился и вновь обрел способность обсудить обстоятельства, в которых очутился. Снова появилась надежда, правда настолько неопределенная и необоснованная, что ее следовало бы назвать «призраком надежды». Мне пришла в голову чрезвычайно простая мысль: если я нашел один ящик с галетами, отчего бы не поискать второй? Если он не находится рядом с первым, он может оказаться неподалеку. Я уже говорил, что при погрузке судна грузы размещаются по-разному: не по сортам товара, а по объему и форме упаковки, чтобы они соответствовали друг друг и форме трюма. Я уже в этом сам убедился, потому что вокруг меня рядом стояли самые разнообразные товары: галеты, мануфактура, бренди и бочка с водой. Хотя непосредственно рядом с ящиком с галетами не стоял другой такой же ящик, но он мог быть неподалеку. Может быть, с другой стороны ящика с сукном или в ином месте, куда я сумею проникнуть.
Энергия вернулась ко мне, и я стал размышлять, как мне найти другой ящик с галетами.
План тотчас был выработан. Способ был только один — воспользоваться ножом. Мне пришло в голову проложить ножом дорогу через бочки, ящики и тюки, заграждавшие путь к галетам. И чем больше я думал об этом, тем более выполнимой казалась мне эта идея. То, что нам кажется трудным или невыполнимым при обыкновенных обстоятельствах, становится легким, когда нам угрожает смертельная опасность и когда мы знаем, что таким путем сможем спасти жизнь. Самые тяжелые лишения и величайшие трудности становятся легкими затруднениями, когда дело идет о жизни и смерти!
Именно с этой точки зрения я вынужден был смотреть на подвиг, который мне предстояло совершить, и не очень заботился о времени и труде, только бы это дало мне возможность спастись от страшной голодной смерти.
Итак, я решил проложить с помощью ножа дорогу через груды товаров в надежде найти ящик, содержащий пищу. Если меня ждет успех, я буду жить; если нет — я умру. И еще одна мысль толкала меня к действию: лучше провести остаток жизни в надежде, чем уступить отчаянию и сидеть сложа руки. Провести две недели в ожидании смерти в тысячу раз хуже, чем сама смерть.
Лучше продолжать борьбу, питая надежду новыми усилиями. Самый труд сократит время и отвлечет меня от мрачных мыслей о безрадостной судьбе.
Так думал я, и новый прилив энергии сменил во мне прежний упадок сил.
Я стоял на коленях, с ножом в руке, полный решимости и готовый на все. Как оценил я в ту минуту счастье обладать этим куском стали! Я бы не обменял его на целый корабль, наполненный чистым золотом!
Прежде всего надо было пробиться через ящик с материей и исследовать то, что находилось за ним. Ящик с галетами был теперь пуст, и я пролез через него без труда. Вы помните, мне уже приходилось это делать — тогда, когда я набрел на сукно. Значит, дорога была знакома. Но для того чтобы пробраться через ящик с сукном, необходимо выбросить оттуда несколько рулонов и очистить дорогу к следующему ящику. Следовательно, сначала нож мне не нужен. Отложив его в сторону, в такое место, где я мог легко достать до него рукой, я просунул голову и влез в пустой ящик. В следующую минуту я уже выдергивал и вытаскивал тугие рулоны сукна, напрягая все силы и энергию, чтобы сдвинуть их с места.
Глава XLIV. Я ЗАЩИЩАЮ КРОШКИ
Работа стоила времени и труда, и гораздо больше, чем вам кажется. Дело в том, что материю упаковывали так, чтобы сэкономить место, и рулоны были прижаты друг к другу настолько плотно, как будто они вышли из-под парового пресса. Те рулоны, которые находились напротив сделанного мной отверстия, вынуть не составляло труда, но с прочими возни было больше. Мне пришлось пустить в ход всю свою силу, чтобы сдвинуть их с места. Когда первые были вынуты, работать стало легче. Некоторые рулоны оказались крупнее других — это было более грубое сукно. Они были настолько велики, что не пролезали через проделанные мной отверстия в ящике с материей и в ящике с галетами. Что мне оставалось делать с ними? Расширить отверстия — значит приложить очень много труда. Оба ящика расположены так, что оторвать от них лишнюю доску невозможно. Можно расширить дыру ножом, но это трудно.
Тут я придумал план, который тогда показался мне превосходным, хотя впоследствии оказалось, что я сделал ошибку. Я разрезал завязки на каждом рулоне и стал разматывать рулоны постепенно. Я вытаскивал из дыры материю, пока рулон не становился достаточно тонким, чтобы пройти через отверстие. Таким способом я освободил весь ящик, хотя работа заняла несколько часов.
Работа моя была прервана очень серьезным обстоятельством: вернувшись к себе на место с первым вынутым из ящика рулоном материи, я с ужасом обнаружил, что помещение занято двумя десятками других жильцов: опять крысы!
Кусок материи выпал у меня из рук. Я ринулся на крыс и разогнал их. Я сразу понял, что часть запасов моего жалкого продуктового склада сожрана или унесена. Впрочем, они уничтожили не очень много. К счастью, я отсутствовал недолго. Задержись я еще минут на двадцать, эти разбойники подобрали бы все, не оставив мне ни крошки.
Последствия могли оказаться для меня роковыми. Браня себя за собственную небрежность, я решил в будущем быть более осторожным.
Я расстелил большой кусок материи, насыпал на него крошки, затем свернул его кульком и завязал как можно крепче полоской той же материи. Я полагал, что теперь все будет в сохранности. Положив кулек в угол, я снова приступил к работе.
Ползая на коленях то с пустыми руками, то нагруженный материей, я походил на муравья, бегающего по своей дорожке и делающего запас на зиму. В течение нескольких часов я не уступал муравьям в усердии и деловитости. Погода по-прежнему стояла тихая, но стало еще жарче и пот катил с меня градом. Я вынужден был оторвать кусок материи, чтобы вытирать лоб и лицо. Порой мне казалось, что я задохнусь от жары. Но, однако, я работал и работал не переставая. Мне и в голову не приходило сделать передышку.
Крысы все время напоминали о своем присутствии. Они кишели около меня в щелях между ящиками и бочками, где у них были свои пути и тропы. Я встречал их и в проделанном мной туннеле. Они то пересекали мне дорогу, то наскакивали на меня, то метались позади и перебегали по ногам. Как это ни странно, но теперь я боялся их меньше, чем раньше. Это объяснялось тем, что я понял, что крыс привлекал ящик с галетами, а вовсе не я сам. Прежде у меня было впечатление, что они собираются на меня напасть, но теперь я думал, что разгадал их намерения, и у меня было меньше опасений, что они перейдут в атаку. Пока я бодрствую, они не страшны. Но я никогда не ложился спать, не приняв мер предосторожности на случай их нападения, и намеревался поступать так и впредь.
Была еще и другая причина, по которой я уже не так боялся крыс. Положение мое ухудшилось настолько, что необходимо было действовать, и все меньшие опасности померкли перед главной — опасностью голодной смерти.
Разгрузив наконец ящик с материей, я позволил себе немного отдохнуть и подкрепиться горстью крошек и чашкой воды. Работая над разгрузкой ящика, я не отрывался даже для того, чтобы глотнуть воды, и сейчас готов был выпить полгаллона. Я был уверен, что воды мне хватит надолго, и потому выпил сколько хотелось. Вероятно, когда я наконец оторвался от бочки, уровень воды в ней сильно понизился. Драгоценная влага казалась слаще меда — я чувствовал себя снова полным сил и бодрости.
Теперь я обратился к своим продовольственным запасам, но крик ужаса вырвался из моих уст, когда я ощупал кулек.
Снова крысы! Да, к своему изумлению, я обнаружил, что неутомимые грабители опять побывали здесь, прогрызли дыру в материи и уничтожили еще часть моего скудного запаса. Пропало не меньше фунта
[60] драгоценных крошек, и все это произошло недавно, потому что несколькими минутами раньше я случайно передвигал кулек и там все было в порядке.
Это новое несчастье вызвало у меня и раздражение, и новые страдания. Нельзя было ни на минуту отойти от галет, не рискуя лишиться всего до последней крошки.
Я лишился уже половины запаса, вынутого из ящика. Я рассчитывал, что мне хватит его на десять — двенадцать дней, считая мелкое крошево, которое я тщательно собрал с досок. Но теперь, внимательно исследовав остатки, я увидел, что их едва хватит на неделю.
Такое открытие усугубило мрачность моего положения. Но я не впадал в отчаяние. Я решил продолжать работу, как будто никакого несчастья не случилось. Уменьшение запасов только прибавило мне энергии и упорства.
Оставался единственный способ сохранить крошки — взять с собой кулек и постоянно держать при себе. Конечно, можно было завернуть крошки в несколько слоев материи, но я был убежден, что паразиты прогрызут дыру даже в железном ящике.
Для большей надежности я заткнул дыру, проеденную крысами, и снова влез в ящик, захватив с собой кулек с крошками. Я был готов защищать его против любого, кто на него покусится.
Я поместил его между колен, взялся за нож и принялся проделывать ход в задней стенке ящика из-под сукна.
Глава XLV. СНОВА УКУС
Стараясь поменьше пускать в дело нож, я сначала попытался оторвать доски руками. Уверившись в том, что я не могу их сдвинуть с места, я лег на спину и попробовал выломать их ногами. Я даже надел башмаки, думая, что мне удастся вышибить доски. Но сколько я ни колотил ногами, ничего не получилось! Доски были хорошо забиты гвоздями, и, как я впоследствии убедился, ящик был стянут железными скрепами, которые выдержали бы и более серьезные усилия. Тогда я стал работать ножом.
Я намеревался прорезать поперек одну из досок поближе к краю, а потом подвести под нее руку и оторвать, как бы прочно ни была она укреплена с другого конца.
Дерево было не слишком твердое — обыкновенная ель, и я легко прорезал бы доски даже самым простым ножом, если бы сам находился выше, а ящик стоял прямо передо мной. Но вместо этого приходилось действовать в согнутом положении, весьма неудобном и утомительном. Больше того, рука моя все еще болела от крысиного укуса, ранка не закрылась. Возможно, что вечное беспокойство, тревога, бессонница, лихорадочное состояние мешали излечению раны. К сожалению, ранена была правая рука, а левой я не умел действовать ножом. Я временами пробовал переложить нож в левую руку, чтобы правая отдохнула, но ничего не получалось. Поэтому я потратил несколько часов на то, чтобы прорезать доску в девять дюймов длины и толщиной в один дюйм. Под конец я все-таки справился. Улегшись еще раз на спину и нажав на доску каблуками, я с удовольствием убедился, что она поддается.
Однако что-то позади ящика — другой ящик или бочка — мешало до конца выломать доску. Промежуток был не больше двух или трех дюймов, и пришлось дергать, трясти, нажимать вверх, вниз, вперед, назад, пока не расшатались железные скрепы и доска не отделилась от ящика.
Просунув руку в щель, я сразу определил, что находилось за ящиком: там помещался другой ящик, и — увы! — такой же, как тот, который я опустошил. То же дерево на ощупь, — я уже говорил, что мое осязание обострилось до чрезвычайности.
Это открытие сильно опечалило меня. Я был разочарован. Но все же я решил удостовериться окончательно и стал вынимать доску из второго ящика, так же как раньше из первого: сделал поперечный надрез, потянул доску к себе… Работы здесь было больше, чем с первым ящиком, потому что добраться до него оказалось труднее. Кроме того, прежде чем взломать второй ящик, мне пришлось расширить отверстие в первом, иначе я не мог бы достать до того места, где ящики примыкали друг к другу. Расширить отверстие было нетрудно: мягкая доска поддавалась лезвию ножа.
Над вторым ящиком я трудился угрюмо, безрадостно — это была безнадежная работа. Я бы мог и вовсе оставить ее, ибо лезвие ножа уже не раз приходило в соприкосновение с чем-то мягким, рыхлым внутри ящика — это была ткань. Я мог бы бросить работу, но какое-то любопытство заставляло меня механически продолжать ее — то любопытство, которое трудно удовлетворить, пока полностью не дойдешь до самого конца. Побуждаемый этим чувством, я машинално рубил ножом, пока не выполнил свою задачу до конца.
Результат был именно тот, которого я ожидал, — в ящике лежала материя!..
Нож выскользнул у меня из рук. Побежденный усталостью, подавленный горем, я упал навзничь, потеряв сознание.
Это беспамятное, отчаянное состояние продолжалось некоторое время — я не заметил, сколько именно. Но в конце концов я был разбужен острой болью в среднем пальце, внезапной болью, словно меня укололи иглой или резанули лезвием ножа.
Еще не совсем придя в себя, я вскочил, думая, что наткнулся на нож; я вспомнил, что бросил его открытым где-то рядом с собой. Через секунду или две я понял, однако, что не нож причинил мне боль. Рана была нанесена не холодной сталью, а ядовитыми зубами живого существа. Меня укусила крыса!
Равнодушие и вялость мгновенно рассеялись и сменились сильнейшим страхом. Теперь, более чем когда бы то ни было, я убедился, что гнусные животные угрожают моей жизни. Это было первое их нападение без всякого повода с моей стороны. Хотя раньше резкие движения и громкие крики прогоняли крыс, но я чувствовал, что со временем они осмелеют и перестанут обращать внимание на неопасный для них шум. Я слишком долго пугал их, ни разу не заставив почувствовать, что они могут быть наказаны.
Ясно, что я не мог улечься спать и оказаться совершенно беззащитным, если на меня нападут крысы. Хотя надежды на избавление, к сожалению, сильно уменьшились и, вероятно, меня ждала голодная смерть, все-таки я предпочитал умереть от голода, чем быть съеденным крысами. Самая мысль о подобной смерти наполняла меня ужасом и заставляла употребить всю энергию на избавление от такого конца.
Я очень устал и нуждался в отдыхе. Пустой ящик был достаточно велик для того, чтобы лечь спать в нем, вытянувшись в полный рост. Но я решил, что в старом убежище мне легче будет бороться с крысами, и, захватив нож и кулек с крошками, снова устроился за бочкой.
Теперь размеры моей клетушки уменьшились, потому что она была завалена материей, выброшенной из ящика. В сущности, в ней как раз хватало места только для моего тела, так что это было скорее гнездо, чем помещение.
Я был хорошо защищен в этом гнезде рулонами материи, наваленными около бочонка с бренди. Оставалось только завалить другой конец, как это было раньше. Я так и сделал. И тогда, съев свой тощий ужин и запив его многочисленными глотками воды, я дал наконец отдых душе и телу, в чем давно уже так нуждался.
Глава XLVI. ТЮК С ПОЛОТНОМ
Мой сон не был ни сладким, ни глубоким. К мыслям о мрачном будущем прибавились еще мучения от жары — еще худшие, чем раньше, потому что все отверстия теперь были забиты. Ни малейшее движение воздуха, которое могло бы освежить меня, не достигало моей тюрьмы, и я чувствовал себя как в раскаленной печи. Но все-таки я поспал немного, и это «немного» было все, чем я вынужден был довольствоваться.
Проснувшись, я принялся за еду — за свой «завтрак». Конечно, это был самый легкий из всех завтраков на свете, и вряд ли он заслужил такое название. Я опять выпил много воды, потому что меня трепала лихорадка и болела голова, как будто готова была расколоться.
Однако все это не помешало мне снова приняться за работу. Если в двух ящиках лежит мануфактура, это еще не значит, что таков и остальной груз. Я решил продолжать розыски. Следовало произвести разведку и в другом направлении и делать туннель не через боковую доску, а через конец ящика, чтобы проложить путь не вбок, по борту судна, а прямо, где у меня могли открыться большие возможности.
Захватив с собой кулек с крошками, я приступил к работе с новой надеждой, и после долгого, упорного труда, особенно мучительного из-за ранки в пальце и согнутого положения, мне удалось взломать заднюю стенку ящика.
Там лежало что-то мягкое. Это меня несколько обнадежило. Во всяком случае, это было не сукно, но что именно, я не мог сообразить, пока совершенно не оторвал доску. Я осторожно просунул руки в отверстие и дрожащими пальцами стал щупать новый, неведомый предмет. На ощупь он казался холстом. Но это только упаковка. А что внутри?
Я не мог определить, что это такое, пока не взял нож и не разрезал холщовую оболочку. Тут, к моему разочарованию, я распознал, что лежит в ящике.
Это было полотно — тюк прекрасного полотна, скатанный в рулоны, как и сукно. Но эти рулоны были так плотно спрессованы, что, приложив все усилия, я не мог выдернуть ни одного из них.
Это открытие опечалило меня еще больше, чем если бы я обнаружил сукно. Сукно я бы постепенно вынул и продолжал дальше свою работу. Но с полотном я ничего не мог сделать, ибо после нескольких попыток выяснилось, что я не в состоянии сдвинуть с места ни один рулон. Алмазная стена вряд ли оказала больше сопротивления лезвию моего ножа, чем эта масса полотна. Для того чтобы его прорезать насквозь, понадобилось бы работать неделю. У меня не хватит пищи, чтобы прожить, пока я достигну другой стороны ящика. Но я и не думал об этом. Это было явно невозможно, и я бросил эту затею, даже не задумываясь над ней.
Некоторое время я бездействовал, соображая, что предпринять дальше. Но я недолго оставался без дела. Время было слишком дорого. Только энергичная деятельность могла спасти меня. Побуждаемый этой мыслью, я снова приступил к работе.
Мой новый план был прост — опустошить второй ящик, прорезать его противоположную сторону и посмотреть, что находится за ним. Так как ящик был уже взломан, надо было вынуть из него материю.
Так же как и в первом ящике с мануфактурой, я почувствовал, что толстые рулоны не проходят через проделанное мной отверстие. И, не желая мучиться и расширять отверстие в досках, я прибегнул к прежнему способу — разрезать завязки, развертывать рулоны и вытаскивать материю ярд за ярдом. Я думал, что так будет легче, но — увы! — это привело к таким последствиям, которые причинили мне много бед.
Я быстро продвигался и уже очистил достаточное пространство для работы внутри ящика, когда мне внезапно пришлось остановиться, потому что позади не было места для материи.
Все свободное место — моя каморка, ящик из-под галет и еще один ящик — было полно мануфактурой, которую я вытаскивал, продвигаясь вперед. Не оставалось ни одного свободного фута, где можно было положить хотя бы один рулон ткани!
Я не сразу испугался, потому что не представлял себе, какие это может повлечь за собой последствия. Но когда я хорошенько поразмыслил, то увидел, что стою перед очень опасной проблемой.

Очевидно, я не смогу продолжать работу, пока не избавлюсь от образовавшейся лавины материи, виной чему я был сам. И как от нее избавиться? Ни сжечь, ни уничтожить материю каким-либо иным путем нельзя; я не могу уменьшить ее в объеме, потому что уже умял ее изо всех сил. Что же мне теперь с ней делать?
Теперь я понял, как безрассудно было разматывать рулоны. Это и явилось причиной увеличения их объема. Вернуть их в прежнее состояние уже не представлялось возможным. Материя была разбросана в полном беспорядке, и не было места, чтобы ее свернуть, — в тесном помещении и при моем вынужденном положении тела я почти не мог двигаться. Но если бы даже и нашлось место, я все равно не смог бы довести материю хотя бы отчасти до ее прежнего объема, потому что толстый материал при всей своей эластичности потребовал бы большого винтового пресса, чтобы принять прежний вид. Я ужасно огорчился. Мало сказать: огорчился — я готов был снова впасть в отчаяние.
Но нет, я не позволю отчаянию овладеть мной! Кое-как опростав место для последних одного — двух рулонов, я сумею проделать отверстие в противоположной стенке ящика. У меня еще есть надежда. Если там окажется другой ящик с сукном или тюк с полотном, у меня хватит времени предаться отчаянию.
Трудно сломить надежду в человеческом сердце. Так было и со мной. Пока есть жизнь — есть и надежда. Воодушевленный этой мудрой пословицей, я снова взялся за дело. Скоро мне удалось убрать еще два рулона. Это позволило проникнуть внутрь уже почти пустого ящика и пустить в ход нож.
Мне удалось вышибить обе части доски и сделать отверстие, достаточное для моей цели, а она заключалась только в том, чтобы получилась щель, через которую можно просунуть руку. Увы, меня ждало самое печальное разочарование: еще один тюк с полотном! Я был обессилен, мне стало дурно, и я бы упал, если бы было куда упасть, — я остался как был, лежа лицом вниз, ослабевший и телом и душой.
Глава XLVII. EXCELSIOR[61]
Прошло много времени, прежде чем я снова собрался с духом и приподнялся. Если бы не голод, я бы еще долго оставался в состоянии полного оцепенения. Но природа взяла свое. Я хотел съесть свои крошки лежа, однако жажда заставила меня вернуться на старое место. Мне было все равно, где спать, потому что я мог скрыться от крыс в любом из ящиков. Но надо было находиться поблизости от бочки с водой, — вот почему я предпочел старое место.
Нелегко мне было вернуться туда. Пришлось поднять и отбросить назад много рулонов материи. Класть их надо было бережно, не то, вернувшись в свое убежище, я не смог бы расчистить для себя достаточно места.
Все же мне удалось осуществить свое намерение. Поев и утолив лихорадочную жажду, я свалился на массу материи и моментально заснул. Я принял обычные меры предосторожности, накрепко закрыв ворота своей крепости, и сон мой не был нарушен крысами.
Утром, или, вернее сказать, в тот час, когда я проснулся, я снова поел и попил. Не знаю, было ли это утро, потому что я два раза забывал завести часы и уже не отличал день от ночи. И так как я спал теперь нерегулярно, то и по сну не мог определить время суток. Еды не хватило, чтобы утолить голод. Да и всего моего запаса пищи не хватило бы, чтобы полностью насытиться; немалых трудов стоило мне удержаться от того, чтобы не уничтожить весь запас. Потребовалась вся моя решимость, чтобы сдержаться. Решимость эта поддерживалась ясным сознанием того, что мне придется есть в последний раз. Воздержание объяснялось простым страхом голодной смерти.
Позавтракав как можно экономнее и наполнив желудок водой вместо пищи, я опять углубился во второй ящик с материей, так как решил продолжать розыски, пока силы не изменят мне. Не много у меня их оставалось. Я понимал, что съеденного едва хватит, чтобы поддержать жизнь. Я чувствовал, что слабею. Ребра у меня обозначились, как у скелета, и я с трудом поворачивал тяжелые рулоны материи.
Один конец каждого ящика, как я уже говорил, был обращен к борту корабля. Конечно, не имело никакого смысла делать туннели в этом направлении. Но конец второго ящика, обращенного внутрь трюма, я еще не испробовал. Теперь я за него взялся.
Не стану описывать подробности этой работы. Она была похожа на то, что я делал и раньше, и заняла несколько часов. И в результате меня опять подстерегало горькое разочарование. Еще один тюк с полотном! Я не мог больше продвигаться в этом направлении. И вообще продвигаться больше некуда!
Я был окружен ящиками с сукном и тюками с полотном. Я не мог пройти сквозь них. Я не мог перескочить через них. Нечего было и пытаться.
Таков был грустный вывод, к которому я пришел. Снова мною начало овладевать безнадежное отчаяние.
К счастью, это недолго продолжалось, ибо мне пришли в голову мысли, которые побудили меня к дальнейшим действиям. На помощь пришла память. Я вспомнил, что когда-то читал книгу, в которой очень хорошо описывалось, как мальчик отважно борется с трудностями и не поддается отчаянию, как смелостью и настойчивостью преодолевает препятствия и добивается наконец успеха. Я вспомнил также, что этот мальчик сделал своим девизом латинское слово «эксцельсиор», что значит «все выше» или «все вверх».
Вспоминая, как боролся мальчик и как ему удалось победить трудности — а некоторые из них были так же велики, как и мои, — я решил сделать еще одно новое усилие.
Думаю, что именно странное слово «эксцельсиор» зародило во мне эту мысль, потому что я перевел слово буквально. «Все вверх, — повторял я, — надо искать наверху. Почему до сих пор это не пришло мне в голову? И в том направлении может быть пища, так же как в любом другом». Да выбора почти и не было, потому что другие направления я уже испробовал. Итак, я решил искать наверху.
В следующую минуту я уже лежал на спине, с ножом в руках. Я подпер себя несколькими рулонами материи, чтобы удобнее было работать, и, ощупав одну из досок верхней крышки ящика из-под полотна, начал резать ее поперек.
После многих усилий доска поддалась. Я рванул ее вниз. О господи! Неужели все мои надежды должны рушиться?
Увы! Это было именно так. Плотный, грубый холст, а за ним тяжелая, холодная масса полотна — вот все, что я опять нашел.
Теперь оставалась только верхняя часть первого ящика из-под сукна и крышка ящика с галетами. Надо напрячь последнее усилие… Над первым ящиком находился еще ящик с сукном, а верхушку второго полностью закрывал тюк с полотном.
— Милосердный Боже, неужели я погиб?! Вот все, что я мог сказать, и впал в полное забытье.
Глава XLVIII. ПОТОК БРЕНДИ
Я заснул от усталости и длительного напряжения сил. Проснувшись, я почувствовал себя гораздо бодрее. Странно, что мне стало веселее и я не так отчаивался, как раньше. Казалось, меня поддерживала какая-то сверхъестественная сила — ведь обстоятельства нисколько не изменились, то есть не изменились к лучшему, и никакой новой надежды или плана у меня не возникло.
Было ясно, что мне не удастся проникнуть за ящики с сукном и полотном, — у меня ведь не было места, куда выкладывать из них материю. Поэтому я перестал и думать о них.
Но существовали еще два направления: одно — прямо, другое — налево, то есть к носу корабля.
Впереди стояла большая бочка с водой, и, конечно, через нее никак нельзя было пробраться. Пришлось бы выпустить всю воду. Одно время я думал, что можно проделать отверстие выше уровня воды, влезть в бочку, просверлить второе отверстие и пролезть через него. Я знал, что в бочке воды не больше чем наполовину, потому что в последнее время из-за жары, я, не стесняя себя, пил много воды. Но я боялся, что из-за этого большого отверстия я могу потерять всю воду за одну ночь. Вдруг налетит внезапный шквал, какие уже бывали не раз, и корабль начнет качаться. При этом валкое судно накренится набок, что уже с ним случалось, бочка перевернется, и вода из нее выльется — драгоценная влага, мой лучший друг, без которого я бы давно погиб.
Я подумал и решил не трогать бочку. Оставалась еще другая и более легкая возможность продвигаться — через бочонок с бренди.
Этот бочонок лежал, повернутый ко мне концом, и, как я уже говорил, замыкал вход ко мне с левой стороны. Его верхушка, или днище, приходилась как раз рядом со стенкой бочки с водой. Но бочонок лежал так близко к борту корабля, что за ним вряд ли оставалось пустое место. Именно поэтому почти половина его диаметра была скрыта за бочкой с водой, а другая половина образовала естественную стену моего убежища.
Вот через эту-то свободную половину бочонка я и решил прокладывать дорогу, а потом, забравшись в бочонок, просверлить вторую дыру, которая откроет мне путь через его противоположную сторону.
Может быть, за бочонком с бренди найдется пища, которая сохранит мне жизнь? Предположение не было основано ни на чем, но я молился за успех.
Плотное дубовое дерево, из которого были сделаны клепки бочонка, уступало ножу куда хуже, чем мягкая ель ящиков. Однако начало было положено уже раньше — я ведь когда-то проделал дырку в этом месте. Я ввел в нее нож и трудился, пока не прорезал одну из досок днища поперек. Тогда я надел башмаки, лег на спину и стал изо всех сил бить по днищу каблуками, стуча, как механический молот. Дело было нелегкое: дубовая доска, крепко стиснутая соседними досками, сопротивлялась долго. Но я настойчиво продолжал колотить по доске — крепления наконец ослабли, и я почувствовал, что дерево поддается. Еще несколько сильных ударов довершили дело, и доска провалилась внутрь.
Немедленно меня окатил с ног до головы мощный поток вина. Оно било не струей, а именно потоком! Прежде чем я успел вскочить на ноги, меня затопило бренди, и я испугался, что утону в нем. Каморка сразу наполнилась. И только потому, что я прижал голову к верхним балкам трюма, бренди не залило мне рот, не то я захлебнулся бы. Оно все же попало мне в горло и глаза — я ослеп и оглох. Только спустя некоторое время мне удалось избавиться от приступа чихания и кашля.
Я вовсе не был склонен веселиться по этому поводу, но я почему-то вспомнил о герцоге Кларенсе, который когда-то выбрал странный род смерти: он пожелал, чтобы его утопили в бочке с мальвазией
[62]. Впрочем, наводнение кончилось так же быстро, как началось. Под полом было достаточно места, и в несколько секунд вино ушло вниз, растворилось в трюмной воде, оставшись там до конца путешествия. Только платье мое промокло, да в воздухе остался сильный запах алкоголя, из-за которого трудно было дышать.
Нос корабля в ту минуту как раз поднимался на волну — бочонок накренился, и это движение в десять минут опорожнило его до единой капли.
Я не стал больше дожидаться.
Отверстие, которое я проделал, было достаточно, чтобы влезть туда, и, кончив чихать и кашлять, я залез внутрь бочонка.
Первым делом я постарался нащупать втулку: я считал, что от нее легче будет начинать резать клепки.
Я легко нашел ее. К счастью, она была не наверху, а сбоку, на подходящей высоте.
Я закрыл нож и стал бить по втулке черенком. После нескольких ударов я вышиб ее наружу и принялся резать клепку.
Не сделал я и дюжины надрезов, как почувствовал, что силы мои удивительно возросли. Раньше я чувствовал сильную слабость, а теперь готов был рвать дубовые клепки голыми руками. Настроение вдруг поднялось, как будто я занимался не серьезным делом, а игрой, исход которой не имел особого значения. Кажется, я насвистывал и, возможно, даже пел. Я совершенно забыл, что нахожусь в смертельной опасности, и мне казалось, что все минувшие страхи просто плод моего воображения: то ли я их придумал, то ли видел во сне.
Тут меня внезапно охватила мучительная жажда, и, мне помнится, я барахтался в бочонке, стараясь вылезть наружу, чтобы выпить воды.
Кажется, я действительно вылез, но не уверен, пил ли я воду. Вообще с этого момента я ничего не помню, потому что неожиданно впал в бессознательное состояние.
Глава XLIX. НОВАЯ ОПАСНОСТЬ
Я оставался без сознания несколько часов, и мне даже не снились, как всегда, мучительные сны. Я не спал, но чувствовал себя так, как будто меня бросили с земли в бесконечное пространство и я быстро лечу вперед или падаю с большой высоты и не могу ни до чего долететь. Это было пренеприятное ощущение — скорее всего, чувство ужаса.
К счастью, оно продолжалось недолго. Когда я попытался приподняться, ощущения мои стали не так мучительны и наконец прошли совсем. Но теперь меня тошнило и голова раскалывалась от боли. Неужели опять морская болезнь? Нет, не может быть! Я больше не страдал морской болезнью. Даже бури я переносил довольно легко, да на море и не было никакого волнения. Дул ветер, но не сильный, и корабль шел спокойно.
Неужели это неожиданный и жестокий приступ лихорадки? Или я упал в обморок от истощения? Нет, у меня уже бывало и то и другое, но новое ощущение не было похоже на прежние.
Я терялся в догадках. Впрочем, скоро мысли мои прояснились, все стало понятно: я был пьян!
Да, я был в состоянии опьянения, хотя ни вина, ни водки не пробовал-ни глотка. Я очень не любил их. Хотя здесь полно бренди — вернее, было полно, потому что оно все ушло под пол, — и я мог утонуть в нем, но я не выпил ни капли. Правда, мне в рот могла попасть капелька или крошечный глоток, когда меня окатило потоком из бочонка. Но от такого количества нельзя опьянеть, даже если бы это был крепкий спиртной напиток. Невозможно! Я опьянел не от этого. От чего же? Ведь от чего-то я стал пьян! Хотя это случилось со мной первый раз в жизни, но я знал, что у меня были все признаки опьянения.
Продолжая размышлять, то есть становиться трезвее, я начал понимать, в чем тут загадка, и наконец раскрыл причину своего опьянения. Не бренди, а пары бренди — вот причина, и ничего более!
Прежде чем влезть в бочонок, я уже ощущал какую-то перемену в своих чувствах, ибо пары спиртного напитка еще снаружи заставили меня чихать. Но это было еще ничего по сравнению с испарениями, которые я вдыхал внутри бочонка. Поначалу я едва мог дышать, но постепенно привык и даже начал находить в них что-то приятное.
Неудивительно, что я сразу приободрился и повеселел.
Продолжая обсуждать происшествие, я вспомнил, что выбрался из бочонка, что жажда заставила меня вылезть. Как хорошо, что я последовал зову жажды! Если бы я остался в бочонке, последствия могли бы стать для меня гибельными. Каков бы ни был исход, он был бы для меня роковым. Скорее всего, я бы остался пьяным — как мог я протрезветь там? Мне становилось бы все хуже и хуже, пока… пока я не умер бы! Кто знает? Простая случайность спасла мне жизнь.
Утолил я жажду раньше или нет, во всяком случае, теперь мне так хотелось пить, что, казалось, я смогу выпить всю бочку до дна. Я немедленно нащупал и наполнил водой свою чашку и не отрывался от нее, пока не выпил чуть не полгаллона.
Мне стало значительно лучше, мозги прояснились, словно промылись водой. Придя в себя, я снова вернулся к размышлениям об опасностях, которые меня окружали.
Прежде всего я подумал о том, как мне продолжить работу, которую я так внезапно прервал. Мне казалось, что я не в состоянии буду взяться за нее снова. Что, если со мной опять произойдет то же самое, если я потеряю способность соображать и не смогу совладать с собой, чтобы выбраться из бочонка?
Быть может, надо работать, пока я не почувствую, что снова пьянею, и тогда поспешно вылезть обратно? А если я не успею и опьянение придет внезапно? Сколько я пробыл в бочонке до того, как со мной случилась эта история, я не мог припомнить. Но я отлично помнил, как это состояние овладело мной, — плавно, мягко, словно окутывая меня прекрасным сновидением, как я перестал думать о последствиях и забыл даже о всех опасностях, угрожавших мне.
Что, если все это повторится и тот же спектакль разыграется заново, только без одного эпизода: жажда не заставит меня покинуть бочонок. Что тогда будет? Я не мог никак ответить на этот вопрос. Опасения, что все повторится сначала, были так сильны, что я боялся снова влезть в бочонок. Впрочем, выхода не было. Я должен сделать это или умереть, не двигаясь с места. «Если уж моя судьба — умереть, — думал я, — так лучше умереть от опьянения». Теперь я убеждался на опыте, что такая смерть безболезненна. Подобные рассуждения прибавили мне мужества — все равно у меня не было выбора и я не мог избрать другой план. Я влез обратно в бочонок.
Глава L. ГДЕ МОЙ НОЖ?
Вернувшись в бочонок, я стал ощупью искать свой нож. Я не запомнил, куда его положил. Искал я его снаружи, но безуспешно и решил, что он остался в бочонке. Я очень удивился тому, что не могу его нащупать, хотя обшарил пальцами всю внутреннюю сторону бочонка.
Я начал беспокоиться. Если нож пропал, то все мои надежды на спасение рухнули. Без ножа я не смогу никуда пробиться и должен буду лежать без дела и ждать, пока свершится моя судьба. Куда мог деться нож? Неужели его утащили крысы?
Я собирался было еще раз вылезть наружу, когда мне пришло в голову ощупать отверстие, над которым я работал, когда в последний раз держал в руках нож. Может быть, он там? К величайшей моей радости, он там и был — он торчал в клепке, которую я собирался разрезать.
Я тут же взялся за работу и принялся расширять отверстие. Но лезвие ножа от долгого употребления иступилось, и резать крепкий дуб было все равно, что долбить камень. Я работал четверть часа и за это время не сделал надреза глубиной и в восьмую дюйма. Я начал терять надежду проделать дыру в клепке.
У меня снова появилось странное ощущение в голове, хотя я мог еще оставаться на месте некоторое время, — таково обычно действие опьянения. Но я обещал самому себе, что при малейшем его признаке уйду из опасного места. К счастью, у меня хватило решимости выполнить обещание, и я вовремя выбрался к бочке с водой.
Я сделал это очень своевременно. Останься я в бочонке с бренди еще десять минут, я бы, конечно, потерял сознание: я опять начал чувствовать опьянение.
Но когда действие алкоголя прекратилось, я почувствовал себя еще несчастнее, чем раньше: я понял, что из-за этого препятствия рушатся последние надежды. Я убедился, что могу работать, только делая перерывы, но приходилось работать подолгу: с тупым лезвием я немногого мог добиться. Пройдет несколько дней, прежде чем я прорублю стенку бочонка. А я не мог ждать нескольких дней. Запас крошек уменьшался катастрофически. В сущности, у меня оставалась одна горсть крошек. Я и трех дней не проживу! Шансы спастись становились все меньше, и я снова был близок к полному отчаянию. Если бы я знал наверно, что за бочонком меня встретит новый запас пищи, я бы работал с большей настойчивостью и энергией. Но это было сомнительно. Десять шансов против одного, что я не найду ни ящика с галетами, ни вообще чего-нибудь съедобного.
Единственный выигрыш от того, что я взломал бочонок с бренди, был выигрыш в пространстве.
Если я проберусь дальше, за бочонок, и там не найдется пищи, то я смогу перенести какой-нибудь предмет внутрь бочонка и очистить себе дорогу для дальнейших поисков.
Дело принимало новый оборот. Но тут еще лучшая идея озарила мой мозг и придала моим мыслям радостный оттенок. Вот что я придумал: если я легко прокладываю дорогу от ящика к ящику, почему бы не проложить ход наверх и не добраться до палубы?
Мысль эта меня поразила. До сих пор она, как ни странно, ни разу не приходила мне в голову. Я объясняю это подавленным состоянием, в котором долго находился и при котором такая попытка показалась бы невозможной.
Правда, наверху огромное количество ящиков, один на другом. Они заполняют весь трюм, на дне которого я нахожусь. Я вспомнил и то, что в свое время так меня удивило: что погрузка шла необыкновенно долго — она продолжалась два дня и две ночи. Теперь все понятно. Весь огромный груз должен быть надо мной. Если считать, что там около десятка ярусов и что я могу в день пройти только через один ярус, то это составит десять дней работы — и я окажусь под палубой!
Эта отрадная мысль была бы совсем хороша, приди она мне в голову раньше, но теперь она сопровождалась величайшими сожалениями. Не слишком ли поздно я додумался, как спастись? Не глупо ли вел себя до сих пор? Будь у меня ящик с
галетами, я бы легко мог привести этот план в исполнение, но теперь… увы, остались жалкие крошки! Нет, план был безнадежный.
Но все-таки я не мог отказаться от прекрасной надежды завоевать себе жизнь и свободу. Я отбросил все печальные сомнения и стал обдумывать дальнейшее положение.
Самое главное было выиграть время, и это беспокоило меня больше всего. Я боялся, что, прежде чем проделаю отверстие на другом конце бочонка, пища у меня кончится и силы оставят меня. Возможно, что я умру в самом разгаре работы.
Я погрузился в глубокое раздумье. И вдруг еще одна новая мысль зародилась у меня в голове. Это была очень неплохая мысль, хотя она может показаться ужасной тому, кто не голодал. Голод и страх смерти делают человека неприхотливым, а желудок уступчивым.
Я перестал быть разборчивым и не привередничал с едой. В сущности, я готов был съесть все, что годится в пищу. А теперь расскажу вам, что я придумал.
Глава LI. КРЫСОЛОВКА
Я уже давно не упоминал о крысах. Но не думайте, что они ушли и оставили меня в покое! Нет, они шныряли вокруг меня все так же проворно и суетливо. Нельзя было вести себя наглее! Они только не нападали на меня, но не замедлили бы напасть, если бы я не остерегался.
Что бы я ни делал, я прежде всего заботился о том, чтобы отгородиться от них стенами, построенными из рулонов материи. Только таким образом я держал их в отдалении. Переходя с места на место, я то и дело слышал их рядом и натыкался на них; два или три раза они меня кусали. Только моя исключительная бдительность и осторожность удерживали их от нападения.
По этому отступлению вы, конечно, догадаетесь, к чему я веду разговор, и поймете, что за мысль овладела мной. Мне пришло в голову, что, вместо того чтобы позволить крысам съесть себя, лучше я съем их сам. Да, вот к какому выводу привели меня размышления!
Мне вовсе не было противно думать о такой пище — и вам бы не было противно, если бы вы оказались в моем положении. Наоборот, я был очень доволен, что дошел до такой мысли, потому что с ее помощью мог осуществить свой план: добраться до палубы — другими словами, спасти свою жизнь. Больше того, я чувствовал себя уже спасенным. Оставалось только осуществить свое намерение.
Я знал, что крыс в трюме много: раньше количество их меня пугало, но теперь я относился к этому иначе. Во всяком случае, их достаточно, чтобы обеспечить мне провиант надолго. Вопрос был только в том, как их поймать.
Конечно, смело хватать их руками и душить, пока они не издохнут. Я уже пытался их ловить, но без успеха. Как вы знаете, я убил одну единственным способом, который имелся в моем распоряжении, и тем же способом я мог убить еще одну или двух, но это было все равно что ничего. Предположим, что я убью двух крыс, остальные станут меня бояться и уйдут далеко в трюм. Следовало придумать, как их поймать побольше сразу и сделать запас пищи на десять — двенадцать дней. За это время я могу ведь наткнуться и на более подходящую пищу. Это будет умнее, да и надежнее. И я стал придумывать способ убить одним ударом несколько крыс.
Нужда порождает изобретения. Полагаю, что именно нужде, а не своему таланту я обязан тем, что придумал крысоловку. Это было простейшее приспособление, но я был уверен, что оно вполне подойдет. Следовало сделать большой мешок из сукна, что было очень легко: отрезать кусок материи надлежащей длины, сложить его и прошить бечевкой. Бечевки у меня было много, потому что рулоны материи были связаны крепким шпагатом, куски которого валялись рядом. Нож послужит мне вместо иголки, и при помощи этого же инструмента я протащу вокруг отверстия мешка кусок шпагата, чтобы затягивать мешок, когда попадется крыса.
Так я и сделал. Меньше чем через час у меня был мешок с веревкой вокруг отверстия — крысоловка была готова к употреблению.
Глава LII. ОДНИМ УДАРОМ
Я приступил к выполнению своего намерения. Я тщательно все продумал, приготовляя мешок. Теперь оставалось «поставить западню».
Сначала я убрал груды сукна, чтобы очистить место. Тут мне помог пустой бочонок из-под бренди — я наполнил его материей.
Я заткнул все щели и дыры, оставив только одну, самую большую, которой крысы обычно пользовались для посещений.
Перед этим отверстием я разложил мешок так, чтобы он покрыл его целиком, остальную часть мешка я растянул на палочках, которые сделал специально для этого, придав им надлежащую длину. Встав на колени у самого отверстия мешка, я растянул его пошире, а веревку взял в руки, держа ее наготове. В таком положении я стал ждать появления крыс.
Я был уверен, что они войдут в мешок, потому что положил в него приманку. Приманка состояла из нескольких крошек — это были последние из моего запаса. Как говорят моряки, я «поставил на карту последний грош». Я рисковал всем. Если крысы съедят крошки и убегут, у меня не останется больше никакой пищи.
Я знал, что грызуны не замедлят явиться, сомневался только, будет ли хороший «улов». Я боялся, что они начнут прибегать по одной и растащат всю приманку. Поэтому я истолок крошки в настоящий порошок. Я рассчитывал, что первые посетители задержатся и в мешок постепенно набьется множество крыс. Тогда я закрою им обратный путь, затянув веревку.
Мне повезло. Не больше минуты пришлось мне стоять на коленях: я услышал снаружи топот маленьких лапок и повизгиванье пронзительных голосов. В следующий момент мешок зашевелился у меня под руками — мои жертвы наполнили его. Толчки становились все более резкими, и я убедился в том, что крыс становится все больше и каждая старается пробиться к хлебному порошку. Они толкались, взбирались друг на друга и ссорились, яростно пища.
Настала решающая минута — я потянул веревку. В следующее мгновение я плотно затянул ее, и отверстие мешка наглухо закрылось.
Ни одна крыса не вышла обратно. Я с удовольствием установил, что мешок до половины заполнен этими свирепыми существами.
Однако я не мог терять времени на возню с ними. Часть пола в моем помещении была совершенно ровная и прочная, это были твердые дубовые доски корабля. Я положил туда мешок с крысами, накрыл его доской и влез наверх, изо всех сил действуя коленями и придавливая крыс своей собственной тяжестью.
Крысы толкались, царапались, барахтались, кусались, и я слышал их вопли в мешке. Я не обращал на них никакого внимания и продолжал давить крыс, пока подо мной не прекратилось движение и не наступило полное молчание.
Затем я открыл мешок и ознакомился с его содержимым. Я был вознагражден за массовое истребление своих врагов. В «крысоловке» находилось множество крыс, и все они были убиты!
Я пересчитывал их с большой осторожностью, вынимая одну за другой из мешка. Их было десять!
— Ага, — воскликнул я, обращаясь к крысам, — наконец-то я поймал вас, негодные твари! Это вам за то, что вы мучили меня! Если бы вы оставили меня в покое, вы избежали бы своей злой судьбы. Но вы не оставили мне никакого выбора. Вы сожрали мои галеты, и, для того чтобы спастись, от голодной смерти, я вынужден есть вас!
Окончив свое обращение, я начал сдирать шкурку с одной из крыс.
Если вы думаете, что я чувствовал какую-нибудь брезгливость, то глубоко ошибаетесь. Да, голод сделал меня неразборчивым!
Я был так голоден, что не постарался даже как следует содрать шкурку. Через пять минут крыса была съедена.
Глава LIII. КРУГОМ!
Дела мои теперь решительно изменились к лучшему. Продовольственный склад наполнился пищей, которой хватит по меньшей мере на десять дней, потому что я принял решение съедать по одной крысе в день. Теперь я мог надеяться на выполнение своей задачи — задачи, которая до сих пор казалась мне невыполнимой, — проложить дорогу к палубе.
«Если я буду съедать по крысе в день, — думал я, — то не только спасусь от смерти, но восстановлю свои силы. Регулярно работая десять дней подряд, я достигну верхнего яруса груза, наполняющего трюм. Может быть, даже скорее! Чем скорее, тем лучше; но за десять дней я наверняка доберусь до верха, даже если между мной и палубой лежит десять этажей ящиков».
Таковы были новые надежды, воодушевлявшие меня после удачной охоты на крыс. Снова ко мне вернулись уверенность и хладнокровие, которых я уже давно не ведал.
Только одно обстоятельство смущало меня — бочонок из-под бренди. Теперь я уже не боялся, что работа в нем займет слишком много времени, ибо времени у меня было достаточно. Но я все еще опасался испарений алкоголя, которые внутри бочонка были все так же крепки. Я опасался, что снова потеряю сознание, несмотря на мое решение быть настороже и не оставаться слишком долго в бочонке. Ведь когда я вторично влез туда, я едва успел выбраться обратно!
Все-таки я решил сопротивляться изо всех сил действию резкого запаха, царившего внутри бочонка, и отступить в ту минуту, когда почувствую, что больше не могу ему противостоять.
Хотя мне уже не приходилось так дорожить временем, как раньше, я не собирался тратить его попусту. Запив свой обед большим количеством воды из бочки, я вооружился ножом и направился к пустому бочонку, чтобы снова попытаться расширить отверстие.
Да, ведь бочонок полон материи! Увлекшись охотой на «дармоедов», я забыл, что засунул в пустой бочонок всю материю.
«Конечно, — думал я, — надо снова освободить бочонок, а то мне не хватит места для работы». Я отложил нож и стал вытаскивать рулоны.
За этим делом мне пришли в голову новые вопросы:
«Зачем я вытаскиваю материю из бочонка? Пусть она лежит там, где лежала. Зачем мне вообще нужен этот бочонок?»
Действительно, теперь незачем пробиваться в этом направлении. Раньше это имело смысл — там могла оказаться пища. Но теперь, для моего нового предприятия, вовсе не нужно было пролезать сквозь этот бочонок. Наоборот, это был самый неправильный путь. Он ведь не вел к палубному люку, а мне нужно было именно туда прокладывать туннель. Я точно знал, где находится люк, потому что помнил, каким путем шел от люка к бочке с водой, когда впервые спустился в трюм.
Я тогда сразу повернул направо и по прямой линии пролез к бочке. Все эти подробности я отчетливо помнил и был уверен, что нахожусь где-то около середины корабля, в той стороне, которую моряки называют «штирборт"
[63]. Идти через бочонок — значит уклоняться от главного люка, через который я попал сюда. Мало того, длительная работа над дубовой клепкой может привести к тому, что я задохнусь в испарениях алкоголя. Гораздо легче пробиться через еловые ящики, чем через дубовую бочку; да я уже и начал пробиваться в том направлении, то есть вправо. Обсудив все, включая опасности и трудности, я пришел к выводу, что через бочонок продвигаться не следует. И я повернул направо.
Перед тем как взяться за ящики, я снова уложил материю в бочонок. Я укладывал ее аккуратнейшим образом, рулон за рулоном, и придавливал, сколько у меня хватало сил.
Я догадался также спрятать убитых крыс в мешок и затянуть веревку. Ведь не все корабельные крысы были уничтожены, и я боялся, что собратья этих мерзких созданий могут возыметь намерение съесть своих товарищей. Я слышал, что у этих отвратительных животных бывают и такие повадки, и решил уберечь свой улов.
Когда все было сделано, я выпил чашку воды и забрался в один из пустых ящиков.
Глава LIV. ДОГАДКИ
Я находился в ящике из-под сукна, который стоял рядом с ящиком из-под галет. Я выбрал первый ящик отправной точкой для моего туннеля.
Вы думаете, что, забравшись в него, я сразу приступил к работе? Нет! Я довольно долго лежал не шевелясь. Но я не бездействовал, а усиленно думал.
План, который я только что составил, пробудил во мне новую энергию. Надежда на спасение овладела мной сейчас так сильно, как никогда с самого начала моего заточения. Перспективы открывались превосходные. Обнаружив в свое время бочку с водой и ящик с галетами, я испытал, правда, огромную радость — я убедился в том, что мне хватит пищи и питья до конца путешествия. Но впереди было тюремное заключение — мне предстояло претерпеть месяцы молчания и мрачного одиночества!
Теперь все шло по-другому. Если судьба мне улыбнется, то через несколько дней я увижу сияющее небо, вдохну в себя чистый воздух, увижу лица людей и услышу сладчайшие из всех звуков — голоса моих собратьев.
Я чувствовал себя как путник, который после долгого странствования по пустыне видит на горизонте признаки жизни цивилизованных людей: темные очертания деревьев, голубой дымок, поднимающийся над дальним очагом… Все это порождает в нем надежду, что скоро он вернется в среду своих товарищей.
Такая надежда была и у меня. С каждой минутой она становилась все сильнее и превращалась в уверенность.
Именно эта уверенность, может быть, и удерживала меня от слишком поспешного выполнения плана. Дело было слишком серьезно, чтобы относиться к нему легкомысленно и осуществлять его поспешно и небрежно. Могли возникнуть непредвиденные обстоятельства, из-за пустого случая все могло провалиться.
Чтобы избежать этого, я решил действовать с величайшей осторожностью и, перед тем как приступить к делу, обдумать все самым тщательным образом.
Одно было ясно — моя задача была совсем не легка. Я уже говорил, что находился на дне трюма, а я прекрасно знал, каким глубоким может быть трюм на большом корабле. Я вспомнил, что скользил по канату очень долго, пока добрался донизу. И когда после этого взглянул наверх, то увидел отверстие люка высоко над собой. Если все это пространство загружено товарами — а это, без сомнения, так и есть, — то предстоит проделать длинный туннель.
Кроме того, я буду прокладывать себе дорогу не только вверх, но и по направлению к люку, то есть придется пройти и половину ширины судна. Последнее меня не очень беспокоило, я знал, что все равно не удастся двигаться по прямой линии, потому что на пути непременно будут встречаться грузы. Придется обходить тюки с полотном или другими твердыми предметами такого рода. И каждый раз надо будет решить, двигаться вверх или в горизонтальном направлении, то есть выбирать то, что полегче.
Таким образом, я буду как бы подниматься по ступенькам, все время направляясь к люку.
Однако ни число ящиков, ни расстояние до палубы не беспокоило меня так сильно, как характер товаров, заключающихся в этих ящиках. Вот мысль, которая занимала меня больше всего, потому что трудности могут увеличиться или уменьшиться в зависимости от того, какие материалы придется убирать с пути. Некоторые товары, будучи распакованы, увеличиваются в объеме, и, если я не сумею их уплотнить, мне будет угрожать недостаток пространства для работы. В сущности, это было худшее из моих опасений. Я уже раз испытал, что это за несчастье, и если бы не удача с бочонком из-под бренди, то все мои нынешние планы оказались бы невыполнимыми.
Больше всего я боялся полотна. Оно «непроходимо», а если его вынимать кусками, то сложить обратно почти невозможно. Оставалось надеяться, что среди груза немного этой прекрасной и полезной ткани.
Я передумал о множестве вещей, которые могли находиться в большом деревянном хранилище «Инки». Я даже старался припомнить, что за страна Перу и какие товары туда возят из Англии, но так ничего и не вспомнил — я ведь был полным невеждой в области экономической географии. Одно было ясно: я мог встретить на своем пути любые товары, производимые в наших крупных промышленных городах. Около получаса я провел в размышлениях такого рода и убедился в их полной бесполезности. В лучшем случае это догадки. Нельзя определить, «какой металл находится в земле, пока его не тронешь ломом».
Пора было приступать к работе. Отбросив всякие рассуждения и домыслы, я начал осуществлять свою задачу.
Глава LV. Я МОГУ СТОЯТЬ ВО ВЕСЬ РОСТ!
Вы, конечно, помните, что при моей первой экспедиции в ящики с материей, когда я надеялся найти галеты или что-нибудь съестное, я обследовал и те грузы, которые их окружали, и те, которые были размещены над ними. Вы помните также, что сбоку от первого ящика, ближе к главному люку, я нашел тюк с полотном; над этим ящиком был еще один такой же ящик с материей. В последнем ящике я уже проделал отверстие, поэтому мог считать, что путь вверх мной начат. Опустошив верхний ящик, я поднимусь на одну ступень в нужном направлении. Я уже раньше пробил одну сторону первого ящика и прилегающую к нему сторону второго, — значит, время и труд, ушедшие на это дело, не потеряны напрасно. Теперь оставалось только вытащить рулоны материи из верхнего ящика и сложить их позади.
Задача была не из легких. Мне снова пришлось пройти через те трудности, что и раньше. Трудно было отделить рулоны друг от друга и стащить их с мест, где они были тщательно уложены. Однако я справился с ними. Я вынимал их по одному и относил — вернее, оттаскивал — в самый дальний угол моего помещения, возле бочонка из-под бренди. Там я их приводил в порядок, не как-нибудь, небрежно, а с величайшим старанием, чтобы они занимали поменьше места и не оставалось пустых углов между ними и балками трюма — углов, в которых могли притаиться крысы.
Впрочем, я об этом теперь не очень-то беспокоился. Я больше не думал о крысах. Я знал, что они находятся где-то по соседству, но мой последний кровавый «набег» нагнал иа них страху. Отчаянные вопли крыс, попавших в мою ловушку, разнеслись по всему трюму и послужили хорошим предупреждением для остальных. Без сомнения, то, что они слышали, сильно напугало их. Убедившись, что я опасный сосед, они уступили мне господство над трюмом на весь остаток путешествия.
Поэтому не боязнь крысиного нашествия заставила меня закупорить все лазейки, а просто экономия пространства, потому что, как я уже говорил, именно этот вопрос внушал мне самые большие опасения.
Итак, работая усиленно и осторожно, я очистил наконец верхний ящик и сложил его содержимое позади себя. Теперь я был вполне уверен, что сохранил максимум ценнейшего для меня пространства.
Результат работы меня приободрил, и я пришел в прекрасное настроение, какого у меня уже давно не было. С веселым сердцем поднялся я в верхний ящик — в тот, который только что опорожнил, — и, положив доску поперек отверстия на дне, сел на нее, свесив ноги. В таком новом для меня положении я мог сидеть выпрямившись, отчего испытывал величайшее удовольствие. Я долго находился в помещении высотой немного более трех футов — а во мне было роста четыре фута — и вынужден был стоять наклонившись или сидеть, согнув колени и упрятав в них подбородок. Это небольшие неудобства, когда их испытываешь недолго, но когда они затягиваются, начинаешь утомляться и чувствуешь боль во всем теле. Поэтому возможность сидеть, выпрямив спину и вытянув ноги, была для меня не только отдыхом, но и роскошью. Больше того, я мог даже стоять во весь рост, потому что проломленные ящики соединялись между собой и от дна одного до крышки другого было полных шесть футов.
Я недолго оставался в сидячем положении. Я встал во весь рост и сразу заметил, как приятно так отдыхать. Обычно люди отдыхают сидя, я же делал это стоя. И в этом нет ничего странного, если вспомнить, сколько долгих дней и ночей я провел сидя или стоя на коленях. Я был счастлив занять то гордое положение, которое отличает человека от других существ. Я чувствовал, что возможность стоять во весь рост — это подлинное наслаждение, и довольно долго оставался в этом положении, не шевеля ни одним мускулом.
Но я не терял времени даром. Мозг мой, как всегда, работал. Я думал о том, какое избрать направление для туннеля: прямо вверх, через крышку вновь очищенного ящика, или через тот его конец, который находился в стороне люка? Мне приходилось выбирать между горизонтальным и вертикальным направлением. Каждое имело свои преимущества — преимущества, которые противоречили друг другу. Взвесить все это и окончательно определить, в каком направлении мне продвигаться, было так существенно, что прошло порядочно времени, прежде чем я мог сделать заключение и определить, каковы будут мои дальнейшие планы.
Глава LVI. ОЧЕРТАНИЯ КОРАБЛЯ
Было одно соображение, по которому мне следовало продвигаться вверх, через крышку ящика. Избрав это направление, я скорее достигну верхнего яруса груза; там я могу отыскать свободное пространство между грузом и палубой и пройти к люку. Туннель будет меньше, ибо вертикальная линия короче, чем диагональная, направленная прямо к люку. В сущности, каждый фут, пройденный по горизонтали, можно считать не пройденным вовсе, потому что после этого все равно нужно будет еще подниматься по вертикали.
Весьма возможно, что между грузом и бимсами, на которых лежит палуба, есть пустое пространство. Рассчитывая на это, я намеревался двигаться по горизонтали только в том случае, если меня вынудит к этому какое-нибудь препятствие, которого я не сумею одолеть. Но все-таки я решил начать работу именно по горизонтали по трем причинам. Во-первых, доски боковой стенки ящика почти совсем отошли, и их легко было выломать. Во-вторых, просунув нож через крышку, я нащупал мягкий, но упругий материал, очень похожий на ужасные тюки, которые уже раньше мешали мне и которые я всячески проклинал.
Я совал нож в трещину в разных местах и везде натыкался на что-то, явно напоминающее тюк с полотном. Я попробовал конец ящика — там клинку сопротивлялось дерево. Это, видимо, была ель, из которой были сделаны и другие ящики. Но будь это даже самое твердое дерево, я бы сладил с ним скорее, чем с полотном. Уже этого было достаточно, для того чтобы выбрать горизонтальное направление.
Но у меня имелось еще и третье соображение.
Это третье соображение нелегко понять тому, кто незнаком с устройством трюмов на кораблях, то есть на кораблях того времени, а это было много лет назад. Для кораблей, построенных иначе, — в частности, для тех, которые мы научились строить у американцев, — это соображение неприменимо.
Для того чтобы вы могли понять все это, придется пуститься в подробности. Но в то же время, уклонившись немного от нити повествования, я надеюсь, мои юные друзья, преподать вам урок политической мудрости, который может быть полезен и вам, и вашей стране, когда вы вырастете и сумеете им воспользоваться.
Я являюсь сторонником теории, или, вернее сказать, я уже давно осознал тот факт (потому что здесь нет никакой теории), что изучение того, что обычно называют «политическими науками», есть самое важное из всего, что когда-либо занимало внимание людей. Эта область охватывает все сферы жизни и оказывает влияние на всю общественную жизнь. Любое из искусств, наук и ремесел связано с нею, и от нее зависит их успех или неудача. Даже сама мораль есть не более как производное от политического устройства, и преступление есть следствие плохой организации общества. Политическое устройство страны есть основная причина ее благосостояния или нищеты. Никогда еще правительство не делало ничего, хотя бы похожего на справедливость. Отсюда — нет такого народа, который был бы когда-нибудь счастлив! Бедность, нищета, преступление, вырождение — вот судьба большинства во всех странах!
Итак, как я уже сказал, законодательство страны — другими словами, ее политическое состояние — распространяется на все. Сюда относится и корабль, на котором мы плывем, и повозка, в которой мы едем, и орудия нашего труда, и утварь, которой мы пользуемся в наших жилищах, и даже удобства самих жилищ. Но еще важнее то, что они влияют на нас самих — на наши тела и склонности наших душ. Росчерк пера деспота или глупое постановление парламента, которые, как кажется, не имеют личного отношения к кому бы то ни было, на самом деле могут оказать косвенное и невидимое влияние, которое в течение жизни одного поколения сделает народ безнравственным и подлым.
Я бы мог доказать то, что я заявляю, с математической точностью, но у меня нет на это времени. Хватит того, что я приведу вам один пример. Вот послушайте!
Много лет назад британский парламент утвердил закон об обложении налогом судов, ибо и суда, как и все остальное, должны платить за право существования. Возник вопрос, как распределить этот налог. Вряд ли было бы справедливо заставить владельца маленькой шхуны платить такие же громадные суммы, какие должен вносить владелец большого корабля в две тысячи тонн. Это уничтожило бы все прибыли мелкого судовладельца и разорило бы его вконец. Как же можно было выйти из этого затруднения? Нашлось разумное решение: брать налог с каждого судна в зависимости от его тоннажа.
Это предложение было принято. Но возникла другая трудность: как раскладывать налог? Ведь следует брать налог с объема корабля, а тоннаж — это вес, а не объем. Как же преодолеть эту новую трудность? Пришлось просто установить какую-то единицу объема, которая соответствует тонне веса, и потом уже измерить, сколько таких единиц вмещается в корабль. В сущности, дело свелось к измерению корабля, а не к весу.
Тогда решили мерить корабли определенным образом, чтобы установить их сравнительную величину. Это было очень точно подсчитано путем установления длины их киля, ширины бимсов и глубины трюма. Перемножив все это, мы получим сравнительную величину судов, если эти суда правильно построены.
Таким образом, был установлен закон, вполне подходящий для взимания налога, и вы, вероятно, подумаете (если вы не глубокий мыслитель), что этот закон никак не мог оказать дурное действие, разве только для тех, кто вынужден был платить налог.
Нет, дело обстояло иначе. Этот простой, с виду невинный закон, причинил человеческому роду больше зла, расточил больше времени, отнял у него больше жизней и поглотил больше богатств, чем потребовалось бы, чтобы выкупить на свободу всех рабов, имеющихся сейчас в мире.
Как это могло произойти? Не сомневаюсь, что вы спросите об этом с удивлением.
Это произошло просто потому, что не только остановился всякий прогресс и усовершенствования в области судостроения — а это одно из самых важных искусств, которыми владеет человек, — оно было отброшено назад на сотни лет. А беда приключилась вот как: владелец нового корабля, не имея никакой возможности обойти тяжелый налог, старался уменьшить его насколько возможно, ибо такие нечестные приемы являются постоянным и естественным результатом переобременения налогами. И вот владелец отправляется к судостроителю. Он приказывает построить корабль с такими-то и такими-то размерами киля, бимсов и глубины трюма — другими словами, с таким тоннажем, который соответствует определенному уровню налога. Но он не останавливается на этом. Он требует от строителя, чтобы тот, по возможности, построил судно такого объема, который на треть превысил бы законный тоннаж, с которого уплачивается налог. Это облегчит ему выплату налога и поможет обмануть правительство, наложившее такую тяжелую дань на его предприятие.
Можно ли построить корабль, который ему нужен? Вполне! И судостроитель знает, как это сделать. Для этого нужно круто выгнуть носовую часть судна, сделать его сильно выпуклым по бортам, расширить корму и, в общем, придать ему такую нелепую форму, что оно будет двигаться медленно и станет могилой для многих злополучных моряков. Да, строитель не только знает, как это сделать, — повинуясь воле судовладельца, он строил подобные суда так долго, что сам уверился, будто эта неуклюжая конструкция есть правильно построенный корабль, и теперь уже не хочет и не может построить судно по-другому. Еще более грустно, что эта неповоротливая форма корабля так запечатлелась у него в мыслях, так засела в голове, что, когда глупый закон будет отменен, понадобятся долгие годы, чтобы заставить его отказаться от хитрости и обмана. В сущности, надо дождаться, чтобы подросло новое поколение судостроителей, и тогда у нас начнут строить суда правильной и удобной формы…
Теперь вы поймете, что я имею в виду, когда утверждаю, что политические науки есть самое важное из всего, что должно занимать внимание людей.
Глава LVII. СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
Добрый корабль «Инка», как и многие другие, был построен по приказу владельца-купца. Он имел «выпяченную грудь» и по бокам выдавался таким образом, что трюм его был шире бимсов. А если вы посмотрите вверх со дна трюма, то увидите, что его бока изгибаются и сходятся над вашей головой, как крыша. Я знал, что «Инка» построен именно так, потому что все торговые суда строились по одному образцу, а я перевидал немало кораблей, заходивших к нам в бухту.
Я уже говорил, что, проверяя кончиком ножа содержимое груза, который находился над опустошенным мной ящиком, я нащупал что-то мягкое, похожее на полотно. Потом я обнаружил, что тюк с полотном занимает только часть крышки верхнего ящика; около фута оставалось свободным с той стороны, где ящик прилегал к корпусу корабля. Я в двух местах просовывал кончик ножа сквозь щели, и оба раза не встречал препятствий. Я решил, что там ничего нет и около фута пространства за тюком вовсе не заполнено.
Это легко объяснить. Тюк лежал на двух ящиках с материей и находился как раз в том месте, где борт корабля начинал загибаться внутрь; сверху он упирался в балки трюма, а нижний его угол, очевидно, отходил от обшивки примерно на фут. Так получился пустой треугольник, который годился только для мелких грузов.
Я рассудил, что, если идти вверх по прямой линии, в конце концов упрешься в борт корабля, который загибается все больше по мере приближения к палубе, и мне придется на пути встретить множество препятствий — мелких грузов, с которыми труднее справиться, чем с большими ящиками. Эти соображения, как и те, о которых я уже говорил выше, заставили меня окончательно принять решение сделать свой следующий шаг по горизонтали.
Хорошенько отдохнув, я всунул руки в верхний ящик и, подтянувшись повыше, принялся за работу.
Я очень обрадовался, очутившись в этом верхнем ящике. Я оказался как бы во втором ярусе, на расстоянии шести футов от дна трюма. Я уже пробрался на три фута вверх — значит, на три фута ближе к палубе, к небу, к людям, к свободе!
Внимательно оглядев стенку ящика, в которой собирался проделать дыру, я, к полному своему удовольствию, увидел, что она держится очень плохо. Просунув нож сквозь щель, я убедился вдобавок, что соседний ящик отстоит на несколько дюймов, потому что едва мог достать его кончиком лезвия. Это было явное преимущество. Достаточно нанести сильный удар или сделать толчок — и доска выпадет из ящика наружу.
Так я и сделал: надев ботинки, лег на спину и стал выбивать дробь каблуками.
Раздался скрежет, гвозди подались; еще толчок-другой — доска вылетела и провалилась в промежуток между ящиками, куда я не мог достать.
Я немедленно просунул руки в новое отверстие, пытаясь определить, что там лежит дальше. Но хотя я нащупал шершавые доски ящика, я не в состоянии был понять, что там за груз.
Я вышиб вторую доску, потом третью, то есть последнюю, — и одна из сторон ящика оказалась открытой.
Это давало мне возможность хорошо обследовать то, что стояло дальше, и я стал продолжать свои розыски. Но, к моему удивлению, я увидел, что шершавая деревянная поверхность тянется во все стороны на большое расстояние. Она поднималась, как стена, вверх и уходила в стороны так далеко, что, как я ни вытягивал руки, я не мог достать до края или до угла.
Видимо, это был ящик иной формы и величины, чем те, которые мне встречались до сих пор, но я не имел ни малейшего представления о том, что в нем содержится. В нем не могло быть шерстяной материи, а то он был бы похож на другие ящики. Не могло в нем быть и полотна — последнее меня даже утешало.
Чтобы узнать, что это такое, я просунул клинок в щели крепкой сосновой доски. Там было что-то вроде бумаги. Но это была только упаковка, потому что дальше клинок наткнулся на нечто твердое и гладкое, как мрамор. Нажав посильнее, я почувствовал, что это, однако, не камень, а дерево, но очень твердое и к тому же с хорошо отполированной поверхностью. Я ударил ножом, и в ответ послышалось странное эхо, какой-то долгий звенящий звук, но я так и не мог понять, в чем тут дело. Оставалось только взломать ящик, и тогда я, может быть, получше ознакомлюсь с его содержимым.
Я поступил так же, как раньше: выбрал одну из стенок большого ящика и стал резать ее ножом посередине. Она оказалась шириной дюймов в двенадцать, и работа заняла много часов. Нож мой сильно затупился, и работать стало труднее.
Наконец я справился и с этой доской. Отложив нож, я принялся отгибать отрезанный конец. Пространство между двумя ящиками позволило расшатать доску настолько, что гвозди на ее концах вылетели и сама доска под конец упала вниз.
Так же я поступил и со второй ее половиной. Теперь в большом ящике открылось отверстие, достаточное, чтобы исследовать его содержимое.
По твердой и гладкой поверхности какого-то предмета были разостланы листы бумаги. Я вытащил бумагу, очистил эту поверхность и провел по ней пальцами. Это было дерево, настолько гладко отполированное, что поверхность его казалась стеклянной. На ощупь она походила на поверхность стола из красного дерева. Я бы так и остался при убеждении, что это стол, но, когда я постучал по нему суставами пальцев, снова раздался тот же звенящий гул. Я ударил посильнее — и получил в ответ долгий вибрирующий музыкальный звук, напоминающий эолову арфу. Теперь я понял, что большой предмет — это фортепиано. Я уже был знаком с этим инструментом. Он стоял в углу нашей маленькой гостиной, и моя мать извлекала из него прекрасные звуки. Да, предмет с гладкой поверхностью, загородивший мне дорогу, был не что иное, как фортепиано.
Глава LVIII. В ОБХОД ФОРТЕПИАНО
Я убедился в этом без особого удовольствия. Без сомнения, фортепиано на пути моего продвижения представляло серьезное препятствие, если не полную преграду. Очевидно, это было большое фортепиано, намного больше того, которое стояло в гостиной в домике моей матери. Фортепиано стояло на боку, а крышка его была обращена ко мне; и по резонансу в ответ на мои удары я сразу определил, что оно сделано из красного дерева толщиной в дюйм, а то и больше. Притом дерево было цельное, так как на всем протяжении я не нашел ни одной щелки, чтобы проделать в нем дыру. Надо было прямо резать его и сверлить.
Даже если бы это была простая ель, мне пришлось бы основательно потрудиться с таким инструментом, какой у меня был в руках, а тут передо мной было красное дерево, очень прочное благодаря полировке и лаку.
Но предположим, что удастся проделать дыру в крышке фортепиано — труд тяжелый и утомительный, но возможный, — что тогда? Придется вынуть все его внутреннее устройство. Я очень мало разбирался в механизме таких инструментов. Я припоминал только множество кусочков из белой и черной слоновой кости и огромное количество крепких металлических струн. И какие-то планки, которые располагались то продольно, то поперечно, да еще педали — трудно будет все это разобрать и вынуть. Кроме того, имеются корпус из твердого красного дерева и стенка ящика на другой стороне, в которой надо проделать отверстие, чтобы вылезть наружу.
Но были и другие трудности. Если даже мне удастся разобрать внутренние части инструмента, вытащить их и сложить позади себя, найдется ли внутри фортепиано достаточно места, чтобы я смог просверлить его противоположную стенку и стенку ящика и дальше проделать себе вход в следующий ящик? Это было сомнительно.
Нет, впрочем, сомнений не было: ясно, что я этого не смогу сделать.
Трудность этого предприятия омрачила меня. Чем больше я о нем думал, тем меньше хотелось мне браться за него.
Наконец, подумав хорошенько, я отбросил эту мысль. Вместо того чтобы идти напролом через стену из красного дерева, я решил пуститься в обход.
Необходимость принять это решение немало меня опечалила — я потерял ведь полдня в работе над ящиком. И все это оказалось напрасным. Но делать было нечего. Не было времени на пустые сожаления. И, как генерал, осаждающий крепость, я решил начать с разведки, чтобы найти лучший путь для «охвата крепости с флангов».
Я был по-прежнему уверен, что надо мной находятся тюки с полотном, и это убеждение отбило у меня всякую охоту к работе в этом направлении. Оставалось выбирать между правой и левой стороной.
Я знал, что прокладка этих путей не даст никаких особенных преимуществ. Она ни на дюйм не приблизит меня к желанной цели. Когда я сделаю следующий шаг, я все равно буду только во «втором ярусе». Это было невесело — новая потеря времени и сил! Но я так боялся ужасного тюка с полотном!
Однако у меня теперь было одно преимущество: взломав боковую стенку ящика с материей, я обнаружил, как вы уже знаете, порядочное расстояние между ним и деревянной упаковкой фортепиано. Теперь я запущу туда руку по самый локоть и прощупаю соседние грузы.
Так я и сделал. С каждой стороны было по ящику. И каждый из них, как я заключил, был похож на тот, в котором я находился, — значит, это были ящики с материей. Отлично! Я так хорошо научился взламывать и опустошать тару этого рода, что считал такую работу пустяком. Я хотел бы, чтобы весь груз в трюме состоял из этого товара, создавшего славу западной Англии.
Размышляя так и ощупывая в то же время края ящиков, я случайно поднял руку, чтобы проверить, насколько тюк с полотном выдается над краем ящика. К моему удивлению, я увидел, что он не выдается вовсе! Я сказал «к моему удивлению», потому что привык, что тюки с полотном были примерно тех же размеров, что и ящики. Этот тюк был несколько сдвинут к стенке трюма и, следовательно, должен был торчать с другой стороны. Но он не торчал — ни на один дюйм. «Значит, — подумал я, — этот тюк меньше, чем другие».
Я решил обследовать тюк более тщательно. С помощью пальцев и лезвия ножа я убедился, что это вовсе не тюк, а деревянный ящичек. Он был покрыт сверху чем-то мягким, вроде войлока, — вот почему я ошибся.
Снова у меня возникла надежда проложить ход прямо вверх, по вертикали. Я быстро удалю войлочную упаковку и потом поступлю с этим ящиком так же, как с другими.
Конечно, я больше не думал о кружных путях с правой или с левой стороны — я сразу переменил планы и решил двигаться прямо вверх.
Не стану описывать, как я пробил себе дорогу в ящик, покрытый войлоком. Я прорезал и сорвал одну из досок на крышке ящика из-под материи. Около меня было свободное место, образованное выгибом борта, и мне было легко действовать клинком среди досок.
Вслед за первой доской последовала вторая, что далось без особого труда. И вот передо мной дно обернутого ящика. Я сорвал войлок и очистил дерево — это была обыкновенная ель.
Я недолго раздумывал.
Поскольку ящик лежал на расстоянии двенадцати дюймов от балок корабля, один из его углов был почти рядом со мной. Проведя рукой по нему, я нащупал шляпки гвоздей. Их было немного, и, казалось, они не слишком плотно заколочены. Я очень обрадовался, заметив, что здесь нет никаких железных скреп. Надо будет, пожалуй, вскрыть одну из досок, действуя ножом как рычагом, и это избавит меня от долгого, утомительного просверливания.
В ту минуту мне это казалось удачей, и я поздравлял себя с успехом. Увы! В действительности это было причиной большого несчастья, которое через пять минут бросило меня в бездну величайшего отчаяния и горя.
В нескольких словах объясню, что произошло.
Я подсунул лезвие ножа под доску. Я не думал взламывать ящик таким образом, я только хотел попробовать, насколько сильно доска будет сопротивляться, чтобы найти подходящий рычаг.
На свою беду, я слишком надавил на стальное лезвие — короткий, сухой звук потряс меня сильнее выстрела... Нож сломался!
Глава LIX. СЛОМАННОЕ ЛЕЗВИЕ
Да, лезвие сломалось и застряло между досками. Черенок остался у меня в руке. Я ощупал его большим пальцем — лезвие отломилось до самой пружины, так что в рукоятке осталось не больше десятой части дюйма.
Трудно описать, как огорчило меня это событие. Это было самое тяжкое несчастье: что мне было делать без ножа?!
Я был теперь совершенно беспомощен. Я не мог продолжать прокладку туннеля — я должен забыть о попытке, на которую возлагал столько надежд. Другими словами, я должен был отбросить все планы дальнейшего продвижения и предаться ожидающей меня горестной судьбе.
Еще за минуту до этого я был полон уверенности, что смогу успешно продвигаться вперед, и радовался своим успехам. Неожиданное несчастье уничтожило все и бросило меня опять в мрачную бездну отчаяния.
Я долго колебался, не мог сосредоточиться… Что делать? Я не мог продолжать работу: у меня не было для этого никакого орудия.
Мысли мои блуждали. Я снова и снова водил большим пальцем по рукоятке ножа, нащупывая короткий кусок сломанного лезвия — вернее, только толстой его части, потому что лезвие, в сущности, отсутствовало целиком. Я делал это машинально, словно желая убедиться окончательно в том, что оно сломалось. Несчастье было внезапно — я с трудом мог поверить, что оно действительно произошло. Я был ошеломлен и несколько минут находился в состоянии полной растерянности.
Когда первое потрясение прошло, самообладание постепенно возвратилось ко мне. Убедившись наконец в реальности печального события, я стал соображать, нельзя ли что-нибудь сделать сломанным ножом.
Мне пришли в голову слова одного великого поэта, слышанные еще в школе: «Уж лучше сломанным оружием сражаться, чем голыми руками». Теперь я применил к себе это мудрое изречение. Я решил, что надо обследовать лезвие. Черенок был у меня в руке, но клинок все еще торчал в углу ящика, в том месте, где он сломался.
Я вынул его и провел по нему пальцем. Он был цел, но — увы! — что делать с ним без рукоятки?
Я взял лезвие за толстый конец и попробовал, нельзя ли им резать без рукоятки. Оказалось, что можно, но с большим трудом. Лезвие, к счастью, было хорошее, очень длинное. Кое-что можно еще им сделать, если обернуть толстый конец тряпкой. Но работать им долго нельзя: это будет мучительный и долгий труд!
О том, чтобы вставить лезвие обратно в рукоятку, не могло быть и речи. Сначала я было подумал об этом, но потом понял, что тут есть затруднение, которое мне не преодолеть, — я ведь не мог соединить вновь лезвие с пружиной.
Если удалить пружину, черенок послужил бы еще в качестве рукоятки. Отломившийся конец лезвия можно легко вставить в щель черенка. У меня сколько угодно бечевки, и я
мог бы крепко привязать лезвие. Но я не мог вытащить хорошо заклепанный зажим и ничего не мог сделать с пружиной.
Рукоятка теперь была мне нужна не больше, чем любой обыкновенный кусок дерева, — даже меньше, ибо как раз тут-то мне пришло в голову, что простой кусок дерева может быть полезнее. Если я найду подходящий кусок, то смогу сделать рукоятку для лезвия и резать ящики этим самодельным ножом.
Нужда подогнала мою изобретательность. Я быстро осуществил свое намерение и через час или около того держал в руке нож с новой рукояткой. Она была немного грубовата, но годилась для моей цели не хуже старой. И я снова успокоился и повеселел.
Я сделал новый черенок следующим образом: раздобыв отрезок толстой доски, я сначала обстрогал его и придал ему нужный размер и форму. Мне удалось сделать это лезвием: оно подходило для такой легкой работы, хотя и было лишено рукоятки. Потом я ухитрился расщепить дерево на глубину в два дюйма и вставил в трещину сломанный конец лезвия. Следующей моей мыслью было обмотать трещину веревкой, но я сообразил, что из этого ничего не выйдет. При работе лезвием веревка ослабнет и развяжется. К тому же, когда я начну водить ножом то в одну, то в другую сторону, бечевка расшатает и самое лезвие. Оно выпадет, может быть, завалится между ящиками, и я его потеряю. Такое происшествие могло бы оказаться роковым для всех моих планов. Нет, рисковать нельзя.
Что бы такое найти, чтобы укрепить клинок в расщелине более прочно? Если бы у меня был один или два ярда проволоки? Но проволоки нигде не было… Как нигде? А фортепиано! Струны! Ведь они-то из проволоки!
Сумей я влезть в фортепиано, я бы немедленно похитил у него одну из струн. Но как до них добраться? Об этом затруднении я не подумал заранее и теперь не знал, как быть. Конечно, с таким ножом, какой был сейчас у меня в руках, проложить себе дорогу через фортепиано невозможно, и мне пришлось оставить эту идею.
Но я тут же вспомнил о другом — о железных скрепах от ящиков. А их у меня было сколько угодно. Вот самая подходящая вещь! Они пригодятся не хуже, чем проволока. Эти гибкие, тонкие полоски, обернутые вокруг черенка и тыльной части лезвия, превосходно будут держать его на месте и не позволят ему болтаться. Поверх всего я намотаю еще и веревку. Она не даст полоскам разойтись, и у меня будет настоящая рукоятка.
Сказано — сделано. Я поискал и нашел скрепу, тщательно обернул ее вокруг черенка и лезвия — и, затянув все это веревкой, получил нож. Конечно, клинок стал короче, но все-таки он был достаточно длинен и мог прорезать самую толстую доску, какая встретится на моем пути. Я совершенно успокоился.
В этот день я работал по крайней мере часов двадцать. Я был в совершенном изнеможении — мне уже давно следовало отдохнуть. Но после того как сломался нож, я не мог думать об отдыхе. Было бы бессмысленно пытаться заснуть: мое горе все равно бы этого не позволило.
Новый нож, однако, помог мне восстановить прежнюю уверенность в будущем, и я больше не мог сопротивляться сильному желанию отдохнуть. Я очень нуждался в этом и духом и телом.
Вряд ли нужно прибавлять, что голод заставил меня снова обратиться к моему жалкому пищевому складу. Вам покажется странным — да мне и самому теперь так кажется, — что я не испытывал никакого отвращения к такой пище. Наоборот, я съел свой «крысиный ужин» с таким же удовольствием, с каким теперь ем самое утонченное блюдо!
Глава LX. ТРЕУГОЛЬНАЯ КАМЕРА
Я провел ночь, или, вернее сказать, часы отдыха, в своем старом помещении — за бочкой с водой.
Я больше уже не знал, да и не интересовался, когда день и когда ночь. В этот раз я хорошо выспался и проснулся освеженным и окрепшим. Без всякого сомнения, тут мне помогла и новая пища. Как ни отвратительна была она, все же она была полезна для голодного желудка.
Я позавтракал сразу же, как только проснулся. После завтрака я отправился в свою «галерею» и влез в пустой ящик, где провел накануне почти целые сутки.
Забравшись туда, я не без сожаления подумал, как мало мне удалось сделать за двадцать часов! Но меня поддерживала надежда, тайная мысль, что на этот раз мне больше повезет.
Я намеревался продолжать работу, которая была прервана поломкой ножа. Я уже давно заметил, что доски прибиты не очень крепко. Их можно было выломать каким-нибудь подходящим орудием, пожалуй даже палкой.
Теперь я ни за что больше не стал бы употреблять для этого нож. Больше чем когда бы то ни было я оценил сейчас это драгоценное оружие. Я прекрасно понимал, что моя жизнь зависит от его сохранности.
«Ах, если бы у меня был кусок крепкого дерева!» — думал я. Я вспомнил, что, вышибая дно у бочонка с бренди, я выбил доски довольно больших размеров. Может быть, они пригодятся?
С этой мыслью я поспешил туда, где они лежали. Сбросив несколько кусков материи, я нашел то, что искал. Порывшись, я выбрал дощечку, подходящую для моей цели. Затем я вернулся к ящику и изготовил подобие маленького лома. Действуя ножом, я придал дощечке форму клина. Клин я потом засунул под доску и загнал как можно глубже куском доски.
Когда клин зашел достаточно глубоко, я ухватился за свободный конец и, нажимая на него, вскоре с удовлетворением услышал, как с треском вылетают гвозди. Тут я стал действовать просто пальцами, и доска со скрежетом выпала из дна ящика.
Соседнюю доску я сорвал уже легче. Теперь образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы извлечь из ящика любое содержимое.
Там были продолговатые пакеты, формой напоминавшие штуки сукна или полотна, но гораздо более легкие и упругие. Да и достать их было проще, потому что не надо было срывать с них обертку.
Они не вызывали во мне большого любопытства: я уже сразу мог сказать, что тут нет ничего съестного. Может статься, я не узнал бы о них ничего и до сего дня, если бы обертка одного из пакетов не прорвалась случайно. Я нащупал какой-то мягкий, гладкий, скользкий материал и понял, что у меня в руках превосходный бархат.
Я быстро вынул содержимое ящика и бережно сложил пакеты позади себя. Затем я поднялся в пустой ящик. Еще одним ярусом ближе к свободе!
Этот большой шаг вперед не занял и двух часов. Такой успех был прекрасным предзнаменованием. День хорошо начался. Я решил не терять ни минуты времени, раз уж судьба ко мне так благосклонна.
Я спустился вниз, напился вволю воды, вернулся в бывшее вместилище бархата и снова занялся разведкой. Так же как и предыдущий, этот ящик упирался концом в фортепиано, который легко было вышибить. Я не стал медлить, вытянул ноги и принялся выбивать свою обычную дробь каблуками.
На этот раз дело пошло не так скоро. У меня не было достаточного простора, потому что ящик с бархатом был меньше, чем ящик с материей, но наконец я добился своего: обе концевые доски вылетели и провалились в промежутки между грузами.
Я встал на колени и предпринял новую разведку. Я ожидал, или, вернее, боялся, что крышка от ящика с фортепиано занимает сплошной стеной всю открытую мной поверхность. Действительно, огромный ящик был тут как тут — я тотчас нащупал его рукой. Но я едва удержался от радостного восклицания, поняв, что он занимает всего половину пространства напротив отверстия и что рядом имеется обширное пустое место — его хватило бы еще для одного ящика с бархатом!
Это был приятный сюрприз, и я сразу оценил свою неожиданную удачу. Порядочный кусок туннеля был уже готов и открыт для меня.
Я выставил руку, поднял ее — новая радость: пустота распространяется вверх на десять — двенадцать дюймов, до самой верхушки ящика с фортепиано! То же самое внизу, у моих колен. Там образовался острый угол, ибо, как я уже отмечал, эта маленькая камера была не четырехугольная, а треугольная с вершиной, обращенной вниз. Это объяснялось формой старинного фортепиано, напоминавшей большой параллелепипед, у которого один угол был как бы спилен. Фортепиано стояло боком, на более широкой своей стороне, и как раз здесь и находилось то место, которое должен был занимать этот отсутствующий угол.
По всей видимости, треугольная форма этой выемки сделала ее неудобной для грузов, потому ее и не заполнили.
«Тем лучше», — подумал я и высунул руки во всю длину, с целью произвести более тщательное исследование.
Глава LXI. ЯЩИК С МОДНЫМИ ТОВАРАМИ
Это заняло немного времени. Я очень скоро заметил, что с другой стороны пустой камеры стоит объемистый ящик и такой же ящик заграждает ее справа. Слева же идет по диагонали край ящика с фортепиано, в ширину около двадцати дюймов, или двух футов.
Но я очень мало беспокоился насчет правой, левой или задней стороны. Я больше всего интересовался потолком маленькой камеры, ибо намеревался, если удастся, продолжать свой туннель именно вверх.
Я понимал, что сильно продвинулся в горизонтальном направлении, потому что главное для меня преимущество этой пустой камеры заключалось в том, что она дала мне возможность продвинуться по горизонтали на всю толщину фортепиано — около двух футов, — не считая того, что я продвинулся еще и вверх. Я не желал идти ни вперед, ни направо, ни налево, разве что какое-нибудь препятствие встанет на моем пути. «Все выше!» — вот было главной моей мыслью. «Эксцельсиор!» Еще два или три яруса, а может быть, и меньше, — и, если не возникнет препятствий, я буду свободен! Сердце мое радостно билось, когда я думал об этом.
Не без волнения протянул я руку к потолку пустой камеры. Пальцы мои задрожали, когда наткнулись на хорошо знакомый мне холст. Я непроизвольно отдернул руку.
Боже мой! Опять этот проклятый материал — тюк с полотном!
Однако я не был в этом вполне убежден. Я вспомнил, что раз уже ошибся таким образом. Надо еще раз проверить.
Я сжал кулак и сильно постучал по нижней части тюка. О, мне ответил очень приятный звук! Нет, это не тюк с полотном, а ящик, завернутый, как и многие другие, в несколько слоев грубого, дешевого холста. Это и не сукно, потому что ящики с сукном отвечали на стук глухо, а этот давал гулкий отзвук, словно был пустой.
Странно… Он не мог быть пустым, иначе зачем он здесь? А если он не пустой, то что в нем?
Я стал молотить по нему черенком ножа — опять тот же гулкий звук!
«Ну что ж, — подумал я, — если он пустой, то тем лучше, а если нет, то в нем что-то легкое, от чего просто будет избавиться. Отлично!»
Рассудив так, я решил не тратить больше времени на догадки, но ознакомиться с содержимым нового ящика, проложив в него дорогу. Я мгновенно сорвал холст, прикрывавший дно.
Я почувствовал, что мне неудобно стоять. Треугольное пространство резко суживалось книзу, и мне трудно было держаться на ногах. Но я вышел из затруднения, наполнив острый угол кусками сукна и бархата, которые были у меня под рукой. Тогда стало легче работать.
Не стоит подробно описывать способ, которым я вскрывал ящик. Я сделал это как обычно. Один раз пришлось разрезать доску — и новый нож вел себя прекрасно. Я вынул разрезанные доски.
Я был весьма удивлен, когда проник в ящик и ознакомился с его содержимым. Некоторое время я не мог понять на ощупь, что это за вещи, но, когда отделил один предмет от других и провел по нему пальцами, я наконец понял — это были шляпы!
Да, дамские шляпы — отделанные кружевами и украшенные перьями, цветами и лентами.
Если бы я знал тогда, как одеваются жители Перу, я удивился бы еще больше, найдя такой странный товар среди груза. Разве можно увидеть шляпу на прекрасной голове перуанской дамы! Но я об этом ничего не знал и просто удивился тому обстоятельству, что такой предмет входит в груз большого корабля.
Впоследствии, однако, мне объяснили, в чем дело: в южноамериканских городах живут англичанки и француженки — жены и сестры английских и французских купцов и официальных представителей, которые находятся там постоянно. И, несмотря на огромное расстояние, отделяющее их от родины, они упорно стараются следовать модам Лондона и Парижа, хотя над этими нелепыми головными уборами смеются их прекрасные сестры из Испанской Америки.
Вот для кого, следовательно, предназначалась коробка со шляпами.
Мне очень жаль, но я должен признаться, что на этот сезон их ожидания оказались обманутыми. Шляпы не дошли до них, а если и дошли, то в таком состоянии, что не способны были украсить кого бы то ни было. Рука моя была немилосердна, добираясь до ящика, — я мял и кромсал их, пока все шляпы не были затиснуты в угол и спрессованы так плотно, что заняли десятую часть того пространства, которое занимали раньше.
Не сомневаюсь, что множество проклятий сыпалось впоследствии на мою несчастную голову. Единственное, что я мог возразить, — это сказать правду. Дело шло о жизни и смерти — я не мог заботиться о шляпах. Вряд ли это могло послужить оправданием в тех домах, где ожидали прибытия этих шляп. Впрочем, об этом я никогда ничего не узнал. Я только могу прибавить, что впоследствии, много позже, чтобы успокоить собственную совесть, я возместил убыток заокеанскому торговцу модными товарами.
Глава LXII. ЧУТЬ НЕ ЗАДОХНУЛСЯ
Покончив со шляпами, я немедленно вскарабкался в пустой ящик. Надо было, по возможности, снять всю крышку или хотя бы часть ее. Сначала я попытался выяснить, что находится наверху, и для этого избрал тот же план действий, которому следовал и раньше, — просунул лезвие ножа в щель. К сожалению, лезвие было теперь короче и не так уже годилось для этой цели, но все-таки его длины хватало для того, чтобы просунуть его через дюймовую доску, да еще на два дюйма дальше и определить, мягкое или жесткое препятствие заграждает мне путь.
Итак, находясь внутри ящика из-под шляп, я просунул лезвие через крышку. Груз, который лежал надо мной, состоял из чего-то мягкого и поддающегося клинку. Помню, что там была холщовая оболочка, и, погружая в нее нож по самую рукоятку, я не встретил ничего похожего на дерево, ничего напоминающего доски ящика.
Но я также знал, что это не полотно, потому что лезвие проникало туда, как в масло, а этого не случилось бы, если бы там был тюк с полотном. Раз так, я успокоился. Остальное меня не смущало.
Я пробовал в нескольких местах — по всей крышке, — и везде лезвие погружалось до самого черенка почти без всякого усилия с моей стороны. Груз состоял из чего-то нового, чего я до сих пор не встречал и о чем не догадывался.
Этот груз, как мне казалось, не станет серьезным препятствием на пути моего продвижения.
В прекрасном настроении я взялся за работу и принялся выдергивать доску из крышки, на которой этот груз лежал.
Снова пришлось заняться скучной и долгой работой — резать доску ножом. Эта работа занимала у меня больше времени и требовала больше сил, чем все остальное, вместе взятое. Но она была абсолютно необходима, так как у меня не было другого способа проложить туннель вверх через ящики. На каждый из них давил своим весом следующий верхний груз, и выломать доски, прижатые сверху тяжестью, было невозможно. Я мог удалить их, только разрезав поперек.
Крышку ящика из-под шляп мне удалось вскрыть без особого труда. Она была из тонких еловых досок, и за половину или три четверти часа я разделил надвое среднюю доску из трех, ибо крышка состояла из трех досок. Разрезанные куски я легко отогнул вниз и вынул их.
Я оторвал кусок холщовой оболочки, и рука моя достигла неизвестного груза, который покоился на ящике. Я сразу узнал, что это такое. Еще в дядином амбаре я научился узнавать на ощупь мешки. Да, это был мешок.
Он был чем-то наполнен, но чем? Пшеницей, ячменем, овсом? Нет, зерна там не было — там было что-то более мягкое и нежное. Неужели мешок с мукой?
Скоро я убедился в этом. Клинок мой вошел в мешок и проделал дыру величиной с кулак. Мне даже не пришлось всовывать руку в мешок, потому что прямо на мою ладонь досыпался сверху мягкий порошок и заполнил всю мгновенно. Сжав пальцы, я набрал целую пригоршню муки. Я поднес руку ко рту и убедился окончательно, что это так: передо мной был мешок с мукой.
Это было поистине радостное открытие. Пища, которой хватит на несколько месяцев! Теперь я не умру с голоду, и больше мне не надо будет есть крыс. Нет! С мукой и водой я буду жить, как принц. Что в том, что она сырая? Зато она вкусна, питательна, полезна для здоровья.
«Слава Богу! Теперь я спасен!»
Вот какие слова вырвались у меня, когда я полностью оценил все значение моего открытия.
Я работал уже много часов и нуждался в отдыхе. Кроме того, я был голоден и не мог удержаться от соблазна наесться вдоволь нового блюда. Наполнив карманы мукой, я вернулся в старое логовище за бочкой с водой. Предварительно я на всякий случай заткнул холстом дыру, проделанную мной в мешке, и только тогда стал спускаться вниз. Я швырнул свой мешок с крысами в первый попавшийся угол, надеясь, что больше не придется иметь с ними дело. Замешав порядочное количество муки водой, я съел тесто с таким наслаждением, как будто это был лучший из английских пудингов.
Несколько часов крепкого сна освежили меня. Проснувшись, я снова поел теста и стал подниматься в мою сильно продвинувшуюся вверх галерею.
Пробираясь через второй ярус, я с удивлением заметил что-то мягкое, похожее на порошок или пыль, покрывавшее все горизонтально положенные доски. В пустой камере около фортепиано вся нижняя часть этого пространства была заполнена той же пылью, и, вступив туда, я погрузился в нее до лодыжек. Я заметил, что на голову и плечи мне падает настоящий ливень из пыли. Когда я беспечно поднял лицо кверху, этот ливень обрушился в рот и в глаза, и я начал немилосердно чихать и кашлять.
Я испугался, что задохнусь, и первым моим движением было обратиться в бегство и спрятаться за бочкой с водой. Но незачем было уходить так далеко, достаточно было отступить к ящику из-под галет. Я недолго раздумывал над объяснением этого странного явления. Это не пыль, а мука! Корабль качнулся, холщовая затычка выпала из мешка, и мука стала высыпаться в дыру.
Мысль о том, что я останусь без муки, заставила меня похолодеть. Значит, я вынужден буду снова питаться крысами! Надо немедленно заделать дыру в мешке, чтобы сохранить хоть часть муки.
Несмотря на боязнь задохнуться, я понимал, что необходимо действовать, и, закрыв глаза и рот, ринулся к пустому ящику из-под шляп.
Повсюду в ящике лежала мука, но она больше не сыпалась. Она перестала высыпаться из мешка по самой простой причине: она вся уже высыпалась. Мешок опустел!
Я счел бы это происшествие великим для себя бедствием, если бы не обнаружил, что мука не целиком потеряна. Порядочная доля просыпалась, конечно, в щели и попала на дно трюма, но большое количество — достаточное для моих нужд — осталось на кусках материи, которые я заложил на дно треугольной камеры, да и в других местах, куда я мог проникнуть, когда мне заблагорассудится.
Впрочем, это оказалось несущественным, потому что в следующий момент я сделал открытие, которое окончательно вытеснило у меня из головы все мысли о муке и вообще о пище, о воде и всем прочем.
Я протянул руку, чтобы убедиться в том, что мешок пуст. Как будто так. Почему же не вытащить его через отверстие и убрать с дороги? Почему бы нет? Я выхватил мешок и бросил его вниз.
Потом я высунул голову из ящика в том месте, где раньше был мешок. Боже праведный! Что я вижу? Свет! Свет! Свет!
Глава LXIII. СВЕТ И ЖИЗНЬ
Да, глаза мои любовались светом, исходившим с неба, и сердце мое наполнилось ликованием. Не могу описать свое счастье. От страха не осталось и следа. Исчезли малейшие опасения. Я спасен!
Это была всего лишь небольшая полоска света — просто лучик. И он пробивался через щель между двумя досками. Он проходил надо мной, но не вертикально, а скорее по диагонали, примерно в восьми или десяти футах от меня.
Я знал, что свет не мог проникнуть через палубу: между досками корабельной палубы не бывает щелей. Свет шел от люка — должно быть, отогнулся покрывающий крышку люка брезент.
Никогда я не видел ничего радостнее этого тоненького лучика, сиявшего надо мной подобно метеору! Ни одна звезда на синем небе не казалась мне прежде такой блестящей и красивой! Этот свет был похож на глаз доброго ангела, который улыбался мне и приветствовал мое возвращение к жизни.
Я недолго оставался внутри ящика из-под шляп. Я знал, что работа моя приходит к концу, что мои надежды близки к осуществлению, и у меня не было ни малейшего желания откладывать свое освобождение. Чем ближе была цель, тем с большим нетерпением я к ней стремился. Поэтому без промедления я стал расширять отверстие в крышке ящика.
Свет, который я видел, убедил меня в очень важной истине — в том, что я нахожусь на верху груза. Раз я вижу луч, идущий по диагонали, следовательно, между мной и ним ничего нет и, значит, здесь пустое пространство. Такая пустота могла существовать только над грузом.
Вскоре я в этом убедился. Чтобы проделать отверстие, достаточно широкое для моего тела, хватило и двадцати минут. И, едва закончив эту работу, я скользнул в дыру, и, изогнувшись, вылез на верхушку ящика.
Я поднял руки над головой, развел их в стороны. Позади себя я нащупал ящики, тюки и мешки, которые громоздились еще выше, но впереди был только воздух.
Несколько минут я сидел, свесив ноги, на крышке ящика, в том месте, где вылез наружу. Я не рискнул даже сделать шаг, чтобы не упасть в пустоту. Я глядел на прекрасный луч, похожий на огонь маяка. Теперь он сиял еще ближе.
Постепенно глаза мои привыкли к свету. И хотя расщелина пропускала всего несколько слабых полосок света, я начал различать ближайшие предметы. Я заметил, что пустота вокруг меня не простиралась далеко. Я находился на дне небольшой выемки в виде неправильной дуги. Это было что-то вроде амфитеатра, окруженного со всех сторон громадными ящиками с товарами.
В сущности, это было пространство, оставшееся под люком после погрузки. Кругом стояли пустые бочки, лежали мешки, в которых, вероятно, находились продукты — очевидно, провизия для команды, — расположенные так, чтобы их легко было доставать по мере надобности.
Мой туннель кончился на одной из сторон этого углубления, и я несомненно находился под крышкой люка.
Оставалось только сделать один — два шага, постучать в доски над головой и позвать команду на помощь.
И хотя достаточно было одного удара или крика, чтобы освободиться из темноты, прошло много времени, прежде чем я решился постучать или крикнуть.
Пожалуй, не стоит объяснять вам причину моей нерешительности и колебаний. Подумайте только о том, что оставалось позади меня, — о том ущербе и разрушениях, которые я причинил грузу, об убытках, может быть, на сотни фунтов! Подумайте о том, что у меня не было никакой возможности вернуть или заплатить хотя бы малейшую часть стоимости этих товаров, — подумайте обо всем этом, и вы поймете, почему я так долго сидел на ящике из-под шляп.
Меня сковал страх. Я боялся развязки этой драмы во мраке — неудивительно, что я не торопился довести ее до конца.
Что скажу я суровому, возмущенному капитану? Как перенесу яростный гнев свирепого помощника? Как выдержу их взгляды, слова, упреки, может быть, даже побои?.. А вдруг они выбросят меня в море?
Холод ужаса пробежал у меня по жилам, когда я подумал о возможности такого исхода. Состояние духа моего резко изменилось. За минуту перед тем мерцающий луч света наполнял мою душу радостью, а теперь я сидел и глядел на него, и сердце у меня сжималось от страха и смятения.
Глава LXIV. ИЗУМЛЕНИЕ КОМАНДЫ
Я стал думать, как бы возместить убытки, но мои размышления были и глупы и горьки. У меня ничего не было — разве только старые часы. Ха-ха-ха! Их вряд ли хватит даже на то, чтобы оплатить ящик с галетами!
Впрочем, нет! У меня была еще одна вещь, и ее я сохранил до сих пор. Она была для меня гораздо дороже, чем часы, даже чем тысяча часов. Но эта вещь, так высоко мной ценимая, не стоила и шести пенсов. Вы догадываетесь, о чем я говорю? Конечно, догадываетесь, и вы правы: я говорю о моем дорогом ноже!
Дядюшка, конечно, ничего для меня не сделает. Он позволял мне жить в своем доме только по необходимости, а не из чувства ответственности за ребенка. Он ни в коей мере не обязан расплачиваться за причиненные мной убытки, да я и сам ни на минуту не допускал такой мысли.
У меня была маленькая надежда, одно соображение, которое казалось мне сравнительно разумным: я предложу капитану свои услуги на долгий срок. Я стану работать у него юнгой, вестовым, слугой — чем угодно! — лишь бы отработать свой долг.
Если он меня примет (а что ему еще делать со мной, разве действительно швырнуть за борт!), тогда все уладится. Эта мысль меня ободрила. Как только я увижу капитана, сейчас же предложу ему свои услуги.
В этот момент надо мной раздался громкий топот. Похоже было, что множество людей тяжело расхаживают взад и вперед по палубе. Звуки доносились с обеих сторон люка и кругом по всей палубе.
Потом я услышал голоса — человеческие голоса! Как приятно было их слышать!.. Сначала я слышал только возгласы и отдельные слова, затем все смешалось в нестройный хор. Голоса были грубые, но какой прекрасной, музыкальной казалась мне рабочая, матросская песня!
Она наполнила меня уверенностью и смелостью. Я больше не мог терпеть свое заточение! Как только песня кончилась, я прыгнул к люку и деревянной рукояткой ножа начал громко стучать в доски над головой.
Я прислушался — мой стук услышали. Наверху шел какой-то разговор, я различал удивленные восклицания. Но хотя разговор не умолкал и к нему присоединялись все новые голоса, никто не пытался открыть люк.
Я постучал громче, начал кричать, но голос мой был тонок и слаб, как голос младенца. И я сомневался, услышат ли его наверху.
Снова раздался хор удивленных восклицаний. Голосов было много, и я решил, что вся команда собралась вокруг люка.
Я постучал в третий раз для верности и замер в беспокойном и молчаливом ожидании.
Я услышал, как что-то зашуршало над люком, — снимали брезент. И как только его сняли, свет брызнул в расщелины между досками.
В следующий момент надо мной внезапно открылось небо: поток света ударил мне в лицо и почти ослепил меня. Больше того, этот поток света вызвал у меня слабость, и я свалился назад, на ящики. Я не сразу потерял сознание, но постепенно впал в обморочное состояние, испытывая какое-то странное чувство ошеломления.
Когда люк открылся, я заметил вокруг него грубые лица — человеческие головы, склонившиеся над отверстием. Они разом отшатнулись с выражением величайшего ужаса. Я услышал восклицания, в которых чувствовался тот же ужас. Но тут звуки постепенно замерли в моих ушах, свет погас… и я окончательно потерял сознание, словно умер.
Конечно, это был только обморок. Я не слышал и не чувствовал, что происходит вокруг меня. Я не видел, как эти грубые лица снова появились над краем люка и осмотрели меня с тревогой. Я не видел, как один из них, набравшись храбрости, полез вниз и спустился на груз, за ним — другой, третий… и все они склонились надо мной. И тут снова последовал взрыв восклицаний, посыпались догадки. Я не слышал, как они бережно брали меня на руки, щупали пульс и прикладывали свои грубые ручищи к моему сердцу, проверяя, есть ли еще в нем биение жизни. Не слышал я, как рослый матрос взял меня на руки и прижал к себе, а потом, когда принесли и спустили в люк короткую лесенку, вынес из трюма и осторожно положил на шканцы. Я ничего не слышал, не видел, не чувствовал, пока холодная вода, которой плеснули мне в лицо, не пробудила меня от забытья и не вернула к жизни.
Глава LXV. РАЗВЯЗКА
Когда я пришел в себя, то увидел, что лежу на палубе. Вокруг меня собралась толпа — куда ни кину взгляд, везде человеческие лица. Лица были грубые, но я не видел на них никакой неприязни. Наоборот, на меня смотрели с жалостью, и я слышал сочувственные замечания.
Это были матросы — вокруг меня стояла вся команда. Один из них, наклонясь надо мной, вливал мне в рот воду и клал на лоб мокрую тряпку. Я узнал его с первого взгляда. Это был Уотерс — тот самый, который высадил меня на берег и подарил мне драгоценный нож. Он и не догадывался в то время, какую службу сослужит мне его подарок.
— Уотерс, — сказал я, — вы меня помните?..
В ответ на мои слова он издал несколько характерных матросских восклицаний.
— Лопни мои шпангоуты! — услышал я. — Лопни мои шпангоуты, если это не тот сморчок, который все приставал к нам в порту!
— Который набивался с нами в море! — вскричали другие.
— Тот самый, убей меня Бог!
— Да, — ответил я, — тот самый и есть.
Новый взрыв восклицаний. И вдруг наступила тишина.
— Где капитан?.. — спросил я. — Уотерс, отведите меня к капитану!
— Капитан тебе нужен? Да вот он, паренек, — добродушно ответил дюжий матрос, раздвигая руками толпу, которая меня окружала.

Я посмотрел туда и увидел того хорошо одетого человека, в котором с самого начала узнал капитана. Он стоял в нескольких шагах от меня, у двери в каюту. Я поглядел на его лицо. Выражение лица было суровое, но я не испугался. Мне казалось, что взгляд его смягчился.
Я колебался некоторое время, но потом, собрав всю свою энергию, поднялся на ноги, шатаясь бросился вперед и опустился перед ним на колени.
— О сэр! — воскликнул я. — Мне нет прощения!
Не помню точно, как я выразился. Но это было все, что я мог сказать.
Я больше не глядел ему в лицо. Я смотрел на палубу и ждал ответа.
— Встань, паренек, и пойдем! — сказал он мягко. — Встань, и пойдем в каюту!
Его рука легла на мою. Он поднял меня и увел. Сам капитан шел рядом со мной и поддерживал меня, потому что я шатался! Было непохоже, что он собирается бросить меня на съедение акулам. Смел ли я надеяться, что все кончится так благополучно?
В каюте я заметил свое отражение в зеркале. Я не узнал себя. Я был весь белый, словно меня вымазали известью, — тут я вспомнил про муку. Можно было разобрать только лицо, но и лицо было белое-белое, изнуренное, костлявое, как у скелета. Страдания и голодовка совершенно истощили меня.
Капитан усадил меня на кушетку, позвал слугу и приказал принести стакан портвейна. Он не проронил ни слова, пока я пил, а затем, устремив на меня взгляд, в котором не было ни тени суровости, сказал:
— Ну, паренек, теперь расскажи мне обо всем!
Это была длинная история, но я рассказал все с начала до конца. Я ничего не утаил: ни повода, по которому я убежал из дому, ни одной подробности об ущербе, который я причинил грузу. Впрочем, он уже знал об этом, потому что половина команды успела побывать в моем логовище за бочкой с водой и во всем удостоверилась сама.
Описав все самым тщательным образом, я изложил ему свое предложение и с тревогой в сердце стал ждать ответа. Но мое беспокойство скоро исчезло.
— Храбрый парень! — воскликнул он, вставая и направляясь к двери. — Ты хочешь быть матросом? Ты заслуживаешь этой чести. И в память о твоем благородном отце, которого я знал, ты будешь матросом!.. Эй, Уотерс, — продолжал он, обращаясь к рослому морскому волку, который ожидал снаружи, — возьми этого паренька и приодень его как полагается! Как только он окрепнет, научи его обращаться со снастью!
И Уотерс научил меня обращаться со снастями — я изучил каждую из них наилучшим образом. Несколько лет подряд он был моим сотоварищем под командой доброго капитана, пока я не перестал быть просто «морским волчонком» и не был внесен в списки матросов «Инки» как «матрос первой статьи».
Но я не остановился на этом. «Эксцельсиор!» — вот что стало моим девизом.
С помощью великодушного капитана я стал впоследствии третьим помощником, затем вторым, потом первым и наконец капитаном!
Со временем я поднялся еще выше и сделался капитаном собственного судна. Это было величайшей целью моей жизни. Теперь я мог уходить в море и возвращаться, когда мне заблагорассудится, бороздить необъятный океан в любых направлениях и плыть в любую часть света.
Одним из моих первых и самых удачных рейсов — уже на собственном корабле — был рейс в Перу. Помню, что я взял с собой ящик со шляпами для английских и французских дам, живущих в Кальяо и Лиме. На этот раз шляпы дошли в целости, но не думаю, что они понравились прекрасным креолкам, которых они должны были пленить.
За продавленные шляпы давно было выплачено, так же как и за пролитый бренди и весь ущерб, причиненный сукну и бархату. В сущности, сумма была не так уж велика. И владельцы, оказавшиеся великодушными людьми, приняв во внимание обстоятельства, проявили снисходительность в переговорах с капитаном, а он, в свою очередь, постарался облегчить мне условия платежа. За несколько лет я выплатил все, или, как мы, моряки, говорим, «обрасопил реи»
[64].
А теперь, мои юные друзья, мне остается добавить, что, проходив по морям долгие годы и скопив при помощи искусных торговых операций и разумной бережливости достаточные средства, чтобы обеспечить остаток своих дней, я начал уставать от океанских валов и штормов, и меня потянуло к спокойной жизни на суше. С каждым годом тяга эта все усиливалась, так что я больше не смог сопротивляться и решил уступить ей и бросить якорь где-нибудь у берега.
С этой целью я продал свой корабль и корабельные запасы и вернулся в прелестный поселок, где, как вы знаете, я родился и где намереваюсь умереть.
А теперь прощайте! Мой рассказ окончен.

1
Морской коршун — альбатрос.
(обратно)
2
Гандшпуг — род багра.
(обратно)
3
Бугшприт — передняя мачта, лежащая горизонтально на носу судна.
(обратно)
4
Каноэ — индейский челнок, у которого нет уключин, как в обычной лодке.
(обратно)
5
Морфей — в древнегреческой мифологии бог сновидений, сын Сна и Ночи.
(обратно)
6
Тантал — царь Лидии, согласно мифу, был осужден богами за убийство сына на вечный голод и жажду.
(обратно)
7
Стадия — 1/8 английской мили, около 185 метров.
(обратно)
8
Сезень — плетеная веревка.
(обратно)
9
Кацики (касики) — индейские князьки (вожди) племен в эпоху открытия Америки.
(обратно)
10
«Собачья вахта» — полувахта от 12 часов ночи до 4 часов утра.
(обратно)
11
Кок — повар.
(обратно)
12
Камбуз — кухня на корабле.
(обратно)
13
Стюард — буфетчик.
(обратно)
14
Катамараном называют в Индии особый вид плота. Этим же именем называются небольшие суда, состоящие из двух соединенных между собой корпусов, с парусом посередине.
(обратно)
15
Шпигат — отверстие, куда стекает вода с палубы.
(обратно)
16
Лига (морск.) — старая мера длины, равная 5,56 километра.
(обратно)
17
Сэр Крессуэлл Крессуэлл — праведный судья из старинных английских легенд.
(обратно)
18
Летучий Голландец — легендарный образ морского капитана, обреченного вместе со своим кораблем вечно носиться по бурному морю и никогда не приставать к берегу.
(обратно)
19
Степс (морск.) — гнездо для установки мачты.
(обратно)
20
Крупье — банкомет в игорном доме.
(обратно)
21
Изумрудный остров — поэтическое название Ирландии.
(обратно)
22
Нактоуз (морск.) — шкафик для компаса.
(обратно)
23
Шлюп, шхуна, бриг — различные виды парусных судов.
(обратно)
24
Ньюфаундленд, или водолаз, — одна из самых крупных пород собак; они прекрасно плавают и любят воду; названы по имени острова Ньюфаундленд в Северной Америке.
(обратно)
25
Дюйм — мера длины, равная 2,5 сантиметра.
(обратно)
26
Фут — мера длины, равная 30,4 сантиметра.
(обратно)
27
Кабельтов — морская мера длины, равная 185,2 метра.
(обратно)
28
Ярд — мера длины, равная 91,4 сантиметра.
(обратно)
29
Серпентайн — небольшая искусственная речка в лондонском Гайд-парке.
(обратно)
30
Английская сухопутная миля — мера длины, равная 1609,3 метра; здесь: морская миля равна 1852 метрам.
(обратно)
31
Галлон — мера жидкости, равная 4,5 литра.
(обратно)
32
Акр — мера земельной площади, равная 0,4 гектара.
(обратно)
33
Морской еж — животное из отряда иглокожих; живет на песчаном морском дне, у берегов, под камнями.
(обратно)
34
В старину на народных праздниках ставились столбы, вымазанные салом. Тому, кто первый добирался до вершины столба, выдавалась награда.
(обратно)
35
Остров Мэн находится в двух часах езды от побережья Англии. Никаких чернокожих и удавов там нет и быть не может.
(обратно)
36
На гербе острова Мэн изображены три ноги, соединенные вместе.
(обратно)
37
Травить канаты — ослаблять, отпускать понемногу канаты.
(обратно)
38
Трап — лестница по борту судна.
(обратно)
39
Тали — система блоков для подъема тяжестей.
(обратно)
40
Кастор — толстый, плотный шерстяной материал, из которого делают дорогие шляпы.
(обратно)
41
Шканцы — часть палубы между грот-мачтой и бизань-мачтой, то есть между второй и третьей мачтами.
(обратно)
42
Фальшборт — часть борта, выступающая над палубой и образующая перила.
(обратно)
43
Шиллинг — английская монета; 20 шиллингов составляют 1 фунт стерлингов.
(обратно)
44
Пенни (множественное число «пенсы») — мелкая английская монета; 12 пенсов составляют 1 шиллинг.
(обратно)
45
Ванты — снасти, которые крепят мачту к бортам.
(обратно)
46
Кок — корабельный повар.
(обратно)
47
Брашпиль — горизонтальный ворот, употребляемый для подъема якоря.
(обратно)
48
Кентербери — городок в Англии, славящийся своим старинным собором.
(обратно)
49
Клюз — отверстие в борту судна для якорной цепи.
(обратно)
50
Каботажные суда — суда, следующие из одного порта в другой вдоль берега; обычно бывают небольших размеров.
(обратно)
51
Шпангоуты — ребра судна: изогнутые балки, идущие в обе стороны от киля; они служат основанием для накладки бортов.
(обратно)
52
Бимс — поперечная балка между бортами.
(обратно)
53
Тантал — в древнегреческих преданиях преступный царь, брошенный богами в подземное царство; стоя по горло в воде, он не мог напиться и вечно мучился от жажды.
(обратно)
54
Бренди — английская водка.
(обратно)
55
Кварта — мера жидкости, равная 1,13 литра.
(обратно)
56
«Quod erat faciendum» (лат.) — «Что и требовалось сделать». В старинных учебниках математики обычная фраза, стоявшая в конце решения задачи.
(обратно)
57
Старинные часы делались с крышкой, но без стекла. Таким образом, в темноте легко можно было нащупать стрелки пальцами.
(обратно)
58
По старинному поверью, хамелеоны питаются воздухом, на самом деле они питаются насекомыми.
(обратно)
59
Так называемая «норвежская крыса» на самом деле происходит не из Норвегии, а из Юго-Восточной Азии.
(обратно)
name="id20200803175056_60">
60
Английский фунт равен 453,5 грамма.
(обратно)
61
Эксцельсиор (лат.) — все выше.
(обратно)
62
Мальвазия — сорт ликерного вина. Герцог Кларенс, брат английского короля Эдуарда IV, по преданию, был утоплен в бочке с мальвазией. На самом деле он был тайно казнен в 1478 году.
(обратно)
63
Штирборт — правая сторона корабля, правый борт.
(обратно)
64
«Обрасопить реи» (морской термин) — установить реи под прямым углом в отношении киля и мачты; в переносном смысле — «уладить дела», «привести дела в порядок».
(обратно)
Оглавление
Майн Рид.
Собрание сочинений в 27 томах. Том 4
ЗАТЕРЯННЫЕ В ОКЕАНЕ
Глава I. АЛЬБАТРОС
Глава II. ПОЖАР НА КОРАБЛЕ
Глава III. МОЛИТВА
Глава IV. ГОЛОД-ОТЧАЯНИЕ
Глава V. ВЕРА — НАДЕЖДА
Глава VI. ЛЕТУЧАЯ РЫБА
Глава VII. ЖИВИТЕЛЬНАЯ ТУЧА
Глава VIII. БРЕЗЕНТОВЫЙ «БАК»
Глава IX. ОСВЕЖАЮЩИЙ ДУШ
Глава Х. ЛОЦМАН-РЫБА
Глава XI. СКУДНЫЙ ОБЕД
Глава XII. ПЛАСТАЮТ АКУЛУ
Глава XIII. ПРИЛИПАЛА
Глава XIV. УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАРУС
Глава XV. ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС
Глава XVI. ЕЩЕ ЛЮДИ, ЗАТЕРЯННЫЕ В ОКЕАНЕ
Глава XVII. КАК СНЕЖОК СПАССЯ С НЕВОЛЬНИЧЬЕГО СУДНА
Глава ХVIII. СНЕЖОК НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ПЛОТУ
Глава XIX. СНЕЖОК СПАСАЕТСЯ, УХВАТИВШИСЬ ЗА КЛЕТКУ ДЛЯ КУР
Глава XX. ПРИ ВСПЫШКЕ МОЛНИИ
Глава XXI. ВЕСЛА НА ВОДУ!
Глава XXII. «ЭЙ, НА КОРАБЛЕ!»
Глава XXIII. ПЛОТЫ СОШЛИСЬ
Глава XXIV. ПЕРЕСТРОЙКА ПЛОТА
Глава XXV. «КАТАМАРАН"[14]
Глава XXVI. ВИЛЬЯМ И МАЛЕНЬКАЯ ЛАЛИ
Глава XXVII. СЛИШКОМ ПОЗДНО!
Глава XXVIII. ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!
Глава XXIX. СПАСЕНА!
Глава XXX. МОЛОТ-РЫБА
Глава XXXI. ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Глава XXXII. ПО КРУГУ
Глава XXXIII. ПОГОНЯ ЗА «КАТАМАРАНОМ»
Глава XXXIV. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПАРУСА
Глава XXXV. В ОЖИДАНИИ СМЕРТИ
Глава XXXVI. СУНДУЧОК В МОРЕ
Глава XXXVII. ВМЕСТО СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА
Глава XXXVIII. ДОГАДКИ НАСЧЕТ «КАТАМАРАНА»
Глава XXXIX. ПО ВЕТРУ
Глава XL. СПАСАТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА НА ВОДУ!
Глава XLI. НАБЛЮДЕНИЕ С ВЫШКИ
Глава XLII. СНОВА НА БОРТУ
Глава XLIII. ПОЧИНКА ПЛОТА
Глава XLIV. АЛЬБАКОРЫ
Глава XLV. МЕЧ-РЫБА
Глава XLVI. МОРСКИЕ РЫЦАРИ МЕЧА
Глава XLVII. АЛЬБАКОРОВ ЛОВЯТ УДОЧКОЙ
Глава XLVIII. ФРЕГАТ
Глава XLIX. МЕЖДУ ДВУМЯ ХИЩНИКАМИ
Глава L. СНЕЖОК ЛЕТИТ КУВЫРКОМ В ВОДУ
Глава LI. УДАР НАСКВОЗЬ
Глава LII. МЕРТВАЯ ХВАТКА
Глава LIII. МРАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Глава LIV. ВЕЧЕР НА ПЛОТУ
Глава LV. СНЕЖОК ВИДИТ ЗЕМЛЮ
Глава LVI. ЗЕМЛЯ ЛИ ЭТО?
Глава LVII. КОРОЛЬ КАННИБАЛОВЫХ ОСТРОВОВ
Глава LVIII. ЭТО КИТ!
Глава LIХ. НА КИТОВОЙ ТУШЕ
Глава LX. ДИКОВИННАЯ КУХНЯ
Глава LXI. СБОРИЩЕ АКУЛ
Глава LXII. ОПАСНОЕ РАВНОВЕСИЕ
Глава LXIII. УМЕЛО БРОШЕННЫЙ ГАРПУН
Глава LXIV. ИЗОБИЛЬНЫЕ ВОДЫ
Глава LXV. КИТ В ОГНЕ
Глава LXVI. БОЛЬШОЙ ПЛОТ
Глава LXVII. КОМАНДА ЛЮДОЕДОВ
Глава LXVIII. ЛОТЕРЕЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Глава LXIX. ВЫЗОВ ОТВЕРГНУТ
Глава LXX. НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
Глава LXXI. ЛЕГРО ПЕРЕД СУДОМ
Глава LXXII. ДУЭЛЬ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ
Глава LXXIII. НЕНАВИСТЬ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ
Глава LXXIV. ОГОНЬ!
Глава LXXV. НА МАЯК!
Глава LXXVI. ТЬМА КРОМЕШНАЯ
Глава LXXVII. ТАЙНЫЙ СГОВОР
Глава LXXVIII. ПОД ПОКРОВОМ ТЬМЫ ЗЛОДЕЙСТВО СОВЕРШИЛОСЬ
Глава LXXIX. КОГДА ПОГАС СВЕТ
Глава LXXX. ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ
Глава LXXXI. НЕПРИЯТНЫЕ ДОГАДКИ
Глава LXXXII. НЕОФИЦИАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
Глава LXXXIII. ЕСТЬ ВЫТРАВИТЬ ТРОС!
Глава LXXXIV. ПОГОНЯ
Глава LXXXV. ВСЕ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ
Глава LXXXVI. ПЕРЕРЕЗАН ПОПОЛАМ
Глава LXXXVII. НЕПРЕДВИДЕННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
Глава LXXXVIII. ШТОРМ НАДВИГАЕТСЯ
Глава LXXXIX. ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ КРИК
Глава ХС. БЕЗУМЕЦ ПОСРЕДИ ОКЕАНА
Глава ХСI. ПОТЕРЯВШИЙ РАЗУМ ПЛОВЕЦ
Глава ХСII. НА ЛОДКЕ
Глава ХCIII. «КАТАМАРАН» ПОКИНУТ
Глава XCIV. СТАДО КАШАЛОТОВ
Глава XCV. ХУЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
Глава XCVI. САМЫЙ МРАЧНЫЙ ЧАС
Глава XCVII. ВЕСЕЛЯЩАЯ ЧАРОЧКА
Глава XCVIII. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК ИЛИ КОРАБЛЬ В ОГНЕ?
Глава ХСIХ. КИТОБОЙНОЕ СУДНО
Глава С. КОНЕЦ ПОВЕСТИ
МОРСКОЙ ВОЛЧОНОК
или
Путешествие на дне трюма
Глава I. МОИ ЮНЫЕ СЛУШАТЕЛИ
Глава II. СПАСЕННЫЙ ЛЕБЕДЕМ
Глава III. ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Глава IV. ЯЛИК
Глава V. ОСТРОВОК
Глава VI. ЧАЙКИ
Глава VII. ПОИСКИ МОРСКОГО ЕЖА
Глава VIII. ЯЛИК УПЛЫЛ
Глава IX. СИГНАЛЬНЫЙ СТОЛБ
Глава X. Я ВЗБИРАЮСЬ НА СТОЛБ
Глава XI. ПРИЛИВ
Глава XII. Я ДЕРЖУСЬ НА СТОЛБЕ
Глава XIII. ПОДВЕШЕН К СТОЛБУ
Глава XIV. ЗАВТРА — В ПЕРУ!
Глава XV. Я УБЕГАЮ ИЗ ДОМУ
Глава XVI. «ИНКА» И ЕЕ ЭКИПАЖ
Глава XVII. НЕ ВЫШЕЛ РОСТОМ!
Глава XVIII. Я ПРОНИКАЮ НА КОРАБЛЬ
Глава XIX. УРА! МЫ ОТЧАЛИЛИ!
Глава XX. МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Глава XXI. ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
Глава XXII. ЖАЖДА
Глава XXIII. СЛАДОСТНЫЙ ЗВУК
Глава XXIV. БОЧКА ПРОБУРАВЛЕНА
Глава XXV. ВТУЛКА
Глава XXVI. ЯЩИК С ГАЛЕТАМИ
Глава XXVII. БОЧОНОК С БРЕНДИ
Глава XXVIII. ПЕРЕХОЖУ НА СТРОГИЙ РАЦИОН
Глава XXIX. ЕМКОСТЬ БОЧКИ
Глава XXX. ЕДИНИЦА МЕРЫ
Глава XXXI. «QUOD ERAT FACIENDUM"[56]
Глава XXXII. УЖАСЫ МРАКА
Глава XXXIII. БУРЯ
Глава XXXIV. НОВАЯ ЧАШКА
Глава XXXV. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Глава XXXVI. ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПРИШЕЛЕЦ
Глава XXXVII. РАЗМЫШЛЕНИЯ О КРЫСАХ
Глава XXXVIII. ВСЁ ЗА КРЫСОЛОВКУ!
Глава XXXIX. ВРАЖЕСКАЯ СТАЯ
Глава XL. НОРВЕЖСКАЯ КРЫСА
Глава XLI. СОН И ЯВЬ
Глава XLII. ГЛУБОКИЙ СОН
Глава XLIII. В ПОИСКАХ ВТОРОГО ЯЩИКА С ГАЛЕТАМИ
Глава XLIV. Я ЗАЩИЩАЮ КРОШКИ
Глава XLV. СНОВА УКУС
Глава XLVI. ТЮК С ПОЛОТНОМ
Глава XLVII. EXCELSIOR[61]
Глава XLVIII. ПОТОК БРЕНДИ
Глава XLIX. НОВАЯ ОПАСНОСТЬ
Глава L. ГДЕ МОЙ НОЖ?
Глава LI. КРЫСОЛОВКА
Глава LII. ОДНИМ УДАРОМ
Глава LIII. КРУГОМ!
Глава LIV. ДОГАДКИ
Глава LV. Я МОГУ СТОЯТЬ ВО ВЕСЬ РОСТ!
Глава LVI. ОЧЕРТАНИЯ КОРАБЛЯ
Глава LVII. СЕРЬЕЗНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
Глава LVIII. В ОБХОД ФОРТЕПИАНО
Глава LIX. СЛОМАННОЕ ЛЕЗВИЕ
Глава LX. ТРЕУГОЛЬНАЯ КАМЕРА
Глава LXI. ЯЩИК С МОДНЫМИ ТОВАРАМИ
Глава LXII. ЧУТЬ НЕ ЗАДОХНУЛСЯ
Глава LXIII. СВЕТ И ЖИЗНЬ
Глава LXIV. ИЗУМЛЕНИЕ КОМАНДЫ
Глава LXV. РАЗВЯЗКА
*** Примечания ***