
Владимир Корнев
ПИСЬМО НА ЖЕЛТУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ
Детские истории
о Тиллиме Папалексиеве
Посвящается моей дочери Маше
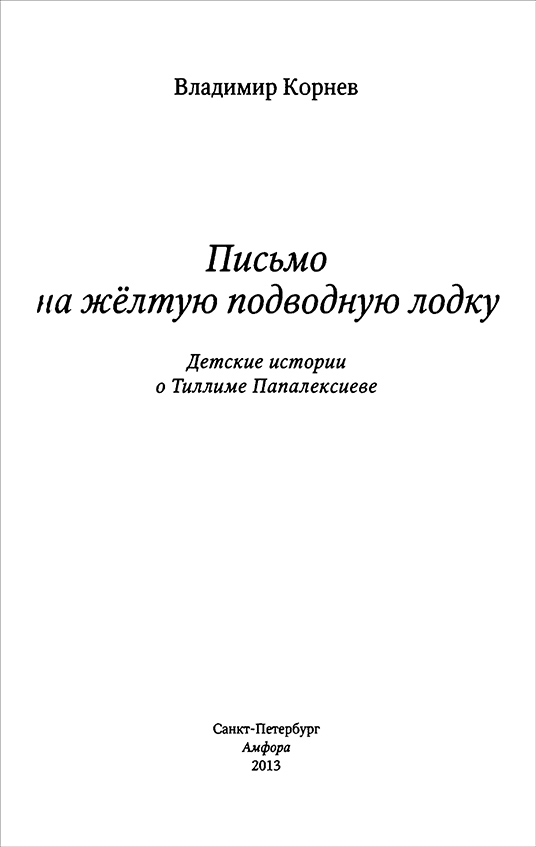 ПТИЧЬИ УРОКИ
ПТИЧЬИ УРОКИ
В детстве Тиллим отдыхал у бабушки Мани в уральской деревне. Каждое лето отправляли его на отдых в эти глухие лесные места — напиться чистейшего, как ключевая вода, воздуха, подальше от непроницаемого челябинского смога. Тиллим, шестилетний мальчик, представлял свои путешествия далекими-далекими и словно в бабушкину сказку (в городе ведь жизнь совсем другая, а тогда и подавно — деревенская еще больше отличалась от городской). Конечно, после асфальта улиц, шума машин, огромных каменных домов и высоких заводских труб интересно было собирать в бору грибы и ягоды, купаться в озере, наблюдать за домашними животными: коровами, козами, свиньями, курами, которых сельчане держали почти в каждом дворе. Очень любил Тиллим смотреть на лошадей — доброе животное, и глаза у лошадки умные, совсем как у человека. Подолгу мог на них любоваться. А еще видел он много разных птиц, которых в городе или совсем не увидишь, или летают они в высоте, под ноги не попадаются. Не воробьев да голубей — щеглов, малиновок, трясогузок, сорок, грачей, а в лесу — дятла, то с красной головкой, то с желтой.
Вот однажды собрались старшие на сенокос (а дело было в июле — самая пора сено на корм скотинке заготавливать), бабушка с дедом и другие родственники (в деревнях тогда большие были семьи), ну и Тиллишу-малыша взяли: сам хотел, да и дома не с кем было оставить — все в работе. Спешит маленький Тиллим за взрослыми, то на одной ноге вприпрыжку, то широкими шагами — норовит в чужой след попасть на грунтовой деревенской улице; вдруг видит: прямо посередине проезда большая птица прохаживается (в детстве все больше кажется), но как-то странно — на лапку припадает и крыло приволакивает. Оно красивое, точно атласное — шелковое, черное. Тиллим в том возрасте все же мало в птицах разбирался (откуда там?), а эта еще и тем удивила, что другое крыло у нее было белое-белое, точно снег или свежие крахмальные наволочки на бабушкиных подушках, что горкой на кровати лежали — внизу самая большая, а сверху — са-амая маленькая. Спросил Тиллиша бабушку, что, мол, это за птица такая невиданная, крылья разного цвета (а у бабы Мани еще собака на дворе была, тоже черно-белая, по кличке Черныш, и Тиллим любил с ней играть, кормить с рук).
«Да это ж ворона! Редкая какая… — Бабушка всплеснула руками. — Видать, кто-то ее подбил, или кошки подранили. Жаль, пропадет теперь».
Тиллим был мальчик отзывчивый, добрый, любил животных (даже заплакать мог над мертвым кротом или раздавленной кошкой). Сама баба Маня учила его вежливости и доброте, часто, бывало, приговаривала: «Ласковый теленок двух маток сосет» (значит, две коровы его согласятся кормить, а ведь некоторые и своего неохотно кормят, отгоняют). «Добрым и отзывчивым быть хорошо, правильно — люди должны между собой жить в добре» — так наставляли старшие.
Прошлой весной, в конце мая, увидел Тиллим в саду под деревом взъерошенную серенькую пичугу-кроху, которая жалобно пищала в траве. «Птенчик из гнезда выпал!» — решил Тиллим, но гнезда поблизости не нашел, да и птица-мама не летала рядом, видно не заметила пропажу. Юный натуралист, не раздумывая, принес потеряшку в избу. Бабушка, развешивавшая в это время в сенях лечебный ромашковый цвет для сушки, пригляделась к живой находке и с удивлением заметила, что соловьи в их места «сроду не залетали».
«Птенец» оказался самым взаправдашним взрослым соловьем, только чем-то ослабленным (может, кто из детворы подстрелил из рогатки?). Баба Маня связала ему крючком уютное гнездышко из овечьей пряжи, а Тиллим сам выстлал его кошачьим пухом от мохнатой Кисули, который, сколько Кисулю ни чесали, всегда белел клоками по всем углам избы.
Соловей никому не мешал, даже Кисуле, только изредка тихонько попискивал из своего утепленного приюта. Все его любили: бабушка осторожно, чтобы не захлебнулся, тыкала клювиком в блюдце с водой — как же без питья; Тиллиша сам ловил ему комаров и приносил с огорода червяков, которых тот охотно клевал. Несмотря на то что черви иногда были жирные, большие и, казалось, не пролезут в нежное соловьиное горлышко, он отлично с ними управлялся.
Словом, никому соловко не был в обузу, всех радовало, что явно шел на поправку, только упорно не пел.
«Не всякая птица в неволе поет — гордый!» — объясняла внуку много знавшая и повидавшая на своем веку бабушка.
Прошло недели две, и скромная птаха совсем ожила: стала уже летать под потолком из комнаты в комнату, явно тревожась, — ей, конечно, хотелось на свет, на простор, в ясное июньское небо.
Тиллим и не заметил, что баба Маня открыла фортку: он увидел лишь, как соловей мгновенно выпорхнул в сад. Это должно было, разумеется, рано или поздно произойти, но для впечатлительного, привязчивого мальчугана оказалось все же печальной неожиданностью. Ему казалось, что его маленький питомец должен был как-то по-особенному с ним попрощаться. «Он не мог так просто улететь!» — твердил Тиллим сквозь слезы, обижаясь на бабушку — зачем она не дала им попрощаться?! — но та уверяла, что соловей — божья птица и всегда будет помнить добро, сделанное ему человеком.
Детской душе от этих мудрых слов стало легче, и когда малыш брал в руки вязаное гнездышко, всматриваясь в приставшие к нему серые перышки, то ему верилось, что в эти минуты верный друг тоже вспоминает о нем — в новом, настоящем, гнезде.
Однажды ранним июньским утром сидел Тиллим вот так у окошка, и вдруг из куста цветущей сирени донеслись мелодичные звуки, сначала робкие, а затем разлившиеся над садом причудливо-коленчатой, набравшей силу изысканной трелью. Восхищенный Тиллим распахнул створки, и заливистое птичье пение вместе с цветочным благоуханием наполнило комнату! Внучек поспешил поделиться волшебной радостью с бабулей, влетел в кухню, где та хлопотала ни свет ни заря.
«Да уж слышу, слышу! Дождался своего соловку? Эк что выписывает! А мы-то еще думали, не запоет… Это он тебе в благодарность и Богу во славу — Троица ж нынче. Умная птичка все чует: всякое дыхание хвалит Господа!»
Изливался в благодарности и воспевал хвалу цветущему миру своими концертами-утренниками пернатый тенорок изо дня в день до самого конца месяца, пока Тиллим не научился подражать ему затейливым свистом. Такая оказалась удивительно светлая птица…
Год миновал — и вот снова птица, теперь уже большая, но тоже беспомощная. Бедную эту ворону наверняка сбила бы машина, или злые подростки, прежде поиздевавшись, замучили бы совсем; ну уж во всяком случае, ночью она стала бы добычей полудиких деревенских котов, а может, и лисы — из тайги. Вот какая ожидала бы воронушку печальная судьба, если б не спросил Тиллиша у бабушки: «А может, я ее домой отнесу, и мы ее вылечим, правда? Помнишь, как соловья… Ну пожалуйста!»
Баба Маня улыбнулась, как только она одна умела, и согласно кивнула.
Внук подобрал раненую птицу, которая почти не сопротивлялась — видно, чувствовала, что ничего дурного ей не сделают, — мигом вернулся в дом и посадил черно-белую ворону на старинный сундук, покрытый мягкой подстилкой, — место, где сама баба Маня любила сидеть по вечерам за вязаньем или шитьем (такая работа была для нее отдыхом). В этом сказочном сундуке, между прочим, хранилось много интересных вещей, которые давно уже отслужили свое, но их берегли как память о времени, когда даже бабушкина бабушка была молодая. Пожалуй, это было самое уютное место в горнице.
«Ну, здесь воронке будет тепло и мягко, а вернемся — накормим ее и перевяжем», — подумал Тиллим и обрадовался, что теперь у него есть новый пернатый друг, которого нужно будет выхаживать и заодно с ним забавляться (мальчик уже слышал, что ворону можно научить говорить — вот было бы здорово!).
На сенокосе, как всегда, было много интересного: цветы луговые, кузнечики, бабочки и стрекозы, ледяная и вкусная-превкусная вода из ключика на краю покоса; был даже уж, которого чуть не разрубили косой, приняв поначалу за ядовитую гадюку; были и кусачие, жалящие до крови слепни. Тиллим с трудом дотерпел до конца работы: ждал главного — как вернется домой и вместе с домашними будет лечить диковинную ворону. Даже имя пытался ей придумать обратной дорогой, но в кружащуюся от луговых ароматов голову ничего не приходило, да и вороньих имен Тиллиша не знал. Взрослые только посмеивались: «Ворона — она и есть ворона» — или отмахивались: «Не мешай, птицевод!» Им было не до того, чтобы вороне с крыльями разного цвета имя подбирать, и вообще — у взрослых всегда имеются дела куда серьезнее.
То, что все увидели, когда вошли из сеней в жилье, трудно описать словами (здесь нужна была кисть художника): по дому, как говорят в народе, мамай прошел. Всюду виднелись следы погрома, разгула необузданной стихии: посуда со стола сброшена и разбилась, вилки-ложки — под столом, всякие мелочи — бумажки, тряпицы — раскиданы по комнате, под ногами хрустит — солонка с сахарницей тоже лежат на полу, крупы рассыпаны; досталось и цветочным горшкам: герань со столетником, растерзанные, вперемешку с землей и глиняными черепками валялись у подоконников. Настоящий кавардак творился и на печке. Были исклеваны-изорваны даже пестрые занавески и одеяла, из которых клочьями торчала вата. Баба Маня сразу запричитала, поминая недобрым словом того, кто все это натворил. Ленивая Кисуля на такое была неспособна, да она и гуляла где-то уже вторые сутки. Было совершенно ясно — в запертом доме набезобразить могла только Тиллимова воронушка, но даже старшие удивились: как, раненная, она могла учинить такой разор? Причем самой-то черно-белой безобразницы было не видать. Решили, что ее насмерть придавило каким-нибудь ею же уроненным тяжелым предметом.
«Как еще утюги чугунные не раскидала, хулиганка…» — всхлипнула бедная баба Маня.
Тиллиша же испугался за глупую ворону, боясь, что ее найдут раньше него и строго накажут; стал ползать по дому, заглядывая в разные углы, куда дурашка могла бы забиться. Наконец спасенная Тиллимом птица нашлась, но мальчуган не обрадовался, а горько заплакал: его воронушка лежала на сундуке лапками кверху, черно-белые крылья были аккуратно сложены, глазки помутнели, и клюв был плотно закрыт — в общем, безо всяких признаков жизни. Малыш бережно взял ее, не позволяя никому прикасаться к погибшей птичке, и, продолжая плакать, спрыснул водой из рукомойника — вдруг оживет? Но воронушка оживать и не думала. Как Тиллиша тогда ни протестовал, бабушка заставила любимого внучка вынести ее на улицу и оставить где-нибудь на мусорке — пускай кошки подберут, однако тот задумал на закате тайно похоронить бедняжку.
Баба Маня кое-как прибралась в доме и, вздыхая, взялась готовить обед. После обеда (внучек в тот день есть отказался в знак траура по птице) в дом заглянула соседка — обменяться деревенскими новостями. Когда же она увидела еще остававшиеся следы хулиганского разбоя и узнала, что к чему, то тут же закачала головой — дескать, понятно все и вовсе не удивительно. Оказывается, эту ворону с крыльями разного цвета в деревне уже знали: соседи приютили раненую по доброте душевной несколько дней назад и тоже куда-то отлучились, а та устроила им такой «обыск», что до сих пор золотые сережки и колечко обручальное найти не могут — запрятала в какой-нибудь свой тайник.

«Вороны все хитрющие. А эта — двухцветная — так особенно, — уверяла соседка. — Думаете, она кем побитая, больная? Как бы не так! И дохлой точно притворилась — сейчас опять кого-нибудь разжалобить да обмануть норовит».
Мальчик слушал это открыв рот, а потом побежал за огороды посмотреть, на месте ли мертвая ворона. Искал, искал, да без толку — птицы и след простыл, точно улетела! Тиллиму запомнилось, как он тогда обрадовался, подумав: «Пусть она такая проказница, зато живая».
Раньше казалось, будто все это было вчера, а теперь, делясь иногда с кем-нибудь воспоминаниями детства, взрослый Тиллим с грустью понимал, что нет уже бабы Мани, и дома того нет, в общем, многое вокруг изменилось и немало лет уж прошло. И смысл в этом поучительном случае виделся уже другой: точно было Тиллиму в те ранние годы предупреждение на всю жизнь. Сколько потом таких «раненых ворон» он встретил, только уже в человеческом облике. Бывает, люди пожалуются тебе на жизнь, на свои беды и несчастья, помощи попросят. Поверишь им, примешь их рассказы близко к сердцу, поможешь чем-нибудь, а то и на ночлег оставишь и пригреешь. Они твоей помощью воспользуются, войдут в доверие, а через какое-то время такую гадость или подлость сделают, что даже видеть их не хочется. Но чаще они и сами тут же исчезают из твоей жизни — им бы найти, кого еще обмануть, разжалобить, где повыгоднее устроиться, пригреться…
И представлялась Тиллиму уже не двухцветная ворона, а совсем другое — домашнее животное с пятаком вместо носа, тучное и прожорливое. Не зря отзываются о нем в народе: «Посади свинью за стол, а она и ноги на стол».
Да, слишком часто попадаются среди ближних не «соловьи» с чистой душой, а именно коварные «вороны». Но раз уж есть такие на свете, пускай себе живут. Конечно, «соловьями» они не становятся и «пению» их учить бесполезно, но как знать — вдруг да и проснется в них когда-нибудь человеческая совесть? Ведь есть же птица ворон: кажется, разница с бесстыжей хулиганкой только в ударении да в роде, зато благородной мудростью на весь мир славится.
БУЛОЧКА И ТРИ ПОМИДОРКИ
Оля Штукарь была моей первой школьной любовью. Штукарь — не прозвище, не кличка, как можно подумать (да и разве пришло бы мне в голову оскорблять любовь кличкой?), просто у нее была такая фамилия. Редкая, конечно, тут не поспоришь. И писаной красавицей ее вряд ли можно было назвать, — пухленькая, со светлыми кудряшками, она походила на слегка перекормленного ангелочка с открытки (так и хочется написать — с рождественской, но такие открытки я увидел гораздо позже), однако никакая другая девочка не производила на меня тогда впечатления, сравнимого с ангельским очарованием. «Оля» — это имя мысленно и вслух я повторял, пробуждаясь и засыпая, утром и вечером, как молитву или заклинание. А в классе ее прозвали Булочка-Помидорчик. Когда на уроках математики она задумывалась над задачкой, кто-нибудь с первого ряда парт (только не я!) всегда спрашивал ее с шутовской серьезностью шепотом заговорщика: «А если бы в сумочке была булочка и три помидорки?»
Она терялась, краснела, как пион, отчего становилась еще прекрасней.
Не позволяя себе подшучивать над Олей, я, наоборот, даже посвятил ей стихи (сочинять в рифму я начал еще до школы). Мне они показались очень звучными (не хуже, чем у самого Пушкина!) и красивыми, как сама моя одноклассница. До сих пор помню их слово в слово:
Я люблю тебя, Ольга,
Хоть ты толстая станом!
Да, тут есть что любить мне,
Я твержу неустанно:
На моем бедном сердце
Ты как груз полновесный.
Меня любишь ли, Ольга?
Ты признайся мне честно.
Эти стихи я прочел моей музе лично, с выражением, специально дождавшись, когда все, кроме нас, вырвались на переменку после какого-то скучного урока, и был безмерно удивлен, получив вместо восхищенной благодарности и признательной благосклонности со всего маху по голове учебником «Родной речи». Сам удар я еще пережил, но, оказалось, Оля была всерьез расстроена тем, что в своем пламенном послании я назвал ее толстой. В общем, хотел восхитить, а вышло, что обидел, и от этого сам расстроился еще больше. Странные они, эти девчонки! Думают, раз толстушка, то обязательно некрасивая…
Была у меня в детстве одна досадная физическая слабость — горло меня часто подводило. Стоило мне съесть лишнее мороженое, выпить на жаре ледяной газировки за три копейки из автомата или забыть надеть в весеннее-осеннюю слякоть кусачий шарф маминой вязки, как сразу предательски воспалялись гланды, или, как называла их моя интеллигентная городская бабушка, миндалины.
Из-за жара и кашля меня тут же брали под домашний арест и мало того, что периодически запихивали под мышку холодный скользкий градусник, заставляли дома кутаться в нелюбимый шерстяной шарф, так еще, когда приходил доктор, он засовывал в мое бедное горло палочку с тампоном и долго там орудовал, смазывая эти самые покрасневшие гланды-миндалины, которые представлялись мне похожими на персиковые косточки, жгучей лечебной «синькой», а я был вынужден терпеть все эти мучения и издевательства. Правда, в дни болезни не нужно было ходить в школу и делать уроки, напротив — следовало побольше спать, а вместо задач и диктантов можно было запоем читать о приключениях героев Жюля Верна или Фенимора Купера — про индейцев, но зато я надолго лишался возможности любоваться кудрявым затылком моей Олечки и передавать ей под партой записки с признаниями в стихах, что огорчало меня даже больше, чем болезненные процедуры с «синькой».
В минуты отчаяния я даже готов был согласиться, чтобы мне, как некоторым одноклассникам, совсем вырвали эти никчемные наросты в горле, хоть и знал, что это настоящая операция под наркозом, и куда больнее, чем выдрать зуб, но ради настоящей любви я бы все вытерпел, вот только врачи операцию никогда не предлагали — может, жалели меня, а скорее всего мои капризные гланды недостаточно «созрели», чтобы их вырезать.
Днем я всегда оставался с бабушкой, потому что мама допоздна чертила на работе какие-то чертежи, а папа постоянно пропадал в ответственных командировках — бывало, целые месяцы. В общем, возиться со мной больным (да и со здоровым) приходилось в основном моей любимой бабуле. Она была хоть и старенькая, но вполне еще крепкая и активная, вот только постоянно жаловалась на склероз — нет-нет да и забудет что-нибудь по хозяйству, зато во всем остальном память у нее была прекрасная. Она могла часами рассказывать о своей долгой жизни, о молодости, о прежних временах, любила наизусть читать стихи (между прочим, выходило у нее не хуже, чем у некоторых артистов) и даже порой пела романсы, аккомпанируя себе на старом пианино. Поэтому с ней было интереснее, чем с деревенской бабой Маней, доброй и мудрой, но постоянно занятой то скотинкой, то огородом, то хлопотавшей у печки и потому малоразговорчивой…
Нет, бабушка Лёка, Леокадия Евгеньевна, была совсем другая. Казалось, о чем ее ни спроси, она все знает, все может объяснить. Ей самой все было интересно. Всю жизнь бабушка Лёка была учительницей литературы, или, как она говорила, служила преподавателем словесности. Она успела даже поучиться в гимназии и окончила университет в Ленинграде (бабушка говорила «в Петрограде»), поэтому никогда не называла скамейку лавочкой, а мои любимые леденцы в круглой жестяной коробочке всегда называла только «монпансье». Сама она объясняла это грамотным петербургским произношением и строго следила за моей речью.
Мама говорила, что именно бабушка Лёка настояла на том, чтобы мне дали имя Тиллим, в память о герое давно забытого, но любимого ею галантного французского романа. Иногда у нее вырывались отдельные слова и целые фразы по-французски, но такое случалось нечасто и только дома. Бабушка объясняла это тем, что соседи не поймут или поймут неправильно (мне тогда было не ясно, почему неправильно), а она не хочет никого смущать.
Однажды во время очередной ангины бабушка сидела возле моей постели, и я, вспоминая о своей школьной любви, поинтересовался:
— Бабуля, а откуда такая фамилия — Штукарь?
Она, часто посещавшая родительские собрания, с хитринкой посмотрела мне прямо в глаза:
— А разве не из вашего классного журнала? Я помню, что у вас есть такая девочка, по-моему, даже живет в нашем дворе… Так ты, выходит, уже за барышнями ухаживаешь?
Я покраснел до кончиков ушей.
— Ну вот — ты всегда шутишь, а я серьезно…
— Да уж вижу, вижу — серьезный кавалер вырос, а мы и не заметили.
Сев на постели, я не унимался:
— Нет, правда! Ты должна знать, что за фамилия такая странная.
— Действительно, редкая… Как, впрочем, и наша. — Бабушка-словесница задумалась. — У фамилий бывает самое неожиданное происхождение, а Штукарь… Вероятно, кто-то из предков твоей обже
[1] торговал штучным товаром: были раньше такие лоточники, коробейники. Другая версия: был он искусным мастером и выпускал штучные вещи, в одном экземпляре… А может быть, здесь совсем иное и эта девочка из циркового рода, из акробатов, фокусников, которые выделывали разные штуки, потешали публику. Одним словом, были «штукари»… А сейчас схожу-ка я в аптеку — тебе за лекарством.
— Как здорово, бабуль! — восхитился я. — Ей последнее больше всего подходит: над ней некоторые потешаются, а она такая привлекательная… У нее кудряшки на затылке… Ее Оля зовут.
— Я люблю вас, Ольга… — задумчиво пропела бабушка Лёка, подошла к пианино, открыла клавиатуру и тотчас закрыла, но инструмент успел прозвенеть. — Просто «Евгений Онегин»: Пушкин и Чайковский одновременно… Послушай, Тиллим, а ты ей случайно не писал? Не отпирайся! Ты ведь у нас стихотворец… Неужели потешался над девочкой, как «некоторые»?
И тут я не выдержал и признался бабушке, что посвятил Оле стихотворение, даже прочитал, а та обиделась. Снова краснея и запинаясь, я продекламировал свое сочинение бабуле. Она со вниманием, серьезно (мне, во всяком случае, так показалось) все выслушала и тоном ценительницы поэзии произнесла:
— А по-моему, недурно. Конечно, не Александр Сергеич, но уж не хуже Ленского. Мне особенно понравилось вот это: «толстая станом… есть… неустанно». Красиво! Сам чувствуешь, какая звукопись?
Сам-то я в глубине души чувствовал, но был очень удивлен — получил ведь именно за это, но бабушка пояснила:
— …Только вот дамам не нравится, когда им прямо говорят, что у них есть, так сказать, лишний вес. Мог бы как-нибудь поизящнее выразиться — полная, пышная… А вообще-то не подходит — звукопись теряется… Да ты не расстраивайся, дружок: поэтов никогда не понимали! Хотя я тебя хорошо понимаю — лирическая грусть, элегия. Вот и напиши теперь что-нибудь лирическое… Ну, полно! Совсем ты свою бабулю заболтал, а у бабули склероз. Поспи-ка ты лучше — во сне быстрее выздоравливают, дорогуша! А я сейчас в аптеку сбегаю. В аптеку, пока не забыла, как лекарство называется…
Именно в этот момент мне так не хотелось никуда отпускать бабушку Лёку, которой я доверил самое сокровенное, мою самую чуткую на свете бабулю, которая со своим опытом педагога и воспитателя детских душ так тонко оценила то, что со мной творилось, и тогда я жалобным тоном, каким иногда (очень редко!) выпрашивал у математички оценку, попросил:
— Бабушка Лёка, расскажи мне, пожалуйста, как вы познакомились с дедушкой, как он за тобой ухаживал… Ну расскажи, бабуль!
— Уволь, mon enfant
[2]! Рассказывала уже, неоднократно рассказывала. — Бабушка картинно зевнула, прикрывая ладонью рот. — Впрочем, раз уж ты у нас метишь в кавалеры, давай-ка я расскажу тебе о своей первой любви, ну а после — за лекарством.
Я затаил дыхание: раз она вспомнила французский, значит, обязательно расскажет что-нибудь очень дорогое для нее, откроет мне тайну, которую, наверное, хранила много-много лет.
— Voila
[3]. Ты, Тиллим, знаешь, что твоя бабушка — особа допотопная и старорежимная и поэтому успела пять лет отучиться в гимназии, — тихо начала она. — Ах, как это было давно и какое славное это было время! Жили по-другому, учили по-другому и учились тоже… Я училась в женской классической гимназии — девочки тогда ведь воспитывались отдельно от мальчиков. Но мы, конечно, находили возможности для общения, да и нельзя сказать, что нас в детстве разделяли каменной стеной — все было в рамках разумных приличий. За мной очень трогательно ухаживал один кадет. Он был нашим соседом, учился в Оренбурге, в корпусе, но часто приезжал домой в отпуск. Очень был бойкий и вместе с тем галантный казачонок. Помню, меня смешила его большая папаха, из-под которой всегда вызвался подвитой русый чубчик. У него были шаровары с лампасами и сапожки, которые всегда были начищены и блестели, как лаковые. И все-таки он казался мне настоящим военным, будущим есаулом, и я очень смело для своего отрочества отвечала на его озорные взгляды. Что уж скрывать: по-девичьи любовалась им. А он… Вот ведь и имени его теперь не припомню — склероз, внучек, склероз… Да, он ходил передо мной этаким бравым офицериком, фертиком
[4] таким (да вы теперь и слова этого не знаете). И решился раз мой кадетик — что бы ты думал?
Что я мог думать по этому поводу, когда даже само слово «кадет» было для меня малопонятным? Я лишь ждал продолжения рассказа.
— Так вот, мой кавалер вызвался на глазах барышень-гимназисток переплыть Миасс…
— И переплыл?! — И без того больное горло перехватило от любопытства и нетерпения. Я закрыл глаза и представил себе нашу главную челябинскую реку, совсем не узкую, быстротекущую.
— Разумеется, — с достоинством кивнув, будто бы она сама совершила этот заплыв, ответствовала моя бабушка Лёка. — И, известное дело, обратно вернулся героем. Он ведь имел понятие об офицерской и о казачьей чести… Да-с, то были времена! Как-то потом сложилась судьба этого мальчика…
Но тут бабушка, отведя взгляд, спохватилась (мне показалось, что в глазах у нее стояли слезы), в который раз посетовала на склероз и наконец поспешила в аптеку, оставив меня в полном восторге воображать романтическую картину из ее старорежимного отрочества. И хотя мне трудно было вообразить то загадочное время, потому что «Историю СССР» мы еще не проходили (а когда прошли в соответствии со школьной программой — нескоро, классе в девятом, — в юных головах осталась неперевариваемая каша из песенки «Что тебе снится, крейсер „Аврора“…», маниакального гайдаровского бреда о контуженых бумбарашах, стойких мальчишах-кибальчишах и злых буржуинах, а также циничной кинострелялки про неуловимых мстителей), бабушкины откровения прочно засели в моем детском подсознании.
Очень скоро после этого разговора события приняли вполне предсказуемый для школьной любовной истории оборот.
У меня появился соперник-переросток по фамилии Лопаев — дылда выше меня на две головы, с сорок вторым размером ноги и старше почти на год (у него день рождения был раньше, чем у всех в классе — в сентябре). Прозвище у него было — Эскалоп. Как раз когда наша юная дама, я и мой соперник-акселерат, известный на всю школу спортсмен и драчун, были уже готовы вступить в новый учебный год и стать четвероклассниками, пришло время выяснить, кому выпадет честь проводить Олю Штукарь в школу, а после стать ее почетным портфеленосцем. Заспорили мы, разумеется, не на жизнь, а на смерть.
— А давай биться! — предложил тяжеловес Лопаев, презрительно глядя на меня сверху вниз и коварно усмехаясь в предвкушении легкой победы. — Кто победит, тот и в школу ее поведет. Только, пацан, чур, не хныкать и не закладывать, если я победю и по ходу тебе чё сломаю.
«Хитрющий и наглый! — подумалось мне. — Уверен, что я уже струсил, а он уже победил».
Лопаев, заметив мое замешательство, прищурился:
— Если дрейфишь, лучше сразу к бабке беги, Тиллим-налим!
«Ах так, ты еще обзываться…» — Во мне точно распрямилась какая-то пружина, да и за «бабку» обидно стало.
— Ты знаешь, что больше меня в два раза: наверное, лопаешь за троих, потому и фамилия такая! Ясно, что в драке ты меня тушей задавишь. Так нечестно, а кулаками махать любой дурак может, — сказал я. Тут очень кстати пришелся бабушкин рассказ, и я заявил: — Давай лучше по-благородному соревноваться: кто переплывет Миасс, тот вернется на коне. Пускай даже не наперегонки, главное — переплыть. Ну как, идет?
Видно было, что мой соперник от неожиданности на секунду опешил, однако все же выдавил из себя:
— Да мне не слабо, только на коне… Я на коне никогда… А где мы его возьмем?
— Это выражение такое, — важно объяснил я, чуть не прыснув со смеху. — Означает «с честью».
Лопаев снова расправил плечи:
— Ага! Я согласен, только прямо сейчас.
Сопровождаемые толпой любопытствующих, в основном наших одноклассников, мы отправились на берег.
— Покажи этому Эскалопу-остолопу, как надо плавать! — подбадривали меня.
Надо сказать, плавать я всегда любил и умел; правда, иногда все купание портил вездесущий пес Дроня. Это был Олин пес, ее любимец, верный страж и спутник. Подобранный щенком на улице лохматый симпатяга на длинных тощих лапах, неведомой породы, но с независимо поднятой лобастой головой и преданным взглядом, в котором светилось что-то человечье, несомненно, оправдывал свое «дворянское» происхождение. Он всегда отважно лез в воду и, неуклюже перебирая лапами, плыл за мной, но собачьи силы быстро заканчивались. Неустрашимый на суше, Дроня начинал тоненько поскуливать, захлебываться, наконец подплывал ко мне, как утопающий к спасательному кругу, и пристраивал тяжелые передние лапы на мои мальчишечьи плечи. В такую минуту я был для него последней надеждой, а для меня, учитывая, что стричь псу когти никому и в голову не приходило, его доверие оборачивалось удовольствием ниже среднего.
Наконец компания из нашего двора, желавшая понаблюдать за азартным заплывом-поединком, пришла на место. Мы с Лопаевым, раздевшись (мне накануне купили новый костюм: нарядную куртку с погончиками, серебристыми пуговицами, оранжево-солнечным шевроном на рукаве, изображавшим книгу — источник знаний, и брюки из синей полушерстяной ткани), разгоряченные, тут же полезли в воду. Первого сентября Миасс выглядел неприветливо: по стальной поверхности пробегала лихорадочная рябь, в воде отражалось серое небо. Река оказалась очень холодной, и кожа у меня сразу покрылась пупырышками (совсем как у пуговиц на новой форме), но какое это имело значение для принципиального «кадетского» заплыва? Я даже забыл про свои ненадежные, чувствительные гланды.
Не успели мы отплыть, как подбадривающий шум голосов за спиной заставил меня обернуться — любопытство взяло свое. У самой кромки берега стояла Оля. Как же она была красива в тот день! Золотистые кудрявые локоны, забранные в два хвостика и перевязанные пышными белыми бантами из атласной ленты, развевались на ветру, белоснежный воротник платьица был украшен кружевом, такой же ослепительно белый фартук с широкими воздушными оборками казался то ли раздуваемым парусом, то ли невесомыми крыльями. Я разглядел даже ее ноги в выходных туфельках на едва заметном каблучке и в совсем еще детских ажурных белых носочках. Все это делало девочку-подростка похожей на мотылька или стрекозу. А может быть, уже на гордую чайку? И было такое впечатление, что не мы с Лопаевым удаляемся от берега, а берег с девочкой в белом облаке уплывает прямо в небо…
Дама сердца благосклонно пришла взглянуть на мой подвиг! Разве это не было предзнаменованием триумфа? Вдохновившись, я с удвоенной силой поплыл дальше. В ушах у меня звучал бабушкин романс: «Я люблю вас! Я люблю вас, Ольга…» (тогда я еще не знал, что это ария, а не романс, — главное, что его подхватывала моя душа). Не успел я сделать и десятка вдохновенных, рождающих ощущение полета гребков, как, к моему громадному удивлению и даже недоумению, Лопаев развернулся и поплыл назад, к берегу.
— Здесь течением сносит прямо в омут, — бросил он на прощанье, то ли предупреждая об опасности, то ли откровенно издеваясь. — Вот сам и тони, раз такой упертый… Дурак ты, Налим!
Все-таки это было настоящим низким коварством и трусостью! Но я за словом в карман не полез.
— Рыбы не тонут! — был мой ответ.
С одной стороны, я, конечно, торжествовал — соперник сам отступил, обратившись в бегство, с другой — я вдруг почувствовал, что совсем замерз, и со страхом вспоминал рассказы взрослых о том, как от холода даже у лучших пловцов сводит ноги и они все-таки тонут. А тут вдобавок какой-то омут… Нет, со мной такое не случится — на глазах у Ольги я должен доплыть, я обязательно доплыву!
И тут я услышал, что сзади меня кто-то нагоняет. Неужели Эскалоп передумал?! Но нет. Это глупый увалень Дроня, который, разумеется, как всегда, не отставал от Оли, обрадовался возможности поплавать и решил составить мне компанию. Только его тут не хватало! С таким четвероногим балластом запросто можно угодить на дно и без омута.
«Фу, Дроня! Фу! Плыви назад, к хозяйке!» — стараясь выглядеть грозным, а не жалким паникером, отфыркивался я.
Но пес-«дворянин» не собирался подражать Лопаеву и продолжал упрямо бить лапами по воде. Скоро подтвердились мои худшие опасения: суетливый Дроня устал и по привычке подплыл ко мне, уверенный в том, что ему окажут помощь! Я едва не ушел под воду с головой, когда ощутил на себе немалый вес собаки, настолько к этому времени сам успел выдохнуться и закоченеть. Перепуганный пес еще сильнее замолотил лапами, взбаламучивая вокруг воду, попутно задевая и меня. Он основательно распорол мне щеку, а вид крови его, домашнего баловня, испугал еще больше. Ну, теперь точно конец — и мне, и Дроне! Утонем вместе… Но что это там за всплески? Похоже, сюда плывут! Наверное, кто-нибудь из взрослых узнал и вот уже… Когда я, уняв волнение и собравшись с силами, обернулся назад, моему изумлению не было предела: Оля Штукарь! Мой белокурый ангел прямо в парадном платьице — даже фартук не сбросила! Лицо, тонкую девичью шею облепили мокрые волосы; одна из атласных лент, развязавшись, пристала к платью и плыла за Олей, как русалочий хвост, губы девочки от холода стали синими, как сливы…
«Дроня, ко мне! Ко мне немедленно! — повелительно крикнула она. — Сейчас же поплыли! Не то в школу опоздаем из-за тебя. Быстро!»
Пес, радостно скуля, уцепился за свою госпожу-хозяйку, и они поплыли назад. Освободившись от назойливой туши, я и сам наконец с горем пополам, гордо отказавшись от помощи, которую предлагали со всех сторон, вылез из воды. Когда перевел дух, усилием воли скрывая дрожь, брезгливо натянул школьную форму. Она коркой облегла тело и тут же стала тяжелой, как рыцарские латы.

На школьной линейке, посвященной Дню знаний, мы с Олей стояли рядом — оба в мокрой, перепачканной одежде: я со свежей, кровоточащей раной на лице, точно это была боевая отметина, она с наскоро завязанными бантами на обвисших золотистых хвостиках. Еще недавно нарядные туфельки, которые Оля поспешно сбросила на берегу, были измазаны грязью и набиты песком. И все-таки по-прежнему во всей школе, во всем Челябинске не было никого прекрасней ее, моей спасительницы-златовласки.
Вся школа смотрела на нас как на героев, каких-нибудь олимпийских чемпионов-фигуристов или альпинистов, только что покоривших Эверест. Даже застывшего поодаль с виноватым видом, точно отлитого из бронзы, пса тоже считали героем как нашего спутника.
Лопаев, который, переминаясь с ноги на ногу, стоял неподалеку, завидовал нам отчаянно. На лице его определенно читалось: он с удовольствием отдал бы и коллекцию пестрых оберток от жвачки, и даже импортный спиннинг с японской леской только за то, чтобы быть сейчас рядом с божественной Олей Штукарь, таким же мокрым и растрепанным, как она, и так же, как я, сиять в ее лучах.
После своего подвига я, конечно, опять не на шутку застудил горло, и на этот раз мне все же удалили бесполезные гланды, но главное — в больнице меня навестила моя школьная муза вместе с Дроней. Она принесла мою любимую вкусную булочку с яблочным повидлом из школьной столовой (когда только заметила, что в буфете я всегда покупал именно эти булочки?), мясистые, с кулак кубанские помидоры с рынка. И пускай врачи еще не разрешали мне есть ничего, кроме мороженого (я его потом долго видеть не мог) и манной каши, я тогда и без булочек почувствовал себя самым счастливым человеком на свете, а горло с тех пор совсем перестало болеть. «Любовь закаляет мужчину! — так сказала мне бабушка Лёка и добавила: — В прежние времена из тебя, возможно, вышел бы неплохой кадет…»
Возможно, «в прежние времена» все так непременно и вышло бы, как говорила бабушка, но и после того заплыва на Миассе Оля оценила мой маленький подвиг: Лопаев оказался посрамлен, а мне в награду достались ее симпатия и верная дружба.
БУКЕТЫ МАЙСКИЕ
Этот урок русского языка в пятом «А» 124-й школы города Челябинска с литературно-художественным уклоном начался не так, как всегда. Вместо того чтобы проверять домашнее задание, заслуженный преподаватель и классный руководитель Ирина Ивановна Ушинская (в школьном просторечии — Иринванна) включила телевизор. На экране, подобно сказочным феям, порхали невесомые балерины.
По классу прокатились возгласы удивления и восторга. Что касалось Тиллима, то он в глубине души тоже, разумеется, радовался, что урока не будет, тем более что упражнения по русскому языку вечером сделал не особенно старательно, одним глазом косясь и телевизор, где шел захватывающий фильм про трех мушкетеров с Боярским в главной роли.
— Дети, сегодня у меня особенный день, — сказала Ирина Ивановна срывающимся от волнения голосом, вытирая выступившие слезы. — К нам в город приезжает знаменитая балерина, бесподобная Екатерина Лучезарова. До пятнадцати лет она училась в детской школе балета, а я тогда там преподавала…
Иринванна взяла со стола чертежный тубус и бережно извлекла из него длинный сверток. Им оказался эффектный плакат-афиша с изображением Лучезаровой, запечатленной фотографом-профессионалом на сцене в неподражаемой балетной позе. В нижней части афиши красивым артистическим почерком фломастером было написано: «Дорогой моему сердцу Ирине с благодарностью от ученицы Екатерины».
— …Катенька была моей самой любимой ученицей, у нее была просто уникальная, природная грамотность… В последний год мы с ней совсем сроднились, даже перешли на «ты» — редко бывает такая душевная близость между учительницей и ученицей. Она называла меня просто Ирой… Потом она прошла строгий отбор и поступила в ленинградское Вагановское училище. Она объехала с гастролями весь мир! Представляете? И вот теперь будет танцевать в «Лебедином озере» здесь, у нас… Это такой подарок к моему скромному юбилею! Я очень хотела, чтобы мы пошли на балет всем классом, но, к сожалению, билеты уже распроданы. Родительский комитет очень старался, но увы… Поэтому, ребята, мы с вами посмотрим балет дома, по телевизору. Приезд Катерины, моей Катеньки, для меня такая радость! Я надеюсь, она найдет время встретиться с вами и рассказать что-нибудь из своей творческой биографии… Завтра в городской администрации состоится пресс-конференция и прием в ее честь…
На следующий день весь класс, предводительствуемый Ириной Ивановной, которая ради такого случая, а также в честь собственного двойного юбилея — сорока лет педагогической деятельности и шестидесятипятилетия — надела парадное бархатное платье с ниткой искусственного жемчуга на груди, собрался в здании администрации у конференц-зала. Никогда еще Тиллиму не приходилось видеть классную в таком волнении. Их Иринванна — всегда само спокойствие — нервно улыбалась, на ее обычно бледном лице яркими пятнами проступил лихорадочный румянец, на лбу блестели капельки пота. Поднимаясь на цыпочки и вытягивая шею, она неотрывно смотрела в сторону двери, откуда должна была явиться звезда балета с невских берегов.
И вот тяжелые двери с резными гербами СССР на створках распахнулись… Однако в холл, вместо Екатерины Лучезаровой, вошли четверо крепких мужчин, все как один в строгих костюмах и с темными очками на застывших лицах. Они вежливо, но настойчиво оттеснили собравшихся в сторону, освобождая проход. За ними по красной ковровой дорожке проследовала стройная молодая особа, закутанная в пушистую шубку. Не глядя ни на кого, она торопливо направилась к дверям зала.
«Катенька! Наконец-то! Ты помнишь меня? — выкрикнула счастливая учительница, устремившись к балерине и подхватив ее под руку. — Я — Ирина Ивановна, а это мои ученики…»
Звезда балета остановилась, недоуменно посмотрела на бесцеремонную бабушку в старомодном наряде, застыв на миг, и отстранилась, высвобождая руку. Сразу же один из охранников вклинился между ними и грубо отодвинул учительницу назад в толпу, точно неодушевленный предмет. Чуть заметно пожав плечами, Лучезарова двинулась дальше, но, разглядев кого-то в толпе, остановилась и, радостно улыбаясь, помахала ему рукой.
«Так ей и надо, грымзе! — раздался злорадный голос за спиной у Тиллима. — Поставила мне тройку в четверти, вот сама теперь и опозорилась — канула в зияющую пустоту и безвестность».
Оглянувшись, мальчик увидел за спиной Свету Сергееву — головную боль всех учителей и завуча по воспитательной работе, предмет пристального внимания всех старшеклассников. Переступая на высоченных шпильках, акселератка хлопала ресницами, намазанными так густо, что с них буквально осыпались хлопья дефицитной импортной туши, но тут же, шагнув вперед, наткнулась на как бы нечаянно выставленную Олину ногу и рухнула, растянувшись во весь рост поперек ковровой дорожки. Тиллим заметил, как его подружка и муза Оля Штукарь с невинной улыбкой ангелочка показала ему поднятый вверх большой палец: «Не будет задаваться, красавица расписанная!»
На пороге конференц-зала балетную диву окружил рой корреспондентов и телевизионщиков. На бедную Ирину Ивановну жалко было смотреть. Она в один момент сникла, опустив голову и с трудом сдерживая слезы. Каково было сознавать учительнице, что она ошиблась в своей любимой питомице?
«Пойдемте, дети, — сдавленным голосом произнесла Ирина Ивановна. — Катенька, должно быть, устала с дороги».
Тиллим поймал себя на мысли, что хорошо бы хоть на несколько минут стать большим и сильным, как герой гэдээровского фильма про друга индейцев Верную Руку или вождя апачей Виннету. Тогда он мощно дернул бы за ковровую дорожку, все квадратные охранники скатились бы с нее, а эта зазнавшаяся балерина имеете со Светкой подъехала бы прямо к Иринванне, как на конвейерной ленте…
На следующий день урока русского языка в пятом «А» не было. Отменили его и в другие дни, по причине того, что любимая учительница пятого «А» накануне своего двойного юбилея попала в больницу: от (ильного расстройства у нее начались проблемы с сердцем, которое до той поры успешно справлялось и с педагогическими, и с прочими
жизненными нагрузками.
Директор Челябинского театра оперы и балета пребывал в самом скверном расположении духа. Приезд ленинградской академической балетной труппы обернулся для него настоящим кошмаром. Солистка труппы была уроженкой Челябинска, и мало того что все билеты раскупили за месяц до спектакля, так еще вся партийная и профсоюзная верхушка города, администрация, все, кто состоял со знаменитой балериной хоть в самом отдаленном родстве, требовали контрамарок. Причем верхушка рвалась «на Лучезарову» со всеми многочисленными родственниками, опомнившись только сейчас, когда билеты на гастрольные спектакли взять было уже попросту негде. С громадным трудом удалось сохранить только десять билетов для Совета ветеранов войны и для передовиков производства, но это количество оказалось каплей в море. Грозный ветеран, весь в орденских планках, стучал о директорский стол внушительных размеров костылем, призывая на голову бюрократа от культуры всевозможные кары вплоть до восстания из гроба великого и ужасного отца народов… И таких скандальных посетителей только за одно утро в кабинете побывало не менее десятка!
Директор не успел перевести дыхание, как раздался еще один настойчивый телефонный звонок. Не взять трубку этого особенного аппарата было чревато самыми серьезными последствиями.
— Да, оперный театр. К сожалению, билетов нет. Ни одного. Понимаю, секретарь челябинского обкома с семьей. Что же раньше не побеспокоились? Ну куда я их теперь посажу, товарищи дорогие, — директор чуть не плакал, — к себе на колени?.. Да, я все понимаю… Да, отдаю отчет… Куда посадят?! Партбилет?.. Хорошо, с товарищем первым секретарем случай, конечно, исключительный, а прочих — увы! — порадовать не могу.
В полнейшем отчаянии подняв глаза к потолку, директор взмолился, благо рядом не было свидетелей:
— Господи! Если Ты есть, не оставь меня Своей милостью, помоги выжить в этом столпотворении! Ну на что смотрит мой ангел-хранитель, Господи?!
Опустив взор, он и в самом деле увидел перед собой ангела! Работник культуры решил, что его бедный рассудок не выдержал напряжения последних дней, но, приглядевшись более внимательно, осознал, что неожиданная посетительница вполне материальна.
Это была пухленькая кудрявая девочка в маскарадном костюме ангела с пушистыми белыми крылышками, но почему-то в пионерском галстуке. Ребенок мог взяться здесь действительно разве что с неба, и вместо умиления директор испытал целую гамму отрицательных эмоций.
— Это кто там еще на мою голову?! Что вам здесь надо, странное дитя? Э-э-э… В конце концов, как вы сюда попали?! Кто тебя сюда вообще пустил, девочка?!
— Бесподобная, изысканная, восхитительная, изящнейшая, поднебесная, воплощение дивной красоты Екатерина Лучезарова! — звонко пропела бойкая девочка на одной высокой ноте. — Карл Рафаэльевич, не откажите в любезности, явите пример рыцарского благородства! Ваша неземная доброта известна во всем свете и за его пределами…
Директор челябинского театра энергично помотал головой, силясь хоть что-нибудь понять в происходящем. Нет, послышалось… Быть такого не может, перетрудился, перегрелся… Как только закончится эта эпопея) немедленно в Коктебель — отдохнуть, развеяться, иначе… Но что от него надо этой маленькой авантюристке?
— Меня зовут Оля Штукарь, я из сто двадцать четвертой школы с углубленным изучением литературы, из пятого «А». Понимаете, у нашей любимой, заслуженной учительницы Ирины Ивановны Ушинской сразу две торжественные даты… — начала нежданная посетительница терпеливым тоном, как будто разъясняла домашнее задание записному двоечнику. — Когда-то она преподавала в детской балетной школе, и Екатерина Лучезарова была ее любимой ученицей. А сейчас Ирина Ивановна очень хотела бы посмотреть, как она выражается, «как блещет гений ее чудесный». — Девочка очаровательно сморщила носик, украдкой наблюдая за произведенным эффектом. — Мы всем классом собрали деньги, чтобы купить ей в подарок билет. Но в театральной кассе сказали, что билетов больше нет и не будет, поэтому я взяла на себя смелость обратиться к вам. Умоляю, не откажите в любезности, достаньте один билетик! А то Ирина Ивановна не выдержит — она уже и так больная лежит. У нее сердце, ей беспокоиться вредно! — С этими словами маленькая хитрюшка протянула вперед розовые ладошки, на которых горкой лежали железные рубли. — Вы ведь здесь самый главный, правда, вы директор? — добавила она, старательно изобразив восторженную улыбку и заглядывая важному взрослому дяде в глаза.
— Ну что за маскарад такой? — воскликнул Карл Рафаэльевич, по-прежнему ничего не соображая. — Вы что, здесь работаете, барышня? С каких это пор у нас в спектаклях выступают пионерки? Или я опять почему-то не в курсе?
— Я же вам говорю, я из сто двадцать четвертой школы! Просто я надела свой карнавальный костюм, чтобы охрана меня пропустила. Они, как и вы, решили, что я играю в спектакле. А я уже несколько раз пыталась попасть к вам! Меня не пускали, вот и пришлось маскироваться.
Но реакция театрального начальника оказалась совсем не той, на какую рассчитывала юная просительница.
— Что за безобразие, верх неприличия! Ай-яй-яй! А еще пионерка. Даже в шутку так делать нельзя! Вы же меня напугали своим видом, маленькая авантюристка…

— Я не авантюристка, а, может быть, «немного угловатая, немного противоречивая и внезапная». — Хитрая пятиклассница, недолго думая, процитировала игривые слова, услышанные в фильме «Покровские ворота», премьера которого недавно прошла на Центральном телевидении.
— Насчет внезапности я, безусловно, верю, а вот насчет вашей угловатости еще поспорил бы, — со злой иронией заметил Карл Рафаэльевич, придирчиво разглядывая платьице, которое чуть не лопалось на полненькой Оле. Директор окончательно вышел из терпения и утратил всякий такт. — Если бы вы знали, как вы мне все надоели! — возопил он голосом, похожим на паровозный гудок. — Устроили здесь проходной двор! Еще раз русским языком тебе, девочка, говорю: билетов нет!!! Ни одного нет, понятно?!! Ни для какой учительницы! Ни для кого вообще!!! Я даже для своей мамы билет не смог найти… Уйди, девочка, не доводи меня! — Открыв дверь, он заорал во все горло, призывая на помощь секретаршу: — Мария Ивановна, ну где вы там?! Выведите отсюда сейчас же это чудо в перьях!!! Почему посторонние, какие-то дети, шатаются в служебных помещениях, как у себя дома?!! Устроили тут дурдом! С ума я сойду с этой Лучезаровой! Уж лучше бы совсем не приезжала. И по поводу билетов меня больше ни с кем не соединяйте, вам понятно? Даже с этими… — Он многозначительно указал пальцем на потолок. — У меня театр не резиновый! Придумайте, что хотите: заболел, умер, улетел в космос, в конце концов… Ну, чего стоишь, девочка? Я тебя по-хорошему прошу… Вон отсюда, кому говорю!!!
Уже закрыв дверь, Оля услышала, как что-то тяжелое ударилось о стену кабинета и со звоном разбилось. «Вдребезги», — испуганно подумала она.
Прямо из театра Оля пошла к Тиллиму Папалексиеву, с которым они давно дружили. Учителя удивлялись, что может быть общего у отличницы и хоть и безусловно одаренного, но разгильдяя, чей красный от замечаний дневник пестрел всеми возможными оценками, от колов до пятерок с плюсом, причем по всем предметам. Однако факт оставался фактом: девочка и мальчик были не разлей вода.
— Надо срочно действовать! — решительно заявила Оля с порога. — Нельзя, чтобы Иринванна разболелась из-за этой воображалы. Кстати, предкам не проболтайся, что я здесь: я занятие по флористике пропустила.
— Что ты предлагаешь? — Тиллим оторвался от карикатуры, которую рисовал на последней странице тетради по географии.
— Тиллим! Мне нужна твоя помощь, у меня есть идея! В общем, нельзя терять ни минуты. Сейчас садимся на электричку и едем в Чивакуш собирать цветы.
В пятом «А» все знали, что флористика, то, что касается растений, причем не только декоративных, домашних, но и самых скромных и неприметных, тех, что косят вместе с травой на корм скоту, — область знаний, в которой Оле Штукарь нет равных, наверное, во всех школах Челябинска. На городских ботанических олимпиадах она неоднократно получала первые призы и грамоты, а достойный букет могла составить чуть ли не из сорняков. И все-таки Тиллим засомневался, уточняюще спросил:
— Весна на улице. Какие в мае за городом цветы?
— Сам увидишь. Едем!
Оля не ошиблась: в лугах и полях рядом с челябинским аэропортом Чивакуш нашлось немало первоцветов. Вдвоем они собрали большой букет. В разнотравье попадались нежные соцветия фиалок, душистая медуница с лиловыми раструбами-граммофончиками соцветий. Уже желтели то тут, то там лютики, одуванчики и мать-и-мачеха, еще какая-то ветреница, вся в желтых звездочках (Тиллим раньше и слышать не слышал о таком цветке — у бабы Мани в деревне они не росли). А на опушке ближнего леса юным натуралистам попались наконец благоухающие, похожие на белые бубенчики в росистых, сочно-зеленых листиках, майские эльфы — ландыши.
— Вот красота! Правда? — Девочка застыла в нерешительности. — Они в Красную книгу занесены — рвать нельзя, а так бы хотелось…
— Можно! — тряхнул головой Тиллим. — По такому поводу можно нарушить закон — главное, доставить человеку радость в нужный час. Они будут душой букета.
Оля улыбнулась: оказывается, ее друг тоже понимает в красоте.
На обратном пути в электричке пассажиры без конца удивлялись, где это дети смогли собрать столько разных цветов:
— Молодцы, ребята! Тут зоркий глаз нужен, а на участке такого ни за что не вырастить. Вы, наверное, юннаты?
Оля с Тиллимом заговорщически молчали, на всякий случай пряча драгоценные ландыши в глубине букета.
На следующий день Тиллим, как и договаривались, пришел к Оле в гараж ее родителей. Машину те давно продали, а в пустующем помещении гаража девочка устроила себе флористическую мастерскую. Почти все свободное пространство в центре мастерской занимали две искусные композиции, составленные из цветов, раскрашенной соломки из вьетнамской циновки, сушеных морских звезд, а также цветных стеклышек, вероятно вытряхнутых из детского калейдоскопа. Мальчик невольно залюбовался произведением декоративного искусства. Необычным по технике выполнения и от этого очень модным произведением. Кроме того, они были совершенно одинаковые, эти букеты в корзинах, — до самого крохотного лепесточка. Во-первых, плетенные из расщепленного бамбука корзины-кашпо содержали практически всю майскую луговую флору среднего Урала, включить которую в композицию до сих пор не приходило в голову, наверное, ни одному местному флористу-профессионалу. Во-вторых, гармоничной составляющей этих букетов были ветки цветущей яблони и черемухи («Нарвала за гаражами!» — догадался Тиллим). И то и другое говорило о тонком вкусе, художественном чутье и вообще о творческих способностях Оли Штукарь.
— Ну ты и даешь! Японцам у тебя поучиться! — восхищенно глядя на свою музу, протянул Тиллим.
— Замечаешь разницу? — спросила Оля.
— Никакой разницы, абсолютно конгруэнтны, как треугольники в классе математики, — процитировал Тиллим любимую папину фразу, хотя понятия конгруэнтности еще не знал (геометрию пока не проходили).
— А теперь посмотри с другой стороны. Снова ничего не замечаешь? Надписи на поздравительных лентах! Видишь, на левой:
ОТ ЛУЧЕЗАРНОЙ КАТЕРИНЫ ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ В СВЕТЛОМ МИРЕ!
А на правой (читай внимательнее!):
ОТ ЛУЧЕЗАРНОЙ КАТЕРИНЫ ЛЮБОВЬ И СЧАСТЬЕ В СВЕТЛОМ — ИРЕ!
— Классно придумала, только я все равно ничего не понял, — признался озадаченный Тиллим.
— Соберись! Нужно, чтобы ты понял. Итак: мы с первой корзиной цветов дожидаемся у служебного входа в театр, когда Лучезарова после утренней разминки выйдет обедать. Ты ее заговариваешь, вручаешь цветы, а я быстро вас фотографирую. Только учти (это главное!): когда будешь держать корзину, в слове «МИР» закрой рукой букву «М». Понимаешь, что получится? ИРЕ! Потом мы берем вторую корзину, едем в больницу и вручаем Иринванне вместе с фото, где Лучезарова держит букет. Иринванна подумает, что бывшая любимая ученица лично поздравляет ее с юбилеем, и быстрее поправится. Ну как, теперь понятно?
— Еще бы! Я же говорю — классно! Одобряю! — воскликнул Тиллим. — Я бы до такого не додумался.
Оригинальный замысел немедленно воплотили в жизнь. В день выступления ленинградского балета у служебного входа уже с утра волновалась целая толпа жаждущих автографа вперемешку с вездесущими журналистами, но бойкая пухленькая девчушка в красном галстуке с самой непосредственной детской улыбкой растолкала всех. Самовольно открыв дверь, Оля вошла в фойе и, втащив за собой нерешительного одноклассника, остановилась у самого входа, ведущего за сцену, в святая святых театра.
— Сюда нельзя! — начал было охранник, мимо которого школьники прошли, как мимо шкафа.
— Букет от первого секретаря обкома комсомола, — отрезала миловидная пионерка, даже не повернув головы.
Здоровенный детина вскочил, вытянув руки по швам.
— На нас, пионеров, возложена почетная миссия вручить его лично, — поспешно подхватил Тиллим.
Тем временем в фойе появилась Екатерина Лучезарова. Тиллим с икебаной в руках смело шагнул к ней, едва не сбив звезду с ног.
— Мое первейшее желание — быть вам приятным, ваше изящество! — высокопарно, в стиле романов Дюма, за которыми, видимо, провел ночь накануне, заявил мальчик. — Позвольте вручить вам цветы от учеников сто двадцать четвертой школы с литературным уклоном, где все знают, помнят и почитают ваш талант! — добавил он, опустив глаза и густо покраснев.
Тут вмешалась Оля:
— Одну минуточку, прошу вас, фото на память для Доски почета нашей школы! Вы наш кумир, пример и путеводная звезда. Вы созвучны нашей жизнеутверждающей действительности как олицетворение самого творческого процесса и его блестящего результата.
— Благодарствую, барыня… м-мадам… ма-де-му-азель! Я влюблен в вас до безумия: сегодня не смогу уснуть, изнывая от сладостной муки страсти и до утра бредя вашей красотой… Вы — королева, я ваш верный паж до гроба, да будем счастливы мы оба, — неожиданно для себя самого с недетским жаром пролепетал Тиллим. — Простите, это все из-за мук ожидания. Вернее, из-за театра: мы в школьном драмкружке ставим Шекспира и Островского, и вот…
— Он хотел сказать, что мы все вами восхищаемся! — выручила Оля вконец расфантазировавшегося и растерявшегося друга.
— Ваш жестокий натиск меня смутил, дети. Вы озадачили меня, внесли смятение в мои мысли, и я даже потеряла душевное равновесие, — ответила балерина в тон юным поклонникам. — Ну вот, слышите? Я уже заговорила в духе вашего драмкружка… Прелесть! И кто сотворил такое? Подобного я даже на гастролях в Японии не видела! — Обращаясь к охраннику, она добавила: — Пожалуйста, поставьте это чудо ко мне в гримерку.
Срочно отпечатав драгоценное фото, юные заговорщики взяли вторую корзину цветов и поспешили с ней в больницу. Но Иринванны в больнице уже не было. Как объяснили в справочном, «бабушке» неожиданно стало лучше и она самовольно покинула лечебное учреждение.
Обеспокоенные Оля и Тиллим, не раздумывая, позвонили беглянке домой. К телефону подошла соседка по коммуналке и ответила, что та куда-то ушла, причем очень нарядно одетая. Сказала, что будет после десяти вечера.
В начале одиннадцатого пятиклассники уже стояли перед дверью любимой учительницы с букетом.
— Вот, Екатерина Лучезарова очень просила передать это вам. Мы прорвались к ней после спектакля, а она прямо так и сказала: «Передайте это моей незабвенной наставнице Ирине Ивановне».
— Так и сказала? «Незабвенной»… Боже мой, тот самый букет, который принесли на сцену во время спектакля! Весь зал встал и зааплодировал! Представляете, ребята, зал единодушно ахнул от восхищения… Вообразите! Я только что вернулась с «Лебединого». Это было что-то сказочно-фантастическое: Катенька блистала, просто превзошла сама себя!
Дети удивленно переглянулись.
— Я знала, что у моей Катеньки золотое сердце! — продолжила учительница, прижимая к глазам крохотный кружевной платочек, который она вынула из вышитого бисером старомодного ридикюля. — Мне принесли билет прямо в палату. Она нам всем, всем своим учителям, сделала такой подарок — пригласила на свое выступление, не забыла про нас… Представляете, мы сидели в центральной ложе, весь педагогический коллектив! Я встретила там даже учителя математики, Александра Петровича — у Кати с его предметом всегда были проблемы, и потом, он уже давно на пенсии, и все-таки… Я знала, я была уверена, что Катенька помнит о моих круглых датах, юбилее… А еще она расписалась у каждого из нас на программке. — Учительница прослезилась от радости. — Жаль, что она не могла с нами поговорить — она так спешила на самолет… Ну какой же, однако, букет! Из простых полевых цветов сотворить такую божественную красоту! Впрочем, неудивительно: самые простые цветы иной раз дороже самых дорогих и экзотических. Прав был поэт: «Есть запах цветов медуницы среди…» м-м-м… среди…
— «Среди незабудок», — подсказал начинающий стихотворец Тиллим, да еще и пояснил: — Это, кажется, из Хлебникова.
У Иринванны округлились глаза:
— Вы подумайте — ему кажется! Настоящий, зрелый Велимир Хлебников… Я слышала, Тиллим, что ты сам что-то там сочиняешь. Ты, конечно, умница, эрудированный мальчик, но знать такие имена в пятом классе! Свободно цитировать подобное — не ожидала… Пожалуй, у тебя тоже большое будущее, Тиллим Папалексиев.
Когда Иринванна отвернулась, юные заговорщики украдкой обменялись торжествующими взглядами. Действительность превзошла самые смелые предположения и надежды: мало того что учительница присутствовала на спектакле, так еще и решила, что ленинградская прима от широты душевной и в память о школьных годах отдала ей свой букет.
— Здóрово! Миссия выполнена! — еле слышно прошептал мальчик. — Спасибо твоей эки… икебане.
Оля чуть заметно наклонила голову, принимая признание первого в ее еще совсем короткой жизни творческого триумфа. Она даже чмокнула обалдевшего Тиллима в щеку и так же тихонько шепнула:
— А ты тоже не примитив, поэт!
ПИСЬМО НА ЖЕЛТУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ
Часть первая
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
I
Заветной мечтой Тиллима Папалексиева и его подружки Оли, как и у многих детей, росших вдали от моря, было путешествие на черноморское побережье, в экзотические края. После окончания седьмого класса в их спецшколе для одаренных детей профсоюзом работников культуры организовывалась художественная практика на турбазе-пансионате в Новом Афоне. Это была прекрасная возможность увидеть наконец-то настоящее море, но администрация школы ставила перед практикантами жесткое условие: права поехать на Кавказ удостаивались круглые отличники по художественным дисциплинам и как минимум хорошисты по общеобразовательным предметам.
Тиллим с Олей не подходили под это определение только из-за того, что у обоих были слабые троечки по иностранному языку, а мечту так хотелось осуществить! И вот неистощимая на выдумки умница Оля Штукарь открыла потрясающий способ изучения английского. Так получилось, что примерно в одно и то же время они стали сознательно слушать «Битлз» (Тиллима увлекла двоюродная сестра, которая заболела творчеством ливерпульской четверки в конце 60-х — еще когда группа не распалась и выпускала свои лучшие альбомы, Оле же родители подарили пластинки, которые слушали в годы своей хипповостуденческой молодости). Оля очень быстро сообразила, что солнечно-мелодичные песни битлов с незатейливыми текстами прекрасно подходят для совмещения приятного с полезным: прослушивания музыки в удовольствие и параллельного привыкания к языку с неназойливым усвоением его азов. Действовало железное правило подростковой психики: если нравится форма чего-то, очень хочется понять содержание.
Сначала переводили названия с цветных пластиночных конвертов, потом стали что-то разбирать на слух, а там уж, как говорится, само пошло. Вместе слушали, вместе пели. Тиллим даже взял в руки гитару и попытался разучить простейшие аккорды. Теперь можно было не только петь по-английски, но и хоть как-то подыгрывать себе. Аккуратная Оленька завела толстую общую тетрадь — 96 листов на пружинке — и стала записывать туда тексты битловских песен. Молодая учительница английского, сама поклонница ливерпульского квартета, узнав об этом полезном увлечении своих учеников, стала приносить им вырезки из заграничных журналов, где иногда можно было найти слова какой-нибудь песни, но вообще-то такое случалось редко, зато она сама любезно исправляла в заветной тетрадке то, что было записано на слух с пластинок или кассет.
Тиллим с Олей придумывали разные занятные способы тренировки знаний. Например, слушали магнитофон и время от времени нажимали клавишу «stop»: нужно было вспомнить, на какой фразе закончилась песня, и перевести эту фразу. Или же кто-нибудь напевал мелодию, а другой должен был назвать по-английски и по-русски песню и альбом. Со временем дошли и до сложных «угадаек»: по-английски монотонно произносился куплет известной песни, и требовалось не только угадать саму песню, но и перевести услышанную цитату. Словарный запас пополнялся так. Ежедневно учили по пять новых слов из какой-либо песни, причем обязательно повторяли те слова, которые учили раньше — вчера, позавчера и так далее. К примеру, слово «forever» писали аккуратными печатными буквами в первый день пять строчек и непременно проговаривали вслух, уже на следующий, для повторения, — четыре строчки, на третий день — три… Знания закреплялись. Наконец, на пятый день для окончательного запоминания писали всего одну строчку слова «forever». По субботам Тиллим с Олей устраивали друг дружке перекрестный экзамен, и если кто-то допускал ошибки, он должен был исписать невыученным словом целую страницу школьной тетрадки в линейку. Таким образом изучалась очередная порция слов. И так упрямые мальчик и девочка заполняли иностранной лексикой целые тетради.
В результате уже через несколько месяцев обучения по «методу Штукарь» друзья имели твердые пятерки по английскому в четверти, к тому же все глубже и глубже погружались в чудесный мир творчества «Битлз».
Однажды не на шутку увлеченной парочке пришла в голову потрясающая идея: написать кумирам письмо и излить на них все свои пестрые битломанские чувства, пожелать им почаще общаться с сержантом Пеппером, а также попросить принять в его таинственный клуб самих Олю и Тиллима.
— А знаешь, что всем, кто входит в клуб сержанта Пеппера, снятся общие цветные волшебные сны? — с заговорщической улыбкой спросила Оля.
— Еще бы, конечно знаю. Это тайна всех посвященных в «Битлз».
Тиллим, дружащий с пером, изложил вышеуказанное на развернутом листе линованной бумаги в лучшем виде. Когда важное послание было уже запечатано в конверт, Оля спохватилась:
— Слушай, так мы же не знаем их адреса! Что же делать?
— No problem! Ты что, не понимаешь, что их знает весь мир, тем более вся Англия? Значит, так и пиши: «England. Liverpool. То „The Beatles“ with Love!» Теперь любой постмен доставит лично в руки! — уверенно сказал Тиллим.
Конверт опустили в ящик в ближайшем почтовом отделении. О дальнейшей судьбе детского письма самая полная научно откомментированная «История „Битлз“» почему-то умалчивает…
Само увлечение битлами и всем, что с ними связано, от таких опытов не ослабевало, а наоборот — усиливалось, и трудно уже было сказать, в чем была причина: в общности интереса к творчеству знаменитого квартета или во взаимной симпатии мальчика и девочки. Тиллим и Оля просто бредили «Битлз», а их трогательная дружба постепенно становилась все крепче, к тому же проявлялись и другие общие увлечения — не только в музыке, но и в чтении, в искусстве. В свободное время они не первый год были неразлучны, впрочем, и на уроках Тиллим и Оля старались тоже не расставаться — сидели за одной партой.
У Оли были давние принципиальные разногласия с литературой, а точнее с литераторшей. Ветеран партии и заслуженный учитель Вера Павловна, гордившаяся принадлежностью к советской педагогике чуть ли не с двадцатых годов и, естественно, давно перешагнувшая пенсионный возраст, лишала своих учеников права на собственное, самостоятельное мнение. Это как раз и было главной причиной их противоречий.
На очередном уроке учительница, которую острые языки за пламенный партийный пафос и стальную непререкаемость суждений, звучавшие не то что в каждом слове — в самой интонации ее голоса, переименовали из Веры Павловны в Веру Напалмовну, в свойственной ей манере заявила седьмому «А»:
— Вы уже давно не октябрята и должны всерьез задуматься, кем быть, каким быть! Вопрос поставлен, ваша задача — дать честный и принципиальный ответ. Начните с малого — с самоанализа…
Часть класса озадаченно хмыкнула.
— Да-а-а… День в школе как год в психушке, — тяжко вздохнула учительница. — Вижу, вам, как всегда, нужно все в рот положить и разжевать. Я хотела сказать, загляните в себя, подумайте хорошенько и ясно изложите на бумаге, чего вы, советские школьники, хотите добиться в жизни. Пусть сочинение на эту тему будет вашим домашним заданием на каникулы. Теперь все понятно?
Всеобщее унылое молчание было знаком того, что семиклассники усвоили сказанное литераторшей.
Дома Тиллим решил не откладывать работу над сочинением в долгий ящик: по опыту знал, что в зимние каникулы вряд ли заставит себя браться за какие-либо школьные дела. Вечером, устроившись напротив большого зеркала, мальчик пристально вгляделся в собственное отражение, мысленно обращаясь к нему с вопросом «кем быть?», будто таинственный зазеркальный Тиллим был рассудительнее и сосредоточеннее находившегося в комнате, к тому же вдруг захотелось поиздеваться над глубоко философским советом Напалмовны и заглянуть в себя в буквальном смысле. Двойник упрямо молчал, зато Тиллиму вспомнилось, что когда-то, в детсадовском возрасте, он заявлял взрослым, что хочет быть мусорщиком, но не от похвальной склонности к чистоте — просто ему нравился ярко-оранжевый грузовик-мусоровоз. Теперь Тиллима это позабавило, и он ухмыльнулся, а тот, кто сидел в зеркале, его передразнил. На самом деле у юного поэта и романтика была достойная мечта по поводу настоящей мужской профессии: возможно, оттого, что он летал во сне и это было восхитительно, Тиллима завораживало будущее летчика, а то и космонавта, но, как назло, у него был страх высоты. Преодолевая это недостойное мужчины чувство, он часто заставлял себя забираться на крышу небоскреба-четырнадцатиэтажки, в котором, между прочим, жила Ольга, и смотреть оттуда вниз. С крыши открывался вид почти на весь Челябинск, на остававшиеся внизу прочие здания, на заводские корпуса и трубы, и на небо, в котором лишь изредка сквозь дымную, серо-зеленую пелену смога проглядывало солнце или едва заметно моргали огоньки самолетов. «И об этом писать?» — скептически подумал Тиллим. Временами ему хотелось стать знаменитым писателем или, например, архитектором, чтобы не строить безликие, серые, похожие друг на друга, как панели, из которых они были собраны, пятиэтажки, грубо называемые взрослыми хрущобами, а возводить прекрасные дворцы, музеи, театры…
В общем, Тиллим не мог определенно ответить на вопрос, ставший темой сочинения, но у него оставался еще испытанный способ приподняться над суетой и навести порядок в душе — задать ему нужный лад могли битлы. Он поставил на проигрыватель заветный альбом «Help» и растянулся на тахте, ожидая чудесного просветления, но любимая музыка, наоборот, совсем отвлекла Тиллима от серьезного вопроса и школьных дел. Мысли блаженно потекли в совсем иное русло: впечатлительный Тиллим, поглядывая на Олино фото, которое незадолго до этого выпросил у нее «на память», принялся фантазировать, как подарит подруге что-нибудь необыкновенное — Новый год уже у самого порога! — сборник стихов Леннона (разумеется, на английском, потому что в Советском Союзе его не переводили и не издавали), а может быть, даже что-нибудь совершенно уникальное. Детское воображение все более разыгрывалось, а веки уже слипались.
Таких замечательных снов мальчик прежде не видел. Сначала где-то над головой послышался удивительно знакомый приятный голос, повторявший нараспев по-английски то ли считалочку, то ли приветственный пароль:
— Жу-жу-жу, я с тобою друж-жу!
Тиллим не спутал бы этот голос ни с каким другим — напевал сам Джон Леннон!!! И тут же с ним сплелись молодые задорные голоса остальных неразлучных ливерпульских трубадуров: Пола, Джорджа и Ринго. Еще не разобрав, откуда доносится стройное жужжание, не веря своим ушам и толком не понимая, что же происходит, Тиллим только и смог пролепетать растерянно-наивно:
— В-вы что… ж-жуки?
— Разумеется! А ты неплохо знаешь английский, старина, — мы ведь «The Beatles», — дружно подтвердили все четверо, и тут восхищенный Тиллим наконец их увидел.
Они стояли у самого горизонта, который в то же время был совсем близко — там, где океан сливался с небом, на капитанском мостике подводной лодки, той самой желтой субмарины, которую воспели в своих песнях. И битлы, и лодка на морской глади, и семицветная радуга в полнеба, и все вокруг выглядело совсем как в рисованном мультфильме. Кумиры не одного поколения молодежи, одетые — как на обложке альбома «Help» — в просторные синие куртки до колен, выглядели доступно-доброжелательно, точно не были звездами, и приветливо махали руками «старине» Тиллиму. При этом Джон, как истый джентльмен в высоком цилиндре, подзывая его к доброй компании, на мостик, загадочно комментировал за всех:
— Вообще-то мы не самые доступные люди, и ты уже успел это понять, но тому, кто действительно хочет попасть к нам, это удается. Смелее, дружище!
Тиллим добежал до них в один миг, не замочив ног и даже не почувствовав, как преодолел расстояние, а Пол и Джон уже протягивали ему свои руки, помогая подняться по трапу. Пока мальчик с широко раскрытыми глазами разглядывал взаправдашних битлов, Пол участливо спросил:
— Ну что, приятель, тебе нужна наша помощь?
— В-возможно… — заикаясь от волнения, едва выдавил из себя Тиллим, все еще с трудом веривший, что «не самые доступные люди» запросто общаются с ним — обыкновенным челябинским школьником.
Тем временем Ринго, подмигнув, хлопнул его по плечу:
— Ты хочешь сделать подружке невиданный подарок и не знаешь, где его взять.
«Вот это да — они читают мои мысли!» — восхитился Тиллим и, набравшись смелости, уточнил: — Она не просто подружка, она — самая лучшая девочка на свете!
— Ну конечно же! — поспешил согласиться Джордж, торжественно добавив: — И эта юная леди достойна настоящего Рождественского Чуда. А для нас творить чудеса — дело привычное. Верно, парни?
«Жуки» переглянулись между собой, вдруг зажужжали, и их тут же разобрал смех. Потом Джон с серьезным видом поправил свой цилиндр и поинтересовался у Тиллима:
— Тебе известно главное условие, при котором происходят чудеса?
Мальчик, не задумываясь, ответил:
— Чудеса случаются там, где в них верят, и чем больше в них верят, тем чаще они случаются.
Битлы снова переглянулись, оценивающе покачивая головами.
— Ого! — Джон был приятно поражен ответом. — Хорошо сказано, ты взрослее, чем кажется на первый взгляд. Держи меня покрепче за руку, дружище: теперь наш путь под небеса — в Страну Чудес! — И Джон посмотрел вверх, на радугу.
— Но разве такое возможно — в небо на подводной лодке?
— Вполне. Особенно когда эта лодка желтая и на капитанском мостике одинокие сердца. А ты, выходит, не веришь?! Сомневаешься?..
Тиллим устыдился своего сомнения.
— Конечно верю! Я просто так спросил. — И он сжал сильную ладонь Джона Леннона.
Леннон подал едва заметный знак Маккартни. Пол широким жестом коснулся гитарных струн, озорно нараспев выпалив:
Для нас небо не предел,
Взял аккорд — и полетел!
Субмарина оторвалась от поверхности воды и тотчас устремилась в заоблачный край прямо по радуге! Ринго, приняв от Пола эстафету, взял в руки палочки и выдал виртуозную россыпь по барабану:
Тучки пляшут в вышине,
Невесомые вполне.
Мы по радуге цветной
К ним взлетаем над волной.
Ну-ка, субмарина —
В ширь ультрамарина!
Вот лодка взлетела в голубизну на высшую точку волшебной небесной дуги, откуда-то зазвучали фанфары, и ливерпульский квартет ликующе единым дыханием оповестил весь цветной мир:
«Красотища какая… И совсем не страшно!» Тиллим вдруг поймал себя на мысли, что боязнь высоты, которой он так стыдился в реальной жизни, во сне совсем исчезла — вместо нее пришло восхитительное ощущение полета. Казалось, что за спиной у него крылья и он парит над простертой далеко внизу землей.
А битлы тем временем исполнили уже весь альбом «Help» в знак того, что всегда готовы помочь друзьям, и чтобы поднять настроение Тиллиму.
Когда солнце наконец зашло и стемнело, Джон указал мальчику на сверкающий под ними ослепительной россыпью неоновых огней город. Тиллиму показалось, что небо слилось с землей — над летящей лодкой сияли бесчисленные звездные огни, а внизу, точно их отражение, — горели земные.
— Что это под нами? — завороженно спросил Тиллим.
— Пепперленд — волшебная Страна Чудес! — важно произнес Джон, точно был каким-то волшебным проводником-экскурсоводом. — Мы же обещали тебе, а настоящие друзья никогда не нарушают обещания. Здесь исполняются все сокровенные желания и живут самые невероятные фантазии. Скоро идем на посадку, малыш!
Желтая субмарина стала снижаться, а чудо-страна приблизилась. Свет внизу становился все ярче, и можно было уже различить огромные дома — такие высокие Тиллим видел только в западных фильмах, но здесь все было по-прежнему рисовано, как в мультиках Диснея. Посадочная площадка, на которую опустилась универсальная лодка, располагалась прямо на крыше огромного небоскреба. Битлы поведали мальчику, что в нем находится самый лучший и самый большой магазин волшебной Страны Чудес, в котором продаются исключительно детские игрушки.
Великолепная четверка и их юный друг зашли в зеркальную кабину просторного лифта, и тот сам, точно был живым существом, повез их вниз. Только теперь Тиллим заметил, что все четверо чудесно преобразились: великие музыканты были в костюмах самых ярких цветов, в расклешенных брюках, и лишь туфли на них были черные, но зато самые элегантные, остроносые, и лаково блестели — точь-в-точь как на обложке диска «Yellow Submarine». Джон со своими знаменитыми круглыми очками на носу, одетый в короткую коричневую куртку с красной полосой-каймой внизу, в разрезе которой виднелась розово-салатовая рубашка и странные, с красножелтыми лампасами брюки, одна половина которых была сиреневой, а другая синевато-серой, добродушно пояснил:
— В чудесной стране все должно быть необычным и радовать глаз, вот и мы, как видишь, изменились. Но это только внешне — души-то у нас всегда радужные.
Лифт все спускался и спускался. И точно совсем не собирался останавливаться.
— Сколько же здесь этажей? — забеспокоился мальчик.
Битлы в который раз заулыбались, загадочно переглянувшись.
— Как тебе сказать, малыш, — задумчиво ответил Пол. — Для всех по-разному, но ровно столько, сколько у каждого в воображении видов игрушек и игр…
Тиллиму стало не по себе: «Что же получается? Если я могу навоображать сотни всяких чудесных забав и занятных штуковин, то придется ждать, когда эта зеркальная клетка минует СОТНИ этажей?!!» Видимо, испуг так явственно отразился у него на лице, что Пол тут же успокаивающе добавил:
— Не стоит так беспокоиться, старик! Ты можешь в любой момент сказать «стоп», и двери откроются на том этаже, который именно тебе нужнее всего. Там обязательно найдется самый удивительный подарок для самой лучшей девочки в мире. И запомни: не во все закрытые двери надо стучаться и не во все открытые — заходить! Это тебе пригодится в жизни.
У Тиллима сразу потеплело внутри, однако он вежливо поинтересовался:
— А как же вы? Вам же наверняка нужно что-нибудь другое…
— Thank you! No problem! — ответили все в один голос, а Джон уточнил:
— На этом свете каждый по-настоящему нуждается только в одном. Все, что нам нужно, — это любовь!
Когда Тиллим со спокойным сердцем произнес «стоп» и все вышли на заветный этаж, яркий свет поначалу ослепил их, но глаза очень быстро привыкли, — освещение оказалось теплым, ласковым и уютным, как будто горели не электрические лампы, а сотни, тысячи настоящих свечей. Впрочем, среди невообразимого изобилия чудесных товаров были на самом деле и свечи, елочные игрушки и даже марципаны, потому что весь этаж занимал бескрайний отдел рождественских подарков. Любая мелочь имела непосредственное отношение к любимому празднику всех детей и большинства взрослых или была упакована соответствующим образом. Всюду сновали нарядные Деды Морозы, только почему-то в коротких куртках вместо долгополых шуб и с короткими бородами, а то и вовсе с одними усами, еще и подвитыми (мальчик из России не сразу сообразил, что это Санта-Клаусы, потому что только слышал о них, но никогда не видел), которые предлагали посетителям ту или иную игрушку и без остановки желали каждому веселого Рождества.
Все двери секций сами открывались перед Тиллимом — ведь с ним на «ты» были теперь самые знаменитые в мире рок-музыканты! От обилия игрушек, о существовании которых потрясенный советский мальчишка даже не подозревал, у него просто голова шла кругом и рябило в глазах. Здесь были оловянные и каучуковые гусары, ковбои и индейцы, куча уморительных пупсов и клоунов, принцесс и рыцарей, плюшевых белочек с мешочками орехов, мишек и слонов, от маленьких до огромных — в человеческий рост. Наконец всемогущие битлы привели зачарованного Тиллима в зал литературных персонажей. Куклы здесь тоже были на любой вкус и любой величины: Золушки и Синие Бороды, Коты в сапогах, Русалочки и Дюймовочки, Пиноккио и Винни-Пухи, но вдруг словно кто-то невидимый подтолкнул растерявшегося ученика седьмого класса челябинской школы к настоящему чуду. То, что он увидел, казалось, изначально было предназначено только для него, а точнее — для его подруги. Сидевшая на игрушечном стульчике кукла была небольшая, на зато какая: на Тиллима смотрела… сама Оля Штукарь, даже с неповторимой родинкой на щеке, в образе Алисы из повестей Кэрролла о ее волшебных путешествиях! Мальчик узнал сказочную героиню еще и потому, что у ее ног примостились Кролик в твидовом английском костюмчике с бабочкой, Рыцарь, Шалтай-Болтай и Чеширский кот, который расплывался в своей неподражаемой улыбке. «Вот уж действительно — настоящая Страна Чудес, или Зазеркалье!» Ливерпульские друзья заметили, что взгляд русского мальчика прикован к Алисе, о чем-то пошептались и понимающе обменялись с Тиллимом кивками. При этом Джон показал ему поднятый вверх большой палец правой руки, а затем подмигнул, Пол же щелчком подал кому-то знак. Откуда ни возьмись слетелись негритята, выряженные в одинаковые белоснежные костюмчики ангелов, в мгновение ока упаковали невиданную куклу в красочную, сверкавшую золотыми звездочками коробку и, перевязав ее розовой атласной лентой, протянули Тиллиму. Тот, не веря своим глазам, обхватил битловский подарок обеими руками. «Да-а… Такое чудо трудно было и вообразить! Просто королевский дар для Оли… и для меня, конечно».
Мальчик продолжал восторженно разглядывать все вокруг и вдруг увидел огромную, украшенную гирляндами корзину, доверху наполненную спелыми фруктами и овощами. Тут были бананы, кокосы, пупырчатые огурцы и пузатые тыквы, но больше всего праздничных мандаринов, только все карликовых размеров. Оказалось, что все эти дары природы — искусные муляжи, сделанные из пластмассы, да такой легкой, что ими можно смело наряжать елку — не упадут. Рядом располагался деревянный прилавок-стеллаж с аппетитной выпечкой: румяные крендельки, глазированные пряники, пирожные и даже миниатюрные тортики с розовым кремом, самый большой из которых мог уместиться в детских ладонях, тоже были игрушечными.
Тут Тиллиму в голову пришла одна озорная идея. Он бережно поставил на пол коробку с драгоценной куклой и, склонившись над корзиной с «плодами», принялся перебирать ее содержимое. К нему поспешили два чернокожих ангелочка. Они вежливо поинтересовались, что ищет юный сэр и не нуждается ли он в их услугах. Стоило Тиллиму произнести только одно слово — «помидоры», как услужливые небесные создания откуда-то вынесли целое блюдо пунцовых шариков с зелеными листиками на маленьких загнутых хвостиках.

Семиклассник из Челябинска взял три помидорки и вдобавок пышную круглую булочку с соседнего прилавка. Он нагнулся было к коробке с куклой, но, покраснев, так и застыл над ней с полной горстью. Тиллим стеснялся попросить распаковать и снова запаковать подарок: «Мне и так уделили уже неприлично много внимания, к тому же услуги наверняка платные». Сообразив, в чем дело, негритята ловко развязали ленту, открыли коробку, собираясь уложить туда помидоры с булочкой, но здесь Тиллим проявил инициативу и сам спрятал все в сумочку, которую Алиса держала в руках. Раз-два — и проворный бой с крылышками завязал на коробке даже более изящный бант, чем прежде.
Теперь пришла очередь показаться девушке-продавщице в платьице феи, до сих пор, вероятно, наблюдавшей за покупателями откуда-то со стороны. Фея протянула им маленький белый квиточек. «Она уже и чек выбила! — подумал взволнованный Тиллим, с лица которого еще не сошел стыдливый румянец. — Сколько же может стоить это игрушечное сокровище?» Ливерпульские трубадуры дружно шагнули вперед, заслонив собой своего юного друга, и, наградив даму белозубыми улыбками, осыпали ее с ног до головы тонкими английскими комплиментами. В ответ она тоже заулыбалась, зардевшись даже больше Тиллима, и о чем-то попросила битлов. Те, не прекращая шутить, взяли у нее чек. Джон достал из кармана коричневой куртки карандаш-гулливер, грани которого переливались всеми цветами радуги, и первым
расписался на чеке ярко-оранжевым цветом. За ним так же непринужденно это по очереди сделали Пол, Джордж и Ринго, причем всякий раз карандаш оставлял подпись нового цвета. Сиявшая от счастья фея попросила автограф и у Тиллима, но тот замахал руками и категорически отказался от такой высокой чести, девушка же, извинившись, тут же оставила гостя в покое.
— По-моему, она решила, что ты о-очень важная птица! — шепнул мальчику на ухо первый битл. — Пускай думает, что ты наш покровитель.
Тиллим лишь неопределенно пожал плечами: от такого откровения можно было и дара речи лишиться.
Фея-продавщица тем временем снова вспомнила о своих обязанностях и услужливо спросила битлов:
— А вы ничего не желаете, господа музыканты? Для нашей фирмы большая честь преподнести вам подарки к Рождеству.
Битлы сделали очень серьезные лица. Они сразу нарушили известный порядок, в котором обычно давали интервью или высказывались на людях. Соответственно, первым, не задумываясь, отреагировал Ринго:
— Мне, пожалуйста, шесть фунтов удачи и полкило нежности. Заверните, мисс!
— А мне, — тут же подхватил Джордж, — восемнадцать фунтов везения и три фунта веселья.
Пол умоляюще посмотрел на девушку и, сложив руки на груди, произнес:
— Будьте так любезны: шесть фунтов счастья и в придачу три фунта улыбок!
Наконец Джон, искусно изобразив оставленного ни с чем друзьями и судьбой, разочарованно развел руками и грустно попросил:
— Ну что ж, мне, похоже, выбирать не из чего. Раз уж Пол забрал все счастье, тогда мне двадцать фунтов любви. Если, конечно, она осталась у вас в продаже… О’кей?
Стоило только звездному квартету, пусть даже в шутливой, клоунски-игровой форме, разоткровенничаться и показать, что они обыкновенные парни с извечными и едва ли разрешимыми человеческими проблемами, как фея-продавщица куда-то исчезла, словно ее и не было в этом огромном игрушечном царстве. Тиллиму стало вдруг жаль своих кумиров. Джон, заметив это, философски изрек:
— Порой убеждаешься: умирают не только редкие виды животных, но и самые необходимые чувства частенько оказываются в дефиците… Впрочем, главное, дружище: умей находить в жизни радости, которые не стоят денег. И нет повода унывать — земляничные поляны в наших душах НАВСЕГДА.
— Так точно, капитан! — браво гаркнул никогда не унывающий Ринго и, прижав к себе Тиллима сильной рукой ударника, осведомился с видом бывалого штурмана: — Куда держим курс теперь?
— Back in U.S.S.R.! — скомандовал капитан желтой субмарины Джон Уинстон Леннон, и все закружилось в радужном вихре под мощные аккорды песни.
В следующее мгновение ошеломленный Тиллим увидел, что он вместе с битлами находится… на лестничной площадке челябинского дома прямо напротив дверей Олиной квартиры. Битлы вновь были одеты как на обложке альбома «Help».
— Вот это да! А где же лодка?
— Где ей и положено быть, — невозмутимо ответил капитан в цилиндре. — В Ливерпульском порту, в одном укромном гроте.
«Но зачем они вернулись вместе со мной?» — подумал мальчик.
Пол будто прочитал его мысли:
— Все очень просто, старина! Мы не помогаем наполовину. Если бы ты сам вручил подарок своей девушке, она вряд ли поверила бы, что он и от нас тоже, а так — мы это лично засвидетельствуем и поздравим ее всей компанией.
Джордж коснулся кнопки звонка — вместо обычного зуммера зазвучала знакомая мелодия. Двери открылись. На пороге стояла Оля в домашнем махровом халатике.
— Что за шутки среди ночи? — строго произнесла она, увидев незваных гостей, вырядившихся в битлов. — До новогодних розыгрышей почти неделя!
— All Together Now! Merry Christmas!
[5] — точно серебряные колокольчики, прозвенели голоса британского квартета.
Тиллим выскочил из-за дружеских спин, спеша все объяснить и присоединиться к поздравлениям:
— Зато в Англии сейчас Рождество! С веселыми праздниками, Оля!!! Да ты что, не узнаешь, кто к тебе пожаловал?
Самая лучшая девочка в мире, продирая глазки, всерьез ответила:
— Почему же не узнаю? Просто не верится… Добро пожаловать… господа! — и, восторженно оглядывая музыкантов с ног до головы, растерянно попятилась в глубь прихожей.
Битлы вошли в квартиру и сразу повели себя как дома. Они светились добродушием изнутри. Почувствовав этот чудесный свет, Оля облегченно вздохнула и заулыбалась.
— Ну вот и поверили, — заметил кумир всех девушек Пол. — Вы прекрасны, юная леди! Между прочим, все, во что веришь, всегда сбывается, вера материализует мысли.
Тиллим снова спохватился и протянул прекрасной маленькой хозяйке нарядную коробку со словами:
— Вот! Положи под елку — скромный подарок от меня и… друзей.
Мальчик оглянулся на битлов, как будто просил подтверждения и одновременно спрашивал, правильно ли их представил.
На выручку пришел Джон, уточнив:
— Мы имели неосторожность немного поучаствовать в приобретении подарка.
— А можно сейчас посмотреть? — игриво-жалобно попросила Оля.
Юный кавалер не успел рта раскрыть, но зато великодушные друзья согласно кивнули в ответ.
Присев на корточки, девочка с нетерпеливым любопытством развязала ленточку, откинула крышку и, восхищенно сложив на груди ладони, отпрянула, любуясь.
— Какая прелесть! Такой куклы я еще ни у кого не видела… Это ж надо — я похожа на Алису…
— Как две капли воды! Только наоборот — Алиса на тебя, — поспешил с комплиментом Ринго. — Некоторые девушки похожи на кукол, но это совсем другие девушки.
— Вы говорите совсем как Шалтай-Болтай! — прыснула в кулачок Оля.
— Я говорю, как говорю Я! — несколько обиделся балагур-ударник. — Мое имя Ричард Старки, а не Шалтай-Болтай.
Тут Тиллим устранил противоречие, решительно заявив:
— Ты — единственная и неповторимая и похожа только на саму себя, а больше ни на кого.
Щеки девочки на мгновение порозовели — видимо, ей было приятно слышать такое, особенно от Тиллима, но, закрыв чудесную коробку, с подарком под мышкой она заспешила к себе в комнату.
— Куда же ты? — удивился верный друг и рыцарь, увидев, что его дама торопится покинуть столь необычных гостей.
— Все так замечательно, волшебно… Вы все такие чудесные! Я тронута, но это так неожиданно… У меня тут беспорядок и вообще дела, — донеслось из Олиной комнаты.
Тиллим пожал плечами и повернулся к битлам, не зная, как быть дальше: он не хотел, чтобы те уже улетали, можно было бы пообщаться, попросить, чтобы они еще что-нибудь спели.
— Ты что же думаешь, важные дела могут быть только у тебя? — удивился Джордж. — Девушки бывают иногда такие занятые, что им лучше не мешать. В рождественские дни у них столько разных забот!
Однако эти слова не успокоили Тиллима, и он решил сам разобраться, что может быть сейчас важнее этой нежданной-негаданной встречи с «не самыми доступными», но самыми загадочными и желанными для любого их поклонника людьми. Когда он влетел в комнату, Оля уже сидела за письменным столом над тетрадкой и, покусывая колпачок шариковой ручки, погружалась в раздумья.
— Что случилось, Оля?! Какие могут быть дела, когда у тебя в доме «Битлз»! — воскликнул мальчик. — Они сейчас исчезнут, и все, — когда еще судьба преподнесет такой невероятный подарок? Иди и задержи их, пока не поздно!
Одноклассница повернулась к нему с серьезным видом:
— А ты, наверное, забыл о сочинении, которое нам на каникулы задали?
Тиллим тут же вспомнил, как совсем недавно безуспешно ломал голову, пытаясь провести самоанализ, вразумительно изложив это на бумаге, и его прекрасное настроение улетучилось бы в два счета, если бы в голову не пришла светлая мысль: «Битлы обещали мне помощь во всем, так почему бы не спросить у них совета? Уж они-то знают, чего хотят и для чего живут!» Стоило Тиллиму громко запеть песенку «Help», как ливерпульские «спасатели», еще никуда не улетевшие, оказались рядом.
— Ты звал нас, дружище? — участливым хором поинтересовались они.
Тиллим лишь согласно кивнул, а Оля, вдруг осмелев, с надеждой обратилась ко всем сразу:
— Вы же такие мудрые, столько раз давали интервью, наверняка знаете ответы на все вопросы.
— Многие так считают. Особенно те, кто верит в наши песни, не умеет лгать и не привык вешать нос, — заметил Джон.
— Тогда выручайте. Учительница спросила, кем мы собираемся стать и чего хотим от жизни, задала даже такое сочинение, но это, оказывается, так сложно! В общем, мы запутались — не знаем, что и писать, — призналась девочка. — Вот вы как бы ответили?
Начал Леннон. Глядя сквозь линзы волшебных очков, Джон пустился в воспоминания:
— Когда мне было пять лет, мама твердила мне, что самое важное в жизни — быть счастливым. Когда я пошел в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал «счастливым». Мне сказали — «ты не понял задание», я им сказал — «вы не поняли жизнь». И я по-прежнему желаю быть счастливым, мисс!
Пол выпалил бодрой скороговоркой, как солдат, рапортующий сержанту:
— Хочу жить в Пепперленде, в городе Любви, на улице Согласия, чтобы окна выходили на проспект Мечты и дорога вела бы к морю под названием Счастье.
Смешливый Ринго, куражливо нарушив очередь, легкомысленно уставился в потолок и, будто видя там картину блаженства, признался:
— А я всегда мечтал быть королем дивана.
— Лентяем, что ли? Лежебокой? — вырвалось у удивленного Тиллима.
Ричард Старки пояснил несколько грустным тоном:
— Да нет же. Просто хотел быть удачливым. Желаю удачи! — Ударник подскочил к шкафу и, барабаня ладонью по стенке, завершил озорной тирадой: — Я тут прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону! Я понял, что я ТАЛАНТ! Я — человек творческий: хочу творю, хочу вытворяю! Советую всем: чуда не ждите, чудите сами!!!
Настала очередь Харрисона, но тот, точно медитируя, молчал.
— А ты-то, Джордж, кем хотел быть? — прокричали друзья, выводя его из самопогружения.
«Вот, наверное, настоящий самоанализ!» — обрадованно решил Тиллим.
— Когда мне говорят «будь собой», я теряюсь и не знаю, кем из «собой» мне быть. Короче говоря, до сих пор ищу себя, — выдал Джордж и повернулся к Джону: — Кто нашел, просьба вернуть! Пока что я несу чушь…
Джон среагировал иронически:
— А если несешь чушь, старайся ее не расплескать, потому что хороша только полная чушь! — Обратившись к Тиллиму с Олей, Леннон, подмигнув, подытожил: — Это все, что мы знаем о жизни. Зато мы всегда стараемся быть теми, кем являемся… Да не унывайте: ваше детское воображение шире взрослого, оттого что свободно еще от жизненных реалий!
Мальчик и девочка посмотрели друг на друга. В их глазах читались прежние растерянность и озадаченность. Проницательный Джон заметил это и, встав в один ряд с остальными битлами, подал им какой-то знак. И тогда каждый высказался коротко и ясно.
— Есть мечта? Беги к ней! — выпалил первый из битлов.
— Не получается бежать? Иди к ней! — подхватил Пол.
— Не получается идти? Ползи к ней! — продолжил Джордж.
— Не можешь ползти к ней? — спросил Ринго и, выдержав паузу, важно продекларировал: — Ляг и лежи в направлении мечты!
Тиллим с Олей поняли, что это были именно те слова, которых им не хватало, чтобы усвоить урок.
— Ой! Я же вас даже ничем не угостила… Подождите, сейчас сварю кофе! — спохватилась благодарная хозяйка, но чудесные гости заторопились.
Раскланиваясь, Джон даже снял цилиндр:
— Прошу простить нас — уже поздно.
— Вернее, рано, — уточнил Пол, глянув в окно, за которым светало.
— Но мы еще увидимся! — обнадежили Джордж с Ринго.
— О, да, мы еще увидимся! — заверили музыканты теперь уже квартетом, помахали на прощанье, и все растворилось в радужном вихре красок и звуков.
II
«Вот это сон! — подумал Тиллим, почему-то радостный, а не разочарованный тем, что увиденное было не наяву. — Все равно в жизни такого не бывает, но и во сне такое когда еще увидишь! Да-а… Иногда один сон дает больше, чем год жизни! За одну ночь жизнь, конечно, нельзя изменить, зато можно изменить мысли, и это поменяет ход твоей жизни».
Рано утром Тиллим уже ехал в насквозь промороженном трамвае в «Детский мир» — к открытию! — за подарком «лучшей девочке на свете» Оле. «Конечно, о волшебной Алисе мечтать не приходится, — рассуждал юный кавалер, — но ведь, в конце концов, важен не подарок, а внимание. Куплю что-нибудь простенькое, но со вкусом».
В небольшом подсумке Тиллима всегда лежал блокнот для набросков — он любил постоянно что-нибудь подмечать в окружающей обстановке и быстро зарисовывать в свой заветный миниатюрный альбомчик (в школе с литературно-художественным уклоном это приветствовалось). Вот и теперь Тиллим с интересом приглядывался к пассажирам и обратил внимание на большеглазую девочку в ярко-розовой шапочке крупной вязки «косичкой». Девочка тоже ехала без взрослых. Более того, она проводила время гораздо интереснее, чем он. Сняв варежку, сперва горячим кулачком протирала-протаивала прозрачный кружочек на заиндевелом стекле, а затем пальцем старательно, виртуозно процарапывала все остальное. Один кружочек оброс солнечными лучами, к другому было ловко прилажено многоногое фантастическое туловище… Разрисовав одно узорное трамвайное окно, девочка переходила к следующему.
Азартный Тиллим решил тоже включиться в увлекательную художественную игру. Подойдя к уже разукрашенному окну, он быстро снял перчатку и принялся дополнять девочкины гравюры по инею множеством недостающих деталей. Из солнышка вырастали теперь страховидные зимние цветики, непонятное существо, получив длинный суставчатый хвост, превратилось в динозавра, возле домика выросла внушительная трапециевидная фигура с подписью «Андроид-Гуманоид».
Заметив это, девочка хитро скосила глаза на Тиллима и стала оставлять больше места на своих окнах-панно, а затем как ни в чем не бывало пошла по следующему кругу. У «Андроида-Гуманоида» появилась легкомысленно-изящная шляпка с бантом и цветами, над цветами запорхали воздушные, едва намеченные бабочки…
Свою остановку захваченный совместным творчеством Тиллим едва не проехал. Какая остановка, когда ты стал участником столь интересной игры! Забыв о важной цели своей поездки, семиклассник решил выйти вместе с глазастой девочкой и проводить ее до дома, чтобы узнать, где проживает такая фантазерка. Однако все произошло совсем не так, как он рассчитывал.
Набравшись смелости, он подошел к юной художнице и произнес:
— Здравствуйте! Вас как зовут? Меня зовут Тиллим…
— Какое интересное имя — в принципе подходит человеку.
— Ну а вас-то как зовут? — осторожно повторил Тиллим.
— Ну, Юля.
— Очень приятно, — снова осмелел мальчик.
— Это «приятное» ненадолго.
— А почему? — в полном удивлении спросил Тиллим.
— Да мне с вами будет скучно, а вам со мной — непонятно.
— Ну почему же?? — только и смог вымолвить мальчик.
— Вот видите: мне уже скучно, а вам уже непонятно. И вообще, я не люблю почемучек, поэтому телефон свой я вам не оставлю, адрес тоже. И, надеюсь, это была наша последняя встреча…
Тиллим не успел ничего возразить, как трамвай остановился, двери открылись, и Юля быстро соскочила с подножки, даже не дослушав незадачливого мальчишку.
Рядом с трамвайной остановкой с визгом затормозила служебная черная «Волга». Из нее выскочил насмерть перепуганный широкоплечий дядька. Несмотря на сильнейший мороз, он был в костюме и белоснежной рубашке со строгим галстуком, а на лбу у него даже выступила испарина. Оставив дверь распахнутой, дядька бросился к своенравной девочке:
— Юлия Борисовна, что же вы делаете?! Хотите меня под монастырь подвести? Ведь уволят же за ваши фокусы, а у меня жена, дети, мама старенькая… Нехорошо…
Не удостоив его даже ответом, незнакомка с видом маленькой инфанты уселась в машину. Тиллим, успевший сойти с трамвая, так и остался стоять посреди тротуара, как контуженый.
Очнувшись, он даже не заметил, что одна его перчатка так и осталась лежать в трамвае на полу. Впрочем, за перчатку мальчику потом влетело отдельно…

Девочка-видение исчезла, оставив после себя только автомобильный след на снегу, а мальчик пешком побрел в «Детский мир». В голове у него была порядочная неразбериха.
А уже через несколько дней начались долгожданные зимние каникулы с их приятной десятидневной праздничной суетой: встречей Нового года под наряженной елкой напротив телеэкрана с «Голубым огоньком», желанными сюрпризами Деда Мороза, запахом мандаринов и веселыми снежными забавами — от саночных полетов и игры в снежки во дворе до походов на каток с коньками за плечом и загородных лыжных прогулок.
Уже первого января Тиллим явился в гости к Оле с поздравлениями и подарками (она жила как раз напротив его серенькой хрущевки). В одной руке юный кавалер держал коробочку из кондитерской со свежими эклерами и буше по двадцать две копейки, в другой — пестрый бумажный сверток. Мальчик едва успел произнести «С Новым годом, с новым счастьем!», как Оля, прощебетав «спасибо», проворно упорхнула с пирожными на кухню. Гостю приятно было услышать радостное:
— Мама, Тиллим пришел! Вот — к чаю. Поставь, пожалуйста, поскорее!
Пригласив полюбоваться пушистой, мерцающей разноцветными гирляндами, в блеске игрушек и серебряного «дождя» красавицей елкой, юная хозяйка нетерпеливо развернула разноцветную упаковку с фирменными эмблемами универмага «Детский мир» и всплеснула руками, увидев вислоухого, белого в черных пятнах плюшевого щенка с выразительными глазами-пуговками и маленьким розовым сердечком-брошью на ошейнике.
— Какой славный! Это мне?
— Ну конечно тебе! — с удовольствием подтвердил Тиллим. — Дед Мороз велел срочно передать самой красивой девочке, вот я и спешил…
Оля, озорно улыбаясь, переспросила:
— Самой красивой… А ты уверен, что не ошибся?
Он хотел было кивнуть в ответ, но девочка уже благодарно коснулась губками его холодной щеки, тут же закружилась по комнате, не выпуская из рук щенка и что-то мурлыча под нос.
— У него, оказывается, глаза такие грустные-грустные… — заметила Оля. — Я назову его Бим, можно?
Тиллиму вдруг впервые за эти дни вспомнилась другая девочка — загадочная незнакомка, умчавшаяся в метель на черной «Волге».
— По-моему, вполне подходит. Слушай, почему ты спрашиваешь? Он же теперь твой!
Оля приостановилась и смущенно ответила:
— Ну-у… Вдруг ты его уже как-нибудь назвал и не успел мне сказать… — А потом, повернувшись к мальчику, добавила: — У тебя сейчас глаза тоже какие-то грустные.
— Тогда назови его Тиллим. Посмотришь на щенка и сразу вспомнишь, кто подарил.
Теперь и в голосе его были грустные нотки. Оля спохватилась, подбежала к гостю:
— Ты что, обиделся, что ли? Да разве я могу… Я не забуду!.. Только животным нельзя давать человеческие имена — мне мама говорила.
— И совсем я не обиделся. — Мальчик даже усмехнулся. — Надо же! Моя бабушка всегда то же самое говорит: собаке дают кличку, а не имя. Бим так Бим! Черное ухо — как в кино. Со-гла-сен!
Девочка, таинственно улыбаясь, ни слова не говоря, подошла к проигрывателю и, нажав «Вкл», поставила иглу на пластинку. Из колонок тут же зазвучало: «Yesterday, all my troubles seems so far away…»
— «Help»! — Тиллим блаженно растянулся в кресле, даже прикрыл глаза. — Кла-ассный диск…
— Молодец, угадал. Но то, что я сейчас расскажу, ни за что не угадаешь! — торжественно-заговорщически предупредила Оля. — Ты даже представить себе не можешь, что мне подарила московская тетя! Она шекспировед и недавно вернулась из командировки в Англию. Я вчера глазам своим не поверила: дарит мне настоящий альбом «Help», запечатанный, в прозрачной пленочке, а в конверте — тексты всех песен!
Тиллим мгновенно открыл глаза и подался вперед:
— Вот здорово! Дай посмотреть…
— Обязательно, но потом — вместе полюбуемся. Только сейчас не перебивай… Это еще не весь подарок. Подожди — сейчас увидишь! Я знаю, такое ты должен оценить…
Девочка упорхнула в свою комнату и через полминуты вернулась со средних размеров подарочной коробкой. Коробка сверкала золотыми звездочками и была перевязана розовой атласной лентой с изящным бантом! Тиллим мгновенно вспомнил, где видел точно такую же, и даже мог бы сразу сказать, что в ней, но поверить не мог, что подобное возможно. Оля не заметила реакции друга, одним движением развязала бант и открыла крышку…
В коробке на фоне розового атласа, чуть разведя руки в стороны и словно приглашая в Страну Чудес, действительно стояла кэрролловская Алиса!!!
— Смотри, как на меня похожа: удивительно — мой двойник, даже родинка на щеке! Тетя, когда увидела, просто остолбенела и не могла не купить… Ты где-нибудь видел такую замечательную куклу? — похвасталась девочка, кокетливо сматывая и разматывая ленту.
Тиллим не находил смысла что-то скрывать от своей дамы сердца и с трудом, но выговорил:
— Д-да… Видел… Это настоящее чудо. Значит, письмо до них дошло и нас приняли в клуб сержанта Пеппера! Оля, это невероятно, но…
И мальчик стал пересказывать свой чудесный предновогодний сон. Стараясь передать все запомнившиеся подробности и ощущения, он оживленно жестикулировал, менял тон голоса, иногда даже вскакивал с кресла. Оля внимательно слушала Тиллима, и моментами ей казалось, что она сама видит так увлеченно и ярко описанные им эпизоды сна, но когда он под конец признался, что перед сном слушал именно альбом «Help», для рассудительной девочки это было уже слишком.
Какое-то время она еще смотрела на Алису с фарфоровой головкой, точно надеясь, что та вдруг чудесным образом оживет и подтвердит рассказ Тиллима или, по крайней мере, подаст какой-нибудь утвердительный знак, но прекрасная кукла оставалась всего лишь куклой. А мальчик все никак не мог остановиться:
— Ты не представляешь, мы летали на подводной лодке без крыльев, без мотора…
— И бензина им не надо?!
— Да зачем им бензин, у них волшебная лодка — она летает на музыке! А я даже чувствовал, как мои вены горят огнем нового осознания.
Девочка призвала на помощь чувство юмора и с улыбкой пропела фразу из популярной песенки:
— Я тебе, конечно, верю — разве могут быть сомненья?
— Значит, не веришь, — грустно сказал мальчик. — Я думал, хоть ты поверишь… Выходит, это откровение только для меня…
Оля заглянула ему в глаза:
— Нет, Тиллим! Я только хотела сказать…
— Да ты была во сне, ты должна его помнить, этот сон! Если ты его вспомнишь, значит, мы точно члены клуба… Я читал, что нам снятся двадцать семь разных снов за ночь. Сложный защитный неврологический механизм заставляет нас их забыть…
— Такой цветной сон я бы уж точно запомнила, — упрямо возразила Оля.
— …В мозгу происходит огромное множество сложных процессов каждую секунду. Сто тысяч миллионов нейронов в постоянном синаптическом контакте готовы к регулированию наших ощущений и восприятий. Так и возникают все новые и новые сны… Ну вспомни же! — В этот момент Тиллима точно озарило: — Стоп! Я сейчас тебе все докажу: открой-ка Алисину сумочку, там лежат три помидорки и булочка.
Оля спокойно открыла сумочку — там было пусто!
— Ну что, убедился? А тебе фиолетовые летающие коровы не снились?
Но девочка так и не успела толком обидеться, потому что в комнату вошла ее мама. Было неясно, слышала ли она, о чем шла речь, но получилось так, что точку в разговоре поставила именно мама.
— Все секретничаете, дети? Какие же все-таки вы оба фантазеры! Впрочем, поэтому и дружите так…
«Дети» мгновенно покраснели, стараясь не смотреть друг на друга.
— Ну ладно-ладно! Идемте-ка лучше чайку попьем: он давно уже вскипел, а у нас ведь есть вку-усные пирожные…
III
Первый урок литературы после каникул грозная Вера Напалмовна начала со сбора сочинений. Она медленно шла вдоль рядов парт, и каждый семиклассник сдавал ей особую тетрадь. Литераторша иногда останавливалась рядом с какой-нибудь партой, пробегала глазами первые строки очередной работы и, строго кивнув, шла дальше. Открыв Олину тетрадь, она застыла на месте. Лицо Напалмовны побагровело, а глаза полезли на лоб. Тяжело выдохнув, она буквально закипела:
— Это еще что такое?? И это все сочинение?! Вы меня с ума сведете… — Старая учительница, не закрывая тетради и потрясая ею в воздухе, обратилась ко всему классу: — Послушайте-ка, что тут выдала на-гора ваша одноклассница: «Хочу, чтобы мы были счастливыми». Спрашивается, кто это «мы» — Николай Вторый?! — Она презрительно уставилась на сидящую Олю с высоты: — Ваше место в церковно-приходской школе для умственно отсталых, Штукарь.
Класс покатился со смеху, а литераторша продолжала полыхать напалмом:
— Итак, наша Штукарь считает, что своим наглым самодержавным мнением в одной строчке продемонстрировала неизмеримую глубину мысли… Счастье — это когда твое «хочу», «могу» и «должен» совпадают!!! Деточка, вы не раскрыли и не поняли тему! Что ж, Штукарь — кол!!! Ах, извините — бес попутал, нижайше прошу прощения… Да для такой дегенератки, как вы, единица даже завышенная оценка. Вы поняли, наконец?!!
Оля, белая как полотно, встав с места, собрала портфель и вдруг, посмотрев Вере Напалмовне прямо в глаза и отчетливо произнося каждое слово, тихо сказала:
— А вы не поняли жизнь.
— Что ты там пробубнила? — Литераторша прищурилась. — Дорогуша! Там, где ты училась хамить, я — преподавала.
Но Ольга вряд ли слышала эти слова, потому что в этот момент уже шла по коридору.
— Я все больше убеждаюсь, что у некоторых учеников голова — декоративное приложение к месту, на котором они сидят! — продолжила вдогонку негодующая училка.
Тиллим, который, разумеется, выслушал все это с трудом, был не только возмущен происходящим, но и убедился наконец-то, что самая лучшая девочка в мире все-таки в ту предновогоднюю ночь видела с ним один и тот же волшебный сон. Он быстро взял свою тетрадь с готовым, пространным сочинением. Решительно вырвав под партой пять страниц труда трех бессонных ночей, мальчик тут же написал сочинение заново и сдал. Оно было лаконично и выразительно. Седьмой «А» убедился в этом, когда преподавательница полностью озвучила его: «Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека — хотя бы одного, на земле все будут счастливы. А я хочу, чтобы Штукарь была счастливой!»
— Вы что, решили все надо мной издеваться? Меня трудно вывести из себя, но загнать обратно еще сложней.
Лопаев ехидно заметил:
— Так его Штукарь укусила, и он заразился бешенством.
Класс злорадным хохотом поддержал шутника, а Напалмовна, взяв указку, с силой ударила по столу:
— Тихо, класс! Я сказала, тихо!!! Балаган здесь устроили! Моя доброта имеет границы, особенно если ваша наглость стремится к бесконечности… Два вам на пару со Штукарь и вон из класса, Ромео! Без родителей в школу можете не являться. И передай это своей Джульетте.
— А я думал, что в своем сочинении Штукарь… — заикнулся было Тиллим.
— Думал?! Не смей называть хаотичный набор импульсов в своей голове благородным словом «думал». Вон из класса!
Взволнованный Тиллим не мог найти подругу по всей школе. Наконец он нашел ее в дальнем углу раздевалки. Оля сидела на подоконнике, уставившись в одну точку.
— Ну что, моя поездка в Новый Афон отменяется? — грустно произнесла она, увидев Папалексиева.
— Моя тоже, — печально улыбнулся он, разводя руками.
— А тебе-то за что?
— За ту же мечту, что и у тебя…
— Тебе легко говорить, Тиллим. Напалмовна на меня всю злость выплеснула, а на тебя только брызги попали.
— Не переживай! — убежденно сказал мальчик. — Зато теперь я определенно знаю, просто уверен, что мы были с тобой в одном и том же волшебном сне, а ты просто его забыла.
Неожиданно для Тиллима Оля взорвалась:
— Да отстань ты со своим сном! Нашел время… Тиля, ты понимаешь, что у нас с тобой сейчас серьезная проблема? Если мы ее не решим, плакала наша мечта, наш Новый Афон!
— И что же нам теперь делать? Я понятия не имею…
— Ну ничего! Я все равно сделаю так, что мы поедем.
IV
В конце января неожиданно напомнила о себе удивительная встреча в трамвае. Придя на занятия, Тиллим увидел кареглазую незнакомку входящей в его класс. Как сказали семиклассникам, Юля Григорович будет теперь учиться в их специализированной школе.
Тиллим сам подбежал к Юле и хотел было поздороваться с ней как со знакомой, но та презрительно сморщила нос и, фыркнув, посмотрела на него, как на противную лягушку, запрыгнувшую на ее лакированную туфельку.
Новенькая сразу стала королевой средних классов 124-й школы с литературно-художественным уклоном. С ней хотели дружить все девочки, а мальчишки все как один мечтали однажды спасти ее от бандитов, пиратов или волков. Юля, казалось, не замечала их неуклюжих детских попыток понравиться, была со всеми отстраненно-вежлива, как и подобает королеве, потому что считала себя внутренне старше и даже выше остальных.
Впрочем, это в чем-то соответствовало истине. Отец Юли занимал далеко не последний пост в городе по профсоюзной линии, в школу девочку возили на государственной черной «Волге». Ей единственной среди семиклассниц было позволено ходить на уроки в крохотных золотых сережках, иногда от нее пахло французскими духами, которых учительницы из-за скромной зарплаты себе позволить не могли и просто толком не представляли, что это такое. Даже физкультурница, для которой ученики были чем-то вроде неповоротливой биомассы, достойной лишь крика и ругательств, была с «Юлечкой» приторно-любезна.
Одновременно и вместе с Юлей в классе появился Саша Матусевич, новички были знакомы чуть ли не с ясельного возраста. Родители Юли и Саши вместе работали за границей — участвовали в строительстве электростанции в Мозамбике. Они уже много лет дружили семьями и надеялись, что детская дружба, которой связаны их чада, со временем перерастет во что-то большее…
Поэтому, вернувшись из Мозамбика, они намеренно определили детей в одну престижную спецшколу. Дети выглядели прекрасной парой, особенно на фоне остальных, — загорелые, одетые с ног до головы во все фирменное, да еще с тем неуловимым выражением лица, которое отличает тех, кто хоть немного пожил за границей.
Юле далеко идущий, расчетливый план, придуманный родителями, казался и в самом деле привлекательным. Но Саша увидел Олю Штукарь, до появления новенькой считавшуюся самой красивой девочкой в классе, и давняя подруга в тот же миг перестала для него существовать. Юля восприняла это как величайшую несправедливость и крушение мира.
В своем новом классе Саша моментально стал признанным «индивидуумом», перед которым одни лебезили и которого другие, особенно мальчики, часто втайне, считали выпендрежником, выскочкой и трусом. Для преподавателей Саша тоже был особенным — явным акселератом-вундеркиндом. Появление в начале третьей четверти этого новенького произвело настоящую сенсацию. Стройный, спортивного вида брюнет, с тонкими чертами лица, с заметно выпяченной пухлой нижней губой, одевался элегантно, носил только импортные галстуки-самовязы, а не грубый ширпотреб на резиночке с застежкой сзади, и на каждый день недели у него были свои запонки. Он преуспевал по всем предметам, к тому же мог блеснуть эрудицией. Понятно, что для девчонок, начиная чуть ли не с младших классов, Матусевич стал бесспорным кумиром и знаменитостью.
Саша вторым быть не привык, поэтому готов был использовать любые средства, чтобы занимать лидерские позиции во всех сферах подростковой жизни (себя он, разумеется, давно считал взрослым, «интеллектуалом среди примитивов»).
Как-то на уроке рисунка Юля Григорович подошла к Тиллиму и попросила открыть баночку с краской. Пока тот возился с банкой, она обмакнула тонкую кисточку в другую — красную — краску и написала у мальчика на руке свой номер телефона:
— Вот, позвони. Хочешь со мной дружить? Я как раз одна, и мне так тоскливо.
— Извини, но у меня уже есть подруга Оля, — ответил Тиллим, демонстративно вытирая руку. Когда-то заинтересовавшийся незнакомкой, он был просто шокирован такой прямолинейностью и неожиданной инициативой.
— По статистике, у восьмидесяти шести процентов людей есть подруга со странностями по имени Оля.
— Да, у меня есть девушка. Нечего обижаться и ее обижать.
— А я и не обижаюсь. Я просто меняю свое мнение о людях и свое отношение к ним! — невозмутимо заявила Юля.
— Так у тебя же есть Матусевич?
— Мы не сошлись с ним религиозными взглядами.
— В смысле? — Тиллим насторожился.
— Он не признает, что я богиня, — пояснила гордая Григорович, с презрением добавив: — А я не вижу в нем достойного жреца.
Она собрала учебники в модную импортную сумку и хотела уже было выйти из класса, как вдруг почувствовала, что кто-то оттягивает ручку сумки. Юля удивленно подняла глаза: рядом стоял Лопаев, пытавшийся облегчить ее ношу.
— А хочешь, я буду твоим парнем? Я тут самый крутой, в обиду никому не дам.
— У меня даже цветы вянут… А тут — «парнем»! Такая ответственность… — независимо усмехнулась Юля.
Лопаев напряг сразу все извилины:
— Не понял.
— Не будем и пытаться понять друг друга, чтобы не возненавидеть. Ты не в моем вкусе, — отрезала девочка.
Кавалер, однако, не отставал:
— А кто тогда в твоем вкусе?
Юля, самодовольно задрав носик, улыбнулась:
— Я, например!
— А что мне сделать-то, чтобы тебе понравиться? — продолжил наседать Лопаев.
— Приклей зеркало к лицу, — съязвила Юля, отвернувшись.
— Вот так вот, да? Отвергла меня, значит. — Школьный хулиган нарочито изменил тон: — Ах! Какая вы жестокая, я в отчаянии! Вы разбили мое бедное сердце на тысячу мелких осколков, и я чувствую такую пустоту внутри.
— Так иди поешь, не мучайся, бедняжка!
— А ты злая девочка! — покачал головой Эскалоп, но при этом было видно, что задиристая Юля ему симпатична.
— Доброй девочкой я буду только для своего мальчика! А остальные терпите! — резко обернувшись к назойливому верзиле, бросила она.
В этот момент в класс уверенной походкой вошел Матусевич, попутно заметив Лопаеву:
— Зря ты так. Среди девочек тоже есть хорошие люди. — Он поздоровался с Юлей: — Привет.
— Лучше бы не здоровался! — уколола та.
— Тогда не привет… — спокойно парировал Шурик.
— Ну что, страдаешь еще по мне? — язвительно полюбопытствовала Юля.
— Вот еще — страдать! — пожал он плечами. — Кому ты нужна? Ты в прошлом. Сдурела, что ли?
— Я не сдурела, я вообще такая! — заявила бывшая подружка.
— У меня и правда есть чувства к тебе. Я чувствую, что ты действуешь мне на нервы… Природа щедро одарила тебя красотой! Собственно, на этом подарки и закончились. Таких королев, как ты, не было, нет и не надо.
«Королева» фыркнула, подобно рассерженной кошке:
— А ты… Да ты просто не достоин такого ангела, как я!
— Меня всегда раздражал шелест твоих крыльев. Все вы, девушки, ангелы, но стоит вам обрезать крылья, как вы начинаете учиться летать на метле, — иронически обронил Матусевич, усаживаясь на свое место.
— Как я могла полюбить такое ничтожество? Ты никогда ничего из себя не представлял. Ты мне должен ноги целовать! Ты просто был моей тенью, которую я отражала, когда хотела. Я полноценная, самостоятельная, знающая себе цену, а ты — эгоист и мерзавец! — одним духом выпалила Юля. Тут же вспомнив про Лопаева, обернулась к нему: — Ты, кажется, хотел мне понравиться? Тогда сейчас же накажи наглеца за запятнанную честь девушки.
Лопаев с готовностью встал и вразвалочку направился к Матусевичу:
— Але, нарядный! Ты чего такой дерзкий? — Верзила Эскалоп толкнул сидящего Шурика и ухмыльнулся. — Ну что? Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: быть дебилом хорошо? Да, сынок, неплохо…
— Ничего плохого нет в том, что умный человек иногда тупит, гораздо хуже, когда тупой постоянно умничает, — не растерялся Матусевич. — Вам, дебилам, нипочем — у вас морда кирпичом. Do you have problem, guy?
[6]
— Ну ты, борзой! Слышь, чертила, ты по-русски разговаривай! Ты меня дебилом назвал?! Да ты знаешь, что с тобой будет…
— Как в эту светлую голову вошла мятежная мысль пугать меня? — издевательски сказал Шурик.
— Слушай, ты! Млей и осознавай: это теперь моя девушка, и если ты хамишь ей, ты хамишь мне.
Матусевич промолчал.
— А может, тебе просто в бубен дать?! — Задира сначала плюнул новенькому в лицо, потом ударил его кулаком в грудь. — Ну, чего молчишь? Ты только с девушками борзой?
— Мне нравится разговаривать молча. Это когда посмотришь на кого-нибудь, и он сразу понимает, куда ему идти. — Матусевич невозмутимо вытер лицо платком.
— И куда ты меня пошлешь? — Лопаев приподнял вызывающе спокойного Шурика за шиворот.
— Ну конечно, к первоисточнику, — объяснил ’тот, разжав пальцы хулигана.
Лопаев не без труда сообразил, о чем речь, но грозно кивнул лохматой головой:
— Угу! Я, кстати, туда собрался, не составите компанию?
— А что, пора? — Шурик независимо встал в проходе между партами.
— Пора-пора-порадуемся на своем веку! — Воинственно напевая, Лопаев широкой грудью переростка стал вытеснять его к туалету.
Не тратя времени на дальнейшие пререкания, соперники быстро оказались в коридоре напротив туалета. За ними, замерев, следили зеваки.
— Прошу! — Ломаясь, Лопаев глумливо улыбнулся. —
Я только после вас.
Матусевич решительно зашел внутрь, втянув за собой надоевшего хама. Дверь едва успела захлопнуться, а в туалете уже раздался грохот, будто уронили здоровенный мешок с мукой. Переглянувшись, зеваки замерли. Кто-то громко, уверенно сказал:
— Лопай иностранца рубанул.
Через считанные секунды Шурик спокойно вышел в коридор, брезгливо отряхивая руки.
— Если кто-то ищет проблемы на свою голову — обращайтесь! Я еще и крестиком вышивать умею, — заявил он всем с видом победителя.
Толпа собравшихся ротозеев тут же ворвалась в туалет. Картина, представшая их взорам, была очень и очень странная, если не сказать страшная. Бедняга Лопаев распластался навзничь на полу. Лицо его было багровым, а в глазах застыл страх, причем было видно, что он даже не дышит. Последнее-то и напугало всех не на шутку. Тот же, кто поспешил объявить об очередном подвиге грозного Лопая, теперь зловещим шепотом предположил:
— Кажется, этот каратист Эскалопа убил!
Но, к счастью, «убитый» внезапно, хватая полной грудью воздух, начал громко дышать, после чего завыл, и из глаз его брызнули слезы. Впервые за все годы учебы одноклассники слышали, как гроза школы Лопаев ревет белугой. А тот все продолжал рыдать:
— У-у-у… Этот… этот урод меня… Он меня какой-то фигней электрической…
Ученики, однако, только посмеивались, не веря словам поверженного задиры. Теперь он уже не внушал окружающим прежнего страха, зато Матусевич основательно упрочил свой авторитет. После этого случая к нему прилепилось прозвище «каратист», и уже никто из мальчиков не рисковал предъявлять ему какие-либо претензии, а большинство девочек провожали его восхищенными взглядами.
Дальше все шло хорошо, как обычно на уроках изобразительного искусства, пока Тиллим не посмотрел в сторону. Там у окна сидела за мольбертом Оля и старательно водила кисточкой по бумаге. От цветных камушков в заколках, украшавших ее прическу, по стенам класса прыгали маленькие радуги и яркие солнечные зайчики. Рисунка ее мальчик со своего места не мог видеть, но разве это было самое печальное? Самым худшим было то, что рядом расположился Матусевич. Наклонившись к Оле, он что-то увлеченно ей объяснял, та же с интересом слушала.
Когда необычно задумчивый Тиллим провожал Олю с занятий, та сказала, что в последнее время новенький стал что-то слишком часто «случайно» встречаться ей, улыбаться и делать комплименты.
— Представляешь себе, — кокетливо похвасталась девочка. — А меня, между прочим, Матусевич сегодня в кино пригласил. Но я, между прочим, сразу отказалась: сказала, что у меня есть ты. Я сказала, что если он дружит с Юлей, то пускай с ней и идет. А он ответил, что их дружба — миф, давным-давно придуманный их родителями, и что он больше не желает поддерживать эту ложь. Потом, представляешь, ко мне подходит Юлька и говорит, что он повар, может навешать лапшу на уши, заварить кашу, подлить масло! Словом, назвала его большой человекообразной кучей равнодушия. А по-моему, она его просто до сих пор любит… Слушай, а правда, что он каратист и сегодня Лопаева одним ударом уложил? Вся школа об этом говорит…
— А мне-то какое дело что до Лопаева, что до Матусевича? — отрезал Тиллим.
— Зря ты так. Мне кажется, что Саша порядочный и честный, а Юлька на него наговаривает.
Теперь Тиллиму стало понятно вызывающее поведение Юли, но он счел за лучшее Оле об этом ничего не рассказывать, как и о том, что заметил ухаживание Матусевича за ней.
— Да бог с ними, пусть сами разбираются в своих делах.
— Ну тогда давай лучше о насущных проблемах. — Оля сама переключилась на другую тему: — По литературе, как ты помнишь, на дом снова сочинение задали…
Взгляды учеников по поводу литературных произведений должны были в точности совпадать с изложенным в учебнике и особенно с тем, что давала на уроке сама Вера Напалмовна.
Оля же была начитанна, имела собственное, противоположное хрестоматийному мнение, которое и отстаивала последовательно — без скидки на подростковый возраст, но после злополучного конфликта с единицами друзья хотели во что бы то ни стало исправить оценки, чтобы не было проблем с поездкой на летнюю практику.
Однако новое домашнее сочинение о непреходящей, руководящей и направляющей роли литературы критического реализма в современной жизни стало, по сути, последней каплей, переполнившей чашу терпения нетерпимой литераторши. Так, вместо того чтобы сгладить углы, Ольга, сама того не желая, выступила в своем репертуаре. Взяв эпиграф из «Капитанской дочки» своего любимого Пушкина — «Береги честь смолоду», она на десяти страницах развивала эту мудрую мысль.
При выставлении оценок неистовая Вера Напалмовна теперь уже заставила читать вслух целый кусок работы саму девочку. Та принялась за чтение:
— Творчество писателей, стремившихся изображать реальность русского общества без прикрас, критикуя его вековой уклад и выводя в своих произведениях «типические персонажи в типических обстоятельствах», то есть
критический реализм, принято считать определяющим течением в литературе девятнадцатого века.
— Это мы и без тебя знаем, — нетерпеливо заметила литераторша. — Дальше!
Губы девочки заметно дрогнули:
— В демократической критике, у того же Добролюбова, мы видим уже противопоставление молодого и старого, с ненавистью называемого темным царством, По-моему, противоречие критического реализма налицо: главные его последователи, особенно в первой половине девятнадцатого века, дворяне — во многом сами эксплуататоры. И фактически назвавший Россию чудищем Радищев, и звонивший в вечевой «Колокол» из Лондона, так и не ответивший на вопрос «кто виноват?» Герцен, и не нашедший того, «кому на Руси жить хорошо», Некрасов, и видевший Россию большим городом Суповым Салтыков-Щедрин, и Толстой, проповедовавший самостоятельность мысли, а дошедший до самодостаточного самодурства. Пушкин эпиграфом к реалистическому (вопрос — критическому ли?) роману «Капитанская дочка» взял пословицу «Береги честь смолоду» и показал в нем, как высока цена дворянской чести и чести вообще. Как уживался с этой моральной заповедью обожествлявший правду жизни и социальную справедливость критический реализм, на примере его столпов не совсем понятно. К его крупнейшим представителям относят Достоевского, Гончарова, Тургенева, Чехова, но главным содержанием их произведений была великая любовь к человеку, к Родине, а не критика мира за наличие темных цветов в его палитре и никак не призыв их искоренить в пользу светлых — в мире всегда будут свет и тьма, день и ночь, радость и горе…
Признаться, я не совсем понимаю, зачем так упрощать классику, втискивая в какие-то жесткие рамки. Кто, например, Пушкин — родоначальник критического реализма или Гений с большой буквы?
Вообще-то, мне ближе поэзия. Поэт воспевает прекрасное и возвышенное, не роется в грязи, как крыловская «свинья под дубом вековым»! Я где-то читала, что если всю жизнь смотреть только под ноги, то не увидишь всего величия мира — даже человеческих лиц не увидишь. По-моему, творческий человек как раз и призван устремлять наши души к лучшему, к гармонии. Критика же не созидает, а разрушает…
— Неслыханная наглость! На секундочку: я ваш педагог! — срывающимся голосом заверещала Вера Павловна, отобрав у Оли тетрадку. — У пионерки чуждые нам взгляды! С чьего голоса поешь? Ну-ка признавайся, кто писал сочинение?
— Конечно, я не литературовед, у меня нет жизненного опыта, — негромко отвечала Оля, — но в сочинении я была искренна, уважаемая Вера Павловна. Лгать я не приучена и отказываться от того, что сама написала, не стану.
— Ах, вот как!!! Подумайте, какие взгляды! Все это «новаторство» уже было в буржуазной литературе перед революцией. Тогда развелась масса всяких выскочек, ниспровергавших авторитеты. Ты, наверно, и не слышала о футуристах. Все они были полуобразованные волосатики в желтых блузах…
В классе послышался шепот:
— Хиппи, что ли?
Слава богу, престарелая Напалмовна этого комментария не расслышала.
— …самонадеянное отрицание культуры было главной их чертой. Как я теперь понимаю, и твоей тоже, Штукарь… Они придумали заумный язык, писали, чего и сами не понимали, но заявляли о своей гениальности и всюду устраивали бесконечные попойки, скандалы… Представляете, ребята, какой это был ужас? И они тоже замахивались на авторитеты… Кто сказал, я повторяюсь?! Великого Пушкина, «наше все», как сказал Белинский, эти чудовища призывали «сбросить с парохода современности». Да-да! Они замахнулись на святое, и Штукарь теперь уподобляется…
Заслуженная учительница чуть не задохнулась в праведном гневе. Пока она переводила дыхание, поднял руку Тиллим.
— Папалексиев? — удивилась Вера Павловна, скептически посмотрев на него через толстенные линзы очков. — Ты можешь меня дополнить? Ну же!
— Не только дополню, но и, простите, возражу. Футуристы не были полуобразованны. Мне удалось прочитать, что это было заметное явление в поэзии, — начал Тиллим, о котором весь класс знал, что он сам сочиняет и всерьез увлекается поэзией. — «Пушкин наше все» — слова Аполлона Григорьева, критический реализм тоже не жаловавшего. И, в-третьих, первым непочтительно выразился о Пушкине совсем не футурист, а как раз критик-демократ — Писарев! Мало того, что он, сам по убеждениям нигилист, все отрицал, как у них было принято, и был заключен в Петропавловскую крепость за государственную измену (это есть в Большой советской энциклопедии), так он еще и заявил, что «легкомысленное» творчество Пушкина «следует сдать в архив»! Саму эстетику призывал разрушить, Поэзию, можно сказать, отрицал! По-моему, такое заявление — самое настоящее кощунство! Назвать себя верующим не могу, но пример Писарева заставляет меня подумать о существовании высшей справедливости: он ведь нелепо погиб — утонул на мелководье! Вы, разумеется, обо всем этом знаете. Извините, что напомнил.
Опытная учительница покраснела, устыдившись своего прокола с Григорьевым, но ответила:
— Конечно знаю! Только не тебе, мальчишке, осуждать Писарева! — Она апеллировала ко всему классу: — Нет, вы посмотрите,
что тут сидит… Мальчик мой, он писал о Пушкине, не оскорбляя его память, а вот футуристы-то…
— Кстати! — вспомнил Тиллим. — Везде ведь указано, кем был величайший поэт советской эпохи Владимир Владимирович Маяковский. Так что, по-моему, футуриста Маяковского вы напрасно задели…
Тут Вера Павловна по привычке так саданула указкой по столу, что все замерли, предвкушая, как та переломится, однако треснул стол — указка была стальной, а стол из ДСП.
— Я не посмотрю на твою эрудицию! Всякому… юнцу пятнать имя ГЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ?! Не позволю!!! Он решительно порвал с футуризмом. Еще на рабфаке я сама слышала, как он читал… Это плевок в душу лично мне! Откуда ты узнал, что Маяковский — мой любимый поэт?!
Весь класс прыснул со смеху: небольшой гипсовый бюст Маяковского всегда стоял на подоконнике рядом с рабочим столом учительницы, так что каждый ученик, бывая дежурным, не раз стирал с него пыль.
— Тиллим, остановись, не надо! — тихо попросила Оля. Однако начинающий поэт не мог не высказаться в защиту своей подруги.
— Еще два слова! По теме. Разве мы ценим классическую литературу не за высокие идеалы, прекрасные образы, за подлинную правоту авторов? Вот это и делает ее современной. Оля, на мой взгляд, затронула самое больное место критического реализма — его разрушительный заряд, а также, увы, лицемерие и непоследовательность авторов. Тот же Пушкин писал:
Служенье муз не терпит суеты —
Прекрасное должно быть величаво!
А критический реализм не мог глаз оторвать от этой грязной суеты, совсем почти забыв о красоте!
Вспомните, кстати, сколько у Пушкина уничтожающих по отношению к критике и толпе стихов…
Этого вполне достаточно, чтобы, по крайней мере, не считать критический реализм с его грубостью высшей степенью достижения искусства… Оля искренне возмутилась тем, о чем у нас говорить не принято, и уже за смелость достойна самой высокой оценки! А вы, Вера Павловна, простите, по-моему, просто боитесь, что хоть кто-то из ваших учеников научится самостоятельно мыслить!
— Трепать мои и без того расшатанные нервы… Дурдом на колесиках!!! Очень полезно уметь включать дурака, Папалексиев, главное — чтобы выключатель не сломался… Я почти шестьдесят лет в школе, а такой наглости еще не слышала! Ну, учтите: меня трудно вывести из себя, но загнать обратно еще сложней. — Старушка возвела очи к потолку, взывая, очевидно, к Богу, в которого не верила. Ее седые, испорченные химией волосы встали дыбом. — Опять за свое? Развелось акселератов! Голова вместо попы и руки, растущие из нее, — самая распространенная мутация на Земле. Семиклассники уже позволяют себе «сметь свое суждение иметь»! Убеждения надо выстрадать, а не вычитывать в учеб… Ой! Я что-то не то говорю…
Седьмой «А» понимал, что сейчас Вера Напалмовна действительно противоречит сама себе, но та из последних сил продолжала бороться с малолетней оппозицией:
— Папалексиев, ты тоже добился двойки в четверти, и в году больше, чем на тройку, не… не рассчитывай! Видно, счастье до вас со Штукарь будет долго идти… потому что оно огромное — ему очень тяжело идти быстро. Вон из класса — оба!!! Второй раз… вам с рук не сойдет… Идеологическая диверсия!.. Я доведу до сведения… Таким ученикам не место в нашей… нашей образцовой школе!
Учительница достала из кармана валидол и дрожащими скрюченными пальцами положила под язык. Вот когда весь класс испугался — довели!!! Оле с Тиллимом было уже не до дискуссий — они, не сговариваясь, ринулись в медпункт…
Даже закаленное как сталь партийное сердце Веры Павловны подобной диверсии не выдержало, и она с инфарктом угодила в больницу, впрочем, настроение самостоятельно мыслящих дважды двоечников ухудшилось не меньше, чем здоровье престарелой учительницы. Тиллим и Оля ничего дурного, конечно, не замышляли и такой печальный итог литературного диспута в своем подростковом максимализме предполагать вряд ли могли. Теперь-то им было страшно и за пострадавшую старушку, и за собственное будущее. Становилось понятно, что Штукарь и Паралексиеву ни о каком Кавказе не следует и мечтать — представлять челябинскую пионерию в ответственной поездке они не достойны. Во-вторых (это было самым опасным), если Вера Павловна сдержит слово и не смилостивится, педсовет будет вынужден рассматривать случившееся с ее политической позиции как намеренную травлю заслуженного педагога, ветерана партии и советской школы со стороны двух «идеологически незрелых» юнцов, и тогда исключение из «образцовой спецшколы» обоим обеспечено. То немногое, что давало Тиллиму с Олей шансы на благоприятный выход из столь неблагоприятной ситуации: заветное желание школьного руководства поскорее отправить строптивую, ставшую на старости лет просто невыносимой Веру Павловну на давно заслуженный почетный отдых, высокая репутация учеников, «подающих большие надежды», да и стремление сохранить безупречную репутацию самой школы…
V
Следующего занятия по литературе весь класс ждал с особым волнением (мало кто осуждал Папалексиева и Штукарь — было жаль только, что спор о сочинении привел к ухудшению здоровья литераторши), а Оля с Тиллимом, чувствовавшие все-таки некоторую вину, — просто с замиранием сердца. Когда выяснилось, что урок не отменен, ученики 7-го «А» терялись в догадках, кто же заменит «сушеную кобру» Напалмовну. Вошедшая в класс молодая блондинка в брючном костюме сливового цвета уже одним своим видом заставила поднять головы и замереть не только мальчиков, но и девочек.
— Здравствуйте, друзья мои! — спокойным, уверенным и в то же время доброжелательным тоном поприветствовала учеников дама. — Меня зовут Ирина Юрьевна. Я ваша новая учительница русского языка и литературы, хотя мне было бы приятнее, если бы вы называли мой предмет словесностью. Наш первый урок будет посвящен творчеству удивительного поэта и прозаика, яркого романтика, Михаила Юрьевича Лермонтова. Но для начала хотелось бы поближе с вами познакомиться. Давайте поступим так: каждый назовет себя, а потом скажет нам, что для него Лермонтов…
В воздухе почувствовалось свежее дуновение, как будто повеяло весной, хотя за окном стоял морозный февраль.
— Нет, ты слышал? Поздравляю! — прошептала Оля, взволнованно задев Тиллима локотком. — Конец змеиному царству! Думаю, больше никто не будет затыкать нам рот штампованными формулировками.
Тот, в свою очередь, поразился:
— Моя бабушка всегда называет русский и литературу словесностью — ее в гимназии так учили… По-моему, ты права!
Сорок пять минут пролетели как одно мгновение, но зато какое! Вместо скованной мертвящей коркой программы совдеповской средней школы, вместо выхолощенной черно-белой литры одаренным подросткам предстала Великая Русская Словесность, способная увлечь и вызвать живые человеческие эмоции у кого угодно.

Очередной урок Ирины Юрьевны ждали уже с нетерпением, однако произошло нечто совершенно неожиданное: после первых вдохновенных слов учительницы дверь неслышно приоткрылась и чья-то рука бросила в класс кусок горящей пластмассы. Едкий удушливый дым желтоватыми клубами моментально заполнил помещение. За дверью послышался топот, гулко отдававшийся под сводами коридора, в пролетах лестницы. Не растерявшись, Ирина Юрьевна схватила лежащую у классной доски влажную тряпку и накрыла источник дыма. Огонек потух, но задымление стало еще больше. Однако учительница поспешила открыть настежь окно и невозмутимо спросила, обратившись к старосте:
— Наташа, кто сегодня дежурный?
— Саша Матусевич… По графику… — растерянно отрапортовала Наташа Плотникова.
— А теперь спокойно выходим из класса. Саша, останьтесь!.. Проветрим, а затем продолжим урок.
Но Ирина Юрьевна не успела сделать и шага к двери, как в соседней рекреации оглушительно грохнуло. Зато класс уже сорвался с места и, проявив завидную прыть и организованность, в считанные секунды оказался в коридоре. Тиллим вместе со всеми перепрыгнул через источник дыма, заметив наполовину сгоревшую оплавившуюся прозрачно-голубоватую линейку с четырехугольной лупой, — такие недавно появились в канцелярском отделе ближайшего магазина «Культтовары».
В рекреации тем временем творилось нечто, напоминающее кадры не то из импортного боевика, не то из фильма-катастрофы. От одной стены к другой с пронзительным свистом металась, оставляя следы копоти на свежей нежно-голубой краске, «римская свеча». Посмотреть на небывалый «аттракцион» из других классов тоже высыпали любопытные. Завуч младших классов Галина Николаевна попыталась было сбить летающую зажигалку шваброй, но вскоре убедилась в бессмысленности этого трудоемкого занятия. Наконец из административного коридора появился директор. Остановившись у входа в рекреацию, он взирал на происходящее с видом разъяренной статуи командора. Зеваки и не думали уходить из коридора и рекреации. В толпе слышался испуганный девчоночий визг и одобрительные возгласы мальчишек:
— Крутая дымовуха! Змей Горыныч отдыхает!
— Эх, жаль, что ракета не самонаводящаяся, а то бы взад-вперед уже раз десять пролетела…
— Сейчас тут все так задымит, что завтра, пожалуй, уроки отменят. Вот было бы классно!
— Кто совершил это безобразие?!! — надрывалась бедняга завуч, бегая в дыму и копоти по всему помещению и уже ставшая похожей на мулатку. — Ну что же вы молчите-то, ребята? Вам хорошая характеристика не нужна?
Пиротехническое представление закончилось так же внезапно, как и началось. Пролетая в очередной раз мимо окна, бешеная ракета неожиданно изменила траекторию и со свистом вылетела в форточку, начисто высадив в ней стекло. Теперь уже можно было наводить порядок ни на что не отвлекаясь.
Поскольку паника постепенно улеглась, а до конца урока была еще добрая четверть часа, преподаватели быстро развели перевозбудившихся учеников по кабинетам. Тиллим вместе с другими семиклассниками направился вслед за Ириной Юрьевной.
В классе еще отвратительно пахло дымовухой. От лежавшей на полу линейки — главной виновницы маленького столпотворения — к этому времени оставался лишь бесформенный комочек тлевшей, спекшейся пластмассы, из которого торчал кусок закопченной линзы. Когда дежурный Матусевич закрыл наконец окна и расставил по местам перевернутые стулья, так неудачно начавшийся сорванный урок можно было, по крайней мере, спокойно закончить.
Прошло несколько учебных дней. Перед следующим по расписанию уроком словесности в дверях учительской дорогу Ирине Юрьевне буквально преградила чем-то озабоченная Юля Григорович. Глядя в глаза словеснице непорочным ангельским взглядом и старательно хлопая пушистыми ресницами, девочка начала:
— Ирина Юрьевна, тут какое-то недоразумение: я хотела посмотреть свои оценки в журнале и увидела, что у Штукарь и Папалексиева стоят пятерки, а они их не получали! Я в принципе могла бы промолчать, но у меня нет такого принципа. После тех единиц и двоек, которые поставила Вера Павловна перед инфарктом, их ведь даже не спрашивали, и вдруг у них по две пятерки! Вы посмотрите, пожалуйста…
— Если я вас правильно поняла, Юля, кто-то совершил подлог. Но такое абсолютно невозможно, — ответила молодая преподавательница. — Журнал всегда находится в учительской или на столе в классе.
— А помните дым по всей школе, ну то, что случилось два дня назад? — продолжала настаивать Юля. — Все же было затеяно специально! И вообще, все оценки за урок проставлены синими чернилами, а эти пятерки фиолетовые — я внимательно рассмотрела… А еще, когда все выбежали из класса, Штукарь задержалась там, я сама видела!.. Ну почему вы мне не верите, Ирина Юрьевна? Зачем мне что-то придумывать?
— Спасибо, Юля. Я приняла к сведению… Что ж, будем разбираться…
Ирина Юрьевна, которой педагогические, да и просто человеческие принципы не позволяли обвинять учеников в чем-то, пока нет веских доказательств, все же не могла проигнорировать возмущенное обращение Григорович. Она внимательно проверила оценки в журнале: стоявшие в означенной графе против указанных фамилий пятерки, фиолетовые среди синих, к сожалению, свидетельствовали не в пользу названных Юлей учеников. Ирине Юрьевне ничего не оставалось, как попросить Папалексиева и Штукарь задержаться после уроков.
Когда на перемене класс опустел, молодая преподавательница подозвала их к своему столу и, открыв предварительно заложенную страницу журнала, указала на выявленный подлог.
— Очень тяжело подозревать кого-либо в позорном поступке, еще тяжелее обвинять, но все-таки я должна понять, откуда здесь
это. Кто это сделал?
Девочка и мальчик посмотрели в журнал. Ирина Юрьевна строго глядела на них. Оля, в свою очередь, молча взглянула на учительницу, и в глазах ее читалось недоуменное возмущение. Напряжение росло, а ответа все не было. Преподаватель словесности закрыла журнал и со всей строгостью, на которую была способна, произнесла:
— У вас было время обо всем подумать, но вы не хотите идти со мной на контакт. Мне, право же, очень жаль, но я буду вынуждена доложить о случившемся директору.
— Это я, Ирина Юрьевна! — нарушил молчание Тиллим. — Понимаете, даже не знаю, как я мог… Мне очень хотелось поехать на пленэр, я знал, что и Оля мечтает об этом путешествии. В общем, взял и нарисовал пятерки себе и ей заодно. Иначе бы нас в Новый Афон не взяли.
— Полагаете, теперь возьмут? — Ирина Юрьевна укоризненно вздохнула. — Вы не глупость допустили, вы совершили мелкую подлость, но она может иметь серьезные последствия. Не знаю, чем вам помочь и стоит ли… Стыдитесь!
Когда, опустив головы, оба вышли из класса, Оля еле сдержалась, чтобы не залепить Тиллиму пощечину:
— Какая же ты, оказывается, дрянь, Папалексиев! — резко бросила она, глядя на Тиллима полными слез глазами. — Разве я тебя о чем-нибудь просила? Неужели ты думал, что мне нужна такая… услуга?! И себя тоже опозорил… Ты мне больше не друг, Тиллим. Не подходи ко мне никогда и не звони. Если бы не ты, мы были бы хорошей парой…
С этого дня для Оли Штукарь бывший друг превратился в человека-невидимку. Зато счастливый Матусевич получил право носить Олин портфель и всюду следовал за ней, как верный оруженосец. Провожал ее после школы тоже Шурик, а не отправленный в отставку Тиллим. Он даже видел однажды, как новоявленная парочка отправилась в кафе-мороженое.
Теперь Тиллим и до последнего урока-то с трудом досиживал, а приходя домой, сразу забивался в угол за шкафом, где всегда пережидал неприятности. Никогда не знаешь, насколько ты привязан к человеку, пока эта связь не оборвется. Ему не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. «Ну, допустим, я виноват, ладно. Ей за меня стыдно… Только как можно было сразу поменять меня на этого показушника-супермена?» — недоумевал он, чувствуя, как обида заползает в душу. В такой вот печальный вечер в комнату деликатно постучалась бабушка, сообщив неожиданное:
— Тильтиль, тебя барышня спрашивает.
Тиллим мгновенно выскочил из своего укрытия, едва не опрокинув кресло. Он схватил учебник химии и уселся за стол, изображая глубокое погружение в предмет. «Неужели Оля мириться пришла?! Значит, все по-прежнему? А я-то тоже вздумал — обижаться… Какое счастье!»
Однако вместо подруги-фантазерки, в картинной позе, позаимствованной из западного фильма — облокотившись о дверной косяк и отставив в сторону ножку, — на пороге встала… Юля Григорович!
— Красота идет спасать мир! Я — фея хорошего настроения, — заявила она, попутно с любопытством разглядывая Тиллимову комнату. Взгляд Юли, не задерживаясь, пробежал по корешкам книг, по «Библиотеке всемирной литературы».
— «Всемирна»?.. У нас дома тоже есть. Ты много из нее прочитал?
— Пока нет, но читаю понемногу, — сказал Тиллим тоном, не располагающим к общению.
Приковал Юлино внимание и большой фотоплакат с обложки альбома «Abbey Road»: четыре легендарных музыканта широко шагали через Аббатскую дорогу.
— Балдеж! Я тоже битлов люблю… — Она заглянула мальчику через плечо. — Что делаем? А-а… Физика! Нет, это не мое…
— Вообще-то, это химия, — равнодушно заметил мальчик.
— Без разницы. А задача по физике для меня беда и выглядит таким образом: «Летело два слона — один синий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если черепахе двадцать шесть лет»… А я думала, ты мучаешься над сложным личным выбором: заново или новая. Запомни: чем меньше ты паришься, тем ты счастливее!
Юля на цыпочках подошла к однокласснику, дотронулась до него пальцем, заглянула в глаза, не опуская своих длинных черных ресниц:
— А мне все говорят, что я умна и красива…
— Ну что ты все время из себя строишь? — с досадой сказал порозовевший Тиллим. — Ты же не такая…
Он отложил ненужный учебник химии в сторону и подошел к мольберту. На нем красовался яркий рисунок гуашью: ливерпульская четверка, словно пытаясь обнять весь мир, стояла на капитанском мостике желтой подводной лодки.
— Это ты какой-то не такой!!! А я — индивидуальность.
Незваная гостья артистичным жестом взяла кисточку и, обмакнув ее в травянисто-зеленую краску, бросила дерзкий мазок на самый центр лодки. По желтому фону расплылось пятно, формой похожее на лягушку.
— А помнишь, как мы с тобой дуэтом расписывали зимой стекла в трамвае?.. Я назвала тебя почемучкой, а ты, конечно, обиделся, да?
Мальчик спокойно отвел от мольберта Юлину руку, но Юля снова приблизилась к Тиллиму вплотную:
— Как говорил великий Леннон, время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным… — Перейдя на шепот, она игриво добавила: — Как хорошо быть одному, но как хорошо, когда есть кто-то, кому можно рассказать, как хорошо быть одному. Верно?.. А ты мне нравишься… Ты вообще целоваться-то умеешь?
Тиллим стал красным, как вареный рак, и отшатнулся. Целоваться он действительно не умел, а с Григорович и не хотел, даже боялся.
— Ну что ты комплексуешь, — не отставала Юля, наступая на мальчика и жарко дыша ему прямо в лицо. — Не стесняйся, дурачок! Расскажи мне, какой ты на самом деле!
Она взяла руку Тиллима выше локтя и подтолкнула его в угол, к мягкому креслу. Застывший Тиллим, не отрываясь, глядел на Олино фото, стоявшее в книжном шкафу. Юля подошла к шкафу и, отодвинув стекло, повернула фотографию лицом к «Всемирной литературе».
— Ну ты даешь! Вообще обалдел — уставился на нее, как на икону. — Тонким пальчиком начинающей пианистки Юля небрежно указала в сторону фото. — Вот эта считает, что она лучше всех. А ведь лучше всех — я! Судьба подарила тебе меня, а такими подарками не разбрасываются. — Девочка повернулась так, чтобы видеть себя в большом старинном зеркале-трюмо. — Чем больше ты жертвуешь собой, тем меньше это ценится… — выдвинув стул на середину комнаты и усевшись нога на ногу, назидательно произнесла она. — Видишь теперь, что это за штучка? Сама оценки подделала, а на тебя свалила! От такой не жди ничего хорошего… Так ты теперь станешь дружить со мной?
— Нет! И никогда не говори неправду… А сейчас, пожалуйста, уходи, Юля, — твердо ответил Тиллим, подавив желание сказать что-нибудь грубое. — Я не хочу и не буду с тобой дружить! Неужели не понятно?
— Ну как знаешь… — растерявшись, недобро протянула девица, по-взрослому оправляя водолазку и медленно поднимаясь со стула. Она повернулась и напоследок вполголоса с вызовом сообщила: — Да за мной полшколы бегает! Все, упустил ты свое счастье, малыш, я была дана тебе Богом!
— Только вот не знаю, за какие грехи, — с грустной иронией вздохнул Тиллим.
— Если судьба свела тебя со мной, значит, точно пришло время платить за грехи. Не люблю людей, которые считают, что они лучше всех. — Напоследок Юля опять подошла к зеркалу. — Смотрю на себя… вроде ничё так… красивая… Подхожу ближе, присматриваюсь… Мама моя… БОГИНЯ! Венец человеческого творения!
— А я сейчас умру от восхищения… Уходи же! — Тиллим готов был вытолкать наглую девчонку за дверь, но та все не унималась, все больше обнажала свое подлинное «я», задерживаясь в чужом доме:
— Мне кажется, что вы больны не мной… Мне кажется, что вы больны душевно… Ты знаешь, Тильтиль, у меня нет вредных привычек, у меня есть привычка вредничать. Загадочная девушка загадит жизнь любому парню, а если не успеет, то придет догадливая — догадит!
«Тильтиль! Бабушку подслушала. Подумаешь, синяя птица!» — возмутился про себя мальчик.
После досадной размолвки прошла не одна неделя. К удивлению домашних и соседей по двору, Тиллим неожиданно увлекся бегом трусцой. Секрет был прост: Оля хоть и жила в доме напротив, но этот новый небоскреб был служебным, и от общего двора его отделяла невысокая металлическая ограда, а в подъезде сидела консьержка, которая всегда была в курсе, кого жильцы не желают видеть. В один из дней, когда мальчику было особенно одиноко и тоскливо, он собрался явиться к даме сердца для решительного разговора, но суровая тетка в строгом костюме отрезала: «Тебя пускать не велено!»
Тиллиму оставались только ежеутренние пробежки вдоль ограды-решетки. Пробегая под окнами Олиной квартиры, мальчик всегда смотрел, не горит ли свет в ее комнате, гадая — проснулась она уже или досматривает последние сны. Однажды ему особенно повезло: за оранжевой занавеской Тиллим увидел знакомый силуэт с трогательным хвостиком на затылке. На следующий день ему повезло еще больше: он встретил Олину маму, выходящую с тортом из булочной, что была по соседству с четырнадцатиэтажкой. «Никогда не пил чаю лучше, чем у них!» — поймал себя на мысли Тиллим. Прежде чем сказать ей на бегу почтительно-благодарное «здравствуйте», он не смог удержаться, притормозил и послал воздушный поцелуй милому Олиному окну.
Когда пришли наконец весенние дни, солнышко не только пригрело землю, асфальт и городские стены, не только растопило снег — на деревьях набухли почки, а людские сердца забились сильнее, с новой надеждой. Вот и Тиллиму так захотелось, радуясь свету и первому теплу, гулять вдвоем с Олей по улицам, слушая, как журчат ручейки и перекликаются с песнями «Битлз» в наушниках, которые можно без труда разделить на двоих. Тогда отвергнутый рыцарь решился на отчаянный романтический шаг. Сэкономив деньги, которые родители давали ему на вкусные пирожки с повидлом и «детское» молоко в розово-белых пирамидках из школьного буфета, в день 8-го марта он купил веточку мимозы и большую плитку черного шоколада. На обертку он приклеил резиновым клеем листок бумаги по размеру плитки и по вертикали красным фломастером крупными буквами написал: «Олечке», а затем каждую букву расшифровал: О-баятельной, Л-асковой, Е-стественной, Ч-арующей, К-расивой, Е-динственной — и подписался: «От Тиллима and „The Beatles“». Затем, умудрившись пробраться незамеченным мимо дремлющей консьержки, он опустил подарок в знакомый почтовый ящик. Наутро, вынимая свежие газеты, обнаружил и цветы, и шоколад в ящике у себя. «Привет весны» был аккуратно завернут в полиэтиленовый пакетик.
В школе Тиллим чувствовал, что «его» Оля становится совсем не такой, как раньше, какой-то чужой — еще зимой она, не сказав ни слова, пересела за парту к Матусевичу и теперь с каждым днем все больше и больше отдалялась от него. Как же это было обидно, да просто нестерпимо! Любимую музыку он теперь слушал один: и минорные концерты открытого им для себя этой весной Вивальди, и старых верных друзей — четырех парней с гитарами из Ливерпуля.
Порядок в своей любимой, еще недавно такой уютной комнатке он наводить перестал. Книги и тетради, диски и художественные принадлежности, игрушки и даже одежда валялись где попало, а Тиллиму стало вдруг безразлично, на каких местах что находится и сколько дней он у себя не подметал и не вытирал пыль. Бабушка Лёка, понимая, что в жизни внука происходит что-то не то, жалела его и в то же время не могла не стыдить:
— Что ж это у тебя творится, Тильтиль? В комнату заглянуть страшно. Вот и друзья к тебе перестали заходить. Неудивительно — такой бедлам! Я не знаю, что там у тебя за неприятности, но нельзя же так отчаиваться. Все мечтаешь, романтик ты наш, витаешь где-то, но неужели ты веришь, что в такую грязь может прилететь Синяя Птица Счастья?
В ответ единственный внук только вздыхал и грустно улыбался, а в комнате по-прежнему царил беспорядок, как и у него в сердце.
— Ты бы хоть посуду иногда помыл, что ли, или кота покормил бы — так за тобой и увивается! — не отставала бабушка. — Приди в себя, рыцарь печального образа!
VI
Однажды после ужина Тиллим все-таки осознал: чтобы преодолеть мрачное состояние духа, надо, пожалуй, привести в порядок «среду обитания». Он сидел на тахте и, прищурившись, рассматривал пол, стены и потолок, пока не убедился, что не знает, за что взяться первым делом. Наконец Тиллим решил: все равно с чего начинать, лишь бы начать, а там вещи сами помогут найти свои места. Расположившись на ковре, он устроил торжественный сбор своих оловянных полков (игра в солдатики была одним из его увлечений). Вот рать князя Александра в шишаках и кольчугах, с заостренными щитами и недлинными прямыми мечами дружно улеглась в картонную коробку. Следом за новгородскими ратниками туда же последовали крестоносцы-тевтоны в рогатых шлемах, у которых даже кони были закованы в доспехи. Верховный главнокомандующий Тиллим закрыл их казарму крышкой с соответствующей этикеткой «Ледовое побоище» и понял, что остальные войска так и останутся разбросанными по ковру — возиться с ними дальше не было ни желания, ни воли.
Кот Кир — чистокровный перс — тем временем важно прошествовал из коридора к хозяину, задрав хвост-опахало и мягко переставляя задние лапы в необъятных мохнатых шальварах. Мальчику, уже улегшемуся на тахту, достаточно было лишь печально посмотреть на пушистого питомца, как тот с персидским приветствием «Ур-р-мау!» запрыгнул ему прямо на грудь и стал тереться приплюснутым носом о щеку. Кир, как некий заводной механизм, мурлыкал все громче и самозабвеннее, но в этой кошачьей ласке все яснее звучало нечто вроде: «Н-ну покор-рми, н-ну покор-рми, н-ну…»
Тиллим не заметил, как настойчивое мелодичное урчание постепенно преобразовалось в отчетливое жужжание, и он услышал знакомый «пароль»:
— Жу-жу-жу — я с тобой друж-жу!
— Beatles Forever, — едва слышно, тоскливо отозвался юный битломан, интуитивно сообразив, что приветствовать британских гостей следует именно так.
— Hello, friend! — Джон Леннон добродушно хлопнул Тиллима по плечу. — У тебя опять проблемы? Ты, наверное, забыл, что верные друзья, которые рядом даже тогда, когда ты и не подозреваешь, всегда готовы помочь.
— Если есть друзья, считай, твоих бед уже наполовину нет! — добавил Пол.
— Особенно, — без ложной скромности заметил Джордж, — если эти друзья — мы и у нас при себе гитары.
— А ударная установка в этом деле, может, даже еще важнее! — Барабанные палочки в пальцах Ринго завертелись так, будто он заправский жонглер и эквилибрист.
На этот раз «Битлз» были в строгих черных костюмах, застегнутых под горло, — из небольших круглых вырезов виднелись только белоснежные воротнички и узкие, туго повязанные галстуки.
Улыбаясь улыбкой неудачника, Тиллим продолжал лежать на тахте и только немного приподнял голову с подушки.
— Итак, жизнь преподносит сюрпризы, — не без иронии заметил Джон, читая по глазам. — Не падай духом, парень, ушибешься…
— Угу. Настроение у меня не фиалками пахнет, знаете…
Тут Джон куда-то удалился, впрочем, Пол был не менее проницателен:
— Понимаю, она не хочет видеть тебя… В личных отношениях от ми-ми-ми до бе-бе-бе один шаг, старина, но, может, не стоит унывать? Никогда не грусти, если даже беда. Улыбнись и скажи: это все ерунда!
Джордж, следуя своей привычке, пустился в философствования:
— Жизнь — книжка с цветными картинками, но всегда с черно-белым текстом… Ты что, поссорился со своей леди? Бывает… Девушки вообще непредсказуемые: сама придумала, сама обиделась.
Последняя фраза явно прозвучала мрачно, и Тиллим хотел было даже отвернуться к стенке, но неисправимый весельчак, отложив в сторону палочки, прошелся колесом по комнате и заставил всех обратить внимание на себя:
— А знаете, что меня удивляет в последнее время? Ни-че-го!!!
— Зато удивляет меня, — произнес Пол, только теперь внимательно приглядевшись к окружающей обстановке и пытаясь пробудить у Тиллима волю к действию. — Похоже, ты собрался выращивать здесь мухоморы, старик?? Сам раскис, развалился тут, и вокруг все стало безразлично?
Мальчик обиженно встрепенулся, чуть не плача:
— А за что меня жизнь наказывает? Я хотел как лучше, и вот…
— Все, что происходит в нашей жизни, к лучшему! — продолжил Пол. — Жизнь, как езда на велосипеде — если тебе тяжело, значит, ты идешь на подъем.
Джордж тут же поспешил дополнить:
— И будь благодарен проблемам, приятель, — они показывают, чего ты стоишь.
Тиллим внимательно прислушивался к мудрым словам, уже сидя, но все еще хмурясь.
— Парни, да что вы все поучаете — другу плохо! Мы явились делать добро, а не мораль читать, — громко заявил Ринго. — Вот вернется Джон, и тогда…
— Я уже здесь! — послышалось из коридора. Джон вошел в комнату в бабушкином переднике, с веником и совком в руках. — Спешу делать добро… А ты все купаешься в несчастье, малыш? Чтобы стать счастливым, можно найти сто причин, но чтобы стать несчастным, нам хватает одной. Займись-ка игрушками и книгами, а я пока поиграю с веником. Дела здесь много — на всех хватит!
И уборка закипела. У Тиллима откуда-то появился азарт: он быстро собрал оставшихся солдатиков, разложил тетради, расставил по полкам книжки и даже протер корешки от пыли. Каждый выбрал какое-нибудь полезное занятие.
Наконец, через полчаса битлы поспешили отрапортовать хозяину квартиры о своих добрых делах.
— Все подмел! — Джон, довольный уборкой, отряхивал руки.
— Посуду на кухне вымыл! — молодцевато доложил Пол.
— Я вынес мусор, — без затей сказал Джордж.
Ринго, держа довольно мурлыкающего, похожего на пышную меховую шапку Кира, сам с удовольствием почти промурлыкал:
— А я вот — кота покормил!
Тиллим, обрадованный тем, что у него такие заботливые друзья, принес из буфета вазочку с конфетами «Белочка» и поставил на журнальный столик:
— Угощайтесь! Это вкусно.
Разглядывая цветные фантики и облизывая пальцы, битлы делились новыми впечатлениями.
— Ну как тебе русская конфета? — поинтересовался Пол у Джона.
Тот, прикрыв глаза от удовольствия, показал на рот:
— Ой, тает просто! Будто всю жизнь там была.
Вдоволь наевшись сластей и налюбовавшись наведенным порядком, музыканты о чем-то посоветовались, и Джон торжественно подозвал Тиллима:
— Теперь, дружище, ты должен сделать что-нибудь очень важное и приятное для своей девушки. Ты ведь и сам этого хочешь?
— Хочу! — не задумываясь, признался мальчик.
Леннон указал на висящую на стене простенькую потертую гитару.
— Возьми-ка скорей! Спустимся во двор — споем под окнами твоей подруги! — он подмигнул. — Мы ведь помним, где она живет.
Мальчик неловко улыбнулся, дескать, какое там, все расстроено — и инструмент, и голос, и душа, музыкант из него никакой, да и подруга не с ним, но Джон щедрым жестом уже протягивал ему профессиональную электрогитару. Битлы никаких возражений и слышать не хотели, а Пол еще и подбодрил:
— Всегда верь в себя, потому что если ты не поверишь, то как же поверит она? Идем-идем, старина!
Компания мигом слетела по лестнице (кто-то даже лихо съехал по перилам). Как по волшебству, для опального рыцаря Тиллима исчезли все досадные препятствия, все преграды на пути. И вот он уже перемахнул железную решетку перед Олиным домом и оказался на зеленеющей лужайке-проталине с инструментом самого Леннона в руках, в окружении лучшего рок-квартета на свете.
— И что делать теперь? — коротко спросил Тиллим.
Джон ответил ему так, как мог ответить только первый битл:
— Люби — как будто тебе никогда не причиняли боль.
— Танцуй — как будто никто не смотрит, — тут же добавил Пол.
Джордж многозначительно прошептал:
— Пой — как будто никто не слышит!
Ринго тоже не упустил возможности сказать свое веское слово:
— Живи — как будто на земле РАЙ!

Конечно, первые аккорды взяли битлы, но Тиллим, как ни странно, поддержал их, точно всегда играл на такой роскошной гитаре. «Пой первым голосом!» — дружески похлопал его по плечу Пол. И вот уже зазвучала «Yesterday», и Тиллима было очень неплохо слышно на фоне сыгранного квартета. Может быть, поэтому там, в высоте, на пятом этаже вдруг открылась балконная дверь, и он увидел свою Олю. Она стояла на балконе и, облокотившись о перила, с улыбкой слушала его! Битлы пропели первый куплет. И тут Тиллим понял, что от волнения забыл слова второго. Он взглянул на Пола в отчаянной надежде на помощь… но тот сам растерянно втянул голову в плечи и, сделав большие глаза, прошептал:
— Я тоже забыл!..
Музыканты уже заканчивали играть второй куплет.
— Что делать?! — чуть не заплакал Тиллим.
— Как обычно, когда забываем слова, — улыбаемся и машем! — расплывшись в улыбке, ответил Пол, повернулся к балкону, приветственно помахал рукой и послал юной леди воздушный поцелуй.
По окончании двух куплетов на выручку подоспел Джон, он стал напевать, и все подхватили хором, вернувшись к началу второго.
Лицо дамы сердца лучилось чудесным светом, а мальчик пел о своем чувстве, о том, что оно вот-вот задохнется и увянет, как первоцвет-подснежник, если «лучшая девочка в мире» не будет даже смотреть в его сторону, будто они никогда и не дружили.
Сколько раз он раньше напевал эту замечательную песню, но теперь, поддержанный звездами, впервые сам по-настоящему солировал, слова шли прямо из сердца, и песня звучала как настоящая серенада средневекового рыцаря-менестреля. Все было славно — даже какие-то пичужки в соседних кустах подпевали знаменитому ансамблю в необычном, расширенном составе! Но вот финальный аккорд, серенада кончилась. Все пятеро задрали головы вверх. Ливерпульские парни понимающе закивали, хлопая Тиллима по плечу и что-то говоря, но он ничего не слышал — на пятом этаже погас свет. Только теперь Тиллим разобрал доносящееся уже откуда-то издалека, точно с небес, прощальное ленноновское напутствие:
— Смотри вперед с надеждой, назад с благодарностью, вверх с верой, по сторонам — с ЛЮБОВЬЮ…
Так промелькнул очередной чудесный сон мальчика.
Открыв глаза, он увидел в ранних лучах солнца, как преобразилась за ночь комната: в ней теперь действительно царили идеальный английский порядок и необыкновенная, музыкальная тишина. На журнальном столике стояла хрустальная вазочка с единственной оставшейся на память шоколадной конфетой…
VII
Вскоре после того дня Тиллим ехал в районную библиотеку. И надо же было такому случиться, что это оказался не только тот же маршрут, но и тот же самый «зимний» трамвай, где он впервые увидел Юлю Григорович! Он даже занял то место в салоне, что и в декабре. Они с Юлей изрисовали тогда все окна. Кажется, она сидела вон там…
Не может быть!
На втором кресле в левом ряду и в самом деле сидела Юля. Она все так же водила пальцем по стеклу, только теперь не по замерзшему, а по запотевшему. Сначала Тиллиму показалось, что не было этих месяцев и декабрьская поездка не кончалась, потом появилось такое ощущение, что рядом кто-то включил машину времени. Кажется, по научному подобное явление называется дежавю, это что-то по-французски — в общем, когда события повторяются, совпадая до малейших деталей.
Подросток в первый момент растерялся, но быстро решил: «Сделаю вид, что ее не замечаю».
Но тут Юля, улыбаясь, обернулась и сама подошла к Тиллиму, кокетливо выставив вперед ножку в элегантной обновке.
— Все-таки я настоящая девушка: вышла за хлебом, а купила красивые туфельки.
Тиллим молча смотрел на нее. Девочка подошла вплотную и попыталась загипнотизировать его взглядом огромных карих глаз. Так они и смотрели друг на друга, не моргая.
— Ну и сколько мне еще смотреть на тебя, чтобы ты простил? — наконец прервала молчание Юля. — Ты знаешь, что у каждой девушки есть тараканы в голове. И у тараканов некоторых девушек есть свои тараканы. И должен понимать, что талантливые люди все делают талантливо, в том числе и глупости. Извини, что я тебе тогда наговорила: девушки хотят, чтобы все было так, как они хотят, — сказала она, как-то по-особенному пристально глядя на него. — Я все поняла, мы никогда не станем друзьями. Надеюсь, ты не будешь держать на меня зла.
Изумленный Тиллим вдруг почувствовал легкое головокружение и пробурчал что-то неразборчивое насчет того, что не злопамятен и не разменивается на мелкие обиды.
— Ты куда, в библиотеку? Я тоже, — бойко продолжила Юля. — А у тебя все получится с Ольгой. И никогда не забывай правило трех «и».
— Давай лучше оставим эту тему, — угрюмо сказал Тиллим.
— Тиля, не обижайся, пойми: любой новый человек в нашей жизни появляется именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несет.
— Да ладно. Спасибо тебе за урок. Наверно, ты права. — Тиллим задумался и неожиданно спросил: — А что
за правило такое — трех «и»?
— Нет. Ничего. Невозможного, — отчетливо произнесла она.
И залилась звонким смехом. Даже пассажиры оглянулись.
Библиотека была уже на следующей остановке. Юля, начав спускаться по ступенькам, ойкнула и схватилась за ногу. Лицо ее страдальчески сморщилось, но равновесие девочка удержала. Тиллим помог ей спуститься на тротуар.
— Что с тобой? — испугался участливый мальчик.
— Ой, нога! С ногой что-то! Не могу наступить! — жалобно стонала Юля.
— Ты ее, наверно, подвернула! У меня такое было на физкультуре. Может быть, вывих или растяжение…
— Ой, наверно! Ужас как больно! — продолжала стонать одноклассница. — Тиль… Тиллим, у меня большая просьба: не мог бы ты проводить меня домой? Дело в том, что шоферу из-за меня попадет, могут даже уволить. Не хочу, чтобы это было на моей совести.
— Выходит, твой персональный шофер тебя отпустил? — поинтересовался Тиллим.
— Сбежала я от него. Что я маленькая — все время под присмотром? Надоело!
Разумеется, Тиллим, как и подобает джентльмену, помог прихрамывающей Юле перейти улицу — к противоположной остановке, поднялся вместе с ней в трамвай и довез до дома, а затем довел до парадной. Но едва вежливый мальчик открыл перед бедняжкой тяжелую дверь, как обманщица звучно чмокнула его в щеку и с радостным смехом проворно взбежала по лестнице. От хромоты мгновенно не осталось и следа!
— Что за глупый розыгрыш? — возмутился Тиллим, с досадой вытирая лицо, и крикнул вдогонку: — У тебя хроническое воспаление хитрости, Григорович!
Тиллим даже не подозревал, насколько близок к истине в своем диагнозе. Буквально на следующий день он получил записку от Оли: «Прошу тебя больше не бегать возле моего дома по утрам!»
«До сих пор мои пробежки ее так не раздражали», — недоумевал вновь отвергнутый рыцарь. На записку он ответил: «Бегать не буду, но прошу о последней встрече. Нам нужно поговорить! А не то буду стоять у твоих окон ночами напролет и петь серенады». Оля с неохотой согласилась именно на «последнюю встречу», мотивируя это тем, что голос Папалексиева для нее даже противнее самого Папалексиева. Зато Тиллим вспомнил еще один предлог и важную причину для разговора. Он снова озаботился тем фактом, что, когда все покинули класс после задымления, там остался дежурный Матусевич. «Кто как не он мог переправить оценки в журнале? Ведь совершенно ясно. Не нужно мне было брать это на себя! Но разве поздно признаться Оле, что обман был ради нее же самой?»
Однако, когда Тиллим пришел к Оле, чтобы объяснить, что не переправлял никаких оценок и даже не имеет ни малейшего представления, кто это сделал, а свой обман считает спасительным, он был немедленно выставлен за дверь.
«Обман не бывает во спасение! А ты, Папалексиев, еще хуже, чем я думала! Мы были бы отличной парой, если бы не ты… — заявила Оля. — И такого подлеца я считала своим другом. Иди к своей Юле, и чтоб духу твоего здесь не было!»
Вслед за Тиллимом на лестничную площадку вылетел конверт. Тиллим поднял его с холодного бетонного пола: внутри была фотография. Неизвестный фотограф-любитель запечатлел именно тот момент, когда Юля Григорович поцеловала Тиллима в дверях своего подъезда. На снимке все выглядело так, будто они и в самом деле давно встречаются. «Вот уж действительно от кого не жди ничего хорошего! А с виду просто паинька! — ужаснулся Тиллим. — Да что теперь изменишь? Перед Олей оправдываться бесполезно».
Очередное сочинение на тему «„Евгений Онегин“ как энциклопедия русской жизни» и Оля, и Тиллим написали лучше всех в классе. Их работы были не только заслуженно оценены высшим баллом, но и отправлены на городскую литературную олимпиаду школьников. Ирина Юрьевна высоко несла знамя русской словесности, не превращая свой предмет в скопление запыленных штампов, и никому не навязывала даже своих собственных, вполне достойных внимания трактовок. К тому же спор на уроке с ушедшей после больницы на заслуженный отдых Верой Напалмовной успел уже подзабыться. Вопрос об отчислении свободомыслящих учеников окончательно отпал, а решение об их поездке на экзотическое Черноморское побережье было принято, как и предполагалось, после особого отбора. Руководство школы провело традиционную выставку художественных работ будущих восьмиклассников. Оля и Тиллим, никогда не имевшие по живописи, рисунку и композиции оценки ниже «пятерки», оказались на итоговой выставке вне конкуренции и выше всяких похвал. Только после этого творческого просмотра администрация составила из двух восьмых классов безупречную сборную в тридцать человек. Таким образом фамилии Штукарь и Папалексиев появились в списке тех, кто едет на летнюю практику в Новый Афон. Там же Тиллим, разумеется, увидел и фамилию Матусевича, что его просто возмутило, но он решил больше не пачкаться и никому не напоминать отвратительную историю.
События, окончательно прояснившие, откуда взялись поддельные оценки в классном журнале, произошли без всякого участия того, кто принял на себя обвинение в подлоге. Школьная уборщица, в просторечии техничка, вышла как-то на работу чуть раньше обычного. Открыв дверь в учительскую, тетя Валя, как ее звали все ученики и даже некоторые из учителей, оказалась свидетелем «сущего форменного безобразия». Серенький троечник Лопаев, из которого на уроке трудно было вытянуть и слово, расположившись за секретарским столом, увлеченно что-то исправлял в классном журнале 7-го «А». Будучи застигнутым врасплох, он сперва хотел спрятаться под столом, а затем убедить вошедшую, что он «тут вообще ничего и просто так — случайно заглянул». Потом, сорвавшись с места, Лопаев попытался шмыгнуть в дверь, но не учел реакции и боевых качеств бывшей районной чемпионки по вольной борьбе (да и откуда ему было знать о спортивных заслугах тети Вали!). Техничка Валентина Георгиевна одним приемом втолкнула безобразника назад в учительскую, после чего закрыла дверь на ключ и позвонила домой школьному руководству.
Представ пред грозные очи оторванного от завтрака директора, хулиган признался, что изобразил неучтенные пятерки Оле и Тиллиму по просьбе Григорович. Для этого он же устроил и дымовуху. Григорович в качестве благодарности за этот неэтичный поступок согласилась, дескать, стать его девушкой и пообещала ему подтвердить, что она была свидетелем, как все эти безобразия творил Матусевич, нужно только посмотреть по графику, когда тот дежурит по классу, и в этот день действовать. В результате Шурика со скандалом выгонят из школы, а Лопаев вернет себе лавры лидера и удовлетворит свое ущемленное самолюбие. Это было бы местью каратисту, который, по словам переростка, победил в нечестном бою, ударив его чем-то сзади.
Юля, как признался Лопаев, использовала его в своей грязной игре. Парень чуть не плакал, рассказывая директору о том, как изменница на вопрос, почему она не стала его девушкой, выдала ему буквально следующее: «Девушка сказала — девушка сделала, если девушка сказала и не сделала, значит девушка просто по-шу-ти-ла. Гуд бай, дурашка!» Досталось и Тиллиму с Олей, на которых она свалила всю вину, потому что черной завистью завидовала их дружбе.
За подобные подвиги заказного мастера на все руки сначала хотели отчислить из школы, но потом, по соображениям щадящей педагогики, все-таки дали ему исправительный срок до конца учебного года. Зато фактической виновнице «сущего форменного безобразия» пай-девочке Юле после беседы профсоюзного босса Григоровича с директором не было сделано даже выговора, даже замечания в дневник для порядка не записали. Педсовету на вопрос, как она могла так подло поступить, всех обманув, девочка, уже зная, что всемогущий папа прикрыл ее, цинично заявила: «Я всегда говорю правду и только правду! Другое дело, что правд у меня очень много».
«Правд» у Юли действительно хватило бы на все случаи жизни.
После всей этой скандально-детективной истории Оля Штукарь и Тиллим Папалексиев были окончательно реабилитированы, но их трогательная дружба, в отличие от репутации, по-прежнему оставалась для всего класса только красивой романтической былью. Саша Матусевич окончательно забыл о подруге детства и любимице его родителей Юлечке. Ему было вполне уютно на месте Тиллима, которое он прочно занял. Самой Юле досталась по заслугам роль всеми отвергнутой, и она, уже ни на кого не заглядываясь, демонстративно пребывала в гордом одиночестве.
Часть вторая
Страна Чудес
I
Авиалайнер «ТУ-154» с полными самых радостных и волнующих предчувствий учениками теперь уже восьмых классов Челябинской средней школы с литературно-художественным уклоном совершил посадку в сочинском аэропорту «Адлер». Многие ребята в первый раз летели самолетом, да и так далеко от родного города тоже оказались впервые. И, конечно, этот перелет уже был для всех событием. Здесь, в Сочи, их встречал туристический автобус, чтобы отвезти еще дальше вдоль курортного черноморского побережья — в Грузию, а точнее, в загадочную Абхазию.
Большинство уральских школьников никогда не видели ни настоящего моря, ни теплого Юга (пускай это и называлось на уроках географии субтропиками, но ведь малопонятное слово «субтропики» в восприятии подростка — уже почти волнующе-магическое «тропики», настоящая экзотика из приключенческих романов, а это ох как много значит для юного творческого воображения!). К тому же место, где они должны были остановиться, именовалось Новым Афоном, и в сознании многих детей-художников это название логично ассоциировалось с Грецией, античностью и искусством классики, гипсовых слепков с произведений которой было немало в их школе (собственно, это был главный материал для обучения академическому рисунку), и вот теперь ребятам предстояло соприкоснуться с таинственной землей, овеянной преданиями древности и полной высокохудожественных образов.
В Новом Афоне школьникам обещали проживание на турбазе-пансионате, почти в настоящей гостинице — как во взрослой жизни! Руководители поездки, преподаватели школы и сотрудники бюро путешествий и экскурсий предполагали совместить здоровый отдых на Кавказском побережье — теплые купания, солнечные ванны и здешние фрукты — с учебно-художественной практикой «на пленэре», на лоне романтически-живописной южной природы. К тому же, если еще учесть, что этот месяц предстояло провести не в четырех стенах в загазованном каменном городе, а на самом настоящем морском берегу, где веют ветры дальних странствий и нет унылой опеки родителей и прочих домашних, ребят наверняка ожидали взаправдашние приключения со всякими неожиданностями и яркими, незабываемыми впечатлениями. Что и говорить — хорошенько отдохнуть и поупражняться в творчестве в субтропическом курортном раю среди пышных пальм, золотых пляжей и умных дельфинов было бы по-настоящему здорово!
Наконец почувствовав после непривычного трехчасового пребывания в воздухе твердую землю под ногами, челябинские школьники с энтузиазмом бросились занимать места и размещать багаж в турэкспрессе — комфортабельном «икарусе». Их не могли успокоить ни классная руководительница Людмила Николаевна, которую за глаза все называли просто Людмилой, ни даже преподаватель живописи и рисунка Евгений Александрович, назначенный ей в помощь на время поездки, единственный взрослый мужчина в группе. Один Тиллим Папалексиев предавался грусти. Ему приходилось испытывать мучительное и недоброе чувство — ревность. Тиллим едва подавил в себе горестный вздох, когда увидел, как очаровательная Оленька вспорхнула через распахнутые дверцы в автобус и с невинным видом поспешила усесться на переднее кресло — рядом с элегантным Сашей.
В это же время другая признанная классная красотка — Юля, наоборот, устроилась со своей компанией на длинном сиденье в задней части салона со словами: «Когда красивым налево, а умным направо, то мне хоть разорвись». (Людмила Николаевна по старой школьной традиции назвала их места Камчаткой, точно это были не мягкие, в красивых цветастых чехлах, удобные сиденья, а задние парты в классе — подальше от доски и учителя.) Юля даже приветливо помахала Тиллиму рукой: дескать, иди к нам, у нас есть еще свободное местечко, но что было до ее приглашения бедному влюбленному, если его опять демонстративно проигнорировала дама сердца…
Тиллим растерянно заметался, ища уединения где-нибудь в середине салона, подальше от мозолившей ему глаза парочки, но озорные девчонки (в школе их было куда больше мальчишек), ворвавшись в «икарус» целой стайкой, смели замешкавшегося Тилю, как картонную коробку — упаковку из-под пломбира за сорок восемь копеек. Пришлось Тиллиму плюхнуться на место как раз за Олей и Сашей и волей-неволей слушать их высокоинтеллектуальные разговоры обо всем и ни о чем.
Позер Саша, как всегда, давал всем понять, что из особо одаренных он — самый одаренный. «Родительское воспитание!» — разводили руками учителя. В основном это выражалось во внешнем виде и высокомерной манере поведения.
— Вы видите мою одежду, но не мою душу. Вы знаете мое имя, но не мою историю. Самое печальное то, что вам этого достаточно! — восклицал Шурик с видом человека, много повидавшего в жизни.
На этот раз еще в аэропорту Матусевич, убил всех кожаной шляпой с полями — настоящей ковбойской, как в фильмах у Верной Руки или Крокодила Данди. Сам он с нарочитой небрежностью пояснил:
— Подарок американских друзей.
Что это были за друзья, Шурик загадочно умалчивал, но крутой шляпой дорожил. Из-за нее, между прочим, автобус провел в пути лишний час. После остановки на обед в кафе с мангалом у поворота на приморскую трассу все вернулись в автобус, и только когда уже порядочно отъехали от места, обнаружилась пропажа пижонской шляпы. Расстроенный «ковбой» тут же заявил, что ее «сперли» или кто-нибудь спрятал «из зависти», и, вдруг вспомнив, что сам оставил свой «раритет» висеть в «салуне» на спинке пластмассового стульчика, нисколько не смутившись, потребовал от водителя срочно туда вернуться. Пришлось уступить «пацану» во избежание истерики, а Шурик и вправду не успокоился, пока снова не оказался в шляпе. Даже не думая извиняться перед сборной восьмых классов и учителями (не говоря уже о шофере) за задержку, он громко, точно в назидание окружающим, выдал:
— Вот теперь все опять на своих местах! Любую ошибку можно исправить, чего бы это ни стоило… — и повелительно добавил: — Трогай, шеф!
Водитель громко хмыкнул, не зная, как реагировать на такую наглость, да еще из уст молокососа, но изо всех сил газанул. Людмила Николаевна чуть не подавилась абрикосовой косточкой, а все восьмиклассники красноречиво промолчали: каждый предпочитал разглядывать что-нибудь любопытное за автобусным стеклом. Матусевич же как ни в чем не бывало продолжил вещать на весь салон, старательно копируя интонации знающего себе цену взрослого человека:
— Я вообще-то пацифист и категорически против насилия и жестокости, но я убежден, что мужчина обязан уметь защитить себя и своих близких… — («Это еще к чему? — удивился Тиллим. — Как обычно, выпендривается!») — …в любой момент, когда это потребуется. В Мозамбике я посещал занятия по каратэ. Традиционная японская борьба, философия, образ жизни — все вместе… Так вот, в Мапуту я брал уроки каратэ, причем не спортивный, попсовый вариант, а настоящий — боевой. Фулл-контакт называется. Там ему учат всех телохранителей и полицейских, ну и мне предки устроили. Я, знаете, не люблю детские забавы. Приходилось работать по-взрослому — в спарринге… Нет, против одного или даже двух человек и выходить не буду — скучно и несерьезно. Только против пяти одновременно. Взрослых, конечно, — избиением младенцев не занимаюсь.
— А если бешеная собака, Шурик? — спросил кто-то из мальчишек.
— Ноу проблем! С собакой я справлюсь одним ударом, — снисходительно улыбнулся Матусевич. — Главное, знать летальную точку. У них слабое место — нос. Я просто ударю ее вот так, — и он ребром изящной ладони картинно ударил о подлокотник мягкого кресла, — и о-кей! Но это тоже скучно…
Тиллиму было неприятно и неумеренное хвастовство соперника, и глуповатый подростковый гогот. Он достал заветный плеер, но поставил не «Битлз», а кассету со ставшими за последнее время любимыми «Четырьмя временами года» Вивальди в исполнении «Виртуозов Рима». Чтобы не видеть, как его Оля внимает завиральным Шуркиным бредням, он еще и отвернулся к окну. Таким образом, погрузившись в высокую гармонию классики, Тиллим принялся созерцать пейзаж за стеклом.
Для Тиллима все здесь было непривычно и необычно: остроконечные, тянущиеся в высоту кипарисы и пирамидальные тополя, кустики туи вдоль асфальта — будто те же кипарисы, но карликовые (мальчик слышал, что у японцев есть особое искусство создания миниатюрных пейзажей и называется оно «бонсай»), здесь и сосны были какие-то необычные, с длинной хвоей, и незнакомые кустарники, все в цвету — белые, нежно-розовые, пурпурно-красные. Иногда прямо к дороге подходили фруктовые сады: плоды часто перевешивались через ограду — только срывай!
Вот за стеклом обширный парк. Судя по тому, какое разнообразие экзотической растительности манило из-за ограды, Тиллим сообразил, что это местный ботанический сад, и пожалел, что здесь нельзя выйти. Незнакомые, с пестрым оперением, птицы перелетали с куста на куст.
«В парке вполне могут быть ручные павлины, — подумал Тиллим, — вот бы их увидеть… О! Прекрасная идея — подобрать павлинье перо и подарить Оле! Настоящее, радужное, с глазком… Только… Э-эх!» Эта идея настолько захватила Тиллима, что он даже выключил плеер и снял наушники, но в душе еще звучал скрипичный космос гениального Антонио Вивальди. Наконец звуки мира внешнего стали отчетливыми, и мальчик огляделся по сторонам.
Саша и Оля увлеченно разгадывали кроссворд из свежей «Литературки». Шурик нарочито громко зачитывал вопросы и давал верные ответы, желая себя показать. Кроссворд был целиком посвящен античной культуре, что позволяло вызвать у окружающих зависть к богатству духовного мира отгадывающего, блистающего эрудицией.
— Величайший памятник древнегреческой архитектуры, жемчужина афинского Акрополя, — произнес Матусевич и, не давая никому рта раскрыть, тут же сам ответил: — Парфенон. Та-ак-с… — продолжил всезнайка, — великий древнеримский император-полководец, убитый своим ближайшим другом Брутом… Ага! Вижу, что никто не знает. Оля, запиши, пожалуйста: Цезарь… Скукотища!
— Вот интересное, — игриво отозвалась Оля. — Лесная нимфа, превратившаяся в речной тростник, скрываясь от любовных притязаний бога Пана. В память о ней Пан сделал из тростника шестиствольную флейту… Ну как?
Шурик мгновенно покраснел — он не знал ответа, но и признаваться в этом не желал.
— Да, любопытно… Повтори, пожалуйста: я не совсем расслышал… А из скольких букв?
Тут уже не выдержал Тиллим: зачем упускать возможность поставить выскочку на место, да еще на глазах у Оленьки?
— Из семи: Си-рин-га. Бедную девушку звали Сиринга.
Шурик педантично проверил слово, и лицо его от удивления и досады из красного стало белым:
— Пожалуй… По буквам подходит… Что-то знакомое? Откуда знаешь, Папалексиев?
— А ты что, не читал «Метаморфозы» Овидия? — с умным видом спросил Тиллим.
Сам он Овидия не читал, но знал, что у него описаны волшебные превращения античных божеств и героев. Тиллим недавно буквально проглотил «Легенды и мифы Древней Греции» Куна и поэтичную легенду о флейте Пана узнал именно из этой книжки. Он слукавил:
— Я читал это еще в третьем классе, кажется. Жаль, я с тех пор латынь подзабыл — точно процитировать не смогу.
Теперь Оля Штукарь восхищенно, почти совсем как в дни их романтической дружбы, посмотрела на своего по-прежнему верного рыцаря. «А наш Тиля еще, оказывается, почитать любит. Ну ладно: чукча не писатель — чукча читатель… Гимназист, тоже мне!» — презрительно подумал Шурик.
Тиллим, ликуя душой, опять поставил «Времена года» (на этот раз Чайковского) и продолжил изучать причерноморские красоты. Перемахнули через небольшую, но бурную речку («Псоу» — значилось на дорожном указателе), и если бы не названия курортных поселков, обозначавшиеся на табличках не только родным русским, но еще и похожим на красивый замысловатый орнамент алфавитом, да виноградная лоза, причудливо вьющаяся вдоль и поперек кованых и гнутых оград двух-, а то и трехэтажных веселого вида частных домиков, Тиллим не понял бы, что «икарус» уже знай себе колесит по Абхазии. И неудивительно: внутри СССР все границы были условными и уж никак не разделяли жителей разных республик. Иногда хозяева в больших кепках (абхазцы или грузины — кто ж их внешне отличит, кроме разве их самих?) выходили за калитку или прямо из своих розовых цветников, добродушно, во весь белозубый рот улыбаясь, махали вслед турэкспрессу с детьми. Тиллим тоже помахал какому-то бравому седому старику в маленькой войлочной шапочке с кисточкой, на груди которого поблескивали два ордена Славы и медаль «За отвагу» (точно такая же была у Тиллимова дедушки). Челябинскому мальчишке было приятно сознавать, что эти незнакомые люди желают ему добра, и он им тоже, и что это совсем не чужая земля, а просто часть его огромной Родины, великой страны, в которой мощно пульсируют многомиллионные Москва и Ленинград, по-своему шумят Киев и Минск, широко раскинулся Урал с его лесными просторами и самоцветными горами, где дремлет Крайний Север с белыми медведями, полярными льдами, и млеет вот этот солнечный, счастливый, гордый и щедрый край — Кавказ…
Субтропические заросли стали еще гуще — шоссе превратилось в сплошную аллею. В одном месте зоркий глаз Тиллима заметил какие-то старые развалины — арку, груды камней — святилище забытых богов или храм древних христиан, а может быть, остатки чьего-то дворца или крепости. Какую тайну хранят эти руины? Откроют ли когда-нибудь ее людям?
А тем временем уже наступил южный вечер. Только фонари вдоль трассы и бесчисленные звезды над вновь открывшимся справа, мерцающим изумрудно-зелеными светляками бликов морем освещали путь к заветному Новому Афону. Школьников стало клонить в сон.
Неожиданно откуда-то из-под днища автобуса раздался отчетливый хлопок, а затем противный визг тормозов вывел всех из блаженного полусонного состояния.
Водитель Тарас вышел в темноту кавказского вечера посмотреть, «шо там за бесовы дела». Быстро вернувшись, он, почти не нервничая, объяснил школьникам причину остановки:
— Та с колесом там непорядок, — пустяк, а могла и авария случиться. Правое заднее железяка дурная проколола! Та вы не волнуйтеся так — у меня запаска есть, враз сменю! А только кто ж те гвоздюки на дорогу подлаживает? Уж я бы…
Тяжело вздохнув, Тарас буквально проглотил висевшее у него на кончике языка крепкое словцо (городские дети, впрочем, и так удивились непривычному для них южному говору) и поторопился к багажнику. Восьмые, едва сдерживаемые Людмилой Николаевной, тоже табуном рванулись наружу: ребятам, уставшим от долгого сидения в креслах, просто необходимо было размять ноги и руки, покуролесить — порезвиться на свежем воздухе. Воздух здесь был удивительный, точно коктейль из несчетного числа ароматов — щедрый субтропический букет, а если учесть, что к вечеру во влажном климате запахи усиливаются, этот пряный «напиток» стал еще насыщенней и ярче. В смешении незнакомых запахов Тиллим смог выделить только два: запах лаврового листа (его он хорошо знал: так пахло, когда бабушка или мама варили маринады, но здесь был не «сухой», а свежий острый аромат), и медицинский дух эвкалипта, тоже домашний (при кашле и насморке мама заставляла Тилю дышать эвкалиптовыми парами). Еще он уловил разные цветочные и хвойные запахи, но их трудно было отличить друг от друга. Зато Шурик так и сыпал экзотическими названиями из ботаники. Еще бы — в Мозамбике он и не такого нанюхался!
— Вот, Оля, обрати внимание, как благоухает магнолия! Тут еще где-то растут азалия и глициния — я чувствую… Слышишь необычный запах? Так пахнет тамариск… А вот еще мирт! Кстати, когда я жил в Африке…
«Почему ты не остался там еще на несколько лет вместе со своей Юлей, цветовод?!» — чуть не вырвалось у Тиллима. Впрочем, голова и так шла кругом от всех этих волнующих веяний. С непривычки даже заломило в висках. Он, между прочим, где-то читал, что, если оставить в комнате магнолию и лечь спать, утром можно не проснуться — при всей своей красоте этот цветок коварен и бывает убийцей.
Впечатлительному мальчику показалось, что он попал в космос: по сторонам от «икаруса» был уже сплошной мрак. Свернув с трассы и сделав буквально несколько шагов в сторону моря, откуда дул ласковый теплый бриз, или леса, можно было оказаться среди золотистых, голубоватых, даже красных звезд — сойти с земного пути на Млечный! Космическую тишину нарушал только монотонный, нескончаемый стрекот. Тиллим догадался — цикады! Что-то подобное он слышал в деревне у бабушки, когда после заката выходил на июльский луг, но там ведь были только уральские кузнечики, а здесь совсем другое: ничего не стоит представить себе, что находишься в Греции, поблизости от жилища богов — горы Олимпа или чудесного обиталища муз — Парнаса, где тоже пахнет священным миртом и не умолкают цикады…
Вдруг где-то впереди автобуса, в горных зарослях раздался пронзительный жалобный звук — там будто плакал ребенок. Плач прекратился так же неожиданно, как и возник, но все, кто его слышал, насторожились. Неспокойно стало у всех на душе от этого тревожно-завораживающего младенческого крика.
— Ой! Что же там такое может быть? — заволновалась Оля. — Откуда в лесу ребеночку взяться?
Тиллим, даже не успев подумать, каким героическим может показаться его порыв Оле, достав предусмотрительно взятый в путешествие карманный фонарик на батарейках, простодушно предложил:
— Вдруг кому-то нужна наша помощь? Идемте, посмотрим, что там стряслось! Скорее же!
— По-моему, прежде чем что-то делать, нужно хорошенько подумать, — заумничал Матусевич. — Ходить по такой темноте, да еще в незнакомой местности — опасное безрассудство… А может, просто позвоним по девять один один, и пусть разбирается Служба спасения?
Ответом ему было всеобщее удивление, а Тиллим, сообразив, даже возмутился:
— Насмотрелся за границей всякого… Здесь тебе, Шурик, не Африка, и твои американские друзья тоже далеко! Здесь Советский Союз — у нас в беде каждый каждому друг и Служба спасения! Ясно?
Пионеры с фонариками пошли вдоль шоссе в том направлении, где раздавался плач, тщательно освещая кустарники и лес по обочинам. Взрослые пытались руководить. Поблизости ни справа, ни слева никого не было видно — по обе стороны возвышались живые стены из густой листвы и буковых стволов, перевитых к тому же настоящими (как в джунглях!) лианами.
— Ну что ж. Должно быть, нам всем показалось, — поспешила успокоить детей Людмила Николаевна, — даже скорее всего кому-то одному показалось, что кто-то плачет, а остальные убедили себя, будто тоже слышали. Это неудивительно. Известно такое явление, как массовое самовнушение, и…
Людмила не успела договорить, а детский плач раздался снова, но уже где-то позади «икаруса». Теперь было ясно, что никому ничего не показалось.
— Подождите! Вдруг там и вправду малыш-потеряшка? — взволнованно воскликнула с некоторых пор начавшая понимать, что такое страдание и сострадание, Юля Григорович. — Вдруг он как-то выскользнул из машины, а папа с мамой и не заметили… Всякое случается.
— Ага, скажешь тоже! Разве это можно не заметить? — возразил Вася. — Да просто завезли сюда нарочно и выбросили — еще те предки!
Классная руководительница запротестовала:
— Ты что несешь, Алексеев? Так даже думать нельзя!
— А если так и было? И он ползает сейчас по кустам, ему, наверное, страшно… и больно… — захлюпала носом Лиза Орехова.
В сгустившемся душном воздухе повисла зловещая пауза.
— Значит, так, ребята, — отважно произнесла Людмила Николаевна. — Сейчас мы разбиваемся на группы и прочесываем территорию. Далеко не разбредаться!
Тут подал голос помалкивавший до сих пор водитель:
— Вот шо я вам скажу — даже не думайте туда лезти! Лучше вам того не делать, пионэры…
— Это еще почему? Я решительно ничего не понимаю… — растерялась Людмила Николаевна. — Мы же не можем оставить потерянного ребенка!
— Та то ж не живое дитя, разумеете? То мертвая дивчинка себе жертву кличет! — продолжил Тарас на своем смешанном наречии, понизив голос до трагического шепота, а заодно ловко меняя колесо. — Дивчинка та сперва померла, а уж потом обратилась в упыря-кровососа (у нас говорят — вурдалака). Ежли кто ночью заслышит ребячий или девичий рев, пойдет ту дивчинку искать, она того в горы и утащит, в пещеру какую, и шабаш! От человека даже косточки не остается. Вот как бывает-то, держитесь вместе…
Теперь и в стрекоте цикад слышалось что-то жутковатое. Заменив наконец колесо, водитель как ни в чем не бывало (заметив, однако, какое впечатление его рассказ произвел на школьников) уселся за руль. Большинство юных пассажиров затаились в салоне, как только Тарас рассказал о «дивчинке»-оборотне.
— Не бойтесь, дети, — успокаивала Людмила Николаевна, бросив укоризненный взгляд на невежественного шофера. — Обычное суеверие, пережиток прошлого.
Некоторые ученики еще оставались снаружи, когда из зарослей опять послышался детский плач. Теперь он был еще протяжнее и тревожнее прежнего, а главное — гораздо ближе.
— Пошустрей, пионэры! — крикнул раздраженный Тарас. — Думали, я того — брешу?
Но даже самые смелые, получив порцию острых ощущений, уже и так заскочили в автобус. Экспресс немедленно тронулся с места.
— Вот теперь, пожалуйста, расскажите-ка нам по порядку, что здесь происходит, — вежливо, но требовательно обратилась к Тарасу классная руководительница. — Это наверняка связано с какой-то местной легендой?
— А как же ж! — Словоохотливый шофер, казалось, только и ждал обстоятельных расспросов. — То не просто легенда, то о-очень древняя быль. Ей, может, тыща лет, а может, и поболе! У нас тут греческие колонии были — развалины кругом. Археологи до сих пор все копают какую-то антЫчность — крепость, а то храм, или еще чего… И название месту тоже греки дали — Новый Афон. Главный, значит, в ихней земле, а этот у нас… Вот, говорят, в те самые времена жил здесь один греческий пан… ну это, как там он у них называется? А по-нашему богач или купец. И была у него в прислуге дивчина-краса, да еще говорят — ведьма, в лесу ворожила. И почуял пан тот такую к ней любовь, прямо страсть, и стал проходу не давать. Погнался однажды за ей, а та — умная все ж таки была! — в винном погребе спряталась, но тот хозяин греческий ее тогда все ж догнал… Срок пришел, родилось дитя, дочка. Батька, ну, хозяин, значит, узнал про то и выгнал ее из хаты — или как там у греков? — со дворца, наверно. Пошла мать-ведьма с крохой своей вот в этот самый горный лес, запихала ей в роток носовой платок и давай деру. Думала, задохнется дивчинка, а потом ее звери лесные сожрут — и косточки не останется. Тут же в горах зверья и сейчас полно — заповедник все ж, а тогда их тут больше людей было… Но только сама та ведьма скоро с тоски смертной в чащу подалась и там сгинула, а младенчика-то, дивчинку, волк с рысью не тронули, даром что хищники. Так до сих пор и скитается, рыщет по лесам да нам, людям, мстит. За лютую жестокость человечью — она ж еще лютей звериной бывает! И все здесь быль эту знают, а не то чтоб я сочинил…
— Конечно, не вы, — скептически улыбнулась Юля. — Вы же «Мастера и Маргариту» нам пересказываете! А я эту фантасмагорию уже читала… И не стыдно? Это обман называется. Может, даже и плагиат!
— А про кровожадную девочку-монстра — это из сказки-страшилки. Только там про мальчика было: он утонул, а потом на людей охотился… И совсем не страшно! — выпалила Наташа Плотникова, и ее разобрал смех.
Вместо того чтобы испугаться еще больше, школьники теперь дружно развеселились. Заметно посерьезнел только Тиллим, а простодушный Тарас огорченно пожал плечами:
— Какой такой мастер? Ничего не разберу… Ну, раз такие умные все, то не верьте! Только по ночам уж в этих местах вам шататься не советую. И особо прошу, пионэры: на кладбище старое ни-ни — никогда не забредайте! На погосте-то она всего больше и промышляет. А кого занесет туда, так я предупреждал…
Тиллим, у которого сердце колотилось часто-часто, нагнулся к водителю и спросил:
— Простите, а как ее звали?
— Эту дивчинку, шо ли, кровопийцу?
— Да нет… Как звали ее мать?
Тарас почесал затылок.

— Да как же ж ее… Склероз такой… Так это — Сирена ее звали! Старики так и говорят — Сирена… Да какая разница? Важно не имя, а шо ведьма…
Но Тиллим дальше уже не слушал. «Неужели такое совпадение? И Пана тоже ведь вспомнил… Действительно — античная мистика!»
Потрясенный Тиля подошел к Ольге с Шуриком и вполголоса сказал:
— Послушайте, тут все может быть очень серьезно. Помните нимфу из кроссворда? Ее звали Сиринга! Одну-две буквы местные жители, сами не греки, за тысячи лет, пересказывая быль бесконечно много раз, вполне могли изменить. В истории такое сплошь и рядом. Теперь: она была нимфа, но для абхазцев нимфа непонятна. Ведьма — совсем другое дело! И еще: Сиринга обратилась в тростник, а его здесь по всему побережью целые заросли. Стоит отойти с дороги — сразу наткнешься… Только мы этого делать лучше не будем… От этого жутко становится.
Шурик небрежно бросил:
— Ну что, страшно? Да тебя тут с перепугу укачало, Тиля. Сядь, не мельтеши и не нагнетай.
А Оля, от природы не робкого десятка, только плечиком повела:
— Папалексиев! Какая связь?? Убивает-то не мама, а ее дочурка!.. Ты такой потешный — все еще в сказки веришь, да?
— Напрасное легкомыслие! — строго сказал Тиллим. — Пивное, что сразу столько совпадений не бывает, а значит, нужно быть бдительными. Девочка-оборотень — одно, но кто поручится, что за ней не стоит оскорбленная мать — лесная колдунья, которая способна превратить нас из мести во что угодно?
— Папалексиев, ты уже достал, ты как белое пятно на одежде, — бросил Матусевич.
— В смысле? — удивился Тиллим.
— В смысле, ты тут лишний.
Восьмиклассники старались поскорее отвлечься от леденящей кровь истории, хотя взбудораженное подростковое любопытство изнывало без ответа — что в ней правда, а что выдумка. Кто-то вернулся к прерванному разговору, кто-то достал книжку. Оля в наушниках уже слушала любимых битлов.
Тиллим увлекся страшно дефицитным, на всякий случай завернутым в газету журналом «Англия» с откровенным интервью Леннона на нескольких страницах.
— Ну, чего сидим инкогнито, а? Ого! Круто! Наш доморощенный Наполеон книжку читать изволит: «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров»! — громко сострил Шурик, чтобы разрядить обстановку.
Весь салон покатился со смеху. Шурик, повернув голову на сто восемьдесят градусов и увидев фото первого битла крупным планом, скривился в презрительной улыбке:
— Что, бесноватым любуешься?
Тиллим встрепенулся:
— Саша, не всегда говори, что думаешь, но всегда думай, что говоришь. Тем более о таких вещах…
— Детская, наивная распахнутость души!.. Ты, Папалексиев, фантастически обаятельный идиот. Тебе сейчас нужен психолог, иначе потом понадобится психиатр…
Тиллим оторвался от чтения и напрягся, ожидая от «иностранца» какой-нибудь выходки.
— У меня ощущение, что ты едва родился, а я отрезаю пуповину и открываю тебе глаза на этот мир! Леннон твой вообще средней руки музыкант, и голоса у него, по сути, никакого — тоже мне бельканто… Просто хитрый, как все масоны! Душу дьяволу продал… Нужно же иметь хотя бы элементарное представление о каббале. Есть истина, которую знают только просвещенные, узурпировавшие систему управления миром. Если не знаешь, то слушай: Венера на небе раз в пять лет располагается в виде перевернутой пентаграммы, то есть пятиконечной звезды, вот тогда масоны посвящаются, выбирая себе новые имена, чтобы получить славу, успех и прочее. Так сделал когда-то Ульянов и стал Лениным, вот и Леннон тоже. Соображаешь? Ленин, Леннон — может, у тебя и со слухом плохо? Вот и весь секрет его бешеной популярности, а ты уши развесил, чуть не молишься на этого шута… Я понимаю, Наполеон — мой идеал! Масон высшей степени, всю Европу держал в руках, даже пирамиды египетские стояли перед ним по стойке смирно…
— Возмутительно интересная точка зрения! — Услышав горячий спор, к мальчикам подсела Юля и вставила свое словцо: — Ну, тебе-то не стать ни музыкантом, ни полководцем. Куда тебе, Шурик!.. Бонапарт был великим медиумом — читал мысли окружающих и знал их секреты!
— Что тут булькнуло? — презрительно бросил Матусевич. — Григорович, а ты чё сюда припёрлась? Тут мужчины разговаривают… Наполеон не простой медиум, он великий магистр, который познал торсионное поле…
— Что за поле такое? — заинтересовалась сидящая на соседнем ряду Наташа Плотникова. — Я слышала только про магнитное и гравитационное.
— Да вы еще совсем дети! — хмыкнул Шурик. — Слушайте и запоминайте! Для малограмотных, — он обернулся, посмотрев на Григорович, и назидательно продолжил: — Вселенная устроена так: есть минеральная жизнь, растительная, животная, человек. Но человек — не венец мироздания на этой интеллектуальной лестнице. Есть нечто, о котором знают только посвященные! А для таких, как Юля, — с пузыриками в голове, это нечто непознаваемо, как непознаваем для растения животный мир… — Тут Матусевич перешел на таинственный шепот: — Торсионное поле — поле сознания Вселенной! На примитивном уровне я вам попытаюсь объяснить. Это как выключатель: выключили — лампочка не светится, включили — что-то из нее потекло, кругом засияло. Стоишь не думаешь — голова «не светится», начал думать — голова «засветилась» торсионным излучением. Все наши мысли материальны, как и электромагнитные световые волны, а если мысли материальны, то что? — Матусевич обвел всех глазами. — Значит, их можно украсть! Вот великий магистр Наполеон и мог управлять этим полем, благодаря чему достиг высшего познания принципов глобального управления!
Теперь о том, как это происходило. Стоило ему пожать перед битвой руку парламентера, и все планы противника, все боевые операции оказывались у него в голове. Более того, с этого момента он постигал историю человека, мог думать как тот, зная его слабые места, и предвидеть все его действия. — Выдержав многозначительную паузу, так, чтобы его слышали все, Матусевич заявил: — Я пойду по стопам непобедимого Бонапарта, исполню священный алгоритм, заменю имя и стану Наполеоном современности!!! — Закончив тронную тираду, Шурик надменно обронил: — А что мне какой-то там Джонни из Ливерпульского порта?! Бездарность!
— Да все это бред сумасшедшего! — снова вмешалась Юля. — Поле какое-то придумал! Он вам еще и не такой лапши навешает: и что Бог на свете есть, и про мировой заговор… Люди выучили умные слова, и стало сложно определять придурков! Саша, ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой. Наполеон — это победитель FOREVER, а ты — просто Шурик…
— Иди, старушка, иди лучше отсюда — тебе слова никто не давал! — грубо оборвал «просто Шурик».
— Сердце, собирайся, чего с ним спорить, — рассудила Юля, заманивая в свою компанию Тиллима. — Нас тут не поняли! Мы уходим на Камчатку, да?
Папалексиев поднялся с кресла, но не потому, что его позвали.
— Ну вот, встал… Парируй! — распалился Шурик.
— Обрати внимание, — спокойно заметил Тиллим, — из сострадания не рискую тревожить твою неуравновешенную самовлюбленную психику.
— Это у меня с психикой не в порядке??! Да те, кто слушает битлов, и есть настоящие бесноватые со сдвинутыми мозгами! Ты видел, что на их шабашах творится? А я видел…
Тиллим уже едва сдерживался:
— Закрой рот, трепло! Не трогай имя Леннона!
— Я?? Имя Ленина??? — Матусевич, сделав огромные глаза, изобразил неподдельное удивление.
— Да хватит уже паясничать! Ты все прекрасно понял.
Шурик завелся еще больше:
— Ну и что? Что мне за это будет?! Войну объявишь, грозный полководец? Ха-ха!
— Только посмей повторить свои гадости о Ленноне, я тебя в окошко выкину! Не посмотрю, что ты каратист…
— И повторю, Тиля, повторю! — И тут Матусевич выкрикнул во всю глотку: — Леннон твой душу дьяволу продал!!!
Неожиданно мощный удар в левую стенку заставил автобус содрогнуться сверху донизу. Следующим, еще более сильным ударом «икарус» едва не смело с дороги — в заросли, в море. Удержав равновесие, он на миг застыл и под девчоночий визг тут же устремился дальше.
Когда в салоне погас свет и окружающий космический мрак пробрался внутрь, воцарилась всеобщая паника. Выведенная из музыкальной нирваны Оля наконец-то сняла наушники и недоуменно спросила:
— Что случилось?
Теперь вопили уже не только девочки, но и — увы! — большинство мальчиков, обычно демонстрировавших бесстрашие и закаленную волю. Словом, кричали все, срывая без того ломающиеся голоса, кричали так громко, что в этом паническом оре трудно было разобрать даже свои собственные слова. Взмахивая руками, как наседка, волнующаяся о цыплятах, крыльями, вопила и повидавшая всякое убежденная атеистка Людмила Николаевна:
— Господи, Боже мой! Да что же это такое?! Если Ты есть, спаси и сохрани детей!.. Ребята, я с вами!..
Ее слова, впрочем, потонули в общей разноголосице.
— О-ой, мамочки! Я н-не хочу! Не-ет!!! — топал ногами вцепившийся в подлокотники мальчик с зачесанной на косой пробор челкой.
Наташа Плотникова шепотом предположила:
— Может, это и есть торсионное поле?
— Девочка-вампир за нами пришла… — дрожащим, сразу ставшим тоненьким голоском в тихом ужасе блеял спрятавшийся за спинкой кресла Матусевич. — Сиринга?! Явилась!
— Ну что? Куда девался упрямый весельчак Саша Матусевич??! Нет! Это проклятье Леннона, — иронически многозначительно сказал Тиллим. — Отвечать нужно за свои слова.
Шурик из-за спинки испуганно посмотрел на того, с кем чуть не подрался минуту назад, и, по-прежнему дрожа, завопил:
— Принимай капитуляцию, генералиссимус! Признаюсь, заблуждался, мои извинения…
В этот момент автобус снова сотрясло.
— Не слышишь меня? — переходя на истерический крик, взмолился каратист. — Ты что, не слышишь?! Все, хватит — ПОБЕДА! Да
святой он, святой! Леннон жил, Леннон жив, Леннон будет жить!!!
Хорошо, что никто из старших не расслышал этого крамольного лозунга.
Вдруг с заднего сиденья с гримасой страха, исказившей миловидное личико, указывая пальцем вперед, заверещала Наташа:
— Смотрите!!! Там, там! Ужас какой… А-а-а!!!
Пробив толстое, укрепленное стекло в передней части салона, слева внутрь автобуса просунулась огромная голова с озлобленной, в пене мордой и кривыми рогами. В лунном свете все увидели, что из черных ноздрей валит дым, а выпученные глаза с налившимися кровью белками горят зловещим потусторонним огнем!
Шурик, закрываясь от привидения потными ладошками, продолжал в трепете бормотать:
— Ага… Вот и Пан пожаловал… Хозяин лесов…
— Да это сам Сатана! — сдали нервы у остававшегося все эти часы абсолютно невозмутимым Евгения Александровича. — Увидишь же такое отродье… Чур меня, чур!
Образина продолжала гипнотизировать путешественников ужасным взглядом.
Водитель Тарас — единственный, кто сохранил присутствие духа и мужскую волю, — поддал газу, и здоровенный «Икарус», точно железный конь, чуть подпрыгнув и едва не оторвавшись от земли, снова рванул вперед, почти полетел над дорогой исполинским Пегасом. Свет в салоне зажегся, точно в знак спасения от неведомой напасти, и сразу стало заметно, какие у всех измученно-усталые лица, а у многих — красные от слез глаза. Школьники с трудом приходили в себя после пережитого. Под кем-то даже сиденья промокли, и эти бедолаги от стыда готовы были сквозь землю провалиться. Людмила Николаевна сидела смирно, положив под язык валидол, а встревоженный Евгений Александрович допытывался у шофера:
— Теперь-то мы все видели. Как думаешь, что за ч…товщина такая?
Тарас угрюмо крутил баранку и не мог дать вразумительного ответа:
— Кто ж ее разберет, нечисть всякую? Может и ч…т, а может, и не было ничего…
II
Когда в скором времени покореженный автобус с одаренными челябинскими детьми и их учителями подъехал к бывшему Симоно-Кананитскому Ново-Афонскому монастырю, где теперь размещалась курортная турбаза «Псырцха», его в столь поздний час встречали не только директор турбазы — полная, представительная южная дама, но и взопревший майор милиции.
Вперед выступила директриса и, широко улыбаясь, с кавказским радушием приветствовала гостей:
— Дорогие дети и сопровождающие, добро пожаловать на древнюю абхазскую землю! Вы увидите красоты и достопримечательности изобильного черноморского побережья Кавказа. Прямо здесь, в Новом Афоне, вы посетите чудо природы, комплекс наших замечательных, единственных в мире пещер, тысячелетиями скрывавших свои тайны, но теперь предстающих во всем великолепии. Вы увидите древнее Анакопийское городище, полюбуетесь красотами субтропического парка, Иверской горой и творением рук человеческих — десятиметровым водопадом. К вашим услугам наша турбаза-пансионат, находящаяся в бывших монастырских кельях девятнадцатого века, где вы получите комфортный ночлег и здоровое трехразовое питание, а также краеведческий музей и уютные пляжи…
Усталые школьники еле стояли на ногах, однако не выслушать важную тетеньку было бы невежливо по отношение не только к ней самой, но и к законам гостеприимства. Тиллим, которого, конечно, тоже клонило в сон, запомнил, однако, сколько раз в приветственном слове были упомянуты памятники глубокой древности, и в том числе античный город Питиунт: вся эта будоражащая воображение старина входила в программу предлагаемых юным уральцам экскурсий. Эпические развалины и настоящие раскопки археологов были для Тиллима той самой древностью, какую он хотел бы увидеть в этих легендарных местах, но дама-директор все продолжала и продолжала говорить, что превращалось уже в явное, с трудом выносимое занудство. Неизвестно, сколько бы она еще приветствовала гостей, если бы не прямое вмешательство милиционера. Он просто и не слишком вежливо, на полуслове, оборвал говорливую землячку. Такое вмешательство могла оправдать только важность его дела.
— Слушайте, товарищ Живаниа, остановитесь, да? По-вашему, я сюда для пустяков пришел? Вы бы лучше гостей с дороги накормили, напоили и спать положили. Дети с ног валятся!
Козырнув, он тут же обратился к Людмиле Николаевне:
— Майор Чикоба! Уважаемая, вы или, может быть, кто-то из ваших учеников ничего странного поблизости не встречали? Может, на шоссе, а? У одного очень достойного человека в хозяйстве бык сбесился — сорвался с цепи и убежал! Вот ищем второй день. Он опасен, на людей кидаться может…
Но достаточно было одного внимательного профессионального взгляда на перепуганных гостей, чтобы блюститель порядка оценил оперативную обстановку — дальнейшие расспросы представлялись излишними. Картину происшествия довершил Тарас, с горестным воплем воздевший руки к громадной вмятине в боку его ненаглядной автоколесницы:
— Эт шо ж такое творится, товарищ милиционэр?! Неделя не прошла, как новенький «икарус» получил, нарадоваться не мог — машина зверь! — и на тебе… То ж импорт, то ж никакая страховка не покроет! Та там насчет крупного рогатого скота и не было ничего прописано… Теперь, выходит, ее за мои трудовые гроши ремонтировать?!
— Я попросил бы, гражданин… Еще разобраться надо, кто в кого въехал! — осадил бедного шофера турагентства милицейский чин и тут же поспешил утешить дорогих гостей: — Спокойствие, ребятки, только спокойствие: дело, как говорится, житейское, да? И ничего страшного: кого надо, уже вызвали, утром приедут и обезвре… В общем, обязательно поймают!
Ответом был долгожданный детский смех: забавный толстячок майор Чикоба очень напомнил восьмиклассникам мультяшного Карлсона. Так неожиданно удалось разрядить нервную атмосферу без всякого психолога. А последнее слово осталось все-таки за директрисой, считавшей своим долгом завершить приветствие мажорным пассажем-штампом:
— Я уверена, дорогие отдыхающие, что дни, проведенные на нашей замечательной турбазе, на земле солнечной Абхазии, оставят у вас только самые приятные воспоминания. Желаю вам светлых впечатлений, а также заряда здоровья и бодрости! Надеюсь, вы не раз еще посетите нашу добрую «Псырцху»! А теперь милости прошу — размещайтесь…
Гостям с Урала дали сутки на отдых с дороги и акклиматизацию, но уже на второй день у юных художников была пленэрная зарисовка в монастырском саду, давно уже ставшем совхозным. Сад спускался с горных склонов, от почти крепостных монастырских стен в неширокую долину к бурной речке Псырцхе (непривычное для русского уха и языка это «птичье» название так и осталось загадкой для ребят). Совсем не маленький по площади, по обилию и разнообразию плодов для детей из умеренной климатической зоны, он и вовсе был невиданным. Что там крошечные садики на пригородных дачных участках их родителей или тоже довольно скудные деревенские сады бабушек и дедушек, где большую часть вообще занимал унылый огород и в почете больше всего были пыльные картофельные гряды. Этот кавказский сад казался детям райским. Они, конечно, не верили в фантастические яблочные райские кущи, но здесь, в Новом Афоне, увидели настоящий земной рай, и, может быть, кто-то всерьез втайне задумался о небесном. Что там яблоки — тут они, напоенные теплом щедрого южного солнца, были на любой вкус и цвет — желто-золотые, малиново-алые, нежно-розовые, прихотливо разнобокие или однотонно зеленые, но зато как самая яркая майская травка. И такие огромные, такие налитые, что, казалось, вот-вот лопнут от переполнявшего их живительного сока. Под стать им были ароматнейшие, точно из одного сладкого сиропа, груши.
Вниз, к морю, ожившими пейзажами не скупившихся на яркие краски импрессионистов спускались ряды сизых слив, желтовато-золотой алычи, багровых вишен и разноцветных черешен… Лимоны, апельсины и мандарины радовали глаз всеми оттенками желтого и оранжевого. О серо-зеленым плоде с экзотическим, словно из сказок «Тысячи и одной ночи», названием «фейхоа» ребята слышали впервые, а здесь его тоже выращивали в большом количестве, но созревала фейхоа в начале теплой южной зимы, потому детей угостили только вареньем, впрочем, даже фейховое варенье привело уральцев в восторг.
— Вкус почти как у нашей клубники! — воскликнула Лизочка Орехова, известная в классе сладкоежка.
На радость таким же, как она, любителям сладкого, рос здесь и знакомый школьникам инжир, но и с ним оказалось не без сюрприза. Северные дети привыкли к инжиру вяленому, здесь же они увидели настоящие свежие смоквы — пепельно-зеленые снаружи луковички с сочной синей мякотью, полной мелких красных зернышек. Наконец, как объяснил садовый сторож (мальчишки посмеивались — как можно всерьез охранять такой огромный сад?), есть в совхозе и большие виноградники, которые дают знаменитое еще с царских времен вино, но они находятся с другой стороны монастыря. Между прочим, этот одинокий «страж райского сада», низенький кривоногий мужичонка с рыжими тараканьими усами и бородкой, выцветшими на солнце, в военной фуражке, по-казачьи сдвинутой набекрень, чтобы все видели седеющий, но еще независимо вьющийся чуб, важно потрясая охотничьей двустволкой, поспешил предостеречь:
— Вы, молодежь, у меня здеся не балуйте! Фрукты у нас дюже добрые, угощайтесь, конечно, на здоровьечко, но чтоб строго в саду, а с собой чтоб — ни-ни! И ежели кто когда удумает через сетку лезти, уж не обижайтесь — пропишу по первое число! И еще вот чего: по саду особо не разгуливайте — бык-то, пока не поймали, он где хошь шастать может. Ну как на него нарветесь — тогда беда!
За спиной мужичонки маячил долговязый толстый мальчик в зеленой застиранной и некрасиво растянутой футболке. Парнишке можно было дать лет пятнадцать, если бы не глуповато-наивное выражение лица, свойственное скорее трехлетнему малышу. Он с наслаждением обсасывал леденцового петушка, вытирая тягучие слюни замызганным рукавом футболки. Веснушчатый, с копной рыжих волос, пятнадцатилетний «детсадовец» напоминал Антошку из мультика, который «убил дедушку лопатой». Только рисованный Антошка на самом деле «дедушку любил», а у этого, похоже, всякое могло быть на уме.
— Батя, я с тобой ругаюсь, — басовито пробубнил он, дергая сторожа за штанину. — Я сегодня уж два раза с тобой поругался.
— Иди-иди, поиграйся, — тяжело вздыхая, досадливо отмахнулся тот.
Угрюмый дебил направился было прочь, но внезапно, чем-то явно заинтересованный, свернул к Матусевичу.
— Слышь, дай конфетку. Пажа-алуйста! Есть конфетка?
— Чё за вонь? Мальчик, ты мусор жаришь? Как от хряка воняет.
— Ну да-а-ай конфетку!
— И так щека щеку ест — попа не слипнется? — ехидно бросил Шурик.
— А я ее в рот положу… А то пойду котят топить.
Матусевич небрежно оттолкнул местного дурачка:
— Отвали!
Тогда «Антошка», ничуть не смущаясь, слюнявыми, испачканными в земле пальцами снял с «ковбойской» головы бесценную шляпу и тут же водрузил ее на свои взъерошенные вихры. Шурик растерянно оглядывался по сторонам, ища помощи и вместе с тем не желая, чтобы одноклассники заподозрили его в том, что он трусит и не в состоянии справиться с бесцеремонным дурачком.
— Ну, покажи ему карате, покажи полицейские приемы! Слабо? — подначивал Вася Алексеев. — Все, финита подарочку американских друзей! Тю-тю! Поносил — теперь дай другому!
— Я работаю над собой, развиваю в себе доброту и щедрость. Пусть берет, раз нравится, — выкрутился Шурка, которому, конечно, было жалко расставаться с обязательной принадлежностью настоящего парня с Дикого Запада.
Сторож, ни слова не говоря, осторожно снял дорогую шляпу с головы своего великовозрастного чада и, отводя покрасневшие глаза, снова бережно надел на пижона-курортника.
— Иди отсюдова, горюшко ты мое луковое. Погулял бы где… — пробормотал казак, подталкивая сына к выходу из сада.
— Я с тобой опять поссорюсь, батька, — набычившись, буркнул тот, но все же куда-то закосолапил. — Я с тобой это — уж три раза поссорился… Ба-атя!
— Что?
— Батя!!!
— Да что?
— Бать…
— Да говори уже!
— …Ой, забыл…
Тиллиму стало грустно: «Вот ведь семья. Отец и сын… Беда какая!»
Остальные восьмиклассники, втихомолку посмеявшись над угрозами сторожа,
тут же забыли о его существовании. Перед юными художниками сейчас стояли гораздо более важные задачи, чем трясти тайком совхозный сад или стремиться к встрече с быком, а именно: передав игру светотени на листьях и ветках, разобраться с едва заметными оттенками коры. Но в классе освещение для натюрморта поставлено раз и навсегда, а в природе оно меняется каждую минуту. Зашло солнце за тучку, и все стало совершенно другим. Ветер тоже меняет картину. Обязательно нужно поймать момент и убедительно зафиксировать одно состояние.
Но сначала каждому предстояло скомпоновать рисунок. Он должен был объединять в себе три плана — на переднем какая-нибудь ветка или дерево, затем перспектива, построенная из деревьев, а на заднем плане, как здесь, — горный лес или море.
Тиллим вскоре выбрал себе походящую натуру — яблоневую аллею. Там присутствовали все необходимые для штудии компоненты: на переднем плане пораженное молнией дерево без листвы и плодов, точно скелет неведомого мифологического существа. Тиллим долго, внимательно оглядывал его со всех сторон, ища выгодный, наиболее удачный ракурс.
На следующий день, пока ребята раскладывали этюдники, расставляли табуретки и складные стульчики, прикрепляли бумагу к планшетам, а затем карандашом намечали основные линии своего рисунка, опытный преподаватель Евгений Александрович, переходя от ученика к ученику, рассказывал об основной цветовой палитре и соотношениях разных цветов в природе, о работе на воздухе.

— Всегда важно правильное обращение с цветом, но здесь, на пленэре, особенно. Напомню вам несколько основополагающих моментов цветовосприятия. Основных цветов три: желтый, красный и синий. Есть еще, разумеется, белый и черный — дополнительные. Все прочие цвета получаются при смешении вышеназванных. Для того и нужна палитра, чтобы готовить, подбирать на ней цветовую гамму будущей работы. Запомните раз и навсегда: желтый в смешении с красным дает оранжевый, красный с синим — фиолетовый, желтый с синим — зеленый, без которого здесь просто не обойтись. Кстати, зеленый цвет с красным дадут нам тоже очень важный — коричневый. Видите, как все на самом деле просто? Возьмем желтый цвет с коричневым, смешаем и получим охру, а вот от смешения коричневой краски с синей получится всего лишь грязь. Но к этому мы еще вернемся. Усвойте для начала то, что я объясняю сейчас.
У каждого цвета существует множество оттенков. Их можно объединить в две группы: теплые и холодные. Холодные оттенки еще называют благородными. Для зеленого это изумрудный, салатовый и подобные им. Теплые же — травянистые — вы сейчас наблюдаете перед собой. У красного цвета тоже много вариантов — от бордового, малинового до фиолетового. Вообще-то цвет в его, так сказать, чистом виде в природе попадается крайне редко.
Внимание, ребята: есть цвета, которые ни в коем случае не следует смешивать друг с другом! Просто запомните, что данные краски не дружат ни при каких обстоятельствах. Это желтый и фиолетовый, красный и зеленый, а также оранжевый и синий цвета.
— А что будет, если смешать все цвета сразу? — спросил с места какой-то экспериментатор.
— Получится банальный серый цвет, а в худшем случае — увы! — все та же грязь, — артистически развел руками Евгений Александрович и тут же обратился с вопросом сразу ко всем ученикам: — Кстати, кто из вас помнит мнемоническое правило, позволяющее перечислить все цвета спектра?
Первым высунулся из-за своего этюдника Витя Чернов и, как математическую формулу, отбарабанил:
— «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!» Что означает: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый!
— А при чем тут фазан? — спросил несообразительный Вася Иванов.
— При том, что нам надо запомнить фиолетовый. Запоминают по первым буквам! Теперь понятно? «Каждый» начинается с той же буквы, что и «красный», «охотник» — соответственно «оранжевый» и так далее, — преподаватель хитро улыбнулся. — А в обратном порядке знаете? «Фазан сидит, глаза закрыв, желает очень кушать». Между прочим, смешение всех цветов дает серый только на бумаге или холсте. Помните детскую игрушку юлу, ее еще называют волчком? Волчок крутится вокруг своей оси, а если его раскрасить в цвета радуги, то он, крутясь, становится белым. Кстати: в случае со смешением красок мы имеем химическую реакцию, а при вращении юлы происходит оптический фокус… На сегодня достаточно! Не буду отвлекать вас от творческого процесса.
К концу второго дня обязательный рисунок закончили практически все. Тиллим же расположился в стороне от остальных практикантов — на полянке среди большой аллеи через дорогу. Там он принялся старательно переносить на бумагу так приглянувшуюся ему причудливую старую яблоню, ствол которой когда-то расщепила молния.
Тиллим едва ли не впервые в жизни испытывал то, что настоящие художники возвышенно называют вдохновением. В лучах палящего солнца скелет, преображенный богатым воображением мальчика, обрастал мифологической плотью, чудесно превращаясь в знаменитую античную скульптурную группу, изображавшую бородатого атлета и юношей вокруг него, пытающихся освободиться от душащих их питонов. Тиллим столько раз видел этот восхищавший его шедевр на репродукциях, но, к сожалению, не знал ни имени автора, ни сюжета изваяния, ни даже его названия, однако он был убежден, что старая яблоня очень напоминает скульптуру и главное — органично вписывается в роскошный, почти греческий ландшафт.
— А я и не догадывался, Папалексиев, что ты такой фантазер. Действительно, в засохшем дереве что-то напоминает Лаокоона, но ведь это еще надо было увидеть!
Тиллим вздрогнул: он и не заметил в пылу творчества, как сзади неслышно подошел преподаватель.
— Да это так, случайно… Понравилась яблоня, хотел ее нарисовать, а вышло… — мальчик застеснялся. — Евгений Александрович, а кто он? Этот Лако…
— Ла-о-ко-он. Мудрый жрец, который предупреждал жителей Трои о коварстве греков. Боги наказали его: послали гигантских морских змей, и герой был удушен вместе с сыновьями. Страшный миф… У Гомера все в деталях описано.
— А я уже читал «Одиссею». — Тиллим не хотел хвастаться, но как-то само собой слетело с языка.
Учитель улыбнулся:
— Похвально. Только это из «Илиады». Рекомендую тоже прочесть.
Он больше не хотел стоять над душой у юного художника, вторгаясь в творческий процесс, и направился было к остальным ученикам, но пытливый мальчик задержал его вопросом:
— Евгений Александрович, а почему греческие боги такие жестокие?
— Так ты еще и философ! Хотя для человека искусства просто необходимо задаваться вечными вопросами, и само творчество — лучший способ их разрешения… Видишь ли, Тиллим, ты неточно формулируешь проблему: не греческие, а
языческие боги. Именно так! Думай в этом направлении, и сам когда-нибудь непременно найдешь ясный ответ. Кстати, есть даже такая картина — «Античный ужас»… Ну, дерзай!
«„Античный“, кажется, означает „древний“», — вспомнил уроки английского Тиллим, когда опять остался в одиночестве. Он встал со стульчика, в который раз посмотрел со стороны на свою работу, пытаясь понять, чего в ней не хватает для завершенности. Наконец подошел к планшету и жирно заштриховал фон, оставив лишь один резкий зигзагообразный просвет. Получилась зловещая грозовая туча с молнией посередине как символ гнева богов. Мальчику даже стало неуютно: он вдруг почувствовал себя маленьким беззащитным существом наедине с подавляющей своими исполинскими величинами — небом, морем, горами — вечно непостижимой языческой природой, какой-то песчинкой в космосе. Теперь из уединения Тиллиму захотелось к людям, к родителям, но мама с папой были далеко. Осталось только наскоро сложить этюдник и, вырвавшись из объятий древнего ужаса, поспешить в объятия земляков-восьмиклассников.
Он застал самых близких для себя в этом экзотическом путешествии людей за фруктовым пиршеством. После выполненного учебного задания, позабыв о сложных взаимоотношениях и столкновении самолюбий, мальчишки и девчонки поглощали насквозь пропитанные солнцем, сочащиеся медовой влагой плоды и ягоды. Для уральских детей это изобилие фруктов было настоящим даром щедрого Кавказа. Дома, конечно, были антоновка и белый налив, сливы и вишня и множество чудесных лесных ягод, но все остальное попадалось разве что на рынке и было недешево. Тут же все это южное ассорти прямо свешивалось в рот с дерева или куста — ну как устоять против такого соблазна, тем более что и взрослые его только приветствовали, хотя и с условиями: ни в коем случае не есть немытое или, как нелепый сторож, запрещали уносить с собой. Провожая дорогих чад в теплые края, родные наперебой наставляли: «Налегайте там на витамины!» И будущие художники налегали, а Тиллим с удовольствием к ним присоединился. Один только Шурик Матусевич, которому «в теплой жаркой Африке» даже кокосы с папайей приелись, а еще просто из принципа — всегда подчеркивать, какая он уникальная, утонченная творческая натура, — демонстративно стоял против своего этюдника, то и дело нанося на бумагу дефицитной колонковой кистью эффектные сочные мазки… Но что это? Саша-«ковбой» внезапно вскочил со своего складного стульчика «made in…» и отбежал в сторону.
Объяснялось все просто. Сначала за спиной самозабвенно творящего Матусевича, расплываясь в блаженной улыбке, неожиданно возник пятнадцатилетний «малыш»-казачонок, подбрасывающий ядовито-зеленый резиновый мячик.
— З-здравствуй! — произнес абориген, на этот раз вытирая слюни рукавом полинялой армейской гимнастерки. — Красками малюешь? А я тоже рисовать люблю! Слушай, дяинька, а давай, это, поменяемся: ты мне, это, шляпу, а я тебе — мячик. Он хороший… и прыгает!
— Не нужен мне твой мячик, отстань… Отойди!
Матусевич сконфуженно оглянулся на одноклассников, хотя и был доволен, что его впервые в жизни назвали дяденькой.
— У меня еще лисапед есть! — с непосредственностью дошколенка не отставал казачонок. — Только у него, это, одного колесика нету… Хочешь лисапед за шляпу? А кролика? Во-о, это! Хочешь кролика, дяинька?
Красный как свекла Шурик, теперь уже совсем не глядя на аборигена, продолжил сосредоточенно работать кисточкой. Казачонок встал у него за спиной и молча, с неисчезающей глупой улыбкой наблюдал, что там выходит — на бумаге.
Вдруг что-то зашуршало в посадках вишен: определенно через них кто-то пробирался.
— Что это там?! — сдавленным шепотом спросил Матусевич.
— Эт бык. Он убежал! — невозмутимо объявил великовозрастный младенец. Играя в какую-то только ему одному понятную игру, он отошел на пару шагов и с идиотским смехом кинул мячик в спину бедняги Шурика. — Бык! Гы-гы-ы-ы! Бы-ык убежал!
Шуршание возобновилось совсем рядом. Должно быть, один из сухих заострившихся яблоневых суков напоминал острый загнутый рог или по какой другой причине, но дальнейшее повергло всех в изумленное оцепенение, а Шурика — и вовсе в панику.
— Это же бык-убийца! Спасайтесь! — заверещал мозамбикский каратист с перекошенным лицом.
Подпрыгнув над землей не меньше чем на метр, опрокинув свой сделанный на заказ этюдник, а также уронив многострадальную ковбойскую шляпу, Матусевич ненароком наступил на нее и опрометью бросился куда глаза глядят, умудряясь лавировать между школьниками. «Малыш», которого он нечаянно все же сбил с ног, плюхнулся на землю, привычно пуская слюни и что-то неразборчиво бормоча. Последнего никто не заметил, зато все впились взглядами в заросли, со страхом ожидая появления рогатого чудовища. Но вместо бешеного монстра из-за беленого ствола вышла небольшая кудлатая собачонка «дворянской» породы и, виляя куцым хвостиком, недоуменно уставилась на верещащего Матусевича невинными глазками-бусинами. Увидев маленького друга человека, девчонки заумилялись:
— Ой, какая хорошенькая!
— Умора — она сад охраняет!
— Иди сюда, иди! Печенюшку хочешь? — ласково позвала Оля Штукарь.
Вслед за собакой появился сторож:
— Лохматка, куда ж ты, шельма такая?
Охранница с радостью подбежала к нему, и тот, обведя учеников грозным взглядом, снова скрылся из виду, крепкой отцовской хваткой таща за руку самовольничающее чадо.
— Я с тобой опять поссорюсь, батя! — хныкал сын, послушно волочась за своим несчастным родителем. — Па-ап, печеньки закончились. Чего ты их так мало покупаешь?
— Потому что, сынок, кто-то много ест их…
Когда страсти улеглись, Матусевич, как всегда, оказался в центре внимания, но на этот раз совсем не такого, о каком мечтал. Мальчишки всей компанией подняли его на смех. Шурик медленно зашагал вглубь сада, а сзади неслось:
— Эх ты, каратист, дворняжки испугался!
— А он у нас еще и пацифист — тише воды, ниже травы против жестокости. Вдруг она бешеная? Схватила бы его за фирменные джинсы!
— Шурик, спасайся, там мышка живет — тебе хвостик отгрызет! — вспомнил какой-то юморист известный мультик.
Все так и прыснули.
— Да трус он. Я сам видел, как он в автобусе забрался с ногами на сиденье и визжал как резаный! — презрительно бросил бойкий Вася Алексеев.
— Нет, он, как маленький, к Штучке под юбку спрятался! — съязвил Витя Чернов.
— Помолчи! — зашипел на него Тиллим, грозя кулаком.
Остряк тут же умолк.
— Сдрейфил! А туда же — крутой… — продолжил возмущаться Вася.
— Эх ты, ковбой, «вранглер» с дырой!!! — подытожил какой-то остроумный «поэт».
Матусевич, затыкая на ходу уши, ускорил шаг. Теперь авторитет каратиста, модника и всезнайки упал окончательно и бесповоротно. Произошло то, что назревало: недавний кумир публично низвергся в зияющую пустоту. В первый момент Тиллим в глубине души этому порадовался, но смотреть на жалкую фигурку, под общий гогот удалявшуюся между рядов яблонь и груш, было неприятно.
III
На турбазе-пансионате выяснилось, что в полуподвальном помещении корпуса бывших монашеских келий сохранились с давних времен остатки монастырской библиотеки, официально закрытой и заброшенной. Служащие пансионата без особой охоты подтвердили пытливым юным гостям, что старая библиотека действительно есть. Они же рассказали школьникам, что там все наверняка в пыли — годами никто не заглядывал, зато в читальном зале чудом сохранился настоящий концертный рояль «Стейнвей», и, кажется, даже в рабочем состоянии.
— Правда «Стейнвей»?! — Услышав о такой находке, Юля Григорович захлопала в ладоши.
Оказалось, у ее дедушки с бабушкой в Ленинграде точно такой же инструмент, и она в раннем детстве, до перевода отца по службе в Челябинск, пару лет училась на нем играть, ходила в музыкальную школу, а теперь у нее дома пианино «Красный Октябрь», на котором она продолжает музицировать. Для девочек 8-го «А» было приятной новостью, что в классе есть «профессиональная» пианистка. Юлю не нужно было упрашивать, чтобы она как-нибудь сыграла для всех, — она уже успела соскучиться по инструменту, а вот ей самой пришлось долго уговаривать «товарища Живанию», ту самую говорливую и очень важную даму, директора турбазы, дать восьмиклассникам ключ от старой библиотеки.
— Зачем она вам понадобилась, дети? Наслаждайтесь солнцем, морем, фруктами…
Юля дипломатично напомнила:
— Но ведь мы гости, нам все здесь интересно. Говорят, такая замечательная библиотека! А все благодаря вашей директорской заботе и неравнодушию…
Директриса расплылась в улыбке: она любила, когда ей «говорили правду в лицо», и уже потому не могла отказать.
— Только до завтра. Договорились?! — И дама шутя погрозила пальцем.
— Конечно-конечно!
— Ха-арошие вы ребята, уральцы! У вас горы, у нас тоже горы…
Через несколько минут Юля, торжествующе подняв заветный ключ над головой, радостно объявила девчонкам, что вечером «дает концерт». Она почувствовала приятное волнение, как всегда бывает перед публичным выступлением.
— Наконец-то, девочки, я вам сыграю. Все самое любимое! То, что умею и помню, конечно: и «Грустный вальс» Сибелиуса, и из Бетховена — про сурка, и обязательно мой любимый ноктюрн Шопена…
Девочкам показалось, что в последнее время гонору у Григорович поубавилось. Они оживленно загалдели, зааплодировали:
— И «Собачий вальс»! Публика просит! Ты такая умница и красавица!
— Если вам говорят, что вы умница и красавица, не спорьте: людей не переубедишь, — самодовольно заулыбалась Юлечка, опять проявив свою сущность.
— А мелодию из кино про Шерлока Холмса сможешь подобрать? — скептически поинтересовалась вреднушка Карина.
— Дашкевича? — невозмутимо уточнила юная пианистка. — Так там и подбирать нечего — я ее наизусть знаю. Пожалуй, я и без репетиции справлюсь.
— Юля, если возможно, исполни «В пещере горного короля». Я очень люблю Грига, и особенно эту вещицу… — томным масляным голосом заказал «ценитель» классики Матусевич.
После того как он испугался тени безобидной Лохматки, мальчишки, хоть им, ученикам школы с литературно-художественным уклоном, и полагалось иметь тонкий склад души, с трусом и задавакой не хотели даже разговаривать. Только девочки, сами тогда испугавшиеся не меньше, сочувствовали «бедному Саше» и не соревновались в жестоких насмешках по его адресу. Теперь Шурику, сколько бы он ни изображал из себя заграничного супермена, оставался только девичий круг общения, так что, если бы он даже сторонился слабого пола (чего не было в помине), ему все равно пришлось бы присутствовать на вечерних фортепианных посиделках.
Юля, ни о чем не забывшая, была, однако, озадачена его сверхвежливой просьбой и замялась, залившись краской:
— Я тоже люблю Грига, но вообще-то не знаю, как и быть… «В пещере горного короля» — сочинение симфоническое, а рояль не сможет передать всего богатства звуков, мощи оркестра… И потом, я бы, наверное, смогла сыграть, но как без нот — боюсь, что это невозможно…
Матусевич хитро заулыбался, снова распуская потускневшей хвост:
— Зато для техники все возможно! По-моему, неплохо будет, если я прихвачу свой «Панасоник» и поставлю кассету «Зе бест оф классик» Оркестра Лондонской филармонии. Маг у меня надежный — настоящий электрический пес! Ну что, устроим после фортепианного отделения концерта еще одно — в записи, а? Будет настоящий большой концерт! Ты как, Юля?
— Ну-у… Я не против, — без восторга ответила девочка.
Остальные восьмиклассницы закружили подружку в веселом хороводе.
— Здорово, у нас все будет как в Лондонской филармонии!
После ужина девчонки, еле дождавшись назначенного времени, предводительствуемые Сашей Матусевичем, спустились под старинной кладки сводами в бывший монастырский полуподвал. Узкая винтообразная лестница уводила в сырой сумрак. Почему монахи избрали когда-то для библиотеки именно это место, было не совсем понятно: может быть, вечно ища уединения, хотели, чтобы их мудрые книги хранились подальше от мирской суеты? Так или иначе, когда все собрались перед тяжелой кованой дверью, Саша отпер ее и толкнул вперед — старинные петли заскрипели. Ток сюда когда-то был проведен, и Оля хотела было нажать выключатель, но проводник Матусевич (он уже успел рассказать, что ему приходилось в одиночку бывать в саванне и даже участвовать в сафари) настрого запретил пользоваться электричеством, потому что за годы проводка наверняка отсырела и может случиться пожар.
У предусмотрительного Саши оказался с собой фонарик, он осветил стены и своды помещения. В полумраке угадывались шкафы, заполненные книгами с кожаными корешками, здесь было с десяток стульев с высокими резными спинками и несколько деревянных подставок — аналоев для книг. В одном из углов, к радости юных следопытов, действительно стоял концертный рояль, контрастировавший с общей обстановкой. Еще в библиотеке очень кстати имелась пара высоких канделябров, причем в них обнаружилось несколько оплывших свечей и множество огарков.
— У нас все-таки будет концерт! — обрадовала всех первой увидевшая канделябры Юля. — Как романтично! Я никогда и не мечтала о таком — играть при свечах!
Девочки мгновенно прониклись увлекательной идеей. Единственный кавалер достал фирменную стальную зажигалку и галантно зажег самые длинные из оставшихся свечей. В старинном книгохранилище стало даже уютно. Будущие художницы или поэтессы вошли во вкус: кто-то устроился на стуле, кто-то умудрился примоститься на уступах книжных шкафов, некоторые предпочли слушать стоя. Инициативный Саша захлопал первым:
— Просим, просим пианистку к инструменту!
Юля, мучительно скривившись, изобразила улыбку.
Шумные девчонки тут же подхватили:
— Про-сим!!!
— Юлька, не стесняйся — здесь все свои.
— Играй все, что сама захочешь, и не забудь то, что просили. Про-сим!!!
Тоненькая Юля Григорович проскользнула между плотно стоящими стульями и аналоями. Она уселась на круглый вращающийся табурет, очень предусмотрительно оставленный здесь неизвестно кем и когда. Девочку удивило, что на табурете пыли совсем не было. «Значит, кто-то сегодня стер? Непонятно… Впрочем, нужно думать о выступлении!» Юля объяснила всем присутствующим, что для начала нужно разыграть пальцы и почувствовать инструмент. К счастью, рояль оказался практически не расстроенным, и через десять минут она была готова музицировать.
Юная пианистка начала с первого, что уже просилось с пальцев на клавиши, — с бетховенского «Сурка» — и с творческим упоением играла не меньше получаса, прерываясь только на несколько секунд между пьесами. Она исполнила почти весь свой скромный репертуар, вернее, то, что хранила память: пьесы Шопена, Чайковского, Листа, вальсы Грибоедова и даже романс Шостаковича из «Овода». В общем, исполнительница и сама музыка заслужили бурные продолжительные аплодисменты. Благодарные слушательницы, как в настоящем концертном зале, кричали «браво», а единственный слушатель, привыкший всегда выделяться из серой массы, — только «брависсимо» и «бис».
На «бис» Юле пришлось трижды отбарабанить примитивнейший «Собачий вальс». Напоследок Карина вспомнила про свою любимую «Собаку Баскервилей», и вот под старинные своды, на которых в свете догорающих пламенными язычками, заостренными, точно болотный остролист, свечей колыхались неестественно вытянутые человеческие тени, рассерженными гномиками поскакали из-под клавиш тревожные звуки главной музыкальной темы стильного кинодетектива. В заброшенной библиотеке стало жутковато, и это ощущение передалось всем девочкам, не исключая и героини вечера.

Пожалуй, было самое время завершить концерт, но Матусевич, на этот раз олимпийски спокойный, уже готов был открыть свое второе отделение (благо универсальный «Панасоник» был на батарейках). Нажав клавишу магнитофона, в полной тишине он объявил тоном искушенного меломана.
— Сейчас вы услышите, как звучит настоящий европейский филармонический оркестр на японской стереофонической аппаратуре «хай-фай»!
Все затаили дыхание в предвкушении. Юля специально развернулась на табурете спиной к «Стейнвею», лицом к «Панасонику», установленному в центре библиотеки, чтобы можно было уловить и оценить «неслыханный» звуковой эффект. Шурик с этой же целью настроил высокую громкость, так что при первых же симфонических аккордах прикрывшие глаза восьмиклассницы очутились в мрачном чертоге горного короля. Потом они оказались на льду Чудского озера прямо перед неотвратимой лавиной железной конницы крестоносцев, а оттуда перенеслись на Лысую гору в Иванову ночь, в гущу беснующихся на шабаше ведьм… Произведением, которое неокрепшие девичьи нервы выдержать уже не могли, была самая скорбная часть моцартовского «Реквиема»: поставив чувствительных девочек на порог смерти, «Лакримоза» вызвала у них страх, а у кого-то даже истерические рыдания.
— Хватит, Саша! Это невыносимо! Выключи этот кошмар!!!
— Ну, девчонки, так нельзя, — разочарованно произнес Саша, издевательски медленно убавляя звук, — это же глупо и смешно. Я от вас никак не ожидал. Вы, оказывается, классики боитесь? Серьезной музыки?! Как убого и скучно… Весь мир внимает, восхищается… Представляю, если бы я поставил что-нибудь совсем мрачное, из Вагнера…
— Не надо сейчас никакого Вагнера, — спокойно и твердо за всех сразу попросила Юля. — Выключи, пожалуйста, магнитофон. Совсем! Больше никто не хочет слушать.
Матусевич, почти презрительно пожав плечами и улыбаясь, исполнил категорическую просьбу «отставленной» подруги. Кто-то из самых впечатлительных еще всхлипывал. Наконец Юля сообразила:
— Я сейчас сыграю что-нибудь радостное. Про улыбку из «Крошки енота», например, и хватит: пойдем наверх, уже поздно. — Она повернулась к роялю и была поражена.
— Ой! Мне, наверное, кажется…
Прямо на клавиатуре лежал невесть откуда взявшийся, тщательно расправленный носовой платок, помеченный большим, во всю ширину, крестом. Самым жутким было то, что во влажном сумраке монастырского полуподвала крест мерцал каким-то загробным зеленоватым светом! Нет, близорукой Юле Григорович не казалось — свечение ясно увидели все. Что тут началось!
— Это та девочка-вампир подложила! — завизжала одна из восьмиклассниц.
— Господи! Неужели шофер был прав? Жуть какая!!! — подхватила другая.
Все повскакивали с мест: кто-то устремился к роялю — поближе рассмотреть платок, кто-то рвался наружу из злополучной библиотеки, но в суматохе не мог найти дверь…
— Подождите паниковать. В этих краях сплошные легенды и мифы — всему верить? — невозмутимо рассудил Шурик, но после стереофонического эксперимента не для слабонервных уже и девочки не хотели его слушать.
Юля осторожно взяла платок и спрятала к себе в сумочку, а затем решительно захлопнула крышку рояля. Тут уже глазастая Гуля призвала всех в свидетели:
— Смотрите, девочки! Здесь что-то написано…
— «Стейнвей» там написано, — неудачно сострил Матусевич.
Остатки свечей в канделябре почти совсем догорели, и все та же Гуля раздраженно сказала:
— Где там твой фонарик? Лучше посвети сюда, остряк-самоучка!
— К вашим услугам. — Галантный Саша, и не думая обижаться, поспешил помочь. По запыленной лаковой поверхности крышки неведомым пальцем затейливо, угловатыми «греческими» буквами была действительно выведена какая-то надпись. В луче яркого света она прочитывалась без труда:
Помните! Есть шесть платков, и кресты на них светятся ярко.
Кладбище древнее есть в Анакопии, городе мертвом.
В полночь снесите платки к одинокому склепу пустому,
Ночью предайте огню перед той безымянной гробницей.
Так лишь напасти кровавой избегнуть навеки возможно:
Утешится монстр-дитя и в живых вас оставит, пришельцы.
Дальше следовала приписка обыкновенным печатным шрифтом: «Кто проболтается взрослым, заболеет страшной болезнью и умрет!»
— Ко-о-шмар! — прикрыв ладонью рот, прошептала Гуля. — И про платки с крестами, и про кладбище с огнем…
Ее вконец перепуганные подруги заголосили наперебой:
— Это точно греческое предсказание!
— Конечно! Все так просто и страшно… Дитя-монстр и есть та девочка, которую местные так боятся…
— А пришельцы, которым грозит эта… «напасть»? Это мы, что ли, получается?! Ой, мамочки!!!
— Надо срочно бежать отсюда! Уезжать, улетать — как можно быстрее… — забилась в истерике Лиза Орехова. — Она нас всех убьет, кровь выпьет… Вот увидите! Не хотела меня мама сюда отпускать — как в воду глядела… Я домой хочу! По-мо-ги-те-е!!!
Только Юля не желала принимать все за чистую монету и, как могла, поднимала упавший дух восьмиклассниц, готовых, оказывается, поверить в любую глупость.
— Да вы бы себя со стороны послушали — каменный век какой-то! Это же розыгрыш, бред полнейший! И я даже догадываюсь, кто над нами издевается, но не буду говорить… Идиотские шутки!
Девчонки прислушались к своей утешительнице и понемногу притихли, а Юля повела их «на свободу» вереницей и чуть ли не за ручку, как первоклашек. Одна лишь Оля Штукарь держалась, как всегда, независимо, особняком: за весь вечер от нее ни слова не услышали. А приободрившийся Матусевич охотно поддержал мнение юной пианистки. Проверив, не оставил ли кто из девочек в библиотеке свои вещи — чего не случается в расстройстве! — щепетильный Шурик отдал Юле ключ, и та сама заперла тяжелую дверь. По лестнице эстет и меломан поднимался с «Панасоником» наперевес, без тени сомнения в голосе разглагольствуя:
— Ну конечно же, розыгрыш в античном стиле! И сколько вам нужно объяснять? Конечно, красиво придумано, но в принципе — ерунда все это! Кто-то неглупый решил позабавиться, а так… Вы помните, еще Людмила сказала по поводу таких «былей», — обычное суеверие. Фольклорный сюжет…
Оказавшись в своей комнате, измученные новоафонскими страхами девочки договорились о добровольном «затворе в монастыре»: никуда не выходить из «келий» до тех пор, пока не выяснят, что же такое здесь творится, и не удостоверятся, что им не угрожает опасность. А чтобы не раздражать темные силы, было решено ни о чем не сообщать взрослым. Одна лишь Юля Григорович не собиралась сидеть сложа руки, считая, что прятаться и пережидать глупо и стыдно. Она даже не заходила в «девчоночью», а прямиком направилась к классной руководительнице.
Приостановившись перед комнаткой Людмилы Николаевны, Юля брезгливо, двумя пальчиками достала из сумочки меченый платок и вежливо, но настойчиво постучала в крашенную белой масляной краской дверную створку. Знакомый голос с особой педагогической интонацией произнес:
— Войдите, открыто!
Полная праведного гнева ученица буквально влетела внутрь:
— Людмила Николавна, миленькая! Ну что же это за безобразие?.. Нас запугивают — девочки из комнаты выходить боятся!.. Не знаю, кто это, но догадываюсь… Только посмотрите, что подбросили, придурки какие-то! А на рояле такое написали…
— На каком рояле? — Преподавательница, ничего не понимая, поднялась из шезлонга, отложив в сторону подшивку журнала «Наука и религия». — Что написали?
— На концертном «Стейнвее»! Он там, внизу стоит…
Ну, Людмилочка же Николавна! Так не перескажешь, нужно в библиотеку спуститься… Пойдемте быстрее, пожалуйста! Я вам все покажу.
Классная руководительница, бросив недовольный взгляд на платок, забрала его и, сказав только: «Да-а-а!», поспешила за Юлей. В полуподвале девочка, решив, будь что будет, нажала на выключатель — яркий свет осветил библиотеку, проводка и не думала загораться. Юля кинулась к роялю:
— Вот здесь, на крышке… Ой! Исчезло!!! Ни буковки не осталось… Кто же ее стер-то… Может, уборщица? Надпись была, Людмилочка Николавна, честное-честное слово! Еще десять минут назад была: в таком, знаете, древнегреческом стиле, со страшными угрозами, и про платки… А платок с крестом на клавишах лежал. Краска необычная — светится в темноте…
Ни слова не говоря, Людмила Николаевна оставила Юлю закрывать подвал, а сама, взбежав по лестнице на нужный этаж (немолодая учительница никак не ожидала от себя такой прыти), подгоняемая возмущением, буквально ворвалась в комнату мальчишек, размахивая над головой злополучным платком, как уликой.
— Ну-ка признавайтесь, кто забавляется подобным образом? С такими розыгрышами впору милицию вызывать! Девочки в состоянии шока, все перепуганы… Вы ведь уже не маленькие, ученики образцовой школы, можно сказать, формирующиеся творческие личности, а такое себе позволяете. Пора стать серьезнее и ответственнее! Пора бы уже понять: настоящая шутка — это когда приятно и весело не только тем, кто шутит, но и тем, над кем шутят. А кому приятно получать такие сюрпризы?
— Да вы не верьте им, Людмила Николавна! — одновременно из разных углов басовито отозвались ломающиеся дисканты. — Наверное, сами себе подложили, а потом заигрались и забыли. Они же до сих пор как детсадовские — на газоне секретики под стеклышком закапывают. Ха-ха-ха!
Между прочим, записной озорник Иванов с самым невинным и благонамеренным видом увлеченно листал подаренный родителями для практики новый альбом издательства «Аврора» о работах передвижников в собраниях Русского музея и Третьяковской галереи.
— Небось, Григорович придумала? — точно прочитал мысли классной Вася Иванов. — Лопаева здесь нет, так она теперь на всех наговаривать будет! Сама подлая — все знают!
С минуту Людмила Николаевна была в замешательстве, но потом, ни к кому конкретно не обращаясь, громко предупредила:
— Вернемся домой, и я обязательно покажу этот размалеванный платок вашим родителям! Я этот инцидент так не оставлю, и не надейтесь! — после чего, хлопнув дверью, удалилась к себе.
Ребята слышали, как сердито простучали каблуки в сторону комнаты всегда принципиальной Людмилы.
IV
Юля Григорович демонстративно отказалась ужинать, заявив, что дурацкие мистические розыгрыши повлияли на ее хрупкую нервную систему, что она чувствует себя выжатой как лимон и совершенно потеряла аппетит. Наутро обнаружилось, что Юлино лицо и руки покрылись отвратительными красными пятнами. Такую частую и яркую сыпь невозможно было скрыть от окружающих, а восьмиклассницы, едва взглянув на нее, конечно же, сразу догадались, к чему это и отчего.
— Не подходи ко мне! А-а-а!!! — заорала, увидев недобрые знаки, Ира Лукьянова.
Остальные девчонки тут же бросились от бедной Юли врассыпную, как от зачумленной. Они подняли такой визг, что было слышно даже в комнате классной. Людмила Николаевна почти моментально отреагировала своим грозным появлением в девчоночьей спальне:
— Ну?! Что тут у вас опять происходит?! Почему я постоянно должна с вами нянчиться, как с маленькими?! Да-а-а… Этого только не хватало… Григорович, в медкабинет. Быстро и без возражений!
После срочного осмотра педиатра зараженную Юлю заперли в давно бездействующем карантинном боксе до выздоровления или до приезда родителей.
— Врачиха сказала, у нее ветряная оспа!!! — делая страшные глаза, вполголоса поведала остальным Лиза Орехова, которая, как мышка, подслушивала под дверью.
На минуту воцарилось скорбное молчание: тем, кто где-то слышал или читал о страшных эпидемиях, выкашивавших в прежние времена целые племена и народы, диагноз показался приговором.
— Оспа, да не та. Обыкновенная ветрянка, — спокойно объяснила Оля Штукарь, у которой бабушка была врачом. — Настоящая оспа давно побеждена, а ветрянкой почти все малыши болеют. Неприятно, но потом забудет, и следа не останется. В общем, пустяки — до свадьбы заживет…
— Ничего себе пустяки! И никакая это не ветрянка, — прерывающимся от страха голосом возразила Гуля. — Всем же ясно — это кара! В приписке так и сказано: кто проговорится, тот заболеет и умрет! Видели, как эта примерная болтушка сразу к Людмиле побежала? Вот и добегалась до красных волдырей…
— Ой, девочки! Я тут читала один рассказ о Красной Смерти — про чуму, — призналась Ира Лукьянова. — Жуть, там никто не выжил! А с Юлькой получается то же самое… Слушайте, надо поскорее сжечь эти платки, пока чума и до нас не добралась!
— Погодите, — возразила Оля, единственная из всех девчонок, кто еще не потерял присутствия духа. В послании говорилось: «есть шесть платков», но на рояле-то был всего один. А Эдгара По я еще в пятом классе читала. «Маска Красной Смерти» у него, пожалуй, самый страшный рассказ, но это ведь так, беллетристика.
— А что такое «бе-ле-три-сти-ка»?
— По-французски, кажется, «изящная словесность», а по-русски так говорят о несерьезной литературе или в тех случаях, когда авторские фантазии имеют мало общего с реальностью, — растолковала Оля Штукарь.
Однако явление остальных меченых платков не заставило себя долго ждать. В тот же вечер второй точно такой же меченный косым крестом знак внимания «мистической силы» — белый в мелкий голубой цветочек — обнаружился в верхнем ящике тумбочки безобидной молчуньи Марины. Утром роковой сюрприз был преподнесен девочке с глазами на мокром месте — Лизе Ореховой: платок оказался в этюднике прикрепленным кнопками к планшету. Затем стильная модница Карина перед сном вынула из кармашка своего махрового халатика какой-то кусок ткани и в ужасе отбросила от себя, увидев, как в полумраке зеленовато мерцает четкий четырехконечный крест на очередном батистовом носовом платочке. «Четвертый», — только и успела отметить про себя Карина, как в другом углу девчоночьей спальни, точно наступив на змею, взвизгнул кто-то из восьмиклассниц: «Ой, и у меня тоже! Подушку приподняла, а оттуда — свет!»
Все это выглядело совсем не смешно и все меньше походило на чье-то безобидное озорство и «беллетристику».
Следующий день выдался погожим — солнечным, но не жарким, а именно теплым. Не парило, а от этого меньше чувствовалась влажность, и главное — в воздухе не было марева, мешавшего на пленэре юным художникам. Они настроились на живопись: выдавив из общих тюбиков краски, все заранее подготовили палитры к работе. Вот только день начался с нового неприятного происшествия. Перед очередным занятием Евгений Александрович объяснил суть нового задания:
— Итак, мы все сделали трехплановый рисунок. Предлагаю теперь, так как погода располагает к тому, чтобы живопись получилась прозрачно-воздушная, писать в технике а-ля прима, то есть сразу, в один сеанс. А затем, когда подсохнет, уже лессировкой мы будем прописывать детали первого и второго плана… Все подготовились? Задание осложняется тем, что работать будем на время. Тот, кто справится с творческой задачей раньше остальных, получит в результате дополнительную пятерку.
Для начала практиканты пошли к роднику смочить свои планшеты. Оля Штукарь, которой «древние» мистические послания и знаки казались розыгрышем, понимая, что, в отличие от других, ей сейчас ничто не мешает достичь поставленной учителем цели, решила во что бы то ни стало выиграть соревнование. Девочка азартно смочила водой бумагу, затем, то и дело касаясь палитры с акварелью кисточкой, положила один за другим несколько бойких размашистых мазков на белый лист и вдруг, с визгом отбросив в сторону кисть, жалобно закричала:
— Ой! Что это они?! Евгений Александрович! Краски… они поссорились! Наверно, испорченные… Это не я, Евгений Александрович! Наверно, старые краски-то…
Учитель взял в руки палитру:
— Похоже, кто-то некрасиво пошутил.
Осторожно проведя по небесно-голубой лужице кисточкой, преподаватель обнаружил, что ее кончик окрасился оранжевым. Еще один мазок, на этот раз решительный — два цвета слились в грязно-серый, точь-в-точь такой, как на Олиной работе. Охра красная, которой девочка хотела изобразить дорожку, посыпанную песком, представляла собой подобную двухслойную конструкцию — как на пирожном, где слой крема укладывается поверх желе. Под тонким слоем красной краски обнаружилась тщательно замаскированная зеленая. Лужица желтой таким же образом скрывала фиолетовую краску. Вот как коварный зловред «заминировал» всю Олину палитру!
— Это настоящая диверсия, Штукарь! Ты кому-то очень сильно насолила: кто-то выдавил в палитру сначала слой одной краски, а затем сверху — те цвета, которыми ты хотела писать, и получился слоеный пирог из несовместимых красок. Да-а-а… Кто ж злодей такой?..
И в самом деле: вместо сочных южных цветов яркосинего, слепящего солнцем неба и буйной субтропической зелени, вместо разнообразия тончайших, нежнейших оттенков природной радуги на Олином ватмане расплывались безобразные и бесформенные грязные серо-бурые пятна. Буквально на глазах они нагло поползли-потекли вниз, безнадежно портя рисунок!
Евгений Александрович внимательно оглядел учеников:
— Кто испортил работу Штукарь?
Все как воды в рот набрали.
Не понимая, что происходит, Оля сквозь набегавшие слезы наблюдала за этой войной цветов, и на память ей пришли любимые «Битлз»: в мультике «Yellow Submarine», который она однажды смотрела дома у Матусевича на диковинном японском видеомагнитофоне, зловредные силы мрака пытались лишить цвета и света яркий, жизнерадостный мир волшебной страны. На экране эту трагедию предотвратила рисованная ливерпульская четверка, а теперь, в реальной жизни, девочка не знала, как справиться с подобным даже на листе бумаги. Была бы рядом битловская музыка, но Шурик, к сожалению, после покушения на его шляпу не брал с собой на пленэр бесценный «Панасоник». Преподаватель подошел ближе и, успокаивающе положив руки девочке на плечи, нагнулся над планшетом:
— Ну не стоит расстраиваться, не стоит… Та-ак… Говоришь, не твои краски? Хм… Давай-ка посмотрим, что тут можно исправить. — Евгений Александрович, медленно переводя взгляд с одного подозреваемого на другого, строго произнес: — Похоже, кто-то хорошо усвоил и взял на вооружение теорию о несовместимых цветах, но находчивость похвальна, если не обращать ее во зло. Кто-то из вас счел возможным испортить чужую работу. Я надеюсь, всем понятно, что данный поступок порядочным никак не назовешь. Я крайне огорчен таким поведением — не ожидал подобного от моих учеников. Мне стыдно за вас!
Реакцией на слова Евгения Александровича была гробовая тишина. Он демонстративно повернулся к ученикам спиной и несколько минут разглядывал видневшееся внизу лазурное в этот час море, все-таки надеясь, что у неизвестного «экспериментатора» за это время проснется совесть и он признает свою вину перед всеми. Когда учитель снова обратился лицом к ребятам, все по-прежнему уныло молчали, и только одна Оля Штукарь виновато-робко попросила:
— Евгений Александрович, простите нас… Пожалуйста! Простите, что так вышло, — все ведь из-за меня… Пусть я буду виноватой!
Преподаватель еще раз оглядел восьмиклассников пристальным взглядом:
— Вам не за что просить прощения. Тем более тебе, Оля, незачем доставлять удовольствие тому, кто действительно виноват. Ведь он будет злорадствовать, если другие примут на себя его вину, но я ждал именно его извинений перед всеми, и печально, что этого не произошло… Только пускай трус хорошенько запомнит: все тайное когда-нибудь обязательно становится явным. — Евгений Александрович еще немного помолчал. — Ну а теперь мы опять вернемся к занятиям. Условия нашего конкурса-соревнования прежние.
Юные дарования вновь принялись рисовать. В конце очередного сеанса работы были выставлены в ряд — на обозрение всей «сборной» восьмых классов. Общим голосованием решили, что лучше всех с первоначальным этапом справился Олег Пономарев. Евгений Александрович заметил:
— Ну что ж, за сегодняшний день ставлю тебе пять. Завтра мы переходим к следующему рабочему этапу — будем прописывать передние планы лессировкой. Жаль только, что у Штукарь такая неприятность. Ты уж, Олег, завтра возьми над ней шефство: смотри, свою работу не испорти, и ей помоги выправить положение.
Олиному отчаянию, казалось, не было предела, но Евгений Александрович, сочувственно качая головой, успокоил девочку:
— Ничего страшного. Придется завтра начать сначала: терпенье и труд все перетрут.
Подобное назидание только сильнее подхлестнуло девочку: «Завтра! Все уже будут работать красками, а я опять начну заново рисовать?»
Когда другие отправились на ужин, Оля в который уже раз за день вытерла слезы, закрепила на планшете чистый лист и принялась рисовать все по новой. По привычке призвав на помощь битлов, мурлыкала на память бесшабашный припев песенки «А Hard Days Night»
[7] и рисовала. Но творческое упорство порой переходит в упрямство и тогда может сослужить плохую службу: в сумерках на рисунке вместо деревьев в перспективе и кизилового куста на переднем плане появилось что-то странное, не поддающееся описанию. Словом, на самом деле наступил вечер трудного дня — вот когда у юной художницы Оли Штукарь по-настоящему опустились руки. Слез у нее уже не было: девочка просто сидела на нагретом за день камне, подперев руками подбородок и в отчаянии уставившись на свой этюдник, с которого за ней, в свою очередь, наблюдало вышедшее из-под ее же карандаша косматое нечто. Непривычные, дурманяще-удушливые запахи Юга во влажном вечернем воздухе усилились, монотонный хор цикад раздражал слух. В такой обстановке Оле одновременно стало холодно, одиноко и попросту страшно. Она спешно засобиралась, когда послышавшийся вдруг над самым ухом голос Матусевича заставил ее вздрогнуть.
— Не стоит тревожиться, — вкрадчиво прошелестел Саша, незаметно возникший у нее за левым плечом. — Все равно сейчас, в этой темнотище, ничего уже не исправишь, не нарисуешь. Лучше мы в «Псырцхе» весь твой вчерашний рисунок в два счета на другой лист переведем — есть старый дедовский способ…
V
Тиллим Папалексиев ничего этого не видел и не слышал. Устроившись на своей укромной полянке, он с утра продолжал доводить до ума суковатого Лаокоона. Оценивший вчера творческое воображение ученика Евгений Александрович оставил ему индивидуальное задание — непременно добиться в оригинальной работе как можно большей степени выразительности и художественной убедительности. Четырнадцатилетний мальчик был окрылен таким доверием и оценкой настоящего, взрослого художника, поэтому старательно, неторопливо выписывал засохшее дерево — его обнаженные, причудливо раскинутые ветви-руки, живописно расщепленный, изогнувшийся, точно в мучительном порыве, ствол-туловище. Постепенно увлекательная работа, сопровождаемая возвышенной музыкой в наушниках (сначала любимым классиком Вивальди, потом любимой битловской классикой «Love of Songs»), привела Тиллима в ни с чем не сравнимое умиротворенное состояние романтического вдохновения.
Оторвав глаза от работы, чтобы схватить сложный изгиб мощного сука, Тиллим неожиданно увидел Тамару Вахтанговну — директора турбазы-пансионата, да так и застыл, моргая ресницами, с кистью в одной руке и большой серо-синей старательной резинкой в другой. Пышная прическа степенной директрисы была испорчена, схваченные лаком волосы взлохмачены, руки пугали кровавыми ссадинами и царапинами, а еще недавно безупречно отглаженная белоснежная юбка была перепачкана зеленью и не просто смята, а варварски разодрана снизу доверху! Бедная женщина словно забыла про собственную полноту и, опрометью выскочив из садовой заросли, в невероятном прыжке перемахнула через полянку, не переводя духа попыталась с разбегу взобраться на высокий кипарис, но, съехав по стройному стволу своим внушительным животом, тут же устремилась в самую гущу колючих кустов дикой розы, где мгновенно пропала.
«Во дает! Что это с ней такое?» — едва успел подумать сбитый с толку, обеспокоенный мальчик, как затылком почувствовал жаркое дуновение и одновременно ощутил позади себя чье-то тяжелое дыхание. Тиллим осторожно повернул голову и вновь застыл как вкопанный на ставших вдруг ватными ногах — только волосы у него зашевелились от ужаса.
Совсем рядом стояло грозное эпическое чудовище! Громадный, покрытый местами длинной, завившейся бурой шерстью бык, из широко раздувающихся черных ноздрей которого готовы были вот-вот вырваться языки пламени, угрожающе рыл копытом жирную, рыхлую землю, исподлобья уставившись на мальчика крохотными, в сравнении с головой и всей исполинской тушей, но налитыми кровью и словно остекленевшими глазками. Тиллим сразу узнал эту рогатую образину: именно она просунулась в окно туристского автобуса, и ее с перепугу Шурик принял за голову бога лесов Пана. Секунда, другая — мгновения в восприятии подростка длились бесконечно долго… И вот эта рогатая бычья голова потянулась к груди Тиллима! Мальчик закрыл глаза: «Только бы не закричать — тогда конец…» Теперь время точно остановилось, однако же с Тиллимом ничего не происходило, разве что в наушниках одна лирическая битловская мелодия сменилась другой, еще более нежной…
Тиллим слегка приоткрыл глаза и — о чудо! — увидел, как ужасный пришелец, точно котенок масло с пальца, слизывает с зажатой в руке юного живописца палитры обыкновенную акварель «Ленинград». «Стоп! Какая же она обыкновенная? — Тиллима осенило. — Это же
медовая акварель — наверняка сладкая… Слава богу, я в порядке! И этюдник стоит нетронутый…»
Неожиданно сквозь жизнерадостную, солнечную музыку, нарушив ленноновскую гармонию, прорвался полный ужаса истошный вопль Тамары Вахтанговны:
— Уводи его, малчик! К шоссе уводи!
Высунувшись на какие-то секунды из розовых кустов, до смерти напуганная женщина изо всех сил махала рукой, указывая Тиллиму нужное направление. Когда же бешеное чудовище с грозным мычанием покосилось на нее, опять «окунулась» в колючую заросль, попискивая от боли и страха, но больше уже не показываясь из своего укрытия.
Тогда Тиллим, медленно взяв кисточку и положив на палитру сколько мог захватить лакомой для рогатого сластены оранжевой краски, приподнялся и на полусогнутых ногах крохотными шажками попятился к шоссе, держа привлекательную палитру перед самой точно вытянувшейся бычьей мордой. «Вот так, вот так… Молодец! Главное, чтобы этюдник не тронул… Ну еще, еще… За мной!» — приговаривал юный тореадор из Челябинска про себя, больше всего беспокоясь в этот момент за свою работу и постепенно, как на невидимой цепи, уводя грозное животное все дальше от поляны…
На шоссе их уже встречала караулившая беглеца специальная группа. Какой-то бородач в зеленой шапочке и такого же цвета коротком халате (это был ветеринар) выстрелил в быка, и тот медленно, молча сначала осел на передние ноги, а после рухнул вперед, прихватив большими губами вкусную палитру. Тиллим, тоже без сил, опустился на плавящийся от жаркого солнца асфальт.
— Ты как, малчик? Целый, да? Он тебя не задел? — беспокоился кто-то с кавказским акцентом, суетясь возле Тиллима.
Мальчик ничего не слышал: шок еще не прошел, зато приходило осознание опасности, которой он только что избежал, а мысли о невредимости работы отступили куда-то на второй план. Всерьез огорчило другое: Тиллим с грустью посмотрел в сторону небольшого грузовика, куда несколько плечистых дядек взгромоздили безжизненную бычью тушу. На детские глаза навернулись слезы: «Грозный, конечно, но зачем же так… Зачем было убивать? Чудо природы, можно сказать, тоже жить хотел… И между прочим, так ведь никого и не поранил…»
— Э-э! Ты не беспокойся, — похлопал его по плечу, белозубо улыбаясь, кавказец в рыболовной куртке из камуфляжа. — Эт толко снотворное. Отвезем хозяину, Проснется и теперь будэт вести себя как слэдует, а то разгулялся очень. Бичо мой!
Он добродушно объяснил, что «бичо» по-грузински — «мальчик», и Тиллим наконец-то даже повеселел:
— Ага! Малышу надо и поиграть иногда.
— К животному должен быть особый подход, — включилась в разговор молодая женщина-зоотехник с расчесанными на прямой пробор длинными белокурыми волосами, стянутыми узорчатой бисерной ленточкой-повязкой. — Вот в Индии, например, корова, как известно, — священное животное, а это исключительно мирная страна, никогда не нападала на других за тысячелетия своего существования. Оттого, что убивают коров, и происходят все войны, природные катаклизмы. Я тоже убеждена, что животным прежде всего нужна любовь, так же, как людям.
«Наверное, она хиппи, как Леннон и Харрисон! Они тоже поют: „All you need is Love!“»
[8], — подумал довольный Тиллим.
— Он настоящий герой, витязь в тигровой шкуре! — послышался со стороны поляны, которую облюбовал юный художник, срывающийся на высоких нотах женский голос. Это директриса Тамара Вахтанговна спешила к людям прямо через газон и клумбы, как совсем недавно рвалась напролом сквозь заросли. Теперь у нее и туфелька с левой ноги была потеряна, через разорванный чулок был виден экстравагантный фиолетовый педикюр.
Посреди девчоночьей спальни возвышалась малая архитектурная форма. Автором ее был мастер на все руки, знаток разных «умных вещей» и «мудрых практик», «мозамбикский зодчий», «иностранец» Шурик Матусевич. Как и обещал, он «в два счета» соорудил для Оли хитрый прибор, чтобы копировать «старым дедовским способом» изображения с листа на лист. Шурик поставил на некотором расстоянии одну от другой две обыкновенные табуретки. Табуретки накрыл большим стеклом, которое девчонки по его указанию «временно позаимствовали» в коридоре со стола у администратора. На стекло был положен испорченный карандашный рисунок, а поверх него чистый, как фартук первоклассницы, лист ватмана. Наконец, на пол между табуретками, под самое стекло, а точнее, под уложенные друг на друга листы поместили ночник, с которого предварительно был снят абажур. Ко всеобщему удивлению, за какие-то пять минут «дедовский прибор» был готов!
Теперь Оле оставалось только включить ночник, взять хорошо отточенный карандаш и терпеливо, линия за линией, перевести рисунок со старого листа на новый, но тут из-под окон неожиданно донесся ликующий вопль:
— Идите все смотреть! Тиллим быка подстрелил!
Вдвоем с Матусевичем они, торопясь, перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, выбежали на воздух. Здесь уже столпились восьмиклассники во главе с учителями, а также сама спасенная Тиллимом от «бешеной скотины» Тамара Вахтанговна Живания. Она на разные лады с характерным грузинским темпераментом славила «витязя» Тиллима:
— Ай, малчик! Какого ученика воспитали, уважаемые! Настоящий уральский смельчак. Русский богатырь!
Людмила Николаевна вовсю улыбалась, с интересом расспрашивала Тамару Вахтанговну, как и что было, — приятно слышать, когда хвалят твоего ученика и тебя не забывают! Евгений Александрович тоже был доволен, но старался держаться с достоинством, молчал. Вот мимо на небольшом грузовичке провезли неподвижную тушу еле помещающегося в кузове, все еще не вышедшего из-под наркоза быка.
Шурик недоверчиво забросал кого-то вопросами:
— Папалексиев смог быка поймать?! Подстрелил?! Из чего же это Тиля его мог… Правда, что ли?
— Нет, понарошку… Да точно — сначала заманил красной палитрой, как тореадор, а потом ка-ак выстрелит!
— Вот кто у нас по-настоящему храбрый, не то что некоторые… каратисты, — язвительно заметила Карина, жуя сочный инжир.
Вслед за грузовиком показался сам Тиллим. Усталый, он шел пошатываясь, с этюдником через плечо. Услышав «сказание» о своем «подвиге», застенчиво краснея, махнул рукой:
— Да ладно вам… Придумали уже — тореадор! И ничего особенного я не делал. Ветеринары выстрелили из шприца снотворным, вот Мальчик и спит до сих пор… А я просто рядом стоял.
Его пытались еще о чем-то спрашивать, но Тиллим только отшучивался.
VI
Позабавившись над полусонным Бичо-Мальчиком и порассуждав, сколько же нужно снотворного, чтобы усыпить-обезвредить такого «крошку», девочки под предводительством Матусевича вернулись в свою комнату. Оля, оторванная от важного занятия, поспешила включить ночник и принялась обводить четко проступивший старый рисунок, но вдруг закричала, привлекая всех к кругу света на стекле:
— Смотрите, смотрите — опять… Такого же не бывает!
А посмотреть в самом деле было на что. По белой бумаге над самой лампочкой ночника одна за другой, как в замедленном кино, на глазах, точно из-под невидимого пера, обмакиваемого в старинные коричневые чернила, проявляясь, зловеще поползли «греческие» буквы, постепенно складывающиеся во вполне связную надпись:
Чтоб наконец-то покой обрела я в селеньях усопших,
Все шесть платков там сожгите, где прежде указано было,
Только кругом обложите различного вида сластями,
Но не дерзайте скупиться и вдоволь конфет принесите!
Пусть шоколадные трюфели и карамель лягут рядом
В круг изобильный, ведь я их вкуса не ведала вовсе
В жизни короткой своей, вмиг оборванной матерью злобной…
Кто же о тайном послании вздумает старшим поведать,
Будет наказан за это — немедленно станет он мертвым.
И, точно в подтверждение этих слов, на подставке ночника оказался аккуратно повязан недостающий носовой платок, меченный, как и все предыдущие, крестом — на этот раз уже последний. Он явно был недвусмысленным сигналом к тому, что грозное предписание из потустороннего мира призраков и привидений следует исполнить, и как можно скорее.
Почти все девочки, сделав страшные глаза, как по команде, повернулись к «просвещенным» и несуеверным Штукарь с Матусевичем и хором воскликнули:
— Теперь видите? А вы еще не верили!
Саше с Олей оставалось лишь виновато-скромно пожать плечами. Только Шурик при этом пробурчал:
— Мистика какая-то! Сказать кому — не поверят… А что я? Тут уж не до шуток: по-моему, следует сделать все именно так, как там написано! Да-а-а… Кто бы мог подумать, а?
Какие уж тут колебания и сомнения — нужно было готовиться! Первым делом все платки собрали вместе, сложили было в один полиэтиленовый пакет, да вот незадача: вспомнили, что первый платок остался в комнате у Людмилы на подоконнике, где лежит рядом с журналом «Наука и религия». Классная, выходя куда бы то ни было, всякий раз закрывала комнату на ключ, и проникнуть туда теперь казалось невозможным. Девочки принялись наперебой предлагать самые неожиданные способы вернуть платок.
Ира Лукьянова расфантазировалась:
— Может, кто-нибудь заберется на платан, который как раз напротив Людмилиного окна. Можно ведь перебраться на ветку поближе, а уж там цель на виду! Если сунуть руку в форточку, наверняка дотянешься и до подоконника, и до…
— Ага… С чего бы это — «наверняка»? Это ж какая рука нужна? Как щупальце у осьминога! — опустила ее на землю Карина.
— И вообще: такое разве что каскадеру под силу! Во всяком случае, я туда ни за что не полезу, — плаксиво заявила Лиза Орехова.
Карина ехидно прищурилась:
— Скажи уж сразу, что струсила!
— Слу-ушайте! А вдруг Людмила оставила ключ на вахте у администраторши?! Пусть тот, кто всех смелее, попробует его оттуда незаметно… взять. Почему бы и нет?
Это предложение поступило откуда-то из темного угла. Никто не ожидал услышать подобное, но здесь явно прозвучал издевательский намек на единственного мужчину в комнате. После напряженной паузы Оля Штукарь возмущенно отчеканила:
— Нет! Потому что это нечестно и подло… Подло толкать человека на преступление, а взять ключ — откровенное воровство!.. Вот пускай лучше Саша скажет.
Матусевич мгновенно оживился, словно только и ждал, когда спросят его:
— Да вы не ссорьтесь, девочки! Все значительно проще, чем вам кажется. Есть возможность достать платок, не забираясь внутрь, — и никакого личного риска! Мне понадобится всего-то самая обыкновенная удочка.
В курортном поселке, что расположен у самого синего моря, где каждый второй житель или отдыхающий — рыболов, найти удочку пара пустяков. Новый Афон в этом смысле не исключение. Простецкая удочка из бамбуковой палки с примотанной к ней толстой леской и прилаженным ржавым крючком, то есть такая, какими обычно удят мелочь дети, нашлась на задворках бывшего монастыря — у помойки, рядом с останками какой-то церковной книжки на славянском языке, без обложки, с разрозненными, измызганными листками. Должно быть, хозяин давно подрос и забыл о существовании своей первой самодельной рыболовной снасти, заменив ее на фирменную из магазина или на спиннинг с японской леской и блесной.
Пока Людмила и все ее подопечные были на ужине, Шурик достал готовое «специальное» приспособление из бамбука для вытягивания с подоконника носовых платков, хорошенько примерился и, размахивая гибким удилищем, с четвертой попытки (хорошо, что никто не видел трех предыдущих) попал точно в открытую форточку комнаты классной. В общем, крючок в конце концов удачно подцепил цветастый кусочек ситца с аляповатым крестом, и таким образом поставленная цель была достигнута. Вскоре в пакетике на шкафу в девчоночьей спальне лежали все шесть носовых платков, необходимых для «ритуальной церемонии»!
Когда после ужина девочки и изобретательный Саша собрались в комнате, Оля решительно заявила:
— Теперь мы можем идти на кладбище и сжигать платки!
— Только на рояле было написано, что нужно дождаться полуночи… — застенчиво, почти шепотом, заметила тихоня Лиза.
— Конечно в полночь! Все и без тебя знают… — оборвала ее Карина, но тут же сама осеклась и испуганно посмотрела на подружек. — Ой!.. А где это кладбище-то находится? Кто-нибудь запомнил?
— В какой-то Ана… Анаскопии… кажется, — неуверенно послышалось в ответ.
— О господи! — устало вздохнула Оля Штукарь. — А-на-ко-пи-я! Нужно хоть иногда слушать экскурсоводов, а не сплетничать друг с дружкой, у кого какой лак для ногтей или туфли на шпильках. Есть местная достопримечательность — древнее Анакопийское городище, которое раскопали археологи. Ему тысячи лет… Не понимаю, разве это никому не интересно? Так вот там и кладбище. Как раз рядом с тем местом на шоссе, где мы все… слышали детский плач.
Восьмиклассницы приумолкли. К Лизе первой вернулся дар речи:
— Какая ты все-таки умная, Олька!
— Как все связано, оказывается, жуть! Я думала, такое только в кино бывает… Мне страшно, девочки… — прошептала Ира Лукьянова.
— Все жутко загадочно и жутко классно! Хочу на кладбище!!! — неожиданно вскочив на кровать и запрыгав на пружинящей сетке, как индеец на мустанге по прерии, бесстрашно выкрикнула Наташа Плотникова.
Тут Гуля, озабоченно наморщив лобик, осторожно спросила:
— Если выходит, что так все серьезно, может, нужно посоветоваться со взрослыми?
— Проговориться и посвятить их в «тайну посланий»?! — возмутилась Наташа. — Ты, наверное, забыла,
что с Юлькой, — уже «посоветовалась»!
Больше о необходимости ночной «прогулки с ритуалом» на древнее кладбище никто не спорил. Откладывать на завтра такое важное дело, от которого, в чем все уже убедились, зависела судьба челябинской сборной, тоже не следовало: счастливый исход был возможен лишь при срочном выполнении ультиматума потусторонних сил. Девочки твердо решили — только сегодня, пока не появилось еще какого-нибудь послания с новыми требованиями.
— Значит, так! — командным тоном заявил Матусевич. — Если с вами что-то случится, я себе этого не прощу. Именно я должен идти во главе, а вы должны во всем меня слушаться — в целях безопасности. В любом деле главное — единоначалие! От этого зависит успех.
Шурику не терпелось реабилитироваться в глазах сверстников, к тому же в нем говорило привычное диктаторское начало и артистическое желание постоянно быть в центре внимания.
Всем было понятно, что за Сашей «в ночное», конечно же, пойдет Оля Штукарь. Любительница «жутких тайн», староста Наташа тоже вызвалась участвовать в рискованной «прогулке». Никто бы и не подумал, что выдающуюся личную отвагу проявит трусиха и тихоня Лизочка Орехова, но именно она буквально упросила взять ее «в добровольцы». Наконец, в последний момент к компании присоединился Тиллим, которого разбирало любопытство — что это за кровожадное античное привидение, известное всей округе, и которому о походе на кладбище по давней безответной симпатии доложила Карина.
На повестку ночи встал вопрос о жертвенных сластях. Девчонкам не составило труда собрать целый кондитерский набор для того, чтобы «усахарить» «не ведавшую вкуса» конфет удушенную «матерью злобной» девочку-вурдалака. Оля, бросившая клич немедленно начать сбор, сама сделала первый вклад в общую корзину (у кого-то действительно оказалась плетеная корзина для ягод и грибов, в которую при отправлении на Юг заботливые родители упаковали курортные принадлежности) — это была большая коробка конфет-ассорти с разными вкусными начинками «Свердловский сувенир».
— У меня есть «Коровка сливочная» — тетя из Риги прислала, родители с собой сунули! — призналась Наташа. — Я хотела всех угостить в день варенья, но сегодня ночью она больше пользы принесет…
— А у меня московские — «Мишка на Севере» и «Гулливер». Кто же от них откажется? — приговаривала Гуля, высыпая любимое лакомство прямо в корзину.
— Тут в сумке нашелся зефир в шоколаде… Годится? — без особой охоты произнесла Ира Лукьянова, вертя в руках розово-белую упаковку, но Карина помогла ей принять нелегкое решение:
— Давай-давай, Ирунчик, как раз то, что надо! В послании было не только о конфетах. — И добавила от себя пакетик трюфелей.
— А «Раковые шейки» подойдут? — спросил кто-то неуверенно, но, судя по тону, очень хотевший участвовать в спасении земляков от жуткой напасти.
Матусевич сразу кивнул, заметив, что о карамели в письме тоже говорилось. Тут из комнаты мальчишек подоспел и Тиллим со своей «жертвой на общий алтарь».
— Вот! Тортик «Ленинградский», шоколадно-вафельный.
— О! Для благородного дела ничего не жалко — мертвая девочка оценит твою щедрость, Папалексиев, — с явным удовлетворением отметил Матусевич. — Но у меня есть настоящий сюрприз для вампирши — бычья кровь!
С этими словами он извлек из кармана батончик «Гематогена». Из восьмиклассниц никто и не знал, что мальчики любят иногда пожевать эти полезные, сладкие ириски, продававшиеся только в аптеке как средство от малокровия, поэтому редкую находчивость Саши на этот раз не оценили, только Тиллим уловил черный юмор, но не подал виду: пусть Шурик сам смеется над своими идиотскими шутками.
А между тем в корзину падали пряники, печенюшки, сосульки, шоколадки с орехами и изюмом… Кто-то даже бросил пару пластинок импортной жвачки, а Шурик все подбадривал:
— Еще! Нечего тут жадничать — на святое дело идем! Раз уж решились, нужно собрать полную.
Когда корзина наполнилась до краев, подошла стеснительная Лиза, которая в любой очереди пропускала других впереди себя. Проговорила тихо, виновато уставившись себе под ноги:
— Саша, у меня вот еще лукум есть. Я девочек угостила, всего полкоробочки осталось… Я знаю, мало, но…
Шурик снисходительно похлопал одноклассницу по хрупкому плечику:
— Ну ладно, Орехова! Смешно же стесняться, если больше все равно нет. А тут зато будет с горкой — достаточно… Ты лучше вот что: раз идешь с нами, будь добра разложить все дары точно, как там указано.
Лиза послушно кивнула, только спросила с нескрываемым любопытством:
— А о чем мы ее попросим?
— Кого «ее»? — не понял сначала Матусевич.
— Мертвую девочку из леса… — тихо уточнила Лиза, краснея и снова опустив глаза в пол.
Шурик задумался, взъерошив свои и без того вьющиеся черные волосы:
— А-а-а… Ну мы…
— О чем?! — эмоционально перебила его Оля. — Я-то знаю, о чем просить: если она и вправду может что-то исполнить, пусть накажет тех, кто испортил мне палитру! До сих пор успокоиться не могу… Кто-то думает, что так можно шутить, так вот пусть будет урок зловредам этим за издевательство!
— И пусть у них краски с бумагой не дружат! Ни одна! Представляете: был бы здесь Эскалоп-Лопаев, провел бы по листу кисточкой, а бумага бы ему краской ка-ак плюнула! — подхватила было Наташа Плотникова, но фамилия хулигана, которого многие в классе считали полным примитивом, вызвала у Оли настоящую аллергию.
— Дался вам этот Лопаев — сначала Юльке, теперь тебе! Влюбились в него, что ли? В Челябинске он!
— Сама ты влюбилась… — не растерялась Наташа и хотела даже сказать, в кого (Тиллим внутренне напрягся), только теперь Гуля перебила уже ее, спеша вернуться к главной теме:
— Нет, пусть у этих шутников с рисованием ничего не получается, пусть их даже карандаш не слушается!
Девочка знала, чего пожелать неведомым озорникам, потому что ей самой рисование давалось с большим трудом.
— Маловато будет… — с ехидной ухмылочкой заметила Карина, тут же зловеще отчеканив, будто и сама водилась с нечистой силой: — Пусть монстр заберет с собой всех, кто это сделал!!!
После такого «заклинания» девочки опять почувствовали страх, притаившийся в темных углах их спальной комнаты… Матусевич как неформальный лидер — «вождь» — сказал свои «последние слова»:
— По-моему, не стоит ни слишком озлобляться, ни слишком бояться. Нужно учиться контролировать чувства! Это закаляет волю — так всегда говорил мой африканский гуру и сэнсэй по карате. Я думаю, что мстительную лесную сладкоежку необходимо сначала угостить тем, о чем она всегда мечтала, задобрить, а тогда уж будем просить — нужные слова придут сами собой!
«Смотри какой! У него в Мозамбике даже гуру был. Может, он еще и йог?!» — чуть не захохотал Тиллим.
А Лиза, набравшись смелости, вдруг напомнила:
— Главное, не забыть попросить, чтобы она Юлю Григорович простила и от оспы избавила…
Тут уж тихоне никто и не подумал возражать.
VII
Теперь к ритуалу на кладбище все были готовы. Девочки дождались, когда в преподавательской спальне погас свет, а затем, в половине двенадцатого ночи, все старались помочь маленькому отряду перебраться из спальни через открытое, заостряющееся кверху окно второго этажа в ночную тьму — на старый бук. С развесистого дерева Оля, Наташа и Лиза спустились уже по прислоненной к стволу ремонтной лестнице — ее, оставленную малярами во время весенней покраски фасада, отыскал в бывшем монастырском дворе Тиллим. Внизу пробравшиеся незамеченными через вахту администраторши Матусевич и Папалексиев, как истинные джентльмены, протягивая руки, подстраховали одноклассниц при мягком приземлении в траву.
— Фонарики не забыли? — полушепотом, озабоченно спросил Тиллим.
Три голоса в тон ему ответили:
— С собой!
Шурик важно, точно знаменосец, поднял над головой пакет с платками, тускло зеленеющими в темноте через полиэтилен, напоминая таким образом, кто тут главный, а заодно — цель похода.
— Скорее, каждая минута дорога! Идемте за мной, вдоль реки, а там…
Тиллим неожиданно возразил:
— Нет-нет! Идти нужно обязательно через лес. Там древняя мощеная дорога, проложенная жителями Анакопии. По ней потом столетиями ходили монахи, а недавно археологи привели ее в порядок. Вдоль реки сейчас вообще опасно идти — там откос каменистый! В такой тьме один неверный шаг — и кто-то из нас уже в воде.
— А ты откуда про греческую дорогу знаешь? — полюбопытствовала Оля.
— Здесь все местные про нее знают, только боятся привидений — девочки этой и убитых монахов, вот и не ходят. Но она зато еще и прямая.
— Правильно! — поспешил вставить свое веское слово Матусевич. — Мы пойдем прямым путем — в город мертвых нужно идти дорогой мертвых! Раз они тысячи лет назад по ней ходили, и мы должны. Это мистически верно! Молодец, Папалексиев, ты у нас следопыт, оказывается.
— Во всяком случае, не у тебя, ковбой африканский! Просто мне это интересно, — отрезал «следопыт».
Под мрачный покров леса вошли как в какой-то иной, таинственный мир. Отряд сразу почувствовал, как прохладен и сыр здесь воздух — точно в подземелье или склепе. Пахло прелью, вековой неприветливой чащобой. Трудно было поверить, что днем кругом светило солнце и была почти тридцатиградусная жара. Школьники старались ни на шаг не отставать друг от друга, освещая путь между двух стен огромных деревьев с замшелыми стволами, перевитыми лианами, слабыми лучиками карманных фонариков. С корявых сучьев клочьями свисала невиданная зеленоватая природная сеть, похожая на паутину. Впереди не слишком уверенно, бесшумно ступая, крался притихший Шурик, вынужденный, однако, соответствовать роли лидера. За ним следовала презиравшая страх темноты Оля Штукарь, потом Тиллим с увесистой корзиной сладких жертвоприношений, который старался быть как можно ближе к своей даме сердца, а в арьергарде крохотного отряда, держась за руки и вздрагивая при каждом шорохе, то и дело запинаясь об исполинские корни, буквально подпрыгивая, поспешали Наташа и Лиза. Однако ничего сверхстрашного на зловещей лесной дороге с восьмиклассниками не произошло, кроме разве того, что, одетые в футболки и шорты, все продрогли, что где-то в кронах жутковато ухали невидимые птицы и, наконец, что одна из них — показавшийся Матусевичу здоровенным филин — почти у самого выхода на шоссе неожиданно спланировала над дорогой в полуметре от впередсмотрящего, пронизав его до подошв фирменных кроссовок пророческим, недобро мерцающим светом огромных глазищ, едва помещающихся на круглом, почти человечьем «лице». Шурик успел только тихо ойкнуть, а крылатый вестник ночи, еще раз ухнув напоследок, слился с непроглядной тьмой чащи.
На шоссе в тусклом свете фонарей отряд остановился, чтобы перевести дух перед тем, как приступить к главной — ритуально-мистической — части похода и отогнать новую неотступную волну страха, накатывающую на юных смельчаков вместе с морским бризом со стороны
уже недалекого анакопийского некрополя. Тут Матусевич, многозначительно вздохнув, словно его осенила гениальная догадка, поднял вверх указательный палец.
— А филин-то неспроста на меня так посмотрел! Конечно, сова у греков была птицей Афины и символом мудрости, но для нас важнее другое — сова считалась вестницей из мира мертвых! Значит, это потусторонний знак: мы действительно шли верной дорогой, и мертвые нас уже ждут… Кстати! Уже почти полночь — без пяти двенадцать. Вперед, вперед — нужно спешить!
Эффект от сказанного получился обратный. Лиза с Наташей застыли как вкопанные, жалобно уставившись на Сашу, словно в последний раз вопрошая: «Страшно! А может, не нужно никакого кладбища? Может, еще не поздно повернуть назад? А если мы заблудились?»
Но Шурик уже перешел пустынное в этот час шоссе.
— Если вы заблудились в лесу, то нужно не паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят, вид мха успокаивает.
— Слушай, Матусевич, ты что, нарочно у девчонок на нервах играешь? — прошипел разозленный Тиллим, нагнав умника.
— Очень надо! Просто я заметил мистический знак и всех оповестил… Разве я соврал?
Теперь Тиллим не знал, что и возразить: филина он сам видел и, сказать по правде, подумал то же, что озвучил Шурик.
— Да ладно! Идемте, девочки: останавливаться в двух шагах от места несерьезно, — позвала спасовавших подруг Оля.
— А я уже начинаю бояться, может, все-таки не пойдем? — осторожно спросила Наташа.
— Со мной никого не бойся! Слушай анекдот, — подмигнул Матусевич, взяв ее за руку. — Одна девочка так сильно боялась прыгнуть с парашютом, что прыгнула без него.
— Не смешно, — сказала Наташа, но при этом приободрилась.
Ровно в полночь восьмиклассники вышли к древнему некрополю. Здесь, конечно, такой тьмы, как в девственной чаще, не было, но слабо мерцающие звезды, неполная в это время луна и даже свет фонариков не позволяли толком разглядеть самую загадочную местную достопримечательность. Перед «пришельцами» лежал участок земли без единого деревца (посветив, Тиллим обнаружил только редкие кусты белого шиповника и чахлые туи) с некоторым количеством строгих каменных плит и стел, в основном поваленных, да нескольких маленьких, прямоугольных в периметре, почти совсем разрушенных строений, а точнее, небольших фундаментов. Земля здесь была кое-где пересечена малозаметными узкими дорожками со следами мощения белым камнем — мрамором и песчаником, из которых, кстати, были когда-то вытесаны или сложены и все прочие сооружения. Все тут явно представляло собой скудные остатки творений рук человеческих, но дышало безжизненным холодом и такой древностью, что только специалист-археолог мог приблизительно назвать век, когда сюда был положен последний обработанный камень. Впрочем, если бы не проведенные раскопки, здесь до сих пор, наверное, все было бы скрыто от глаз мхом и колючим кустарником. Только в памяти поколений сохранялись бы туманные мифы и жуткие легенды, вроде той, что заставила уральских школьников глубокой ночью добираться сюда пустынной лесной тропой, преодолевая мистический ужас…
— Ай! Там змея — я чуть на нее не наступила!!! — вскрикнула одна из девочек.
— Где? Да где же?! — переспросила Оля, мгновенно направив лучик света под ноги.
— Это обыкновенная ящерица, — успокоил зоркий Тиллим. — А если бы и была змея, нужно знать, что она просто так не ужалит — только если на нее наступить.
Он тоже посветил под ноги, правда, в сторону от дорожки, и все увидели в серебристом мху треснутую мраморную плиту с полустертой надписью, причем таким же шрифтом, как в страшных посланиях, только без пробелов между словами.
— Древнегреческие… — задумчиво пояснил пытливый мальчик. — Знакомые буквы? Это мы знаем только альфу и бету из алгебры, пи из геометрии, да еще из физики лямбду какую-нибудь, а вот моя бабушка, которая училась в гимназии, она бы разобрала, кто и когда здесь похоронен…
— Значит, мы уже на кладбище? — тише обычного, как будто боялась побеспокоить давно истлевший античный прах, произнесла Лиза.
— Да, в некрополе… А там, дальше, — Тиллим указал фонариком в сторону шумевшего моря, где на фоне звезд угадывалось несколько стоящих рядом полуразрушенных колонн, — руины самой греческой колонии Анакопии.
Наташа, наоборот, оживилась:
— Это же классно! Значит, мы уже пришли и где-то рядом бродит задушенная девочка-монстр!
— Да вы что там, с ума посходили?! Хватит слушать этого «экскурсовода»! — ревниво-возмущенно заторопил Матусевич. — «Пришли» будет, когда найдем склеп. Быстрее, время не ждет!
Отряд стал обшаривать фонариками пространство города мертвых. Лучи света точно «закрещивали» место, где в незапамятные времена завелась нечистая сила. Склеп нашелся быстро: единственный из сохранившихся на веками не почитаемом кладбище, он находился за сильно разросшимся кустом шиповника и выглядел совсем как маленький древнегреческий храм — красивый, но строгий портик с колоннами и треугольным фронтоном. Шиповник по остаткам ступеней забирался и внутрь склепа — в загробный мрак.
Матусевич на удивление отважно первым вступил под мраморный свод. Тогда остальные поднялись за ним и осветили погребальную камеру. Вдруг из-под крыши, откуда-то с карнизов, хлопая перепончатыми крыльями и отвратительно шипя, сорвалась целая стая черной мохнатой нечисти, не похожей на птиц! Девочки, хором визжа, тут же кинулись обратно. Даже у Тиллима, не сообразившего в первое мгновение, что это за твари, сердце екнуло, а Матусевич уморительно захохотал:
— У страха глаза велики! Это ж просто нетопыри — летучие мыши… Правда, ха-ха, кровососы.
Лиза с Наташей застряли на пороге, продолжая визжать, Оля, часто моргая, тоже осталась внутри: ужас, уже явившийся в виде нетопырей, был все же слабее неизведанного страха, который сейчас бесшумно обволакивал древнюю гробницу снаружи. Вспомнив, что нужно торопиться, Лиза принялась послушно выкладывать из корзины жертвенные сласти и раскладывать кругом у самого входа. Другие девчонки, как могли, старались ей помочь. Оля со своим творческим подходом ко всему старалась, чтобы явленное кондитерское изобилие выглядело как можно привлекательнее и требуемые очертания окружности не нарушались, ведь за каждым требованием послания мог скрываться важный тайный смысл. Наташа смотрела на все горящими глазами, а Шурик педантично следил за тем, чтобы в корзине ничего не оставалось.
— Нельзя ничего утаивать при ритуале — призраки любят щедрость!
— Будем сегодня вызывать кого-нибудь или что?
— Кто знает технологию вызывания духов?
Когда композиция была готова, Матусевич аккуратно выложил в центр все шесть платков и торжественно, как заправский жрец, их поджег. Посланцы «пришельцев» стояли вокруг, наблюдая, как огонек поедает платки, и боясь проронить неосторожное слово, ненароком что-нибудь нарушить или, не дай бог, чтобы ветер снаружи не задул этот маленький ритуальный костер.
— За руки возьмитесь, — зловещим шепотом сказал Матусевич.
— Дух мертвой девочки, приди! — призвала Лиза.
Шурик подхватил:
— Астральное тело девочки, явись!
— Астралочка, приди!!! — громко выкрикнула Наташа наперекор своему страху. — Извини, что я кричу, — просто я староста…
В какое-то мгновение над некрополем воцарилась мертвая тишина.
— Ой, чувствую, холод по спине пробежал, — призналась Лиза.
— И мне-то как страшно! — не выдержала Наташа.
— Это замерзший дух девочки: он подошел к тебе сзади и приобнял, — со знанием дела изрек Матусевич.
К этому времени тряпицы уже сгорели точно по указанию — дотла, оставив после себя лишь противный, удушливый запах и дымок, тонкой струйкой ушедший вверх, через прорехи в своде — к небу.
— Теперь жертва должна быть принята! — обнадежил Матусевич.
Все, затаив дыхание, стали ждать, когда же появится умиротворенный монстр и, проникнув в гробницу, упокоится навеки в зияющей зловещей мертвой пустотой небольшой яме в центре склепа.
Вдруг за древними потрескавшимися стенами, где-то совсем рядом, раздался душераздирающий детский плач — совсем как тогда, на шоссе! Девчонки отпрянули от входа, судорожно хватаясь друг за друга, жалобно ойкая и всхлипывая, и чуть не угодили в разверстую могилу, куда до этого старались лишний раз даже не заглядывать (хорошо, что рядом стоявший отважный Тиллим успел подстраховать Олю, а с ней заодно и остальных ночных путешественниц). Шурик от жутких пронзительных звуков и сам побледнел, но, однако, с силой выдавил из себя:
— Я же г-говорил — во-от и знак! Мы услышаны! — И на этот раз не очень уверенно ткнул пальцем в небо.
— Ну уж нет! Это точно она нас обманула, девочка из леса! Мы назад пойдем, а она ка-ак схватит, ка-ак потащит… Она же не может без свежей крови! — пролепетала навзрыд Лиза.
Тут и Наташа встрепенулась:
— Нужно срочно произнести какое-нибудь заклинание, заговор от вампиров! Иначе не уйдет, и тогда…
— Вот что, — вспомнила Оля. — Я, конечно, не знаю, что там такое — призрак или обыкновенный человек, но моя бабуля от зла всегда читает молитву. Я ее тоже наизусть знаю. — И начала на одной ноте, прямо как в церкви, видимо копируя бабушку, молиться вслух: — Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут…
Оля прочитала до конца, как запомнилось, но дым от платков давно улетучился, прах рассеялся, а вой за стенами раздался опять!
— О-о-о-ой! Чур меня! М-мамочка! Мне так страшно!!! Пойдемте отсюда скорее — я не выдержу! У меня сейчас сердце выскочит… Или остановится… О-ой! — Лиза уже не могла плакать, ее просто трясло как в лихорадке.
— Ну хватит трусить! — наконец строго прикрикнул на паникерш Тиллим. — Хватит мистики! Я почти уверен, что нас разыгрывают… Сейчас будем прорываться назад, все слышали?! И чтобы никакой паники!
Матусевич как-то обреченно молчал, не пытаясь возражать, оттого что и самому ему стало не по себе, и ответственность за происходящее в ускользавшей из-под контроля обстановке готов был взять на себя другой.
Укротитель бешеных быков первым ринулся наружу.
— Все за мной! — позвал он окончательно упавший духом отряд, и все послушно устремились в обратный путь шаг в шаг за Тиллимом.
Ступали почти на ощупь: только в ночной темноте за стенами склепа стало заметно, что батарейки в фонариках здорово подсели, а Саша даже признался, что его фирменный совсем скис и вообще не включается.
Внезапно из кладбищенского мрака одновременно с очередной планирующей совой в пространстве над едва белевшей мраморной стелой возник светящийся… человеческий череп! Тут же в разных местах появились такие же зеленовато мерцающие оскаленные черепа, и вся эта восставшая из могил нечисть стремительно надвигалась на восьмиклассников — мертвые головы буквально летели на них со всех сторон!!! В этот жуткий момент, словно воспрянув духом, Матусевич схватил с земли сухой кизиловый сук и, точно ветхозаветный Давид, храбро размахивая им, как палицей или пращой, с воинственным кличем бросился навстречу ожившим мертвецам.
— А ну-ка с дороги, нечисть! Возвращайтесь в свои гробы! Я вам сейчас покажу монстра-дитя!!!
Вдохновленные бесстрашием Саши, девчата подняли такой визг, от которого даже девочка-вурдалак, или невесть кто, сразу прекратила надрывающий душу вой и хныканье, и как по команде кинулись кто куда, не задумываясь об исходе схватки и желая лишь одного — убежать подальше от проклятого места со всеми его привидениями, оборотнями и нетопырями.
Тиллиму же, больше всего боявшемуся, чтобы какая-нибудь темная сила, потусторонняя или в человеческом обличье, не навредила его несравненной даме сердца, ничего не оставалось, как устремиться в качестве ангела-хранителя за Олей. «Только бы не потерять ее из виду! Если потухнет фонарик, тогда уж точно ничего не разгляжу в этом мраке…»
— Оля, стой! Оля! — кричал он изо всех сил, с трудом различая мелькавший впереди девичий силуэт в белой футболке.
Страх придал девочке такую скорость, что она с лету перемахивала кусты и древние камни не хуже олимпийской чемпионки по бегу с препятствиями. Тиллим едва нагонял ее (наверное, он тоже поставил в ту жуткую ночь новый спортивный рекорд).
— Подожди, Оля, куда ты? Да стой же, в самом деле!!!
— Отстань, скелет! — упрямо угрожающе доносилось из едва освещаемой угасающим электрическим лучиком тьмы. — Уйди, а то как дам — рассыплешься!
— Верю… Но сначала остановись… — хватая на бегу ртом воздух, пошутил Тиллим. — Да ведь я ж это… Папалексиев…

Тут еще, как назло, прогремел гром, и южное небо разразилось нешуточной грозой. Впрочем, своенравная Оля Штукарь и не думала останавливаться, напротив, даже припустила еще быстрее. Воздух стал частью водяного царства, а под ногами текли бесконечные ручьи, точно Черное море вышло из берегов, и даже ориентация в пространстве и во времени нарушилась — так сильно было смешение воды и земли в этот ночной час. Словом, неизвестно, сколько бы еще длился этот невиданный забег с препятствиями по античному некрополю, грозящий перейти в заплыв, если бы Олина нога не попала в какую-то вымоину и девочка, одновременно запнувшись и поскользнувшись, не растянулась бы во весь рост на земле. Тиллим не успел подставить ей плечо, однако, поравнявшись, испуганно склонился над скорчившейся подругой, ну тут Оля сквозь пелену дождя и слез увидела, как парящий в пространстве примерно на высоте ее роста возле ближайшего куста шиповника скуластый череп, светясь и скалясь, направляется прямо к ней! Бедняжка, издав бессвязно-отчаянный всхлип, попыталась вскочить на ноги, но тут же со стоном вновь упала и стала торопливо отползать подальше от призрака смерти. Теперь уже и Тиллим не мог его не заметить. Ни минуты не раздумывая, он оторвал от земли первый попавшийся здоровенный камень (если бы мальчика попросили поднять этот валун в спокойном состоянии, он и с места бы его вряд ли сдвинул) и, подняв над головой, решительно преградил призраку дорогу, хрипя от натуги и гнева:
— Убир-райся пр-рочь! Костей не соберешь, кор-рявый!!! Не смей приближаться к
ней!!!
Череп, никак не ожидая такого смелого отпора, стал испуганно удаляться, удаляться…
В это время раздраженный Матусевич раздумывал, как быть дальше: во тьме, совсем близко — в паре метров от него — угрожающе вспыхнули два кроваво-красных огонька-глаза, и тут же зазвучал младенческий плач, явно исходящий от этого же существа!
«Греческая девочка! Значит, все-таки не миф… — мелькнуло в мозгу у мозамбикского ковбоя-каратиста. — Значит, она жаждет
именно моей крови! И смерти!!!»
Тут с очередным громовым раскатом небо прорезала невиданно яркая молния. Ошеломленный и оглушенный Шурик, уже готовый бежать со всех ног, от неожиданности на мгновение замер, но, не желая смотреть на дитя-монстра, успел отвернуться, и взгляд его выхватил с заднего плана картины античного ужаса озаренный молнией фронтон единственного целого кладбищенского склепа, где школьники только что совершили требуемое жертвоприношение. На фронтоне красноречиво выделялся символический рельеф — козлиный череп с двумя симметричными, свитыми с ним виноградной лозой флейтами Пана!!! Вот уж когда Матусевич, фирменный джинсовый костюм которого насквозь пропитался холодной дождевой водой снаружи и ледяным потом изнутри, подпрыгнув чуть не на целый метр над могильным холмиком, непонятно каким чудом не сгладившимся за тысячелетия, с суеверными воплями: «О Пан! О Сиринга!» — семимильными шагами понесся прочь от проклятого могильника с его мистическим античным прошлым и настоящим (между прочим, Шурик извлек на ходу из кармана совершенно исправный фонарик и осветил себе путь ярким лучом электрического света). Сразу же позабыв и об Оле, и даже о своем неотразимом образе ковбоя-супермена, он очень скоро с ловкостью африканской обезьяны перелез через металлическую сетку-ограждение и таким образом оказался в совхозном саду…
Тиллим, увидев те же налившиеся кровью глаза неведомой визжащей твари, бросил прямо на них громадный камень, от которого у него уже занемели руки. Сквозь грозовой шум он еле расслышал отвратительный хруст, короткий животный вопль, и чудовище затихло.
Теперь, когда главная опасность, кажется, миновала и безудержный порыв гнева прошел, юный укротитель зла немедленно бросился к даме сердца. Девочка продолжала беспомощно лежать на земле, не реагируя на его расспросы и только растерянно глядя на него широко раскрытыми глазами (это он скорее чувствовал, чем видел). Тиллим слышал что-то о болевом шоке, и, судя по всему, сейчас — в холоде, мраке да еще с неотпускающим чувством страха — Оля переживала именно такое состояние. Правда, она в полусознании попыталась было приподняться и встать, но тут же, болезненно вскрикнув, оказалась в прежнем скорченном положении с неестественно вывернутой правой ногой. Повзрослевший за эту кошмарную ночь мальчик хотел снять с ее распухшей ноги кроссовок, однако сразу стало ясно: та теперь сгибалась сразу в двух местах — как положено, в колене, и посреди голени! Мучительно раздумывать и пассивно сострадать — ничего хуже в этом случае вообразить было нельзя… Гроза тем временем закончилась, и вновь заиграли цикады…
Тиллим поднял девочку на руки и, совсем как маленькую, бережно понес. Его самого шатало из стороны в сторону, но мысль об Оле и о том, что ей сейчас как никогда нужна помощь близкого человека, помогала держаться. «Скорее бы шоссе! Пивное — дойти до шоссе, а там не может не быть машин — какая-нибудь да остановится… Иначе не должно быть! Как же иначе?!» Вот уже и асфальт под ногами, а впереди маячит какой-то силуэт — кто-то из взрослых! «Да это же Евгений Александрович!!! Слава богу…»
Как только в пансионате забили тревогу, Евгений Александрович инстинктивно сообразил, где искать ночных следопытов-потеряшек — оба класса шептались о старом кладбище… Мальчик из последних сил передал преподавателю
свою бесценную ношу, и в тот же миг сознание покинуло его. Дальнейшее было делом нескольких минут: первый же москвичок притормозил возле присевшего, отчаянно голосующего мужчины с девочкой на коленях. Приходящий в себя Тиллим, лежа на обочине, как во сне, видел Евгения Александровича, переносящего девочку в какую-то легковушку, умчавшуюся затем вдаль по трассе… После мальчик увидел лицо учителя над собой, услышал его успокаивающий голос:
— Ну вот, мир не без добрых людей… Оля скоро будет в больнице… Теперь все обойдется!.. — и опять провалился в пустоту.
VIII
В тот же самый ночной час, только с другой стороны перекопанного археологами вдоль и поперек анакопийского городища — в совхозном фруктовом саду, происходили еще более любопытные события. Их, без сомнения, можно было назвать допросом злоумышленников, или, как сказала бы пострадавшая Оля Штукарь, зловредов.
Когда Шурик Матусевич, гонимый «античным ужасом», сам того не желая, буквально перелетел в совхозный сад, тут же раздались настоящие выстрелы, и он почувствовал жгучую боль чуть пониже спины. Местный сторож, так безобидно-неубедительно выглядевший при дневном свете и показавшийся тогда городскому акселерату-супермену каким-то комическим персонажем, станичным простачком из смотренных-пересмотренных фильмов вроде «Неуловимых мстителей», на самом деле был на фронте старшиной стрелковой роты, теперь же добросовестно охранял «социалистическую собственность» и, когда увидел верхом на садовой сетке воришку, от всей души влепил ему двойной заряд крупной соли из своего охотничьего дробовика. Не меньше досталось и еще одному незадачливому ночному озорнику.
Сейчас гроза всей бедовой ребятни в округе дядька Африкан, воинственно шевеля рыжими усами, угрюмо взирал из-под козырька надетой набекрень старой фуражки на пойманного Матусевича, которого крепко держал за шиворот участковый милиционер-абхазец, спешно поднятый с постели самим начальником райотдела майором Чикобой. В другой мощной волосатой руке участкового неуклюже болтался второй «арестант», с виду постарше первого. Его глуповатая, если не сказать идиотская, физиономия была разукрашена светящимся в ночном сумраке составом, как у героя незатейливого детектива-страшилки. Оба злоумышленника яростно терли филейную часть тела и, отчаянно ревя, сучили ногами.
— А ну, пионэры, долой штаны и прыгай в бочки… Я сказал, отмокать, да?! Живо! — брезгливо и в то же время по-кавказски грозно гаркнул милиционер, опуская их на землю.
Шурик с товарищем по несчастью сами только и ждали, когда наконец будет можно, и мигом бросились выполнять приказ. Вскоре они, облегченно отдуваясь и тихонько постанывая, уже подпрыгивали в стоявших под яблонями бочках для полива сада.
— А вот теперь, дэти, и поговорим… — Дав задержанным немного прийти в себя, участковый строго спросил: — Зачем ночью лезли в совхозный сад, а? Днем фрукт нельзя есть, что ли? Сторожа попроси, любого хозяина попроси — кушайте на здоровье!
— У-у-у… Да не нужен нам был этот сад… — заныл Матусевич. — Правда! У-у… Фруктов я не ел?! Да вы таких… у-уф-ф… и не видели…
Милиционер побагровел:
— Что я видел, ты не видел, малчик! Как тогда ночью сюда попали, а?!
— Папа, я на прынца-солныффка похож? Я прынц? Я больше не буду печеньки… честно-честно! Я прынц! Похож? — оживился второй задержанный.
— На дебила ты похож! — огрызнулся Шурик.
— Я конфеты люблю, дяинька милицанер! Он мне сказал, что если я буду прынцем, то девочки со мной дружить будут и конфет мне подарят мно-го-мно-го… — надувшись, признался второй «пионэр».
Первый, услышав это, сразу же заволновался и метнул в него недобрый взгляд: дескать, а уж ты бы лучше молчал. Но больше всего озаботился дядька Африкан, который из-за темноты и слабеющего зрения только теперь признал единственного сына:
— Петро, сыночка! Та шо ж это делается-то?! — возопил казак, бросаясь к дальней бочке. — Родный ты мой! Я думал, ты в хате, спишь без задних ног, а ты тут… Знаешь ведь, что здесь творится, — затемно из дому ни ногой! Та я ж тебя сейчас до смерти застрелить мог!.. Ой, господи Иисусе Христе, горе ты ж мое… Ну какая ж нелегкая тебя ночью на кладбище понесла, сына? И шо за басурман бессовестный тебе всю физиономию размалевал…
— Ба-а-тя!!! Все он же! Он меня повел!!! Обещал же, да-а… — заревел несчастный дурачок, брызжа слюной, размазывая ее по лицу вместе со слезами и тыкая пальцем в сторону Матусевича. — Он мне, это, конфет обещал — мно-о-го! Вку-усных!!! И этого — сладкого всякого… Сказал, что я прынц-солныффка, и девочкам я понравлюсь… Девочки для меня приготовили сюрприз: много-много конфет. Вку-усных!!! Да-а-а… Я пять… не — десять дней! — это, светлячков собирал и в банке давил. Ага… Пол-литра надавил!.. Пап, я похож на солныффка? А еще он мне… Он мне за каждого светлячка по копейке давал — во-о-о!!! Ой, попа болит… По-опу бо-ольно!!! Он плохой дяинька, злой — врал! Не дал Пете конфеты… А у него, это, — ха-ха-ха! — все свои отобрали! Ха-ха! Они с нами были и разбежались… А я с им поругаюсь, батя!!! И с тобой тоже!
Казак прижал сына к себе, успокаивая, погладил по рыжей вихрастой головушке, затем поднялся и, сжав кулаки, двинулся на бессовестного гостя.
— Вы-вы что это з-задумали, а? Да он… Да я же… Так нельзя! — в страхе залепетал Шурик, засуетился. Глазки его беспомощно забегали.
— А так, значит, можно! Человеком, значит, играться можно, измываться над им?! — Полные слез глаза взрослого мужчины-фронтовика вопрошающе глядели на школьника-акселерата. — Тебя спрашиваю, ирод бесстыжий! Видать, шибко умный — над больным шутки шутить?!
Шурик готов был с головой нырнуть в бочку, только бы не видеть этих страшных глаз, однако знакомый требовательный голос заставил его встрепенуться.
— В самом деле, Матусевич, как ты объяснишь все это… безобразие?
Откуда только здесь взялся Евгений Александрович (учитель отвел пришедшего в себя измученного Тиллима и нашедшихся девочек на турбазу, а сам поспешил туда, куда, по его предположению, мог попасть Шурик, и вот уже несколько минут, незамеченный, наблюдал за «следствием») — теперь он тоже ждал немедленного ответа!
Отпираться дальше было бесполезно. Нервы у Шурика сдали окончательно, и он жалостливым тоном заныл:
— Вам бы сейчас такую боль — о-о-о!!! — нестерпимо… Ну так получилось! Меня в классе все тайно ненавидят… и явно! Как они смеялись, когда я испугался быка, сначала в автобусе, потом с этим суком на пленэре — да вы же сами все видели! Меня даже Оля, ну, Оля Штукарь… Я почувствовал — она перестала меня уважать! Это она во всем виновата!!! Я из-за нее специально использовал эту местную легенду про вампиров, придумал эффекты всякие… Платки девчонкам я подбросил — точно как в страшилке, шесть штук! — и кресты фосфором нарисовал. Это ж элементарно! Собрали светлячков, растолкли, получили фосфор. Сегодня и на кладбище лица тоже им вымазали — этот дебил местный и еще… Когда наносишь фосфор на лицо, он остается на костях, то есть там, где кости выступают: надбровные дуги, скулы. Получается как настоящий светящийся череп. Круто я придумал? В темноте любой ужаснется… Послание «античное» тоже я сочинил — я ж поэт! — на крышке рояля пальцем по пыли написал, потом стер. Зато девчонки ночью в Анакопию пошли, на кладбище… И второе послание — мое сочинение, экспромт. Вы, кстати, не читали?.. Ну да, я хотел всех запугать, а потом спасти; зато как бы меня потом зауважали! А вообще, что тут плохого-то? Восстановил бы свой авторитет, если бы не случайности разные… Папалексиев этот тоже появился, герой-тореадор!.. Ну да что говорить-то? Из-за Ольги все это — я только жертва своего романтизма!.. О-о-ой! Да зачем же было солью стрелять? Варварство… Каменный век… Какая боль!!!
Евгений Александрович терпеливо выслушал (было видно, что далось ему это не без труда) стенания Матусевича и коротко спросил:
— Кого еще ты задействовал в своей бездарной «мистерии»?
Шурик задрал нос:
— Ищите сами, если вам интересно. Мне дороже собственная честь! — Но продолжил стонать: — У-у-у!!!
В этот момент из-за деревьев, освещенный лучом фонарика участкового, показался тучный милицейский сержант и, отдышавшись, доложил старшему по званию:
— Товарищ лейтенант! Тут еще пятерых таких же задержали: рожи светятся. Стыд — наши оказались! Не джигиты, а пугала… Двух на «скорой» увезли: шакалы их покусали, чуть не загрызли. Будет им урок, как по ночам куролесить! Кавказ позорят! У, родни понабежало: все уважаемые люди…
— Так я и знал, что ты не один был! — вскочил Евгений Александрович. — Местных ребят с пути сбиваешь!.. И вообще, у тебя ложное понятие о чести, Матусевич. Хоть ты и признаешься, а все равно в главном умудрился обвинить девочку, ради которой такое затеял. Как же ты в себе запутался-то, изоврался!
Шурик в истерике завопил:
— Да эти местные тоже хороши: предложил им «Панасоник», так они на все готовы! А вы про мою честь говорите!!! Я-то пошутить хотел, а вот эти…
Тут Матусевич безнадежно махнул рукой и угрюмо понурил голову, решив, видимо, будь что будет, но преподаватель не собирался оставлять его в покое.
— А подлый фокус с палитрой — тоже твоя выходка?
— Какая разница? Ну, моя. Другим бы фантазии не хватило! Мне же нужно было сделать так, чтобы девчонки прочитали мое второе послание, а оно было написано симпатическими чернилами, вернее, молоком. Вы-то понимаете, что это такое! Я на чистом ватмане молоком написал придуманный заранее текст и подложил его Штукарь, а когда молоко над горячей лампочкой свернулось, все его и прочитали. А девчонки, конечно, подумали, что я помогаю перевести рисунок со старого листа на новый. Зато я добился своего — они поняли, что на кладбище все равно придется идти! Конечно, получилось, что я Оле навредил, но ведь я все и возглавил и только потом узнал, как, оказывается, рисковал в этом проклятом греческом некрополе. А те, кто со мной был, так и не поняли всей опасности! И вы не поймете — вам мистика недоступна!
В ответе Матусевича был показной детский вызов, но Евгений Александрович не стал поддаваться на провокацию.
— Твоя мистика, мальчик, мне отвратительна: ты принимаешь доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить! Да о чем с тобой говорить… Жаль, но в свои четырнадцать лет ты уже порядочная дрянь и подлец, — угрюмо заметил он. — Есть у тебя голова — можно сказать, собаку Баскервилей придумал с античными мотивами, да только Конан Дойл сделал это намного раньше тебя, умника… Впрочем, тебе, как я понимаю, это известно, и на то, что из-за тебя одноклассники и даже взрослые были в страхе несколько дней, тебе просто наплевать… А ты знаешь, эгоист бессовестный, что из-за твоей затеи пришлось ночью райотдел милиции на ноги поднимать?! У них здесь и без того забот предостаточно, так еще целому отделению пришлось все древнее городище прочесать, обшарить до последней мышиной норки! Жаль, до кладбища добрались, когда уже поздно было…
Шурик насторожился:
— Подумаешь! Девчонок попугали, и всего-то… Или что-то случилось, а вы не хотите мне сказать? — Он застыл в напряжении, на какое-то время даже забыв о боли.
— Случилось, к сожалению! Оля Штукарь, на которую ты чуть ли не все тут пытаешься свалить, серьезно повредила ногу. У нее тяжелый перелом голени и сильнейший болевой шок (если тебе это, конечно, о чем-то говорит), и теперь девочке придется не один месяц провести в больнице, в гипсе… Что, рад, «человек чести»?!
Матусевич не предвидел подобного поворота событий. Словно ужаленный, он чуть не выпрыгнул из бочки.
— Я… У-у-у!.. Я н-не виноват! Это н-не я-а-а!!! Как… Почему нога?! С ней было все в порядке, когда я убе… ушел с кладбища! Я же никого пальцем… У меня в голове ничего такого никогда не было!!! А может… Ну конечно!!! Это древнее проклятье — задушенная матерью девочка, сам Пан! Я же видел…
— Хватит истерик, Матусевич! — Преподаватель оборвал его на полуфразе. — Ты ведь вроде ковбой или как там тебя называют в классе? Будь хотя бы сейчас мужчиной, не позорь школу, в конце концов!.. Впрочем, что ж об этом — ты и так уже опозорил и школу, и наш город… Ты хоть подумал, какая у местных жителей останется память о тебе, о твоих товарищах и учителях? Вот стоят рядом два человека, которые тебе в отцы годятся, так ты одного из них — ветерана! — оскорбил, поиздевался над его больным сыном, а от представителя органов правопорядка хотел утаить свои проделки… И еще эти языческие суеверия, девочка какая-то… Если уж интересуешься античной поэзией, мифологией, писал бы, что ли, больше стихов, вдохновлялся бы, а ты все высокое в душе приземлил для своих убогих целей!
Милиционер куда-то удалился, а казак-сторож взволнованно закивал:
— Все как есть правильно говорите, товарищ учитель! Шо ж это за интеллигенция такая подрастает, смена ваша? Культурные, на художников учатся, а вести себя не умеют, старость не уважают. Растут вот такие… ироды! А по мне, так пороть их надо, как когда-то нас батьки. Ничего — впрок пошло! Зато окрепли и Родину защитили, когда позвала…
Тут он заплакал, и Евгению Александровичу пришлось успокаивать старого солдата. Бедняга Петро тоже завыл — ему передалось отцовское волнение:
— Пап, а пап…
— Что сынок?
— Пап?
— Ну что?
— Забы-ыл… — снова заревел Петро.
Зато Шурик запел по-другому:
— Евгений Александрович, ну давайте я у всех, кто обиделся, прощения попрошу! Это недоразумение вышло — мне нужно было вести себя примерно, а я, наверное, и вправду запутался… Ну простите же меня — больше такое не повторится! А этому деби… мальчику этому я лучше конфет куплю, шоколада… Вы думаете, я жадный? Ну вот увидите — лучший торт ему куплю. Только, пожалуйста, из школы не исключайте, а то меня родители в порошок сотрут и в ПТУ отдадут, а я туда не хочу!!! Ужас нестерпимый — печет прямо! Ой, не бу-уду бо-ольше! Ничего больше не буду! У-у-уф-ф…
Шурик вертелся в бочке, как грешник в адском котле, но учитель холодно, даже не глядя на него, отрезал:
— Обещать я тебе ничего не стану. Приедем в Челябинск, а там — как педсовет решит… Ученик ты способный, Матусевич, но, честно признаться, как в человеке я в тебе разочаровался.
Тут из-за ограды показался участковый, который нес в руке то ли мешок, то ли какую-то шкуру.
— Вот она, ваша «дэвочка»! — объявил он, представляя на обозрение облезлую дохлятину, похожую на средних размеров собаку с окровавленной, расплющенной головой. — Эт шакал! Видать, из тех, что наших покусали. По кладбищу бегал, да его кто-то пришиб… Шакал всегда так скулит, будто ребенок маленький плачет. Зубы вон какие — клыки, да? — добавил он, тыкая едва не в лицо задержанным кровавым месивом и улыбаясь во весь свой белозубый рот. — У нас такой тварь в округе много водится. Так что будете еще шататься, где нэ слэдует, — за милую душу сожрут. Вай! На Кавказе еще не такое есть — природа дикая, горы!
Милиционер раскрутил отплакавшего свое шакала за хвост и выкинул за сетку — туда, откуда приволок.
Матусевича чуть не вытошнило: «Какая мерзость!» Преподаватель что-то тихо спросил у участкового, и тот великодушно произнес, грозя пальцем:
— Ну ладно, пионэр, отмок немного, теперь иди, давай на «Псырцху» отсыпаться… если сможешь, — ха-ха! Будет тебе урок на будущее, да? Уважаемый учитель берет тебя под свою ответственность. И больше безобразий не нарушай, малчик! — Он подобрал из-под яблони джинсовый костюм Матусевича и оценивающе потряс им в воздухе. — Фирма, да? Ха-а-рошая вещь! Где купил, а?
Шурик почему-то молчал, затаив дыхание.
— Понимаю, родители достали! Ха-арошие родители… Вай! Упало что-то…
В траве лежал подозрительный металлический предмет. Милиционер поднял его, с любопытством осмотрел со всех сторон. Спросил с прищуром:
— Эт что за штука?
Шурик, втянув голову в плечи, пролепетал:
— Это… Вы этого не знаете… За-заграничный сувенир.
— Почему не знаю? Очень даже знаю, а в руках первый раз держу. Шокер, да? Электрошокер, верно говорю? Начальство рассказывало, за границей вся полиция с ними, да?
Шурик утвердительно кивнул, прикрыв глаза. На лбу у него выступил пот. Евгений Александрович с тревогой смотрел то на него, то на участкового. Тот любовно подкидывал диковину на огромной ладони, цокая языком.
— Полезная вещь, слушай… Можно и каратэиста любого успокоить… Да-а! Пионэру с ней не страшно ни в лесу, ни на кладбище… Сюрприз, значит?.. Мне, да?
Матусевич мгновенно сообразил, что ответить, и опять закивал, улыбаясь и превозмогая боль:
— Ага! Конечно вам!
В пансионат возмущенный учитель и недостойный ученик добирались молча (только ученик все постанывал). Первый был вынужден подставить второму плечо, хотя даже из педагогических соображений следовало бы хорошенько всыпать подрастающему негодяю.
IX
Наутро выяснилось, что Олю поместили в Республиканскую детскую больницу, в самом Сухуми, что у нее действительно серьезный перелом голени со смещением, слава богу, закрытый, но лечиться ей предстояло долго. Для остальных восьмиклассников совмещенные с отдыхом занятия шли своим чередом. Шурик Матусевич, который досидел положенное в тазике с водой, через сутки уже вернулся к практике (Евгений Александрович подумал и решил до возвращения домой забыть о его проступках). Пару дней он еще ходил тише воды, ниже травы, но уже на третий как ни в чем не бывало стал добиваться дружбы Карины. Как он сам, не долго раздумывая, сказал ей, «увлекся неожиданно, но сильно» и предложил «быть верным рыцарем без страха и упрека», но первая модница, самый длинный язычок класса и не думала удостаивать его своим вниманием. Посрамленному супермену оставалось лишь на глазах у всей «сборной» упрямо пытаться заводить с ней беседы на интеллектуальные и «тряпичные» темы. Тиллима сначала так и подмывало подойти к каратисту и поговорить по-мужски — показать, как следует поступать с трусами и подлецами, но, когда тот, жалко разводя руками и заикаясь, стал опять что-то «искренне» говорить о своем пацифизме, пачкать руки о такое ничтожество как-то сразу расхотелось. К тому же Тиллиму все казалось мелочью перед другой проблемой, несоизмеримо более важной, чем выяснение отношений с презираемым им Шуриком, и в буквальном смысле болезненной.
Через несколько дней после ужасной ночи на кладбище администратор, вежливо постучав в дверь комнаты мальчиков, прочитала по бумажке:
— Па-па-лек-си-ев…
Тиллим встрепенулся.
— О! Так это ты — герой? К телефону тебя — из самого Сухуми!
В коридоре он прижал трубку к уху.
— Тиллим! Ты меня слышишь? — Сквозь помехи, как будто звонили из-за океана или, как минимум, из Челябинска, послышался знакомый голос Оли (мальчик узнал бы его и во сне). Он звучал на удивление бодро.
— Откуда такая жизнерадостность?
— Нет, никакая я не жизнерадостная, у меня уже истерика.
— Как погода у вас там?
— Вспоминаю Чехова: то ли чаю попить, то ли повеситься.
— Что за приступ шизофрении?
— Это не шизофрения, а просто задушевный разговор меня с собой. Ты даже не представляешь, как здесь плохо! Ужасно душно! Лежу в коридоре. В местных пионерских лагерях дизентерия, вот всех сюда и привезли — палаты переполнены… А в коридоре так неуютно, запахи всякие… и крысы по ночам бегают. Сам понимаешь — удовольствия мало, когда они ночью бегают, вдруг на кровать запрыгнут?.. Тиллим, послушай, а как ты думаешь… они человека могут съесть??
— Могут вообще-то… если их бояться, но ты ведь ничего не боишься, верно?
На том конце провода послышалось грустно-ироническое:
— Пожалуй… Ты правда так думаешь?
— Разумеется! — заверил Тиллим. — Вообще-то, если крыс не трогать, они на тебя не обратят никакого внимания. Им ведь сыр нужен, а он в мышеловке, так что они обязательно угодят туда… Ну ты ж не собираешься наступать им на хвосты?.. Я и не сомневался, что с головой у тебя все в порядке. И шакалов к вам в больницу не пустят, но, если что, я мигом приеду, и тогда…
Ответом был слабый смех.
— Каких еще шакалов? Ты там все фантазируешь, да? — Тон у Оли был еще более иронический, даже, можно сказать, веселый.
— Бешеных… Да, конечно, фантазирую — откуда им взяться на курорте, — отшутился Тиллим.
— Ну да… Слушай, а представь себе, как, наверно, крысы и мыши комплексуют из-за своих хвостов! Даже жалко их, бедненьких. Я не хочу, чтобы их в мышеловку… Только ты меня больше не обманывай — про этого шакала здесь теперь все знают. А как ты его убить-то умудрился?
Мальчик совсем не подумал о том, что беспроволочное «сарафанное» радио самое надежное в мире и что Людмила Николаевна с Евгением Александровичем уже были в больнице.
— Ну как… — засмущался он, но тут же перешел на прежний шутливый тон: — Вижу лезет, пасть оскалил, я его щелк пальцем по лбу, а он и лапы кверху! Пустячная, но необходимая мера обороны.
Смех на том конце провода теперь стал громче и задорнее:
— Нет, правда, расскажи! Мне интересно.
— Да ну, ничего интересного… Я и сам плохо помню. Саданул камнем между глаз, даже не понял, что это было… И хватит о нем вообще! Мне тогда важно было понять, что с тобой. Вот кто меня действительно напугал, так это ты…
Оля задумчиво произнесла:
— А ты смелый, оказывается… Как Мцыри!
— Да, бываю… иногда, — скромно согласился Тиллим, а в душе ему стало приятно, как, может, еще не было в жизни, и сердце как-то по-новому сладко заныло. «Сколько же мы с ней не говорили!»
— Не скромничай — ты теперь мой спаситель!
— Я витязь! Даже в тигровой шкуре теперь хожу…
— Тогда я хочу чуда! Фрукты не предлагать.
— А цветы можно?
— Ты лучше скажи: неужели в республиканской больнице совсем нет места? — Девочка замялась, перейдя на полушепот: — Говорят, есть какие-то палаты люкс, где лежат по двое и даже телевизор есть. А в них вроде бы и свободные места есть, но они… они, оказывается, не простые, а платные! Я раньше не знала, что такое бывает, а здесь — на Кавказе, на курортах — многое делается только за деньги. Представляешь?
— Да-а-а… — Тиллим был не так удивлен и возмущен, как озадачен, однако на всякий случай поинтересовался: — И сколько же этот люкс стоит?
— Какая разница, Тиллим? У меня все равно таких денег нет…
— Когда девушка создает проблемы — это нормально, ненормально — когда она их решает. Я что-нибудь придумаю. Конечно, я не волшебник, я только учусь, но, как витязь, обещаю, что обязательно что-нибудь придумаю… Ты мне веришь?
Девочка Оля, не задумываясь, ответила:
— Я тебе верю, Тиллим. Поэтому обещай мне, что ничего не расскажешь преподавателям, а то они обязательно позвонят родителям, те приедут, и шуму тогда будет на всю Абхазию. Обещай, что не выдашь.
В ответ Оля услышала громкую наивно-галантную клятву:
— Обещаю и торжественно клянусь!
Если бы она еще могла видеть, как это было сказано! Тиллим встал во весь свой «богатырский» рост — сто шестьдесят сантиметров, — вытянулся по струнке и, чуть не выронив телефонную трубку, отдал подруге салют, который со стороны выглядел как пионерский, но был исполнен внутреннего смысла «рыцарского посвящения».
В тот же день Тиллим собрался в Сухуми, благо столица Абхазии от Нового Афона оказалась всего-то в каких-то двадцати километрах, а рейсовый автобус ходил туда через каждые четверть часа. Субтропические красоты на этот раз мало занимали мальчика: в голове был уже родившийся дерзкий план, а на голове — наушники, в которых непрерывно звучали битловские «Love Songs». Хотя челябинская «сборная» собрала для Оли целую сумку персиков, яблок и вдобавок засахаренного миндаля, Тиллим перед больницей все равно собрался заглянуть на рынок — за цветами. Он не успел отойти и сотни метров от автобусной остановки, как наткнулся на цветочный лоток, и, когда веселый разговорчивый продавец-абхазец с огромными усами, большим пузом и в кепке (непонятно, как ему в ней было не жарко?) узнал, что Тиллим спешит в больницу «к девушке», подмигнул и буквально всучил ему целую охапку роз, вдогонку пожелав: «Дай Бог счастья и здоровья, дорогой!»
«Какие хорошие бывают люди!» — подумал Тиллим, и у него совсем пропало неприятное чувство, которое испытывает всякий, когда идет в больницу.
Оля была рада видеть его — ничего удивительного, когда лежишь в коридоре и даже поговорить толком не с кем! — и совсем не ожидала, что мальчик подарит ей такие прекрасные цветы. Нянечка даже сама принесла большую банку с водой и, когда
расправляла букет, все приговаривала: «Ай, какие розы! А друг еще лучше — настоящий мужчина!»
«Мужчина» краснел от смущения и удовольствия, а больная поглощала персики и без конца говорила, говорила. Тиллим радостно смотрел на нее, рассказывал о последних новостях с пленэра и не мог вспомнить, когда в последний раз она была такая разговорчивая. О грустном не говорили совсем, лишь, когда он собрался уходить, она осторожно поинтересовалась:
— Тиллим, ты не спросил, может, в какой-нибудь палате освободилось местечко?
— Да не волнуйся, — быстро сказал Тиллим и заговорщическим тоном добавил: — Я уже придумал одно волшебство, только — тс-с!
Оля покорно кивнула.
— Кстати, чуть не забыл! Вот тебе — слушай побольше «Битлз»: от них скука проходит и все срастается прямо на глазах. — Он передал девочке свой плеер с тремя кассетами — «Love Songs», «Yellow Submarine» и «Magical Mystery Tour».
— Классно! Совсем как… Это же мое любимое — обязательно буду слушать!!! Ой! А как же ты? Все оставил мне, а сам остался без битлов…
— Пустяки, тебе сейчас нужнее, — успокоил Тиллим. — А со мной это всегда — вот здесь. Strawberry fields forewer! — и приложил руку к груди. — Ну я тогда пойду… Я уезжаю, но скоро вернусь!
Оля, улыбаясь, помахала ему ладошкой:
— Пока, витязь!.. Кстати, а где же твоя роскошная шкура?
— Сейчас она как раз на мне! — подмигнул он.
X
Однако направился Тиллим не к выходу, а в служебную часть медицинского учреждения. В коридоре, среди кабинетов медперсонала, он почти сразу нашел то, что его интересовало, — Доску почета. На самом видном месте красовалась фотография главврача больницы — симпатичной дамы средних лет. Большое фото было вставлено в затейливые чеканные уголки — даже не пришлось отклеивать! Решено — он сделает настоящий портрет! Тиллим аккуратно вынул фотографию и уединился в безлюдном коридоре. Приложив ее к пронизанному солнечным светом оконному стеклу, в общих чертах перенес изображение карандашом на кальку. Он сделал это исключительно для того, чтобы правильно снять пропорции, ведь даже маститому художнику-профессионалу как раз над пропорциями рисунка часто приходится прилично провозиться. Тиллим, конечно, мог попробовать и без этого, но такой эксперимент был бы рискованным: работа наверняка не понравилась бы, и тогда его замысел утратил бы всякий смысл. Зато юный художник уже знал, что, если на портрете немного увеличить глаза и губы, уменьшить нос, человек выходит значительно привлекательнее, а если еще добавить бликов в глаза, взгляд портретируемого станет куда таинственнее и загадочнее. После произведенной «съемки» мальчик вернул фото на прежнее почетное место.
На следующий день рано утром в представительный кабинет главврача Республиканской детской больницы Аиды Семеновны Арцт тактично постучались. В ответ на дежурное «войдите» на пороге появился загорелый русоволосый мальчик лет четырнадцати в тщательно отглаженных белых бриджах, белоснежной рубашке-тенниске, в алом галстуке и даже с пионерским значком на груди. Через плечо у него висел деревянный ящичек, какие обычно бывают у художников. Мальчик смотрел на женщину-врача открытым, бесхитростным взглядом голубых глаз.
— Уважаемая Аида Семеновна! — торжественно начал пионер, не представляясь. — От имени Сухумского городского отдела здравоохранения мне поручено нарисовать ваш портрет для городской Доски почета…
— Да-а? — Главврач удивилась этой новости еще больше, чем самому появлению столь странного посетителя. — Для городской… А, собственно, почему мой?
Пионер ничуть не смутился:
— Так вы еще не знаете? По рабочим показателям прошлого года вы отмечены как лучший педиатр города и образцовый руководитель… м-м-м… лечебного учреждения. Поздравляю!
— Спасибо, действительно не ожидала… Но, простите, молодой человек, при чем тут вы? Я даже не знаю, кто вы, не предупреждена…
Аида Семеновна продолжала недоверчиво разглядывать Тиллима сквозь очки в дорогой оправе.
— Все правильно: на заседании Горздравотдела было решено сделать вам сюрприз. Я, вообще-то, лауреат Всероссийского конкурса юных портретистов, ученик специализированной школы и поощрен путевкой в Сухуми, в Творческий лагерь юных дарований. Вашему городскому руководству не трудно было меня найти и поручить мне этот ответственный и почетный заказ. Видите, как удачно совпали обстоятельства! Вот поэтому я и оказался в вашем прекрасном кабинете. У вас ведь найдется пара часов попозировать для портрета акварелью?
Приятно озадаченная женщина только развела руками:
— Ну что ж. Раз это необходимо, я согласна позировать, хотя мне никогда не приходилось это делать… Я попробую… Только мне нужно немного времени подготовиться.
— Конечно-конечно! — понимающе кивнул Тиллим, принимаясь устанавливать этюдник и раскладывать художественные принадлежности.
Аида Семеновна тут же предупредила по телефону секретаршу, что в ближайшие два часа будет серьезно занята и поэтому не следует никого допускать в кабинет, а также распорядилась по поводу телефонных звонков: ни с кем пока не соединять.
Пока портретируемая приводила себя в порядок — поправляла прическу и макияж, «юное дарование» успело хорошенько разглядеть кабинет. Просторная комната выглядела весьма солидно, представительно: все здесь говорило о том, что первое лицо больницы знает себе цену, но что ей явно недостает вкуса и чувства меры. Лакированная румынская мебель под старину, отражающая солнечные лучи, больше подошла бы для домашней гостиной, чем для рабочего кабинета. Пейзажная живопись на стенах, изображавшая примитивно пошлые, слащавые виды условных ландшафтов с замками и альпийскими красотами в аляповатых золоченых рамах, выглядела откровенно непрофессиональной халтурой. Излишним было здесь и обилие хрустальных ваз, каких-то сине-золотых фарфоровых коней, бронзовых орлов на мраморе и малахите, пузатых чайников и керамических кувшинов народных промыслов, никелированных электросамоваров невообразимых форм… «Похоже на выставку подарков благодарных пациентов или любящих подчиненных, — догадался Тиллим. — Хорошо, что портрета самой хозяйки в аллегорическом или любом другом виде никто еще не преподнес!»
Позировала Аида Семеновна неплохо — сидела неподвижно, молча и уставившись в одну точку. Необходимо заметить, что Тиллим писал ее с небольшим секретом. Планшет на этюднике был, если можно так сказать, с двойным дном, то есть на оборотной стороне «чистого» листа бумаги, по которому «лауреат конкурса» вдохновенно водил карандашом и немного — почти сухой кистью, находился практически готовый портрет. Задача пошедшего на хитрость из благородных соображений Тиллима состояла в том, чтобы использовать момент, когда главврач отвернется или запросит короткий отдых, и тут-то быстро перевернуть лист и работать по готовому рисунку. Но Аида Семеновна точно сама вдохновилась, осознав общесухумское значение собственной персоны, и, видимо, решила застыть в картинной позе, подобно каменному изваянию из государственного республиканского музея Абхазии в Новом Афоне, до конца портретирования. Мальчика такое положение совсем не устраивало, и он решился использовать сомнительный метод передачи мысли на расстоянии, надеясь, что у него откроются хотя бы скромные телепатические способности. «Вам очень хочется чаю! Свежезаваренного горячего чаю… Жажда совсем измучила вас… Скорее же чаю, ароматного, крепкого! Ча-аю!!!» Когда Тиллим совсем уже отчаялся внушить своей модели «чайную» жажду, та вдруг, точно очнувшись от оцепенения, томительно повела плечами и вздохнула:
— Как сегодня жарко! У меня просто в горле пересохло… Не сделать ли нам чайную паузу? Вы какой чай предпочитаете, молодой человек?
Тиллим, как многие советские подростки, уже знал, что грузинский чай обычно не лучшего качества, а самый хороший и вкусный — дефицитный индийский в желтой пачке со слоном, но не набрался наглости заказывать и лишь произнес, еще не веря, что у него «получилось»:
— Благодарю вас. Любой был бы сейчас очень кстати.
— Тогда цейлонский.
У Аиды Семеновны вообще оказался чудесный импортный напиток в пестро разукрашенной жестяной банке.
Пока хозяйка кабинета на специальном столике сама ставила электрический самовар и заваривала в цветастом фаянсовом чайнике душистый чай, Тиллим не только успел перевернуть лист бумаги на оборотную сторону, где в правильных пропорциях красовался портрет, но и положил сверху несколько сочных мазков, а когда после чайной церемонии Аида Семеновна вернулась на место модели, как ни в чем не бывало принялся артистичными взмахами кисти придавать акварельному рисунку объем. Не прошло и четверти часа подобного безобидного лукавства, а «всесоюзный лауреат» уже демонстрировал главврачу убедительный результат двухчасового творческого процесса.
— Какой красивый портрет! — Аида Семеновна всплеснула руками. — Послушайте, вы первый, кому удалось похоже нарисовать меня!.. Молодой человек, вы ведь сейчас заберете его, а нельзя оставить его мне? Я даже готова вам заплатить… У меня даже рама золотая для такого случая найдется! — Она указала взглядом на один из безликих натюрмортов в пышном, перегруженном завитушками багете. — Ну что, согласны? А для Доски почета — или для чего там его заказали? — вам ведь не составит особого труда написать другой…
Тиллим покраснел, оценивающе глядя на важную персону:
— Правда, понравилось?
— Да у вас настоящий дар! — восхищенно подтвердила дама.
— Хорошо. Я оставлю вам портрет, но сначала должен покаяться…
Аида Семеновна широко раскрыла глаза от удивления, а мальчик продолжил:
— Видите ли, так получилось, в вашей больнице оказалась моя подруга, а места в палате ей не нашлось. С тяжелым переломом она мучается в коридоре, а там сквозняки, крысы… Поверьте, это лучшая девочка в мире! В общем, ей нужен номер люкс, а денег у нее нет. За помощью я мог обратиться только к вам, искал предлог, и вот… Пусть этот портрет будет знаком благодарности за…
Главврач прервала Тиллима на полуфразе:
— А вы благородный юноша. Просто витязь! Представьте, я, возможно, первый раз в жизни вижу настоящего мужчину. Благородство редко встречается в нашей жизни и должно быть оценено по достоинству. Можете быть уверены: вашу девушку сейчас же переведут в люкс… Как ее фамилия?
Обрадованный тем, что все так гладко получилось, юный художник назвал имя и фамилию. Аида Семеновна тут же записала их на каком-то бланке.
Уже в коридоре Тиллим услышал, как она делилась впечатлениями с секретаршей:
— Люба! Позовите, пожалуйста, Нино и Гаянэ. Смотрите, какая красота!
Тиллим вылетел из больницы как на крыльях: он обещал Оле «что-нибудь придумать» и помог. Сейчас ее, конечно, не следовало навещать — вот главврач исполнит обещанное, все уляжется, и девочка сама об этом сообщит, — тогда уже можно и нужно, а сегодня не дай бог все испортить.
Он увидел, как у горизонта, на границе ультрамарина моря и лазури неба, всплыла желтая подводная лодка, и четыре фигуры — Джон, Пол, Джордж и Ринго — в разноцветных костюмах приветливо замахали ему, приглашая вслед за солнцем — «follow the sun», а их волшебная музыка вновь зазвучала в душе…
XI
В «Псырцху» он вернулся поздно, когда уже прошел ужин и всех клонило ко сну. Из-за жары и усталости Тиллим лег прямо на покрывало, не разбирая постели. После такого важного дня он не успел и глаз закрыть, как уже провалился в сон, точнее, перенесся в чудесный, окрашенный в невиданные цвета мир живописной и музыкальной фантазии. Есть сны, которые, какими бы подробностями и извивами сюжета ни обладали, часто, к сожалению, а иногда и к счастью, забываются уже в миг пробуждения — недолго потом знаешь, что они вообще были, а после и это стирается из памяти. Увиденное той ночью Тиллим запомнил навсегда, и явно к счастью.
А началось все, как и прежде, со знакомой «жужжалки», расслышанной им в шуме черноморского прибоя. «Наконец-то! — обрадовался мальчик. — Давно не прилетали, ливерпульские гости».
— Hello, John! А я уже стал думать, что «жуки» обо мне забыли.
— Ну уж нет, малыш! Не в наших правилах забывать тех, с кем мы когда-то подружились, — ответил старший битл за всю неунывающую четверку. — Пока ты остаешься верным своей мечте и не предаешь Любовь, пока наши сердца бьются в одном ритме, мы с тобой! Собирайся-ка с нами, дружище!
— Всегда готов! — охотно отозвался Тиллим.
И тут он наконец увидел старую добрую компанию на высоком мостике желтой субмарины. Теперь мальчик сам уже был среди битлов, перенесенный к ним неведомой силой. Все выглядело как в рисованном мультфильме «Magical Mystery Tour».
— А куда мы держим курс? — поинтересовался Тиллим.
— Как водится, — ответствовал капитан Джон. — За облака, в наш славный Пепперленд! В страну, где королевой сама Любовь и где все вечно счастливы.
Желтая лодка стремительно взмывала в небеса. «А я могу быть счастлив только с Олей», — подумал Тиллим и забеспокоился.
— Моя подруга, Оля Штукарь… Помните? Мы еще поздравляли ее с Новым годом, а потом вы помогали мне, когда я пел ей серенады. Вот если бы она сейчас была с нами…
За всех ответил Пол:
— Как же мы можем не помнить «самую лучшую девочку на свете»? Только она сейчас у себя дома и видит десятый сон. Все юные леди по ночам спят, старина.
— Но как же это… Так нельзя! — Тиллим не находил себе места. — Я не могу плыть без нее… В стране Любви и Счастья мы должны быть вдвоем. Я не хочу один! Зачем мне счастье без лучшей подруги? Друзья, вы же все можете! — Он умоляюще сложил руки на груди. — Давайте вернемся за ней. Ну пожалуйста!
Битлы тоже заволновались, засуетились. Джордж достал откуда-то большой пестрый калейдоскоп, приложил к глазу и, старательно поворачивая его, стал вглядываться в сторону, противоположную от солнца, где над горизонтом собирались мрачные тучи.
— Будет шторм! — заключил он. — Это все проделки зловредов и монстров.
Капитан Джон обнял Тиллима за плечи:
— Ты слышал, малыш? Сейчас опасно лететь туда, где осталась твоя девушка, — на север. Даже такая универсальная лодка, как наша, может не выдержать шторма в Море Чудовищ и Море Дыр. Там всегда такой страх и мрак, что ничего не стоит сбиться с курса и попасть неизвестно куда… Ты уверен, что готов к таким испытаниям?
— Я все выдержу! — не колеблясь ни мига, заверил мальчик. — Ради Оли — все!!!
Тогда Джон подал команде знак взять курс на Уральские горы. Джордж, продолжавший следить за горизонтом, поторопил штурмана Ринго:
— Полный ход! Потеря времени — одна из самых больших потерь. Не теряй его!
— А ты, старик, держись крепче, — предупредил Тиллима Пол, и желтая субмарина нырнула вниз, прорываясь сквозь постепенно сгущавшийся сырой туман и сумрак.
Мальчику казалось, что ни впереди, ни под лодкой, где должна была быть земля, нет абсолютно ничего! Он закрыл глаза и вцепился в желтые перила. Уши забивал истошный адский вой, от которого вполне можно было сойти с ума, потоки холодной воды обдавали Тиллима с головы до ног, а лодку крутило и болтало в бездне, разрываемой молниями, так, что даже ее металлическая обшивка жалобно стонала. Однако мальчик, не желая уступать страху и прятаться в трюме, продолжал стойко нести вахту вместе с четверкой «навигаторов» на капитанском мостике. Сквозь рев бушующих стихий Тиллим расслышал знакомый ободряющий голос Джона, который боролся с бурей где-то совсем рядом:
— Держись, дружище! Если много препятствий мешает осуществлению мечты, значит, она настоящая…
Сколько времени продолжалось это противоборство с силами зла в Морях Чудовищ и Дыр, из героев рискованного полета вряд ли кто-нибудь мог сказать, но когда желтая субмарина преодолела наконец все препоны, а пространство вокруг нее прояснилось и команда увидела знакомую крышу четырнадцатиэтажного челябинского дома, в котором жила Оля Штукарь, все пятеро, не сговариваясь, в едином порыве схватились за руки и, подняв их вверх, принялись плясать зажигательную джигу. Снижаясь, они дружно запели «Yesterday», а когда Тиллим увидел, что «самая лучшая девочка на свете» стоит на балконе и восхищенно наблюдает за этим невиданным зрелищем, ему показалось, что предыдущий волшебный сон не заканчивался.
Сам сэр Пол Маккартни галантно помог юной леди подняться на борт летучего корабля, а сам Джон Леннон, покровительственно посмотрев на сияющего Тиллима и Олю, занявшую почетное место на капитанском мостике, поделился с ними житейской мудростью:
— Главное, чтобы вы помнили: одна из самых важных задач в жизни — найти такого человека, который смотрит на этот мир твоими глазами!
Мальчик и девочка, взявшись за руки, посмотрели в глаза друг другу и звонко рассмеялись от переполнявшего их чувства радости и веселья.
Битлы смеялись вместе с ними, а летучая лодка поднималась все выше и выше в небо, точно как в «рождественском» сне — по широкой радуге.
— Мы летим за счастьем в чудесную страну, в Пепперленд! — задыхаясь от восторга и не дожидаясь лишних вопросов, объявил Оле Тиллим.
Внизу опять простирался бескрайний лазурно-голубой океан.
Солнце над ним стремилось к рассвету, и семицветная дуга становилась все ярче, все выразительнее на фоне розовеющей дали. Обнявшись за плечи, битлы запели любимые песни, и мальчик с девочкой дружно подпевали Полу и Джону, потому что, иногда даже не понимая тонкостей смысла, оказывается, помнили наизусть все тексты.
— Так держать! Если бы вы сейчас видели себя со стороны! — не мог нарадоваться, обращаясь к Оле и Тиллиму Пол, щеголявший галстуком, в котором «основные» красный, желтый и синий цвета уживались вместе, как учил Евгений Александрович. — Ведите себя так, будто вы уже счастливы, и действительно станете счастливее!
Белоснежные чайки кружились над морем рядом с субмариной и что-то выкрикивали — наверное, тоже напутствовали летящих в самую высоту незнакомцев.
— Вы чувствуете ветер перемен? — старался перекричать всех Ринго. — Слышите, как он гудит у нас в струнах? Не бойтесь ветра — открывайте ему душу! Тем, кто почувствовал ветер перемен, нужно строить не щит от ветра, а ветряную мельницу!.. Правда, наша лодка чем-то похожа на ветряную мельницу?
И Тиллим с Олей радостно кивали в знак согласия.
Джон в знакомой коричневой ковбойской куртке, красной по поясу, пестрой рубашке и двухцветных брюках-клеш с красно-желтыми лампасами вдруг вышел из ряда и, повернувшись ко всем, начал вдохновенно дирижировать задушевной компанией. Все вместе под звуки «All you need is love» уже поднялись на лодке почти к самому солнечному зениту. Дирижируя, Джон умудрялся в перерывах между песнями еще и уделять трогательное внимание юным друзьям, то и дело согревая их теплом души, струившимся из глаз сквозь чудесно преобразующие все вокруг огромные линзы очков.
— Пойте, никогда не опускайте рук! — проповедовал философ Джордж. — Пускай вы не можете изменить людей вокруг вас, но вы можете измениться сами и вдохновить на это других. Смелее, стоит только попробовать!
Вдруг восхищенная парочка заметила, что желтая лодка поднялась над радугой и теперь капитан медленно, но верно ведет ее прямым курсом к самому солнцу.
— Куда же вы, друзья? — забеспокоился Тиллим.
Тиллиму отчетливо запомнилось, как в круглых очках Леннона отражалась вся небольшая лодка от хвоста до носа. Оля переглянулась с другом и крепко сжала его ладонь своей теплой ладошкой.
Дети растерянно замерли, увидев, что небо в клубах белых облаков уже под ними, впереди же — огромный цветущий сад за золотой стеной, щедро залитый солнцем, до которого, казалось, рукой подать.
— Ну как вам это зрелище? — спросил довольный Джон. — Вот мы и прибыли в Пепперленд. Поздравляю: ваша самая большая мечта скоро сбудется!.. Что же вы оробели? Спешите туда, к ней, — путь открыт, друзья!
— Мы вместе и не оставим вас!!! — хором кричали остальные битлы, указывая на чудесный сад.
Не разнимая рук, Тиллим с Олей побежали вперед, точнее, полетели — так легки были их юные тела, а за спиной точно крылья появились — в раскрывшиеся перед ними настежь прозрачные ворота и оказались в самой глубине сада, среди экзотических деревьев и животных. Под пение невиданных птиц Оля стала гладить синего вола, который благодарно смотрел на девочку глубоким взором выразительных, прямо-таки человечьих глаз, а Тиллим играл с огненно-рыжим гривастым львом, ластившимся к человеку, совсем как домашний кот Кир, будто лев и не был хищником. А сколько здесь резвилось других диковинных животных: белые единороги и голубые черепахи, огромные, размером с маленький планер, многоцветные бабочку и стрекозы, забавные радужные улитки, красные кони и чудесная птица ультрамаринового цвета, искрящаяся, похожая на павлина или фазана. На берегах хрустальных озер розовые волки с аппетитом хрустели золотыми яблоками, а бархатные, в красно-зеленую полоску тигры увлеченно щипали изумрудную траву, усеянную алой земляникой.
Снаружи, Из-за ограды, не прерываясь, доносилась музыка «All you need is love», звучавшая так, словно битлы исполняли ее вместе с огромным симфоническим оркестром. Только когда музыка стала затихать, счастливые дети побежали назад, к прозрачным воротам — посмотреть, не случилось ли чего.
Желтая субмарина висела над облаками у самых ворот, а ее музыкальный экипаж подзывал к себе юных друзей:
— Летите к нам! Пора в обратный путь — вниз по радуге!
Тиллим, не отпуская Олиной руки, закричал:
— Но мы не хотим обратно в Челябинск! Мы хотим остаться здесь, мы счастливы!
— Это обязательно будет потом, — отвечал Джон, — когда вы выполните все свои дела на земле.
Мальчик с девочкой поднялись на капитанский мостик, а битлы по очереди дружески наставляли их.
— Ставьте себе цели, добивайтесь их. Цените то, что у вас есть сейчас. Не жалуйтесь и не нойте, — сказал капитан Джон.
— Больше читайте. Продолжайте учиться и не валяйте дурака! — добавил сэр Пол.
— Не тратьте свои нервы на глупых людей, будьте терпимее, — посоветовал Джордж.
— Всегда выполняйте то, что пообещали. Не пасуйте перед трудностями! — подбодрил Ринго.
— И запомните главное, друзья! — снова сказал Джон на правах старшего. — В Пепперленд попадает только тот, кто творит добро. Творите добро, и оно к вам обязательно вернется. Мы не раз еще прилетим за вами, когда вам это будет необходимо, чтобы доставить сюда — за новым счастьем. А сейчас нужно возвращаться домой.
Лодка опустилась на радугу, но, пока чудесный сад под солнцем не исчез из виду, Джон, Пол, Джордж, Ринго и Оля с Тиллимом махали и махали ему, с надеждой повторяя:
— До свидания! До свидания! Мы обязательно вернемся к тебе, волшебная страна сержанта Пеппера!
Вот тут-то Тиллим и проснулся. В комнате и за окном было еще темно, и все ребята продолжали спать. Мальчик сел на кровати, обхватив голову руками: «Как жаль, что это все-таки был сон! Как здорово, что мы были вместе с Олей! Сколько ярких образов, которые так и просятся в один счастливый сюжет!»
А уже утром на вахту позвонила Оля. Результат «честного» разговора с главврачом превзошел все ожидания. Девочка с радостным удивлением сообщила, что вчера вечером ее срочно поместили в пустующую платную палату класса люкс.
— С телевизором и душем… Тут даже телефон есть, представляешь? Это чудо какое-то, Тиллим! Я ничего не понимаю…
— Вот видишь! А ты так расстраивалась. Еще и не такое случается. Обыкновенное чудо — вот и все, — спокойно указал Тиллим, а душа его ликовала. На просьбу приехать скорее и убедиться во всем воочию он ответил, что сейчас, как нарочно, пара ответственных пленэрных занятий, но при первой же возможности он обязательно вырвется, несмотря ни на какие препятствия.
Насчет занятий Тиллим, правда, сгустил краски и, конечно, очертя голову помчался бы в Сухуми в ту же минуту, но у него действительно была одна уважительная причина, которая стоила того, чтобы немного повременить…
Миновали сутки, медленно прошли вторые, и вот на третий день утром Тиллим наконец явился в больницу и настежь распахнул украшенные яркими витражами двустворчатые двери платной палаты, а с ним в комнату ворвалась прохлада приморского бриза, слившаяся с пряным южным запахом лавра из парка и еще каким-то едва уловимым ароматом.
Девочка лежала, уткнувшись лицом в подушку.
— Доброе утро! Вот и я, как обещал…
Тиллим стоял в дверях и зачарованно смотрел на Олю. Он был в белой футболке с самостоятельно набитым через трафарет контрастным черным изображением — сразу узнаваемыми чертами лиц четырех битлов — и в тщательно, до голубизны вываренных джинсах. На плече мальчика висела спортивная сумка с гостинцами. Одной рукой он прижимал к боку аккуратно завернутый в бумагу прямоугольный продолговатый сверток, а в другой бережно держал перед собой букетик скромных, но необыкновенно благоухающих белоснежных цветков-недотрог.
— Доброе утро — это когда на часах двенадцать, на календаре суббота, а за окном Атлантический океан, — нехотя отворачивая лицо от подушки, проворчала Оля. Увидев цветы, девочка засмущалась: — Ну что ты там стоишь, заходи! Да положи ты все, потом… Сядь!.. Эти цветы мне? Никогда не видела таких… нежных. Откуда?
Тиллим сел прямо на пол, отложив в сторону все, кроме заветного букетика.
— Это цикламены — альпийские фиалки… Правда, нравятся?! Красивые… Они растут на горных лугах, выше уже снег… Еще в Новом Афоне встретил альпинистов, и вот — подарили! Боялся, завянут по дороге, но вроде не завяли.

— Нет, что ты — чудо просто! Спасибо!!! — Олино лицо лучилось изнутри. — Я рада… видеть тебя…
Мальчик встрепенулся, расстегнул сумку:
— Вот еще — витамины! Сейчас помою.
Он подошел к крану и стал мыть яблоки. Увидел предостерегающую табличку над краном: «Вода не питьевая!».
— Сплошные парадоксы! Воду из крана пить нельзя — грязная, фрукты надо мыть водой из крана — будут чистыми…
Тиллим озабоченно поинтересовался:
— Ну как дела, идешь на поправку? А что это мы опять грустим?
— Лежа хорошо думать о том, что нужно встать. Мне бы очень хотелось встать с утра, часов в семь, выйти на пробежку, сделать зарядку, но я сильнее своих желаний, — грустно улыбнулась Оля. — Я так ждала, когда ты придешь… и ты наконец пришел… Какие цветы!
— Тут в газете прочитал четверостишие местного Лермонтова, — попытался развеселить больную рыцарь в тигровой шкуре:
Осень наступила,
Падают листы,
Мне никто не нужен,
Кроме ты.
Девочка не отреагировала на шутку, словно и не слышала.
— Альпийские фиалки! Они же завянут!!! Вон там, на тумбочке, — стакан. Налей, пожалуйста, воды из кувшина и скорее поставь их… Надо же, ведь могли погибнуть!
— А что, твой Матусевич приходил? — осторожно поинтересовался одноклассник, увидев в граненом стакане увядшую розочку.
Девочка возмущенно оборвала Тиллима:
— Это почему «мой»? Какой он… Знаешь, если ты еще раз заговоришь о Матусевиче, между нами…
— Почему?
— У девушек всегда есть железный аргумент — «потому что»!
— Но он же «порядочный и честный»? — спросил мальчик, изобразив крайнюю степень удивления, и сердце забилось в ожидании четкого ответа. Оля, помолчав, сказала:
— Я поняла, что порядочность и честность — слишком дорогие подарки и не стоит их ждать от дешевых людей.
— Но Матусевич же…
— Да его одежда дороже, чем он сам.
Тиллим подался вперед и вкрадчиво спросил, пристально глядя на Олю:
— Ты ведь слушала «Битлз», как я советовал?
— Конечно! — еще больше оживилась девочка. — Почти все время слушала, и сегодня: «Волшебное путешествие», потом «Субмарину»… Да вон же твой плеер на столике лежит. Спасибо! У них музыка чудесная, помогает. Когда пусто на душе, они наполняют добром. Испытываешь чувство, которое никогда не переживал.
— И ты еще удивляешься! Музыка, играющая в наших наушниках, отражает душу и воскрешает воспоминания снов. Ведь не зря сердце бьется в ритм!
Оля спрятала взгляд, не зная, куда девать свои тонкие руки, и особенно пальцы, ставшие за время болезни почти прозрачными.
— Да, только все-таки как-то странно, неожиданно… Но ты же знаешь — «Битлз» меня всегда восхищали! Правда, в куклу Алису тогда не поверила… Смотри! — С этими словами девочка разжала кулачок: на ее розовой ладони лежали три игрушечные помидорки и миниатюрная булочка.
— Ты знаешь, я давно уже не обижаюсь на то детское прозвище, но когда мне из Англии привезли этот подарок, я ужаснулась: не только кукла на меня похожа, но и такое нелепое совпадение… А потом ты пришел со своим сном… А я тебя тоже сейчас удивлю: представь, они ведь и мне снятся! Еще в Челябинске такое однажды было. Весной снилось, что ты с битлами пел у меня под окнами «Yesterday». Как серенаду! Помню, у тебя еще гитара такая была — как у них, а твой голос особенно выделялся… — Она зарделась. — Я ведь сразу после этого хотела с тобой помириться, а от Шурика… В общем, я тогда уже заметила, что он какой-то… скользкий, ненастоящий. Надо было перестать с ним дружить, а видишь, как получилось, Тиллим… Но это теперь неважно! Жалко, снов этих — цветных — долго не было…
Мальчик настороженно, внимательно слушал, по-прежнему не отрывая глаз от той, перед кем теперь мысленно стоял на коленях. Никогда еще ее лицо не казалось ему таким дорогим, а сама она такой трогательно-беспомощной, нуждающейся в особенном — взрослом! — понимании.
Оля силилась сказать еще что-то, но, видимо, это было совсем не просто и очень важно для нее. Наконец она продолжила:
— …Знаешь, они опять мне начали сниться, битлы, как раз после моего чудесного «переселения». Я такое видела!.. Это было как наяву и одновременно как в сказке! На этот раз ты с битлами прилетел за мной на волшебной подводной лодке прямо к балкону челябинской квартиры, а потом… Мы с тобой пели вместе много всего из «Битлз», и они пели с нами — на самом верху лодки, которая летела по радуге на восхитительном ветру прямо в небо. И ты сказал, что мы летим в страну сержанта Пеппера. Мы так крепко держались за руки, смотрели друг на друга и смеялись, и все вокруг было цветное, яркое-яркое и счастливое, и битлы желали нам не помню чего — чего-то очень доброго и хорошего. Мне весь мир вдруг захотелось обнять и всех расцеловать, и как будто — крылья за спиной… Пол еще был в пестром галстуке-палитре, а Леннон, в коричневой с красной полосой ковбойке и в розовой с зеленым рубашке, дирижировал пением. В его очках-«велосипедах» отражалась желтая лодка со всеми нами… Помню мы вдвоем, как счастливые небожители, бежали к солнцу. Мне до сих пор кажется, что мы попали тогда в настоящий райский сад, я даже отчего-то решила, теперь так будет всегда, но потом за нами снова вернулась волшебная лодка, и битлы, забрав нас, обещали, что это не последний наш полет в Страну Чудес… Когда проснулась, сразу решила, что обязательно должна рассказать этот сон именно тебе, понимаешь?.. Скажи, Тиллим, только честно, а в жизни, по-твоему, такое бывает?
Тиллим вдруг заметил, что из-под Олиного одеяла свешивается черное с белым плюшевое ухо… Ни слова не говоря, витязь из 8-го «А» протянул своей даме продолговатый сверток, и Оля проворно распаковала его. «Лучшей девочке в мире» на обтянувшем планшет ватмане постепенно открылся написанный яркой гуашью озорной портрет… Джона Леннона! Легендарный битл был изображен по грудь на фоне морского заката с раскинутыми в свободном дирижерском жесте руками-крыльями, но главное — в круглых линзах хипповских очков было отлично видно, как поднимается по радуге к солнцу желтая субмарина, а на капитанском мостике стоит, взявшись за руки, ее звездный экипаж и пара отражающихся друг в друге неразлучных юнг — Тиллим Папалексиев и Оля Штукарь. Внизу картины-видения вместо инициалов автора просыхала размашисто написанная красноречивая цитата:
«Главное, чтобы вы помнили: одна из самых важных задах в жизни — найти такого человека, который смотрит на этот мир твоими глазами!»

Примечания
1
Предмет ухаживания, от objet (
фр.) — объект.
(обратно)
2
Детка, дитя мое (
фр.).
(обратно)
3
Ну вот (
фр.).
(обратно)
4
Ходить фертиком, фертом (
устар.) — красоваться, щеголять, рисоваться, форсить; от слова «ферт» — старого названия одной из букв русского алфавита.
(обратно)
5
И — все вместе! С Рождеством! (
англ.).
(обратно)
6
У тебя проблема, парень? (
англ.).
(обратно)
7
«Вечер трудного дня» (
англ.).
(обратно)
8
«Всем нужна любовь», песня с альбома «Битлз» «Yellow Submarine» (
англ.).
(обратно)
Оглавление
ПТИЧЬИ УРОКИ
БУЛОЧКА И ТРИ ПОМИДОРКИ
БУКЕТЫ МАЙСКИЕ
ПИСЬМО НА ЖЕЛТУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ
Часть первая
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера
Часть вторая
Страна Чудес
*** Примечания ***


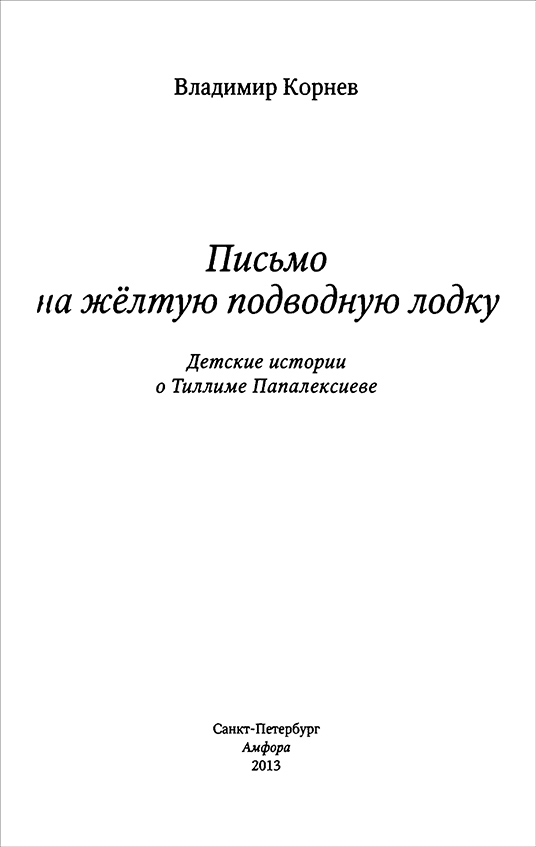 ПТИЧЬИ УРОКИ
ПТИЧЬИ УРОКИ












