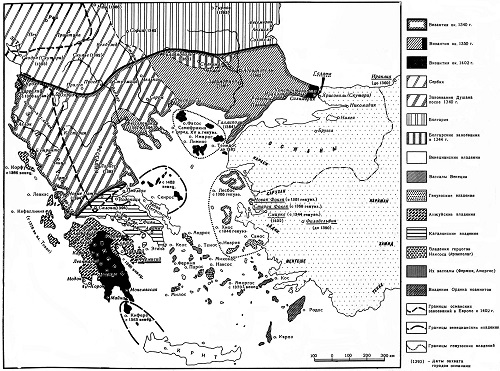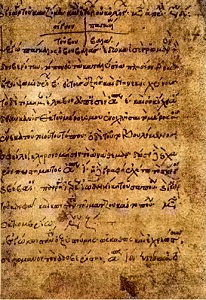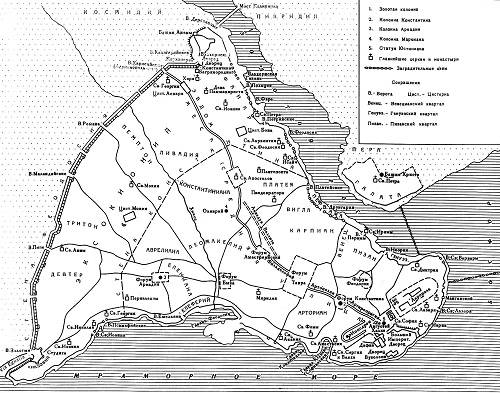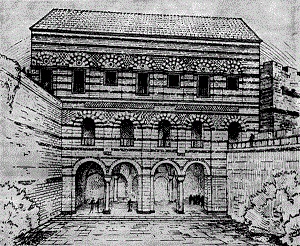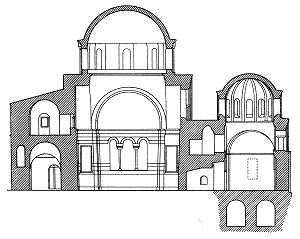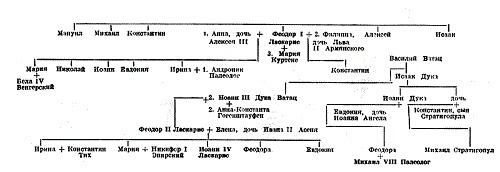История Византии
(Ответственный редактор академик Сергей Данилович Сказкин)

Том III
(Ответственный редактор тома Геннадий Григорьевич Литаврин)
Глава 1
Источники
(Александр Петрович Каждан)
Последний период византийской истории обеспечен историческими источниками значительно лучше, нежели предыдущий. Это не удивительно, ибо в XIII–XV вв. люди писали больше, чем в раннее средневековье, да и то, что было написано позднее, сохраняется, как правило, лучше. Именно к этому времени относится основная часть неопубликованных произведений византийских писателей — множество писем и речей, хранящихся в разнообразных архивах. Напротив, археологические материалы, памятники эпиграфики, сфрагистики, нумизматики XIII–XV вв. сохранились в сравнительно малом количестве и не играют существенной роли для изучения поздневизантийской истории.
От последнего периода осталось, безусловно, большее количество деловых документов, чем от предшествующих столетий. С этого времени акты становятся главнейшим источником для изучения правовых отношений и аграрных порядков. К XIII столетию относится архив богородичного монастыря Лемвиотиссы, находившегося близ Смирны
[1]; первой половиной XIV в. датируется основная масса актов из архивов различных афонских монастырей (Хиландарского, Зографского, Ивирского, Ватопедского, Русского и ряда других)
[2], а также картулярий Меникейского монастыря
[3], — эти акты относятся преимущественно к району Южной Македонии. Наконец, третий район, освещенный документальными источниками, — это Трапезунд, где сохранился архив Вазелонского монастыря
[4].
Среди поздневизантийских актов можно выделить три основных вида: императорские жалованые грамоты (которые в соответствии с типом формуляра распадаются на хрисовулы и простагмы: первые из них оформлялись более торжественно)
[5], описи
[6] и купчие грамоты
[7]. Именно описи (в Византии они назывались практиками) содержат наиболее важные сведения о крестьянском имуществе и феодальной ренте, причем некоторые описи, составленные в разное время, относятся к одним и тем же деревням и, следовательно, дают возможность ставить вопрос об эволюции аграрного строя.
Использование описей позволяет получить известные статистические данные, однако значение их не следует преувеличивать: во-первых, почти все описи относятся к одному сравнительно небольшому району, бассейну реки Стримон, а во-вторых, мы не всегда можем достаточно четко выяснить, что скрывается за цифрами практиков, и в частности, охватывают ли они всю сумму крестьянской ренты или какую-то ее часть.
В отличие от описей хрисовулы и простагмы содержат материал скорее для изучения византийских правоотношений, нежели для экономической и социальной истории
[8].
К деловым документам близки разного рода канцелярские формуляры и образцы задач (например, упражнения для землемеров)
[9]; хотя памятники этого рода, подобно актам, имеют дело с конкретными казусами, однако в силу своей природы они придают этим казусам известную абстрактность и мы не можем быть уверенными, что они оперируют с жизненными ценами или размерами.
Юридические памятники представлены прежде всего императорскими законами, которые посвящены конкретным вопросам. К их числу должны быть отнесены также жалованью грамоты
[10]. Пересмотр законодательного свода в это время не предпринимался, и суды руководствовались нормами Юстинианова права и Василик. Попытка систематизировать Юстинианово право была предпринята фессалоникским номофилаком и судьей Константином Арменопулом, составившим к январю 1345 г. «Шестикнижие»
[11], служившее юридическим руководством на Балканах еще после падения Византии. Сборник Арменопула был основан на Прохироне и некоторых других византийских юридических руководствах.
Церковное право отражено в постановлениях патриархов
[12] и соборов и в сочинениях канонистов, среди которых наиболее значительными были Иоанн Апокавк
[13] и Димитрий Хоматиан
[14], жившие в XIII в. Письма и судебные решения обоих юристов знакомят с экономическими порядками и этнической средой на Балканах после захвата Константинополя латинянами.
В 1335 г. фессалоникский монах Матфей Властарь — современник и соотечественник Арменопула — составил компилятивный юридический сборник «Синтагму», где статьи были расположены в алфавитном порядке. Значение «Синтагмы» состоит прежде всего в том, что она представляет собой попытку соединить нормы церковного права со светским законодательством и дать в руки судей единое руководство.
К юридическим сочинениям может быть причислен и анонимный трактат «О должностных лицах Константинопольского двора и о должностях Великой церкви», ошибочно приписанный куропалату Георгию Кодину и известный как произведение Псевдо-Кодина
[15]. Составленный в середине XIV в., трактат этот является одним из важнейших источников по изучению византийской администрации.
Монастырские уставы, которые в известном смысле могут быть отнесены к деловым документам, имеют для позднего периода меньшее значение, нежели для XI–XII вв. Среди поздневизантийских типиков наибольший интерес представляет устав Михаила VIII Палеолога для монастыря св. Димитрия, содержащий также автобиографию императора
[16].
Помимо греческих деловых и юридических документов, сохранились латинские, старофранцузские и староитальянские памятники, существенные в первую очередь для территории Пелопоннеса. Это «Ассизы Романии» — сборник правовых норм, которые применялись в основанных крестоносцами государствах
[17], и описи феодальных владений на захваченной крестоносцами территории
[18].
Юридические памятники и деловые документы XIII–XV вв., освещающие сравнительно полно аграрные отношения этого времени, крайне бедны сведениями по истории византийского города. Правда, среди императорских жалованых грамот встречаются привилегии как иноземным купцам, так и византийским городам (Янине, Монемвасии), но эти привилегии затрагивают лишь ограниченный круг вопросов. Помимо того, мы располагаем другими источниками по истории города, однако они скудны: сохранилась, например, записная книжка за 1419–1437 гг. должностного лица Фессалоникской митрополии (быть может, Иоанна Евгеника)
[19], счетные книги венецианских купцов
[20], живших в Константинополе накануне захвата его турками. Кое-какие сведения о ремесле и торговле может дать византийский задачник XV в.
[21]
Сохранилось большое количество сочинений византийских историков, рассказывающих о последних столетиях существования империи. Тенденция к мемуарности византийской хронографии, наметившаяся в XI–XII вв., отчетливо чувствуется и в исторической литературе последующих столетий — авторская личность окрашивает рассказ своими индивидуальными симпатиями и антипатиями. Традиционная философия истории, искавшая причину событий в личном отношении бога к «избранному народу» — византийцам, связывавшая вторжения варваров и внутренние неурядицы с божьей карой за нечестие, теперь в некоторых сочинениях уступает место гуманистическим тенденциям — стремлению объяснить движение истории воздействием неопределенного теистического принципа — судьбы или рока
[22]. Чем более плачевным становилось положение Византии, тем настойчивее обращались византийские историки мыслью к величественным картинам прошлого Эллады и Рима, наследниками которых они себя считали. Это преклонение перед далеким прошлым часто сковывает писателя, порождает мертвящий архаизм: и если мы наблюдаем попытки создать хронику на разговорном языке, то одновременно господствует пуризм, доходящий даже до того, что хронисты приводят старинные, аттические, давным давно уже вышедшие из употребления названия месяцев (причем далеко не всегда точно)
[23].
Последний период византийской истории неравномерно обеспечен историческими сочинениями: XIII и первая половина XIV в. описаны многими современниками, но после Иоанна Кантакузина мы долгое время не имеем ни одного значительного византийского летописца. Только падение Константинополя вызвало новый подъем византийской хронографии: крушение Византийской державы порождало обостренный интерес к изучению прошлого.
Важнейшие события византийской истории XIII в. освещены в «Хронике» Георгия Акрополита, охватывающей 1203–1261 гг. и задуманной как продолжение сочинения Никиты Хониата
[24]. Акрополит был образованным оратором и богословом; при императорском дворе в Никее, а затем и в Константинополе он занимал видное положение, ездил послом в Болгарию, Лион и Трапезунд, командовал войсками, хотя и неудачно. Он был осведомлен о византийской политике, и рассказ его, трезвый и деловой, может считаться в общем и целом достоверным.
Продолжением хроники Акрополита служит «История» Георгия Пахимера
[25], где автор — после небольшого введения — повествует о царствовании двух первых Палеологов, Михаила VIII и Андроника II. Книга Пахимера завершается рассказом о событиях 1308 г. В отличие от светского чиновника Акрополита Пахимер был видным духовным лицом, и церковные интересы стоят для него на первом плане: с глубоким удовольствием входит он в обсуждение деталей богословских споров, оставляя в го же время в стороне многие существенные моменты социальной и политической жизни страны. По своим политическим взглядам Пахимер примыкал к той группе фанатичнога византийского монашества, которое относилось с резкой враждебностью к попыткам добиться церковной унии с Западом. С богословскими интересами Пахимер сочетает ложноэллинский патриотизм: он приводит бесчисленные цитаты из Гомера и сознательно архаизирует изложение. Тем не менее Пахимер, будучи современником описанных им событий, сообщает много ценных подробностей.
Для истории первой половины XIV в. мы располагаем двумя сочинениями, написанными современниками и участниками событий — Никифором Григорой и Иоанном Кантакузином. Несходные между собой ни образованием, ни характером, оба писателя были к тому же политическими противниками и поэтому нередко противоположно освещали исторические события. Никифор Григора (умер около 1360 г.) — видный ученый, интересовавшийся астрономией и философией, — Кантакузин, напротив, отличился как полководец и политик, добился императорского престола и обратился к литературным трудам лишь после вынужденного отречения и пострижения в монахи; он рассчитывал мемуарами оправдать себя самого и своих сторонников. Оба интересовались богословскими проблемами, ибо в теологических дискуссиях раскрывались тогда основные политические противоречия, и книги того и другого наполнены детальнейшим изложением этих споров. Григора и Кантакузин принадлежали к различным политическим группировкам господствующего класса, и Григору обвиняли в том, что он распространяет в своих трактатах оскорбительную для Кантакузина ложь: после победы Кантакузина Григора был заточен в монастыре Хоры (Кахриэ-Джами). Они различались и по своим философским воззрениям: для Григоры образцом был Платон, для Кантакузина — Аристотель.
Сочинение Григоры называется «Ромейская история»
[26]. Первая, сравнительно небольшая, часть ее посвящена периоду от 1204 до 1320 г. Здесь Григора основывается преимущественно на Акрополите и Пахимере, хотя и привлекает некоторые дополнительные источники. Значительно более подробно изложен период от 1320 г. до 1359 г.: в этой части Григора из хрониста превращается в мемуариста. Всего обстоятельнее повествует он о церковной борьбе. Его оценки субъективны. Живость наблюдений в значительной мере ослаблена архаистической тенденцией, сознательным подражанием языку и стилю Платона, использованием архаичных этнонимов.
Иоанн Кантакузин — один из энергичнейших защитников интересов византийской феодальной знати (о его политике см. ниже, гл. 9) — написал свою «Историю»
[27]в откровенной полемике с Григорой. Его сочинение охватывает период от 1320 до 1356 г. (изредка затрагивая, и несколько более поздние события) и начинается с уверения, что автор (он скрывается под псевдонимом Христодул) будет писать без гнева и пристрастия, только о том, что сам видел и пережил. Но вопреки этому утверждению «История» Кантакузина — одна из наиболее пристрастных книг в византийской историографии: все изложение сосредоточено вокруг личности Кантакузина; верно рисуя детали, автор придает им ложную окраску, приукрашивая собственную роль в событиях. Оказывается, он всегда действовал из чистых побуждений и самые насилия его сторонников были необходимыми и полезными.
Односторонняя и пристрастная книга Кантакузина, однако ж, основана на документах (некоторые из них даже приводятся в те кете) и написана человеком, стоявшим в центре событий, к тому же человеком трезвым, наблюдательным и умеющим живо и образно представить борьбу человеческих страстей.
История последнего столетия жизни Византийской империи известна по сочинениям четырех греческих историков, переживших падение Константинополя и писавших уже тогда, когда Византия перестала существовать. Естественно, что это обстоятельство придало оттенок трагичности их книгам: оплакивание блестящего прошлого — лейтмотив этих сочинений, несмотря на все различие политических воззрений их авторов.
Дука, нашедший себе приют на службе генуэзского дома Гаттелузи, владевшего Лесбосом, сохранил из этих историков всего отчетливее тот ортодоксально-монашеский взгляд, согласно которому исторические события определяются прямой вол ей провидения. Его сочинение, начинающееся от Адама, становится подробным лишь с 1391 г. и завершается рассказом о событиях 1462 г.
[28] Дука ненавидит турок и остается православным по своим конфессиональным убеждениям. Вместе с тем он сторонник унии и винит непримиримых противников латинского Запада в неудаче борьбы против османов. Опытный дипломат, знаток итальянского и турецкого языков, Дука хорошо осведомлен о событиях своего времени и старается быть объективным; он не пренебрегает народными оборотами речи, смело вводит в рассказ турецкие и итальянские термины и создает живое описание событий. Повествование о взятии Константинополя читается с захватывающим интересом.
Сочинение его современника Георгия Сфрандзи (раньше его имя писали Франдзи) дошло до нас в двух редакциях — краткой и распространенной; последняя, по-видимому, принадлежит не Сфрандзи, а монемвасийскому митрополиту Макарию. Краткая редакция охватывает период от 1413 до 1477 г., распространенная включает, помимо ряда вставок, также рассказ о событиях начиная с 1258 г.
[29] Как и Дука, Сфрандзи хорошо осведомлен о событиях своего времени. Однако он служил не итальянцам, а византийским правителям и после падения Константинополя нашел себе приют в монастыре на острове Корфу; у Сфрандзи поэтому нет и следа того сочувствия унии, которое отличает Дуку: он осуждает не только турок, но и латинян.
Книга Сфрандзи основана на дневнике и задумана как мемуары, как рассказ о виденном и пережитом, и он — человек XV столетия — уделяет большое место собственной личности. Сфрандзи отходит от Дуки и в трактовке вопроса о причинах исторических событий, причем, надо сказать, в распространенной редакции вновь отчетливо проступает ортодоксально-монашеская точка зрения.
Лаоник Халкокондил — пожалуй, наиболее яркий представитель гуманистического направления поздневизантийской историографии
[30]. Это сказывается п в его стремлении приблизиться к чистому языку его эллинских образцов (прежде всего Фукидида), и в представлении о судьбе как безликом двигателе исторического процесса, и в осуждении суеверий, и в интересе к естественным наукам, и в умении отказаться от изображения мелочных интриг и богословских дискуссий, составляющих основное содержание книг Григоры и Кантакузина, и в тенденции проследить главное в истории Средиземноморья того времени — формирование Османской державы. Лаоник проявляет большой интерес к описанию соседних народов и вставляет в свое сочинение этнографические очерки, посвященные России, Франции, Германии, Испании, Англии
[31].
Представитель афинской знати, Халкокондил мечтает о создании эллинской монархии, но те императоры, о которых он пишет, кажутся ему бездарными и ничтожными людишками: даже для последнего Палеолога, прославленного Дукой, погибшего при обороне своей столицы, Халкокондил не находит доброго слова.
«История» Халкокондил а начинается с введения, где автор дает четкий очерк всемирной истории — от Ассирийской державы до Византийской империи конца XIII в., проводя здесь, между прочим, разграничение между терминами «римлянин» и «ромей», которые обычно употреблялись византийскими историками как синонимы. Основная часть книги посвящена истории 1298–1463 гг. Халкокондил хорошо информирован, знаком с турецкими источниками. Нередко он излагает разные версии одного и того же события и даже пытается предпринять критическую проверку доступных ему данных. Однако он допускает немало ошибок (частично из-за неверного понимания турецких сообщений), его хронология чрезвычайно путаная, а пуристическая архаизация гуманиста ведет к тому, что Халкокондил старательно избегает иноземных терминов, пытаясь переводить их на греческий.
От всех этих трех авторов резко отличается Критовул — единственный греческий историк, писавший под властью султана и стремившийся приспособиться к новому положению вещей
[32].
Критовул — ренегат, прославляющий султана, его военачальников и тех греков, что приняли сторону победителей. Но при этом Критовул не отказывается от своей религии, превозносит эллинскую культуру и даже готов доказывать, что Османы были эллинского происхождения.
Критовул проявляет большой интерес к торгово-ремесленной деятельности, строительству, мореходству и, отражая, быть может, настроения греческого купечества, с ненавистью относится к итальянцам. Он близок к гуманисту Халкокондил у своим пониманием исторической причинности, и самое прославление султана Мехмеда как сильной личности, как покровителя ремесел и торговли, в какой-то мере отвечало новым тенденциям, свойственным эпохе Возрождения.
«История» Критовула посвящена событиям 1451–1462 гг. Написанная с туркофильских позиций, она существенна как источник для проверки сообщений других греческих летописцев того времени. Она содержит много важных сведений по экономической истории, а суждения автора (например о решающей роли артиллерии при взятии Константинополя) нередко свидетельствуют о его проницательности.
Наряду с хрониками общевизантийского или даже — как у Халкокондила — общесредиземноморского масштаба, в это время появились исторические сочинения локального значения. Такова в первую очередь анонимная «Морейская хроника»
[33]. Она написана дурными стихами и вышла из-под пера человека мало образованного, вероятно, полугрека-полуфранка, жившего, скорее всего, во второй четверти XIV в. Его симпатии принадлежат латинской знати, утвердившейся на Пелопоннесе, предмет его повествования — не византийский мир, а одна только область — Пелопоннес, и он охотно сообщает всевозможные детали из истории феодальных войн между различными баронами. Язык хроники — разговорный, изобилующий живой терминологией.
«Морейская хроника» состоит из двух частей. Первая — точнее назвать ее вводной — рассказывает довольно коротко о Первом и Четвертом крестовых походах, вторая и основная часть — посвящена событиям на Пелопоннесе в 1205–1292 гг. Помимо политической истории, «Морейская хроника» содержит массу данных о социальных и правовых отношениях на покоренном Пелопоннесе
[34] и является ценнейшим источником для изучения взаимоотношений между латинскими завоевателями и греческим населением.
К более позднему времени относится хроника Михаила Панарета, освещающая историю Трапезунда в 1204–1426 гг.
[35], и кипрская хроника Леонтия Махеры, в которой после беглого обзора древнейших событий автор излагает историю 1359–1432 гг.
[36] Хроника Махеры написана православным греком, жившим под властью крестоносной династии Лузиньяьов и, подобно «Морейской хронике», — на разговорном языке, с использованием французских и итальянских терминов.
От всего периода XIII–XV вв. сохранилось большое количества публицистических произведений. Как и ранее, в византийской публицистике огромное место занимают традиционные темы: богословская полемика и славословие в адрес императоров. Однако все отчетливее пробивает себе путь публицистика нового типа: то более, то менее завуалированная полемика с политическими противниками, критика пороков общественного строя, предложения реформ.
После Николая Месарита, деятельность которого началась еще до 1204 г., крупнейшим византийским публицистом XIII в. был Никифор Влеммид, наставник никейского императора Феодора II Ласкарисаи основатель монастыря близ Эфеса
[37]. Ему принадлежит, помимо многочисленных писем и богословских сочинений, выдержанное вполне в традиционном духе «Слово, именуемое Царская статуя» — описание доблестей, свойственных государю. Но некоторые новые черты отличают наиболее значительные произведения Влеммида — две его краткие автобиографии, написанные в 1264–1265 гг. и посвященные оправданию его деятельности: хотя в прославлении своего героя Влеммид прибегает к традиционным агиографическим приемам (в том числе к рассказу о чудесах), то обстоятельство, что этот герой — он сам, придает его сочинению оттенок нового, наступающего периода.
Тот же интерес к человеческой личности вызвал к жизни и другую автобиографию — младшего современника Влеммида, Григория Кипрского, занимавшего патриарший престол в 1283–1289 гг.
[38]
На рубеже XIII и XIV в. много писали два видных политических деятеля: Никифор Хумн, ученик Григория Кипрского, и великий логофет Феодор Метохит. Первоначально единомышленники и друзья, они примкнули затем к разным группировкам господствующего класса и вступили в острую полемику, которая — что характерно для Византии вообще — внешне была посвящена чисто научным вопросам: политический смысл борьбы был скрыт за проблемами астрономии и стилистики
[39].
Обострение политической борьбы в середине XIV столетия естественным образом приводит к обнажению существа споров: предметом дискуссии становятся наболевшие вопросы общественных отношений. Наиболее резко поднимает в это время социальные проблемы Алексей Макремволит, критикующий язвы современного ему порядка в «Диалоге богатых и бедных»
[40]. Острую полемику вызвало движение зилотов в Фессалонике. Нет сомнений, что идеологи восставших издавали трактаты и речи в защиту своих преобразований — однако зилотская публицистика до нас не дошла. Зато антизилотские сочинения сохранились — в том числе написанные виднейшими риторами того времени Димитрием Кидонисом и Григорием Паламой. Долгое время наиболее важным источником по истории зилотского движения считалась обвинительная речь Николая Кавасилы — однако исследования последних лет показали, что это произведение скорее всего относится к иным событиям
[41].
Наряду с чисто политической публицистикой в это же время расцветает и богословская, связанная преимущественно с двумя вопросами: с распространением мистицизма, породившим полемику его приверженцев против рационалистических тенденций в схоластике, и с борьбой вокруг унии. Сохранились произведения многочисленных богословов и философов, отстаивавших интересы различных общественных группировок. Наиболее значительными памятниками этих споров являются произведения Паламы, Виссариона Никейского, Григория Схолария (патриарха Геннадия).
Накануне падения империи политическая публицистика вновь переживает подъем, особенно важным памятником являются речи Георгия Гемиста Плифона, философа-гуманиста, нарисовавшего картину печального состояния государства в XV в. и предлагавшего целостную программу реформ.
К публицистическим произведениям по характеру своему примыкают письма. Сохранилась обширная переписка тех лет, в том числе и письма уже известных нам лиц: Никифора Григоры, Димитрия Кидониса
[42] и многих других. Есть письма императоров (особенно важны послания Мануила II Палеолога)
[43] и письма лиц, по другим источникам не известных
[44]. Есть письма насквозь риторичные, лишенные реального содержания, — и письма, проливающие новый свет на события общественной, политической и культурной жизни. Значительное число писем и публицистических сочинений остается пока еще не опубликованным.
Наконец, и художественная литература (в узком смысле слова) может быть использована как исторический источник: в этой связи особенно существенны стихотворения поэта первой половины XIV в. Мануила Фила, сатира «Путешествие Мазариса в ад», содержащая немало сведений о быте и культуре византийского общества начала XV в., и, наконец, звериный эпос — важный памятник для изучения византийского ремесла и настроений городских масс (см. о нем ниже, гл. 16).
Для последнего периода византийской истории чрезвычайно возрастает значение иностранных источников: не только в западных хрониках постоянно отражается политика Византии и ее взаимоотношения с европейскими странами, но и архивы — особенно венецианские
[45] — сохранили множество документов, посвященных Романии и латинским государствам, возникшим на византийских землях. Для изучения византийской торговли, помимо итальянских, существенны также и дубровницкие документы. Совместные предприятия против турок нашли, разумеется, самое детальное отражение в разнообразных западных источниках
[46], но особенно пристальное внимание вызвало падение Константинополя: сохранились описания осады и штурма города турками, принадлежащие людям разной национальности, в том числе и русскому наблюдателю — Нестору-Искандеру
[47].
Меньшее значение имеют для этого времени армянские
[48] и грузинские источники, в которых затрагиваются главным образом судьбы Трапезунда. Некоторые сведения могут быть почерпнуты и из турецких памятников, относящихся, впрочем, к более позднему времени.
Состояние источников во многом определяет неравномерность в разработке отдельных проблем и отдельных периодов поздневизантийской истории: мы лучше знаем судьбы деревни, чем города в это время, детальнее представляем церковную борьбу, нежели политические требования, и если захват столицы империи турками в 1453 г. известен в мельчайших подробностях, история становления греческих государств после 1204 г. может быть представлена лишь со множеством неизбежных лакун.
Глава 2
Латинская империя
(Александр Петрович Каждан)
13 апреля 1204 г. Константинополь сдался крестоносцам. Власть византийских василевсов была низложена, и столица империи ромеев стала главным городом нового государства, которое современники называли Константинопольской империей, или Романией
[49], а исследователи предпочитают именовать Латинской империей
[50]. Впрочем, первоначально новое государство не имело ничего, кроме имени и столицы: императора еще предстояло избрать, а территорию — отвоевать у греков.
Выборы императора состоялись 9 мая. После продолжительных совещаний и упорной борьбы константинопольский престол был отдан не наиболее авторитетному вождю Четвертого крестового похода Бонифацию Монферратскому, а фландрскому графу Балдуину
[51]: за него стояла французская часть войска и венецианцы, опасавшиеся влияния монферратского маркиза. Через неделю, 16 мая 1204 г., в церкви св. Софии состоялась торжественная коронация первого императора Романии. И вот что примечательно: едва прошел месяц после победы крестоносцев, а побежденная Византия уже оказывала влияние на обычаи победителей, во всяком случае на внешние формы императорской власти. Балдуин рассматривал себя как преемника Юстиниана и Комнинов; он носил пурпурные сапожки и его плащ был расшит на византийский манер изображениями орлов; он подписывал свои грамоты красными чернилами и скреплял их печатью, где на одной стороне было начертано по-гречески: «Балдуин, деспот», а на другой — по латыни: «Балдуин, христианнейший император милостью божьей, правитель римлян, вечный август». Византийская титулатура сохранялась при новом дворе: венецианскому дожу был пожалован титул деспота, а один из виднейших крестоносцев — Конон Бетюнский — сделался протовестиарием.
Однако, принимая внешние формы организации константинопольского двора, пышность которого так импонировала крестоносцам, Балдуин с пренебрежением относился к грекам, третируя их как схизматиков и предателей. Константинополь был разграблен, православное патриаршество заменено католическим (патриархом стал венецианец Томмазо Моросини), греческая знать, искавшая сближения с латинянами, оттеснена на задний план: ее едва терпели, и только один греческий аристократ, Феодор Врана, женившийся на несчастной Агнесе, вдове двух императоров — Алексея II и Андроника I, — получил доступ в высшую феодальную иерархию Латинской империи: он стал сеньором Апра во Фракии. Остальные же, обманутые в своих надеждах, очень скоро были вынуждены оказать сопротивление франками поддержать или независимых греческих правителей, которые появились теперь в разных концах византийского мира, или же болгарского царя Калояна.
Отказ Балдуина от союза с греческой знатью затруднял и замедлял завоевание Византии крестоносцами. Другой причиной, препятствовавшей успешному распространению власти латинян, явились трения в самом лагере победителей. Разнородное и разноплеменное воинство (французы, фламандцы, ломбардцы) было на короткое время объединено общей целью — захватом богатств Константинополя; когда же перед завоевателями встала конкретная задача раздела захваченной добычи, недолгое единомыслие уступило место ожесточенным раздорам.
Прежде всего разгорелся конфликт между Балдуином и Бонифацием Монферратским. Бонифаций должен был получить, согласно договору, заключенному накануне выборов, земли в Малой Азии и Крит, однако он предпочел обменять малоазийские владения на Фессалонику
[52]. Впрочем, как Фессалонику, так и Малую Азию еще предстояло отвоевать у греков. Бонифаций, в отличие от Балдуина, был тесно связан с греческой аристократией: он женился на вдове Исаака Ангела Марии Венгерской — еще молодой и красивой — и собрал вокруг себя византийцев, недовольных константинопольским императором. Он даже действовал как защитник юного Мануила — сына Марии и Исаака — и тем самым расположил к себе часть греческого населения. Бонифация приняли некоторые фракийские города (в том числе Дидимотика), не принадлежавшие к отведенному ему уделу; он послал войска к Адрианополю, где уже стоял гарнизон Балдуина. В противовес этому отряды императора были двинуты к Фессалонике. Назревало вооруженное столкновение, и только вмешательство венецианского дожа Дандоло предотвратило войну.
Вслед, за тем обнаружились противоречия между венецианцами и крестоносным войском. Правда, еще в марте 1204 г. венецианцы составили договор, обеспечивший им три четверти захваченных ценностей и «четверть и полчетверти» территории. Отходящие к Beнеции области были определены другим договором, составленным осенью 1204 г.; венецианцы выторговали себе острова Ионического моря, земли от Коринфского залива до Адрианополя, Пелопоннесу Эвбею, Лампсак и ряд пунктов у проливов и во Фракии — широкую полосу владений, простиравшихся от Далмации до Константинополя и обеспечивавших Республике св. Марка безопасность на морских подступах к Причерноморью. Однако эта обширная программа не была осуществлена; в частности, Пелопоннес (а на некоторое время и Эвбею) Венеции пришлось уступить Бонифацию (взамен Бонифаций продал Венеции права на Крит, завоевать который он, видимо, не рассчитывал)
[53].
Разногласия ослабляли победителей. К тому же ям приходилось бороться не только с греками, силы которых постепенно консолидировались в Эпире и Малой Азии (см. ниже, гл. 3), но и с болгарами. Весной 1205 г. население Фракии восстало против крестоносцев
[54]. Опираясь на поддержку греческой знати, болгарский царь Калоян вторгся во владения империи. 14 апреля 1205 г. половецкая кавалерия Калояна напала на лагерь латинян у Адрианополя и, симулировав бегство, увлекла Балдуина и его рыцарей в засаду. Император попал в плен (там он и погиб, в Тырнове), множество отборных воинов сложило голову в бою
[55]. В последующие годы Калоян не раз совершал походы на территорию Романии, и уже казалось, что не Латинская империя, а Болгария сделается господствующей державой на Балканском полуострове, но внезапная смерть Калояна (в 1207 г.) и начавшиеся усобицы остановили натиск болгар.
Разгром при Адрианополе заставил латинян перейти к обороне. На Востоке они были остановлены и по Нимфейскому договору 1214 г: получили лишь северо-запад Малой Азии.
Успешнее развивалось латинское наступление на Балканах. Бонифаций и его вассалы: Жак д'Авень, Оттон де ля Рош, Гийом Шамплитт, Жоффруа Виллардуэн — действовали в Средней Греции, на Пелопоннесе
[56], на Эвбее, и Фессалоникское государство очень скоро вобрало в себя большую часть Греции. Именно здесь и образовалось ядро латинских владений, многие из которых пережили падение Константинопольской империи в 1261 г.
Новый латинский император, брат Балдуина Генрих Генегауский (1206–1216), отказался от той неприкрытой враждебности к грекам, которая отличала политику его предшественника и, подобно Бонифацию, пытался найти взаимопонимание с византийской знатью. В частности, был расширен лен Феодора Враны, получившего теперь Адрианополь и Дидимотику (частью от империи, частью же от Венеции); константинопольское правительство вступило в соглашение с греческими правителями Трапезунда и вместе с ними вело военные действия против греческих же правителей Никеи. Нередко греческие города торжественно встречали Генриха, рассчитывая, что он сможет обеспечить замирение на Балканах и защитить страну от вторжений болгар. Но часть греческой знати по-прежнему оказывала сопротивление: Лев Сгур не сумел преградить Бонифацию путь через Фермопилы, но в Коринфе и Арголиде он стойко удерживал свои позиции. После смерти Сгура оборону возглавил Феодор Ангел. Правда, в 1209 г. ему пришлось сдать Коринф, но Арголиду он сохранил как ленник крестоносцев. Впрочем, вскоре его обвинили в нарушении феодальной верности и лишили лена. Сам Генрих в одном из посланий, адресованных итальянским прелатам, жаловался на презрительное отношение греков к победителям
[57].
Стремясь к консолидации сил, правительство Генриха улучшило отношения с Фессалоникским государством. Дочь Бонифация Агнеса была выдана за Генриха: торжественно отпразднованная свадьба (4 февраля 1207 г.) символизировала заключение союза.
Постепенно оформлялась политическая структура новой империи. Уже в октябре 1205 г. (весть о смерти Балдуина еще не достигла тогда столицы, и Генрих считался только «модератором» государства) был подписан договор, определявший объем власти императора и его отношения с венецианцами и с вассалами.
Наиболее значительным вассалом императора был, разумеется, правитель Фессалоники. Однако 4 сентября 1207 г. Бонифаций погиб в битве с болгарами, оставив Фессалоникское государство своему двухлетнему сыну от Марии Венгерской — Димитрию. Смерть Бонифация открывала дорогу для всевозможных интриг; бароны Фессалоникского государства разделились на две группировки: одни поддерживали претензии ломбардских вассалов Бонифация, стремились к теснейшему союзу с Монферратом и к независимости от Константинополя, другие же отстаивали союз с латинским императором и оставались верны легитимному наследнику, который в своей колыбели и не догадывался о кипевших страстях. Энергичное вмешательство Генриха определило исход борьбы: император со своими рыцарями хитростью проник в Фессалонику, подавил заговор ломбардцев и в начале 1209 г. возложил на Димитрия королевскую корону.
Конфликт был улажен, но Фессалоникское королевство ослабело. За его счет упрочились другие латинские княжества Греции. Гийом Шамплитт, первый правитель Пелопоннеса, уехал во Францию, и его владения после ловкой интриги перешли к его соратнику Жоффруа Виллардуэну. В 1209 г. он признал себя прямым вассалом константинопольского императора и получил в награду от Генриха высокий титул сенешала империи. Его владения образовали княжество Ахайю (или Морею).
Другие феодальные сеньории возникли в Средней Греции. Сподвижник Бонифация бургундец Оттон де ля Рош стал герцогом (или, как его называли греки, «великим господином») афинским. В отличие от ахайского князя он считался вассалом фессалоникского короля и в соответствии со своей вассальной присягой активно поддерживал Марию Венгерскую против ломбардцев. Позднее, однако, он стал — по части своих земель — вассалом римского папы и, таким образом, в какой-то мере ослабил связи с Фессалоникским королевством.
Владения афинского герцога охватывали также часть Пелопоннеса (Аргос, Навплий, Дамалу); его вассалами были бароны Фив. Кроме Сент-Омеров, державших от герцога Фивы, под властью де ля Роша не было больше крупных сеньоров, и Афинское герцогство не стало — в противоположность другим крестоносным государствам — совокупностью независимых бароний; поэтому-то на его территории возникло не так уж много замков — символов баронской независимости
[58].

Шлем с изображением деисуса и святых. Железо с насечкой золотом и серебром. XIII в. Государственная оружейная палата
От фессалоникского государя зависели первоначально и другие бароны Средней и Северной Греции. Область между Парнасом и Коринфским заливом составила сеньорию Салоны, которая долгое время служила опорным пунктом латинян в борьбе с греками Эпира
[59]. Другой важной сеньорией был маркизат В одоницы, прикрывавший проходы в Среднюю Грецию с севера
[60]. Негропонт (Эвбея) стал леном Жака д'Авеня, который разделил остров на три феода, передав их трем ломбардским рыцарям
[61]. В 1209 г. Негропонт признал сюзеренитет Венеции, что было крупным успехом Республики св. Марка.
Венецианцы закрепились и на других островах, однако большей частью это были владения не Республики, а венецианских рыцарей; наиболее значительным среди этих ленов было герцогство Наксос, где правил Марко Санудо; сперва вассалы империи, герцоги Наксоса признали затем своими сеньорами ахайских князей. Венецианцы утвердились и на Крите.
Наконец, в вассальные отношения с Латинской империей вступили некоторые византийские и славянские феодалы. Михаил Ангел, деспот Эпира, признавал себя вассалом императора лишь временно и формально. Зависимость трапезундского правителя Давида Комнина и племянника Калояна деспота Слава носила чисто номинальный характер — это были скорее союзники Генриха, нежели его подданные. Уже известный нам Феодор Врана, носивший титул кесаря, находился в более тесной зависимости: со своего лена в Адрианополе он должен был выставлять 500 всадников. На аналогичных условиях нес службу и Георгий Феофилопул, лен которого находился на северо-западе Малой Азии.
Завоевание крестоносцев привело к утверждению в Греции форм феодализма, характерных для Франции. Как раз в то время, как в Западной Европе ускоряется развитие феодальных отношений, возрастает денежная рента, распространяется аренда и появляются предпосылки для образования сословной монархии, — в Романии завоевание искусственно создавало условия для консервации отсталых форм феодализма.
Романия являлась страной с ярко выраженным преобладанием аграрной экономики: прогрессивное развитие провинциальных городов, наметившееся в XI–XII вв., было теперь пресечено. Победители — и крестоносные сеньоры, и особенно венецианцы — отнюдь не были заинтересованы в том, чтобы поддерживать и поощрять греческое ремесло и торговлю. Греция все отчетливей превращалась в страну, производящую вино и оливковое масло, разводящую шелкопряда. Она вывозила сельскохозяйственные продукты и славилась по всей Европе поставками монемвасийского вина — мальвазии.
Города Романии, построенные латинянами на базе византийских крепостей или воздвигнутые заново в труднодоступных местностях, были большей частью бургами: крепостные стены и донжон составляли их основные элементы
[62]. Кроме крупных греческих центров (Константинополь, Фивы, Адрианополь, Фессалоника, Коринф), городской характер носили порты (Кларенция, Патры, Навплий, Негропонт), где обычно венецианцы основывали свои колонии и строили церкви: так, Модон
[63] и Корон на юго-западе Пелопоннеса стали опорными пунктами венецианского экономического влияния. Главный город Морей — Андравида — представлял собой
просто большую деревню, насчитывавшую несколько тысяч жителей: соседний Клермон служил замком, где пребывал двор, а Кларенция — портом.
Если верить «Морейской хронике», крестоносцы сохранили в Романии старые аграрные порядки; однако «Ассизы Романии» заставляют внести существенные коррективы в это утверждение. Основная масса морейских крестьян, именуемых западным термином «вилланы», оказалась в положении бесправных крепостных: они не могли ни уходить от господина, ни выдавать замуж дочерей без разрешения феодала; имущество виллана, умершего без наследников, переходило господину, да и при жизни крепостного феодал мог отнять у крестьянина его движимость и его надел (стась); крестьянин не имел права выступать свидетелем против феодала в серьезном уголовном процессе, и, напротив, феодал, убивший чужого виллана, отделывался лишь тем, что возмещал ущерб хозяину убитого; свободная женщина, выходившая за крепостного, теряла и имущество, и свободу, а потомство от такого смешанного брака причислялось к сословию вилланов
[64].
В наиболее бесправном положении находились крестьяне, которых «Ассизы Романии» именуют
nicarii (по-видимому, этот термин происходит от греческого χαπνιχαριοι, т. е. «неимущие крестьяне»); если виллан, ушедший от господина и проживший 30 лет во владениях другого феодала, становился крепостным нового сеньора, то никарию право 30-летней давности не давало защиты от претензий прежнего владельца.
Морейские крестьяне должны были платить денежную ренту, сохранявшую греческое название «акростих»; она колебалась в зависимости от размера стаей от 1 до 8 иперпиров; кроме того, крестьяне выполняли личные повинности (
despoticaria), включавшие, помимо барщинных работ на господском домене, также обязанность строить замки, сооружать господские мельницы и прессы. Если акростих и
despoticaria генетически восходили к византийским повинностям, то баналитеты — скорее всего, западного происхождения: морейские крестьяне должны были пользоваться господской печью для хлеба» мельницей и виноградным прессом, уплачивая за это известную часть продукта.
Помимо крепостных, в Романии существовали и свободные крестьяне, жившие обычно обособленно от вилланов, в поселениях, которые именовались комитурами. Свободные крестьяне имели право распоряжаться плодами своих трудов, выступали свидетелями при составлении завещаний, и считалось, что они не могут быть обложены новыми податями без их согласия. Как то было в Византии, морейские комитуры сохраняли коллективную ответственность за уплату налогов. Число свободных крестьян, по-видимому, было невелико.
Особую категорию свободного крестьянства составляли горцы (в том числе обитавшие на Тайгете славяне), которые жили под властью своих вождей, не платили налогов, но привлекались для несения военной службы. Это была привилегия, сохранившаяся от времен до латинского завоевания.
Владения феодала состояли, как и повсеместно, из домениальных земель, возделываемых вилланами и наемными работниками, из крестьянских наделов и земель, сдаваемых в аренду (
terre appactate) крепостным и свободным людям. К сожалению, количественное соотношение всех этих элементов нам не известно. Характерной формой крестьянской аренды — восходящей, возможно, к византийским традициям — было возделывание запущенной земли, принадлежащей не господину виллана, а другому феодалу: когда крепостной разбивал виноградник на участке постороннего феодала, половина виноградника принадлежала виллану, который обычно платил за нее ренту своему господину. Если виллан умирал бездетным, эта половина виноградника переходила его господину.
Помимо домена и крестьянских наделов, феодальная собственность складывалась из рыбных ловель, мест для добывания соли; феодалу принадлежали всякого рода монопольные права (например баналитеты) и пошлины, доходы от ярмарок, кабачков, церквей и т. п.
[65]
Система феодальной иерархии, образованию которой так долго и упорно препятствовали традиции византийской государственности, теперь сложилась в Греции в классически завершенной форме. Немногочисленный господствующий класс, оказавшийся в завоеванной стране, среди этнически чуждого населения, рассчитывающий на поддержку лишь сравнительно узкой группы местной знати, должен был искусственно поддерживать систему личных связей и ее идеологическое оформление — понятие рыцарской верности и чести. При дворах в Константинополе, Фессалонике и особенно в Андравиде вырастало поколение рыцарей, славившихся своей доблестью и прочно державшихся за традиции, которые на Западе в XIII в. уже начинали казаться обветшалыми. Здесь создалась, как тогда говорили, Новая Франция — но с самого своего рождения она была устарелой.
Наилучшим образом нам известно феодальное устройство Морей, отражавшее в какой-то степени государственный порядок всей Латинской империи.
Вступление рыцаря в иерархию начиналось с обряда оммажа: став на колени, безоружный, он объявлял себя вассалом сеньора за тот или иной лен (перешедший ему от отца или иного родственника, либо же инфеодируемый, т. е. жалуемый господином); сеньор поднимал его и целовал в уста, а вассал на евангелии приносил клятву верности. Одновременно с оммажем совершалась инвеститура — символическая передача перстня, перчатки или жезла. Оммаж и инвеститура оформляли передачу лена — но только после года и дня владения вассал приобретал юридические права на держание и не мог быть лишен своей земли.
Оммаж и инвеститура устанавливали как личные, так и поземельные связи между сеньором и вассалом» Вассал приносил клятву верности сеньору, становился его «человеком», должен был с оружием защищать его интересы и, наоборот, сам находился под его покровительством — военным и судебным. Эта система личных связей, лишь в зародыше существовавшая в Византии XII в., восходила к нормам западноевропейского права.
Основной обязанностью вассала была военная служба: вассал должен был нести гарнизонную службу в крепостях и участвовать в экспедициях. В Морее сохранялось принятое во Франции разделение военных экспедиций на дальние походы (
ost), предпринимаемые под командованием ахайского принца против внешнего врага, и на походы местного значения (
chevauchee), вызванные столкновениями феодальных сеньоров или локальными конфликтами с греческим населением. Гарнизонной службе латинские завоеватели придавали огромное значение: крепости (замки) были оплотом их владычества — неудивительно, что «Ассизы Романии» тщательно регулируют права феодалов в отношении замков. Далеко не каждому рыцарю разрешалось воздвигнуть себе крепость, и сам ахайский князь не мог распоряжаться своими замками без санкции вассалов.
Длительность военной службы и число воинов, выставляемых с каждого лена, строжайше регламентировались феодальным правом Морей.
При завоевании страна была разделена на более или менее однородные рыцарские лены, которые затем распределялись между крестоносцами в зависимости от знатности или от роли в военных действиях: одни получили целый или половинный лен, другие — несколько ленов. Общее число ленов в Морее составляло примерно 500 или 600
[66]. Это свидетельствует о сравнительной немногочисленности прослойки завоевателей и объясняет всю необходимость для них союза с византийской знатью.
Морейские феодалы делились на несколько разрядов. Высшую группу составляли бароны,
bers de terre, как их называли, считавшиеся пэрами ахайского князя. Наиболее крупными барониями были Матегрифон и Каритена в плодородной долине Алфея, а также Пахры; эти баронии насчитывали 22–24 рыцарских лена каждая. Морейские бароны были независимыми суверенами в своих землях: им принадлежали такие регалии, как право чеканить монету, они располагали высшей юстицией (правом выносить и осуществлять смертный приговор), могли беспрепятственно строить крепости. Они выходили на войну с собственными знаменами, и никто не мог судить их, кроме совета 12 пэров, где Виллардуэны заседали вместе со своими баронами.
Основное ядро морейской знати составляли так называемые
ligii, и подобно тому, как князь выступал первым среди баронов, бароны рассматривались как высшие из лигиев. Лигии были вассалами князя или баронов, и их главной обязанностью являлась военная служба. Теоретически лигий нес службу круглый год: четыре месяца на границе, четыре — в замке и четыре — находился в собственном доме, откуда его могли в любой момент вызвать. Однако если предстоял дальний поход, сеньор должен был предоставить вассалу 15 дней на «боры.
Хотя лигии не могли строить замки и чеканить монету и не располагали высшей юрисдикцией, их привилегии были значительными: они являлись членами совета своего сеньора, имели право вершить суд над своими вассалами (помимо дел, требующих смертной казни), свободно могли инфеодировать треть своей земли; они не нуждались в разрешении сеньора, чтобы выдать замуж дочь; они не могли быть задержаны иначе, как по обвинению в предательстве или убийстве; они не платили налога для выкупа сеньора или выдачи замуж его дочери. Всех этих привилегий не имели представители следующего слоя феодалов — так называемые люди простого оммажа. Их связи с сеньором были соответственно менее прочными, чем связи лигиев, и они несли военную службу в согласии с письменным договором, заключенным с сеньором. Если сеньор накладывал руку на держание лигия, последний не мог принести жалобу раньше, чем пройдет год и день, — в противном случае он лишался прав на землю. Зато человек простого оммажа мог обратиться с жалобой уже через 40 дней с момента захвата. Люди простого оммажа не имели своей судебной курии и обладали судебными нравами только в отношении крепостных.
Среди людей простого оммажа были полноправные рыцари и так называемые сержанты, или щитоносцы. Надел сержанта именовался «сержантией» и рассматривался как половина рыцарского лене: рыцарь, тяжело заболевший или достигший старости (60 лет), мог выставить вместо себя двух сержантов.
Особое место в среде морейской знати принадлежало греческой феодальной аристократии, архонтам или архонтопулам (франки называла их «греческими жантильомами»). Известные слои греческой знати приняли латинское завоевание и влились в ряды господствующего класса. Победители гарантировали им владение земельными наделами, которые, «Морейская хроника» обозначает греческими терминами «ирония» или ιγονιχον, приравнивая их к латинскому лену (φιε, фьеф в терминологии «Морейской хроники»)
[67]. Такое отождествление в известном смысле справедливо: греческие архонты причислялись к разряду людей простого оммажа и, подобно им, несли службу на условиях договора. Однако некоторые различия в характере поземельной собственности между греческими и франкскими феодалами оставались; так даже «Ассизы Романии» закрепили за греческими жантильомами особую форму наследования: если лен морейского рыцаря переходил старшему сыну, то земли архонтов разделялись между всеми их сыновьями и дочерьми поровну. На греческих жантильомов, по-видимому, не распространялся обряд инвеституры: они получали свои земли в соответствии с византийскими правовыми нормами
[68].
Специфической формой землевладения в Морее были так называемые
casaux de parсon — поместья, находившиеся в совместной собственности греческих и франкских феодалов. Такое совладение, естественно, ускоряло процесс слияния византийских и западных норм права. Положение крестьян на территории
casaux de parcon было крайне тяжелым: до нас дошли жалобы крепостных в округе Коринфа, изнывавших от эксплуатации двух сеньоров
[69].
Особенно много греческих архонтов оставалось во внутренних областях Пелопоннеса, где они были вассалами де Бриэров, баронов Каритены; сыновья архонтов, воспитанные при дворе Жоффруа де Бриэра, принимали западные обычаи и сражались вместе со своим сеньором против византийских войск. Греческие жантильомы участвовали на стороне морейского князя и в битве при Пелагонии в 1259 г. (см. ниже).
Смешанные браки в феодальной среде Морей стали обычным явлением, и даже морейский князь Гийом (1246–1278) женился на гречанке Анне, дочери эпирского правителя; на гречанке был женат и другой Гийом, герцог афинский. Постепенно в Морее образовался особый слой полуфранков-полугреков, так называемых гасмулов — результат и явный признак начинающейся ассимиляции завоевателей. Гасмулы говорили на греческом языке и, по-видимому, один из них написал по-гречески «Морейскую хронику» (см. выше), прославив подвиги франкских рыцарей на Пелопоннесе.
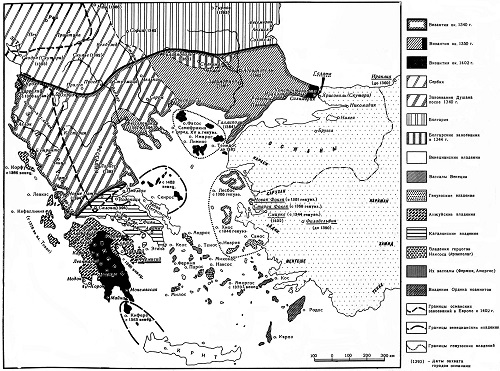
Латинская империя
Постоянные контакты морейских рыцарей с греческими архонттами вели к тому, что византийское право не только сохранялось как обычай в среде греческих жантильомов, но и оказывало влияние на феодальное право Ахайского княжества. Между юридическими нормами «Ассиз Романии» и «Морейской хроники», с одной стороны, и правом, утвердившимся в Иерусалимском королевстве, с другой, существуют известные различия, объясняющиеся, скорее всего, византийским влиянием на юриспруденцию Морей
[70]; в частности, в Латинской империи вассал был значительно свободнее в праве апелляции на своего сеньора к государю — ахайскому князю или даже константинопольскому императору. Подобное установление, возможно, обусловлено было сохранением некоторых принципов римского права.
В состав господствующего класса входило и духовенство. Во главе латинского духовенства стоял константинопольский патриарх
[71], которому подчинялись католические архиепископии и епископии. В Греции распространились цистерцианцы, францисканцы и доминиканцы, появились владения духовно-рыцарских орденов
[72]. Высшее духовенство влилось в класс феодалов: при разделе архиепископы получили по восемь рыцарских ленов, епископы — по четыре. В дальнейшем их владения быстро росли. Особенного влияния достиг архиепископ патрский, считавшийся примасом Морей: в середине XIII в. он купил у Гийома Алемана Патрскую баронию и таким образом прибавил к своим восьми ленам еще 24, принадлежавшие барону Алеману. После этого архиепископ Патр занял первое место среди морейских феодалов и обычно возглавлял знать при встрече ахайского князя или переговорах с ним
[73].
За свои лены католические иерархи и духовно-рыцарские ордена должны были нести военную службу — однако в отличие от светских феодалов они привлекались не к охране крепостей, а лишь к обороне границ. Высшее духовенство участвовало в совете и суде князя — за исключением разбора тех преступлений, которые карались смертной казнью.
Положение латинской церкви было необычайно сложным. Прежде всего, чрезвычайно острым оказался конфликт между духовенством и светскими феодалами, которые еще в 1204 г. поспешили присвоить основную часть богатств византийской церкви; только после долгой борьбы Генрих Генегауский согласился возместить ущерб, выделив духовенству пятнадцатую долю всех земель и доходных статей с территории вне Константинополя. Затем ожесточенная борьба кипела между французским и венецианским духовенством, находившимся в привилегированном положении. Наконец, постоянное вмешательство папства в церковную политику Романии усугубляло трудности.
Но, разумеется, наиболее сложным был вопрос об отношении к греческому духовенству. Греческое население сохранило православие, и религиозная схизма на долгое время сделалась выражением неприязни к завоевателям
[74]: греки не только сохраняли свои обряды, но и отказывались платить десятину, поскольку ее не знало православное церковное право. Они отказывались вносить деньги за совершение таинства брака, как требовали латинские священники в Афинах: греки утверждали, что по их обычаю в таком случае дают лишь петуха и ковригу хлеба
[75]. Отказ от католичества, таким образом, явно переплетался с протестом против усиления феодального гнета.
Патриарх Моросини, осуществляя наиболее активную антигреческую политику в интересах венецианцев, пытался вовсе запретить православное богослужение в Константинополе. Напротив, и папа Иннокентий III, и наиболее дальновидные политики Романии искали компромисса с греческим духовенством. В Фессалоникском королевстве по крайней мере 5 из 11 епископий оставались в руках греков
[76]; здесь греческое духовенство пользовалось откровенной поддержкой Марии Венгерской. В других частях империи греки могли сохранить свою кафедру, лишь признав примат римского папы: только немногие епископы пошли на это, и среди них Феодор Негропонтский.
Но если высшая духовная иерархия состояла главным образом из католиков, то рядовые священники и диаконы были преимущественно греками, сохранявшими православие и свои обычаи. Они не приняли целибата, и вопрос об обязанности сыновей клириков нести военную службу оживленно обсуждался властями Романии. Кое-где греческие священники даже оказывали воздействие на латинян: так, на острове Мелос в середине XIII в. среди католиков распространился греческий обряд крещения, что вызвало неудовольствие римского папы.
Православный клир был неполноправным. Клирики платили акростих, а в некоторых случаях латинские феодалы принуждали священников выполнять ангарии. Хотя теоретически они сохраняли иммунитет и подлежали лишь церковному суду, на практике они были беззащитны перед знатными сеньорами: специальное папское постановление от 1222 г. разрешало епископам Романии освобождать латинян от наказания за насилие над православным клириком, который не оказал должного почтения крестоносцу или вел себя вызывающе в отношении римской церкви.
Папство пыталось взять под свое покровительство греческих монахов Афона, обещав сохранить привилегии св. Горы, но и здесь натолкнулось на сопротивление: среди афонских монастырей, по-видимому, только Ивирский согласился подчиняться престолу св. Петра. Греческое духовенство и монашество стремилось добиться создания (наряду с латинским) греческого патриаршества в Константинополе (подобная система уже существовала в Антиохии и Иерусалиме) и обращалось с соответствующими просьбами к Иннокентию III, — но письмо греческого духовенства было оставлено без ответа. Все это превращало православное духовенство в силу, резко враждебную завоевателям.
Высшие должностные лица Латинской империи рекрутировались из числа крупнейших земельных собственников: мы уже знаем, что пост сенашала Романии принадлежал ахайскому князю. Большая часть высших должностей государства соответствовала западноевропейским: и в Константинополе, и в Андравиде мы встретим маршала, великого коннетабля, канцлера, функции которых, впрочем, были недостаточно четко разграничены. Как и на Западе, суд творила здесь курия вассалов. Как и на Западе, управление доменами принадлежало капитанам: это были рыцари, жившие в замках и обладавшие административной, военной и судебной властью на окружавшей замок территории.
Вместе с тем на структуре государственного управления сказалось и византийское влияние. Византийская податная система не была уничтожена: поземельный налог, сохранивший (как и феодальная рента) греческое название «акростих», взимался в соответствии со старыми поземельными кадастрами. Должностное лицо, ведавшее финансами, носило греческое наименование — «протовестиарий», и в Морейском княжестве эти обязанности выполнял нередко кто-либо из греков.
Помимо латинских властей, в империи осуществляли управление также венецианские. Венецианцы имели в Константинополе своих судей и, по-видимому, свое казначейство. Главой венецианской администрации был подеста, которым после смерти Дандоло (29 мая 1205 г.) избрали Марино Дзено, получившего титул управителя (
dominator) «четверти и полчетверти» Романии. В присяге, которую приносил подеста, он клялся подчиняться указаниям дожа и постановлениям константинопольского совета венецианцев, который ограничивал его власть так же, как Малый совет ограничивал власть дожа. Члены константинопольского совета (и в их числе подеста) входили в состав императорской курии: их было там 6 из 12, и они могли, таким образом, оказывать решающее влияние на политику Латинской империи
[77].
Латинский Константинополь, как и Константинополь византийский, манил феодалов империи. Крупнейшие сеньоры Романии жили не в своих владениях, а в столице: здесь были у них дворцы, здесь скоро научились они нежиться в мраморных банях, наслаждаться роскошью шелковых одеяний. В Константинополе беспрестанно устраивались развлечения: турниры и состязания жонглеров на западный образец и ристания — на византийский.
Сближение завоевателей с представителями господствующего класса побежденных способствовало и культурному общению. Конечно, завоевание привело к упадку греческой образованности, к разрушению библиотек и школ; многие византийские писатели и ученые бежали на восток или в Эпир, рассчитывая на покровительство правителей новых греческих государств. Однако постепенно в Морее стала появляться новая, двуязычная интеллигенция, как анонимный автор «Морейской хроники» или Гийом де Мэрбеке, архиепископ коринфский, сотрудник Фомы Аквината, переводивший на латинский язык сперва Аристотеля, а затем и других греческих авторов — Гиппократа, Галена, Архимеда, Птолемея и Прокла. Деятельность Гийома де Мэрбеке содействовала знакомству Запада с греческой культурой и в какой-то степени подготавливала гуманистическое развитие.
Латинская империя оказалась недолговечной — она просуществовала едва более полустолетия. Ее непрочность объясняется многими причинами. Во-первых, разгром Византии не привел к окончательному крушению форм византийской государственности: сохранилась византийская податная система, Константинополь и в это время продолжал оставаться колоссальным потребляющим центром, куда стекалась высшая феодальная знать и где непроизводительно расходовались большие средства. Во-вторых, утвердившийся в Романии феодализм западного типа, основывавшийся на военно-иерархическом устройстве, был для Европы XIII в. уже архаичной, отмирающей общественной формой; его влияние, в частности, выразилось в том, что приостановился экономический прогресс в провинциальных городах Греции. В-третьих, распространение завоевателей по Греции приводило нередко к установлению двойного гнета — от греческих и франкских феодалов, что вызывало особенный протест вилланов в
casaux de parcon. В-четвертых, своекорыстная политика венецианцев, подрывавших местную торговлю и ремесло, восстанавливала против латинян население греческих городов. Наконец, даже внутри господствующего класса обоих народов не произошло органического слияния, что обусловливалось в значительной степени неполноправным положением православной церкви.
Из всех латинских сеньорий на территории Византии наиболее устойчивой оказалась Морея, просуществовавшая до начала XV в. Но уже очень рано Латинская империя теряет свое преобладание на Балканах, уступая его новым греческим государствам, сложившимся в Эпире и Малой Азии.
Глава 3
Социально-экономический и политический строй Никейской империи, Эпирского царства и Трапезундской империи
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Едва крестоносное войско овладело Константинополем, как Византийская империя развалилась на куски. «Когда Константинополь был взят латинянами, — говорит Никифор Григора, — случилось так, что держава ромеев, как грузовое судно, подхваченное злыми ветрами и волнами, раскололось на множество мелких частей, и каждый, разделив ее, как кому удалось, унаследовал один — одну, другой — другую часть»
[78]. Такой оборот событий был закономерным итогом предшествующего развития страны. Симптомы феодального раздробления отчетливо проявились еще до Четвертого крестового похода, в царствование Исаака II и Алексея III Ангелов. Не только окраинные провинции Византии, населенные иноплеменниками, тяготели к выходу из состава империи. Даже области, в которых греки составляли подавляющее большинство, превращались в почти независимые, слабо связанные с центром княжества крупнейших феодальных фамилий. В Южной Македонии и Эпире безраздельно властвовали Комнины, Дуки и Ангелы, в Фессалии — Малиасины и Петралифы, в Лакедемоне — Лев Хамарет. Навплийский архонт Лев Сгур перед самой осадой Константинополя крестоносцами пошел войной против центрального правительства, силой овладел Коринфом, вторгся в Аттику, осадил Афины, взял Фивы и начал продвижение на север, к Фессалии.
Сходной была обстановка и в Малой Азии. Сразу же после падения столицы малоазийские земли империи оказались под властью нескольких независимых друг от друга правителей. Атталия находилась в руках представителей грецизированной итальянской семьи Альдебрандино, на Меандре укрепился Мануил Маврозом, Филадельфией единовластно правил Феодор Манкафа, Сампсоном у Милета владел Савва Асиден. Пиги и Лампсак были фактически независимыми венецианскими колониями. Родос находился под господством Льва Гавалы.
Темным и безнадежным казалось будущее дезорганизованной и лишенной единого управления страны. В первые месяцы после падения столицы никто не мог предвидеть, где начнется возрождение разрушенного Византийского государства и начнется ли оно вообще. Однако вскоре это возрождение началось почти одновременно в разных концах бывших земель империи. К концу 1204 — началу 1205 г. из множества греческих центров выделились три главных, которые принято называть Никейской империей, Эпирским царством и Трапезундской империей.
Именно этим греческим государствам, образовавшимся после Четвертого крестового похода, было суждено сыграть решающую роль в судьбах Латинской империи и самой Византии.
После бегства из Константинополя Алексея Мурчуфла, в ночь на 13 апреля, столичная знать провозгласила императором в св. Софии видного константинопольского аристократа Константина Ласкариса, который предпринял последние попытки организовать оборону города
[79]. Однако, убедившись в их полной бессмысленности, он, так же как и другие представители столичной знати, бежал через несколько часов после своего провозглашения в Малую Азию. О дальнейшей судьбе Константина Ласкариса почти ничего неизвестно. По-видимому, он не был коронован, не принял титула императора и выступал лишь как помощник своего брата, Феодора Ласкариса, а через год, в 1205 г., погиб или был смертельно ранен в одном из сражений и исчез со страниц истории.
Феодор Ласкарис, еще молодой (ему было около 30 лет), невысокого роста, смуглый, немного разноглазый, с острой небольшой бородкой, обладал всепобеждающей настойчивостью и неиссякаемой энергией. Он был одним из видных вельмож при дворе Алексея III Ангела, отличился как военачальник в войнах с болгарами и стал зятем императора: он был женат на второй дочери Алексея III Ангела Анне и, вероятно, в связи с этим браком получил титул деспота. Бежав со своей семьей и другими знатными константинопольцами в Малую Азию, в район города Никеи, Феодор стал восстанавливать парализованный государственный аппарат и налаживать оборону прилежащих византийских областей от иноземных врагов и соседних независимых архонтов.
Чрезвычайно трудными были первые шаги по созданию нового государства. Жалкая кучка аристократов, еще вчера направлявших политику двора и приведших империю к гибели, была с недоверием встречена населением Малой Азии. Окруженный отрядом знатных сподвижников, вооруженной челядью и домочадцами, Феодор долго не мог найти себе пристанища. Никея отказалась впустить его внутрь своих могучих стен. С большим трудом ему удалось убедить никейцев предоставить убежище его семье и, по-видимому, семьям его сторонников. Это был первый успех, несомненно, способствовавший укреплению власти Ласкариса. Руки его были развязаны. Опираясь на Бруссу, которая оказалась в его власти, он начал энергично подчинять соседние земли.
Именно здесь, на северо-западе Малоазийского полуострова, крестоносцы впервые натолкнулись на организованное сопротивление своим планам раздела византийских земель. В этой борьбе росли авторитет и влияние Феодора Ласкариса. Выступая как защитник восточных владений империи от западных пришельцев, он получил народную поддержку и упрочил свое господство.
Правда, глава нового государства не сразу принял титул императора. Для этого было необходимо соблюдение старых, освященных обычаем и временем традиций. Феодор I Ласкарис не был коронован константинопольским патриархом, тогда как коронованный в св. Софии экс-император Алексей III Ангел продолжал отстаивать свои права. К тому же в самом новом государстве не было патриарха: Иоанн X Каматир после захвата города латинянами нашел убежище в Дидимотике и отказался переезжать на восток. Феодор Ласкарис должен был довольствоваться титулом деспота.
Но летом 1206 г. Иоанн Каматир умер. Никейская знать и духовенство в согласии с константинопольскими иерархами, жившими в оккупированном латинянами городе и тайно принявшими участие в переговорах с Феодором Ласкарисом, весной 1208 г. избрали новым «вселенским» патриархом Михаила IV Авториана, который на пасху этого года короновал Феодора I «императором ромеев» (1208–1222)
[80]. Этот акт был чрезвычайно важен для последующего возвышения Никейской империи. Правители и других греческих государств (Эпирского царства и Трапезундской империи) в разное время провозглашали себя императорами. Но они не были помазаны на царство патриархом, которого имела лишь Никейская империя и которого большинство духовенства и самого населения греческих земель рассматривало как законного преемника константинопольского патриарха и главу всех «православных».
Точная дата превращения Никеи в столицу нового государства неизвестна. Очевидно, это случилось в конце 1205 — начале 1206 г., когда никейцы, ободренные первыми успехами Феодора I Ласкариса, добровольно признали его своим повелителем.
Никейская империя быстро набирала силы. Уже через четверть века это государство, обстоятельства формирования которого в первое десятилетие после падения Константинополя были особенно трудными и сложными, стало наиболее вероятным наследником Византийской империи. Причины этого лежали во внутреннем развитии западных районов Малой Азии и в той специфической политике, которую проводили талантливые правители Никейской империи в течение первых десятилетий после ее основания. Насколько опаснее складывалась тут внешняя обстановка, настолько благоприятнее для господствующей группировки протекало внутреннее развитие. Прежде всего, Никейская империя унаследовала наиболее богатые и плодородные районы Малой Азии. Здесь, на восточных границах нового государства, находилась мощная система пограничной обороны Византии, заложенная еще при Комнинах. Туркам не удалось опрокинуть защитников византийских границ даже в тот период, когда централизованное правительство прекратило свое существование, а независимые греческие правители Малой Азии вели ожесточенную борьбу друг с другом. Византийцы потеряли в это время лишь несколько сравнительно небольших пограничных районов.
Георгий Пахимер прямо объясняет расцвет Никейской империи прочной организацией ее военных сил, прежде всего пограничных
[81]. Эта организация сложилась, по-видимому, в строгую систему уже при Феодоре I Ласкарисе. Границу государства защищали три рода войск. Главное место среди них принадлежало акритам — пограничным военным поселенцам, пешим воинам, обладавшим большим опытом партизанской борьбы. Они располагали значительными земельными наделами и пастбищами, не платили государственных налогов и получали жалованье. Акриты несли военную службу по месту расположения своих владений. Оборона границ означала для них одновременно охрану собственного достояния. Акриты нередко по своей инициативе предпринимали грабительские набеги на территории соседей. Среди акритов было немало еретиков, в их рядах находили себе убежище и другие оппозиционные элементы
[82]. Сравнительная обеспеченность и слабый государственный контроль при постоянной военной опасности способствовали развитию сознания сословного и социального единства и укреплению чувства взаимовыручки и солидарности.
Помимо акритов, многие крепости на границе защищали гарнизоны, укомплектованные из греков и иноземцев (франков, армян, славян, турок), целиком находившихся на государственном содержании. Наиболее видные из них (как и наиболее выдающиеся из акритов) получали вместо жалования пронии.
Наконец, к обороне границ, особенно в период острой военной опасности, привлекались и стратиоты — конные воины из зажиточного населения свободных деревень. В отличие от акритов, они участвовали в длительных и далеких военных походах. Процесс имущественной и социальной дифференциации среди стратиотов протекал в XIII в. особенно бурно. Некоторые из них влились в ряды прониаров, немало стратиотов в случае продвижения врагов в глубь византийской территории переходило на положение акритов, многие же оказывались прониарскими париками.
Ко времени возникновения Никейской империи далеко не все земли в северо-западном углу Малоазийского полуострова находились в собственности светских и духовных феодалов. Здесь было немало государственных и императорских поместий. В распоряжении и теми и другими никейские правители, кажется, уже не делали никакого различия. Кроме того, много владений в результате латинского завоевания и эмиграции их собственников в западные области империи осталось без законных наследников на месте. Немало земель было конфисковано Феодором I Ласкарисом у своих политических противников и у местных правителей, противившихся упрочению и расширению его власти. В распоряжении правителя Никейской империи оказались и владения константинопольских монастырей и церквей, в частности владения св. Софии.

Одна из башен городской стены Никеи. XIII в.
Все эти земли составили фонд казны, который и был использован Феодором Ласкарисом для укрепления своей власти. Практически земля была тем единственным достоянием, которым император располагал для удовлетворения разнообразных нужд государства в первое десятилетие после его основания.
Акты монастыря Лемвиотиссы показывают, что в первой половине XIII в. произошло значительное перераспределение земельной собственности между разными социальными группами. Уже на время правления этого императора приходится быстрый рост до того мало заметных прониарских владений, легших в основу формирования военных сил империи. Выросли и крупные поместья придворной и чиновной местной знати: именно землей мог Феодор Ласкарис наградить своих сторонников за помощь и поддержку, не имея достаточно денежных средств для выплаты руги
[83].
Пронин выдавались лишь на срок жизни с обязательным условием несения службы. Прониары не имели права покупать землю своих париков. Верховное право собственности на нее принадлежало государству. Прониар обладал судебно-административными правами в отношении населения своей иронии, но он не был безраздельным собственником ни земли, ни париков пронии
[84].
Система проний была для никейских императоров могущественным средством сплочения феодалов вокруг императорского престола. Лишь в дальнейшем своем развитии, начиная со второй половины XIII в., она стала приводить к прямо противоположным результатам. Военные силы прониара не всегда комплектовались из зависимых от него париков. На территории пронии жили и представители других социальных категорий: мелкие феодалы, свободные собственники, горожане, деклассированные элементы. Из них прониар создавал свою дружину, с которой являлся на императорскую службу.
Наследственные владения, которыми никейский император наделял высшее чиновничество, также отличались от благоприобретенных и родовых владений феодалов. При наследовании пожалованного императором поместья, так же как при смене царствования, необходимо было получить от императора подтвердительную грамоту. Таким образом, дальнейший рост владений феодала при укреплении прав императора на государственные земли в значительной мере зависел от степени усердия крупного собственника в выполнении своих обязанностей, от благоволения главы государства и от внешнеполитических успехов, связанных с захватом новых территорий.
К XIII в. и провинциальная землевладельческая аристократия и столичная чиновная знать основывали свое могущество на владении земельной собственностью и эксплуатации бесправных париков. Однако борьба между этими двумя группировками класса феодалов не прекратилась полностью и в правление Комнинов. Лишь теперь, впервые десятилетия XIII в., в пределах сравнительно единого экономического района на северо-востоке Малой Азии была временно достигнута консолидация сил господствующего класса, которой способствовали система проний и императорских пожалований, а также серьезная внешняя опасность.
В течение всего периода существования Никейской империи в Малой Азии имел место быстрый рост крупной феодальной собственности. Свободное крестьянское землевладение переживало не менее быстрый упадок. Парикия стала почти повсеместной
[85]. Ряды париков пополняли лишенные имущества поселяне, бежавшие из областей, занятых латинянами и турками или опустошенных войной.
О городах Никейской империи известно чрезвычайно мало. По-видимому, упадок византийского города, начавшийся в конце XII в. еще не захватил в полной мере провинциальные районы (см. главу 7). Правда, в ряде городов малоазийского побережья, как и в Константинополе, перед Четвертым крестовым походом укрепились итальянские торговцы и фактически превратили их в свои колонии (Пиги, Лопадий). Однако Никея продолжала сохранять значение крупного торгового и ремесленного центра. Ее роль возросла еще больше, после того как она стала столицей Никейской империи
[86]. Крупным и многолюдным городом была и Филадельфия
[87].
Тем не менее в Никейской империи, очевидно, ощущался недостаток в ремесленных изделиях, так как Феодор I Ласкарис продолжал политику благоприятствования иностранным (прежде всего — итальянским) торговцам, проводившуюся Комнинами. Договором 1219 г. он предоставил венецианцам право беспошлинной торговля на всей территории Никейской империи (см. гл. 7).
Аграрная политика Феодора I Ласкариса получила свое продолжение и дальнейшее развитие в царствование его зятя (мужа его дочери Ирины) Иоанна III Дуки Ватаца (1222–1254), наиболее выдающегося из императоров Никейской империи. Впоследствии православная церковь причислила его к лику святых
[88]. Иоанн Ватац еще более широко, чем его предшественник, раздавал иронии. Однако размеры раздававшихся Ватацем проний были, по всей вероятности, невелики, так как в дальнейшем увеличение проний было одним из требований знати
[89]. Иоанн Ватац провел ряд мероприятий, которые способствовали укреплению его единодержавной власти и ослабили зависимость императорского двора от крупных феодалов, с оппозицией которых ему пришлось столкнуться уже в начале своего правления.
Феодор Ласкарис лишил наследства своего малолетнего сына от второй жены в результате разрыва с нею; обошел он и своих родных братьев, Алексея и Исаака Ласкарисов, передав престол зятю. Братья не признали законной волю умершего. Они бежали к латинянам в Константинополь и пытались с их помощью оспаривать трон у Ватаца. В 1225 г. император встретил войска соперников у Пиманинона, разбил их, взял Ласкарисов в плен и ослепил. Однако разгром Ласкарисов не заставил феодальную оппозицию отказаться от борьбы. Вскоре
[90] возник еще более опасный заговор во главе с Андроником Нестонгом, метившим на императорский престол. К заговору примкнули представители знатнейших фамилий империи: Синадины, Тарханиоты, Макрины, Стасины. Среди заговорщиков были и родственники императора: сам Нестонг был его племянником. Заговор был раскрыт, когда Ватац снаряжал на Геллеспонте флот для предстоящей экспедиции против латинян. Император приказал сжечь флот, чтобы он не попал в руки врага, и поспешил в столицу, считая внутреннюю опасность более важной, чем предполагавшуюся войну против латинян
[91]. Наказав заговорщиков ссылкой, членовредительством и заключением, Ватац не решился прибегнуть к казням. Считая, что опасность отнюдь не миновала, он окружил себя неусыпной стражей из преданных людей. Вероятно, с борьбой Ватаца против оппозиции связано и перенесение им своей резиденции из Никеи — гнезда феодальной аристократии — в Нимфей (близ Смирны).
В борьбе с феодальной оппозицией Иоанн Ватац настойчиво проводил курс на укрепление центральной власти как непременного условия успешной внешней политики, направленной на восстановление Византийской империи. Для этого необходимо было значительно повысить доходы казны. При резком сокращении свободного крестьянства увеличение налоговых взысканий не могло обещать серьезного роста средств. И Ватац пошел по пути организации императорских поместий на государственной земле.
Сведения нарративных источников об этих мероприятиях Ватаца, к сожалению, неполны и к тому же, по-видимому, страдают некоторыми преувеличениями. Ничего не пишет об этом современник Ватаца Георгий Акрополит, принадлежавший, правда, к оппозиционно настроенному крылу знати. Георгий Пахимер
[92], Феодор Скутариот
[93] и Никифор Григора
[94] говорят о необыкновенной доходности созданных Ватацем императорских поместий: амбары ломились от зерна и других плодов труда земледельцев, загоны не вмещали стада крупного рогатого
скота, свиней, овец, верблюдов. Императору принадлежали огромные табуны коней и бесчисленные стада домашней птицы. Продажа лишь одних куриных яиц будто бы дала императору такие Средства, что он смог изготовить для императрицы золотой венец, усыпанный драгоценными камнями. Ватац назвал этот венец «яичной короной».
Император побуждал и других представителей знати уделять больше внимания ведению домениального хозяйства.
В результате этих мероприятий страна в короткое время достигла небывалого изобилия. Процветанию Никейской империи в правление Иоанна Ватаца способствовало то, что в соседних турецких землях царил голод, вызванный неурожаями и опустошительными нашествиями монголов. Множество разоренных жителей турецких областей хлынуло на земли Никейской империи для поселения и закупки продовольствия. Они приносили с собой деньги, изделия из драгоценных металлов, ткани, отдавая все это в обмен на продукты. От торговли с турками в это время особенно «обогатилась казна»
[95].
Доходы от императорских поместий полностью удовлетворяли потребности двора и позволили Ватацу вести значительное церковное строительство, осыпать богатыми дарами духовенство, создавать приюты, богадельни, больницы, снискивая этим популярность у простого народа. Ватац наделял духовенство богатыми владениями, строил новые монастыри и храмы, восстанавливал и украшал старые. Он оказывал материальную помощь православному духовенству Александрии, Иерусалима, Антиохии, Синая, Сиона и, что особенно важно, Константинополя, Фессалоники, Афона, Аттики
[96].
Но прежде всего увеличение доходов казны дало Ватацу возможность укрепить военные силы страны, находившиеся в непосредственном его распоряжении. У множились отряды наемников из латинян — профессиональных воинов. К пограничным крепостям были приписаны соседние или специально для этого организованные поселения крестьян, которые снабжали гарнизоны всем необходимым. В крепостях были созданы обильные запасы продовольствия и оружия на случай вражеской осады
[97]. Ватац привлек на свою сторону вторгшихся в 30-х годах на Балканы половцев и, отведя им земли, поселил до 10 тыс. человек во Фракии, Македонии, Фригии и на Меандре. Эти половцы стали акритами
[98] и, по-видимому, в значительной части превратились в оседлых поселенцев.
Резко отличалась политика Иоанна Ватаца от политики тестя по отношению к иноземным торговцам. К сожалению, известия об этом затемнены некоторыми анекдотическими подробностями. Наблюдая, как разбогатевшие жители империи разоделись в иноземные «ассирийские», «вавилонские» и итальянские ткани, Ватац якобы был обеспокоен тем, что богатства ромеев утекают за границу в обмен на иноземные товары
[99]. Он выразил неудовольствие даже своему сыну, увидев его в шелковом платье на охоте. Ватац ввел торговые пошлины на иностранные товары, и в первую очередь — на итальянские (см. гл. 7).
Забота Ватаца о ремесленном производстве выразилась и в покровительстве оружейным ремесленным мастерским в больших городах. Видимо, многие из этих мастерских были государственными. В них трудились наемные ремесленники — мистии. Благодаря этим мастерским Ватац создал большие арсеналы — склады оружия
[100]. По всей вероятности, довольно оживленной при этом императоре была, несмотря на соперничество, торговля с Фессалоникой: фессалоникские заговорщики — сторонники Ватаца — отправились к нему, чтобы обсудить условия сдачи города Ватацу под предлогом ведения торговых переговоров
[101]. Ватац выдал хрисовулы, утверждающие права и привилегии Мельника и Фессалоники
[102].
Своеобразной была политика Иоанна Ватаца и по отношению к церкви. Проявляя к ней большую щедрость, он в то же время стремился полностью подчинить задачам своей внутренней и внешней политики и белое, и черное духовенство. Патриархи, избиравшиеся при Ватаце, послушно следовали его воле. Когда императору не удавалось быстро найти подходящего кандидата на патриарший престол, он, не колеблясь, оставлял церковь без пастыря
[103].
С крайним неудовольствием Георгий Акрополит говорит, что Иоанн Ватац не нуждался ни в чьем совете, что высшие сановники, окружавшие императора, даже при решении важнейших государственных дел «ничем не отличались от столбов», не решаясь противоречить государю
[104]. Но оппозиция не сложила оружия. Она все более явно возлагала свои надежды на молодого и талантливого представителя высшей аристократии — Михаила Палеолога. Осторожный и изворотливый. Михаил старался усыпить подозрения императора и в то же время завоевать авторитет среди сановников, у духовенства и в армии. В 1252 г. во время похода на Балканы Ватацу донесли о далеко идущих планах Палеолога. Сообщения источников об этом противоречивы. Акрополит стремится представить юного честолюбца как невинную жертву клеветы
[105]. Соглашается с Акрополитом и Григора
[106]. Пахимер говорит о заговоре
[107]. Улики оказались, однако, недостаточными. Император ограничился тем, что потребовал от Михаила торжественной клятвы на верность.
Недовольная политикой Иоанна Ватаца аристократия возлагала надежды и на сына императора Феодора Ласкариса
[108], который, хотя и считался бесспорным наследником престола, до смерти отца не имел какой бы то ни было власти. Отец даже не объявил взрослого сына своим соправителем, как это вошло в обычай еще до Комнинов.
Ватац умер 3 ноября 1254 г. в Нимфее, и императором был провозглашен Феодор II Ласкарис (1254–1258), которому было в это время 33 года. Более трехсот лет, считая от Константина VII Багрянородного, византийский престол не занимал столь высоко по своему времени образованный человек, как Феодор II. Еще в царствование его отца Никея стала одним из главных, если не самым главным, центром византийской культуры и образованности. Ватац создал в городах библиотеки, собрав книги со всей империи и, насколько возможно, из-за ее пределов
[109]. При дворе была основана высшая философская школа, в которой обучались сыновья аристократов.
Один из учеников этой школы (Георгий Акрополит) и один из наставников (Никифор Влеммид) были учителями молодого Феодора. Философ и писатель
[110], Феодор Ласкарис написал несколько трактатов и речей. Известны его многочисленные письма. Он развивал идею об идеальном государе и о прочном и едином греческом государстве. Нервный, подозрительный, фанатично преданный своей идее и крайне самолюбивый и честолюбивый, Феодор II Ласкарис не терпел неповиновения и жестоко карал своих политических противников, порой по ничтожному подозрению. Многие знатные лица были смещены с их должностей
[111]. Феодор окружил себя людьми незнатного происхождения, беззаветно преданными возвысившему их государю. Феодальную аристократию постигло жестокое разочарование. Все, говорит Акрополит, «кто был в опале при его отце или был лишен денег либо владений, лелеяли надежду обрести избавление от бед», но ошиблись в своих расчетах
[112].
Феодор II Ласкарис продолжал внутреннюю политику своего отца. Источники не позволяют сделать вывода о резкой перемене внутреннего курса при этом императоре
[113]. Что касается его репрессий против крупнейших представителей феодальной аристократии, то борьбу с феодальной реакцией пришлось вести уже его отцу. При Феодоре II эта борьба обострилась, и репрессии приняли большие масштабы и более жесткий характер. Ближайшими советниками молодого императора стали незнатные лица — протовестиарий (впоследствии великий стратопедарх) Георгий Музалон и два его брата. Георгия император обычно оставлял своим наместником в столице во время военных походов.
Феодор Ласкарис более строго, чем его отец, взыскивал налоги
[114]. Он, по-видимому, ликвидировал некоторые излишества при дворе: даже императорские охотничьи и сокольничьи были зачислены в войско
[115]. Серьезной ошибкой Феодора Ласкариса было снижение платы западным наемникам. Мера эта, видимо, явилась свидетельством нерасположения к великому коноставлу (коннетаблю) Михаилу Палеологу, командовавшему этими наемниками. Палеолог вскоре ловко воспользовался недовольством латинских воинов. В 1256 г., отправившись походом на Балканы, Феодор Ласкарис оставил своим наместником в Никее Михаила Палеолога (Георгий Музалон на этот раз принял участие в походе). Во время похода, однако, пришло известие, что Михаил, боясь угроз императора
[116], которые тот будто бы часто произносил по его адресу, бежал к туркам. Обеспокоенный Феодор поспешил в столицу. Палеологу была обещана полная безнаказанность, и он вернулся, принеся присягу на верность Феодору и его наследнику.
Царствование Феодора II Ласкариса было коротким. Он страдал тяжелой болезнью, сопровождавшейся мучительными эпилептическими припадками. В августе 1258 г. император умер, оставив трон восьмилетнему сыну Иоанну (1258–1261). Опекунами юного императора Феодор Ласкарис назначил Георгия Музалона и, вероятна, патриарха Арсения. Незадолго перед смертью Феодора опекуны и представители высшей знати (в том числе Михаил Палеолог) принесли присягу на верность Иоанну.
Смерть Феодора II Ласкариса послужила сигналом к наступлению феодальной аристократии. Георгий Музалон прекрасно понимал это. Он тотчас созвал синклит, на котором изъявил готовность уйти со своего поста и передать дела новому эпитропу, которого изберет синклит. Однако заговорщики предпочли действовать из-за угла. Палеолог выступил с речью, восхваляющей мудрость Музалона, и задал тон собранию. Посыпались льстивые заявления. Снова была принесена присяга на верность Иоанну и Георгию Музалону. События развивались очень быстро. На девятый день после смерти императора Музалоны и другие представители высшей знати отправились в Сосандрский монастырь на панихиду в память умершего. Во время богослужения храм был окружен воинами, во главе которых были подчиненные Михаилу Палеологу западные наемники. Георгий, Андроник и Феодор Музалоны пытались найти убежище у алтаря, но были настигнуты и зверски зарублены.
Опекуном малолетнего императора стал Палеолог, получивший титул мегадуки. Патриарх Арсений отдал ему ключи от казнохранилища, и новый распорядитель империи воспользовался этим, чтобы подготовить себе путь к трону. Он щедро раздавал деньги сановникам, военным, духовенству, всюду вербуя сторонников
[117]. Пытался он завоевать симпатии и простых горожан, освободив должников фиска из тюрем
[118].
Все аристократы, попавшие в опалу при Ватаце и его сыне, были возвращены ко двору и осыпаны милостями. Сторонники Музалонов подверглись репрессиям. Палеолог торжественно обещал, что на наиболее важные должности будут назначаться лишь представители высшей знати. В юридический статус прений были внесены важные изменения, приведшие к постепенному слиянию условной собственности с родовой феодальной собственностью: Палеолог обязался увеличить пронии и превратить их в наследственные, независимо от того, пали ли их держатели на поле боя или умерли своей смертью, независимо от того, есть ли у них наследники или они еще находятся во чреве матери
[119], Палеолог клялся патриарху и иерархам, что не предпримет ничего без благословения высшего клира
[120].
Через два-три месяца волею придворных и духовных сановников юный император пожаловал Палеологу титул деспота, а в конце 1258 г. нарек его своим соправителем. В начале 1259 г. должна была состояться коронация обоих императоров. Однако короновав, был лишь Михаил Палеолог (1259–1282). Коронация Иоанна была отложена на неопределенный срок
[121].
Возвышение Палеолога не обошлось все-таки без борьбы. Пока он выступал против Музалонов и их сторонников, высшая феодальная аристократия оказывала ему единодушную поддержку. Но когда зашла речь об отстранении от престола законного наследника, положение осложнилось. Патриарх Арсений, коронуя Михаила, добился от него клятвы, что по достижении Иоанном совершеннолетия он станет единовластным государем. Дорожа своим авторитетом и авторитетом церкви, патриарх не мог пренебречь присягой Феодору II и его сыну. Арсения поддержали некоторые епископы. Были, по-видимому, колебания и среди придворных.
Оппозиция, однако, оказалась, бессильной. Несчастный ребенок был удален от двора под надзор преданных Палеологу людей. Весной 1261 г. Арсений в знак протеста оставил патриарший трон и удалился в монастырь. Палеолог быстро организовал выборы нового патриарха. Непокорные епископы были смещены со своих кафедр. Событием, чрезвычайно благоприятствовавшим планам Палеолога и случившимся как нельзя более кстати, было отвоевание Константинополя (см. гл. 4). Оно было истолковано самим Палеологом и придворными льстецами как знак божьего расположения к Михаилу. Высшая чиновная знать во главе с Георгием Акрополитом подготовила узурпатору приятный сюрприз к его вступлению в древнюю столицу — восторженный панегирик, в котором Палеолога призывали ознаменовать счастливое событие коронацией его сына Андроника. Судьба Иоанна IV была окончательно решена. Утверждение у власти Михаила VIII Палеолога — ставленника крупной феодальной аристократии — означало крутой поворот от политики никейских императоров.
Источники не позволяют установить с достаточной полнотой какие-либо существенные особенности устройства Никейской империи. С самого возникновения этого государства господствующие круги рассматривали его как старую «империю ромеев» — непосредственную преемницу Византийской державы, лишь временно утратившую свою древнюю столицу и западные провинции.
Центральное и провинциальное управление Никейской империи не подверглось значительным переменам сравнительно с положением до 1204 г. Никейский двор был подобием константинопольского двора с его сложной иерархией чинов и должностей. Правда, в источниках исчезли упоминания о некоторых высших константинопольских чинах. Никея, по-видимому, не имела своего эпарха. Не упоминается о некоторых логофетах, о паракимоменах и других должностях и титулах. Зато появились новые важные чины. Большую роль играл в Никейской империи великий стратопедарх, который управлял страной во время отсутствия императора. Значительную власть имел великий коноставл, командовавший западными наемниками. Тогда появилась, видимо, должность татия дворца — наставника императорских детей. Возросло значение чиновников, управляющих императорскими поместьями.

Портрет Михаила VIII Палеолога. Миниатюра из рукописи ГПБ. Ленинград
Империя по-прежнему разделялась на фемы, число которых увеличилось, а размеры уменьшились. Во главе фем стояли дуки, главной функцией которых было гражданское управление; их военное значение упало
[122]. Стратиги отдельных крепостей и городов и чиновники фиска — практоры и катепаны — были связаны непосредственно с центральной властью. В отдаленные провинции империи иногда назначались полномочные императорские наместники, власть которых распространялась на несколько фем. Таким наместником Иоанна Ватаца был в Фессалонике отец Михаила Палеолога Андроник, которому были подчинены и военные, и гражданские власти европейских владений Ватаца. Полномочным наместником Феодора II Ласкариса на Западе был Георгий Акрополит, имевший право по своему усмотрению менять стратигов, практоров и других военных и гражданских чиновников
[123].
С распространением пронии все большую роль в провинциальном управлении стали играть прониары, обладающие административной, военной и судебной властью на территории своих пронии.
Некоторые старые обычаи, сложившиеся при дворе к 1204 г., утратили силу. Так, в течении всего существования Никейской империи ни один наследник престола не был объявлен соправителем и коронован при жизни своего предшественника. Напротив, возникли или упрочились новые обычаи, приобретшие силу традиции. Например, укоренился обычай принесения сановной, военной и духовной знатью торжественной присяги на верность императору. Присяга была и индивидуальной и коллективной и освящалась церковью. Иногда присяга оформлялась в форме специального документа
[124]. Еще больше, чем во времена Комнинов, стала проявляться тенденция сплотить высшую сановную знать вокруг трона посредством родственных связей с императорской семьей. Императоры опирались на представителей обширного родственного клана, в руках которых были сосредоточены все важнейшие посты империи. Допуск в ряды этого клана регулировался самим императором и был знаком особой милости.
В целом никейский период истории византийской государственности может рассматриваться как последний этап существования на византийских землях единого централизованного государства. Это был период, когда центральная власть использовала свои последние резервы (прониарскую систему, императорское хозяйство, присягу, родственные связи) для сдерживания центробежных тенденций крупных феодалов. С приходом к власти Палеологов и отвоеванием Константинополя этому периоду пришел конец.
В совершенно иных условиях происходило формирование и развитие двух других греческих государств. Основателем Эпирского царства был Михаил Ангел Дука Комнин — незаконный сын севастократора Иоанна Ангела Комнина. Во время правления Алексея III Ангела, незадолго до нашествия крестоносцев, севастократор Иоанн был дукой Эпира и Фессалии. Здесь же и в соседней Македонии лежали владения его семьи. Его сын Михаил Ангел Комнин был связан узами родства с Исааком II и Алексеем III. Состоял он в родстве с правителем фемы Никополя Сенахиримом и со знатной и влиятельной в Северной Греции семьей Малиасинов
[125]. Во время Четвертого крестового похода Михаил Ангел управлял фемой Пелопоннес, но вскоре после падения Константинополя оказался на службе у Бонифация Монферратского.
В конце 1204 г. в феме Никополя вспыхнуло восстание против Сенахирима, который правил областью как неограниченный повелитель. Михаил поспешил в Никополь, оставив Бонифация. Сенахирим был уже убит, и Михаил занял его место. Он сумел распространить свое господство на большую часть Эпира, а весной 1205 г. даже предпринял неудачную попытку силой оружия воспрепятствовать крестоносцам завоевать Пелопоннес
[126]. Задача собирания земель под властью Михаила I (1204–1215) была облегчена наличием обширных владений его семьи в Эпире, его широкими родственными связями с семьями крупнейших соседних феодалов и чрезвычайно благоприятным географическим положением подвластной ему области. Естественные укрепления преграждали крестоносцам путь в глубь этой горной страны. За время всего существования Латинской империи ее полководцы ни разу не пытались вести борьбу против Эпирского царства на самой территории Эпира — ядра западного греческого государства.
О внутренней жизни Эпирского царства и Фессалоникской империи, как и о внутренней политике их правителей в 1204–1261 гг., известно очень мало. Сохранившийся от этого времени актовый материал относится лишь к Южной Македонии, которая постоянно в течение этого периода переходила то в руки Болгарии, то во власть Никейской империи и лишь временно принадлежала Эпирскому царству и Фессалоникской империи.
Ограничены Охридской областью и ближайшими районами и акты Болгарской архиепископии. Эта территория к тому же входила в пределы Эпирского царства также лишь эпизодически. Нарративных же греческих памятников, которые принадлежали бы авторам, жившим в этих государствах, не сохранилось. Некоторое представление о внутренней жизни Южного Эпира дают лишь акты Навпактской митрополии и письма навпактского митрополита Иоанна Апокавка.
Крупные феодальные владения располагались на территории упомянутых государств неравномерно. Они охватывали преимущественно равнинные плодородные земли Средней и Южной Македонии, Фессалии и Южного Эпира. Здесь лежали обширные поместья членов императорской семьи, Комнинов, Ангелов, Дук, а также Малиасинов, Гаврилопулов, Петралифов, связанных с императорской семьей узами родства
[127]. В феме Никополя огромные пространства плодородных земель принадлежали церкви, в Южной Македонии — афонским монастырям. Поместья светских феодалов представляли собой почти независимые от центральной власти экзимированные территории, собственники которых одновременно обладали высшей административной, судебной и военной властью не только в своих владениях, но и в их округе.
На территории Эпирского царства были намного резче контрасты в уровне социально-экономического развития разных областей, чем в Никейской империи. Здесь местами было более развито феодальное землевладение, и здесь же сохранилось гораздо больше свободного крестьянства, особенно в малодоступных районах Эпира. Документы, вышедшие из-под пера архиепископа Димитрия Хоматиана, свидетельствуют прежде всего о свободном населении среднемакедонских городов и деревень
[128].
Особенно резко отличался Эпир от других провинций Византийской империи по этническому составу населения. В Средней, а отчасти и Южной Македонии преобладал славянский элемент, в Среднем и Южном Эпире и в Фессалии — греческий. В Северном Эпире большинство составляли албанцы. Кроме того, в Фессалии (так называемой Великой Влахии), а также в Македонии и Эпире было немало кочевых и оседлых влахов. В среде албанского и валашского населения Эпирского царства еще сохранялись пережитки родоплеменных отношений.
Все это обусловливало сложную и своеобразную картину социальной жизни Эпирского царства. И в экономическом, и в политическом отношении эта территория отличалась более рыхлой структурой и более острыми противоречиями. Господствующий класс этих областей бывшей Византийской империи был гораздо менее консолидирован, чем на востоке. Правители Эпирского царства и здесь раздавали земли, населенные крестьянами, своим знатным сторонникам, многие из которых прибыли как эмигранты из занятых латинянами областей. Здесь также возникали прониарские владения
[129]. Но неизвестно, приняла ли раздача прений характер регулируемой государством прониарской системы. Во всяком случае раздача иронии не стала основой внутренней политики государей Эпирского царства и Фессалоникской империи. По-видимому, и владельцы родовых и пожалованных в собственность поместий были здесь гораздо более независимы от центральной власти.
Центробежные тенденции проявлялись в Эпирском царстве гораздо отчетливей, и центральная власть меньше противодействовала им. Менее зависимы от государя были, вероятно, и прониары, которые совершенно бесконтрольно творили суд и расправу над своими крестьянами
[130]. О слабости центральной власти говорит тот факт, что в Эпирском царстве крупные светские землевладельцы нередко силой захватывали церковные и монастырские земли. Брат Феодора Ангела (в 1215–1224 г. — правитель Эпирского царства, в 1224–1230 — фессалоникский император) Константин Дука отнимал церковные земли, конфисковывал монастырские ценности, собирал невиданные ранее налоги и даже изгнал из Навпакта главу духовенства западного греческого государства — навпактского митрополита
[131].
На территории Эпирского царства и Фессалоникской империи находился ряд крупных городов (Фессалоника, Диррахий, Охрид, Арта — столица Эпира, Навпакт, Ларисса), но об их внутренней жизни в 1204–1261 гг. почти ничего неизвестно. Правители западных греческих государств не ограждали отечественное ремесло и торговлю от иностранной конкуренции. Венецианцы и дубровчане обладали здесь почти такими же льготами, какие имели в Константинополе купцы Республики св. Марка перед 1204 г. (см. гл. 7).
Огромную власть в городах имели архонты — землевладельцы, мало связанные с торговыми и ремесленными кругами горожан. Фессалоникская торговая знать была недовольна правлением Ангелов и перешла на сторону Иоанна Ватаца, обязавшегося утвердить ее старые привилегии
[132].
В отличие от Никейской империи, образовавшейся главным образом на территории, отвоеванной у латинян, турок и независимых греческих архонтов, и ранее лишенной единого имперского управления, Эпирское царство на своих центральных землях унаследовало старую византийскую систему управления. Страна была разделена на множество мелких фем, возглавляемых дуками, обладавшими гражданской и судебной властью. Фемы делились на катепаникии во главе с катепанами, исполнявшими в основном налоговые функции
[133]. Иногда несколько фем объединялось, как и в Никейской империи, под властью одного лица. Однако в отличие от восточного греческого государства эти наместничества здесь превратились в почти независимые феодальные княжества.
Тенденция к феодальному раздроблению страны нашла официальное признание в политике представителей центральной власти. Глава государства выделял для своих братьев или сыновей настоящие независимые уделы, владельцы которых были совершенно бесконтрольны в своей внутренней деятельности. Их зависимость выражалась лишь в обязательстве следовать своему суверену во внешней политике.
Так, Феодор Ангел отдал Южный Эпир в полную власть своему брату Константину Дуке, в распоряжении которого находились и значительные военные силы. С ними он в случае войны являлся на помощь брату. После отвоевания Фессалоники в 1224 г. и провозглашения Фессалоникской империи в стране оказалось фактически два центра (Фессалоника и Арта), к которым тяготели разные области страны. После битвы при Клокотнице государство распалось на две части. Мануил Ангел (1230 — ок. 1237) — император Фессалоники — отдал Эпир в управление законному наследнику Михаила I Михаилу II Ангелу (ок. 1231 — до 1268)
[134]. Михаил II в свою очередь задолго до своей смерти разделил Эпирское царство между своими сыновьями, отдав Эпир с Артой Никифору, а Фессалию и Неопатры — незаконному сыну Иоанну Дуке.
Слабо были связаны с центральной властью и албанские земли. Во главе албанцев стояли их собственные вожди, находившиеся в вассальных отношениях с эпирским государем. Значительно более слабая централизация западного греческого государства явилась немаловажным фактором, определившим его поражение при столкновении с Никейской империей.
Об организации центральной власти Эпирского царства неизвестно почти ничего. Правители Эпира не носили до отвоевания Фессалоники никакого титула. Утвердившийся за этим государством термин «деспотат» оказался историографическим недоразумением
[135]. После взятия Фессалоники в 1224 г. и провозглашения себя императором Феодор Ангел попытался воспроизвести порядки константинопольского двора. Был образован синклит, в состав которого вошли пять бежавших из «царицы городов» синклитиков. Феодор раздавал высокие титулы, вводил старые привычные византийские должности. Однако в этой деятельности нового императора были, по-видимому, и какие-то отступления от старой традиции. Георгий Акрополит с издевкой писал, что Феодор оказался не в состоянии воспроизвести константинопольские порядки, что делал он это скорее «по-болгарски, а вернее — по-варварски»
[136].
Не была централизована и церковь Эпирского царства и Фессалоникской империи. До образования империи главой церкви Эпирского царства был навпактский митрополит, который, хотя и признавал никейского патриарха, был фактически независим. После завоевания Охрида каноническое верховенство в Эпирском царстве и Фессалоникской империи перешло к болгарскому архиепископу, который и короновал, нарушив прерогативы никейского патриарха, Феодора императором
[137]. Между духовенством западного и восточного государства греков углубился раскол, но прекращалась острая борьба, отражавшая политическую борьбу обоих государств за преобладание и господство на Балканах. Перевеса в этом соперничестве также добилась Никейская империя.
Третье греческое государство (Трапезундская империя) возникло на черноморском побережье Малой Азии, на территории бывшей фемы Халдии, одновременно с осадой Константинополя крестоносцами. Связи этой провинции с центром уже давно были слабыми
[138]. Данный район империи отличался значительным этническим своеобразием. Греки не составляли здесь абсолютного большинства; в сельских и горных областях преобладали лазы, армяне и представители различных тюркских этнических групп. Основные связи этой провинции с другими областями империи осуществлялись по морю: со стороны суши Халдия отгорожена от других районов Малой Азии высоким горным хребтом.
Еще в правление Мануила I Комнина особую роль в округе Трапезунда стала играть местная семья Гавра. Официально признавая суверенитет империи, правители Трапезунда из рода Гавра были фактически независимыми. Халдия по своим этническим и культурным симпатиям тяготела скорее к восточным соседям, чем к греческой империи, в частности к Грузии и армянским княжествам.
Трапезундская империя образовалась при непосредственном вмешательстве Грузинского царства. Царица Грузии Тамар (1184–1213
[139]) состояла в родстве с семьей Комшшов
[140]. Андроник Комнин во время своих скитаний в 60-х годах XII в. нашел временное убежище при грузинском дворе. После переворота 1185 г. в Константинополе вместе с Андроником I погиб и его сын Мануил. Два малолетних сына Мануила, Алексей и Давид, были, по-видимому, тайно доставлены в Грузию, к родственному двору, при котором и достигли совершеннолетия
[141]. Это обстоятельство не могло не осложнить отношений Грузии с империей, где правили свергнувший Андроника Комнина Исаак II Ангел, а затем Алексей III Ангел. Незадолго перед IV крестовым походом царица Тамар щедро одарила монахов Афона и других монашеских центров, когда они обратились в Грузию с просьбой о материальной поддержке. Однако на пути из Грузии монахов, которые везли пожертвования грузинской царицы, обобрали по приказу Алексея III Ангела. Воспользовавшись этим «инцидентом как предлогом и учитывая внешнеполитические затруднения Византии, Тамар в апреле 1204 г. захватила Халдию с ее главным городом Трапезундом и посадила там в качестве правителей, независимых от Византии, Алексея и Давида Комнинов
[142]. Источники не говорят о каком-либо сопротивлении в Халдии грузинским отрядам, во главе которых стояли молодые Комнины. Среди местной знати были, видимо, сторонники свергнутой династии, которую представляли Алексей и Давид: непосредственно перед своим воцарением Андроник Комнин исполнял какую-то значительную должность в этих районах и мог иметь здесь своих приверженцев
[143].
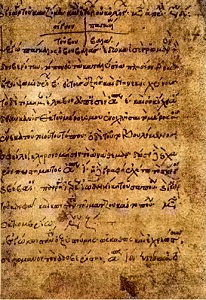
Aкт дарения земли. Страница рукописи вазелонских актов. ГПБ. Ленинград. Первая четверть XV в.
Алексей Комнин (1204–1222), утвердившись в Трапезунде, провозгласил себя императором, и братья приняли имя «Великих Комнинов» — вероятно, с целью подчеркнуть преемственность своих «законных» прав именно от той ветви знатной византийской семьи, которая в течение столетия владела императорским престолом. Образование Трапезундской империи протекало при благоприятных
[144] обстоятельствах по сравнению с двумя другими греческими государствами. Однако изолированная и удаленная от основных жизненных центров бывшей Византийской империи Трапезундская империя оказалась не в состоянии сыграть значительную роль в развернувшейся вскоре борьбе в Малой Азии и в особенности на Балканах.
Наши знания о внутренней жизни Трапезундской империи еще менее определенны, чем об Эпирском царстве. Единственным источником, содержащим некоторые сведения об аграрной истории этого государства, являются акты Вазелонского монастыря. Однако они касаются лишь монастырского землевладения и относятся к небольшой территории близ Трапезунда. Согласно этим актам, здесь также совершался в XIII в. быстрый рост феодального землевладения за счет свободного крестьянства. Разорявшиеся крестьяне продавали свои земли крупным собственникам. Этот процесс, вероятно, не везде происходил одинаково интенсивно. В ряде районов Халдии он задерживался пережитками родового строя. В этих районах даже перепись налогоплательщиков осуществлялась не по административным или налоговым округам, не по селам и хорафиям, а по родовым ячейкам (γονιχεια) и родовым союзам (φυλη)
[145].
Трапезундская империя в смысле государственной и административной организации не являлась наследницей Византийской державы. Возможно, на ее центральный аппарат повлияли порядки грузинского двора, поддержке которого империя была обязана своим происхождением. При трапезундском дворе с самого начала существовала группа высших сановников из Грузии, которая соперничала с представителями греческой знати в борьбе за влияние на правителя империи. В первой половине XIII в., по-видимому, преобладало влияние грузинской группировки, которая потеряла свое значение лишь в следующем столетии.
По своему устройству Трапезундская империя существенно отличалась от двух других греческих государств. Страна делилась на три части — банды (Трапезунд, Мацука и Гимора) во главе с дуками, обладавшими и военной, и гражданской властью. Дуками, как правило, были представители тех же фамилий, которые имели решающее значение и в центральном управлении
[146]. Помимо трех фем-банд, южный, гористый район Халдии составлял особый административный округ. Здесь властвовал полунезависимый дука, обладавший собственными крепостями и находившийся в вассальных отношениях с императором. Эта область стремилась выйти из состава империи и сохраняла связи с ней лишь из-за угрозы внешней опасности. Кроме того, власть в других мелких районах и селах нередко принадлежала крупным собственникам, которые правили на основе местного обычного права, были независимы и состояли в вассальных отношениях с представителями центральной власти: дуками, начальниками крепостей и гарнизонов
[147].
Ядро Трапезундской империи составлял ее крупнейший торговый и ремесленный центр, окруженный мощными крепостными сооружениями, — Трапезунд, который по своему торговому значению значительно превосходил Никею (см. гл. 7). В течение первого десятилетия своего существования Трапезундская империя делилась на две самостоятельные части: область Халдии с Трапезундом находилась во власти Алексея Комнина, принявшего титул императора, а прибрежные районы Пафлагонии с Синопом, Амастридой и Ираклией оказались во власти брата Алексея Давида.
От Трапезундской империи зависели бывшие крымские колонии Византии: Херсон с Климатами и крымская Готия. Вероятно, лишь Трапезунд, обладавший свободным выходом в Черное море (тогда как после падения Константинополя Никея и Эпир оказались от него отрезанными), сумел сохранить связи с заморскими колониями Византии и оказался их наследником. Когда и каким образом утвердилась эта зависимость, остается однако неизвестным. Крымские колонии регулярно вносили подати в трапезундскую казну, их архонт был подвластен непосредственно императору. Между колониями и метрополией осуществлялись постоянные морские сношения
[148].
Лишь в первые десять лет своего существования Трапезундская империя пыталась играть заметную роль на Малоазийском полуострове. Однако эта роль ей оказалась не по силам. Через четверть века после своего возникновения Трапезундская империя стала слабым маленьким государством, зависевшим то от турок, то от монголов. Ее история приобрела чисто местное значение, а ее судьба оказалась навсегда оторванной от судеб остальных областей Византийской империи, хотя Трапезунд и пережил Константинополь на восемь лет.
Таковы три центра греческой государственности, которые сложились после падения Константинополя и основания Латинской империи.
Глава 4
Внешнеполитическая борьба на Балканском полуострове и в Малой Азии
Латинская империя, Никея, Эпир и Болгария (1204–1261 гг.)
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Основными участниками борьбы за византийское наследство были четыре главные политические силы на Балканском полуострове и в Малой Азии: Латинская империя, Болгария, Эпирское царство и Никейская империя. В ожесточенное соперничество, длившееся более полустолетия (1204–1261), оказывались временами втянутыми также многие другие страны Европы и Азии — Сербия, Венгрия, Сицилийское королевство, Иконийский султанат.
Завязался тугой узел острых противоречий. Война стала постоянным условием существования населения Балкан и западных областей Малой Азии.
Политические и военные союзы, договоры и соглашения следовали один за другим в самых различных вариантах, как в калейдоскопе. Вероломство, обман, нарушение торжественно заключенных договоров, подкуп и шантаж — все было пущено в ход государственными деятелями соперничавших сторон. Попеременно то одно, то другое государство выступало на передний план, претендуя на решающую роль на Балканах. Три соперника (Латинская империя, Эпирское царство и Болгария) пережили в указанный полустолетний промежуток времени периоды усиления и упадка, и только история одного из них (Никейской империи) представляла собой картину постоянного и неуклонного возвышения. Пятое государство — Трапезундская империя — быстро сошло со сцены как серьезная политическая сила. Поэтому в центре внимания в этой главе и будет находиться Никейская империя, которая утвердила свои права на византийское наследство и, казалось, добилась через 57 лет борьбы восстановления бывшей Византийской империи.
Как уже было рассказано выше (см. гл. 3), ядро будущей Никейской империи возникло в районе городов Бруссы и Никеи, на территории, наиболее опасной со стратегической точки зрения для самого его существования. С северо-востока ему угрожала быстро росшая в это время Трапезундская империя, на юг простирались владения независимых и враждебных греческих архонтов, но главная опасность грозила со стороны латинян на западе и турок Икония — на востоке. Понадобилось напряжение всех военных сил, все искусство изощренной византийской дипломатии, чтобы не только выжить в этих условиях, но и перейти в победоносное наступление.
С самого начала, по всей вероятности, Феодор Ласкарис занял дружественную позицию в отношении турок, выплачивая им дань за сохранение мира
[149]. Турки, по-видимому, опасались наступления крестоносцев, заранее объявивших своими бывшие владения империи в Малой Азии; они выжидали и не спешили уничтожать государство Ласкариса, оказавшееся барьером между их владениями и латинянами. К тому же восточные границы государства Ласкариса имели довольно прочную систему защиты, унаследованную от Византийской империи.
Когда конфликт с Бонифацием Монферратским, основавшим Фессалоникское государство и отказавшимся от своего малоазийского жребия, был разрешен, Балдуин решил переправиться в Малую Азию для овладения восточными землями империи. Обеспокоенные укреплением государства Ласкариса, венецианцы города Пиги и восточные союзники латинян — армяне на Скамандре всячески торопили Балдуина. Осенью 1204 г. брат Балдуина Генрих и знатный рыцарь Петр Брашейль переправились в Азию. Петр двинулся из Пиг на восток, по направлению к Бруссе, а Генрих отправился на юг, на Адрамиттий. Третий отряд занял опустошенную Никомидию.
В декабре 1204 г. Брашейля встретили значительные силы Ласкариса около крепости Пиманинон, лежащей между Пигами и Лопадием. Греки потерпели поражение и были вынуждены отступить. Путь Петру на Лопадий был открыт. Город сдался на милость победителя. Латиняне двинулись на Бруссу. Здесь, однако, их подстерегала первая неудача. Население города оказало стойкое сопротивление. Петр отступил, и греки преследовали врагов. Успех под Бруссой воодушевил греков. Они сбрасывали латинское господство, вооружались и убивали западных пришельцев при каждом удобном случае
[150].
Между тем на юге обстановка складывалась в пользу латинян. Армяне присоединились к Генриху. Греческие города один за другим переходили под его господство. Отказывавшиеся признать власть латинян подвергались разгрому. Генрих взял Адрамиттий и разбил в марте 1205 г. под этим городом отряд брата Ласкариса и выступившего навстречу Генриху архонта Филадельфии Феодора Манкафу. Зимой — весной 1205 г. Балдуин начал подготовку своих главных сил к походу против Ласкариса. Над греческим государством нависла смертельная опасность. Ио именно в это время пришло неожиданное спасение — восстание греков во Фракии, а затем вторжение Калояна и разгром западных рыцарей под Адрианополем (см. гл. 2). Латинский император еще в начале этих событий стал отзывать из Азии силы крестоносцев. Накануне битвы при Адрианополе покинул Азию и Генрих, захватив с собой своих армянских союзников.

Шпионы, наблюдающие за заговорщиками в византийском частном доме. Миниатюра из мадридской рукописи Иоаннам Спилицы. XIV в.
Перемирие было заключено, вероятно, в мае 1205 г.
[151] Никита Хониат горько и далеко не справедливо упрекал восточных греков за то, что они не пришли на помощь населению Фракии
name=r152>[152]. Ласкарис не имел для этого достаточно сил — он должен был использовать дарованную ему передышку для расширения и укрепления своего государства.
Прежде всего было остановлено наступление трапезундских Комнинов. Брат Алексея Комнина Давид, овладев Пафлагонией и Ираклией, приближался к Никомидии, которая снова находилась в руках Ласкариса. Войсками Давида командовал неопытный полководец Синадин. Обойдя врага по непроходимым кручам, Ласкарис неожиданно обрушился на Синадина, разгромил его и взял в плен. Продвижение Давида было остановлено.
Комнины заключили союз с латинянами. В 1206 г. Ласкарис двинулся на Ираклию. Однако союзники Давида тотчас напали на Никомидию. Ласкарис должен был повернуть им навстречу, по латиняне не приняли боя и вернулись в Константинополь. Давид отправил новое посольство в столицу крестоносцев. Комнины признавали суверенитет Генриха над своим государством и просили помощи против Ласкариса. На помощь Давиду был выслан отряд из 300 человек. Давид опустошил соседние земли Ласкариса и приближался к Никомидии. Однако полководец Ласкариса Андроник Гид неожиданно напал на отряд латинян и уничтожил его
[153]. С тех пор Трапезунд перестал представлять серьезную опасность для Никеи.
Успехи Ласкариса в Малой Азии встревожили Генриха. Коронованный 20 августа 1206 г., он уже как император Константинополя, в конце этого года открыл военные действия против Ласкариса. Новый латинский император был опасен не только своей энергией и военными талантами. Он круто изменил свою политику по отношению к греческому населению, проявив веротерпимость, предоставив знатным грекам видные гражданские и военные посты и зачислив простых поселян в свое войско. Силы Генриха значительно возросли. В конце 1206 — начале 1207 г. латиняне овладели вновь рядом прибрежных городов (Кизик, Киос, Никомидия), однако возобновление войны с Болгарией сдерживало их продвижение
[154]. В 1207 г. Генрих был вынужден заключить с Ласкарисом перемирие на два года и вернуть Кизик и Никомидию.
Положение Ласкариса значительно упрочилось в 1207–1208 гг. После коронации (1208 г.) он как "император ромеев" стал единственным в глазах греческого населения законным представителем власти в Малой Азии, что облегчило Феодору борьбу с независимыми греческими архонтами. Помогали ему в этой борьбе союзные отряды турецкого султана
[155]. Находились среди его войск и латинские наемники. Ласкарис отнял Сампсон у Саввы Асидена, который стал одним из чиновников Ласкариса
[156]. Тогда же Феодор отвоевал Филадельфию у Феодора Манкафы.
Началась борьба с Мануилом Маврозомом. Это был гораздо более опасный противник, чем первые два. Маврозом, выдав дочь за султана Икония, намеревался с помощью тестя оспаривать у Ласкариса императорский титул. Феодор разбил Маврозома и союзных ему турок, но не рискнул лишить его всех владений, чтобы не вызвать гнева султана. По заключенному с султаном и Маврозомом миру последний получил Хоны и Лаодикию и земли по Меандру вплоть до моря
[157]. Одновременно, выстроив флот, Ласкарис овладел рядом островов на Эгейском море. Теперь его владения простирались от Ираклии до Меандра и от Никеи до Смирны. Ко времени, когда истекал срок перемирия Ласкариса с латинянами, они заключили тайный союз с турками против никейского императора. Ласкарис заключил договор с киликийскими армянами, бывшими во враждебных отношениях с Иконийским султанатом. Обе стороны готовились к новой схватке.
Военные действия против Никейской империи начали турки. Долго странствовавший по Балканам экс-император Алексей III (он побывал у латинян Фессалоники, у Сгура и у правителя Эпира) прибыл, наконец, к сельджукскому султану Кей-Хюсреву
[158], который некогда, во время изгнания, был усыновлен Алексеем III. Кей-Хюсрев использовал прибытие Алексея III в качестве предлога для войны — он требовал от Ласкариса уступить трон «законному» императору. Когда попытки переговоров с султаном не дали результатов, Ласкарис поспешил в Филадельфию. Султан в то же время со значительными силами осадил Антиохию на Меандре, защищавшую южные границы империи. Узнав об осаде, Ласкарис бросил обоз и всего с двумя тысячами войска и с наемным отрядом из 800 латинских воинов быстрым маршем двинулся к Антиохии. Битва произошла недалеко от ее стен в феврале 1211 г. Силы были слишком неравны. Ласкарис терпел поражение. Почти весь латинский отряд пал на поле боя. Но в конце сражения произошел поединок между Ласкарисом и султаном. Кей-Хюсрев был убит
[159], и его войска деморализованы. Поражение обернулось победой, чрезвычайно поднявшей престиж Ласкариса. Алексей III попал в плен, был ослеплен и умер в Иакинфовом монастыре в Никее. Турки предпочли заключить с Ласкарисом прочный мир. Император Генрих, узнав о победе Ласкариса, сопровождавшейся гибелью всего латинского отряда, с радостью воскликнул: «Ласкарис побежден, а не победил!» Но Генрих ошибался. Турецкая угроза Никейской империи была фактически ликвидирована. Победа под Антиохией, говорит Никифор Григора, была для ромеев началом «спасения и устроения»
[160]. Мир с турками позволил Ласкарису сосредоточить все свои силы на борьбе с латинянами, которая возобновилась в 1211 г.
[161] 15 октября Генрих одержал победу над Ласкарисом на Риндаке. Латиняне продвинулись далеко на юг, захватив Пергам и Нимфей. Однако укрепиться здесь им не удалось. Борьба приняла затяжной характер и шла с переменным успехом до 1214 г. В конце этого года обессиленные длительными войнами обе стороны согласились на мир, который был заключен в Нимфее.

Моливдовул давида комнина. Государственный Эрмитаж. XIII в.
Договор восстанавливал положение, которое существовало весной 1205 г.: латиняне получили северо-западный угол Малой Азии от Никомидии до Адрамиттия. Нимфейский договор свидетельствовал об известном поражении Ласкариса, но и латиняне должны были отказаться от мысли о дальнейших завоеваниях в Азии. Это был здесь их последний успех. Неудача в войне с Генрихом была компенсирована успешными действиями против Давида Комнина. По-видимому, еще до заключения мира в Нимфее, в том же 1214 г., Ласкарис наголову разгромил войска Давида и захватил Ираклию и Амастриду. У латинян уже не было сил для помощи своим вассалам. Рассказывая об этом периоде, Акрополит замечает, что «не слишком крепко стало в битвах латинское племя»
[162].
Выход Ласкариса к Черному морю обеспокоил турок, и они в том же 1214 г. поспешили отрезать Ласкарису путь к дальнейшим завоеваниям на восток. Турки осадили и взяли Синоп. Давид погиб во время осады. Вскоре и Алексей Комнин попал в плен к сельджукскому султану, который оставил его на трапезундском престоле в качестве вассала и данника
[163]. Трапезундская империя с этих пор не играла никакой роли в дальнейшей борьбе за восстановление Византийской империи.
Между тем, на Западе постепенно укреплялось второе греческое государство — Эпирское царство, правитель которого Михаил I Ангел искусно маневрировал между Венецией, Латинской империей и папством, признавая формально суверенитет то папства, то Константинополя, то Венеции и тем самым отводя от себя опасность латинского вторжения
[164]. Михаилу I даже удалось значительно расширить территорию своего царства за счет земель в Фессалии.
Брат Михаила I Феодор Ангел Комнин Дука находился после падения Константинополя в Малой Азии и принимал активное участие в военных походах Феодора Ласкариса. Михаил I попросил Ласкариса отпустить к нему Феодора Ангела, как ближайшего наследника Эпирского царства. Ласкарис удовлетворил просьбу, но взял с Феодора клятву на верность никейским императорам
[165]. Эпир в соответствии с этой клятвой должен был в случае воцарения Феодора находиться под суверенитетом Никейской империи. Михаил I назначил Феодора правителем своих пелопоннесских владений (Коринфа, Навплия и Аргоса), пока в 1210–1212 гг. они не были завоеваны франками.

Моливдовул Давида Комнина. Оборотная сторона
В 1215 г. Михаил I был убит в постели заговорщиками, и Феодор принял власть над Эпирским царством. Это был чрезвычайно деятельный и неразборчивый в средствах правитель (1215–1224). Непримиримый к латинянам и весьма воинственный, он сплотил на первых порах вокруг себя господствующие слои Эпира и приступил к широкой программе завоеваний, конечной целью которых был Константинополь. Клятва, данная Ласкарису, была тотчас забыта. Началу царствования Феодора сопутствовала удача. Император Константинополя Генрих умер в июне 1216 г. Трон было решено передать его зятю, мужу сестры Балдуина и Генриха Иоланты, графу Оксеррскому Петру де Куртене.
В 1217 г. Петр отправился из Франции, был коронован в Риме самим папой и высадился у Диррахия, намереваясь по просьбе венецианцев отобрать эту крепость у Феодора Ангела, который незадолго перед этим захватил Диррахий и подчинил албанцев
[166]. Однако малочисленное войско Петра не могло взять Диррахий, и император решил идти к Константинополю через Эпир. Феодор окружил Петра в горных проходах, перебил его войско и взял в плен. Попал в плен и папский легат. Куртене погиб в темнице. Папа призывал венценосцев Запада к походу против Феодора, и тогда Феодор признал суверенитет папы над своим государством. Из ярого врага Феодора папа на время стал его горячим защитником. Поход западных рыцарей против Феодора не состоялся. Гибель Петра де Куртене воодушевила греков и угнетающе подействовала на латинян. Регентство в Константинополе над юным императором Робертом (сыном Петра) осуществляла его мать Иоланта (1217–1219). В Фессалонике правление делами королевства также находилось в руках женщины, вдовы Бонифация Марии Венгерской. Говоря о гибели Куртене, Акрополит неизменно враждебно описывающий деятельность Феодора Ангела — соперника никейского императора, замечает: «Безусловно, это событие послужило в то время ромеям на великую пользу»
[167].
Феодор направил свой главный удар против Фессалоникского королевства, стоявшего на пути к Константинополю. Оно уже было отрезано от латинских государств Греции завоеваниями его брата Михаила в Фессалии. Ведя одновременно военные действия против латинян и болгар, он овладел почти всей Фессалией и подступами к Фессалонике. Охрид, Прилеп и другие города Македонии попали в его руки еще раньше. Взятием Серр в конце 1221 г. Феодор отрезал Фессалонику и от Константинополя. Осенью 1224 г.
[168] Фессалоника пала. Помощь Запада, к которой снова призывал папа, прибыть не успела. Феодор короновался императором ромеев (1224–1230). Коронацию после отказа митрополита Фессалоники совершил архиепископ Охрида Димитрий Хоматиан. Никейской империи был брошен открытый вызов: Феодор оспаривал титул императора ромеев у Ватаца, а церковь Западного греческого государства официально должна была подчиняться не никейскому патриарху, а фессалоникскому митрополиту и охридскому архиепископу
[169].
Между тем ослабленные взаимной борьбой Никейская и Латинская империи хранили мир. Порвав с дочерью армянского короля, на которой Ласкарис женился в 1214 г., император отослал ее к отцу и вступил в брак с дочерью Иоланты Марией. В 1219 г. он заключил с венецианцами выгодный для них договор и незадолго до своей смерти намеревался выдать за Роберта свою сестру Евдокию, несмотря на родственные узы с домом Куртене. Сближение Ласкариса с латинянами было широко использовано Феодором Ангелом во враждебной кампании против Никеи. Тем не менее Никейская империя к 20-м годам уже завоевала большой авторитет на Балканах. Патриарх Никеи признавался некоторыми епископами Западного греческого царства главой всех православных. В 1219 г. Стефан Первовенчанный обратился к никейскому патриарху с просьбой о рукоположении для Сербии автокефального, независимого от Охрида архиепископа. Просьба была удовлетворена и вызвала острый конфликт патриарха с болгарским (охридским) архиепископом Димитрием Хоматианом
[170].
В 1225 г. Иоанн Ватац разгромил латинян при Пиманиноне и начал решительно изгонять из Малой Азии западных рыцарей. Победа при Пиманиноне, говорит Акрополит, «послужила к великому возвышению державы ромеев и к умалению и упадку италов»
[171]. Греческое население захваченных латинянами областей оказывало поддержку Ватацу. С турками Ватац, чтобы развязать себе руки, заключил новый мирный договор. Родос признал его власть.
По миру 1225 г. латиняне отдавали Пиги, сохранив в Малой Азии лишь лежащий против Константинополя берег Босфора и Никомидию с округой. Флот Ватаца господствовал на Геллеспонте. Незадолго перед этим
[172] Ватац сделал попытку утвердиться на Балканах. Жители Адрианополя, видя слабость латинского гарнизона, попросили Ватаца прислать войско и принять город под свою власть. Посланное Ватацем войско, не встречая сопротивления, прошло Фракию и вступило в Адрианополь. Однако на этот раз закрепиться на Балканах не удалось. Впервые силы Никейской империи и Западного греческого государства пришли в непосредственное соприкосновение. Феодор Ангел овладел к этому времени всеми принадлежавшими латинянам землями между Фессалоникой и Марицей. Севернее Визы его владения выходили к Черному морю. Неподвластной ему осталась лишь область в Родопах с крепостью Мельник, господином которой был племянник Калояна болгарин Слав. Независимый ни от кого правитель, он вел самостоятельную политику, заключая союзы то с латинянами, то с болгарами, то с Феодором Ангелом. Слав был одно время женат на незаконной дочери Генриха и получил от него титул деспота. После смерти дочери Генриха он женился на представительнице родственного Феодору Ангелу дома Петралифов.
Окружив Адрианополь, Феодор предложил жителям признать его господство и изгнать войско Ватаца из города. Воинам никейского императора пришлось бесславно вернуться домой. Феодор же Ангел опустошал окрестности Константинополя и готовился к его осаде.
Казалось, дни Константинополя были сочтены. Однако скоро успехам Феодора был положен конец в результате столкновения с Болгарией, которая находилась в состоянии быстрого подъема. На престоле Болгарии сидел в это время один из наиболее выдающихся ее правителей — Иван II Асень (1218–1241 гг.)
[173]. Сначала он находился в союзе с Феодором Ангелом и выдал за его брата Мануила свою незаконную дочь. Однако союз этот не имел будущего. В 1228 г. умер император Константинополя Роберт (1219–1228), и престол перешел к его младшему брату, последнему императору латинян юноше Балдуину II (1228–1261). Отрезанная завоеваниями Феодора Комнина от своих вассалов в Греции и на Пелопоннесе, лишенная боеспособного и достаточно многочисленного войска, утратившая почти все свои владения во Фракии, Латинская империя держалась благодаря крепости стен Константинополя. Окружавшая Балдуина латинская знать в страхе перед Феодором Ангелом и Иоанном Ватацем решилась просить покровительства у Ивана Асеня, избрав его регентом Балдуина. Возник и проект брака Балдуина с дочерью Асеня Еленой. Асень с удовольствием принял предложение: родство могло открыть ему путь в Константинополь, и он, как в свое время Симеон, уже видел себя в мечтах неограниченным повелителем Балканской империи, самодержцем и императором болгар и греков. Сближению Тырнова и Константинополя способствовало и сохранение унии между болгарской церковью и папством, которую заключил Калоян и которую пока соблюдал Асень
[174].
Таким образом, оба союзника, и Асень и Феодор Ангел, устремились к одной и той же цели. Назревал разрыв. Первым осуществил его Ангел. В 1230 г. он открыл военные действия против Болгарии, вторгнувшись в ее пределы по течению Марицы, к северо-западу от Адрианополя. В его большой армии были и наемные отряды латинян. Асень встретил Феодора с небольшим войском и союзным отрядом половцев при Клокотнице на Марице. Весной 1230 г. армия Феодора потерпела сокрушительное поражение. Сам император Фессалоники попал в плен. Это сражение предопределило дальнейшую роль Западного греческого государства в борьбе на Балканах. От Константинополя его войска были навсегда отброшены.
Начался триумфальный марш болгарского царя по Фракии и Македонии. Население исстрадалось в истекшую четверть века от непрерывных войн, террора, грабежа и разорения. Овладевая этими землями, Феодор Ангел обошелся с их жителями не лучше, чем половцы и латиняне. Он уничтожил то, что еще оставалось, и судьба, пишет Григора, наказала его за притеснение соплеменников
[175].
Искусная политика Асеня была прямо противоположной недальновидным действиям Феодора Ангела. Милостивое и гуманное отношение болгарского царя к греческому населению и простым войнам враждебного государства привело к тому, что города и крепости добровольно признавали господство Асеня.
В короткое время почти вся Фракия и Южная Македония оказались во власти болгарского царя. Владения Слава также вошли в состав Болгарии. Фессалоника, где вместо Феодора воцарился бежавший с поля битвы при Клокотнице его брат Мануил, фактически признала суверенитет Болгарии. В сферу болгарского влияния вошла и Сербия
[176]. Именно к этому времени относится сохранившаяся в одной из церквей Тырнова надпись, сделанная по приказу Асеня. «Я… разбил греческое войско, — гордо заявляет Асень, — и самого царя, господина Феодора Комнина, взял в плен со всеми его болярами. И взял все его земли от Адрианополя до Драча (Диррахия), греческую, албанскую и сербскую. Только городами около Царьграда и самым Царьградом владели франки, но и они подчинялись скипетру моей царственности, потому что иного царя, кроме меня, не имели, и только благодаря мне они продолжали свое существование»
[177].
Однако как раз эти победы и успехи Ивана II Асеня лишили его дальнейшие планы реальных перспектив. Латиняне испугались и отказались и от регентства Асеня, и от родства с ним. С содействия папы регентом был срочно избран иерусалимский король без королевства — престарелый Иоанн де Бриень, который в 1231 г. прибыл в Константинополь. Юный Балдуин должен был стать мужем дочери Иоанна и единовластным императором после смерти тестя. Пока же был коронован Иоанн де Бриень (1231–1237), опытный полководец и дипломат.
Весть о событиях в Константинополе вызвала ярость Асеня. Он круто изменил ориентацию, порвал с латинянами, ликвидировал церковную унию с папством
[178] и начал сближаться с никейским императором. Завязались переговоры об антилатинском союзе.
Иоанн Ватац в это время готовился к перенесению военных действий против латинян на Балканы. В 1232 г. он вступил в переговоры е папой, стараясь нейтрализовать папство перед началом борьбы за европейские владения латинян и подавая надежду на унию церквей. В 1233 г. Ватац совершил поход на юг. Его флот должен был подавлять мятеж кесаря Гавалы на Родосе. Возвращаясь из этого похода, Ватац узнал, что Бриень высадился у Лампсака. Ватац отступил, не решаясь дать сражение, но и Бриень боялся удаляться от побережья. Ему удалось взять Пиги. Но Ватац блокировал латинян, отрезав все пути подвоза продовольствия, и они были вынуждены вернуться, оставив то, что успели захватить.
Между тем переговоры с Асенем успешно завершались. Ватац предложил скрепить договор заключением брака между своим сыном Феодором и дочерью Асеня Еленой
[179]. Предложение было принято, и союз заключен. К союзу примкнул и находившийся под влиянием Асеня Мануил Фессалоникский. Весной 1235 г. Ватац переправился через Геллеспонт, захватил после краткой осады Галлиполи, отобрав его у венецианцев, а также окружающую область, которая частью подчинилась добровольно. Сюда прибыл и Асень с семьей. Ватац с женой и дочерью Асеня переправился в Лампсак, где патриарх Герман совершил обряд бракосочетания. Елена со свекровью отправилась в Никею, а оба государя начали объединенные действия против латинян.
Тогда же Ватац и патриарх Никейской империи с согласия патриархов Александрии, Антиохии и Иерусалима признали автономию болгарского архиепископа, получившего сан патриарха
[180]. Согласие восточных патриархов было получено благодаря удачной миссии на Восток сербского архиепископа Саввы, предпринятой перед этим по поручению Иоанна II Асеня
[181]. Основание патриаршества значительно повысило международный авторитет Болгарии.
В течение лета 1235 г. Ватац и Асень захватили у латинян большую часть Фракии. Границей между Болгарией и западными владениями Никейской империи стала река Марица в ее нижнем течении от устья почти до Дидимотики. Сильнейшая фракийская крепость латинян Цурул была осаждена Ватацем. В своих походах против латинян в 1235 и 1236 гг. союзники доходили до стен Константинополя. Папа объявил Ватаца «врагом бога и церкви».
Как и в случае с Феодором Ангелом, между союзниками вскоре начались трения, едва во всей остроте встал вопрос, кому владеть Константинополем. В марте 1237 г. Иоанн де Бриень умер, и Асень снова стал склоняться к союзу с латинянами, в котором ему принадлежала бы решающая роль. Он попросил Ватаца доставить Елену к Адрианополю, будто бы для свидания с отцом. При никейском дворе хорошо понимали истинную подоплеку этой просьбы Асеня, но Елену все-таки привезли к отцу, и она тотчас была отправлена в Тырнов. Последовали разрыв Асеня с Никейской империей и заключение договора с латинянами.
К антиникейскому союзу были привлечены и половцы, которые в это время под давлением татаро-монголов перешли Дунай, затем Балканский хребет и опустошили всю Фракию до Эноса. Цурул между тем уже находился в руках Ватаца. Болгары, латиняне, и половцы подвергли Цурул осаде, но в это время из Болгарии пришла печальная весть: Тырнов посетила чума, от которой погибли жена Асеня, его сын и патриарх. Асень тотчас снял свои войска от Цурул а и вернулся в Болгарию. Прекратили осаду и латиняне.
Постигшее Асеня несчастье тяжело подействовало на него. Он решил, что оно было карой господней за нарушение брачного союза и договора с Ватацем. В Никею были отправлены послы, и союз с Ватацем в конце 1237 г. был восстановлен. Елена вернулась к своему юному мужу.
Возможно, Асень возобновил союз с Ватацем ввиду опасности, которая ему грозила с севера от монголов и венгров: болгарский царь боялся оказаться в окружении сильных врагов и с севера и с юга. Однако союзники не были искренними друг с другом. Акрополит обвиняет Асеня в том, что он лишь внешне выказывал дружбу, на деле же нарушал договор, преследуя собственные выгоды
[182]. Император Константинополя Балдуин, покинувший город во время его осады Ватацем и Асенем, находился в это время на Западе в поисках военной помощи против окруживших его врагов. Король Франции послал на защиту Константинополя отряд рыцарей. Это войско прибыло сушей, пройдя через Болгарию, несмотря на протесты Ватаца. Асень оправдывался, заявляя, что франки принудили его пропустить их.
Между тем осажденный снова латинянами и половцами Цурул пал. Ватац не успел прийти к нему на помощь. Он разорил несколько крепостей латинян на восточном берегу Босфора, почти против Константинополя, но потерпел поражение в морском бою.
Вскоре после смерти своей жены Асень женился на дочери Феодора Ангела Ирине (ок. 1237 г.), покоренный ее красотой, и отпустил из плена ее отца. Феодор Ангел был уже слеп. Даже в плену в Болгарии он не оставил своих честолюбивых планов. Уличенный в интригах против Асеня, он был ослеплен по приказу болгарского царя. Отпущенный на свободу, Феодор тотчас направился в Фессалонику. В отрепьях, под видом нищего слепца он проник в город и в короткое время сплотил вокруг себя своих сторонников. Мануил был свергнут, и Феодор передал фессалоникский трон своему сыну Иоанну (ок. 1237–1244). Жена Мануила была отослана к отцу в Болгарию, а сам Мануил был отправлен в Атталию. Фессалоникская империя Иоанна охватывала в это время самый город с окружающей областью. Эпирское царство, где правил Михаил II, было фактически независимым. Независимым стал и отец Иоанна Феодор Ангел, отделивший себе значительную территорию в Южной Македонии.
Из Атталии Мануилу удалось перебраться к Ватацу. Ватац решил использовать беглеца как орудие своих действий против Западного греческого государства. Он дал Мануилу несколько триер и отправил его в 1239 г, в Фессалию, надеясь вызвать междоусобную борьбу в Эпире и Фессалонике. По договору с Ватацем Мануил должен был признать суверенитет Никейской империи
[183]. Мануил овладел Фарсалом, Лариссой и Платамоном с прилегающими землями. Однако скоро он помирился с братьями Феодором и Константином (Константин правил Южным Эпиром в качестве наместника Михаила II) и под их влиянием порвал договор с Ватацем. Теперь Западное греческое государство состояло в сущности из пяти независимых владений. Вскоре Мануил умер, и ему наследовал его племянник Михаил, сохранявший мир со своими дядьями и с Иоанном Фессалоникским.
В 1241 г. умер Асень. Его сын Коломан I Асень (1241–1246) утвердил мир с Ватацем. Положение в Болгарии к этому времени ухудшитесь. Вокруг малолетнего царя кипели смуты. С севера Болгарии постоянно угрожали монголы, данником которых она скоро стала. Болгария сошла со сцены как основной соперник никейского императора. Ватац, не имея пока достаточно сил для борьбы за Константинополь, занялся собиранием под своей властью западных греческих земель.
Он пригласил к себе для переговоров Феодора Ангела и задержал его у себя, выступив в 1242 г. в поход против Фессалоники. Удалось Ватацу привлечь на свою сторону и часть половцев (см. выше).
Ватац взял крепость Рентину и опустошил окрестности Фессалоники. Одновременно к Фессалонике прибыл и флот Ватаца. Но осада не состоялась. Из Пиг от сына Ватаца Феодора Ласкариса было получено известие, что монголы разгромили турецкие войска. Страшась нападения монголов на восточные владения империи, Ватац поспешил обратно. Перед своим уходом он отправил к Иоанну его отца Феодора, потребовав от правителя Фессалоники отказа от императорского титула и признания суверенитета никейского императора. Иоанн принял условия ультиматума Ватаца и пол учи л титул деспота.
Разбитый монголами турецкий султан предлагал союз Ватацу. Ватац встретился с султаном на Меандре. Союз был заключен. Но монголы, сделав султана своим данником, как и правителя Трапезундской империи, на время остановили свое продвижение на запад, отправившись на Багдад
[184], и Ватац снова занялся европейскими делами. В 1244 г. умер Иоанн, и вместо него в Фессалонике воцарился его брат, пользовавшийся дурной славой беспутный Димитрий (1244–1246).
В 1246 г. Ватац переправился через Марицу, собираясь идти на Запад, но в это время пришла весть о смерти Коломана, оставившего трон своему несовершеннолетнему брату Михаилу Асеню (1246–1256). Ватац незамедлительно воспользовался этим для расширения своих владений. Он захватил огромные территории в Северной Фракии, в Южной и Средней Македонии. Под его властью оказались Адрианополь, Просек, Цепена, Штип, Стенимах, Вельбужд, Скопле, Велес, Пелагония, Серры. Мельник сдала добровольно болгарская знать в обмен на хрисовул Ватаца, утвердившего права и привилегии города
[185].
Поздней осенью 1246 г. Ватац подошел к Фессалонике. В городе уже созрел заговор против Димитрия. Фессалоникская знать держала связь с Ватацем, обещая сдать город, если Ватац утвердит ее привилегии
[186]. Ватац удовлетворил требование знати города и пригласил Димитрия на переговоры. Тот отказался, весьма основательно заподозрив ловушку. Но ворота города оказались внезапно открытыми, и Ватац без боя занял Фессалонику. Второй крупнейший город Византийской империи оказался в руках никейского императора. Димитрий был брошен в темницу.
В пределы Никейской империи на западе входила теперь и Веррия. За ней, на юг от Платамона, начинались владения Михаила II Эпирского. Пелагония, Охрид, Прилеп, Воден, Старидол составляли владения Феодора Комнина. Полномочным наместником в западных владениях Ватаца был оставлен в Фессалонике великий доместик Андроник Палеолог. Его сын Михаил получил в управление Серры и Мельник.
На следующий год Ватац обратил свое оружие против латинян. Он снова взял Цурул — ключ к господству над Фракией. Была захвачена и Виза. Попытка генуэзцев отобрать у Ватаца остров Родос окончилась неудачей и не могла остановить успехов Ватаца на Балканах. Вернувшись к войнам с латинянами, Ватац заключил в 1249 г. мир с эпирским правителем Михаилом II. Внучка Ватаца (дочь Феодора Ласкариса) была помолвлена с сыном Михаила II Никифором. Но мирные отношения сохранялись всего около двух лет. По совету Феодора Ангела Михаил II нарушил мир и начал военные действия. Ватац выступил на запад и напал прежде всего на владения Феодора Ангела. Тот бежал к Михаилу II. Столица Феодора II Воден пала. Ватац разорял владения Михаила II. Находившиеся в Кастории знатные эпироты, среди которых были и родственники Михаила II, решили перейти на сторону Ватаца. Город был сдан. Сдался и Девол. Перешел к Ватацу и албанский князь Гулам. Михаил II был вынужден выпрашивать мира, соглашаясь уступить Прилеп, Белее и Крою в Албании. Договор был подписан в Лариссе, откуда послы Ватаца привезли Никифора в качестве заложника и закованного в цепи Феодора Ангела, карьера которого наконец-то оборвалась навсегда. Михаилу II и Никифору был пожалован титул деспота.
Решимость Михаила II нарушить мир объяснялась, может быть, уверенностью, что в тылу Ватаца зреет измена. Михаила Палеолога обвиняли в том, что он достиг договоренности с Михаилом II, согласно которой Михаил II выдавал за Палеолога свою дочь, а Палеолог должен был передать эпирскому правителю земли никейского императора на Балканах
[187].
Это был последний поход Ватаца на Балканы. При этом императоре были фактически подготовлены все предпосылки для возвращения Константинополя. Консолидация внутренних сил империи и искусная политика внешнеполитических союзов на востоке и на западе позволяли избегать одну опасность за другой, неуклонно расширяя пределы империи. Исключая небольшой район против Константинополя, латиняне навсегда утратили все остальные свои владения в Азии. На Балканах у них остался также небольшой район Фракии, прилегающей к Константинополю.
Болгары сокрушили мощь латинских рыцарей и Западного греческого государства. Западное греческое государство ликвидировало Фессалоникское королевство латинян. Но плоды их побед пожала Никейская империя. К 1254 г. ее границы на Балканах простирались от Черного до Адриатического морей. На севере в ее пределы входили Адрианополь, Филиппополь, Скопле и Кроя. Опасение Ватаца вызывала лишь позиция папства как возможного организатора серьезной военной помощи латинянам против Никеи. Свидетельством подготовки Ватаца к последнему удару по латинянам является история его переговоров с папой в 1253–1254 гг. Ранее такие переговоры Ватац затевал всякий раз, когда усиливалась опасность со стороны латинян. Теперь, напротив, он завязал их, готовясь взять Константинополь. Греки соглашались на большие уступки папству вплоть до признания верховной папской юрисдикции. Но папство в обмен должно было отступиться от помощи Константинополю, и папа Иннокентий IV готов был пойти на этот шаг, означавший признание явного провала политики полного подчинения греков путем завоевания. Смерть Ватаца, а затем Иннокентия IV помешала осуществлению согласованного проекта унии. Феодор II Ласкарис отказался от его исполнения
[188].
Смерть Ватаца послужила для болгар и Михаила Эпирского сигналом к началу военных действий против Никейской империи. Пользуясь отсутствием на Балканах крупных сил никейского императора и опираясь на союз с Венгрией, Михаил Болгарский решил вернуть то, что было отнято у Болгарии Ватацем. Он перешел Марицу и без сопротивления занял значительную территорию Северной Фракии, так как славянское население этих мест охотно переходило на сторону соплеменников
[189].
Прежде чем отправиться в поход на Балканы, Феодор утвердил заключенный отцом договор с турками. Император переправился через Геллеспонт зимой 1256 г. Болгары не решились дать сражение и очистили занятые районы. Михаил отступил за Балканский хребет. Феодор взял и разграбил Верою (Боруй). Несмотря на тяготы этой зимней кампании, она завершилась успешно. Отнятое болгарами было возвращено, кроме сильной крепости в Родопах (Цепены). Успешно развивались действия никейского императора и на западе, в Южной Македонии. Отложившийся Мельник был подчинен, Велес взят.
Осенью 1256 г. Феодор еще раз попытался взять Цепену, но не достиг цели. Оставив небольшое войско во Фракии и приказав ему не ввязываться в сражение с болгарами, если они выступят в союзе с половцами, Феодор в конце 1256 г. ушел в Лампсак, а затем в Нимфей. Весной 1257 г. он снова направился на Балканы. Оставленный им отряд во Фракии был между тем разгромлен половцами под Дидимотикой. Феодор снова успешно отразил врагов. Болгарский царь Михаил счел благоразумным просить мира, который и был заключен на условиях уступки болгарами Цепены. Старые границы Болгарии и Никейской империи, сложившиеся при Ватаце, были восстановлены.
Опасаясь похода Феодора против Эпирского царства, поспешил с мирными предложениями и Михаил II. В сентябре 1256 г. в лагерь Феодора прибыла жена деспота с сыном Никифором для заключения задуманного при Ватаце брака. Феодор воспользовался случаем и задержал жену и сына эпирского деспота в качестве заложников. Он диктовал условия мира, требуя уступить Сервию в Южной Македонии и Диррахий на севере Эпира, две крупнейшие крепости, принадлежащие эпирскому деспоту. Оказавшаяся в положении пленницы жена Михаила II вынуждена была согласиться. Договор был скреплен в Фессалонике заключением брака Никифора с дочерью Феодора. Однако достигнутый таким образом мир не мог быть прочным, что вскоре и обнаружилось.
Феодор был вынужден покинуть свои европейские владения, услышав, что Михаил Палеолог снова бежал к туркам и турки опять разгромлены монголами (см. выше). Полномочным наместником на западе он оставил Георгия Акрополита.
Едва Феодор ушел домой, как на западных границах Никейской империи, в Македонии, началось восстание, инспирированное и поддержанное Михаилом II.
Больной Феодор, обеспокоенный к тому же восточными делами, не уделил положению на Балканах достаточно внимания. Михаил II заключил союз с сербами и начал захватывать город за городом.

Девушка. Фресковая роспись в Сопочанах. Югославия. XIII в.
Албанское население Северного Эпира приняло его сторону. Враждебность к никейцам проявили и жители Южной и Средней Македонии. Может быть, причиной этого был образ действий войск никейского императора. Акрополит не скрывает, что никейские войска жестоко разоряли захваченные ими территории
[190].
Пошли на измену Феодору и многие из стратигов македонских городов. Вернувшийся от турок Михаил Палеолог был послан с небольшими силами на помощь Акрополиту, осажденному в Прилепе, но не смог исправить положения. Скоро, впрочем, он снова был арестован посланцами императора. Прилеп был предательски сдан. Акрополит оказался в плену. Ко времени смерти Феодора II Ласкариса Михаил II отобрал все западные земли Никейской империи до Вардара.
Отношения с Болгарией в последние годы правления Феодора II оставались мирными. За год до смерти Феодор даже получил без каких-либо усилий Месемврию, находившуюся до этого в руках болгар. В 1256 г. в Болгарии после убийства Михаила начались усобицы и смуты. В 1257 г. трон захватил Константин Тих (1257–1277) который выгнал из Болгарии зятя Михаила по сестре Мицу. Бежавший в Месемврию Мица выменял этот город у Феодора Ласкариса на владения в Малой Азии, на Скамандре.
Константин Тих, тем не менее, искал дружбы с никейским императором. Он хотел упрочить свои права на трон, прося у Феодора в жены его дочь, внучку Асеня. Предложение было принято, и с Болгарией снова установился мир.
На западе между тем сгущались тучи. Приближался решающий этап борьбы за византийское наследство. Михаил II после смерти Феодора II Ласкариса счел себя единственным претендентом на трон Константинополя и на власть над греками. Сознавая, что для осуществления этой программы силы его недостаточны, он заключил союзы с сицилийским королем Манфредом, выдав за него дочь Елену, и с князем Ахайи Гийомом Виллардуэном, отдав за него дочь Анну.
Перед Михаилом Палеологом, едва он принял бразды правления империей, встало несколько трудных проблем. Главной из них была борьба с наметившейся антиникейской коалицией. Грозили также осложнениями отношения с турками и с Константинополем.
К туркам Палеолог направил послов с предложением хранить дружбу. В ответ султан попросил убежища у Палеолога на случай, если враги принудят султана покинуть его страну. Палеолог дал на это свое согласие.
Как-то урегулированы были отношения и с латинянами Константинополя. Воспользовавшись переменами на никейском троне, император Балдуин, по свидетельству Акрополита, предъявил Палеологу требование огромных территориальных уступок. Послы Балдуина будто бы требовали вернуть Фессалонику и все земли между нею и Константинополем. Это известие Акрополита, находившегося в то время в плену у Михаила II, перемежается с анекдотическими подробностями и вызывает сомнение в его достоверности. Вряд ли бессильный Константинополь мог осмелиться в это время на столь непомерные претензии даже в расчете на уступчивость Палеолога перед лицом образовавшейся против него могущественной коалиции. Палеолог будто бы отверг требования латинян и потребовал в свою очередь в качестве платы за мир половину доходов Константинополя от торговых пошлин и от чеканки монеты. Акрополит говорит, что латинские послы «ни с чем» вернулись в Константинополь
[191]. Пахимер глухо сообщает о переговорах с константинопольскими послами и о заключении перемирия. Длительный мир Палеолог обещал латинянам только в том случае, если они выполнят «некоторые условия», которые он им поставил
[192]. В то же время, согласно Пахимеру, побывало у Палеолога и тайное посольство от константинопольских греков, которым Палеолог щедро раздавал хрисовулы на владение в Константинополе тем, «чего еще там не имел»
[193]. Дни Латинской империи были сочтены, и попытки никейского правителя заручиться активной поддержкой соплеменников в Константинополе перед решительными событиями не вызывают сомнений.
Обезопасив свои тылы со стороны турок и Константинополя, Палеолог обратился против главной опасности. Прежде всего он попытался разрушить сложившийся против него союз дипломатическим путем. Палеолог возобновил переговоры с папством об унии церквей, добиваясь признания своих прав на императорский престол и невмешательства в дела на Балканах
[194]. Он отправил послов и к Михаилу II, предлагая мир и соглашаясь на уступку нескольких городов и областей на Западе. Освободил Палеолог и пленных — подданных Михаила II, среди которых были родственники эпирского правителя. Но Михаил II жаждал решительной схватки с Никейской империей за гегемонию на Балканах.
Не добились успеха и послы Палеолога к Манфреду и князю Ахайи. Военное столкновение стало неизбежным. Еще до своей коронации Палеолог направил на Запад своего брата великого доместика Иоанна. Михаил II не решился в одиночку померяться силами с никейским войском. К весне 1259 г. Иоанн Палеолог взял Охрид и посадил там в качестве архиепископа ставленника никейского двора. Взял он также Девол, Преспу, Пелагонию, Соек, Молиск и другие города.
Обнищавшее от постоянных нашествий враждующих армий население не оказывало Иоанну сопротивления. Скоро все владения никейского императора на западе, отнятые Михаилом II, были возвращены. Кроме того, Иоанн захватил часть Фессалии.
Обе стороны готовились к решительному сражению, В войсках Иоанна Палеолога, помимо греческих, были союзные легковооруженные отряды половцев и турок. Венгрия прислала 500 рыцарей
[195]. Во главе войск Эпирского царства стояли сам Михаил II и его сын Никифор. Манфред прислал на помощь тестю отряд из 400 немецких рыцарей
[196]. Гийом Виллардуэн Ахайский сам вел свои войска и войска своих вассалов из Греции и Пелопоннеса. Среди его вассалов были и греческие архонты, верно служившие своим новым господам. Незаконный сын Михаила II Иоанн, правивший Фессалией, привел сильное войско из влахов.
Однако в лагере союзников не было ни единства командования, ни единства интересов и целей. Этнически пестрое воинство раздиралось внутренними противоречиями. Каждый преследовал в ходе предстоящей кампании лишь собственные интересы. Ни Манфред, ни Гийом отнюдь не были заинтересованы в усилении Михаила II и в осуществлении его далеко идущих планов восстановления Византийской империи под своей эгидой. Манфред имел виды па адриатическое побережье, находившееся как во власти его тестя, так и во власти Палеолога. В 1258 г. он уже овладел Корфу, отнял у Никейской империи Диррахий и у Эпирского царства Авлон и Берат. Не упускал Манфред из виду и возможности овладеть самим Константинополем
[197], наследник трона которого, сын Балдуина II Филипп, уже 11 лет находился в заложниках у венецианцев за денежную помощь Балдуину II
[198]. Гийом мечтал о Фессалонике и хотел укрепить свою власть в
Греции и на Пелопоннесе. Его позиция по отношению к Манфреду также не была дружественной, но особенно враждебен он был к сыну Михаила II Иоанну, владевшему плодородной Фессалией. В греческих войсках самого Михаила II и Иоанна Фессалийского не было никаких симпатий к своим временным латинским союзникам.
Союзные армии двигались к Прилепу, навстречу главным силам Иоанна Палеолога, которого брат почтил к этому времени высоким титулом севастократора. Никейский полководец применил тактику партизанской войны и успешно изматывал силы врага еще до решительной битвы. Его легковооруженные отряды половцев и турок, а также искусные греческие лучники вышли навстречу врагам и не давали им покоя ни днем, ни ночью стремительными и частыми нападениями. Кроме того, Иоанн, по-видимому, углубил и усилил раздоры во вражеском лагере, засылая тайные посольства, лазутчиков и провокаторов в войска врагов. В результате накануне битвы перед ним было не монолитное войско, а разрозненные отряды деморализованных и не доверявших друг другу союзников. Ссора Гийома с Иоанном Фессалийским привела к тому, что к моменту битвы Иоанн вышел из коалиции. Он сообщил Палеологу, что не примет участия в битве. Повлиял Иоанн и на своего отца и брата. Летом или осенью 1259 г.
[199] у Пелагонии произошла решительная битва. Действительно, не только Иоанн Фессалийский, но и сам Михаил II фактически не приняли в ней участия. Заподозрив измену своих латинских союзников, Михаил II и его сын Никифор еще ночью бежали с места сражения, бросив свои войска.
Узнав об этом, воины эпирского правителя также поспешили отступить. Иоанн Фессалийский даже предпринял враждебный Гийому маневр, зайдя в его тыл
[200].
В то время как в лагере противника происходила неразбериха и разброд, войска Иоанна Палеолога обрушились на силы Гийома и отряд Манфреда. Победа была полной. Гийом, бежавший с поля битвы, был опознан недалеко от Кастории и взят в плен. Были схвачены и многие другие знатные рыцари. Почти весь отряд Манфреда погиб или попал в плен. Сын Михаила II Иоанн и другие знатные греки из лагеря Михаила II явились к севастократору и принесли клятву верности никейскому императору. Сербы покинули занятые ими города в Македонии и вернулись к себе.
Иоанн Палеолог прошел Фессалию, укрепив ее крепости, и отправил войска на столицу Михаила II Арту и на Янину. Михаил II в страхе бежал к адриатическому побережью и укрылся с семьей на судах, не решаясь высаживаться на сушу. Арта была взята никейскими войсками, освободившими из тюрьмы Акрополита.
Однако скоро обстановка изменилась. Янина держалась. В ответ на жестокое опустошение занятой никейцами территории поднялось на борьбу против своих восточных соплеменников население Эпирского царства. Никейские войска, пишет Акрополит, плохо обращались с населением захваченных областей, и «славная победа» при Пелагонии через короткое время сменилась неудачами
[201]. Когда севастократор прошел мимо Левадии и разграбил Фивы, Иоанн Феесалийский, сопровождавший севастократора в этом походе, передумал и тайно бежал от него к отцу.
Приход Иоанна к Михаилу II побудил эпирского деспота к борьбе. Он еще раз получил помощь Манфреда, двинулся на Арту и при содействии ее жителей изгнал никейцев из своей столицы. Было отогнано и войско, осаждавшее Янину.
Полководец Михаила VIII Алексей Стратигопул был разгромлен в 1260 г. Никифором и попал в плен. С Эпирским царством было заключено перемирие, и пленные никейцы были освобождены
[202].
Тем не менее значение битвы при Пелагонии было огромно
[203]. На пути никейского императора к Константинополю исчез последний серьезный противник. Латиняне Ахайи понесли тяжелое поражение, и их глава покорно ожидал решения своей участи от никейского государя. На Балканском полуострове не оставалось более ни одной реальной силы, способной остановить никейского императора.
Теперь все усилия Михаила Палеолога были направлены на овладение Константинополем. Весной 1260 г. он предпринял первую попытку. Была взята Силимврия и другие крепости латинян близ Константинополя, кроме одной Амафии. Палеолог решил прежде всего овладеть Галатой и осадил ее с севера. Одновременно Константинополь был блокирован с суши. Однако осада была безрезультатной. Латиняне просили мира, и Палеолог дал его на один год. Заключению этого перемирия и снятию осады способствовали слухи о подходе латинских войск, будто бы посланных с Запада на помощь Константинополю.
Чтобы обезопасить себя с севера, Палеолог зимой 1260/61 г. отправил в Болгарию Георгия Акрополита, стремясь укрепить мир. Дело в том, что при болгарском дворе строились враждебные Палеологу планы, и он спешил предотвратить опасность. Жена Константина Тиха, сестра Иоанна IV Ласкариса, отстраненного от престола Палеологом, побуждала мужа к разрыву с Никеей. Миссия Акрополита в Тырнов была, по-видимому, успешной: Константин Тих принял его весьма дружественно. Однако некоторая настороженность в отношениях не исчезла, как показали последующие события.

Мария Комнина Торникиса Акрополитиса. Деталь серебряного оклада иконы «Богоматерь с младенцем». Конец XIII — начало XIV в. Государстве иная Третьяковская галерея
Между тем монголы разгромили Багдад и убили халифа (1258). Их новое нашествие заставило турецкого султана с семьей, гаремом, домочадцами и казной прибыть к Михаилу Палеологу и требовать убежища в силу заключенного ранее договора. Палеолог предоставил султану убежище, но держал его фактически на положении пленника, не давая ему земли и не оказывая помощи против монголов. Сознавая всю величину опасности с востока, Палеолог добивался дружбы с монголами и одновременно укреплял восточные границы, пополняя пограничные гарнизоны турками, которые переходили на территорию Никейской империи, спасаясь от монголов.
Монгольская угроза и новые успехи Михаила II на западе не смогли принудить Палеолога оставить планы относительно Константинополя.
Опасаясь морских сил Венеции, Палеолог за четыре с половиной месяца до взятия Константинополя (в марте 1261 г.) заключил в Нимфее договор с генуэзцами, которые должны были помочь ему осадить Константинополь с моря. Генуэзцы, уже владевшие Галатой и кварталами в самом городе, ясно сознавали, что латинская власть в Константинополе обречена, и спешили закрепить свои привилегии в бывшей византийской столице. Генуэзцы получили по Нимфейскому договору право беспошлинной торговли не только в самой Никейской империи, во и в Константинополе, на Крите и Эвбее, которые еще находились вне власти Михаила VIII. Проход в Черное море предоставлялся только им и пизанцам. Генуэзцы получали право основывать свои фактории, конторы и церкви во многих византийских городах
[204]. Договор был скреплен 10 июля, всего за две недели до падения Константинополя. Обусловленная соглашением помощь Генуи из 50 галер не понадобилась, но договор сохранил силу и стал причиной тяжких бедствий для Византии в последние два века ее существования (см. гл. 7).
Деспот Михаил II успешно развивал наступление в Македонии и в направлении к Фессалии. Манфред одновременно захватывал земли на побережье Адриатического моря, принадлежавшие Никее и Эпирскому царству. Не исчезла угроза и со стороны болгар.
Летом 1261 г. Михаил Палеолог отправил на Балканы войска под командованием вернувшегося из плена Алексея Стратигопула, которому приказал по дороге подступить к Константинополю и «попугать» латинян, к которым только что прибыл большой корабль из Венеции, доставивший нового венецианского подеста.
24 июля Алексей Стратигопул подошел к Константинополю. Окружающее город сельское греческое население уже окончательно перешло на сторону никейского императора. Тайно в его пользу действовали и жители Константинополя, которые обрабатывали поля, примыкающие к городу. Современники называли этих жителей «добровольцами» (υεληματαριοι).
«Добровольцы» сообщили Стратигопулу, что новый подеста побудил латинян города с большей частью сил отправиться в поход против принадлежащего Никейской империи острова Дафнусия у южного побережья Черного моря и что Константинополь в сущности беззащитен. В ночь на 25 июля эти «добровольцы» провели через городскую стену небольшой отряд из войска Стратигопула. Отряд уничтожил стражу и открыл ворота Пиги. На рассвете никейское войско вместе с союзными половецкими отрядами вступило в Константинополь. Среди латинян началась паника. Многие жители города приняли участие в уличных схватках на стороне никейцев.
Возвращавшиеся из неудачного похода латиняне узнали о происшедшем лишь вблизи от города. Они попытались ворваться через стены. Но Стратигопул приказал поджечь населенные латинянами кварталы, примыкающие к стене у побережья. Полуодетые жены и дети латинских рыцарей бросились к берегу, к судам своих защитников. Стратигопул согласился выпустить тех из латинян, которые этого пожелают. Забрав свои семьи и бежавшего из Большого дворца Балдуина, который бросил знаки императорского достоинства, латиняне отплыли на Запад. Константинополь снова стал столицей империи. 15 августа 1261 г. Палеолог торжественно вступил в город через Золотые ворота. Император шел пешком до Студийского монастыря; перед ним везли икону богоматери Одигитрии.
Итак, из трех греческих государств победителем вышла Никейская империя. В первые годы после образования этих государств ни одно из них не обладало достаточно ярко выраженными преимуществами, которые могли бы заранее предопределить исход борьбы. На ее перипетии влияли многие факторы. Однако решающими оказались значительное экономическое превосходство, сравнительно большее этническое единство и социальная однородность, которыми обладала Никейская империя. Немаловажное значение имело то обстоятельство, что народные массы в Малой Азии поддерживали никейских императоров в борьбе с латинской агрессией. Все эти причины, мало сознаваемые самими участниками событий, со временем стали оказывать все более заметное влияние. Относительная безопасность от латинян Эпира и Трапезунда обернулась слабостью этих осколков Византийской империи. Победило то государство, которое находилось ближе всех к главным силам своих наиболее опасных врагов (латинян и Болгарии).
Казалось, в судьбах империи произошел решительный поворот, обещающий новый расцвет и возрождение былого могущества восстановленной державы ромеев. Этим надеждам, однако, не суждено было сбыться.
Глава 5
Восстановленная Византийская империя
Внутренняя и внешняя политик первых Палеологов
(Кира Александровна Осипова)
Бурное ликование царило в стане победителей в связи с отвоеванием Константинополя и крушением Латинской империи. Свидетель событий Георгий Акрополит писал: «Весь ромейский народ находился по причине случившегося тогда в великом удовольствии, веселии и несказанной радости»
[205].
По случаю победы в древней столице были объявлены празднества. Волей императора герою взятия Константинополя Алексею Стратигопулу были оказаны исключительные почести: имя Алексея, возведенного в достоинство кесаря, вместе с именем императора должно было в течение года поминаться в церквах. Новому кесарю был устроен грандиозный триумф.
В Константинополь из Никеи прибыл патриарх Арсений, в храме Софии состоялась вторичная коронация Михаила VIII и его супруги Феодоры, явившаяся своеобразным завершением торжеств по поводу восстановления Византийской империи.
Между тем положение государства было далеко не блестящим. Восстановленная Византийская империя очень мало походила на прежнюю великую державу. Ее территория резко сократилась. В Европе власть императора распространялась на часть Фракии и Македонии и некоторые острова Эгейского моря. Права империи на несколько опорных пунктов на Пелопоннесе (крепости Монемвасия, Мистра, Майна и Иеракион), полученных Михаилом VIII в качестве выкупа за освобождение из плена князя Ахайи Гийома Виллардуэна, были номинальными: обещанные крепости еще предстояло присоединить. Север Фракии и Македонии находился в руках болгар и сербов, Эпирское царство продолжало сохранять независимость. Владения в Центральной Греции и почти весь Пелопоннес оставались во власти латинян, а Венеция по-прежнему господствовала на большей части островов Архипелага.
На Востоке Византии принадлежали лишь северо-западные области Малой Азии. Империя потеряла значительные прибрежные районы в Атталии и Пафлагонии, ставшие добычей турок.
Неузнаваемой была некогда блистательная столица империи ромеев. Глазам вступивших в Константинополь победителей предстал разоренный, запущенный город. Первой заботой правительства Михаила Палеолога было восстановление города из руин и возрождение нормальной жизни в столице. Средств не жалели; строительные работы велись с большим размахом. Были отремонтированы либо возобновлены городские укрепления и воздвигнута новая городская стена, опоясавшая район Акрополя. С прежним великолепием отделывались константинопольские церкви и монастыри, императорские дворцы и общественные здания.
В столицу быстро стекалось население, значительно поредевшее в годы господства латинян. Были заселены пощаженные огнем прибрежные кварталы города.
С восстановлением государственного и административного аппарата были приняты меры к обеспечению многочисленного чиновничества, которому предоставлялись участки для постройки домов, разведения садов и виноградников. Большие преимущества получили константинопольские монастыри, которым передавались крупные земельные наделы в городе и вне его. Император распорядился подчинить столичным монастырям некоторые восточные обители, славившиеся своим богатством
[206].
Но главный поток милостей императора пришелся на долю светской знати. Михаил Палеолог вступил в тесный союз с военной землевладельческой знатью, сделав его основой своей внутренней политики.
Император спешил удовлетворить требования феодалов. Положение узурпатора, отстранившего от власти, а затем ослепившего малолетнего Иоанна IV Ласкариса, заставляло его щедрыми подачками непрестанно добиваться расположения знати. Высшим сановникам были предоставлены субсидии для строительства новых и восстановления старых дворцов в столице. Своим приверженцам Михаил VIII, не скупясь, жаловал поместья и чины, раздавал богатые подарки. Широкие привилегии получили родственники императора и его ближайшие друзья, пролагавшие ему путь к трону. Брат Михаила Иоанн, видный военачальник, был возведен в достоинство деспота, второму брату Константину было присвоено звание кесаря. Титулом севастократора был отмечен родственник Михаила Константин Торник. Высокие звания получили другие приближенные императора. Было роздано большое количество земель в виде прений. Пронин получили члены синклита и многочисленная феодальная знать
[207]. Большинство высших сановников государства стали обладателями крупных поместий. Так, брату императора деспоту Иоанну Палеологу принадлежали огромные территории, в том числе острова Митилена и Родос
[208].
Обширные владения, составившие прению Николая Малиасина, были получены Николаем от императора в 1272 г. Они были переданы ему с жившими там крестьянами, всем движимым и недвижимым имуществом в наследственное владение
[209].
Государственные деньги тратились без счета. Как утверждает Пахимер, «Палеолог черпал из казны обеими руками и мотовски расточал то, что собиралось скряжнически»
[210]. Финансовые потребности государства были велики. Помимо восстановления Константинополя, регулярных затрат на содержание многочисленного чиновничества и крупных сумм, уходивших на удовлетворение все возраставших аппетитов знати, большие средства поглощали армия и флот. Армия в значительной мере комплектовалась за счет наемников, главным образом турок и монголов. Ее численность единовременно достигала 15–20 тыс. человек
[211]. Годичное содержание одного воина-наемника обходилось государству примерно в 24 иперпира (минимальный годовой доход с прений, предоставлявшихся командной прослойке войска, составлял не менее 36 иперпиров)
[212]. Снаряжавшийся с помощью Генуи флот насчитывал от 50 до 75 кораблей и стоил государству примерно четвертой части сумм, тратившихся на сухопутную армию
[213]. Большие средства уходили на нужды дипломатии, богатые дары папскому престолу и иностранным правителям, на отправление и прием посольств. Соображения престижа заставляли византийское правительство возрождать традиции мировой державы, диктовали необходимость восстановления в прежнем блеске придворной жизни и пышного дворцового церемониала.
Огромные траты быстро истощили казну, доставшуюся Палеологу от его предшественников. Между тем налоговые поступления, основной источник пополнения государственных финансов, имели тенденцию к сокращению. Контроль государства над увеличением численности освобожденных от налогов париков на частновладельческих землях практически совсем перестал осуществляться
[214]. Много сельских жителей, плативших налоги государству, в поисках выхода из тяжелого положения бежало в поместья феодалов, превратившись в зависимых париков, плательщиков феодальной ренты
[215]. Сокращение числа налогоплательщиков шло особенно быстро с ростом феодальных привилегий земельных магнатов и особенно с расширением иммунитетных прав. Податная экскуссия, даруемая феодалам, как правило, распространялась на их париков, которые впредь уплачивали бывшие государственные налоги своим господам. Предоставление феодалам полной и неограниченной податной экскуссии, широко жаловавшейся Михаилом VIII
[216], не только сокращало доходы фиска, но постепенно все более высвобождало поместья феодалов из-под контроля государства, ослабляя тем самым позиции центральной власти.
Другой важный финансовый источник — таможенные пошлины, приносившие Византии при Комнинах несколько тысяч золотых монет ежедневного дохода
[217], теперь, с переходом международной торговли в руки генуэзцев и венецианцев и отмены для них торговых пошлин, почти полностью иссяк.
Чтобы справиться с постоянным финансовым дефицитом, правительство Михаила Палеолога прибегало к крайним мерам — к дальнейшей порче монеты, конфискациям имущества лиц, впавших в немилость, к штрафам, взимавшимся по разным поводам с населения
[218].
В византийской деревне царили запустение и нищета. Крестьянское хозяйство, десятилетиями страдавшее от разорения, вызванного вражескими вторжениями и внутренними междоусобицами, повсеместно пришло в упадок.
Даже весьма скудные сведения, которые дошли до нас о положении дел в провинциях во время Михаила VIII, позволяют судить о катастрофическом обнищании восточных областей империи. Грабительская налоговая политика, частые кадастровые переписи и внеочередные сборы налогов приводили к полному разорению сельского населения. По словам Пахимера, «отсутствие денег у крестьян вынуждало их отдавать в счет налогов золотые и серебряные монеты, служившие им головным украшением, и оттого становиться еще беднее»
[219]. С завоеванием Константинополя и возвращением императорского двора в столицу постепенно захирели и такие богатые области, как Вифиния, бывшая в свое время источником благосостояния Никейской империи. Безудержный грабеж государства привел к взрыву недовольства обездоленного крестьянства Вифинии: в 1262 г. вспыхнуло восстание вифинских акритов. В Никейской империи они были свободны от уплаты налогов и несения других повинностей. С приходом к власти Михаила VIII была проведена реформа, приведшая фактически к ликвидации пограничной службы акритов. Их земли были обложены податями, а воинам в виде компенсации назначили жалование, которое выдавалось нерегулярно и систематически уменьшалось
[220]. Акриты при поддержке вифинского крестьянства, настроенного в пользу старой династии, подняли восстание. В среде восставших появился слепой юноша, выдававшийся ими за Иоанна IV. Посланное против восставших войско оказалось бессильным против засевших в горах акритов, которые хорошо знали местность и с успехом отражали атаки. Восстание удалось подавить путем обмана и подкупа отдельных его вожаков и участников
[221]. В результате карательных экспедиций Вифиния была разорена.
Грабительская политика правительства в отношении восточных областей дорого обошлась Византийскому государству. Местное население все чаще предпочитало входить в контакты с турками и переселяться в их области. Оборона восточных границ империи была полностью дезорганизована — акриты уклонялись теперь от несения пограничной службы, перебегали к туркам. Турки по большей части безнаказанно переходили границу империи и захватывали византийские области. Им удалось овладеть важным опорным пунктом византийцев — городом и крепостью Траллы, который был разрушен до основания, а его жители перебиты. Процесс проникновения турок облегчался и тем, что все помыслы Михаила Палеолога были устремлены на запад, где его вожделенной целью было окончательное изгнание латинян. Военные экспедиции на восток посылались лишь эпизодически, и вся восточная граница империи в годы пребывания Михаила VIII у власти по сути дела была открыта для турок
[222].
Международное положение Византии было сложным. Падение Латинской империи явилось тяжелым ударом для многих государей Европы. Были затронуты интересы ряда стран, но в первую очередь был нанесен ущерб престижу папского престола, постоянного защитника латинских императоров Константинополя. Существенно пострадали и позиции Венеции, которая после Нимфейского договора потеряла господствующее положение в торговле в бассейне Восточного Средиземноморья и на Черном море.
Новый папа Урбан IV (1261–1264), вступив на престол, сразу же начал предпринимать меры против Византии, потребовав от Генуи разорвать союз с Михаилом Палеологом. Поскольку генуэзцы отказались, последовали отлучение от церкви правительства Генуи и папский интердикт на все население республики. Венеция поступила еще более решительно, послав с благословения папы флот против союзных эскадр Византии и Генуи. Сначала союзникам сопутствовал успех. Они заняли ряд островов Архипелага, захватили несколько венецианских кораблей. В руках Михаила оказался большой для того времени флот, насчитывавший до 60 галер. К этому времени вернувшийся домой из плена Гийом Виллардуэн был освобожден папой от клятвы, данной Михаилу VIII, и отказался выполнить условия договора о передаче Византии крепостей на Пелопоннесе. Император стал готовить туда военную экспедицию. Но ее пришлось отложить. Венецианцы разбили генуэзский флот в морском сражении при Сетте Поцци (1263 г.), применив хитроумную тактику морского боя. Вслед за тем последовало и политическое расхождение между Михаилом VIII и генуэзцами, воспротивившимися намерениям византийского императора идти к Пелопоннесу. Генуя не рискнула выступить против Гипома, пользовавшегося расположением Урбана IV, боясь еще более обострить и без того опасный конфликт с папской курией. Генуя склонялась к примирению с Римом, чему немало способствовали политика Сицилийского королевства и угрожающее соседство Карла Анжуйского. Разрыв Византии с Генуей стал неизбежным после измены главы генуэзской колонии в Константинополе Гильельмо Гверчи, который в союзе с тайными агентами сицилийского короля Манфреда Гогенштауфена строил планы передачи города латинянам
[223]. После раскрытия заговора Михаил VIII изгнал генуэзцев из Константинополя, нанеся тем самым тяжелый удар генуэзской торговле, хотя в Галате они удержались.
Теперь византийская дипломатия, стремившаяся всеми силами ослабить антивизантийские коалиции на Западе, стала искать союза с Венецией. В 1265 г. Михаилу VIII удалось заключить договор с венецианцами, по которому их привилегии были восстановлены, а Венеция гарантировала Византии защиту от посягательств Запада
[224].
Договор с венецианцами давал Византии важные преимущества против Гийома Виллардуэна, поскольку в результате этого договора были фактически разорваны союзные отношения Венеции, правителей Ахайи и Афин, направленные против империи. Михаил VIII теперь мог укрепиться на Эвбее и осуществить, наконец, экспедицию в Монемвасию, чтобы подчинить уступленные ранее Гийомом области. Несмотря на яростное сопротивление объединенных латинских сил Пелопоннеса, поддерживаемых папой, Византии удалось одержать верх; империя прочно утвердилась в этом районе Греции
[225]; византийские владения на Пелопоннесе называли обычно Мореей.

Герб Палеологов. Миниатюра из рукописи ГПБ. Ленинград. XV в.
Положение империи упрочилось. Это заставило правителя Эпира Михаила II Ангела искать мира с империей. Нормализация отношений между двумя греческими государствами сопровождалась браком Никифора, наследника эпирского правителя с Анной, дочерью сестры Михаила VIII Евлогии.
Михаил VIII, однако, не был склонен переоценивать военно-дипломатические успехи Византии. Дальновидный и умный политик, он понимал, что главная опасность империи грозила со стороны папской курии, после потери Константинополя не устававшей призывать к новому крестовому походу против схизматиков-греков. Урбан IV обращался с подобными призывами к французскому королю Людовику IX, к королю Арагона Хайме I. Папа поддерживал изгнанного из Константинополя Балдуина II, благословлял многочисленные планы восстановления латинского господства в Византии. В этих условиях Михаил VIII счел необходимым предпринять дипломатический маневр, направленный на сближение с Манфредом Сицилийским, ярым врагом папы. Союзу с ним в Византии придавали столь большое значение, что Палеолог готов был даже развестись со своей супругой, императрицей Феодорой, и жениться на сестре Манфреда Анне, вдове Иоанна Ватаца, остававшейся после смерти мужа в Византии. Однако Феодора энергично воспротивилась этим планам своего венценосного супруга и была поддержана патриархом Арсением, не допустившим развода. В то же время Манфред не сделал ответных шагов навстречу Михаилу VIII, и союз двух государств не состоялся.
После этого у императора оставался в сущности один выход — добиться союза с папой. Михаил VIII ясно понимал, что единственным путем, ведущим к этому союзу, была церковная уния
[226].
Не считаясь с настроениями в империи, Михаил VIII направил Урбану IV предложения о заключении мира с последующим обсуждением всех спорных вопросов о догматах. Реакция в Риме была благоприятной. Вскоре встал вопрос о созыве церковного собора, но в это время папа Урбан IV умер (1264), Вслед за тем в Италии развернулись события, повлекшие за собой резное обострение международной обстановки.
Располагавший большими военными силами и материальными средствами, прованский граф Карл Анжуйский, младший брат Людовика IX, в 1265 г. вступил в пределы Италии и вскоре нанес сокрушительное поражение Манфреду Гогенштауфену, который погиб в бою. В 1268 г. был разбит и наследник Манфреда Конрадин Гогенштауфен, посланный Карлом на эшафот. Утвердившись в Южной Италии и Сицилии, Карл Анжуйский начал быстро распространять свое влияние в Западной Греции и на некоторых островах. На правах вассала в тесный союз с ним вступил Гийом Виллардуэн, участвовавший со своим войском в военных операциях Карла.
В 1267 г. в Витербо Карл Анжуйский заключил договор с изгнанным из Константинополя Балдуином, которому обещал в течение ближайших шести лет выступить против империи ромеев. По условиям договора Балдуин отказывался от прав на Пелопоннес и острова Архипелага, передавал Карлу значительную часть византийских территорий в Эпире, в районе Фессалоники, в Сербии и Албании, Военный договор по традиции сопровождался брачным договором между дочерью Карла Беатриче и Филиппом, наследником Балдуина
[227].
Перед лицом этой новой угрозы Михаил VIII, невзирая на протесты духовенства, пытался ускорить переговоры об унии восточной и западной церквей. Папская курия, однако, теперь не спешила, стремясь извлечь для себя наибольшие выгоды из создавшейся ситуации. Карл Анжуйский пользовался ее неизменным расположением и покровительством, особенно после того, как он разгромил враждебных Риму Гогенштауфенов. Однако укрепление державы Карла становилось опасным и грозило папскому престолу ослаблением его влияния.
Папа Климент IV предпочел вести тонкую дипломатическую игру, пытаясь добиться максимального политического выигрыша для римской церкви путем ослабления обоих противников. Благословив договор Карла с Балдуином, папа в то же время выразил стремление пойти навстречу предложениям Михаила VIII. Климент IV был твердо уверен в том, что осуществление церковной унии, которая поставила бы Византию в подчиненное по отношению к Риму положение, одновременно явилось бы серьезным препятствием для политических притязаний Карла Анжуйского. Однако условия заключения унии, предложенные Римом, были столь унизительны для Византии, что Михаил, зная о позиции греческого духовенства, не рискнул форсировать переговоры. Папа требовал не только согласиться с принятым на Западе толкованием учения об исхождении святого духами признать верховную власть Рима в вопросах веры, но и утвердить за папским престолом право разрешать споры о вероучении. Переговоры об унии зашли в тупик. В 1268 г. папа Климент IV умер, и папский престол в течение трех лет оставался вакантным.
Между тем Карл Анжуйский вел широкую подготовку к походу против Византии. Карлу обещали помощь Венгрия, кастильский король Альфонс X Мудрый, сербы и болгары. Попытка привлечь к походу Венецию не имела успеха. Венецианцы, опасаясь усиления могущества Карла Анжуйского, предпочли нейтралитет. Ко двору сицилийского короля стекались политические противники Михаила VIII, вплоть до бежавшего из Византии слепого Иоанна IV Ласкариса.
Новые попытки Михаила VIII отвратить от империи нависшую угрозу путем переговоров об унии через французского короля Людовика IX ни к чему не привели. Военный конфликт казался неминуемым.
Только необходимость принять участие в крестовом походе Людовика IX в Тунис вынудила Карла на ближайшие годы отложить нападение на Византию. Впрочем, его отряды продолжали не без успеха действовать в Западной Греции, а дипломатическая борьба против Михаила VIII не ослабевала.
В 1272–1273 гг. в результате военных действий Карла Анжуйского в Албании албанские города избрали Карла своим королем. В начале 70-х годов Карлу удалось спровоцировать острый конфликт между Палеологом и правителем Фессалии Иоанном Комнином Ангелом. Иоанн Комнин вел двойственную политику, признавая суверенитет Константинополя, но не порывая связей и с латинянами. Он представлял собой возможного союзника Карла в случае его нападения на Византию. Воспользовавшись изменой одного из своих вельмож — Андроника Тарханиота, бежавшего к Иоанну Комвину, своему тестю, Михаил VIII послал против фессалийского правителя большое войско под командованием своего брата, деспота Иоанна Палеолога. Сначала Иоанн Комнин был разбит и укрылся в Новых Патрах. Осадив город, византийцы требовали выдачи Иоанна Комнина. но ему удалось бежать. Он явился в Фивы и получил там 300 всадников, с которыми неожиданно напал на византийцев. Отряды Иоанна Палеолога обратились в бегство, оставив победителю богатую добычу.
Эти события совпали с военными действиями византийцев против латинян на Эвбее. В 1275 г. туда был послан огромный византийский флот из 73 кораблей во главе с Алексеем Филантропином. Византийская эскадра почти в четыре раза превосходила флот, снаряженный латинянами Эвбеи и Южного Пелопоннеса. Тем не менее греки были оттеснены к берегам Фессалии и понесли большие потери. Только появление на берегу Иоанна Палеолога и помощь остатков его войска, перебравшегося на корабли, решили исход битвы в пользу византийцев
[228].
Пользуясь тем, что в Сицилии в это время возникли внутренние осложнения, и опасаясь, что отсрочка в военных приготовлениях Карла продлится недолго, Палеолог со всей присущей ему энергией развернул дипломатическую борьбу против сицилийского короля. Один за другим возникали планы многообразных политических комбинаций, в осуществлении которых далеко не последним средством были династические браки. Михаилу VIII удалось привлечь на свою сторону Венгрию, союз с которой завершился в 1272 г. женитьбой сына и наследника византийского императора — Андроника на дочери венгерского короля Стефана Анне. Византийская дипломатия стремилась к сближению с политическими противниками Карла Анжуйского: строились планы союза с правителями Пиренейского полуострова, были установлены связи с враждебной Карлу лигой в Северной Италии, возглавлявшейся Альфонсом Х Мудрым. Обсуждался проект брака самого Михаила VIII с дочерью Альфонса.
Византия зорко следила за позицией своих соседей — болгар и сербов. Отношения с Болгарией в начале 70-х годов были враждебными. Болгарский царь Константин Тих, женатый на сестре Иоанна IV Ласкариса Ирине, разделил, наконец, ненависть своей жены к Палеологу. Вражда особенно усилилась после 1272 г., когда Михаил VIII подтвердил привилегии архиепископа Охрида и всей Болгарии. Церковная независимость сербов и болгар объявлялась незаконной. Отношения не наладились и после смерти Ирины, когда Тих женился на племяннице Михаила VIII Марии. Воспользовавшись тем, что византийцы не отдали Болгарии предназначенных Марии в приданое прибрежных районов с Анхиалом и Месемврией, болгары начали войну, которая велась с большим ожесточением. Стремясь быстрее разгромить Болгарию и опасаясь вмешательства латинян, Палеолог направил против болгар орды монгольского хана Ногая, подвергшие опустошению болгарские земли.
Вскоре в Болгарии вспыхнуло народное антифеодальное восстание, во главе которого встал пастух Ивайло
[229]. Восставшие разгромили несколько военных отрядов монголов, а затем начали войну против Константина Тиха и болгарских феодалов. Царь попал в плен к восставшим и был убит. Его армия перешла на сторону Ивайла. Вскоре почти вся страна оказалась в руках восставших, а Ивайло был провозглашен царем (1277–1279). Болгарские боляре поспешили обратиться за помощью к Михаилу Палеологу. Византийский император направил в Болгарию на подавление восстания большую армию. Болгарские боляре согласились провозгласить болгарским царем ставленника Михаила VIII внука Ивана Асеня II — Ивана, женатого на дочери византийского императора.
Между тем царица Мария, стремившаяся сохранить болгарский престол за своим сыном, вступила в переговоры с Ивайлом и предложила ему жениться на ней. Их свадьба состоялась весной 1278 г. Действия византийских войск против Ивайла были поначалу успешными: в феврале 1279 г. они вступили в Тырнов. Иван был провозглашен царем под именем Ивана Асеня III. Однако вскоре войска Ивайла, значительно пополнившиеся за счет вновь восставших крестьян, нанесли несколько поражений византийцам. Но это были лишь временные успехи. В рядах восставших начался разброд. Женитьба Ивайла на царице и последовавшее затем его сближение с феодальными кругами вызвало разочарование у крестьян и внесло раскол в их ряды. Войска Ивайла начали таять, и он был вынужден бежать из Болгарии. Его попытка обратиться за помощью к монголам закончилась для него трагически: в стане хана Ногая он был убит в результате происков византийского императора.
Попытки Михаила VIII привлечь на сторону Византии Сербию путем династического брака сына императора Константина с дочерью сербского короля Стефана Уроша I не имели успеха, и Сербия продолжала сохранять западную политическую ориентацию
[230].
С вступлением на папский престол Григория X (1271–1276) вновь был поднят вопрос об унии церквей. На этот раз в унии проявил заинтересованность сам папа, одержимый идеей консолидации сил христианства для организации нового крестового похода против мусульман
[231]. Последовал обмен посольствами. Папа предлагал заключить унию на соборе католической церкви в Лионе в 1274 г. От Византии требовалось принять латинский символ веры и признать верховенство папы в церковных делах. Григорий X обещал Михаилу Палеологу добиться установления мира и прочного политического союза между латинскими державами и Византией.
Михаилу VIII предстояла трудная миссия — убедить греческое духовенство согласиться заключить унию на условиях, выдвинутых папой. Отношения императора с патриархом и высшими иерархами православной церкви были враждебными. За ослепление юного Иоанна IV Ласкариса патриарх Арсений в свое время отлучил императора от церкви и отказывался снять отлучение, несмотря на униженные просьбы Михаила. Последовала тяжелая борьба, стоившая Арсению патриаршего престола
[232]. Лишь при патриархе Иосифе (1266–1275) отлучение с Михаила было снято, но его авторитет был поколеблен и отношения с церковью оставались натянутыми.
Как и опасался император, его речь на соборе перед православным духовенством в защиту церковной унии была встречена патриархом и высшим клиром неприязненно. Не произвели впечатления и приведенные Палеологом аргументы в пользу политической целесообразности союза с латинянами. Большинство собравшихся хранило молчание. Императора поддержали лишь архидиакон Мелитиниот и протоапостоларий Георгий Кипрский. Патриарх Иосиф колебался. Все ждали слова авторитетнейшего хартофилака Иоанна Векка. Тот, после некоторых колебаний, выступил против унии, осудив латинян как еретиков. Михаил VIII в гневе покинул заседание, приказав предать Векка суду. Несмотря на вмешательство патриарха, Векк был схвачен и заключен во Влахернскую тюрьму. Конфликт между императором и церковью достиг небывалой остроты. Ожесточенная распря расколола и греческое духовенство.
Император вместе с Мелитиниотом и Георгием Кипрским составил пространный документ, в котором, ссылаясь на исторические акты и творения отцов церкви, пытался оправдать позицию латинян. Документ был передан патриарху. Тот под энергичным давлением непримиримого монаха Иова Иасита возглавил оппозицию. По поручению Иосифа Иасит при деятельном участии историка Георгия Пахимера составил ответ Михаилу, в котором латиняне проклинались как еретики и всякое общение с ними объявлялось греховным. Церковная оппозиция составила и распространила послание ко всему православному христианству, объявлявшее латинское вероучение еретическим. Такой оборот событий вынудил императора примириться с Векком и использовать все его влияние, чтобы убедить церковников пойти на уступки. Векку было предложено внимательно изучить наследие отцов церкви, в том числе сочинения Никифора Влеммида, известного своими примирительными тенденциями в вопросах вероучения. Векк пошел на соглашение, высказавшись в пользу унии. Его позиция помогла императору добиться отправки миссии к папе.
Однако борьба внутри греческой православной церкви не прекратилась. Напротив, она стала еще более острой, особенно после того, как император решил прибегнуть к террору. Представители духовенства, державшие сторону императора, составили своеобразную присягу в духе унии, текст которой носили в столице по домам. Отказавшихся поставить свою подпись ждали репрессии — опись имущества, огромные штрафы, аресты и ссылки
[233]. Сосланных было множество: их отправляли на острова, в Никею и другие города Малой Азии, в отдаленные монастыри. Многие противники унии были подвергнуты телесным наказаниям и предоставлены глумлению константинопольской толпы.
Историк Пахимер, современник событий, рассказывает о судьбе ученого ритора Мануила Оловола. Незаурядно одаренный, широко по тем временам образованный человек, он вскоре после прихода Михаила VIII к власти жестоко пострадал, будучи приверженцем Иоанна IV Ласкариса. Оловолу отрезали нос и губы, после чего он ушел в монастырь. Позднее, однако, по настоянию патриарха его приблизили к трону и назначили ритором специальных школ, открытых при крупнейших столичных храмах. Поначалу он поддержал императора в вопросе об унии, но вскоре выступил с ее категорическим осуждением, за что был немедленно сослан в Никею, в Иакинфов монастырь. Но и там он не изменил убеждений. Тогда по приказу императора он был привезен в оковах в Константинополь и подвергнут мучительным пыткам. Потом Оловола вместе с десятью другими жертвами императорского произвола связали веревками, обвешали овечьими внутренностями и долго водили по городу, подвергая бесчисленным издевательствам.
Патриарха Иосифа, своего старого друга и духовника, император вынудил переселиться в монастырь Перивлепты. За ним было сохранено право на патриарший престол в том случае, если уния не будет осуществлена.
Между тем византийское посольство в составе бывшего патриарха Германа, митрополита Никеи Феофана, логофета Георгия Акрополита и двух императорских вельмож, Панарета и Верриота, направилось на собор, надеясь на благосклонный прием у папы. Карл Анжуйский был вынужден уступить требованию Григория X и вновь отложить намеченный с Балдуином поход на Византию.
Официальное оформление унии восточной и западной церквей состоялось на соборе католического духовенства в Лионе, куда в конце июня 1274 г. прибыли послы Михаила Палеолога. Греки признавали три основных пункта унии: супрематию папы над всей христианской церковью, верховную юрисдикцию папы в канонических вопросах и необходимость поминать папу во время
церковных богослужений. Согласившись на заключение унии, Византия, тем не менее, ставила папству ряд политических условий. Наиболее важным из них было требование, чтобы папа добился мира между Византией и латинскими государствами. Михаил VIII обещал в свою очередь принять участие в задуманном Римом крестовом походе против мусульман
[234].
6 июля 1274 г. на четвертом заседании собора Георгий Акрополит принес присягу папе, утверждая тем самым его верховенство в христианской церкви. Члены византийской миссии подписали присягу Акрополита
[235]. Уния церквей совершилась.
Прошло, однако, немного времени, и стало ясно, что уния не оправдала возлагавшихся на нее надежд. Мира между латинскими государствами и Византийской империей не наступило, напротив — военные действия в Западной Греции и на островах Архипелага вспыхнули с новой силой. Карл Анжуйский не отказался от планов похода на Константинополь, настойчиво выпрашивая у папы разрешения выступить против Михаила Палеолога. Папство фактически игнорировало политические требования Византии. Оно лишь без конца добивалось от греков новых подтверждений их верности унии. Легатам папы Николая III вменялось в обязанность требовать у греков клятв и письменных свидетельств, подкрепленных подписями и именными печатями. Легаты имели право отлучать от церкви непокорных византийцев. Папа считал необходимым присутствие в Константинополе постоянного кардинала-легата, который должен был от имени папы осуществлять главенство в византийской церкви
[236].
Обстановка в империи накалялась. Официальное признание унии далеко не означало ее реального претворения в жизнь. Византийское духовенство в массе своей не приняло унии, не желало вносить изменений в освященный веками порядок православных богослужений, отказывалось поминать папу в церквах и признавать догмат об исхождении святого духа «и от сына» (
filioque). Унию неизменно отвергало монашество
[237]. Возведенный после заключения унии на патриарший престол ее ярый приверженец Иоанн XI Векк (1275–1282) возбуждал всеобщую ненависть. Уния с Западом неизбежно грозила византийскому духовенству и монашеству потерей господствующего положения в византийской церкви, сокращением доходов и ослаблением влияния на народные массы.
Споры об унии, поначалу вспыхнувшие преимущественно в церковных кругах, недолго сохраняли видимость богословских дискуссий. Вскоре они вылились в ожесточенную социальную и политическую борьбу, охватившую различные слои византийского общества
[238]. Самое активное участие в событиях приняла светская феодальная знать
[239], расколовшаяся, как и православное духовенство, на два лагеря.
Против унии выступали средние слои городского населения, ремесленные и торговые круги Константинополя, чьи интересы были жестоко ущемлены в результате захвата иностранцами (преимущественно итальянцами) ключевых позиций в торговле. Наконец, противники унии находили неизменную поддержку среди широких народных масс, и прежде всего у византийского крестьянства, тяжко страдавшего в годы господства латинян.
К числу сторонников унии принадлежали в первую очередь придворная знать и государственное чиновничество. К этой партии в разное время примыкала часть высшего православного духовенства и византийской интеллигенции. Сторонники унии были, однако, в меньшинстве и удерживали свои позиции, лишь используя карательную мощь государственного аппарата. Голос врагов унии звучал все громче.
Вскоре улицы, площади и рынки Константинополя стали ареной народных волнений. Протест народных масс против унии приобрел отчетливо выраженную социальную окраску. Всем ненавистный патриарх Иоанн Векк писал: «Не только люди образованные, но даже женщины, их служанки, люди, ничего, кроме земледелия и обычных занятий, не знающие, считали нас чуть ли не злодеями и дерзко поносили тех, которые хотя бы осмелились намекнуть на унию»
[240]. Выступления врагов унии приобретали явно антиправительственный характер, угрожая трону Палеолога. Обстановку в Константинополе в это время живо характеризует рассказ Пахимера о появлении анонимных антиправительственных памфлетов (василографий), откровенных пасквилей на императора, ходивших в столице по рукам. Последовала новая волна жестоких репрессий. Среди жертв террора, наряду с врагами унии, было много политических противников Михаила Палеолога, обвинявшихся в заговоре против императора. При дворе царила атмосфера интриг и доносов, усугублявшаяся крайней подозрительностью Михаила Палеолога. Репрессии не миновали и императорской семьи: пострадали многие родственники Михаила Палеолога.
Однако карательные меры оказались тщетными. Они лишь окончательно скомпрометировали дело унии. Число ее сторонников сокращалось. Многие знатные вельможи отшатнулись от Михаила Палеолога
[241]. Резко возрос поток эмигрантов из Византии, направлявшийся в основном к Иоанну Комнину Ангелу в Новые Патры, ставшие центром политической оппозиции византийскому императору. Влияние Иоанна Комнина настолько возросло, что он смог организовать церковный собор с привлечением монахов Афона и Вифинского Олимпа и объявить на нем анафему Михаилу, патриарху Векку и римскому папе.

Константин акрополит. Деталь серебряного оклада иконы «Богоматерь с младенцем». Конец XIII — начало XIV в. Государственная Третьяковская галерея
Иоанн Комнин спешил извлечь для себя максимум политических выгод из внутренних смут, постигших Византийскую империю. Он вновь апеллировал к своим постоянным союзникам — латинским правителям Греции, вступил в переговоры с трапезундским императором Иоанном, пытаясь, хотя и безуспешно, убедить его выступить против Михаила. Стремясь нейтрализовать активность Иоанна Комнина, Палеолог в 1278 г. послал против латинян Эвбеи флот, одержавший победу. Но на суше военные операции против Иоанна Комнина, как и прежде, закончились плачевно для империи: византийское войско было разбито.
Снова для Византии становилась реальной угроза войны с Карлом Анжуйским, который после смерти Гийома Виллардуэна в 1278 г. прочно утвердился в Греции. Опасность особенно возросла после возведения в 1281 г. на папский престол Мартина IV, французского кардинала, ставленника Карла. Новый папа незамедлительно разорвал союзные отношения с Византией. Византийский император как главный виновник провала унии был отлучен от церкви
[242]. Теперь Карл Анжуйский мог начать войну с империей. В его планы входило создание мощной военной коалиции Италии, Франции, Венеции и латинских владений Греции, против которой империя Михаила Палеолога не могла бы устоять. С венецианцами в 1281 г. Карл заключил договор о совместном походе на Византию
[243]. Поддержку Карлу оказали также Иоанн Комнин Ангел и сербский король Милутин.
Михаил VIII пытался опереться на врагов Карла — генуэзцев и особенно на Арагонское королевство. Король Арагона Педро III, женатый на дочери Манфреда Гогенштауфена, с мощным флотом выступил против Карла, заявив династические притязания на сицилийский престол. Когда в 1282 г. испанский флот приближался к сицилийским берегам, на острове вспыхнуло народное восстание против иноземного гнета. Восставшее население Палермо и других городов Сицилии перебило французские оккупационные войска. Сицилийское королевство распалось. «Сицилийская вечерня» дала возможность Педро Арагонскому высадиться на острове и вскоре стать сицилийским королем. Карл Анжуйский, держава которого теперь ограничивалась пределами Южной Италии (Неаполитанское королевство), должен был навсегда распроститься с планами похода на византийскую столицу
[244]. Вскоре, в 1285 г., он умер.
Окрыленный столь счастливым для империи стечением событий, Михаил Палеолог задумал новый поход против латинян Греции, чтобы окончательно изгнать их. Но этот поход, в котором Михаил лично возглавлял войско, оказался для императора последним: в конце 1282 г. во Фракии он скончался.
Византийский престол перешел к сыну Михаила Андронику II (1282–1328), бывшему во многом полной противоположностью своему отцу. Он не был ни крупным политиком, ни выдающимся полководцем. Любитель философии и литературы, широко образованный богослов, он приобрел известность как покровитель наук и искусств
[245].
Андроник II пришел к власти в годы, когда тяжелый внутриполитический кризис, охвативший империю в связи с заключением Лионской церковной унии, достиг кульминации. Не отличавшийся твердым характером и в сущности не имевший собственной политической программы, Андроник старался держаться в русле доминировавших в столице настроений. Всеобщая враждебность к унии определила его политику. Андроник даже не решился везти в столицу для торжественного погребения тело своего отца, с именем которого было связано восстановление Византийской империи. Михаил VIII был наскоро похоронен либо во фракийской степи, либо в одном из местных монастырей.
Православная партия торжествовала. Противники унии, осужденные Михаилом VIII, были возвращены из тюрем и ссылок и рассматривались как мученики за православие. Вся ярость врагов унии обрушилась в первую очередь на патриарха Векка. Духовенство решительно требовало его смещения и предания суду. Векк удалился в монастырь, затем он отрекся от патриаршего престола и был отправлен в ссылку в Бруссу.
Престарелый Иосиф был вновь возведен на патриарший престол, но вскоре умер. Между тем ожесточенная борьба внутри византийской церкви не прекращалась. Вновь ожили старые распри между церковными группировками арсенитов (зилотов) и иосифлян. Приверженцы патриарха Арсения, умершего еще в 1273 г., возобновили свои требования осудить покойного патриарха Иосифа, узурпировавшего, по их мнению, патриарший престол. Императору и новому патриарху Григорию Кипрскому пришлось созывать специальный церковный собор в Адрамиттии (1284 г.) для примирения боровшихся группировок.
Не желали сдаваться без боя и униаты. Непримиримый Векк уличил патриарха Григория в невежестве. Патриарх был вынужден удалиться в монастырь (1289 г.). С 1289 по 1320 г, в условиях незатухавшей внутрицерковной борьбы патриархи сменялись один за другим, бессильные восстановить мир внутри церкви.
Состояние византийской экономики было тяжелым. Непомерные траты предшествующих десятилетий и внутриполитические смуты окончательно подорвали благосостояние империи. Андроник решил распустить византийский флот и значительно сократить расходы на наемную армию. Это не замедлило сказаться на обороноспособности государства и повлекло за собой резкую перемену внешнеполитического курса.
Внешняя политика Византии при Андронике II потеряла ту целеустремленность и наступательный характер, какими она отличалась при Михаиле VIII. Действия Византии на ее западных рубежах чаще всего не преследовали иных целей, кроме сохранения статуса кво, или же носили оборонительный характер.
Впрочем, и Запад после крушения королевства Карла Анжуйского в сущности не предпринимал новых крупных попыток нападения на Византийскую империю. Неаполитанское королевство не имело сколько-нибудь значительного политического веса. Преемник Карла Анжуйского Карл II Неаполитанский должен был постоянно опасаться Сицилийского королевства, где обосновались ставленники Арагонского государства, которые в 1302 г. нанесли ему поражение
[246]. Планы Карла II в отношении Византии в этот период не шли далее попыток удержать за собой владения в Греции.
Старый враг Палеологов Иоанн Комнин Ангел предпринял, правда, попытку захватить Фессалонику и организовал с этой целью военный поход своего сына Михаила. Но Андронику II оказал помощь эпирский деспот Никифор, который пригласил к себе Михаила и коварно выдал его византийскому императору. Вскоре Андроник сумел закрепить за собой Фессалонику, заключив после смерти своей цервой жены Анны Венгерской брачный союз с Иолантой, дочерью маркиза Монферратского. Новая императрица, принявшая после брака с Андроником имя Ирины, обеспечила за Византией наследственные права на Фессалонику
[247].
Центром политических интриг против Византийской империи на рубеже XIII–XIV вв. стала Франция. После того как в 1291 г. с падением Акры Сирия и Палестина оказались в руках турок, претендовавший на руководящую роль в европейской международной политике французский двор вместе с папским престолом вновь подняли вопрос об организации крестовых походов на Восток. Восстановлению державы латинян в Византии и завоеванию Константинополя в этих планах, естественно, уделялось главное внимание. При дворе французского короля Филиппа IV Красивого вскоре возник проект брака брата короля — Карла Валуа и Екатерины де Куртене. внучки императора Балдуина II, носившей титул «императрицы константинопольской».
Незадолго до этого Франция энергично воспротивилась намерениям Андроника II женить на Екатерине де Куртене своего старшего сына и соправителя Михаила (IX)
[248]. Длительные переговоры византийского императора, желавшего с помощью этого брака нормализовать отношения между Византией и Анжуйским королевским домом, окончились безрезультатно, и Михаил женился на армянской принцессе Ксении, принявшей после свадьбы имя Марии. Папа Бонифаций VIII оказал деятельную поддержку французскому проекту, и в 1304 г. брак Карла с Екатериной де Куртене состоялся. Карл Валуа считался отныне на Западе законным претендентом на византийский престол.
Вскоре был задуман военный поход на Константинополь, подготовка к которому длилась в течение нескольких лет. Однако Карлу Валуа не удалось создать сколько-нибудь прочной военной коалиции против Византийской империи Его поддержали лишь папа Климент V, Венеция и сербский король Милутин. Через посредство сицилийского короля на службу к Карлу Валуа удалось привлечь наемное войска каталонцев, впрочем, не оправдавшее надежд организаторов похода. Неаполитанское королевство не примкнуло к союзу. Вскоре нереальность планов французского претендента на византийский престол стала очевидной. Венеция отказалась от участия в походе и предпочла в 1310 г. заключить с Византией перемирие. Карл Валуа, видя тщетность своих попыток, был вынужден отказаться от своих планов.
Впрочем, Запад вскоре выдвинул против Византии нового претендента. На этот раз им оказался Филипп Тарентский, сын Карла II Неаполитанского. Получив от отца наследственные права на латинские владения в Греции, Филипп настойчиво распространял здесь свое влияние. Заключив брак с дочерью эпирского деспота Никифора Тамар, Филипп вскоре выступил с притязаниями на Эпир и в 1295 г. занял этолийские города. Но его активность была вскоре нейтрализована действиями Византии, которая предприняла несколько военных экспедиций в Фессалию и Эпир. После смерти эпирского деспота Никифора его вдова Анна, стремившаяся помешать своему зятю утвердиться в Эпире, искала помощи у Византии. В результате вмешательства византийских войск продвижение Филиппа в Эпире было» приостановлено.
Успешный ход военных операций Византии против Филиппа в 90-х годах XIII в. был, однако, осложнен серьезной угрозой со стороны Сербии. В 1296 г. сербский король Милутин отнял у Византии Диррахий, возвращенный империей еще в 1291 г. Его войска далеко продвинулись в глубь Македонии. Андроник II предпочел мирный исход конфликта. Вопреки протестам константинопольского патриарха Андроник отдал в жены престарелому Милутину свою малолетнюю дочь от Иоланты-Ирины Симониду. Свадьба состоялась весной 1299 г. Милутин получил в приданое значительные территории к северу от Охрида, Прилепа и Штипа.
Между тем Филипп Тарентский продолжал свои действия в Греции. В 1306 г. он сделал правителем Афино-Фиванского герцогства своего ставленника Гвидо, который вскоре подчинил своей власти Фессалию, будучи опекуном внука Иоанна Комнина Ангела Иоанна II. Филиппу Тарентскому удалось захватить у сербов Диррахий и значительно упрочить свое влияние на Пелопоннес.
Вскоре Филипп Тарентский получил поддержку со стороны папского престола и Франции. Карл Валуа предложил Филиппу в жены свою дочь Екатерину, наследницу прав Балдуина на Византию. Филипп поспешил развестись с Тамар и вступить в новый брак (1313 г.), суливший ему заманчивые перспективы.
Однако честолюбивым замыслам Филиппа не суждено было сбыться, хотя он получил широкую денежную поддержку от папы, а французский король готов был предоставить ему необходимое для похода войско. Лишь в 1325 г. в результате похода его брата Иоанна удалось отвоевать у византийцев часть территории Эпира.
В те же годы империя оказалась втянутой в острый военный конфликт, вспыхнувший между двумя средиземноморскими соперниками — Генуей и Венецией. Андроник II, в противоположность своему отцу Михаилу VIII, умевшему использовать традиционные противоречия генуэзцев с венецианцами, отдавал решительное предпочтение Генуе, нуждаясь в помощи ее флота. Генуэзцы хозяйничали в северной части Средиземноморья, в Мраморном и Черном морях. В Крыму Генуя основала колонию Каффу и стремилась полностью монополизировать черноморскую торговлю, энергично вытесняя венецианцев
[249]. Утвердившись в Галате, Генуя фактически контролировала всю морскую торговлю между Средиземным и Черным морями.
Между тем положение Венеции в те же годы резко ухудшилось. С захватом турками Сирии и Палестины Венеция фактически лишилась огромного района в южной части Средиземного моря, где преимущественно концентрировалось ее влияние. В 1294 г. Венеция объявила Генуе войну, в которой генуэзцы первоначально одержали ряд побед. Но вскоре Венеция сумела взять реванш. Венецианский флот под командованием адмирала Моросини. войдя в Босфор, разграбил и сжег Галату. Генуэзские колонисты были вынуждены искать спасения за стенами Константинополя. Вслед за тем венецианский флот двинулся в Черное море и разрушил Каффу (1296 г.) Разгрому подверглись и принадлежавшие богатому генуэзскому роду Цаккариа квасцовые рудники в Фокее.
Византийский император поспешил вмешаться в конфликт. Греки арестовали венецианских купцов и наложили на них высокий штраф. Имущество живших в Константинополе венецианцев было конфисковано. Андроник потребовал у венецианцев возмещения ущерба, причиненного Галате. Венециано-генуэзский конфликт постепенно превратился в войну Византии с Венецией, тогда как генуэзцы, разгромив в 1298 г. в Адриатическом море венецианский флот, не замедлили заключить с Венецией мир.
В 1301 г. венецианский флот блокировал Константинополь и захватил ряд островов Архипелага. Андроник II был вынужден уплатить венецианцам 4 тысячи золотых в качестве выкупа за пленных византийцев и в 1303 г. подписал мир, который утверждал за Венецией ее старые торговые привилегии
[250].
Генуя не преминула воспользоваться благоприятными обстоятельствами и, добившись согласия византийцев, спешно отстраивала и укрепляла Галату. Вскоре напротив Константинополя вырос новый богатый генуэзский город-крепость, обнесенный мощными стенами с башнями и бойницами.
Тяжелые испытания этой войны значительно ослабили империю. Но подлинная катастрофа надвигалась на Византию с ее восточных рубежей, где к 1300 г. турки стали хозяевами положения.
Во второй половине XIII столетия в системе государственных образований турок — сельджуков в Малой Азии произошли большие изменения. Иконийский султанат Сельджукидов в результате глубокого внутриполитического и внешнеполитического кризиса, связанного с завоеваниями монголов в Малой Азии, к концу XIII в. фактически распался на ряд княжеств — эмиратов. В их число входил эмират, основанный одной из ветвей огузского племени тюрок — кайы, которые в связи с наступлением монголов на Среднюю Азию откочевали оттуда в количестве нескольких тысяч шатров и поступили на службу к иконийскому султану. Полученный от султана в 30-х гг. XIII в. эмират огузов — кайы лежал по соседству с Никейской империей, на р. Сангарий, к северо-западу от Дорилея.
Вождь кайы Эртогрул расширил территорию эмирата за счет греческих областей. Первоначально небольшое и экономически слабое княжество быстро усиливалось и стало ядром нового Турецкого государства при сыне Эртогрула Османе, по имени которого оно и получило свое название. Основатель новой династии турецких султанов Осман I Гази (1288–1326), продолжая завоевание византийских земель, еще более расширил территорию эмирата
[251]. В 1289 г. в его руках оказался Дорилей (Эскитерсир). В 1299 г., когда султан Алаеддин Кайкубад III бежал из Икония, спасаясь от гнева восставших жителей столицы, Осман фактически стал главой государства.
К началу XIV в. почти вся Малая Азия была потеряна. В руках императора оставались лишь Никея, Никомидия, Брусса, Сарды, Филадельфия, Магнисия, Ираклия и Смирна. Поход Михаила IX в 1302 г. в Магнисию окончился плачевно. Византийское войско было разбито, а Михаил должен был бежать в Пергам. В том же году предводитель турок и основатель новой династии Осман нанес грекам поражение под Никомидией.
Положение создалось угрожающее. Андроник II поспешил принять предложение предводителя наемного каталонского войска Рожера де Флора поступить к нему на службу против турок. Так началась «каталонская кампания», принесшая империи ромеев неисчислимые бедствия и разорение ее жизненно важных районов
[252].
Предки Рожера были немецкого происхождения и служили Гогенштауфенам. Свою подлинную фамилию Блюм Рожер переделал на испанский лад — де Флор. Тщеславный авантюрист, промышлявший в юности пиратством, но опытный в военном деле, Рожер де Флор в 90-х годах XIII в. возглавил войско наемников. Некоторое время он подвизался на службе при дворе короля Сицилии, которому оказал большую помощь в борьбе против Карла II Неаполитанского
[253].
Отряды Рожера комплектовались в основном за счет выходцев из Испании, морских пиратов, действовавших в Средиземном море, и кочевавшего по Европе разноплеменного воинства наемников, жаждавших легкой добычи. Основное ядро этих отрядов составляла испанская пехота, отличавшаяся высокими боевыми качествами.
После того как в 1302 г. военные действия между Сицилией и Неаполитанским королевством закончились мирным договором, войско Рожера оказалось без дела. С одобрения сицилийского короля, преследовавшего собственные цели, Рожер предложил свои услуги византийскому императору.
Андроник II согласился на все условия, выдвинутые Рожером: каталонцам было обещано большое жалование, их предводитель получал титул мегадуки и руку племянницы императора, дочери Иоанна Асеня III Болгарского.
Сицилия и Генуя помогли переправить войско каталонцев в Византию. В сентябре 1303 г. на византийской земле оказалось более б тысяч каталонских наемников. Вместе с сухопутным войском прибыл и флот Рожера, состоявший из 36 кораблей. Рожеру де Флору был оказан в Константинополе торжественный прием. Состоялась пышная свадьба.
Вскоре каталонцы были посланы Андроником против турок, наступавших на Кизичский полуостров, и одержали внушительную победу, разбив более чем 5-тысячную турецкую армию. Перезимовав в Артаки, Рожер де Флор весной 1304 г. выступил к осажденной Филадельфии и, освободив город от наседавших на него турок, двинулся на Нимфей, Магнисию, Эфес. Войско Рожера двигалось победным маршем, нанося туркам один сокрушительный удар за другим. Многотысячные турецкие орды стали откатываться в глубь Малой Азии, неся огромные потери. В результате предпринятого каталонцами наступления турки были изгнаны из прибрежных областей Малой Азии, из долины Меандра, из Фригии, Писидии и Ликаонии.
Однако ликование, охватившее византийцев при первых благоприятных известиях с Востока, длилось недолго. Вскоре оно сменилось глубокой тревогой. Воинственные пришельцы, не стесняясь, грабили страну, облагая жителей освобожденных от турок районов Малой Азии многочисленными поборами на содержание своей армии. Растущая враждебность греков к латинянам-каталонцам все чаще приводила к вооруженным столкновениям. Так было в Магнисии, где местные жители перебили каталонский гарнизон и захватили хранившиеся здесь деньги, военное снаряжение и продовольственные припасы наемников
[254].

Монеты: 1. Михаила VIII, 2–3, Михаила IX и Андроника II Палеологов. Лицевая сторона. Государственный эрмитаж (увеличено)
Опасаясь серьезных осложнений, Андроник в конце 1304 г. отозвал Рожера на Балканах якобы с целью организации похода в Болгарию. Вскоре отношения между императором и предводителем наемников обострились. Содержание каталонского войска требовало огромных средств. Только первый год пребывания каталонцев в пределах Византии обошелся правительству Андроника II в 100 тысяч золотых. Между тем требования каталонцев непрерывно возрастали. Рожер де Флор добивался у Андроника выплаты 300 тысяч золотых. Когда осенью 1304 г. в Византию прибыл новый отряд наемников, возглавлявшийся Беренгарием д'Эстенца, Рожер потребовал уплатить жалование вперед и вновь прибывшим. Финансовое положение империи вскоре оказалось критическим. Было сокращено жалование византийской армии, охранявшей западные границы империи, по всей стране собирались для переплавки золотые сосуды и утварь; порча монеты, к которой прибегал еще Михаил VIII, теперь достигла крайней степени
[255].
Вскоре императору стало известно, что Рожер строит планы похода против Константинополя. Эти планы явно поддерживались Арагонским королевством и Сицилией, откуда на помощь Рожеру двинулся с сицилийским флотом незаконный сын короля Арагона Фадрике.
В это же время в Константинополь пришло известие, что турки предприняли новое наступление на Филадельфию. Слабая, лишенная боеспособной армии и флота империя ромеев была вынуждена пойти на уступки каталонцам. Андроник II предложил Рожеру земли в Малой Азии, если тот вновь выступит против турок. Предводителю наемников было присвоено звание кесаря, а Беренгарий получил титул мегадуки. Каталонцам были выданы крупные суммы денег и большие запасы провианта. Вскоре в руках Рожера и его войска оказалась реальная власть на большой территории в Малой Азии. К ранее освобожденным от турок областям он прибавил Троаду и Мясию. Острова Архипелага находились под контролем его флота. Каталонцы сумели прочно обосноваться на Галлиполи. Положение было таково, что к началу 1305 г. на византийской территории возникло своеобразное каталонское княжество, пользовавшееся поддержкой Запада и откровенно враждебное Византийской империи.

Те же монеты. Оборотная сторона
В апреле 1305 г. Рожер де Флор, готовясь к новому походу против турок и желая обезопасить себе тыл, отправился в Адрианополь, в военный лагерь Михаила IX, где был принят с почетом. Однако во время пира предводитель каталонских наемников, снискавший в империи всеобщую ненависть, был убит. При явном попустительстве Михаила был перебит и сопровождавший Рожера военный отряд каталонцев.
Смерть Рожера повлекла за собой катастрофические для Византийской империи последствия. Беренгарий д'Эстенца, возглавивший каталонское воинство, поспешил направить в Константинополь послов с объявлением войны Андронику II. Жители столицы Византийской империи перебили обитателей испанской торговой колонии, погибли и послы Беренгария. Каталонцы в ответ уничтожили греческое население полуострова Галлиполи. Беренгарий во главе каталонской эскадры двинулся против Константинополя, истребляя все на своем пути. Он взял и сжег Ираклию, но вскоре генуэзский флот нанес поражение Беренгарию, который был взят в плен и отправлен в Геную
[256]. Неудача, однако, не сломила каталонцев. Во главе их сухопутных сил встал Рокафорте, имевший ставку в Редесто. В Галлиполи обосновались другие предводители наемников — Рамон Мунтанер, будущий историограф «великой кампании»
[257], и Фернанда Хименес. В 1307 г. в окрестностях Аира каталонцы разгромили византийскую армию под командованием Михаила IX, который был ранен и с трудом добрался до Дидимотики. Фракия жестоко была опустошена каталонцами.
В это время к ним подошли подкрепления: вместе с вновь прибывшими отрядами численность их войска по-прежнему превышала 6 тысяч человек. На помощь каталонцам прибыл с флотом инфант Арагона Фердинанд, вернулся из плена Беренгарий д'Эстенца. Но разоренная Фракия уже не могла прокормить многочисленное воинство, лишенное теперь византийского жалованья. Было решено двинуться в Македонию и захватить богатую Фессалонику. Однако в пути между предводителями каталонцев начались раздоры, доходившие до кровопролитных схваток. В одной из таких схваток погиб Беренгарий.
Инфант Фердинанд, главенство которого упорно не хотел признавать Рокафорте, должен был искать спасения на кораблях. Другой предводитель каталонцев — Хименес — предпочел перейти на службу к византийцам. Предводительствуемое Рокафорте войско каталонцев оккупировало в 1308 г. Халкидику и разгромило многие афонские монастыри
[258]. Вслед за тем каталонцы двинулись на Фессалонику, но получили отпор от византийского стратига Хандрина. В 1309 г. Хандрин вынудил их отправиться против латинских владений в Греции. Венеция и французские претенденты на греческое наследие взволновались. По их наущению против Рокафорте был поднят мятеж. Предводитель каталонцев был схвачен и отправлен в Неаполь, где погиб в темнице. Войско каталонцев ринулось в Фессалию, где в это время правил Иоанн II, внук умершего в 1296 г. Иоанна Комнина Ангела. Иоанн был бессилен дать отпор каталонцам, и они в течение целого года грабили страну.
Между тем правитель Афино-Фиванского герцогства Вальтер де Бриень решил использовать войска каталонцев для завоевания Фессалии. Весной 1310 г. по договору с Бриенем каталонцы явились к нему. В результате совместных действий войск Бриеня и отрядов наемников Фессалия в течение нескольких месяцев была покорена
[259].
Но избавиться от ставших теперь ненужными каталонцев Бриеню не удалось. Они не желали покидать богатых районов Средней Греции и требовали земель для поселения. Спор не замедлил вылиться в открытую войну, закончившуюся полной катастрофой для афинского герцога и призванных им на помощь французских союзников со всей Греции. В сражении, происшедшем 15 марта 1311 г. на р. Кефисе близ Копаидского озера, 15-тысячное войско Бриеня было разгромлено. Сам Вальтер де Бриень пал в бою
[260].

Икона «богоматерь с младенцем». Серебряный оклад с изображением Константина Акрополита и Марии Акрополитисы. Конец XIII — начало XIV в. Государственная Третьяковская галерея
Господство французов в Афинах и Фивах рухнуло навсегда. Центральной Греции возникло Каталонское княжество, признавшее вскоре вассальную зависимость от Сицилийского королевства
[261]. Власть испанцев сохранялась на этой территории около 80 лет.
Княжество каталонцев было источником постоянного беспокойства для своих соседей. Так, большую активность развивал присланный сюда в качестве наместника сицилийского короля его незаконный сын Фадрике, ранее помогавший Рожеру де Флору. Получив в результате женитьбы права на часть Эвбеи, Фадрике вступил в военный конфликт с Венецией, с трудом улаженный сицилийским королем. Флот Фадрике открыто занимался пиратством, подвергая разграблению многие острова Архипелага. В 1318 г., когда умер Иоанн II Ангел, не оставивший прямых наследников, Фадрике захватил Фессалию вместе с ее столицей Новыми Патрами.
Между тем Византийская империя, положение которой после ухода каталонцев значительно улучшилось, предприняла новые шаги для укрепления своих позиций на Пелопоннесе и в Эпире. Удалось осуществить важную реформу административной системы Морейского княжества. Византийские стратиги Морей, ранее ежегодно сменявшиеся, с 1308 г. стали назначаться на длительные сроки. Политическое влияние империи в Морее особенно усилилось после успешных военных операций стратига Андроника Асеня (1316–1321) (сына Иоанна III Асеня и Ирины, сестры Андроника II), отвоевавшего у латинян ряд районов Пелопоннеса.
Империя принимала меры и к усилению значения Монемвасии, которой были даны широкие торговые привилегии
[262]. Император ставил целью превратить этот порт в важнейший центр византийской торговли на Пелопоннесе в противовес венецианским торговым городам Корону и Модону.
Византия с успехом действовала и в Эпире, противодействуя притязаниям Филиппа Тарентского, захватившего Арту. Правитель Эпира Фома Ангел, женатый на дочери Михаила IX Анне, пользовался византийской поддержкой и с успехом сопротивлялся натиску Филиппа. Однако вскоре он был убит своим племянником Николаем Орсини, который стал правителем Эпира и вскоре женился на вдове Фомы. Военные действия продолжались. Византия овладела важнейшим торговым центром Эпира — Яниной, которой в 1319 г. хрисовулом Андроника II были даны значительные привилегии
[263].
Политика Николая Орсини была, однако, двойственной. Когда Филипп Тарентский занял остров Корфу и город Навпакт, а на севере назревал конфликт из-за Албании, которой угрожал сербский король, Николай пытался искать союза с Венецией. Потерпев неудачу, он вновь решил опереться на помощь Византии. Их объединенные действия сначала были успешными: в 1320 г. была взята Арта. Однако в Византии в это время разгорелось острое соперничество Андроника II со своим внуком, будущим императором Андроником III. Николай вновь обратился к Венеции и, изменив Византии, пытался взять Янину. Против него выступил его брат Иоанн, убивший Николая и в 1323 г. провозгласивший себя правителем Эпира. Янина, охраняемая византийскими войсками, осталась под властью империи.
Эти военно-дипломатические успехи были, однако, незначительными. После напряженных десятилетий правления Михаила VIII, когда была предпринята последняя попытка вернуть Византии былое влияние, империя вступила в полосу быстрого упадка.
Глава 6
Аграрные отношения в Византии XIII–XV вв.
(Ксения Владимировна Хвостова)
Характерной особенностью аграрного развития поздневизантийского периода было неуклонное возрастание роли феодального правопорядка. Многие феодальные институты: например иммунитет, прония, некоторые виды ренты — регламентировались вновь возникшими юридическими нормами; однако немало других сторон феодальных отношений находило оформление в старых нормах римского права. Например, юридический статус крупной вотчины, постепенно превращавшейся в феодальную сеньорию, определялся правовыми нормами, относившимися к римской квиритской собственности. В качестве регулятора аграрных отношений, прежде всего частноправовой эксплуатации крестьян, функционировало также обычное право. Византийский аграрноправовой строй отличался, таким образом, триализмом.
Византии XIII–XV вв. присуще наличие двух основных типов поземельной собственности. Один из них по своему юридическому статусу был генетически связан с позднеримской собственностью. Формирование другого типа относится к XII–XIII вв., и хотя его правовые особенности основывались в значительной мере на римских юридических традициях, они отражали в то же время существенные сдвиги в социально-политических и правовых отношениях. Первый тип собственности подразделялся на несколько видов. Большую роль играла полная частная собственность, аналогичная собственности ex
jure quiritum римского права, представленная собственностью свободных крестьян и крупной вотчиной, не обязанной какими-либо государственными службами. Наряду с этим существовали общинные земли, а также заброшенные (εξαλειμματα по терминологии поздневизантийских документов) и конфискованные земли, составлявшие собственность казны. Имелись также императорские домены, сохранились, хотя и в ничтожном размере, вплоть до позднего времени стратиотские наделы.
Если на протяжении веков византийской истории не изменилась система римской собственности (т. е. сохранились все виды собственности, известные античности), то значительные изменения претерпела ее структура, иными словами, существенно изменились степень распространенности отдельных видов собственности, а следовательно, и социальная роль этих видов в системе функционирования отношений собственности в целом.
Распространенность и социальная роль свободной крестьянской собственности сократились и, напротив, увеличились распространенность и социальная роль крупной вотчины, постоянный рост которой за счет мелкого землевладения — отличительная черта поздней Византии. Особенно значительным был рост монастырского землевладения, игравшего огромную роль в экономической жизни империи последних веков ее существования. Почти исчезло стратиотское землевладение, на смену которому пришла прония. Социальная роль собственности, генетически восходившей к позднеримской, изменилась не только благодаря сдвигам в ее структуре, но и вследствие появления новых форм общественного — государственного — ограничения собственности, которое не затрагивало ее правовой статус, а носило социально-политический характер. Некоторые виды подобного ограничения также были генетически связаны с античностью. К ним относятся многочисленные
jura in re aliena, главным образом сервитуты, а также требование наличия у собственников-горожан прав гражданства
[264].
Однако доминирующую роль в условиях византийского тоталитарного государства играли различные формы государственной регламентации собственности, государственного вмешательства в частноправовые отношения между собственником и зависимым населением. Некоторые из этих ограничений носили провизорный характер, другие имели распространение в течение длительного периода и были характерны, в частности, для поздневизантийского времени.
Огромная распространенность и важная социальная роль полной безусловной собственности — отличали Византию от средневекового Запада и Востока. На Западе доминировала иерархическая структура собственности, на Востоке большое значение имела государственная собственность на землю и специфические формы условного землевладения. Развитый институт частной собственности на землю определяет исключительное место Византии в средневековом мире.
Второй тип поздневизантийской собственности также характеризовался несколькими видами. Значительную роль в поздний период играла прония — временное земельное пожалование типа западноевропейского бенефиция. Как и бенефиций, прония представляла собой пожалование совокупности вещных и нетелесных прав: права на временное владение землей, на взимание налога, эксплуатацию крестьян и т. д. Пожалование вещных прав на землю всегда было существенным компонентом пронии, отличавшим ее от таких восточных институтов, как икта, тимар, джагир, которые юридически являлись пожалованием налога и только
de facto превращались в собственность. Прения являлась собственностью и
de jure, и
de facto. По юридической природе прения, как и стратиотское землевладение, близка к
dominium in duorum solidum римского права. В социально-экономических условиях Византии XII–XV вв. ирония выступала как форма феодального землевладения, так как ее экономическую основу составляла эксплуатация зависимого крестьянства как в форме взимания частноправовой ренты, так и в виде сбора государственного налога, пожалованного в порядке предоставления податного иммунитета.
Распространение пронии не только означало появление и развитие нового типа собственности, но и изменение как системы, так и структуры византийской собственности в целом. В системе византийской собственности появился новый существенный элемент, свидетельствовавший о серьезных социально-экономических сдвигах в обществе и о неуклонном правотворчестве этой эпохи. Изменения в структуре собственности, вызванные появлением иронии, связаны с признанием права верховной собственности государства на пожалованные в прению земли
[265]. До появления иронии право верховной собственности государства признавалось только в отношении стратиотского землевладения, которое в поздней Византии уже не играло сколько-нибудь серьезной роли.
Распространение пронии способствовало, таким образом, развитию идеи верховной собственности государства на земли подданных и означало упрочение элементов иерархической структуры собственности, элементов
dominium directum и dominium utile.
Ограниченная роль в империи до появления пронии права верховной собственности государя на земли подданных объясняется господством римской правовой доктрины юстиниановского периода. В этом отношении Византия отличалась как от государств Западной Европы в средние века, так и от стран средневекового Востока. На феодальном Западе признавалось право верховной собственности правителя на земли подданных, на Востоке в древности и средние века государственная собственность на землю господствовала, тогда как частное землевладение имело нередко весьма ограниченное распространение. Иерархическая структура собственности складывалась в Византии в формах, близких скорее к восточным, чем к западным образцам, поскольку процесс субинфеодации так и не получил в империи значительного распространения.
Другим видом второго типа византийской собственности, игравшим немалую роль в поздней Византии, была служилая вотчина. Этот вид собственности но социально-экономическому содержанию был аналогичен западноевропейскому феоду, но отличался от него по юридическому статусу. В отношении византийской служилой вотчины не признавалось, в
отличие от Запада, верховное право собственности государя.
Изменение системы и структуры поздневизантийских аграрных отношений по сравнению с более ранним периодом не только имело место в сфере отношений собственности, но коснулось других сторон аграрного строя. Так, в XIII–XV вв. существенно изменилась структура рентных отношений. Раньше в Византии было относительно слабым развитие форм частноправовой ренты, т. е ренты, возникавшей в данном владении под влиянием многих факторов и регламентируемой частным обычным правом. Преобладала рента публично-правового характера. Этот вид ренты происходил из переданного частному земельному собственнику в порядке пожалования податного иммунитета государственного налога, который после пожалования, становясь в социально-экономическом отношении феодальной рентой, продолжал оставаться в сфере публичного права. Размеры и формы взимания этого сбора определялись в соответствии с требованиями финансового публичного права. Государственные чиновники входили на территорию владений частных земельных собственников и составляли описи владений и доходов, называемые практиками.
Наличие в Византии ренты публичноправового характера отличало ее от феодального Запада, где доминировала частноправовая рента, и сближало со странами средневекового Востока. Распространение в Византии этого типа ренты объяснялось существованием сильной государственной власти и развитой налоговой системы. Те же факторы оказали влияние на структуру византийских практиков, которые отличались от западноевропейских описей прежде всего тем, что составлялись государственными чиновниками, в то время как на средневековом Западе составление описей было делом частной инициативы. По своему формуляру византийские практики восходили к позднеримским кадастрам. Этим объясняется неполнота сведений практиков о доходах землевладельца. В практиках записывались далеко не все его доходы, а только публичноправовая рента. Частноправовая рента не фиксировалась и регламентировалась обычаем. Это обстоятельство также отличало византийские практики от западноевропейских описей, в которых записывались все или во всяком случае большая часть основных доходов землевладельца. Одновременно византийские описи имели сходство с восточным типом соответствующих документов, для которых было характерно фиксирование только публичноправовой ренты и составление которых также являлось государственным делом.
Однако в позднее время роль частноправовой ренты в Византии значительно возросла, а значение ренты публичноправового характера снизилось. К сожалению, точное время изменения структуры рентных отношений неизвестно. Несомненен, однако, факт, что в поздне-византийский период публичноправовая рента составляла только меньшую часть получаемых частным земельным собственником сборов. Указанные в поздневизантийских практиках суммы доходов с домениальных земель разного качества, означавшие переданный частному земельному собственнику государственный налог, составляли лишь незначительную часть доходов земельного собственника. Основные доходы представляли собой ренту частноправового характера, однако они в силу особенностей формуляра практиков оставались незафиксированными и регламентировались обычаем.
Частноправовая рента в Византии состояла из барщины, исполняемой по обычаю
[266], и различного рода натуральных сборов. Изменение структуры рентных отношений к позднему времени произошло, по-видимому, не за счет увеличения этих видов ренты, а в силу перехода в некоторых случаях основного налога с крестьян — телоса, пожалованного частным земельным собственникам, из сферы публичного права в сферу частного. Этим изменениям подвергся телос, который взимался с париков, владевших незначительными земельными наделами (до 25 модиев).
Телос этой категории париков представлял собой поимущественный сбор. При определении его ставок учитывались размеры как движимого, так и недвижимого имущества, принималось в расчет и число членов семьи. Телос этого вида генетически восходил к
capitatio terrena и
capitatio animalium Диоклетиановой системы обложения. Однако, если на протяжении столетий в Византии и сохранились основные принципы обложения, характерные для Диоклетиановой налоговой системы, а именно учет как движимого, так и недвижимого имущества, то исчезли присущие этой системе четкие критерии приравнивания одних податных объектов к другим. Некоторое количество
jugum (ζυγον) приравнивалось по Диоклетиановой системе обложения к определенному количеству
caput.
В поздней Византии фискальные единицы
jugum и
caput не применялись. При определении ставок телоса, взимаемого с париков, имевших незначительные земельные наделы, ценность отдельных видов имущества устанавливалась податными чиновниками весьма приблизительно. Денежной оценки имущества не производилось. Не существовало какой-либо строгой зависимости между величиной различных видов имущества и размером подати. Отсутствие четких критериев при сопоставлении ценности отдельных объектов обложения означало отсутствие строго фиксированных норм обложения.
Сопоставление практиков Ивирского монастыря, относящихся к одним и тем же владениям, но составленных в разное время, показывает, каким образом регламентировался телос париков, обладавших небольшими земельными наделами. Иногда по истечении некоторого времени между составлением двух практиков телос изменялся в соответствии с изменениями в размерах имущества. Наряду с этими, так сказать, закономерными изменениями нередки случаи, когда изменения телоса были прямо противоположны изменениям в имуществе, т. е. телос увеличивался при уменьшении имущества и наоборот. Иногда телос изменялся при неизменном имуществе. Бывали случаи и сохранения ставки телоса стабильной, несмотря на изменения в размерах имущества
[267].
Колебания телоса, не соответствовавшие изменениям в размерах имущества, показывают, что ставки его устанавливались государственными чиновниками в значительной мере по их собственному усмотрению. Подобный способ регламентации телоса данной категории париков открывал возможность для превращения ренты из публичноправовой в частноправовую. Поскольку чиновник при определении податной ставки не руководствовался определенными, государством установленными нормами обложения, он имел возможность в зависимости от ряда обстоятельств учесть потребности или данного парического хозяйства, или интересы землевладельца, или практику налогообложения предшествующих лет. Иными словами, чиновник иногда устанавливал налоговую ставку, отвлекаясь от публично-правовых отношений и руководствуясь сугубо частновладельческими интересами. В таком случае при регламентации ренты мог возникнуть прецедент частного права. При повторении подобных случаев рента переходила из сферы публичного права в сферу частного. Это имело место, например, в случаях сохранения уровня телоса при изменениях в размерах имущества.
Телос париков, имевших небольшие земельные наделы, переходивший частично или полностью в сферу частного обычного права, существенно отличался от основных видов западноевропейских обычных рент. На Западе они представляли собой поземельные ренты, движимость при их взимании не учитывалась. Телос же, регламентировавшийся обычаем, являлся поимущественным сбором. Обычай в Византии при обложении телосом проявлялся по-иному, чем при взимании основных видов поземельных рент на Западе. На Западе при взимании этих рент типичным было сохранение неизменными размеров сборов с определенного земельного надела иногда на протяжении целых столетий. В Византии же обычай проявлялся в сохранении неизменных податных ставок при изменении размера имущества. Те виды телоса, которые регламентировались обычаем, приближались по типу к западноевропейским рентам, называемым подворными и подымными, так как эти ренты взимались независимо от размеров имущества
[268].
Тенденция к превращению телоса в подать типа подворной или подымной содержала в Византии антикрестьянскую направленность. Сопоставление сведений практиков Ивирского монастыря от 1317 и 1321 гг. показывает, что из 27 случаев сохранения телоса в 1321 г. на том же уровне, что и в 1317 г., несмотря на изменение размеров имущества, в 17 случаях наблюдалось сокращение размеров имущества, т. е. сохранение прежней величины телоса означало здесь повышение нормы эксплуатации
[269]. Антикрестьянский характер обычая в Византии отличал его от обычая на Западе, где регламентация крестьянских повинностей посредством обычая была в общем и целом в интересах крестьян.
Что же касается париков, которые владели земельными наделами, превышавшими 25 модиев, то при их обложении телосом налоговые ставки определялись в соответствии с величиной этих наделов. При этом применялись определенные, государством установленные нормы, составлявшие один иперпир с 25–100 модиев земли в зависимости от ее качества. Такие же нормы применялись и при обложении домениальных земель. Наличие строгих, государством установленных норм обложения париков, обладавших значительными земельными участками, составляло необходимое условие удержания пожалованного земельному собственнику телоса этой категории париков в сфере регламентации публичного права, хотя тел ос в данном случае превратился в феодальную ренту. Однако большинство париков в поздней Византии имело небольшие земельные наделы, поэтому тенденция к превращению ренты из публичноправовой в частноправовую получила значительное распространение. Изменение структуры рентных отношений, выразившееся в увеличении социальной роли частноправовой ренты, свидетельствовало о приближении византийских рентных отношений к их западноевропейскому типу. Развитие же форм частноправовой ренты неотделимо от узурпации частным земельным собственником элементов публичной власти и свидетельствует об усилении внеэкономического принуждения, об интенсификации процесса феодализации в Византии XIII–XV вв.
Некоторые западные исследователи отрицают феодальный характер развития Византии и расценивают византийский общественный строй (в том числе и аграрный) как прямое продолжение античных общественных порядков. Эти исследователи понимают под феодализмом совокупность определенных политических и правовых отношений
[270]. Бесспорно, в правовом и политическом развитии Византии наблюдается преемственность элементов античности, хотя наряду с этим возникали новые правовые и политические феномены. Марксистская историография понимает под феодализмом систему общественных отношений, для аграрноправовой структуры которых характерен особый тип рентных отношений, проистекающих не только из поземельной, но и из внеэкономической зависимости. Наличие такого рода рентных отношений в Византии бесспорно, поэтому, с точки зрения марксистской историографии, нет никакого сомнения в существовании феодализма в Византии. В то же время феодальные отношения в Византии отличались большим своеобразием, медленными темпами развития, неполнотой и незавершенностью, обусловленной в основном таким фактором, как наличие сильной государственной власти, ограничивавшей экономические и правовые прерогативы крупных собственников и препятствовавшей окончательному оформлению экономической и судебно-административной структуры крупной вотчины, которая осуществляла внеэкономическое принуждение крестьян. Сохранение ренты публичноправового характера, несмотря на постепенное ее сокращение, — одно из проявлений незавершенности процесса феодализации.
К поздневизантийскому периоду оформились некоторые изменения в системе налогообложения, а следовательно, и в системе ренты публичноправового характера, возникавшей из соответствующих налогов. Известно, что по Диоклетиановой системе имущество крупных земельных собственников целиком подлежало обложению, т. е. подать взималась как с земли, так и с движимого имущества. Однако в XIV в. из имущества, находящегося в непосредственном распоряжении крупного землевладельца, обложению подлежала только земля; движимое имущество не учитывалось. Подать принимала, таким образом, сугубо поземельный характер. Что же касается париков и непривилегированного сословия свободных крестьян, то они уплачивали, как и в позднеримский период, подушно-поимущественную подать со всего имущества, находящегося в их распоряжении, — как движимого, так и недвижимого. Для поздневизантийских аграрных отношений было характерным, таким образом, распространение сословного, феодального принципа обложения.
К позднему времени относится оформление основных социально-экономических и юридических особенностей в положении класса зависимых крестьян — париков. В отличие от предшествующего периода в источниках этого времени не встречаются термины «дулевт», «дулопарик», обозначавшие определенные категории зависимых крестьян, генетически связанных с рабами. Термин «проскафимен» обозначал и в XIII–XV вв., по-видимому, категорию крестьян, с момента поселения которых на территории данного земельного владения не прошло 30 лет (срок, по истечении которого, согласно римской традиции, владение становилось наследственным). Однако нет никаких сведений о том, что формы эксплуатации проскафименов отличались от форм эксплуатации париков. Происходил процесс исчезновения граней между различными группами зависимого крестьянства, которое в позднее время стало сравнительно однородной категорией. Характерной чертой положения зависимого крестьянства, признаком парикии было исполнение барщины. В отличие от Запада, в Византии отсутствовали крестьянские наделы разного юридического статуса. Более того, юридический статус зависимого держания вообще не был в Византии столь определенным, как на Западе. Характерно, что в Византии не существовало резкой грани между домениальными землями и паричскими наделами. Домениальная земля могла быть свободно передана в держание.
В положении поздневизантийских париков наблюдаются как черты преемственности с предшествующим периодом, так и новые явления. Как и ранее, парики владели землей
alieno nomine, т. е. на правах не юридического, а физического владения, и не имели
animus possidendi[271]. Являясь фактическими владельцами своих наделов, парики могли вчинять владельческие иски, в том числе и собственнику земли
[272].
Парики имели право наследственного владения землей, однако они не могли отчуждать землю без разрешения собственника. Выморочное имущество париков переходило господину
[273]. Парики подразделялись на две группы: государственных и частновладельческих. Государственные сидели на землях, принадлежавших казне, и платили государственные налоги, а также выполняли парические повинности, прежде всего — отработочные
[274]. Государство нередко жаловало населенные париками земли в частную собственность; в таком случае парики превращались в частновладельческих
[275]. Частновладельческие парики также платили государственные налоги, однако эти налоги в результате пожалования податного иммунитета нередко передавались земельному собственнику и иногда переходили в сферу регламентации частного права. Наряду с этим частновладельческие парики исполняли и иные повинности, носившие частноправовой характер. В источниках телос, пожалованный частным земельным собственникам, противопоставляется иногда десятине и другим сборам, составлявшим частноправовую ренту
[276]. Таким образом, положение частнозависимых и государственных париков не было идентичным
[277], оно различалось по характеру эксплуатации. В позднее время парики были прикреплены к земле. В ивирских практиках говорится о праве земельного собственника возвращать беглых париков
[278].
В XIII–XV вв. происходило дальнейшее развитие византийского иммунитета, который, формируясь в условиях централизованного государства с огромным диапазоном социальной активности и разветвленной налоговой системой, отличался от западноевропейского. В системе иммунитетных привилегий в Византии доминирующую роль играли податные привилегии, а не судебные и административные, как на Западе. Преимущественное развитие податного иммунитета в Византии непосредственно связано с существованием на протяжении всей византийской истории разветвленной системы налогов.
Судебный и административный иммунитет до конца существования Византии в целомтак и не достиг той стадии, на которой находился западноевропейский иммунитет. В силу этого иммунитетный район лишь в отдельных случаях превратился в Византии в замкнутый автономный округ, являвшийся как бы государством в государстве. Недостаточное развитие административного иммунитета проявлялось, в частности, в том, что государственные чиновники, составлявшие описи, могли регулярно входить на территорию частных земельных собственников. В иммунитетных формулах жалованных грамот, правда, иногда оговаривалось, что чиновники могут входить только с разрешения частных земельных собственников, однако такое разрешение всегда давалось, так как составление описей, в котором частные земельные собственники были заинтересованы, было государственным делом. Постоянный вход чиновников на территорию частных земельных собственников, бесспорно, препятствовал формированию частного фискально-административного аппарата, что, в свою очередь, задерживало развитие внеэкономического принуждения, а следовательно, тормозило процесс феодализации.
Податные привилегии, составлявшие основной компонент иммунитета, в XIII–XV вв. постепенно расширялись. В позднее время, в отличие от предшествовавшего периода, иммунист, как правило, освобождался от уплаты основного налога — телоса. Телос обычна не упоминается в освободительных формулах поздневизантийских хрисовулов. Особенность этих формул состояла в том, что в них содержался перечень только тех налогов, освобождение от которых было особой милостью и давалось редко
[279]; налоги, от уплаты которых иммунист, как правило, освобождался, в грамотах не перечислялись, так как освобождение от этих налогов перестало быть привилегией, а являлось установившейся нормой. В хрисовулах же, в силу самого характера этих документов, фиксировались только привилегии.
Особенностью правового регламентирования иммунитета в поздней Византии являлась неполнота и неточность иммунитетных формул хрисовулов, т. е. неадекватность юридических норм реальным отношениям. Так, в иммунитетных грамотах нередко говорится об освобождении иммуниста от всех налогов и сборов, но это не означало, что иммунист вовсе ничего не должен был уплачивать в казну. Иногда, несмотря на такую формулировку, он должен был уплачивать ряд косвенных налогов, которые государство, как правило, удерживало за собой и освобождение от которых жаловалось в порядке исключения только очень влиятельным собственникам
[280].
Наряду с существенными изменениями в структуре и системе поздневизантийских аграрных отношений можно отметить и ряд стабильных черт, свидетельствовавших о преемственности ряда аграрных институтов более раннего времени. В поздней Византии продолжало существовать свободное крестьянство, владевшее землей на правах полных собственников и платившее государственные налоги
[281]. Свободные крестьяне, в отличие от государственных и частновладельческих пари ков, владели землей
suo nomine и были свободны от выполнения паричских повинностей. Кроме того, они были юридически полноправны и не находились под властью или патронатом какого-либо физического или юридического лица
[282].
Сохранение свободного крестьянства до конца истории империи составляло особенность византийского общественного строя. В значительной мере эта особенность объясняется тем, что государственная власть в Византии не носила патримониального характера. Верховное право собственности государя на все земли подданных не признавалось. Поэтому в отличие от Запада свободные села в Византии не могли жаловаться частным лицам. Жаловались казенные земли с государственными париками, пустоши, которые разрешалось заселить пришлыми людьми, владения, находившиеся до этого в собственности прониаров
[283].
Развитие аграрных отношений в Византии XIV–XV вв., в отличие от города, переживавшего упадок, вплотную подошло к появлению элементов предкапиталистических отношений. Различные факторы: длительное преобладание денежной ренты, наличие развитых в торговом отношении центров, изменение в направлении внешней торговли, превратившее Византию в страну, вывозившую сельскохозяйственные продукты, — должны были благоприятствовать эволюции аграрного строя в этом направлении. В XV в. появилась предпринимательская аренда. Ивирский монастырь сдавал некоторые свои владения крупным арендаторам, которые проводили мелиоративные работы, и сдавали, в свою очередь, арендованную землю мелким субарендаторам, вдвое увеличив арендную плату. Повышение арендной платы в связи с увеличением доходов, получаемых с земли, свидетельствует о появлении начальных форм характерных для капитализма взаимоотношений. Однако единичность подобных сведений источников не позволяет судить о степени развития этих явлений.
Рассмотрение византийского аграрного строя не может быть ограничено только характеристикой социально-экономических и правовых отношений. Огромное социальное значение имела активная экономическая политика византийской государственной власти. В поздней Византии эта политика проявлялась, в частности, в земельных пожалованиях, которые были особенно щедрыми по отношению к монастырям и церквам. Рост монастырского и церковного землевладения был чрезвычайно бурным в XIII–XV вв. Правда, он происходил не только за счет императорских пожалований. Немалую роль играли частные пожалования как из религиозных, так и иных побуждений, передача земли по завещанию, а также скупка монастырями земель и привлечение на них зависимого населения. Быстрый рост монастырского землевладения являлся неотъемлемым и важным элементом процесса феодализации в Византии. Наряду с этим земельные владения жаловались и прониарам. Нередко земли отбирались у прониаров и передавались монастырям, но иногда, напротив, рост прониарского землевладения происходил за счет монастырского
[284]. Иными словами, в сложной экономической и политической обстановке, в условиях обострившейся угрозы турецкой экспансии государственная власть вела политику лавирования между отдельными социальными группами.

Монастырь Пантанассы. Мистра. Первая половина XV в.
Столь же двойственной была политика государства, направленная на раздачу иммунитетных привилегий. В основном придерживаясь курса на их расширение, государство нередко, переживая серьезные финансовые затруднения, было вынуждено отбирать эти привилегии. Особенность государственной аграрной политики составляли также сложные формы регламентирования рентных отношений, выразившиеся в сохранении форм публичноправовой ренты.
Наличие в Византии централизованной государственной власти, проводившей активную экономическую политику, играло двоякую роль в развитии феодализма. С одной стороны, государственная политика способствовала феодализации: огромные земельные пожалования и раздача иммунитетных привилегий составляли необходимый элемент развития феодальных отношений. С другой стороны, вмешательство государственной власти в частновладельческие отношения, сохранение в руках государства ряда экономических и правовых прерогатив и в отношении крупных вотчин, возможность императора отбирать дарованные привилегии и даже конфисковать земельные владения — все это содействовало незавершенности процесса феодализации, составляло специфику византийских феодальных отношений в сравнении с западноевропейским типом и свидетельствовало о его известном сходстве с феодализмом на Востоке.
Итак, византийский аграрный строй — явление сложное и противоречивое. Одни византийские аграрные институты обнаруживали сходство с аналогичными западноевропейскими, тогда как другие — с восточными. Некоторые институты византийского аграрного строя отличались индивидуальными, специфическими чертами, значительное своеобразие которых объясняется или особенностями византийского общественного развития, или генетическими связями с античными аграрноправовыми отношениями.
Византийский аграрный строй находился в стадии непрерывного развития, которое проявлялось как в области социально-экономических отношений, так и в сфере их правового оформления. В то же время эволюция социально-экономических отношений происходила несравненно более быстрыми темпами по сравнению с эволюцией правоотношений, которые отличались значительной стабильностью, связанной с функционированием на протяжении всей византийской истории римского правопорядка. Однако и стабильность правовых отношений была относительной: в XIII–XV вв., как и в более ранний период, имело место активное аграрное правотворчество. В целом византийское аграрное право отличалось сложностью и триализмом.
Эволюция аграрных отношений в Византии происходила по пути приближения к западноевропейскому типу феодальных отношений. Однако вплоть до политической гибели империи эта эволюция осталась незавершенной, равно как и сам византийский феодализм отличался чертами незавершенности.
Глава 7
Города, ремесло и торговля в поздней Византии (XIII–XV вв.)
(Раиса Анатольевна Наследова)
После подъема города в X в., когда Константинополь занимал положение мирового торгово-ремесленного центра, после расцвета в XI–XII столетиях провинциальных городов (Коринфа, Фив, Никеи и др.) византийский город вступает в период захирения и упадка, длившийся вплоть до падения самой Византийской империи.
Причины слабости города в эти последние века существования империи сложны и многообразны. Они крылись в замедленности социально-экономического развития Византии, в господстве феодалов над городом, во все возраставшем подавлении экономики империи иностранным купечеством, в чрезвычайно тяжелой для Византийского государства внешнеполитической обстановке.
В результате крестовых походов, позволивших западноевропейским купцам завязать непосредственные связи со странами Востока, и — что еще важнее — в результате начавшегося со времен Алексея I Комнина утверждения в Константинополе итальянцев, в первую очередь венецианцев, столичное купечество теряло свое монопольное положение в посреднической торговле между Востоком и Западом.
Однако вплоть до Четвертого крестового похода Константинополь еще оставался крупнейшим и богатейшим городским центром, намного превосходившим города Западной Европы.
Французский историк того времени Виллардуэн, оставивший описание завоевания Константинополя в 1204 г. крестоносцами, отмечал, что когда войска крестоносного ополчения увидели со своих кораблей византийскую столицу, они не могли поверить, что на свете может существовать такой большой и богатый город. По его утверждению, во время осады Константинополя в нем от пожаров «сгорело домов больше, чем имеется в трех самых больших городах королевства Франции»
[285]. Захваченная крестоносцами в Константинополе добыча «была столь велика, что ее не могли сосчитать. Она заключала в себе золото, серебро, посуду, драгоценные камни, парчу, одежды из шелка, беличьего и горностаевого меха и все, что есть прекрасного в мире»
[286].
После разгрома и разграбления крестоносцами Константинополь, в течение столетий олицетворявший силу, богатство и престиж Византийской империи, навсегда потерял свой прежний блеск. Многие дворцы и церкви превратились в груду развалин; те, которые уцелели, в частности знаменитый храм Софии, подверглись варварскому ограблению; украшавшая их церковная утварь — предметы искуснейшей работы столичных ювелиров — была перевезена на Запад.
Та же участь постигла и некоторые сохранившиеся после погрома памятники античного искусства. Ипподром был опустошен и заброшен, библиотеки уничтожены. Городские стены и укрепления были полуразрушены, повсюду чернели огромные пустыри, простиравшиеся на целые кварталы.
Разорение Византийской империи крестоносцами и постоянные войны, полыхавшие на Балканах в XIII столетии, тяжело отразились на экономике городов, которые неоднократно переходили из рук в руки, подвергаясь каждый раз грабежам и разрушениям.
В течение всего периода существования Латинской империи полновластным хозяином морских торговых коммуникаций Византии была Венецианская республика. Эпирское царство и Никейская империя постоянно подвергались ее экономическому нажиму. Летом 1228 г. при столкновении с завладевшим Фессалоникой эпирским правителем Феодором Ангелом Венеция пустила в ход неоднократно применявшееся ею и впоследствии средство: она прекратила ввоз товаров во владения Ангела, а также вывоз их оттуда. Эпирские деспоты вынуждены были предоставлять то венецианцам, то дубровчанам, то тем и другим вместе право торговать на всей территории государства, взимая трехпроцентную пошлину
[287].
Лишь в случае неурожая иностранцам был запрещен вывоз хлеба из страны
[288].
Венецианцы приобрели исключительные права и на рынках Никейской империи. В 1219 г. Венеция заключила с Феодором Ласкарисом договор, предоставлявший венецианцам право на беспошлинную торговлю. Торговцы Никейской империи, наезжавшие в Константинополь и в другие места, подвластные венецианцам, должны были, напротив, уплачивать установленную для иностранцев пошлину
[289]. Стремясь ограничить конкуренцию иностранного купечества, поднять местное текстильное производство, преемник Феодора Иоанн III Ватац запретил своим подданным, под угрозой лишения прав и состояния, покупать итальянские, «ассирийские» и «вавилонские» ткани, а довольствоваться тем, что «производит земля ромеев и умеют приготовлять руки ромеев»
[290]. Однако промышленная гегемония Византии была уже настолько сильно подорвана, что эти мероприятия Ватаца не могли оказаться в достаточной степени эффективными; иностранные товары продолжали проникать на рынки Никейской империи, тогда как предметом ее вывоза являлась преимущественно сельскохозяйственная продукция.
Значительно лучшие условия для развития ремесла и торговли — как в период существования Латинской империи, так и после ее крушения — создались на самой дальней восточной окраине Византии — в Трапезундской империи. Разгром монголами в середине XIII в. Багдадского халифата повлек за собой запустение древних торговых путей по Тигру и Евфрату, и Трапезунд, издавна служивший общим рынком для товаров, поступавших из Византии, Кавказа, Руси, Сирии, Месопотамии и других восточных стран, стал важнейшим пунктом в торговле между Востоком и Западом. Хотя генуэзские и венецианские купцы добились получения привилегий и в Трапезундской империи, отдаленность Трапезунда обусловила менее сильное их воздействие на его торговлю и ремесло.
Трапезундские золотые монеты получили широкое распространение на Востоке. В Грузии трапезундские «кирмануели» стали синонимом денег
[291].
Трапезундская империя осталась, однако, после падения Латинской империи независимым государством, и дальнейшее развитие ее экономики шло своим особым путем.
Восстановленная в 1261 г. в сильно урезанном виде, Византийская империя оказалась лишенной многих своих областей с их важнейшими городами: помимо Трапезунда и других городских центров Трапезундской империи, в Малой Азии были потеряны Синоп и Атталия; в составе латинских владений остались Средняя Греция с Афинами и Фивами, Пелопоннес с его крупнейшим городом — Коринфом; города Эпира входили в Эпирское царство. Возвращение в конце XIII и в первой половине XIV в. под власть империи некоторых областей и городов на Балканах мало что изменило по существу в этой общей картине.
Условия для развития ремесла и торговли в возрожденной Византийской империи, несмотря на ряд положительных тенденций, были крайне неблагоприятными.
Естественный процесс экономического развития вызывал распадение империи на обособленные в хозяйственном и политическом отношении мирки, ускорившееся при латинском господстве. Освобождение провинциальных городов после падения Константинополя от непрерывного и изнурительного контроля и тяжелых государственных налогов могло способствовать подъему городской экономики. Рост самостоятельности городских центров и влияние порядков западноевропейских городов-коммун и городов-республик усиливал тенденцию к развитию городского самоуправления. Некоторые города уже в 1204 г. добились от латинских завоевателей предоставления им прав на самоуправление
[292]. После присоединения Монемвасии император Михаил VIII, а позднее Андроник II и Андроник III подтвердили право жителей этого города на самоуправление
[293]. В 1319 г. известные права самоуправления были пожалованы зятем императора Андроника II Сиргианом Янине
[294]. Адрианополь, Веррия, Мельник также имели муниципальные вольности и привилегии
[295]. Значительными правами самоуправления пользовался и крупнейший город империи — Фессалоника, которая имела свой городской закон (πολιτιχος νομος).
Главным органом управления являлся сенат, состоявший из представителей знати и богатейших горожан. Во главе его в 40-х гг. XIV в. стояли два архонта, один из которых являлся императорским наместником, а другой избирался жителями города. В особо важных случаях созывалось народное собрание (см. гл. 9)
[296].
Однако все эти тенденции не привели к подъему поздневизантийского города, ибо господствующее положение в городском управлении занимала, как правило, феодальная знать
[297]. В отличие от западноевропейских городов, которые добились самоуправления, льгот и привилегий в процессе укрепления своей экономики и в упорной борьбе с феодалами, византийские города приобрели известную самостоятельность тогда, когда они оказались под властью феодалов: феодальная византийская знать, жившая в городах, захватила в свои руки политическую власть, отведя представителям местного купечества и предпринимателям второстепенную роль. Феодалы, заинтересованные в закупке у итальянского купечества предметов роскоши и в сбыте на Запад сельскохозяйственной продукции своих поместий, превращали Византию в поставщика сырья для итальянских республик и препятствовали развитию ремесла и созданию сильного купеческого сословия. Оказавшись под безраздельной властью феодалов, захвативших господство на местных рынках, города постепенно превратились в место сбыта главным образом сельскохозяйственных продуктов, все более утрачивая способность успешно противостоять проникновению итальянского купеческого капитала.
Попытка, предпринятая во время гражданской войны 1342–1347 гг. торгово-предпринимательскими кругами Фессалоники (поддержанными той незначительной частью феодальной верхушки, которая и в XIV в. была связана главным образом с централизованной формой эксплуатации), вырвать управление городом из рук крупной землевладельческой знати окончилась неудачей; центральная власть не оказала Фессалонике должной поддержки, а иноземные войска турок и сербов изолировали ее от других областей и городов страны.
Константинопольские торгово-ремесленные корпорации, стесняемые мелочной и крайне консервативной регламентацией, а также экономической политикой византийского правительства, диктуемой интересами крупных феодалов, не выдерживали конкуренции итальянского купечества; некоторые из них, очевидно, распались (в первую очередь это должно было коснуться корпораций, ведавших обработкой шелка и продажей шелковых тканей и одежд), некоторые очень ослабли
[298]. По-видимому, сильно подорвана была корпоративная организация ремесла и торговли также в провинциальных городах, хотя некоторые корпорации, например в Фессалонике, существовали и в XIII–XIV вв.
[299]

Глиняная поливная чаша с изображением соколиной охоты. Государственный Эрмитаж. XIII в.
Ослабление корпоративной организации ремесла и торговли являлось признаком слабости византийских городов в последние века существования Византии. В то время как на Западе разложение цехового строя было связано с переходом к новой, высшей ступени организации производства и его гибель происходила в острой борьбе с раннекапиталистическим предпринимательством, в Византии корпоративное устройство стало разлагаться, когда внутри страны еще не появилось условий для развития нецехового ремесла и торговли.
Товарное производство Византии обнаружило свою слабость уже на первых этапах конкуренции с Западом и не выдержало ее. Уровень ремесленной техники стал постепенно снижаться.
Экономические позиции итальянских купцов после восстановления Византийской империи не только не были поколеблены, но даже упрочились. Правда, союз, заключенный Михаилом Палеологом с Генуей для отвоевания Константинополя, повлек весьма существенное ущемление интересов венецианцев как в самой столице, так и в других владениях империи. Однако их первенствующее положение в византийской торговле немедленно заняли генуэзцы, которым были предоставлены еще более широкие привилегии, чем те, какими прежде пользовались венецианцы. Генуэзские купцы получили полную свободу беспошлинной торговли во всех подвластных империи землях. Генуэзская республика добилась разрешения иметь свои кварталы в наиболее значительных торговых центрах империи: в Константинополе, Фессалонике, Смирне, Адрамиттии, Ани, на островах Крите, Эвбее, Лесбосе, Хиосе. В 1290 г. в Константинополе возникла колония каталонцев, причем каталонские купцы получили право свободной торговли в империи. В 1320 г. Андроник II снизил пошлины для испанских купцов с 3 до 2 %, т. е. предоставил им такие льготы, какими обладали пизанцы, флорентийцы, провансальцы, анконцы и сицилийцы. В 1322 г. он возобновил старые привилегии дубровчан, а в 1324 г. — венецианцев. Венеции было дано также право продавать в империи, кроме столицы, хлеб Причерноморья. Через 7 лет договор с венецианцами был продлен Андроником III, который заключил торговое соглашение и с нарбоннскими купцами, установив для них пошлину в 4 %.
В то же время торговые привилегии византийским городам (например привилегии Монемвасии, дарованные в 1332 г.) были редким исключением.
Почти весь XIV век проходит под знаком явного господства в экономической жизни Константинополя Генуэзской республики, положение которой особенно окрепло после того, как Михаил Палеолог уступил ей Галату
[300]. Превратив этот пригород Константинополя в мощную крепость и крупный порт, Генуя, пользуясь предоставленным ей правом беспошлинного плавания в Черном море, а также запретом (хотя и кратковременным) проходитьв него всем другим итальянским судам, кроме судов дружественных империи пизанцев, поставила под свой контроль всю ввозную торговлю на Черном море и проливах. Черноморские порты, которые именно в это время, в связи с переходом последних остатков основанных крестоносцами сирийских государств под власть египетского султана и усилившимся наступлением турок в Малой Азии, стали приобретать особенно важное значение, почти целиком попали в руки итальянского купечества. Основание гэнуэзских, а затем и венецианских колоний на берегах Азовского и Черного морей (в Тане и Каффе) сделало их господами всей северочерноморской торговли.
Постепенно генуэзцы, па свидетельству Никифора Григоры, «завладели благосостоянием византийцев и почти всем доходом, поступающим с моря». Их закрепление в Галате привело к резкому падению торгового значения самого Константинополя. По данным того же историка, таможенные доходы Галаты достигали в середине XIV в. 200 тысяч золотых, в то время как византийское правительство с трудом получало от аналогичных сборов в столице 30 тысяч золотых
[301]. К середине XIV в. Галата, достигнув прочного экономического и политического положения, превратилась как бы в государство в государстве.
Во главе ее стоял подеста, который назначался из Генуи. Его власть распространялась на всех живших в Византии гэнуэзских граждан. При нем имелось особое торговое ведомство, следившее за соблюдением таможенных правил.
Опираясь на Галату, генуэзцы стремились полностью вытеснить Византию с торговых морских путей. «Задумали они не малое, — писал Иоанн VI Кантакузин в своих мемуарах, — они желали властвовать на море и не позволяли византийцам плавать на кораблях, как будто море принадлежит только им»
[302].
Развитие ремесленного производства в городах Западной Европы и крепнувшая мощь итальянских республик, через которые осуществлялась в основном торговля между Востоком и Западом и которые с 1204 г. стали главными посредниками и в средиземноморской торговле, подавляли византийскую экономику. Византия не только сократила до минимума вывоз за границу продукции своего ремесленного производства, но даже внутри страны изделия византийского ремесла стали уступать место иноземным товарам. Продукция европейского текстильного производства, в особенности фландрские сукна и венецианские шелковые ткани, вытесняла с рынка более дорогие византийские ткани.
Никифор Григора писал, что предпочтение греков носить не свою, а иностранную
одежду, доходило в столице до смешного: на улицах невозможно было отличить византийца от иностранца
[303].
Постепенно венецианские и генуэзские купцы прибрали к рукам торговлю в Византии даже, продовольствием. Те усилия, которые византийское правительство время от времени предпринимало, чтобы выправить создавшееся положение, оказывались безуспешными. Когда Иоанн Кантакузин попытался частично восстановить византийский флот и таможенные ограничения, генуэзцы сожгли строившиеся на верфях Золотого Рога корабли (см. гл. 9). Попытка Иоанна V защитить интересы местных торговцев и воспрепятствовать хотя бы розничной торговле венецианцев натолкнулась на упорное противодействие со стороны Венеции
[304]. Современник событий Никифор Григора вынужден был констатировать, что экономическая мощь латинян непрерывно росла, а греки становились все слабее
[305].
Большую роль в укреплении позиций итальянских купцов в Византии и успешной конкуренции с византийским купечеством играло их организационное превосходство, гибкие формы торговых товариществ и кредитных ассоциаций. Потребности венецианской и генуэзской морской торговли, связанной с оптовой продажей и закупкой товаров, побудили итальянских купцов еще в XII в. приступить к созданию кредитных ассоциаций. Это позволило им избавиться от засилья ростовщиков, устанавливать правильные курсы многочисленных видов находившихся в обращении монет Востока и Запада, производить торговые операции в более короткие сроки и с большими удобствами и долей прибыли. Торговые компании византийцев, существовавшие в Константинополе в ХV в., насколько об этом можно судить по данным книги счетов венецианского купца Джакомо Бадоэра, были значительно слабее венецианских и гэнуэзских. Эти компании занимались мелкой внутренней оптовой и розничной торговлей; оборот византийских банков столицы уступал обороту крупнейших банков итальянцев
[306].
Уменьшение содержания золота в византийском иперпире, а также чеканка Флоренцией и Венецией со второй половины XIII в. своих золотых монет привели к упадку международного значения византийской монеты и к вытеснению ее итальянской не только в международной, но и во внутренней торговле.
Уже в 20-х годах XIV в. в поземельных сделках крестьян с монастырями расчеты нередко велись на итальянские дукаты. К 1335 г. содержание золота в иперпире упало до 50 %, а затем еще ниже. В обращении находилась обрезанная, неполноценная монета, принимавшаяся навес. За монету чистого золота требовали три иперпира
[307], за флорентийский золотой брали более двух иперпиров. Нередко купцы вообще отказывались принимать иперпир в уплату за товары
[308]. Правда, в самом Константинополе (возможно, благодаря проведенному Андроником II улучшению золотого содержания монеты в середине XIV в.), по свидетельству флорентийского купца Бальдуччи Пеголотти, основной денежной единицей все еще оставался иперпир
[309].
Однако все чаще сами византийцы в заключаемых между собой сделках ставили условием, чтобы продажная цена вносилась иностранными монетами, флоринами или дукатами
[310].
Отражением экономической слабости Византии являлся сам внешний облик ее столицы. Хотя Михаил Палеолог после отвоевания Константинополя израсходовал немалые средства на восстановление его стен, дворцов, церквей и монастырей (см. гл. 5), в царствование правнука Михаила Андроника III в городе все еще зияли раны, нанесенные ему крестоносцами. Некоторые императорские дворцы и палаты знатных лежали в развалинах и были превращены в клоаки, а здания патриархии, окружавшие храм Софии, были разрушены или сравнены с землей.
Путешественники, приезжавшие в Константинополь в первой половине XV столетия, также рассказывают, что в городе было много пустырей и развалин; даже в центральных кварталах города встречались сады и засеянные участки. Они отмечали также бедность и плохую одежду столичных жителей.
С конца XIII в. Константинополь нередко испытывал серьезные затруднения с продовольственным снабжением. Предоставление Генуи и Венеции права свободного вывоза из империи хлеба и другого продовольствия ставило византийские города в тяжелое положение. Галата держала под своим контролем все суда, доставлявшие в Константинополь зерно из Северного Причерноморья и с фракийского побережья. Снабжение Константинополя хлебом по Черному морю в основном находилось в руках гэнуэзских и венецианских купцов. Известно, что во время конфликта, возникшего между генуэзцами и венецианцами в 20-е годы XIV в., когда последние на две недели закрыли Геллеспонт для прохода судов, «подвоз хлеба был остановлен, и в Константинополе начался немалый голод»
[311]: потеря генуэзцами в 1344 г. Таны немедленно вызвала в Византии нехватку зерна и соленой рыбы.
Патриарх Афанасий, прямо обвиняя латинян в плохом обеспечении столицы продовольствием, рисует в своих письмах мрачную картину жизни константинопольского населения, страдавшего от голода: «Улицы и переулки заполнены людьми, истощенными от голода, валяющимися за земле, часто прямо в грязи… Все они просили меня воспрепятствовать вывозу хлеба из столицы и умоляли обратиться с этим требованием к императору»
[312]. Хотя Андроник II издал указы о контроле за хлебной торговлей, положение не улучшилось. В последующих своих письмах Афанасий снова сетовал на то, что торговцы хлебом, пользуясь продовольственными затруднениями, повышали цены на хлеб и пекли его с примесью соломы или из прогнившего зерна
[313]. Положение усугублялось тем, что в Константинополь устремлялось население, бежавшее из Малой Азии от турок. Посетивший Константинополь около 1303 г. Рамон Мунтанер писал, что по городу бродили или валялись в грязи, стеная от голода, беженцы из Анатолии
[314].
Во второй половине XIV в., после захвата турками-османами Галлиполи, весь контроль над морским подвозом хлеба к Константинополю перешел в их руки
[315]. В письме от 1391 г. Димитрий Кидонис писал: «Все в невероятном беспорядке и трудно найти на свете подобие того хаоса, который царит в столице». Глубокое обнищание и крайне тяжелые условия жизни для подавляющей массы населения были характерной чертой Константинополя последних столетий существования Византии.
Население столицы, заметно поредевшее еще в 1204 г., после захвата города латинянами, когда значительная часть жителей погибла или бежала, никогда уже не достигало прежней численности. Многократные и тяжелые эпидемии чумы, свирепствовавшие с 1348 по 1431 г., систематически повторявшиеся голодные годы привели к резкому уменьшению населения. В 1453 г., во время осады Константинополя турками, на защиту города встало всего лишь около пяти тысяч мужчин-греков. Население Константинополя в XV в. составляло примерно 40–50 тысяч человек
[316].
При всем том географическое положение Константинополя на перекрестке евразийских торговых магистралей, благодаря которому в город стекались товары из самых различных и отдаленных стран Европы и Азии, позволяло ему оставаться чрезвычайно оживленным центром торговли вплоть до самого своего падения. Бальдуччи Пеголотти, написавший свою «Практику торговли» около 1340 г., свидетельствует, что в город съезжались генуэзские, венецианские, флорентийские, пизанские, сирийские и другие купцы, которые вели здесь оптовую и розничную торговлю самыми разнообразными товарами.
Для представления об объеме и интенсивности этой торговли достаточно привести хотя бы неполный список перечисленных Пеголотти товаров, поступавших в Константинополь с Запада и Востока, из Причерноморья и Северной Африки: в Константинополе торговали продовольственными товарами (зерном, оливковым маслом, бобовыми, вином, солью, рыбой, медом, сушеными фруктами), текстильным сырьем (льном, хлопком, шерстью, шелком-сырцом) и тканями, а также мехами, кожами и кожевенными изделиями; на константинопольских рынках продавали различные металлы (железо, свинец, олово, медь, золото, серебро) и металлические изделия, пряности, благовония, лекарственные вещества, квасцы, воск, мыло, смолу и т. д.
[317]
В Константинополь постоянно приезжали купцы соседних славянских стран Балканского полуострова; с начала XIV в. снова стали оживляться торговые связи Константинополя с Русью, имевшей там (или в Галате) свою постоянную колонию
[318]; традиционный товар русских — соленая рыба с берегов Азовского моря и Дона — доставлялся в Константинополь также на гэнуэзских и византийских судах
[319].
В XV в., незадолго до завоевания Константинополя турками, в Золотой Рог по-прежнему прибывали многочисленные суда, в гавани не прекращалась загрузка и разгрузка кораблей
[320]. Главная улица столицы (Меса) оставалась основной торговой артерией города
[321]. Однако выгодами географического положения Константинополя пользовались теперь главным образом и в первую очередь иноземцы. Доля участия местных константинопольских торговцев в общем товарообороте города свелась к минимуму; обычно они принимали участие лишь в мелкой оптовой и розничной торговле и ограничивали свою деятельность Константинополем и его округой.
Крупные оптовые сделки, как правило, заключались итальянским купечеством.
Данные торговой книги венецианского купца Джакомо Бадоэра, проживавшего в Константинополе с 1436 по 1440 г., показывают, что торговля византийских купцов зачастую носила чисто посреднический характер. Среди основных предметов этой торговли немалое место занимал шелк-сырец
[322]. Продавали византийские купцы преимущественно продукты сельского хозяйства, а закупали ремесленные изделия, причем в торговле принимали участие представители самых знатных и богатых византийских семейств
[323].
Гораздо большую по сравнению с Константинополем экономическую самостоятельность удалось сохранить Фессалонике, которая не прерывала свои давние торговые связи с северобалканскими и западноевропейскими странами. Благодаря исключительно выгодному местоположению она продолжала сохранять свое значение порта и рынка для Македонии, Фессалии, Сербии, Болгарии. В начале XV в., помимо знаменитой фессалоникской ярмарки в праздник св. Димитрия, купцов в Фессалонику привлекала также ярмарка, проходившая в дни храмового праздника церкви св. Софии и длившаяся в течение восьми дней
[324]. Ежегодные большие ярмарки устраивались в Фессалонике вплоть до завоевания города турками
[325].
Итальянцы добились основания своих колоний и в Фессалонике. Особенно успешной здесь была деятельность венецианцев: купцы Республики св. Марка бойко скупали зерно и другие сельскохозяйственные продукты Южной Македонии
[326]. Однако стремление итальянских торговцев закрепиться на рынках города встречало сильное противодействие местного купечества. Фессалоникские ремесленники и купцы, никогда не подвергавшиеся тому контролю и стеснению своей деятельности, которые веками тяготели над константинопольскими торгово-ремесленными корпорациями, оказались экономически более крепкими и с большим успехом отстаивали свои экономические позиции.

Ипподром. Константинополь. Около 1350 г.
Венецианские и генуэзские консулы неоднократно жаловались на срыв фессалоникским купечеством разгрузки итальянских товаров
[327]. В результате активного сопротивления иноземным торговцам проникновение итальянского торгового капитала в Фессалонику было значительно меньшим, чем в Константинополь; в Фессалонике ремесло и торговля не испытали столь резкого упадка, как в Константинополе. Фессалоника продолжала вести оживленную морскую торговлю; в середине XIV в. в городе существовала сильная корпорация моряков, которые жили в особом квартале, в непосредственной близости от гавани. В фессалоникский порт прибывали корабли как с Востока — с пряностями, восточными тканями, так и с Запада — с сукнами из Фландрии, Франции и Италии, полотнами из Кампании, винами из Италии
[328]. Численность населения Фессалоники, хотя и значительно сократившаяся по сравнению с предшествующим временем, достигала в 1423 г., по данным хроники Дельфино, 40 тыс. человек
[329].
Крупным торговым центром был и расположенный на фракийском побережье город Энос, владевший солеварнями и квасцовыми разработками, продукция которых употреблялась для окраски тканей и пользовалась большим спросом как в европейских странах, так и на Востоке.
Экономический потенциал Византии и развитие производства в ее городах в немалой степени подрывались тем, что важнейшие месторождения полезных ископаемых также перешли во владение иностранцев. Особенно большой урон терпела Византия от захвата генуэзцами разработок богатейших залежей квасцового камня в Фокее в Малой Азии и мастики на Хиосе, применявшейся в качестве составной части в производстве различных лаков. Генуэзцы, добившись в 1275 г. от Михаила VIII Палеолога права на добычу квасцов в Фокее, получали от эксплуатации квасцовых рудников огромные доходы. Византия неоднократно пыталась вернуть себе Фокею и Хиос, на котором генуэзцы начали добычу мастики еще в 1304 г.
Андроник III, опираясь на поддержку населения Хиоса, ожесточенного генуэзским податным гнетом, отвоевал в 1329 г. этот остров, а затем заставил владельцев квасцовых рудников в Фокее признать свою верховную власть. Однако уже в 1346 г. генуэзцы окончательно завоевали Хиос, причем торговля мастикой перешла в распоряжение основанного ими товарищества на паях. В том же году генуэзцы снова захватили Фокею. В 1363 и 1367 гг. Византия заключила с Генуей договоры, санкционировавшие за ежегодную выплату империи незначительной суммы эти и другие приобретения генуэзцев. В 1384 г. генуэзцы стали также хозяевами Эноса.
Торгово-ремесленная жизнь Византийской империи не могла нормализоваться в условиях постоянных и разорительных междоусобных войн, а также в силу все более ухудшавшегося внешнеполитического положения. К середине XIV в. из наиболее значительных городских центров в состав Византии входили только Константинополь, Фессалоника, Адрианополь, Месемврия на Черном море и Мистра в Пелопоннесе. Феодальная анархия, бесконечные войны, неоднократные опустошения Аттики и Пелопоннеса турецкими отрядами и пиратами отразились самым губительным образом на торгово-ремесленной жизни городов этих областей. Не лучшим было положение городов Фракии, Македонии, Фессалии и Эпира.
Ко времени своего падения Византийская империя — «страна городов» — оказалась обладательницей только своей столицы — Константинополя, Месемврии и нескольких городских центров Пелопоннеса, хозяйственная жизнь которых давно уже потеряла всякую связь с центром.
Византийские города, особенно такие крупнейшие торгово-ремесленные центры, какими были Константинополь и Фессалоника, с их сохранившимися от античности традициями и организацией товарного производства, с налаженным денежным обращением, оказали большое прогрессивное воздействие на развитие западноевропейских городов в пору их возникновения и становления.

Резная деревянная подставка под крест. Евангельские сцены. Государственный Эрмитаж. XIV в.
Однако по мере усиления самих западноевропейских городов, освобождавшихся от власти феодалов, с появлением и укреплением в них цехового строя и купеческих союзов-гильдий, защищавших интересы торгово-ремесленного населения, византийские города начали постепенно отступать с занимаемых ими прежде позиций.
Традиционная политика византийского правительства, создававшая для купцов провинциальных городов еще большие стеснения в столичной торговле, чем для иностранцев; строгий надзор над столичным ремеслом и торговлей; ограничение деятельности константинопольского купечества пределами столицы; быстро растущие привилегии итальянских торговцев — все это связывало инициативу и активность, без которых было невозможно дальнейшее развитие экономики византийской столицы и всей страны в целом.
В то время как на Западе королевская власть вступила в союзе городами в борьбе против феодалов, а городской патрициат, состоявший по преимуществу из богатой купеческой верхушки, проводил благоприятную для развития торговли политику, в Византии власть в городах захватила провинциальная землевладельческая знать, все более ориентировавшаяся на иностранное купечество.
Венецианская и Генуэзская республики в XIII–XV вв. проводили по отношению к Византии колониалистскую политику, захватывая природные богатства страны и вывозя за пределы империи необходимое для ее промышленного развития сырье; они прибрали к рукам наиболее важные в торговом отношении прибрежные города и острова, непрерывно подавляли развитие конкурирующих отраслей местного ремесла. Их деятельность содействовала превращению Византии в страну, основным предметом вывоза которой стала сельскохозяйственная продукция.
В то время как на Западе на основе крупной морской и сухопутной торговли, при массовом вывозе товаров на внешний рынок зарождалась мануфактура, в Византии товарное производство резко сократилось, а внешняя торговля почти целиком оказалась в руках итальянских купеческих республик. Все это происходило в условиях нараставшей военной опасности. Под натиском турок Византия теряла один город за другим, ее экономика была окончательно дезорганизована.
Глава 8
Междоусобная борьба в Византии и соседи империи (1320–1341 гг.)
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Византия продолжала неудержимо слабеть. Нерешительные попытки Андроника II ограничить привилегии крупных землевладельцев не могли принести существенных выгод государству
[330]. Эти меры лишь ускорили открытое выступление феодалов против центрального правительства. Несостоятельной оказалась политика Андроника II и против генуэзцев. Он хотел подорвать их позиции путем предоставления и расширения привилегий их конкурентам — купечеству других итальянских республик, а также испанским и французским купцам. Но эта политика лишь усиливала зависимость византийской экономики от иноземной, она озлобила как жителей столицы, так и генуэзцев Галаты. В провинциях, изнемогавших под бременем высоких налогов, нарастало недовольство. Ко всему этому присоединялись беспросветные неудачи в столкновениях с внешними врагами. Турки хозяйничали в Малой Азии, а правительство бездействовало, не имея боеспособной армии.
Имя Андроника II стало крайне непопулярным. За его спиной стояла лишь немногочисленная группировка высшего чиновничества, обладавшая непосредственной властью в Константинополе. Ее возглавляли ближайшие советники императора — Никифор Хумн и Феодор Метохит.
Феодалы не замедлили воспользоваться династическими раздорами в императорской семье для борьбы с неугодным им правительством. Оппозиция старому императору группировалась вокруг его внука Андроника (сына Михаила IX), бывшего некогда любимцем деда. Красивый и рыцарственный, он не блистал никакими талантами, но пользовался славой обаятельного государя. Окруженный свитой молодых феодалов, он вел крайне невоздержанный образ жизни. Денег, выдаваемых дедом, не хватало, и Андроник Младший брал ссуды у генуэзцев Галаты, которые опутали юного наследника престола долгами, рассчитывая сделать его орудием своих замыслов. Мотовство внука и его дружба с представителями крупнейших феодальных фамилий империи настораживали деда. Росла неприязнь, грозившая открытым столкновением.
Андроник Младший тяготился опекой деда. Он мечтал если не о скором воцарении, то о независимом владении какой-либо частью империи
[331].
В 1320 г. собутыльники царевича убили ночью по ошибке его родного брата Мануила близ дома фаворитки своего господина — они приняли его за соперника Андроника. Тяжело больной отец Андроника Михаил IX не перенес известия о гибели одного сына, павшего жертвой похождений другого. 12 октября он умер в Фессалонике. Потрясенный Андроник II решил лишить внука прав наследования престола. Император потребовал от подданных новой присяги на верность не только себе, но и тому, кого он изберет в наследники, кто бы им ни оказался
[332]. Одновременно он приблизил к себе другого своего внука — Кафара, незаконного отпрыска второго своего сына (Константина).
Все это чрезвычайно взволновало Андроника Младшего. Оппозиция приступила к делу. Могущественную поддержку оказал царевичу великий доместик Иоанн Кантакузин, крупный фракийский феодал, одаренный дипломат, тонкий политик и выдающийся военачальник. Другим видным лицом в окружении царевича был мегадука Феодор Синадин, наместник Западной Македонии. Третьим влиятельным сторонником Андроника Младшего был доместик запада Алексей Апокавк, весьма незаурядная личность незнатного происхождения. Однако нити заговора на первом этапе оказались в руках четвертого участника оппозиции — Сиргиана, знатного вельможи половецкого происхождения, связанного по матери узами родства с Палеологами. Известный полководец, отличившийся в войнах с Эпиром, необыкновенно изворотливый и беспринципный интриган, Сиргиан был готов на любой шаг для удовлетворения своего честолюбия. Незадолго до трагических событий осени 1320 г. Андроник II заподозрил его в измене и бросил в тюрьму.
Задумав отстранить внука от престола, Андроник Старший, однако, счел возможным довериться Сиргиану. Он подослал его к внуку для бдительной слежки за ним. Сиргиан тотчас открыл царевичу замыслы деда против него и стал душой заговора. Он взял с Андроника Младшего клятву, что тот богато одарит его поместьями и чинами и не будет предпринимать без его совета ни одного важного шага
[333]. Заговор пока сохранялся в глубокой тайне.
Пользуясь широко практиковавшейся при Андронике II системой продажи должностей, Сиргиан приобрел право на управление значительной территорией в Средней и Южной Фракии, а Кантакузин — в Северной Фракии, в районе Адрианополя
[334]. Эти области, где лежали владения заговорщиков и где они обладали огромной властью, стали базой их движения против Константинополя. Сильны были их позиции и в Македонии. Зима 1320/21 г. прошла в приготовлениях. Заговорщики стягивали войска к Адрианополю под предлогом организации обороны Фракии от болгарских и монгольских набегов.
Старый император ничего не подозревал. Намереваясь расправиться с внуком, он решил весной 1321 г. судить его в присутствии членов синклита. Узнав об этом, Кантакузин и Синадин окружили дворец своими сторонниками, чтобы прийти на помощь царевичу, если ему будет грозить опасность. Когда об этом донесли Андронику Старшему, он испугался и искусно обратил сцену суда в комедию примирения с внуком. По-видимому, внук принял этот маневр за чистую монету. Примирение состоялось. Скомпрометированные Кантакузин и Синадин получили приказ императора отправиться к местам своей службы. Андроник Младший остался в столице в полной власти деда. Патриарх Герасим, однако, предупредил царевича, что ему угрожает тюрьма, и Андроник тотчас бежал из Константинополя к своим друзьям в Адрианополь.
Одновременно с этими событиями Андроник II, намереваясь усилить армию и флот для борьбы с турками, значительно повысил налоги. Чиновники соперничали за места сборщиков налогов. Каждый обещал императору, что соберет больше другого. Государство гибло, пишет Григора, а ежегодные взносы в казну были увеличены до миллиона иперпиров
[335].
Но Андроник не успел воспользоваться собранными средствами в своих целях. Недовольство народа финансовой реформой послужило на пользу мятежным феодалам. Прежде чем двинуться на Константинополь, они от имени Андроника Младшего объявили об отмене налогов с населения сел и городов Фракии. Жители этой провинции поднялись против Андроника II. Сборщиков налогов избивали, деньги отнимали и делили. Войска Андроника Младшего, состоявшие до этого в основном из деклассированных элементов
[336], теперь быстро пополнялись
[337].
Открытая война была объявлена. Сиргиан повел войска на Константинополь. Андроник Старший опасался восстания в столице в пользу внука и поспешил завязать с ним переговоры. Он признал внука наследником престола. Территория империи была поделена. Вся Фракия от пригородов столицы до Христополя (включительно) отходила под самостоятельное правление внука. Андроник II должен был признать и те пожалования в Македонии, которые Андроник Младший сделал в пользу своих приверженцев. За старым императором теоретически сохранялось исключительное право сношений с иноземными державами
[338].
Итак, в ходе борьбы двух Андроников симпатии простого населения находились на стороне Андроника Младшего, хотя он и опирался на силы ненавистных народу феодалов. Отмена внуком тяжелых налогов, введенных дедом, сыграла при этом главную роль.
Мир был непрочным. Он не удовлетворял обе стороны. Лично Андроник Младший был готов довольствоваться независимым уделом в границах империи, но его соратники стремились к большему
[339]. Вероятно, правление старого императора окончилось бы несколькими годами раньше, если бы в лагере Андроника Младшего не вспыхнули раздоры. Разгорелось острое соперничество между Сиргианом и Кантакузином. Сиргиан справедливо усмотрел во влиятельном друге царевича главное препятствие к достижению своих честолюбивых планов. Его проекты решительных и быстрых действий были отвергнуты под влиянием Кантакузина
[340]. Видя, что его влияние на Андроника Младшего упало, Сиргиан снова перешел на сторону Андроника Старшего. Он захватил несколько крепостей на юге Фракии и выступил против царевича. Сбросили власть наследника престола также Ираклия, Стенимах и Цепена. Измена Сиргиана вызвала замешательство в лагере Андроника Младшего, который лежал больной в Дидимотике — центре владений семьи Кантакузина. Действовавшая в Фессалонике в пользу сына мать царевича Ксения была силой доставлена в Константинополь. Теперь уже Андроник Младший просил о мире на прежних условиях, но не соглашался дед, надеясь на помощь нанятых им сельджукских отрядов.
В этот решительный момент фракийская феодальная знать спасла своего ставленника. Средства ему предоставила семья Кантакузина, в частности его мать Феодора, игравшая значительную роль в происходивших событиях. Эти средства были, по всей вероятности, значительными. Кантакузины были очень богаты. Одного скота в ходе междоусобий Кантакузин потерял десятки тысяч голов (25 тыс. лошадей, 50 тыс. овец, 70 тыс. свиней)
[341]. Опираясь на войска, набранные с помощью Кантакузина, весной 1322 г. Андроник Младший начал успешное наступление во Фракии. Фессалоника перешла на его сторону. Сторонники царевича подняли там восстание, убивали приверженцев старого императора, грабили и разрушали их дома. Правитель Фессалоники, деспот Константин, был в цепях доставлен к Андронику Младшему и брошен в темницу
[342]. Турецкие отряды Андроника Старшего были вытеснены из Фракии.

Портрет Феодора Метохита. Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Летом 1322 г. в Эпиватах был подписан новый мирный договор. Внук уступал деду финансовую власть на занятой им территории, однако дед обязывался выплачивать царевичу 36 тыс. иперпиров на содержание его двора и 45 тыс. на содержание войска Андроника Младшего, которое практически одно представляло сухопутные военные силы империи. По обоюдному согласию, Сиргиан подвергся новому заключению. Старое соглашение о главенствующей роли Андроника II во внешних сношениях, по-видимому, сохранило силу, но наличие у Андроника Младшего военных отрядов обеспечивало ему проведение самостоятельной внешней политики.
После Эпиватского мира положение Андроника Младшего еще более упрочилось. В глазах населения он стал единственным защитником страны от внешних врагов. Личная отвага и энергия способствовали его популярности, хотя в действительности его военными операциями и дипломатическими демаршами неизменно руководил Кантакузин, в руках которого в конечном счете находились и судьба, и сама жизнь молодого государя.
Пользуясь междоусобицами в Византии, в пределы империи все чаще и смелее стали вторгаться болгары, приводившие иногда вспомогательные монгольские отряды. В августе 1322 г. болгарский царь Георгий II Тертер (1322–1323) захватил Филиппополь и другие районы Северной Фракии. В сентябре Андроник Младший осадил Филиппополь и вытеснил болгар из других областей Фракии. В 1323 г. он захватил почти всю Южную Болгарию до Балканского хребта. Однако пришедший в этом же году к власти в Болгарии Михаил Шишман (1323–1330) развил энергичные действия против Андроника Младшего, очистил Южную Болгарию от византийцев и опустошил Фракию. Андроник Младший сумел все-таки вернуть Филиппополь. Удалось ему разгромить и изгнать монгольские полчища, которые вторглись во Фракию в 1324 г.
Война с болгарами окончилась миром в 1326 г. Михаил восстановил свою власть между Месемврией и Сливеном, а византийцы удержали Филиппополь и получили Созополь
[343]. Михаил Шишман развелся к этому времени со своей женой — сестрой сербского краля Стефана Дечанского Анной — и женился на сестре Андроника Младшего, вдове бывшего болгарского царя Феодора Святослава — Феодоре.
Рост влияния молодого наследника престола не позволял Андронику II далее откладывать его коронацию, и она состоялась в 1325 г. Но старый император не отказался от борьбы. Несмотря на то что его лагерь был ослаблен раздорами между Феодором Метохитом и Никифором Хумном
[344] (см. ниже), он не переставал интриговать против внука и лихорадочно искал союзников. Эпиватский договор соблюдался плохо, Андроник II не мог выплачивать условленных сумм — для покрытия расходов ему давно уже приходилось продавать драгоценные украшения из императорского гардероба
[345]. Андроник Младший между тем, не задумываясь, бросал на ветер последние средства. Он предавался своей любимой страсти — охоте и содержал огромный двор. Одних охотничьих у него было несколько сот. В 1325 г. Андроник II назначил правителем Фессалоники своего племянника Иоанна Палеолога — зятя великого логофета Феодора Метохита, дав ему тайное поручение войти в соглашение с сербским кралем и организовать совместное наступление на Андроника Младшего с запада. Заключению союза должно было способствовать то, что Стефан Дечанский (1321–1331) был женат на дочери Иоанна Палеолога.
Однако Иоанн решил попытать собственного счастья. Он побывал в Скопле, заручился помощью Стефана и вторгся в пределы империи, стремясь утвердиться как независимый правитель на западе. Иоанн дошел до Серр. Испуганный Андроник II срочно отправил к нему послов, даруя ему титул кесаря. Впрочем, Иоанн Палеолог неожиданно заболел и умер в 1327 г. в Сербии, но его мятеж показал еще раз, сколь призрачным стало единство империи при засилии феодалов в провинциях.
Завязал Андроник II и прямые переговоры со Стефаном Дечанским. В посольстве к сербскому двору в 1326 г. принял участие Никифор Григора
[346], оставивший живое описание этого путешествия. Узнав об этом тайном сговоре, Андроник Младший получил достаточный повод к разрыву. Он заключил союз с Михаилом Шишманом против деда и сербов. Как раз в этот период, на пороге нового тура борьбы двух Андроников, турки усилили свой натиск в Азии. 6 апреля 1326 г. пала брошенная на произвол судьбы Брусса
[347], а через месяц — Лопадий.

Упадок Византии в XIV в.
Андроник Младший предъявил деду обвинения в нарушении мира. Андроник II не мог их опровергнуть и прибег к репрессиям против всех сочувствовавших Андронику Младшему. Патриарх Исайя был удален в Манганский монастырь
[348], некоторые высшие иерархи были арестованы.
Открытые столкновения возобновились в 1327 г. Андроник Младший реквизировал собранные практорами Андроника II суммы, делил между своими приверженцами имущество и поместья сторонников старого императора, снова объявил по всей империи о снижении или полной ликвидации налогов. На Андроника II он возлагал и всю ответственность за внешнеполитические неудачи
[349]. Получив известия о том, что Фессалоника готова снова перейти на его сторону, Андроник Младший в конце 1327 г. поспешил туда, поручив Фракию заботам Синадина. Выступление сербов на стороне Андроника II окончательно лишило его поддержки в Южной Македонии. Население этих мест было разорено. В окрестностях Фессалоники практоры даже не могли собрать налогов.
В январе 1328 г. Фессалоника с радостью приняла Андроника Младшего. Македония признала его власть. Албанские вожди и деспот Эпира Иоанн Орсини явились к Андронику Младшему с выражениями дружбы и покорности. Одновременно Синадин разбил во Фракии войско Андроника II. Весной 1328 г. Андроник Младший подступил к столице, которая фактически одна оставалась во власти старого императора. Но дело обошлось без военного столкновения. Андроник II потерял опору и в столице. Этому способствовали обстоятельства, в которых протекала в это время война между Генуей и Венецией. Венецианские корабли как раз в это время блокировали Галату и Босфор. Они задерживали генуэзские и византийские торговые суда, шедшие с грузом хлеба и соленой рыбы из городов Северного Причерноморья. В Константинополе уже через две недели начался голод
[350]. Во всем винили старого императора.
В ночь на 24 мая стража открыла ворота Андронику Младшему. Длительное царствование Андроника II закончилось. Слепнущему старцу было позволено доживать во дворце. Однако его сторонники были смещены, сосланы, брошены в тюрьмы; их имущество было разграблено, а дома разрушены. Великий логофет Феодор Метохит потерял все свое состояние и стал монахом монастыря Хоры
[351].
Смена царствования означала победу крупной феодальной знати. Эта победа не принесла с собой крутого поворота во внутренней и внешней политике, так как тенденция к ограничению своеволия феодалов едва только обозначалась в политике Андроника II. Однако эта тенденция была теперь пресечена
[352]. Гораздо важнее перемен на троне были для страны последствия междоусобиц. Ресурсы богатейшей провинции империи Фракии были серьезно подорваны. Частые передвижения армий соперничавших сторон, набеги болгар, монголов и турок дезорганизовали жизнь крестьянина. Население покидало обжитые места. Немало деревень стояло пустыми. В 1326 г. Болгария даже снабжала Византию хлебом. Вовлекаемые в междоусобную борьбу болгары, сербы и в особенности турки убедились в слабости империи. Ее авторитет, который еще мог поддерживать Михаил VIII Палеолог, теперь окончательно упал.
Храбрый воин и искусный охотник, Андроник III (1328–1341) проявлял некоторую самостоятельность лишь в ходе военных кампаний. Фактическое управление государством целиком оказалось в руках Кантакузина. Свою огромную власть он делил не столько с Андроником III и его женой — императрицей Анной Савойской, сколько с собственной матерью Феодорой Кантакузиной, богатства которой в значительной мере помогли Андронику III достигнуть трона.
Едва придя к власти, Андроник III должен был тотчас отправиться в поход против Михаила Шишмана: болгары снова опустошали Фракию до Адрианополя и Дидимотики. Андроник III в отместку разорил Южную Болгарию и взял Ямбол. Осенью был заключен желанный для Византии мир: император намеревался перенести военные действия в Малую Азию. Турки осаждали Никею. При решающем участии Кантакузина Андроник III заключил союз с сельджуками эмирата Караси и поздней весной 1329 г. переправился через Босфор. Однако византийская армия была разгромлена османами 10 июня при Филокрене, недалеко от побережья. Сам Андроник и Кантакузин едва избежали гибели. Никея продолжала сопротивляться, но эта битва решила участь малоазийских владений и перии
[353]. Последняя серьезная попытка остановить турок силой оружия окончилась провалом. В этом же году турки совершили набеги на Фракию. Их удалось выгнать, но отныне они стали здесь частыми гостями.
Удачнее были операции Андроника III в Эгейском море. Осенью 1329 г. византийский флот сумел вернуть, опираясь на поддержку местного населения, богатый остров Хиос. Вслед за тем генуэзцы Фокеи снова признали суверенитет империи. Эмиры Айдина и Сарухана, боявшиеся османов и латинян, вступили с Византией в союз, который сыграл большую роль в последующей истории империи.
Стремясь улучшить внешнеполитическое положение империи, Кантакузин понимал необходимость упрочить прежде всего позиции правящей верхушки внутри страны. Силы оппозиции не были разгромлены — она направляла теперь свое острие не против Андроника III, а лично против Кантакузина. Чтобы разрядить обстановку, объявили полную амнистию старым противникам. Церковное отлучение, которому они подверглись, было отменено. Продажность чиновничьего аппарата Андроника II, в особенности судебных органов, вызывала некогда сильное недовольство. В 1329 г. Андроник III провел судебную реформу. Был учрежден высший имперский суд, состоявший из двух светских и двух духовных лиц, которых назвали «вселенскими судьями» (χαυολιχοι χριται). Они были наделены богатыми поместьями и доходами и получили огромные полномочия, вплоть до права судить родственников правящей фамилии. Их суд был объявлен последней инстанцией
[354].
Оппозиция не была, однако, удовлетворена. Она заметно активизировалась зимой 1329/30 г. Больной Андроник III боролся со смертью. Согласно его воле, в случае его кончины власть переходила к Анне Савойской, которая ждала ребенка. Регентом должен был стать Кантакузин. Отстранение от престола непосредственных кровных родственников императора обеспокоило в равной мере старых врагов — и мать Андроника III Ксению, и Андроника II. Старый император, почти слепой к этому времени, не был в состоянии вести игру. Но враги Кантакузина использовали его имя. Поэтому всесильный временщик поспешил расправиться со стариком. Угрожая ему смертью, верный друг Кантакузина эпарх Константинополя Синадин принудил Андроника II к пострижению (он умер под именем монаха Антония 13 февраля 1332 г.).
Другим центром оппозиции была Ксения в Фессалонике и вошедший к ней в доверие Сиргиан, который снова появился на политической арене. В 1329 г., до болезни императора, он был выпущен из тюрьмы и назначен правителем Фессалоники. Сиргиан не успел собраться с силами — Андроник III выздоровел. Оппозиция должна была затаиться. Император по-прежнему послушно следовал воле Кантакузина.
К 1330 г. договор с болгарами был преобразован в военный союз против Сербии, которая угрожала и Болгарии, и Византии. 1 мая Стефан Дечанский запретил венецианцам провозить через Сербию товары в Болгарию. Михаил Шишман решил начать военные действия. Андроник III должен был одновременно наступать на сербов с юга, но его позиция была выжидательной. Император не спешил на соединение с Михаилом Шишманом, который вторгся в Сербию с востока. В конце июля сербы разгромили болгар при Велбужде. Решающую роль в сражении сыграл наемный отряд, предводительствуемый наследником сербского престола Стефаном Душаном. Михаил был смертельно ранен, взят в плен и через несколько дней умер. Болгарские боляре предложили сербскому кралю корону Болгарии, но он благоразумно отказался. Краль удовлетворился присоединением Нишской области, вытеснением болгар из долины Струмы и Вардара и восстановлением на болгарском престоле своей сестры Анны с малолетним сыном от Михаила Иваном Стефаном. Силы Болгарии не были сломлены, в чем Стефан отдавал себе отчет
[355].
Узнав о событиях при Велбужде, император поспешно отступил. Оп решил воспользоваться поражением Болгарии и переменами на ее престоле. Предлогом для войны было изгнание из Тырнова его сестры Феодоры. В сентябре 1330 г. Андроник вторгся в Болгарию и захватил все города от р. Тунджи до Черного моря. Однако успехи были недолгими. Ранней весной 1331 г. в Болгарии произошел переворот. Власть захватил Иван Александр (1331–1371). Он добился соглашения с сербами (его сестра стала женой Стефана Душана) и, опираясь на союз с ними и с валашским воеводой Басарабом, выгнал византийцев из Южной Болгарии и разгромил Андроника III под Росокастроном. Император был вынужден искать мира, который и был заключен в 1332 г.
Между тем при сербском дворе также произошел переворот. Полуслепой Стефан Дечанский, который не использовал в полной мере, по мнению властелей, последствий победы при Велбудже, был свергнут с престола сыном Стефаном Душаном (1331–1355), а затем убит в тюрьме. Сербские властели жаждали новых земель и властно требовали от своего ставленника войны с Византией за сердце Балкан — Македонию. Следуя их воле, Душан начал длительную борьбу с Византией
[356]. Союз Андроника с Михаилом Шишманом давал для этого достаточный повод.
Еще до начала сербско-византийских войн, империя фактически потеряла свои земли в Малой Азии. В начале марта 1331 г. сдалась изголодавшаяся Никея. Турки стояли под Никомидией. Андроник еще два раза переправлялся через Босфор в 1332 и 1333 г., но смог лишь купить временный мир у эмира османов Урхана за ежегодную уплату 12 тыс.
иперпиров. Византийская феодальная знать предпочла искать дружбы с турками ценой потери восточных владений, бывших некогда основой возрождения империи, рассчитывая использовать турок в своих войнах на Балканах, где лежали поместья правящей верхушки феодалов.
Начало сербско-византийских войн совпало с событиями, которые угрожали Византии новыми внутренними потрясениями. В 1332 г. Сиргиан был вызван из Фессалоники для суда и следствия — стало известно о его новом заговоре. Кантакузин решил, наконец, расправиться со своим коварным врагом. Но Сиргиан бежал из-под стражи сначала в Галату, а затем на Эвбею и в Албанию. В 1334 г. он явился к Стефану Душану. Получив под командование сербские отряды, Сиргиан начал военные действия. Душан занял города Средней Македонии (Охрид, Прилеп, Струмицу, Касторию, Воден), а Сиргиан шел на Фессалонику, надеясь взять ее без осады. Его письма с заманчивыми обещаниями читали во всех концах империи. Население Южной Македонии, боясь за колосящиеся хлеба, добровольно переходило на его сторону
[357]. Кантакузин счел необходимым усилить укрепления столицы и сделать запасы продовольствия. Не надеясь на военную силу, он подослал к Сиргиану тайного убийцу — Сфрандзи Палеолога. 23 августа посланец удачно выполнил поручение близ Фессалоники и скрылся. После гибели Сиргиана Душан согласился на личные переговоры с Андроником III. Был заключен мир. Душан удержал занятые им районы Македонии; города, захваченные Сиргианом, были возвращены империи.
Придя к власти, Андроник III, разумеется, отказался от тех обещаний и мероприятий в пользу простого народа, которые были сделаны им во время междоусобиц. Налоги взыскивались, несмотря на обнищание и разорение Фракии и Македонии
[358]. Строительство флота требовало огромных средств. Собираемых денег не хватало. Доходы казначейства от торговли продолжали сокращаться в пользу Галаты. Генуэзцы утвердили свою торговую гегемонию и в бассейне Черного моря. В первой трети XIV в. их небольшая колония Тана, в устье Дона, стала главным торговым центром Причерноморья. Основным рынком Византии был уже не Константинополь, а Галата
[359].
К началу 30-х годов огромный ущерб торговле в бассейне Эгейского моря причиняли пиратские действия флота турецких эмиратов. Флот эмирата Айдин грабил острова и побережье Греции и Пелопоннеса. Особенно страдали торговые интересы Венеции. В 1332 г. был заключен антитурецкий союз между Венецией, рыцарями-иоаннитами Родоса и Византией. В 1334 г. к коалиции примкнули папство, Франция и Кипр. Морская экспедиция против турок была назначена на 1336 г.
[360] Союз Византии с Венецией и расширение привилегий венецианцев вызвали бешеную злобу генуэзцев. Генуэзцы срочно укрепляли Галату и энергично интриговали против империи. В 1336 г. вместо того, чтобы ударить по туркам объединенными силами, некоторые участники коалиции выступили против Византии. При поддержке Генуи рыцари Родоса и правитель Наксоса захватили остров Лесбос. Андроник III осадил Галату и голодом принудил генуэзцев срыть укрепления. Его флот вернул Лесбос и с помощью турок эмиратов Сарухан и Айдин восстановил господство Византии в Фокее. Генуэзцы были изгнаны отсюда. Положение империи в Эгейском море упрочилось.
Наибольший, хотя и временный, успех был достигнут при Андронике III на западе. Еще в начале его царствования Эпир и Албания признали суверенитет империи. Но в августе 1331 г. анжуйцы принудили деспота Эпира принести им вассальную присягу. Через два года умер повелитель Фессалии Стефан Гаврилопул Малиасин, и войска Эпира и Византии одновременно вторглись в Фессалию. Империя победила. Эпирские войска были изгнаны, и вся Фессалия, кроме южной части с Новыми Патрами, находившимися под властью каталонцев Афин, была присоединена к империи
[361]. Признали власть императора и албанцы в районе Элбасана (1334). В 1335 г. деспот Эпира Иоанн Орсини был отравлен своей женой Анной Палеологиней, которая, однако, не могла удержать власть и обратилась за помощью к империи. Одновременно в Южном Эпире, находившемся под господством империи, восстали албанцы, а Душан захватил Диррахий.
Все эти события вызвали в 1337 г. поход императора на запад, в котором приняли участие турки Умура — эмира Айдина. Они разграбили земли восставших албанцев. Добыча была так велика, что турки продавали 100 быков за один золотой. Эпирское царство было присоединено к империи. Анна и ее сын Никифор, обрученный с дочерью Кантакузина, были увезены в Фессалонику. Правителем Эпира стал Синадин. Велика была радость при дворе. Эпир, отторгнутый в 1204 г., вернулся в состав империи. Однако сторонникам анжуйской ориентации удалось после ухода императора поднять восстание в Эпире. Никифор был тайно увезен из Фессалоники и с итальянской помощью утвердился в Арте как вассал анжуйцев. Синадин оказался в тюрьме.
Сохранили верность империи Янина, пользовавшаяся свободой от налогов, пошлин и военной службы
[362], и Северный Эпир. В начале 1340 г. Андроник еще раз отправился в Эпир. Арта сдалась, и Никифора снова доставили в Фессалонику. Однако господство византийцев продержалось здесь недолго. Еще в 1337 г. Душан захватил Авлон и Канину, а в 1340 г. его войска дошли до Янины. Сопротивление сербам албанцев во главе с князем Андреем II Музаки было сломлено. Все завоевания империи на западе оказались под угрозой ликвидации. Душан предпринял первую попытку заключить военный союз с Венецией для борьбы за самый Константинополь.
Окончательно проигранным к концу правления Андроника III было дело империи в Малой Азии. Османская угроза встала во весь рост. Правительство Кантакузина не сделало ничего против этой главной опасности. В 1337 г. пала Никомидия. Ираклия Понтийская и далекая Филадельфия — последние владения империи на Востоке — были обречены. Турки концентрировали силы на берегах Мраморного моря для решающего прыжка через проливы. Их набеги на Фракию стали систематическими. Никифор Григора отказывается рассказывать об этих набегах, так как «было бы скучно» их перечислять — столь они были частыми
[363].
15 июня 1341 г, Андроник III умер, оставив 9-летнего сына Иоанна
[364]. Смерть императора совпала с началом нового периода, в ходе которого произошли события, сыгравшие роковую роль во всей последующей истории Византии.
Глава 9
Византия в период гражданской войны и движение зилотов (1341–1355 гг.)
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
После смерти Андроника III вспыхнула новая междоусобная война. По своему характеру она значительно отличалась от войны 1320–1328 гг. На этот раз в борьбе приняли широкое участие народные массы, выступившие почти повсеместно против феодальной провинциальной аристократии. Борьба приобрела социальный характер, она переросла рамки междоусобной войны между двумя группировками византийской знати и превратилась в гражданскую войну. Более чем за столетие до падения Константинополя под ударами турок решался вопрос о самом существовании империи. В ожесточенную схватку были вовлечены не только все социальные слои византийского общества, но и близкие и дальние соседи империи, стремившиеся в этот решающий для Византии момент обеспечить себе долю в византийском наследстве.
13-летний период с 1341 по 1354 г. был в сущности последней попыткой жизнеспособных сил империи завоевать условия для экономического и социального прогресса страны и спасти ее как независимое государство от посягательств внешних врагов. Поражение этих сил означало гибель Византии.
После смерти Андроника III вся полнота власти оказалась в руках великого доместика Иоанна Кантакузина, ставшего регентом малолетнего Иоанна V Палеолога (1341–1391). Фактически почти ничего не изменилось. Кантакузин был подлинным правителем империи и при жизни Андроника III. Однако пока этот император занимал престол, оппозиция должна была мириться с засильем в столице крупной провинциальной аристократии. Легитимность была знаменем оппозиции, а выступление против Кантакузина означало бы мятеж против самого законного императора. Теперь же политическая ситуация резко изменилась, и оппозиция немедленно активизировалась.
Она сплотилась вокруг императрицы Анны Савойской и наследника престола. Ее душой стал патриарх Иоанн Калека (Априйский) (1334–1347)
[365], а организатором борьбы с Кантакузином — его старый сподвижник Алексей Апокавк.
Едва похоронили Андроника III, как Иоанн Калека потребовал участия в регентстве, и Кантакузин был вынужден уступить. Но на большее оппозиция пока не осмелилась ввиду тяжелого внешнеполитического положения империи. Сербы, турки, болгары — все торопились воспользоваться замешательством при константинопольском дворе после смерти Андроника III и тотчас устремились к границам империи. Средства же, необходимые для отражения врагов, находились в руках Кантакузина. Его личные богатства и пожертвования его сторонников составляли основу для формирования войска. Кантакузину удалось добиться мира с Иваном Александром, заключить договор с Урханом и отразить набеги сельджукских отрядов. В Дидимотику — центр военных приготовлений Кантакузина — к нему прибыли послы из Ахайского княжества. Французские сеньоры предпочитали суверенитет империи власти флорентийского наместника Анжуйского королевства. Казалось, предоставлялась возможность наконец-то вернуть весь Пелопоннес, завершить окружение каталонского герцогства в Афинах, а затем добиться полного воссоединения греческих земель в едином государстве. Но у Кантакузина не было сил для немедленной далекой экспедиции, а последовавшие вскоре события навсегда похоронили надежды восстановить «власть ромеев, как в старину, от Пелопоннеса до Византия»
[366].
Оппозиция в столице воспользовалась отсутствием Кантакузина. Апокавк действовал с энергией и настойчивостью. Он встал во главе не только высшего столичного чиновничества, враждебного провинциальным магнатам, но и широкого круга лиц, извлекавших свои главные доходы не из эксплуатации земельной собственности, а из торговой и предпринимательской деятельности. Можно предполагать, что его опорой были те состоятельные городские слои, дальнейшему обогащению которых препятствовали экономические привилегии и политическое засилье в городах крупной феодальной знати. В правительстве Андроника III Апокавк управлял государственными финансами, затем стал дукой флота. В его ведении находились и государственные солеварни. Тесно связанный с моряками и торговцами, Апокавк добился популярности среди них также и тем, что внес крупную сумму на строительство военного флота и одержал ряд побед в столкновениях с препятствовавшими мореплаванию константинопольцев турецкими эскадрами. Кантакузин писал об Апокавке, что его власть была ненавистна «благородным», и поэтому Апокавк решил их всех уничтожить. Он считал, что люди низкого происхождения будут лучше повиноваться. Прежде всего он захотел уничтожить приближенных к Кантакузину лиц, так как боялся их богатства и влияния, а затем стал чинить суди расправу над прочими. При этом он действовал от имени Анны, патриарха и синклита, а на деле проводил свою политику
[367].
Используя ненависть народных масс города и деревни к крупным феодалам, Апокавк обратился к народу с прямым призывом к открытой вооруженной борьбе против Кантакузина и его сторонников. Дома приверженцев Кантакузина в Константинополе были разграблены и разрушены. Их собственники были схвачены или бежали к Кантакузину в Дидимотику. Были взяты под стражу сын Кантакузина Матфей и его мать Феодора (суровым режимом и голодом ее довели вскоре до смерти). Кантакузин был объявлен лишенным всех своих должностей и чинов. Ему было приказано не покидать Дидимотики. Его права на земельные владения были аннулированы. Деревни Кантакузина, говорит Григора, были разделены «между ремесленниками и торгашами»
[368]. Высшая императорская власть была официально передана Анне Савойской, соправителем которой был объявлен Иоанн V
[369]. Его коронация состоялась 19 ноября 1341 г.
[370] Алексей Апокавк получил титул великого дуки и стал всесильным временщиком.
Еще до этого, 26 октября 1341 г., в Дидимотике феодальные магнаты провозгласили Кантакузина императором. Сознавая могущество выступивших против него сил, Кантакузин не решился выбросить за борт принцип легитимности. Он не посягал на официальное отстранение от престола представителей правящей династии. В торжественных славословиях и в документах он ставил свое имя и имя своей супруги Ирины после имен Анны Савойской и Иоанна V. Формально он боролся против «дурного» окружения императорской семьи, прежде всего — против Апокавка. Об этом он извещал население в своих грамотах, разосланных по всем провинциям и городам.
Одновременно свои грамоты от имени Анны и Иоанна V разослал и Апокавк. Его призывы «возбуждали народ против богатых, толпы ремесленников — против выдающихся славой и родом»
[371]. В Константинополе прокатилась новая волна репрессий против сторонников Кантакузина. Его столичные дворцы, пощаженные ранее из осторожности, подверглись теперь полному разгрому. «Можно было видеть, — писал Григора, — весь род ромеев расколовшимся на две части в каждом городе и в каждой деревне — на разумную и неразумную, на обладавшую богатством и славой и на терпящую лишения, на познавшую благородное воспитание и на совершенно чуждую всякого воспитания, на благоразумную и подчиненную порядку и на неразумную, мятежную и кровожадную. Все лучшие стеклись к Кантакузину, все худшие — к тем, кто сидел в Константинополе»
[372]. То же самое подчеркивал в своих мемуарах и Кантакузин: «Общей была война у каждого города и против василевса Кантакузина, и против динатов, ибо почти надвое раскололось государство: немногие держались Кантакузина, а массы народа, предводительствуемые мятежниками и неимущими, предпочли встать на сторону столицы. Повсюду взяв верх, они уничтожали динатов, и ужасное смятение и беспорядок охватили города»
[373]. Феодалов избивали, имущество их грабили, дома разрушали, захваченных в цепях конвоировали в Константинополь. Вековая ненависть против феодальной эксплуатации нашла себе выход. Угнетенные слои и города и деревни были едины в этой борьбе. Сельские жители разгромили богатейшие имения Кантакузина. Его амбары с зерном и другими продуктами, а также бесчисленные стада всевозможного скота были расхищены.
Вся Фракия была охвачена движением против феодальных магнатов. Но наиболее значительным было восстание в Адрианополе, где народ хорошо знал Кантакузина и люто его ненавидел. Феодальная знать Адрианополя с восторгом встретила прибывшие в город грамоты Кантакузина. Она созвала народ на площади для оглашения грамот. Народ волновался. Раздавались выкрики против узурпатора. Феодалы хватали «смутьянов» и подвергали их бичеванию. Ночью некий поденщик землекоп Вранос со своими товарищами Мугдуфом и Франкопулом обходили дома горожан, склоняя их к открытому восстанию против знати. Составив отряд, они арестовали почти всех знатных лиц и заключили их в башнях городской стены. Утром поднялось все население города. Дома феодалов были разграблены и разрушены. Такая же участь постигла и ростовщиков города, обвиненных в «кантакузинизме». Арестованные были отправлены в столицу.
Впервые в истории Византии сложился союз городов с центральной властью в борьбе против крупной феодальной аристократии, т. е. то историческое явление, которое было характерно для стран Западной Европы уже с XI в. В отличие от Запада в Византии силой этого союза было единство действий городского и сельского населения против крупных феодалов, слабостью — низкая организация и стихийность движения. Острота политической обстановки в империи и бессилие центрального правительства обусловили большую самостоятельность народных масс. В борьбе с феодалами народ заходил в своем радикализме дальше, чем этого хотелось правящей группировке в Константинополе. Но городское население было лишено прочной цеховой организации, оно было экономически и политически разобщено и не могло выдвинуть конструктивной программы, которая послужила бы основой для оформления союза с императорской властью.
Социальная и политическая борьба в империи тесно переплеталась с острой идеологической борьбой, развернувшейся в это время вокруг мистического учения исихазма (пустынножительства) (подробно см. гл. 15). Исихасты опирались на ранних мистиков, особенно на учение Симеона Нового Богослова, согласно которому верующий может добиться вечного спасения путем особых мистических бдений и «умной» молитвы (см. т. II). Особенно широко исихазм распространился в 30-х годах XIV в. в результате деятельности его горячего проповедника Григория Синаита. Центр исихазма был на Афоне.

Иоанн VI Кантакузин, председательствующий на соборе. Миниатюра из рукописи Парижской национальной библиотеки 1370–1375 гг.
Споры вокруг этого учения возникли с приездом в Византию ученого теолога из Калабрии Варлаама, пользовавшегося вначале покровительством Андроника III. Варлаам объявил исихазм вредным суеверием и высмеял его приверженцев. На защиту исихазма встал крупный византийский теолог Григорий Палама, долго живший на Афоне, а затем обосновавшийся в Фессалонике. Он разработал философско-теологическую доктрину, давшую теоретическое обоснование исихазму и получившую название от имени своего создателя (паламизм). Палама перебрасывал мост между земным и потусторонним миром, утверждая, что мистическое единение с божеством делает доступным для избранных «духовное спасение». Варлаам усматривал в доктрине Паламы влияние дуалистических ересей и обвинял его в богомильстве
[374]. Фессалоника стала ареной острых диспутов между обоими теологами. В спор были вовлечены не только духовные лица, но и широкие слои населения.
Чтобы положить конец раздорам в церкви, за несколько дней до смерти Андроник III собрал в Константинополе церковный собор, на котором победу одержал Палама. Варлаам уехал на Запад. Но полемика не прекратилась. С начала гражданской войны она приобрела новое общественное и политическое звучание. Мрачная идеология Паламы, призывавшего к глубокому смирению и полному отрешению от действительности, была объективно выгодна классу крупных феодалов, претерпевших сильные удары со стороны активизировавшихся народных масс. Кантакузин и его сторонники стали под знамя паламизма. Патриарх Иоанн Калека был, напротив, ярым антипаламитом. Борьбу с паламитами возобновил ученик Варлаама Акиндин, пользовавшийся покровительством Анны Савойской. В целом антипаламизм был характерной чертой для враждебного Кантакузину лагеря. Палама вскоре был брошен в тюрьму.
Наибольшей остроты социальная и политическая борьба достигла к 40-м годам XIV в. в Фессалонике. Этому крупному городу были свойственны те же противоречия, что и столице. Отличие состояло в том, что экономика Фессалоники была в меньшей степени опутана сетями итальянской зависимости. Но зато тем острее и непосредственней проявлялась на фессалоникском рынке конкуренция между крупными поставщиками продуктов (феодалами) и мелкими, между индивидуальными ремесленниками и монастырскими мастерскими. Здесь, вдали от чиновной столицы, политическое засилье феодальных магнатов было полным. В их руках находилась практически вся администрация города. По-видимому, им в первую очередь приносили выгоды те городские привилегии, о которых глухо упоминают источники. Владеть земельной собственностью «на правах фессалоникийцев» добивались у императора некоторые видные феодалы других областей империи
[375]. Несколько сотен феодалов, живших в городе, держали его в сущности в своих руках. Некоторые из них были столь богаты, что могли содержать на свои средства весь гарнизон этого огромного города
[376].
Достаточно острыми были в Фессалонике и противоречия между состоятельными торговцами и предпринимателями, с одной стороны, и непосредственными производителями — с другой. Представление об этих противоречиях дает «Диалог богатых и бедных» писателя XIV в., современника описываемых событий, Алексея Макремволита. Под богатыми в диалоге Макремволит имеет в виду не феодалов, а торговцев и предпринимателей. Бедные обвиняли богатых в бесчеловечной эксплуатации. Они говорили, что все достояние богатых создано руками неимущих, и требовали возвращения того, что законно им принадлежит
[377]. Именно о богачах этого рода Кантакузин говорил, что золото для них было «дороже всего на свете»
[378].
Относительная торговая самостоятельность Фессалоники обусловила существование здесь значительного торгового флота и широкого слоя трудового населения, связанного с мореходством и судостроением.
В начале гражданской войны правителем Фессалоники был верный Кантакузину Синадин. К весне 1342 г., убедившись, что его дело во Фракии проиграно, Кантакузин решил идти на запад, надеясь овладеть Фессалоникой и Македонией. Там также лежали его владения, которые уже подверглись конфискации. Во Фракии у него осталась лишь укрепленная Дидимотика, в которой он оставил семью. Почти одновременно к Фессалонике двинулся правительственный флот во главе с Алексеем Апокавком. Планам Кантакузина захватить Фессалонику не суждено было сбыться: ситуация в Македонии была неблагоприятной
[379]. Население Фессалоники поднялось против Синадина и феодалов. Около тысячи сторонников Кантакузина были изгнаны из города, некоторых убили или арестовали. Как в Константинополе и Адрианополе, дома феодалов и здесь подверглись разграблению и разрушению. Кантакузин разорил пригороды Фессалоники и подверг ее осаде. Массы сельского населения из окрестностей города перешли на сторону фессалоникийцев. Они укрылись за городскими стенами и помогли отразить Кантакузина.
Неудача под Фессалоникой, куда прибыл флот Апокавка, сделала критическим положением Кантакузина и в Южной Македонии. Даже изгнанные из Фессалоники феодалы, в том числе Синадин, стали тайно и явно покидать узурпатора. Неудача постигла его на всей территории страны. Борьба народных масс сыграла при этом решающую роль. Но феодалы не смирились. Они вовлекли в борьбу иноземцев, вмешательство которых резко изменило соотношение сил. Летом 1342 г. Кантакузин завязал переговоры со Стефаном Душаном и с остатками своего войска ушел в Сербию. Одновременно он обратился к эмиру Айдина Умуру с просьбой о помощи.
Власть в Фессалонике после изгнания феодалов захватили зилоты, т. е. ревнители, не имевшие ничего общего с религиозными зилотами-арсенитами, боровшимися за преобладание церкви в светских делах (см. выше). Зилотами называли в это время группировку, игравшую руководящую роль в борьбе с феодалами. Официально они действовали в интересах законной династии, однако сохраняли некоторую независимость от константинопольского правительства, хотя во главе их в течение всего периода господства зилотов в городе стояли представители знатного (возможно, даже императорского) дома — Палеологи.
Основную вооруженную силу зилотов составляли моряки. Зилоты представляли, по всей вероятности, прежде всего интересы состоятельных торговцев и предпринимателей Фессалоники. Они были тесно связаны с Алексеем Апокавком. В отличие от положения в других городах во время гражданской войны, в Фессалонике, хотя она находилась в лагере врагов Кантакузина, власть не принадлежала безраздельно представителю центрального правительства. Зилоты не желали полного и безусловного подчинения Константинополю на любых условиях
[380]. По-видимому, во время пребывания Апокавка в Фессалонике между зилотами и центральным правительством был достигнут компромисс, в результате которого власть в городе была поделена между двумя архонтами. Одним из них был глава зилотов Михаил Палеолог, другим — представитель правительства, сын Алексея Апокавка Иоанн Апокавк. Каждый из архонтов имел при себе свой совет, на заседания которого мог приглашать другого архонта. Архонт зилотов созывал иногда народное собрание горожан. В ведении правительственного архонта находился регулярный городской гарнизон. Однако перевес сил зилотов обусловливал их главную роль в управлении. Основные, если не все, административные должности в городе после изгнания феодалов и их ставленников были заняты также представителями зилотов, нередко людьми низкого происхождения
[381].
Зилоты были ярыми антипаламитами, несмотря на близость исихастов Афона и недавнюю деятельность Паламы в городе. Антипаламизм зилотов и их легитимизм обеспечивал им поддержку фессалоникской интеллигенции. С начала восстания митрополитом Фессалоники стал не питавший сочувствия к паламитам Макарий
[382], а затем горячий сторонник Иоанна Калеки Иакинф
[383]. Ни о каком влиянии еретических учений на зилотов говорить нет оснований. Напротив, всякие поступки и высказывания, противоречащие официальному православию, немедленно и жестоко пресекались зилотами
[384].
Своеобразное сочетание в Фессалонике лояльности к константинопольскому правительству и преобладания независимых от короны сил поражало воображение современников. «Правление зилотов, — писал Григора, — не было похоже на какую-либо форму государства, так как оно не является ни аристократическим, подобно созданному Ликургом для спартанцев, ни демократическим, какое Клисфен основал в Афинах… Оно было некоей необыкновенной властью толпы, которую влечет и направляет воля случая. Ведь некоторые из наиболее дерзких, самовольно организовав некое собрание власти, нападают там на всех без разбора, ведут за собой городскую толпу на угодные им дела, отнимают имущество у богатых, живут в свое удовольствие, приказывают не повиноваться ни одному из повелителей, находящихся вне стен города, и навязывают и другим как устав и закон то, что им нравится»
[385]. Смертельный враг зилотов Кантакузин отмечал, однако, что зилоты были умеренны в своих репрессиях против феодалов, они пытались даже воспрепятствовать грабежам имущества кантакузинистов
[386]. Немало феодалов осталось в городе и после изгнания Синадина. Немало их, по-видимому, вернулось в город поело ухода Кантакузина к сербам. Отказ от поддержки Кантакузина служил, очевидно, достаточным основанием для прекращения преследования. Социальные задачи борьбы отступали перед политическими
[387]. Несомненно, движение зилотов пережило несколько этапов, и на первом этапе носило умеренный характер, находясь в целом в русле правительственной политики
[388].
Правительство Константинополя не сумело воспользоваться передышкой для упрочения своего положения. Его политика не была достаточно твердой и последовательной. Оно отняло имения у сторонников Кантакузина и роздало их своим приверженцам
[389]. Но тут же наделило их не меньшими привилегиями, чем те, какими обладали мятежные феодалы. Оно удвоило налоги с ряда монастырей Афона (может быть, исихасстских)
[390]. но одновременно увеличило налоговые привилегии других афонских монастырей
[391]. Самое главное — оно не оформило и не упрочило взаимными обязательствами стихийно сложившегося союза с городами. Наконец, не имея достаточно ни средств, ни решимости, оно не пошло по пути формирования широкого войска из элементов, враждебных Кантакузину, а стало нанимать для единовременных кампаний неверные и хищные отряды сельджукской вольницы.
Заключив договор со Стефаном Душаном, по которому обе стороны сохраняли право делать приобретения в Македонии, не мешая друг другу
[392], Кантакузин с помощью сербов начал весной 1343 г. наступление, постепенно приближаясь к Фессалонике. Он захватил Соек, Петру, Старидол, Платамон, Сервию и крупную крепость Веррию. Большое значение для упрочения его позиций имел переход на его сторону Фессалии. В лагерь осаждавшего Серры Кантакузина прибыли послы фессалийских феодалов с просьбой принять Фессалию под свою власть. Кантакузин назначил пожизненным, почти независимым правителем Фессалии своего племянника, некогда сменившего Синадина на посту правителя Эпира, Иоанна Ангела. Иоанн расширил подвластный ему удел за счет соседнего Эпира и каталонских владений. Когда Кантакузин осадил Фессалонику, Иоанн Ангел привел к нему сильный отряд. Не овладев Фессалоникой, невозможно было утвердиться в Южной Македонии, Но зилоты сорвали этот план Кантакузина. Они организовали стойкую оборону города и снова отразили Кантакузина.
Неудача под Фессалоникой сопровождалась разрывом с Душаном. Сербский краль был раздражен захватом Кантакузином Веррии. Венеция, которая поставляла Душану оружие и содействовала ему в найме западных рыцарей, побуждала краля перейти на сторону константинопольского правительства. Душан согласился принять послов из Константинополя и занял открыто враждебную Кантакузину позицию. Энергичную борьбу с Кантакузином в Южной Македонии вел и Алексей Апокавк. Он снова прибыл с флотом и сельджукскими отрядами в Фессалонику. Сельджуки совершили рейд в глубь занятой Кантакузином территории и разорили окрестности Веррии. Узурпатор торопил Умура с присылкой помощи.
Прежде чем прийти к Кантакузину, Умур спас его семью в Дидимотике. Осажденная правительственными войсками, Ирина в отчаянии обратилась к Ивану Александру. Но прибывшие болгарские войска, отогнав константинопольцев, сами стремились овладеть родовым гнездом Кантакузинов. В разгар зимы 1342/43 г. Умур с сильным войском высадился в устье Марицы, поднялся по ее течению и отбросил болгар от Дидимотики. Сильные холода заставили его скоро уйти домой, но осенью 1343 г. он сам на трехстах судах явился к Кантакузину в Южную Македонию. Разумеется, постоянная готовность Умура оказать помощь Кантакузину определялась не только их тесной личной дружбой. Византийские феодалы видели в турках единственную значительную силу, способную поддержать их в борьбе с центральным правительством и восставшим народом. Кантакузин надеялся также с помощью Умура, стремившегося к созданию морской державы и к господству в Эгейском море, противостоять экспансии итальянских республик (Генуи и Венеции)
[393]. Туркам вмешательство в дела Византии приносило непосредственные материальные выгоды (грабеж византийской территории). Представлялась выгодной, очевидно, также поддержка слабейшего, во всяком случае не той стороны, которая стремилась к утверждению единства государства и подчинению феодальной вольницы.
С приходом Умура Апокавк должен был очистить Южную Македонию и вернуться в Константинополь. Ушли и сельджукские отряды, помогавшие ему. Однако Умур и Кантакузин не стали терять время на подчинение Македонии, где угрожало столкновение с Душаном, я на новую осаду Фессалоники. Кантакузин решил воспользоваться полчищами Умура для борьбы за Фракию, обладание которой в конечном итоге решало исход борьбы. В конце осени 1343 г. он отвоевал много городов Фракии и вступил в Дидимотику. Турки страшно опустошили занятые Кантакузином районы.
Умур скоро должен был уйти в Азию. Организовалась новая латинская коалиция против эмира Айдина, флот которого препятствовал нормальной торговле в Эгейском море. Организатором коалиции был папа Климент VI
[394]. В нее вошли Генуя, Венеция, король Кипра, родосские рыцари и мелкие владетели Архипелага. Коалиция была враждебна не только эмиру, но и его союзнику Кантакузину, и константинопольскому правительству, также прибегавшему к помощи турок. Началась длительная ожесточенная война между латинянами и турками Айдина.
С уходом Умура положение Кантакузина снова резко ухудшилось и в Македонии, и во Фракии. Под предлогом помощи Константинополю Душан вытеснял Кантакузина из Македонии, овладевая одним городом за другим. Он захватил Лерин, Воден, Касторию, почти всю Албанию, кроме Диррахия, где снова утвердились анжуйцы. Душан отдавал в занятых городах все командные посты знатным сербам. Сербским было заменено и все высшее греческое духовенство. Лишь второстепенные должности были оставлены в руках покорившихся греческих архонтов
[395]. Значительная часть земель византийских феодалов перешла в руки сербских властелей
[396].
Во Фракии одновременно действовали войска Кантакузина, константинопольского правительства, Ивана Александра, турецких эмиров и независимого болгарского властителя Момчила. Апокавк добился союза с болгарами против Кантакузина. В качестве платы за этот союз Иван Александр получил на севере Фракии обширную область с такими крупными городами и крепостями, как Филиппополь, Стенимах, Цепена, но фактически не оказывал Константинополю никакой помощи, преследуя собственные цели. Момчил некогда был изгнан Иваном Александром из Болгарии, побывал в Сербии, а затем утвердился на границе между Болгарией и Византией, терроризируя окрестности. Он набрал из болгар пятитысячное войско, отличавшееся высокой боеспособностью и неустрашимостью, и стал заметной силой во Фракии. Зимой 1343/44 г. Кантакузин сумел перетянуть Момчила на свою сторону и отдал ему в управление обширную область в Родопах. Апокавк завязал с Момчилом переговоры и сумел склонить его к разрыву с Кантакузином, даровав Момчилу титул деспота. Положение Кантакузина во Фракии снова пошатнулось. Апокавк опять подступил к Дидимотике.

Алексий Апокавк. Миниатюра рукописи Парижской национальной библиотеки. XIV в.
Судьбы Византии и самый исход борьбы двух группировок византийской знати окончательно оказались в руках иностранцев. Восставшее против феодалов население деревень и многих городов было терроризировано иноземными отрядами, прежде всего турецкими, и не могло продолжать борьбу. Гражданский характер войны в Византии претерпел значительные изменения. Борьба сохраняла социальный характер лишь в Фессалонике и отчасти в Константинополе. Но и Фессалоника была изолирована сербами от Македонии и Фракии. Народное движение, на которое опиралось константинопольское правительство в борьбе с Кантакузином, было задушено иноземцами.
В начале 1344 г. часть флота Умура в столкновении с силами коалиции была оттеснена к берегам Юго-Восточной Македонии. Около трех тысяч турок высадилось на берег. Их флот был сожжен латинянами, и турки решили возвращаться сушей. Около Стефанианы сербский воевода Прелюб пытался преградить им дорогу, но потерпел поражение. Этот турецкий отряд прибыл к Кантакузину в тяжелое для него время. Турки помогли узурпатору отразить болгар, и Иван Александр заключил мир с Кантакузином. Апокавк был снова отброшен от Дидимотики. Момчил порвал с Апокавком, получив от Кантакузина титул севастократора и признав его суверенитет. Он был, однако, фактически независим и энергично расширял свою область, включив в нее Ксанфию и Анастасиополь и не считаясь ни с Кантакузином, ни с Константинополем.
С лета 1344 по лето 1345 г. Кантакузин подчинил большую часть Фракии. Умур еще раз пришел на помощь своему союзнику, достигнув успеха в борьбе с коалицией. В январе 1345 г. он вернул Смирну, захваченную латинянами в октябре 1344 г. С приходом Умура у центрального правительства остались в сущности Константинополь с округой, города Энос и Гексамилий, полуостров Галлиполи да далекая полунезависимая Фессалоника.
В Константинополе царило уныние. Среди сановников, окружавших Анну Савойскую, начались разногласия. Подняли голову сторонники мирного соглашения с Кантакузином. Патриарх был готов винить в неудачах Алексея Апокавка, главного организатора борьбы с Кантакузином. 11 июня 1345 г. Апокавк посетил дворцовую тюрьму, в которой были заключены приверженцы Кантакузина. Заключенные, воспользовавшись тем, что Апокавка плохо охраняли, набросились на него и убили. Когда весть об этом разнеслась по городу, народ в ярости поднялся еще раз против всех сочувствовавших Кантакузину. Прокатилась новая волна погромов. Многие знатные, в том числе непосредственные убийцы Апокавка, были уничтожены. Народ сохранял непримиримую враждебность к Кантакузину и, по-видимому, в целом поддерживал политику Апокавка. Но с гибелью Апокавка положение еще более ухудшилось.
В Константинополе царило замешательство, но Кантакузин отказался от мысли осаждать столицу с помощью турок. Он намеревался начать борьбу за Македонию, опираясь на войска Умура… Но прежде чем уйти из Фракии, нужно было расправиться со ставшим опасным Момчилом. 7 июля в ожесточенном сражении турки уничтожили его вместе с его войском
[397]. В августе Кантакузин и Умур двинулись против сербов, осаждавших Серры. В войсках союзников находился и отряд Сулеймана — сына эмира Сарухан. Но на пути к Серрам Сулейман неожиданно умер. Опасаясь осложнений в отношениях с эмиром Сарухана и получив весть о новом походе коалиции против него, Умур ушел в Азию и более уже не приходил на помощь Кантакузину (в мае 1348 г. он был разбит латинянами у Смирны и погиб в сражении). Кантакузин вернулся в Дидимотику.
Еще в начале военных действий латинской коалиции против эмира Айдина Кантакузин предвидел, что он не может более всецело рассчитывать на помощь Умура. К тому же в борьбе за Восточную Фракию, где часто появлялись османы, Кантакузин не мог пользоваться войсками враждебных османам сельджуков из боязни столкновения с османским эмиром Урханом. Кантакузин решил вступить в союз с Урханом, чтобы с его помощью продолжать борьбу за трон. Между тем отдельные отряды османов уже привлекались Апокавком к борьбе с Кантакузином, и Константинополь также хлопотал о союзе с Урханом. В 1344 г. Анна уже вела с ним переговоры. Но Кантакузин перешел дорогу константинопольскому правительству. В 1345 г., завоевав Херсонес Фракийский, Кантакузин заключил союз с османским эмиром Сулейманом, сыном Урхана. Сулейман помог утвердиться Кантакузину в Восточной Фракии и стал посредником в переговорах с его отцом, Урханом. Союз был заключен. Его было решено скрепить браком Урхана с дочерью Кантакузина Феодорой. Ради победы своей партии и ради своих честолюбивых планов Кантакузин пошел на беспримерное унижение империи: дочь христианнейшего византийского императора должна была отправиться в гарем мусульманина.
Между тем в Фессалонике произошли новые крупные события. Влияние зилотов на народные массы в городе постепенно слабело. Политика представителей состоятельных торговцев и предпринимателей, по-видимому, не отвечала интересам беднейших слоев горожан. Возможно, зилотов ослабил и уход из города (после снятия осады 1343 г.) сельского населения, укрывавшегося за стенами Фессалоники
[398]. Активизировались враждебные зилотам силы, организатором которых стал правительственный архонт Иоанн Апокавк и его архонтский совет. Его влияние сильно выросло. Еще до решительных событий лета 1345 г. в городе был раскрыт заговор, вероятно, в пользу Кантакузина. Один из видных заговорщиков (Гавала) происходил из состоятельных горожан. Заговорщики были казнены. Но скоро зилоты получили удар с той стороны, откуда они его не ожидали. В конце весны — начале лета Апокавк, заманив Михаила Палеолога на заседание своего совета, приказал умертвить его и захватил в свои руки всю полноту власти в Фессалонике. Начались аресты зилотов. Ни о каком организованном сопротивлении зилотов или защите их со стороны народных масс на этом этапе источники не говорят.
На первых порах Апокавк не отступал от старой политики. «Боясь отца», говорит Кантакузин, Апокавк был милостив к бедным и обложил кантакузинистов тяжелой контрибуцией
[399]. Однако вести об успехах Кантакузина во Фракии оказывали сильное воздействие на его самого и его окружение. Сообщение о смерти Алексея Апокавка в Константинополе послужило сигналом для его сына к переходу на сторону смертельного врага своего отца. Иоанн Апокавк не верил более в победу Константинополя. Он завязал переговоры с сыном Кантакузина Мануилом, правившим Веррией
[400]. На особом заседании архонтского совета было решено признать власть Кантакузина.
В то время как убийство Михаила Палеолога и аресты зилотов были равнодушно встречены горожанами, замысел Апокавка отдать город Кантакузину вызвал бурю негодования. Андрей Палеолог, брат Михаила, обратился с призывом к матросам подняться против Апокавка и кантакузинистов. Моряки с помощью населения города оттеснили Апокавка и его сторонников к городскому акрополю, в котором они и укрылись. Но городской гарнизон отказался поддержать Апокавка. Воины не присоединились к восставшим, но не выпустили из крепости пытавшихся бежать из города знатных и согласились выдать их разгневанному народу на расправу. Знатных сторонников Апокавка, и прежде всего его самого, сбросили со стены крепости под ноги бушующей толпы, которая добивала и рубила на куски поочередно жертву за жертвой.
Движение в Фессалонике поднялось на новую ступень. Борьба с феодалами стала беспощадной. По всему городу громили дома врагов зилотов, расправляясь с ними как с кантакузинистами. Едва избегнувший гибели Димитрий Кидонис писал: «Стратиот (прониар) лишен оружия, чернь тащит того, кто обычно во всем повелевал многими. Раб не признавал господина, и того, кого ранее справедливо обвинял, теперь требовал подвергнуть каре. Рабы и бедняки, ставшие господами оружия и денег, считали подходящей для тех, кто владел этим ранее, участь рабов и, связав их, бросали в темницы, не позволяя им даже пользоваться
солнечным светом
[401]… Раздетыми, в одном нижнем белье, выводили тех, которые много раз сражались за их свободу и свободу города, влекли их с веревками на шеях, подобно рабам. Здесь раб гонит господина, купившего — купленный, стратига — поселянин, стратиота — земледелец»
[402].
Город был полностью очищен от феодальной знати. Лишь у акрополя было перебито около ста знатных. Зилоты снова контролировали положение. Не могло быть и речи о сдаче города Кантакузину. По-видимому, среди зилотов в результате этого восстания возобладали наиболее радикальные элементы. «Тогда как лучшие в Фессалонике пали, — говорил Григорий Палама, — дурно начальствуют ремесленники и худшие люди»
[403]. Но и после переворота 1345 г. зилоты не внесли, очевидно, существенных изменений в структуру власти в городе. Они сохранили пост правительственного архонта. Им стал знатный константинополец протосеваст Алексей Метохит.
Фессалоника оставалась в сущности единственной опорой центрального правительства в Македонии. Но она на этот раз оказалась еще в большей изоляции, чем в 1342 г. Сам Константинополь своим союзом с Душаном обрекал фессалоникийцев на одиночество. Владения сербского краля придвинулись вплотную к городу.
Осенью 1345 г. Душан взял Серры и Веррию. Вся Македония, кроме Фессалоники, оказалась в его руках. Его владения достигали на востоке реки Месты
[404]. Власть Душана распространилась и на Афон. Заинтересованный в расположении афонского протата, Душан осыпал монастыри богатыми дарами, жалуя им новые владения и привилегии. Права афонских монастырей во время господства Душана достигли своего предельного расширения
[405]. Обласканные Душаном афонские проты пошли навстречу желаниям сербского краля. Опираясь на протат Афона, болгарского патриарха и охридского архиепископа, весной 1346 г. Душан превратил сербское архиепископство в патриархию, а 16 апреля новый сербский патриарх торжественно венчал его императором сербов и греков. Принимая этот титул, Душан недвусмысленно заявлял о своих планах основать на развалинах Византии Сербо-Греческое царство с центром в Константинополе
[406].
Душан разделил свои владения на две части: собственно Сербию он отдал в управление своему сыну Стефану Урошу, который в 1345 г. был коронован как краль Сербии; себе он взял южные завоеванные земли с центром в городе Скопле, в которых был значительным процент греческого населения. Введя при своем дворе византийский церемониал, сохраняя нетронутой на занятых землях византийскую систему управления, оставляя второстепенные посты в руках греческих архонтов, издавая грамоты на греческом языке, осыпая милостями греческие церкви и монастыри, Душан стремился показать, что он не намерен сокрушать империю, а претендует лишь на высшую власть в ней. Он снова безуспешно вел переговоры с Венецией о военном союзе для борьбы за Константинополь. Договор с Анной Савойской утратил для него всякое значение.
Кантакузин между тем с помощью османов укрепился во Фракии. 21 мая 1346 г. Кантакузин и Ирина были коронованы в Адрианополе иерусалимским патриархом. Коронация должна была подкрепить акт провозглашения Кантакузина императором 28 октября 1341 г. Кантакузин и на этот раз не изменил формулы славословия — он по-прежнему претендовал лишь на соправительство, рассчитывая внести раздоры в лагерь Анны Савойской и Иоанна Калеки. И это ему удалось. Одновременно собор преданных Кантакузину епископов, собравшийся в Адрианополе, низложил патриарха Иоанна Калеку. Удачно завершил Кантакузин и укрепление союза с Урханом. Летом 1346 г. в Силимврии состоялась помолвка Урхана с Феодорой, и дочь Кантакузина уехала к османскому двору.
Положение центрального правительства было крайне тяжелым. В городе ощущался недостаток продовольствия. Соглашение с Иоанном Кантакузином многим казалось единственным выходом. Обстановка в столице еще более ухудшилась в результате неудачного союза с эмиром Сарухана. Летом 1346 г. Анна Савойская наняла у него 6-тысячный отряд для войны с Кантакузином. Но, найдя Фракию совершенно опустошенной, турки Сарухана не пожелали воевать с узурпатором — даже в случае победы добыча не могла быть обильной. Разлагающую агитацию среди них вели и турки Умура, также находившиеся во Фракии
[407]. Нанятый Анной отряд ушел грабить Южную Болгарию. На обратном пути он расположился близ Константинополя и потребовал от Анны награды за свою «службу». Получив отказ, турки стерли с лица земли пригороды столицы, вошли в соглашение с Кантакузином и ушли домой.
Как и в 1328 г., во время борьбы двух Андроников, падение Константинополя и правящей в нем группировки было ускорено итальянцами. В июне 1346 г. один из участников латинской коалиции, генуэзец Симоно Виньози, захватил Хиос. Анна отправила против Виньози несколько трирем, поставив, во главе их итальянца Фоччолати. Вместо того, чтобы идти на Хиос, Фоччолати захватил большое торговое судно генуэзцев и привел его в Константинополь. Возмущенные генуэзцы Галаты блокировали столицу. Хлеб Северного Причерноморья и занятых турками малоазийских областей перестал поступать на рынок, и в городе начался голод. Анна обещала генуэзцам выдать им Фоччолати на расправу. Она торопилась помириться и с паламитами. 2 февраля 1347 г. Анна низложила Иоанна Калеку и возвела вместо него на патриарший престол паламита Исидора. Палама был выпущен из тюрьмы. Но ничего уже не могло спасти положения. Фоччолати вступил в сговор с Кантакузином, и в ночь на 3 февраля подступившие к городу феодалы нашли Золотые ворота открытыми.
Население столицы уже не могло или не пожелало сопротивляться Кантакузину. Но узурпатор опасался прибегать к респрессиям. Он хотел придать своей победе вид полюбовного договора. 8 февраля с участием синклитиков было выработано специальное соглашение, согласно которому вся власть должна была в течение десяти лет оставаться в руках Кантакузина. Затем Иоанн V должен был стать равноправным соправителем Иоанна VI Кантакузина (1347–1354). Объявлялась всеобщая амнистия. Никто не мог требовать возмещения имущества, расхищенного или разрушенного в ходе войны. Однако недвижимая собственность приверженцев Кантакузина, права на которую были ликвидированы центральным правительством, должна была быть возвращена прежним владельцам
[408]. Анна Савойская и Иоанн V должны были принести клятву в том, что никогда не выступят против Кантакузина и во всем будут следовать его распоряжениям
[409]. Формально были соблюдены и требования традиционного принципа легитимности: Кантакузин выступал в качестве главы правящей семьи — его дочь Елена стала женой Иоанна V
[410]. Но власть Кантакузина не могла стать полностью законной без освящения ее константинопольским патриархом, и 13 мая была совершена новая коронация Кантакузина и Ирины.
Крупные византийские феодалы оказались победителями в наиболее критический момент византийской истории, когда внешнеполитическая обстановка требовала сплочения всех сил государства. Недостаточная организация антифеодальных сил в городе, нерешительность центрального правительства и его страх перед народными массами, военное вмешательство иноземцев при крайней слабости регулярных правительственных сил — все это обусловило неудачу центральной власти в борьбе с сепаратистскими феодальными тенденциями. Если междоусобная борьба двух Андроников подорвала уже слабые силы империи, то война 1341–1347 гг. нанесла Византии в сущности смертельный удар.
Большая часть западных владений была потеряна. Остатки византийских земель в Эпире, Фессалии и Македонии были изолированы сербами и находились под постоянной угрозой полной ликвидации. Фракия представляла собой пустыню, «ибо у несчастных фракийцев не осталось ни вьючных животных, ни прочего скота, ни пахотных быков, с помощью которых земледельцы проводят в земле борозды и добывают ежедневную пищу, необходимую для желудка. Так как земля не засевалась и была совсем лишена поселян, превратившись в обиталище зверей, недостаток продовольствия сильно смущал василевса Кантакузина…, не менее он угнетал и жителей Византия»
[411]. То, что еще оставалось во Фракии, становилось жертвой турецких банд, которые не прекратили своих набегов, предпринимая их независимо от договоров Константинополя с их эмирами и уводя в рабство остатки поредевшего сельского населения. Разорены были и владения самих феодалов. Да и сами размеры подвластной Константинополю Фракии резко сократились: обширная область на севере провинции была отнята болгарами. Сбор налогов в этой провинции стал практически невозможным. Фраза Кантакузина, брошенная им в злобном ослеплении, в значительной мере оправдалась. Он сказал, решившись призвать турок: «Если не я, то и он (Иоанн V) пусть не царствует! Пусть вообще не над кем будет царствовать!»
[412].
Эгейское море оказалось окончательно вне контроля византийского правительства. Флот практически не существовал. Еще осенью 1346 г. Виньози захватил обе Фокеи (Старую и Новую). Острова Хиос, Самос, Никария, Панагия и др. вместе с Фокеями стали генуэзской колонией. Связь Константинополя с Лесбосом и другими более мелкими островами, еще признававшими власть империи, быстро слабела.
Казна была пуста. Еще в 1343 г. Анна Савойская заложила венецианцам за 30 тыс. дукатов драгоценные камни императорского венца, которые уже никогда не были выкуплены. Расходы на содержание императорской семьи не составляли теперь и десятой доли домашних расходов Кантакузина до начала гражданской войны. Место драгоценностей в императорском убранстве заняли позолота и стеклянные подделки. Даже во время торжественных трапез во дворце использовались вместо дорогих кубков глиняные и оловянные сосуды.
Фессалоника, где у власти держались зилоты, отказалась признать власть константинопольского правительства, оказавшегося в руках Кантакузина. Зилоты публично сжигали на площади его указы и распоряжения
[413]. Не признали они законным и низложение Иоанна Калеки и избрание нового патриарха исихаста Исидора, хотя это было сделано не Кантакузином, а Анной Савойской, в защиту которой зилоты официально выступали. Иакинф умер в середине 1346 г. На смену ему в 1347 г. из Константинополя был прислан в качестве митрополита Фессалоники сам глава исихастов Григорий Палама, но зилоты не пустили его в город. Однако их положение ухудшалось день ото дня. Помощь не могла прийти ниоткуда. Центральное правительство было отныне им враждебно. Сербы господствовали в окрестностях города. Ощущался острый недостаток продовольствия. Владельцы пригородных участков, богатые и бедные, были разорены, торговые связи нарушены. Зилоты не могли удержать своего влияния на уставшие народные массы. Правительственный архонт протосеваст Метохит вел упорную борьбу за сплочение всех враждебных зилотам элементов. Сохранение в городе архонта центрального правительства даже после победы Кантакузина свидетельствует либо о слабости зилотов, либо об их крайней нерешительности. Падение их власти стало вопросом ближайшего будущего.
Кантакузин победил, но его победа была пирровой. Хозяйство страны лежало в развалинах, внешнее положение империи было отчаянным. Чтобы поднять Византию, надо было опереться на ее наиболее передовые и жизнеспособные социальные силы. Но именно с этими силами Кантакузин воевал и подорвал их с помощью своих турецких союзников. Эти силы составляли лагерь его классовых врагов, и он не надеялся на их помощь и не искал ее с этой стороны. Напротив, проводимая им политика была враждебна городским ремесленникам, купцам и предпринимателям. Он повысил старые налоги и ввел новые с ремесленников и торговцев
[414]. Увеличение торговых пошлин на продажу продовольствия в Константинополе вело к стремительному росту цен на продукты
[415].
Став главой государства, Кантакузин столкнулся с теми же проблемами, которые стояли перед Апокавком и Иоанном Калекой. Он понимал, что истощенное государство, лишь оставаясь единым, еще имеет некоторые шансы на сопротивление внешним врагам. Кантакузин награждал своих верных сторонников земельными пожалованиями
[416]. Но он не мог осуществлять этого в больших масштабах, не мог удовлетворить основного требования феодалов, приведших его к власти, а именно — раздачей широких привилегий и изъятий способствовать дальнейшему росту их независимости от центральной власти. Кантакузин — глава империи середины XIV в. — не мог совместить своих интересов с Кантакузином — главой крупной землевладельческой аристократии. Приход его к власти был бедствием для Византии: он противоречил прогрессивному ходу исторического развития империи. Его правление было кратким эпизодом, но оно пришлось на критический момент истории государства. Время для возрождения страны при той конкретной исторической обстановке, в которой империя оказалась, было упущено навсегда.
Любопытным контрастом с судьбой империи и политикой Кантакузина является судьба византийской части Морей и роль ее наместника, сына Кантакузина Мануила, бывшего некогда деятельным помощником отца в борьбе против центрального правительства и поднявшихся на его защиту городов. Отец назначил Мануила почти независимым правителем Морей в конце 1348 или в начале 1349 г. Положение Морей в это время было крайне тяжелым. Не прекращались столкновения с Ахайским княжеством. Флот Умура совершал на полуостров постоянные пиратские набеги. Турки даже взыскивали налоги с жителей. Враждующие флотилии Генуи и Венеции нередко вознаграждали себя грабежом греческого населения: они уводили жителей в рабство — на галеры и иноземные невольничьи рынки. Среди феодалов Морей царили раздоры, большинство их находилось в состоянии непрерывного бунта против наместника императора. Едва Мануил объявил о сборе с них средств на строительство флота, как они восстали и против него. Опираясь на союз с городами, прежде всего на Мистру и Монемвасию, Мануил сумел смирить феодальную вольницу и подчинить ее своей власти
[417]. Затем Мануил отразил набеги пиратствующих флотилий и расширил свои владения в войнах с Ахайским княжеством. Он положил начало полному обособлению Морей от империи.
Уступая господствующим среди класса феодалов центробежным тенденциям, Кантакузин избрал компромиссный путь: он стал раздавать семейные уделы. Государство раздроблялось, но правители почти независимых уделов были членами семьи Кантакузина, и их выступление против Константинополя казалось маловероятным. Так, еще в 1343 г. Фессалию он отдал своему племяннику Иоанну Ангелу. Когда старший сын Кантакузина, угрожая возмущением, потребовал выделения и ему независимого княжества, отец отдал ему во Фракии обширную область от Дидимотики до Христополя. Уделом Мануила, как было сказано, была Морея. Впоследствии, как мы увидим, появится и удел Иоанна V.
С самого начала Кантакузин не чувствовал себя прочно на престоле. Уже в 1347 г. была предпринята попытка выкрасть Иоанна V, чтобы начать новую войну против Кантакузина. Недовольна была и часть феодалов: многие из них требовали полного отстранения от престола Палеологов. Торговые и предпринимательские слои столицы плохо откликнулись на призыв Кантакузина вносить пожертвования в пустующую государственную казну. Строительство флота, начатое Кантакузином, продвигалось слишком медленно. Положение усугубило новое страшное бедствие, обрушившееся на Византию в 1348 г. и затем прокатившееся почти по всей Европе, — знаменитая «черная смерть» (чума), жертвой которой стала значительная часть населения Константинополя.
На Западе Душан продолжал свои завоевания. В конце 1347 г. и в начале 1348 г. он завоевал Янину, захватил южную часть Эпира, Акарнанию и Этолию. В 1348 г. в Фессалии умер Иоанн Ангел, и воевода Душана Прелюб занял ее почти без сопротивления: обладавшая некогда крепким феодальным войском Фессалия была в это время сильно ослаблена чумой
[418]. Кантакузин обратился за помощью к своему зятю Урхану. Но османы, едва достигнув занятых сербами областей, бросились грабить их, а затем с добычей немедленно повернули обратно.
В конце 1348 — начале 1349 г. империя испытала новое величайшее унижение: она потерпела позорное поражение в столкновении с обосновавшейся на ее земле маленькой генуэзской колонией Галатой. Желая оживить торговлю на рынках Константинополя, чтобы с помощью доходов от нее ускорить строительство флота, Кантакузин внес, наконец, изменения в свою таможенную политику. Он снизил ввозные пошлины на продовольствие в гаванях столицы и сократил раздачу генуэзцам на откуп торговых пошлин. Этот акт суверенного государства вызвал взрыв негодования генуэзцев, привыкших хозяйничать в империи. Они уже мечтали об устройстве на Босфоре собственной таможни, чтобы полностью контролировать торговлю между Средиземным и Черным морями. Льготные договоры с византийскими императорами казались им теперь стеснительными: они препятствовали византийским торговым судам плавать к берегам Северного Причерноморья, от устья Дуная до Керченского пролива
[419].
Галатцы потребовали уступить им возвышенность за северной стеной города, но получили решительный отказ. Пользуясь отсутствием Кантакузина (он лежал больной в Дидимотике), генуэзцы открыли враждебные действия. Они сожгли загородные дома у стен столицы, ворвались в гавань, где шло строительство флота, и спалили верфи и готовые суда. Генуэзцы захватили возвышенность над Галатой и приступили к строительству там укреплений, которые росли с неимоверной быстротой. Небольшой правительственный отряд не мог помешать им в этом. Суда генуэзцев снова блокировали византийскую столицу.
Вернувшись в Константинополь, Кантакузин был вынужден созвать народное собрание. Ненависть к генуэзцам победила неприязнь к Кантакузину — новые суммы на строительство флота были собраны. В короткий срок было построено девять больших военных судов и много мелких. Золотой Рог перестал безраздельно принадлежать генуэзцам. Галата запросила мира, но отказалась вернуть возвышенность. 5 марта 1349 г.
[420] византийские суда напали на флот Галаты, но неопытные флотоводцы были разгромлены. Построенный с таким трудом флот был сожжен. Жители Галаты, разъезжая по Босфору, открыто издевались над императором. Опасаясь за судьбу Галаты, Генуя выступила посредницей в конфликте. Был заключен мир: генуэзцы Галаты удержали возвышенность.
Империя получила хороший урок. И тогда Кантакузин решился на более серьезные меры: он увеличил пошлины на итальянские товары и снизил пошлины с отечественных с 10 до 2 %
[421]. Средства казначейства заметно возросли, что позволило выстроить новый флот, с помощью которого Кантакузину удалось вернуть Старую Фокею.
Положение в Македонии оставалось почти неизменным — она находилась во власти Душана. Наиболее значительным успехом Кантакузина было здесь возвращение Фессалоники под власть Константинополя. К концу 1349 г. зилоты окончательно утратили главенствующее положение в городе. Не веря больше в свои силы и не желая подчиниться Кантакузину, они пытались завязать переговоры с Душаном о передаче ему города. Этот замысел сделал многих нейтральных противниками зилотов. Протосеваст Алексей Метохит сумел направить деклассированные элементы против моряков. Их квартал у гавани подвергся разгрому. Андрей Палеолог бежал из города и искал убежища на Афоне. Алексей Метохит просил Кантакузина принять город под свою власть. В 1350 г., взяв с собой Иоанна V — из опасения перед фессалоникийцами, столь долго отказывавшими ему в повиновении, — Кантакузин прибыл в Фессалонику. Вместе с ним приехал и Григорий Палама, занявший, наконец, свою кафедру. Последний оплот сопротивления феодалам в империи был ликвидирован.
Воспользовавшись отсутствием в Македонии значительных сербских сил, которые Душан увел в поход против Боснии, Кантакузин начал отвоевывать город за городом. Его турецкие союзники наводили ужас на население. Города сами открывали Кантакузину ворота. Была возвращена Веррия. Турки доходили до Скопле, который также признал суверенитет империи. Штурмом был взят лишь Воден. Многие сербские воеводы, опасаясь турок и местного греческого населения, отказывались от сопротивления. Лишь Прелюб у Сервии остановил византийцев и не пустил их в Фессалию.

Вход Христа в Иерусалим. Мозаика Церкви св. апостолов в Фессалонике. XIV в.
Но успехи Кантакузина были непрочны. Прервав войну в Боснии, Душан стал легко возвращать отнятое Кантакузином. В том же 1350 г. сербский царь сделал последнюю попытку втянуть Венецию в войну против Византии, соблазняя венецианцев перспективой занять место генуэзцев в Галате. Впрочем, война в Боснии не была окончена, и Душан склонился к миру с Кантакузином. Мир был заключен. Хотя формально и были признаны права Византии на Акарнанию, Фессалию, Сервию и другие города и области, занятые сербами, практически Кантакузин удерживал лишь то, что успел освободить
[422]. Воден же Душан отобрал, невзирая на договор, которому сербский царь не придавал серьезного значения. Скоро турки ушли домой, и Кантакузин оказался бессильным перед новым сербским наступлением. К весне 1351 г. Душан восстановил в Македонии положение, существовавшее к началу 1350 г.,
[423] и вернулся в Боснию.
После неудачного похода против сербов Кантакузин пытался заключить союз с Болгарией. Однако Иван Александр отказался, указав на то, что союзники Кантакузина — турки — постоянно грабят болгарские земли. Кантакузин обещал болгарскому царю, что, если тот поможет ему деньгами для строительства флота, он перестанет нанимать турецкие отряды, и, опираясь на флот, будет защищать от турок берега как Византии, так и Болгарии. Душан постарался расстроить соглашение, которого добивался Кантакузин. Кроме того, Иван Александр понимал, что флот нужен Кантакузину не столько для борьбы с турками, сколько для действий против генуэзцев. Союз не состоялся
[424]. На пороге нашествия турок в Европу балканские государства оказались разобщенными.
Слабость Византии особенно ярко проявилась во время новой войны между Венецией и Генуей, в которой империя играла жалкую роль и которая в значительной степени велась за ее наследство. Венеция не хотела смириться с засильем генуэзцев в Черном море. В сентябре 1350 г. генуэзцы конфисковали вошедшие в Азовское море без их позволения венецианские суда. В отместку венецианцы напали у Эвбеи на генуэзский флот, шедший в Галату и Каффу. Началась война. Венеция вступила в союз с Педро IV Арагонским. Византия пока сохраняла нейтралитет. Весной 1351 г. венецианско-арагонский флот блокировал Галату. Подозревая Кантакузина в содействии их врагам, генуэзцы начали обстрел Константинополя из метательных орудий. В мае Византия примкнула к антигенуэзскому союзу. Венеция брала на себя снаряжение 12 византийских трирем. Галата по этому соглашению в случае победы должна была быть разрушена. Генуэзцы в свою очередь добились союза с Урханом, который стал помогать им своим флотом, захватывая византийские торговые суда и разоряя берега Фракии.
К началу венецианско-генуэзской войны мощь Османского государства значительно возросла. В 1350 г. османы завоевали эмират Караси. Эмират Айдин после смерти Умура перестал быть их главным соперником. Османы приобретали главенствующее значение в Малой Азии
[425]. Отношения османов с Византией стали ухудшаться. В непосредственном разрыве с Урханом сыграл роль инцидент с посольством Душана к Урхану. Сербский царь решил добиться союза с османами. Но его послы были перехвачены Кантакузином вместе с дарами Душана Урхану. Разгневанный султан оказался в стане врагов своего тестя.
Союзники возложили на Кантакузина задачу осады Галаты, а сами двинулись против генуэзского флота. Мстя Кантакузину, генуэзцы взяли и разорили Ираклию и Созополь. Остатки государственной казны ушли на выкуп пленных. 13 февраля 1352 г. в виду Константинополя разыгралось генеральное морское сражение, в котором приняли некоторое участие и византийские суда. Обе стороны понесли тяжелые потери. Исход битвы остался неясным. Венецианцы укрылись после сражения в Константинополе, а генуэзцы не допускали подвоза в столицу продовольствия поморю. В Константинополе начались голод и болезни. Венецианцы были вынуждены уйти, оставив Кантакузина одного лицом к лицу с генуэзцами. Византия должна была просить мира, и в мае он был заключен. Византия соглашалась на расширение территории Галаты и признавала исключительные права генуэзцев на Азовское море — византийские суда могли плавать в Тану лишь с разрешения генуэзцев. Генуя обязалась не покупать земельных владений в империи без позволения императора
[426].
Между тем Византии грозила новая междоусобная война. Находившийся в Фессалонике Иоанн V, достигший к этому времени 20-летнего возраста, решил избавиться от Кантакузина. К войне против него Иоанна побуждали и Душан, и Венеция, недовольная изменой Кантакузина союзу с нею и его договором с генуэзцами. Венецианцы снабдили Иоанна V деньгами на условии уступки им острова Тенедоса. Душан обещал Иоанну и деньги, и войско. Обеспокоенный Кантакузин отправил в Фессалонику к Иоанну его мать Анну Савойскую, которая убедила сына отказаться от союза с Душаном и вернуться в Константинополь.
Чтобы удовлетворить честолюбие молодого императора, Кантакузин согласился отдать ему в независимое правление удел своего сына Матфея, которому взамен был выделен Адрианополь с окружающей областью. Но между молодыми наместниками немедленно начались столкновения. Осенью 1352 г. Иоанн V двинулся против Матфея войной. Города добровольно переходили на его сторону. Население Адрианополя восстало против Матфея и открыло Иоанну V ворота. Матфей заперся в акрополе. Кантакузин поспешил на помощь сыну. Ему удалось к этому времени помириться с Урханом, и османские отряды снова составляли главные силы Кантакузина. Адрианопольцы оказали Кантакузину отчаянное сопротивление, но были побеждены. Перешедшие на сторону Иоанна V города были в наказание разграблены турками. Иоанн V нашел убежище в Дидимотике — центре владений Кантакузина (факт чрезвычайно важный для оценки отношения городского населения к политике Кантакузина). Осада города была безуспешной. Иоанн обратился за помощью к Душану, отправив к нему заложником своего брата Михаила. Душан прислал отряд из нескольких тысяч воинов и побудил Ивана Александра также оказать помощь Иоанну. Но болгары не решились принять участие в сражении, которое разыгралось в конце 1352 г. близ Дидимотики. Сербский отряд и войско Иоанна были уничтожены превосходящими силами турок. Преследуя болгар, турки подвергли новому опустошению Южную Болгарию. Иоанн запросил мира. Кантакузин потребовал отказа от выделенного Иоанну удела и сдачи Дидимотики. Иоанн V предпочел бежать на Тенедос и продолжать борьбу.
Выделение удела для Матфея было первым шагом Кантакузина к укреплению своих династических прав на престол. Вторым шагом было превращение Матфея во второе после Кантакузина лицо в государстве: согласно свидетельству самого Кантакузина, Матфей занимал такое положение в империи, которое было более высоким, чем положение деспота
[427]. Теперь Кантакузин решился полностью отстранить от престола представителя законной династии. В 1353 г. Матфей был объявлен соправителем отца и наследником престола. Имя Иоанна V больше не упоминалось при славословиях и в официальных документах. Занимавший в это время патриарший престол Каллист отказался признать законными эти действия Кантакузина и был низложен. В 1354 г. новый патриарх Филофей венчал Матфея императорской короной во Влахернском храме (св. София пострадала от землетрясения и бездействовала).
С начала нового междоусобия опять оживилась оппозиция Кантакузину в Константинополе. В расчете на ее помощь Иоанн V весной 1353 г., когда Кантакузин находился в Адрианополе, явился к Константинополю. Однако Ирина сумела сохранить контроль над стражей и расстроила план захвата столицы Иоанном V. Тогда Иоанн отправился в Галату и сумел заручиться поддержкой генуэзцев. Турецкие отряды, как и прежде, были единственной надеждой Кантакузина. У его сторонников опора на османов, по-видимому, не вызывала порицания. Среди феодалов был широко распространен паламизм, которому Кантакузин обеспечил окончательное торжество на церковном соборе 1351 г. Паламиты не видели турецкой угрозы. Они сеяли иллюзии, говоря о возможности обращения турок в христианство и превращения их в новых подданных. Идеология смирения перед турками — паламизм — сыграла зловещую роль в истории борьбы с турецкой агрессией
[428].
Кантакузин начал селить своих союзников-турок во Фракии, чтобы иметь их всегда под рукой. На оплату их службы уходили остатки казны. В монету переливали и церковную утварь. На уплату жалованья мусульманам ушла и значительная часть суммы, присланной московским князем Симеоном Гордым на ремонт св. Софии. Эта политика вызывала острое недовольство. Несмотря на торжество паламизма, в широких кругах населения империи все более отчетливо сознавали размеры турецкой опасности. Иоанну V и его сторонникам не стоило труда возбудить народ против говорящего по-турецки узурпатора, выдавшего дочь за мусульманина и опирающегося на его силы в борьбе с законным наследником
[429]. Низложенный патриарх Каллист разъезжал по империи, призывая поддерживать Иоанна V.
Приближалась развязка. Как внутренняя, так и внешняя политика талантливого представителя класса крупных феодалов оказалась несостоятельной. Провалилась и его последняя ставка — на турок. Еще в 1352 г. османы захватили крепость Цимпе на полуострове Галлиполи, в которой укрепился сын Урхана Сулейман. Кантакузин предлагал Урхану в качестве выкупа за Цимпе значительную сумму денег, но Урхан отказался, а Кантакузин, нуждаясь в союзе с ним, не посмел отобрать крепость силой. 2 марта 1354 г. город Галлиполи был почти полностью разрушен землетрясением. Население покинуло город. Сулейман немедленно
[430] занял Галлиполи своими отрядами и приступил к его восстановлению с помощью массы турецких переселенцев. Весть об этом потрясла Константинополь. В столице началась паника. Народ ждал скорой осады города турками. Уже в это время началась эмиграция константинопольцев в Италию и Испанию. Все усматривали — с полным к тому основанием — виновников случившегося в Кантакузине и его ближайших соратниках. Кантакузин предложил Урхану 40 тыс. иперпиров за Галлиполи и лично отправился к зятю в Никомидию. Но Урхан не принял Кантакузина, прикинувшись больным. Благодаря предательской политике самих византийских феодалов турки перешагнули через проливы и не собирались уступать, прекрасно сознавая, что Кантакузин бессилен против них, так как он сам держался у власти только с их помощью.
Вскоре, в том же 1354 г., Сулейман захватил Кипселлы и Малгару под Редесто — турки не теряли времени и тотчас вышли за пределы Галлиполийского полуострова, который превратился в базу их агрессии в Европе. Венецианский бальи в Константинополе доносил в Венецию, что в высших византийских кругах уже находились сторонники идеи подчинения империи, ввиду турецкой угрозы, Венеции, царю Сербии или королю Венгрии.
Между тем все византийские острова в Эгейском море (Тенедос, Лесбос, Лимнос, Фасос, Самофракия и др.) признали власть Иоанна V. Экспедиция Кантакузина в июле 1354 г. против Тенедоса закончилась провалом. В ноябрьскую ночь того же года генуэзец Франческо Гаттелузи доставил на своем корабле Иоанна V к стенам Константинополя. В городе их уже ждали. Ворота были отперты. Едва Иоанн проник в город, как вокруг него сплотились его многочисленные сторонники, а народ поднял восстание против Кантакузина. Снова громили и жгли дома его приверженцев. Константинопольцы захватили арсенал и вооружились. Восставший народ отрезал дворец Кантакузина от наемной каталонской дружины, находившейся в районе Золотых ворот, а затем осадил самый дворец. Положение Кантакузина стало безнадежным
[431]. Население приветствовало Иоанна V, связав с ним все свои надежды на лучшее будущее. Кантакузин отрекся от престола и стал монахом Манганского монастыря под именем Иоасафа (он умер на Пелопоннесе 15 июня 1383 г.). Его жена, императрица Ирина, постриглась в монастырь св. Марты как монахиня Евгения. Палеологовская династия удержала за собой византийский трон и занимала его до последнего дня существования Константинополя.
Лишь Матфей не признал происшедшего переворота и пытался сопротивляться. Но турки не оказали ему достаточной помощи. Отныне они не нуждались ни в Кантакузине, ни в членах его семьи. Перед ними стояли новые большие задачи, которые они рассчитывали осуществить без союза с византийскими феодалами
[432]. Матфей был оттеснен в Родопы, где держался некоторое время. Затем он был взят в плен сербами, выдан ими Иоанну V и должен был отречься ото всех своих прав на престол (1357 г.). Однако Мануил Кантакузин в Морее сумел удержать свои позиции. Располагая полной финансовой независимостью от Константинополя, он упрочил экономическое положение Морей, увеличил ее военные силы и укрепил собственное господство
[433]. Он изгнал константинопольское войско, посланное против него в Морею Иоанном V, и был признан законным наместником Морей на тех же правах, на которых он получил ее от своего отца.
Период гражданских войн в Византии закончился, а вместе с ним закончилась и ее история как история империи и суверенного государства. В западных владениях страны господствовали сербы, восточные провинции становились жертвой турецкой агрессии. На островах и в самом Константинополе хозяйничали генуэзцы и венецианцы. Но трагизм положения состоял не столько в территориальных потерях, сколько в разгроме тех сил, которые были, может быть, еще способны спасти Византию. Ставленник феодальной аристократии был сброшен с престола. Победила та группировка, которой народ еще недавно оказывал вооруженную поддержку. Но время было безнадежно упущено. Обескровленные массы больше не могли оказать решающую помощь константинопольскому правительству в борьбе с могущественными османскими ордами, а правительство не хотело искать этой помощи у народа. История империи вступила в свою финальную фазу. Существование Византии еще в течение столетия было в действительности лишь затянувшейся агонией.
Глава 10
Византийская империя а последнее столетие своей истории
Завоевание турок на Балканском полуострове, Византия и Запад
(Зинаида Владимировна Удальцова)
Междоусобные и гражданские войны, потрясавшие Византию в середине XIV в., окончательно обескровили империю. Византийский историк XV в. Дука, касаясь событий середины XIV столетия, писал: «Неудачи ромеев и ежедневные их распри друг с другом и междоусобные войны дали перевес в военных делах варварам и кочевникам»
[434]. Призываемые обеими соперничавшими группировками, турки грабили народ и обращали жителей Византии в рабов. Они, «связав людей веревками всех вместе, мужчин и женщин с грудными младенцами и молодых юношей, священников и монахов, как гурты овец на большой дороге… бесчисленными вереницами гнали… на продажу»
[435].
На Западе выжидали, кто станет наследником агонизирующей Византии: кто-либо из ее старых соперников — Венеция, Сербия или Венгрия — или она падет жертвой новых завоевателей — турок-османов.
Между тем реальная опасность со стороны турок не только для самой Византии, но и для претендентов на ее наследство быстро возрастала. Лишенная союзников империя теряла одну территорию за другой.
Ничтожным силам Византии противостоял могущественный и безжалостный враг, военные силы которого увеличивались год от года
[436]. В XIV в. в Османском государстве была создана боеспособная армия, отличавшаяся большой мобильностью и маневренностью. Она состояла из летучих отрядов конницы, набранных среди турецких кочевников в малоазийских эмиратах. В османскую армию стекалось немало воинов-добровольцев из различных мусульманских стран, привлеченных надеждой на богатую добычу. Феодализирующаяся кочевая знать Османской державы была охвачена стремлением ко все новым и новым завоеваниям, мечтая о приобретении обширных земель, населенных зависимыми людьми. Завоевательные войны османов проводились под лозунгами борьбы за «истинную» (мусульманскую) веру против «неверных» («гяуров»). В войсках разжигался религиозный фанатизм и ненависть к христианам. Естественно, что самым лакомым куском для османской знати была Византия, о плодородных землях и о военной слабости которой было хорошо известно туркам.
Среди турецких воинов-кочевников еще сильны были патриархально-феодальные отношения, которые придавали сплоченность и стойкость их ополчениям. Армия турок, несмотря на пестроту этнического состава, обладала высокими боевыми качествами и в любой момент была готова к дальним походам. В это же время Византийская империя уже давно перестала опираться на местные феодальные ополчения, и византийское правительство в обороне страны делало основную ставку на наемные войска иноземцев.
При преемнике Османа — Урхане (1326–1362) турки завершили завоевания почти всех византийских владений в Малой Азии. Самые богатые, исконно византийские области теперь окончательно были потеряны империей. До середины XIV в. турки совершали в европейские владения Византии лишь временные грабительские набеги с целью захвата добычи и пленных. Закончив завоевание Малой Азии, феодальная знать Османской державы поставила своей ближайшей задачей завоевание Румелии — страны греков, как турки называли Византию.
В марте этого года Галлиполи стал военным плацдармом для дальнейшего продвижения турок на Балканском полуострове, где практически в это время не было ни одной реальной силы, способной в самом начале помешать турецкой агрессии в Европе.
При преемнике Душана Стефане Уроше (1355–1371) начался феодальный распад и ослабление Сербии, сходным было положение и в Болгарии. Венгрия же стремилась воспользоваться ослаблением славянских государств на Балканах и расширить за их счет свои владения.
Политическая раздробленность, внутренние междоусобицы в балканских государствах, их соперничество между собой, а также с итальянскими республиками и Венгрией облегчили туркам проникновение в глубь Балканского полуострова.
В 1359 г. турецкие войска впервые появились у стен византийской столицы. После смерти Урхана его сын Мурад I (1362–1389), умный правитель и талантливый полководец, принял титул султана и деятельно приступил к завоеваниям на Балканах. Перебрасывая из Малой Азии в Европу все новые и новые контингенты войск, молодой султан начал завоевание Фракии. В 1361 г. турки овладели городом Дидимотикой, куда временно была перенесена столица Османского государства. 1362 год ознаменовался важным успехом турок: они захватили крупный центр на Балканах — Адрианополь, ставший в 1365 г. постоянной резиденцией султана и столицей его державы под названием Эдирне. Вскоре под власть турок подпала почти вся Фракия: они подчинили Филиппополь (Пловдив), проникли в долину реки Марицы и начали вторжение в болгарские земли.
Феодалы Фракии, испуганные успехами турок и потерявшие надежду на помощь византийского правительства, стали переходить на сторону победителей, оставив на поток и разграбление завоевателей население этой области. Те местные фракийские феодалы, которые принимали ислам, становились ленниками (сипахами) Турецкого государства и включались в среду его военно-феодальной знати. Те же, кто оставался христианами, превращались в данников турок. Крестьян и ремесленников турки по большей части уводили в плен и продавали в рабство. Всех, кто оказывал турецким воинам сопротивление, беспощадно вырезали. По словам Дуки, «вся Фракия до самой Далмации стала пустынной»
[437].
Из Адрианополя, Дидимотики и других крупных городов по приказу султана выселялось почти все греческое население и заменялось турецкими колонистами, прибывавшими из Малой Азии. Турецкие феодалы получали в лен на завоеванных у Византии территориях крупные земельные владения, иногда с остатками местного зависимого населения.
В столь тяжелый для Византийской империи момент среди части придворной феодальной знати усилились латинофильские настроения. Латинофилы видели единственное спасение в помощи Запада. Эти иллюзорные надежды питал и сам император Иоанн V Палеолог. Под давлением латинофилов Иоанн V решился на небывалый поступок: впервые в истории Византии василевс, признанный глава православного мира, решил покинуть свою страну не для совершения какого-либо заморского завоевательного похода, а для того, чтобы униженно просить католический Запад о помощи против турок.
В следующем году после захвата турками Галлиполи византийское правительство возобновило переговоры с папским престолом, находившимся в то время в Авиньоне. Речь шла о союзе против Турецкой державы. Но папство, как и прежде, непременным условием помощи ставило заключение унии между православной и католической церквами, которая в силу решительного сопротивления большей части греческого духовенства и народных масс империи была заранее обречена на провал.
Весной 1366 г. Иоанн V отправился в первую поездку на Запад. На этот раз его путь лежал ко двору венгерского короля Лайоша I Великого. Венгерский король, хотя и встретил с почетом византийского императора, ограничился лишь туманными обещаниями
[438]. Фактически
миссия Иоанна V провалилась. На обратном пути в Византию он подвергся серьезной опасности: в Видине его захватили в плен болгары, постоянно враждовавшие с империей. Это произошло, по-видимому, в результате происков Андроника (сына Иоанна V), женатого на дочери болгарского царя и враждовавшего с отцом. Андроник мечтал о захвате престола, и задержка императора за границей была ему на руку.
Помощь императору неожиданно пришла от его кузена Амедея Савойского, который во главе крестоносного ополчения двинулся на выручку Иоанна V. Амедей не только освободил царственного пленника, но и напал на его врагов, сначала на турок, а затем на болгар. Летом 1366 г. войскам Амедея Савойского удалось временно отбить у турок Галлиполи, затем заставить болгар сдать Месемврию и Созополь и тем самым укрепить утраченное было влияние Византии на черноморском побережье.
Однако поддержка Амедея Савойского была кратковременной, и вскоре войска крестоносцев вернулись домой. Прежде чем покинуть Византию, Амедей Савойский в 1367 г. убедил своего кузена купить помощь папского престола ценой заключения унии. С этой целью Иоанн V решил вновь отправиться в дальнее путешествие — на этот раз в Италию. Но готовность императора принять условия папы вызывала ожесточенное сопротивление византийского ортодоксального духовенства. Поездка императора откладывалась, и только летом 1369 г. Иоанн V в сопровождении светских сановников отплыл в Италию. Симптоматично, что в свите императора не было духовных лиц. Константинопольская патриархия была категорически против переговоров об унии. Патриарх Филофей призывал к борьбе с ней не только греческое духовенство, но и православных иерархов Сирии, Египта, славянских стран и даже далекой Руси.
Тем не менее в октябре 1369 г. в Риме Иоанн V принял с благословения папы Урбана V католичество, но из-за отсутствия представителей восточной церкви этот поступок императора рассматривался лишь как его единоличный акт, а не как объединение церквей. В конечном счете результаты переговоров Иоанна V с папством были столь же ничтожны, сколь и переговоров с венгерским королем
[439].
На обратном пути из Италии императора ожидали новые несчастья. Находясь проездом в Венеции, он был вынужден задержаться здесь, так как синьория отказала в средствах, необходимых ему для продолжения пути
[440]. Его сын Андроник, оставленный регентом в Константинополе на время отсутствия отца, вновь проявил вероломство и отверг условия венецианцев (передача им острова Тенедоса), на которых они были готовы дать деньги императору. На помощь Иоанну V пришел его второй сын, Мануил, правитель Фессалоники, которой помог отцу вернуться домой. Только в октябре 1371 г., после двухлетнего отсутствия, Иоанн V возвратился в столицу, крайне удрученный бесплодностью своих унизительных усилий получить помощь Запада.
Дома Иоанна V ожидало известие о новых успехах турок. Захватив Фракию, турки обратили свои взоры на Македонию. Воспользовавшись несогласием между сербами, болгарами и византийцами, турки решили громить своих противников поодиночке. На этот раз страшный удар они нанесли сербам. 26 сентября 1371 г. на реке Марице, близ местечка Черномен, турецкие войска наголову разбили выступившее против них ополчение сербских правителей Македонии — братьев Вукашина и Углеши. Битва была жестокой. В сербском народе долго жили предания, согласно которым воды Марицы окрасились после сражения кровью павших сербских воинов. Оба предводителя сербского войска погибли в бою. Путь туркам в глубь Македонии и Сербии был открыт.

Завоевание османов в XIV–XV вв.
Болгарский писатель Исайя Святогорец, потрясенный этими трагическими для славянских народов событиями, писал: «… одни из христиан были перебиты мечами, другие уведены в рабство, а тех, которые остались там, косила смерть, ибо они умирали от голода… Опустела земля, лишилась всех благ, погибли люди, исчезли скот и плоды… И поистине тогда живые завидовали тем, кто умерли раньше»
[441].
После разгрома на Марице Сербия стала вассалом турок. Вскоре ее примеру принуждена была последовать и Византия
[442]. Весной 1373 г. Иоанн V, уже как вассал султана, лично должен был привести византийские вспомогательные войска на службу своему сеньору и принять участие в походе турок в Малую Азию для покорения восставших сельджукских эмиратов. Правитель Фессалоники Мануил Палеолог вслед за своим отцом также выразил покорность туркам.
В это время в Византии с новой силой разгорелась борьба за императорский престол. В мае 1373 г., воспользовавшись тем, что султан Мурад I и император Иоанн V были заняты войной в Малой Азии, два мятежных принца, сын византийского императора Андроник и сын турецкого султана Санджи Челеби, совместно подняли восстание против своих отцов. Впрочем, Мурад I быстро подавил мятеж и безжалостно ослепил своего сына, предложив сделать то же самое и Иоанну V
[443]. Однако вскоре Андроник со своим сыном Иоанном бежали из темницы и укрылись в Галате. Генуэзцы Галаты, поссорившиеся с Иоанном V, а также сербский краль Марко Кралевич помогли Андронику временно захватить власть в Константинополе и в свою очередь бросить в тюрьму Иоанна V и его любимого сына Мануила, которого после первого мятежа Андроника император сделал своим наследником и соправителем
[444]. В 1376 г. Андроник IV (1376–1379) вместе с сыном Иоанном были коронованы, а отец и брат нового императора три года томились в темнице.
Пленникам, однако, удалось бежать ко двору Мурада I, не забывшего о союзе Андроника IV с мятежным сыном султана и поэтому оказавшего помощь Иоанну V. В 1379 г. Андроник IV по повелению султана был отрешен от престола и бежал к генуэзцам. Через два года отец простил его и дал ему в удел города на северном побережье Мраморного моря. Таким образом даже судьбы византийского престола оказались в руках турецкого султана. Престиж центральной власти в империи окончательно упал. Византийский ученый XIV в. Димитрий Кидонис, говоря о борьбе членов семьи Палеологов за императорский престол, писал: «Продолжает свирепствовать старое зло, которое причинило общее разорение. Я имею в виду раздоры между императорами из-за призрака власти. Ради этого они вынуждены служить варвару (турецкому султану)… Всякий понимает: кому из двоих варвар окажет поддержку, тот и возобладает»
[445].
Во внутренние дела Византии активно вмешивались и итальянские города-республики. Династические распри из-за престола переплелись с борьбой Венеции и Генуи за остров Тенедос — важный стратегический и торговый пункт, расположенный при входе в Дарданеллы
[446]. Иоанн V держал сторону Венеции, Андроник IV помогал своим союзникам — генуэзцам.
В период кратковременного правления Андроника IV Тенедос перешел в руки генуэзцев, но укрепившиеся на острове венецианцы оказали им упорное сопротивление. Ареной войны между Венецией и Генуей стали просторы Эгейского моря, а затем и прибрежные воды самой Италии. Только посредничество Амедея Савойского положило конец войне. В 1381 г. Тенедос подчинился его власти.
Результаты кровопролитной войны менаду Генуей и Венецией оказались плачевными для обеих республик: они были настолько ослаблены, что должны были склонить головы перед турками и заключить с Мурадом I союзные договоры.
После восстановления Иоанна V на византийском престоле империя фактически распалась на мало связанные между собой уделы. В Константинополе правил сам император, города Силимврия, Ираклия, Редесто и другие находились под властью Андроника IV и его сына Иоанна VII. Myрад I, боясь полного примирения царственных родственников, неожиданно перенес свои милости на Андроника и заставил признать законными наследниками престола его и Иоанна VII, а не Мануила. Отношения внутри правящей династии вновь обострились. Мануил должен был вернуться к управлению одной Фессалоникой
[447]. Морея же в 1382 г. перешла в руки умного и талантливого деспота Феодора, третьего сына императора.
Правление морейского деспота Феодора (1382–1406) можно считать, пожалуй, единственным отрадным явлением на общем фоне глубокого упадка Византии XIV–XV вв.
[448] Признав суверенитет султана и умело использовав поддержку турок, он вооруженной рукой сломил оппозицию местной феодальной знати, а затем подчинил себе латинских владетелей Ахайи. В короткий срок Феодор сумел объединить под своей эгидой весь Пелопоннес. В его правление Морея пережила полосу экономического и культурного расцвета. Ее столица Мистра превратилась в последний оплот византийской культуры и образованности. Необычайный взлет искусства Мистры, сочетавшего в себе византийские традиции с новыми, предренессансными веяниями (см. гл. 17), всегда вызывал глубокое уважение и удивление потомков.
В противоположность этому, императорский двор в Константинополе в последние годы правления Иоанна V представлял безрадостную картину. Стареющий император предался кутежам в обществе флейтисток и танцовщиц, он не постеснялся отнять у своего любимого сына Мануила его невесту — красавицу царевну из Трапезунда. Вражда Андроника IV с отцом не прекращалась, и поднять новое восстание Андронику помешала только его смерть (1385 г.). Теперь Мануил, наконец, стал единственным законным наследником престола.
Ни сократившаяся до ничтожных размеров Византия, ни временно ослабленные войнами итальянские республики не могли организовать сопротивления туркам. Мурад I начал новое наступление на Балканском полуострове, действуя одновременно против Сербии и Болгарии. В 1383 г. турецкие войска приступом овладели Серрами, в 1385 г. — Софией, а в следующем году настала очередь Ниша. Славянские государства тем самым были отрезаны друг от друга, и оба народа изолированы. Однако еще в течение трех лет Сербия и Босния вели кровопролитные войны с турками, не раз нанося завоевателям чувствительные удары.
Решающая битва между армией Мурада I и сербскими и боснийскими войсками произошла в Сербии 15 июня 1389 г. на Косовом поле
[449]. Во главе сербов стоял краль Лазарь, боснийскими войсками командовал воевода Твртко Вукович. Сперва военное счастье склонялось на сторону сербов, проявивших в этой знаменитой битве необычайное мужество. Сербский герой Милош Обилич проник в палатку султана и, жертвуя своей жизнью, внезапно поразил кинжалом Мурада I. Гибель султана вызвала замешательство в войсках турок, на левом крыле сербская конница стала теснить турецкие отряды, и победа, казалось, была близка. Однако в этот критический момент сын и наследник убитого султана Баязид I (1389–1402) сохранил присутствие духа, привел в порядок свои войска и, использовав численное превосходство турок, нанес противникам страшное поражение. Краль Лазарь и знатные сербские феодалы были взяты в плен и казнены. На поле боя остались горы трупов.
В сербском народном эпосе горько оплакивается героическая гибель сербских войск на Косовом поле:
«Мы сегодня от Косова поля,
Там сошлися сильные два войска,
Рать на рать ударила, сразились,
У обеих их цари погибли.
Кое-что осталося от турок,
А от сербов, если и осталось, —
Раненые, мертвые остались…»
После победы на Косовом поле окончательное завоевание турками Балканского полуострова было предрешено. Побежденные стали данниками султана Баязида I, прозванного Иылдырымом («Молнией), исключительно храброго воина и жестокого правителя, и должны были поставлять в его армию отборные воинские отряды.
Слабые правители Византии безучастно взирали на успехи турок и, боясь прогневить грозного турецкого владыку, старались исправно платить ему дань. Но всемогущий султан уже не довольствовался этим: он решил посеять новые раздоры в императорской семье и опять, как десять лет назад, поддержал притязания на престол сына Андроника IV Иоанна VII. При помощи султана 14 апреля 1390 г. Иоанн неожиданно захватил Константинополь и сел на трон своего деда. Ему оказали помощь также генуэзцы и сильная партия его приверженцев в самой столице. Но правление узурпатора оказалось кратковременным: Мануил, собрав войска, подступил к Константинополю и в сентябре того же года возвратил трон себе и своему престарелому отцу. Эти события вызвали недовольство султана. По его приказанию Мануил должен был явиться к турецкому двору и принять участие в войнах турок в Малой Азии.
К этому времени Баязид I завершил завоевание всей Малой Азии, кроме Киликии (с 1375 г. она была под властью египетского султана) и Трапезундского царства. Он подавил восстание малоазийских эмиратов, недовольных деспотичной властью султана. Во время этой экспедиции Мануил должен был сражаться в войсках Баязида I против Филадельфии — последнего византийского города в Малой Азии. Это было крайним унижением для наследника византийского престола, который невольно способствовал переходу Филадельфии в руки турок в конце 1390 или начале 1391 г.
16 февраля 1391 г. умер Иоанн V, и Мануил II Палеолог (1391–1425) наследовал престол в обстановке полной безысходности. Новый император был человеком разума, а не действия. Склонный к занятию науками и философским размышлениям, он не был создан для поля брани и, конечно, не мог соперничать с таким неукротимым и воинственным противником, каким был Баязид I. Да и военные силы Мануила II сравнительно с турецкими были ничтожными. Единственным оружием императора была дипломатия, оружием Баязида — кривая сабля. Перевес всегда оставался на стороне султана
[450].
Победный марш турок на Балканах продолжался. К 1392 г. Македония, кроме Фессалоники, была подчинена, в 1393 г. пала столица Болгарии Тырнов, где победители устроили беспощадную резню беззащитного населения
[451].
Через три года пал последний болгарский город Видин, и Болгария почти на пять веков попала под иго турок. В 1394 г. турецкий султан овладел Фессалоникой. Задумал он нападение и на самую столицу Византии. Первым шагом к этому была блокада Константинополя. В том же 1394 г. Баязид предъявил византийскому императору ультиматум: он потребовал, чтобы турецкий судья (кади) судил не только мусульман, живших в Константинополе, но и разбирал дела между ними и христианами.
«Если не хочешь повиноваться мне, — говорил султан Мануил у через своего гонца, — запри ворота своего города и правь внутри его, а за стенами все мое»
[452]. Получив отказ Мануила, султан приказал опустошить окрестности Константинополя, изолировать город с суши и не допускать в него подвоза продовольствия.
В течение семи лет турки блокировали столицу Византии, надеясь взять ее измором. Связь Константинополя с внешним миром поддерживалась лишь морем. В многолюдном городе начались голод и болезни, для отопления жители разбирали дома. Росло недовольство народных масс.

Икона 12 апостолов. Гос. музей изобраз. искусств. Москва. XIV в.
Одновременно турки, воспользовавшись междоусобицами греческих и латинских феодалов, начали вторжение в Фессалию и Грецию. Захватив Коринф, они проникли на Пелопоннес и совершали набеги на территорию Морей.
Не менее трагические события разыгрывались на севере Балканского полуострова. В 1395 г. после героического сопротивления вассальную зависимость от турок были вынуждены признать правители Валахии. Добруджа была подчинена османами.
Непрерывные успехи турок обеспокоили западные державы. Там, наконец, поняли, что волны турецкого завоевания могут докатиться до Центральной и Западной Европы
[453]. После падения Болгарии и Валахии на очереди была Венгрия. В то время как мольбы о помощи византийского императора остались «гласом вопиющего в пустыне», призыв венгерского короля Сигизмунда к крестовому походу против турок нашел широкий отклик на Западе. В 1396 г. при содействии папского престола был организован крестовый поход против Османской державы. Главой крестоносного ополчения был избран венгерский король Сигизмунд. Под его знамена собрались рыцари из Венгрии, Чехии, Германии, Польши и Франции. Среди знатных вождей крестового похода были бургундский герцог Иоанн Бесстрашный, его сын граф Невер, французский маршал Бусико, оставивший ценные мемуары об этом походе, и много других владетельных феодалов Центральной и Западной Европы. На помощь крестоносному ополчению пришла Венеция, которая послала свою эскадру, чтобы блокировать проливы и обеспечить связь между Византией и войсками Сигизмунда.
25 сентября 1396 г. при Никополе на Дунае произошло одно из самых грандиозных сражений европейских народов с турками
[454]. Вражда между венгерскими и французскими рыцарями, бездарность и самонадеянность Сигизмунда, несогласованность действий огромной крестоносной армии привели к полной катастрофе. До десяти тысяч рыцарей попали в плен к туркам, лишь немногим удалось бежать, остальные пали на поле сражения. Баязид I приказал перебить почти всех пленников, сохранив жизнь только 300 самым знатным вождям крестоносцев, за которых он потом получил огромный выкуп.
Сам король Сигизмунд с величайшим трудом спасся бегством и нашел убежище в Константинополе. Современники рассказывают, что, когда побежденный король возвращался в свою страну морем и плыл через Дарданеллы, турецкий султан, чтобы унизить своего противника, приказал выстроить по обоим берегам пролива пленных рыцарей, которые осыпали упреками своего неудачливого предводителя.
В 1397 г. войска Баязида вторглись в Венгрию и в последующие годы продолжали совершать на нее грабительские набеги, уводя в рабство десятки тысяч мирных жителей. В том же 1397 г. Афины на время попали в руки турок
[455]. Их набеги на Морею становились все более частыми и опустошительными.
Понимая неизбежность нового столкновения с турками, Мануил II решил по примеру своего отца вновь обратиться за помощью к иноземным правителям. Большую часть своего правления император провел в лихорадочных поисках союзников. В 1398 г. Мануил II сделал попытку найти поддержку на Руси. Но московский великий князь Василий I Дмитриевич не мог прийти на помощь, так как был занят объединением русских земель, которое происходило в тяжелых условиях во время войны и против монголов и против Литовского княжества. Кроме того, в этот период обострились отношения между стремившейся к полной независимости русской церковью и Константинопольской патриархией, не оставлявшей своих притязаний на главенство над Московской митрополией.
Мануилу II ничего не оставалось, как вновь искать защиты от турок на Западе. Он обратился с призывом о помощи к папскому престолу, венецианскому дожу, к королям Франции, Англии и Арагона.
Между тем глухая, то скрытая, то открытая вражда императора с его племянником Иоанном VII не прекращалась. Иоанн VII вел сложную дипломатическую игру, лавируя между турками и западными державами. Он завязал переговоры с французским королем Карлом VI и предложил ему свои права на византийский престол в обмен на замок во Франции и ежегодную ренту в 25 тыс. флоринов
[456]. Французский король, однако, счел более благоразумным поддержать законного монарха, а не искать призрачных прав на византийский престол. Карл VI отправил в Византию отряд из 1200 отборных воинов под командованием врага турок — маршала Бусико, еще не забывшего унижения Никопольской катастрофы. Смельчакам удалось на кораблях прорваться в Константинополь. Бусико храбро сражался с турками, но силы его отряда были слишком незначительны.
В Константинополе, помимо военной, Бусико выполнял, по-видимому, и дипломатическую миссию. Он поставил своей задачей примирить Палеологов и тем самым повысить престиж императорской власти. Видя незначительность помощи французского короля, император Мануил II принял тягостное, но неизбежное решение лично отправиться в Западную Европу и попытаться склонить европейские державы к новому крестовому походу против турок. Представитель Карла VI Бусико всячески поддерживал эту идею. По его настоянию Иоанн VII был назначен регентом в Константинополе на время отсутствия своего дяди. Мануил II, скрепя сердце, согласился на это, однако, опасаясь за судьбу своей семьи, он отправил жену и детей в Морею, под защиту своего брата деспота Феодора. Латинофильски настроенная византийская знать поддерживала замыслы императора и торопила его с отъездом на Запад.
10 декабря 1399 г. император Мануил II и его свита на французских кораблях маршала Бусико отплыли из Константинополя и взяли курс на Венецию. В Италии византийский император, кроме Венеции, посетил Милан и Флоренцию, надеясь получить помощь у богатых итальянских городов. Затем он направился ко двору французского короля. В Париже венценосного просителя торжественно встретили сам Карл VI, королевский канцлер, парламент, высшее духовенство и множество народа. Императору была отведена роскошная резиденция в Лувре, в его честь устраивались пышные приемы и праздники. Во время переговоров французское правительство расточало Мануилу самые щедрые обещания. Путешествие Мануила затягивалось, французский король выделил на его содержание ежегодную субсидию в 30 тысяч серебряных монет. Казалось, Мануилу пришлась больше по вкусу жизнь при галантном и веселом французском дворе, чем в его собственной теснимой турками голодной столице.

Антонио Пизано. Медаль с изображением Иоанна VIII Палеолога. Бронза. 1438 г. Государственный Эрмитаж
За Парижем последовал Лондон, где василевсу ромеев был оказан столь же почетный прием, но еще более скудная помощь. Месяц проходил за месяцем, год за годом, а кроме обещаний и пышных слов, никакой реальной поддержки Мануил не получал. Положительным результатом длительного пребывания византийского императора на Западе явилось только установление более тесного культурного общения между Византией и странами Западной Европы. Обмен идеями был полезен обеим сторонам: византийцы знакомились с новыми, ренессансными веяниями — Запад открывал для себя через византийских ученых, бывших в свито императора, прекрасный мир античной культуры.
Многолетнее отсутствие императора становилось, однако, опасным. Регент Иоанн VII, оставленный в Константинополе, оказался слабым правителем. Он все более и более дискредитировал себя льстивыми заискиваниями перед турецким султаном. На обратном пути из Лондона Мануил еще почти на два года задержался в Париже, предаваясь праздной и веселой жизни. Он, видимо, потерял всякую надежду на организацию нового крестового похода против Османской державы
[457].
Освобождение Византии пришло внезапно, откуда его совершенно не ожидали. В Париже византийское посольство узнало радостную весть о разгроме империи Баязида I войсками Тимура. Один кровавый и жестокий завоеватель был побежден другим, еще более беспощадным и грозным поработителем многих стран и народов. Тимур (Тамерлан) (1370–1405), наиболее талантливый из воинственных монгольских ханов после Чингиса, начал широкие завоевательные походы с целью восстановления прежней Монгольской империи. Он подчинил своей власти богатые государства Центральной и Средней Азии, разгромил Золотую Орду на юге Руси, в Поволжье и Крыму, разрушил ее цветущие города — Сарай Берке, Астрахань, Азов. С 1380 г. Тимур начал свои походы в Иран, а позднее в Азербайджан, Грузию, Ирак. В 1398 г. он предпринял грандиозный поход в Индию, наводнил своими войсками Иран, опустошил Месопотамию и Сирию. Наконец, он вторгся в Османскую державу в Малой Азии
[458].
«Железный хромец», как называли Тимура, наводил ужас на покоренные страны и народы. Его войска всюду сеяли смерть и опустошение: где проходили полчища Тамерлана, там оставалась мертвая пустыня и «не было слышно ни лая собаки, ни крика птицы, ни плача ребенка»
[459].
Войска Тимура сошлись с армией султана Баязида I при Анкире 28 июля 1402 г. Битва при Анкире была одним из кровопролитнейших сражений той эпохи. Обе армии были полны воинственного пыла и отличались высокими боевыми качествами. Однако Тимуру удалось склонить к измене некоторых сельджукских эмиров, недовольных правлением Баязида I, раздававшего лучшие лены османской феодальной знати. Во время боя ополчения, набранные в малоазийских эмиратах, увидев своих эмиров в ставке Тимура, последовали их примеру и, изменив турецкому султану, ударили в центр османской армии. Это решило исход битвы. Разгром войск Баязида I был полным. Сам дотоле непобедимый султан героически сопротивлялся, но был захвачен в плен на поле битвы и умер в неволе.
Тимур, однако, отказался от мысли прочно обосноваться на землях Османского государства, ограничившись захватом богатой добычи. В награду за помощь он восстановил в Малой Азии семь из прежних десяти малоазийских эмиратов и покинул страну. Над собственной державой Тимура нависла угроза со стороны Китая. Через два года после победы при Анкире грозный завоеватель умер во время экспедиции против Китайской империи.
Битва при Анкире отсрочила гибель Византии еще на половину столетия. Однако византийские феодалы не сумели воспользоваться этой передышкой для укрепления своего государства. Распри в их среде продолжались, междоусобицы охватили и Морею. Во внутренние дела Византии постоянно вмешивались венецианцы и генуэзцы, вражда между которыми также не прекращалась.
Знаменитый византийский философ Георгий Гемисит Плифон в своих речах беспощадно обличал своекорыстие и эгоизм пелопоннесских феодалов. Он писал: «Они считают тенью и пустыми словами справедливость, правду и всеобщее благо, стремятся лишь к золоту и другим богатствам, оценивают благополучие одеждами, серебром и золотом, ежедневной ленью и обжорством и ни во что ставят как свою, так и своих детей и всего государства безопасность и свободу»
[460].
Феодальные усобицы тяжелее всего отражались на положении народных масс Византии. Византийский писатель XV в. Мазарис в своей сатире «Путешествие в ад» едко бичует пороки феодального общества империи, продажность ее судей и чиновников. «Там судят, — пишет он, — в силу расположения, и, особенно поддаваясь лести, они получают подарки с обеих тяжущихся сторон; невинный погибает, а желаемый приговор получают наиболее состоятельные, заплатившие больше других, главным образом люди сильные и обладающие властью и огромным богатством»
[461]. Ненавидя полновластных правителей отдельных областей Морей, Мазарис страстно мечтает о гибели замков этих «подлых и никчемных топархов», о том, чтобы они «расплавились, как воск от огня, как иней под лучами солнца»
[462].
Преемником Баязида I стал его сын Мехмед I (1402–1421) по прозвищу Челеби («Благородный»). Положение нового султана было непрочным. На престол претендовали его братья Сулейман и Муса, которые поднимали постоянные мятежи. Старший сын Баязида I Сулейман фактически захватил европейские владения своего отца, оставив Мехмеду I лишь азиатские. Слабый и развратный деспот, Сулейман предпочел заключить временный союз с Византией и Сербией. Он старался жить в мире также с Венецией, Генуей и западными рыцарями, владевшими Родосом.
Воспользовавшись смутами в государстве османов, Византия вернула себе Фессалонику. Византийское правительство поддерживало сговорчивого Сулеймана в борьбе против его брата, жестокого и решительного Мусы. В 1411 г. Муса одержал крупную победу над Сулейманом и решил жестоко наказать его союзников — греков. Отряды Мусы появились под стенами Константинополя и начали его осаду. Султан Мехмед I, длительное время занятый войной с непокорными сельджукскими эмирами, восстановленными в своих владениях Тимуром, понял, наконец, необходимость положить предел росту сил и влияния Мусы. В 1413 г. в союзе с Византией и Сербией Мехмед I разгромил войско Мусы и стал единодержавным правителем Турецкого государства (1413–1421).
Мехмед I проводил миролюбивую политику в отношении Византии. Это объяснялось в известной степени затянувшейся войной с караманским и другими сельджукскими эмирами, а также военным конфликтом с венецианцами, которые в 1416 г. нанесли поражение сравнительно еще слабому турецкому флоту у Галлиполи. Но самой главной причиной, заставившей Мехмеда I заключить мир с Византией, было широкое народное восстание, вспыхнувшее в Османском государстве. Военные неудачи турок, усиление налогового гнета привели к разорению крестьян, ремесленников и мелких турецких феодалов. Между 1413 и 1418 гг. в Османской державе развернулась настоящая гражданская война, проходившая под антифеодальными и религиозными лозунгами. Во главе движения встал шейх дервишей Бедр-ад-Дин Симави, который повел за собой крестьян Румелии. Восстанием крестьян и ремесленников Малой Азии руководили сподвижник Бедр-ад-Дина дервиш Берклюджи Мустафа и его друг Торлак Кемаль.
Восстание Берклюджи Мустафы подробно описал очевидец событий византийский историк Дука. Программой восстания было требование установления социального равенства всех людей и общности имущества, «кроме жен». У всех должны быть общими «пища, одежда, упряжки и пашни». Восставшие требовали конфискации земель у феодалов и раздела ее между крестьянами.
Повстанцам была чужда религиозная исключительность: Берклюджи Мустафа призывал к борьбе как мусульман, так и христиан. Его проповедь имела успех среди бедных турецких и греческих крестьян Малой Азии.
Восставшие собрали многочисленное ополчение и нанесли поражение войскам турецких феодалов в западной части Малой Азии. Султану Мехмеду I потребовалось много месяцев, чтобы с помощью огромного войска разбить восставших. Мустафа был захвачен в плен и распят в Эфесе. На его глазах казнили его ближайших соратников. Деревни восставших крестьян были преданы огню и мечу. В 1418 г. Мехмед I столь же жестоко подавил восстание в Румелии шейха Бедр-ад-Дина, которое продолжалось и после казни вождя в 1416 г.
[463]
Пользуясь миром с султаном и внутренними затруднениями в Османском государстве, деспоты Морей отняли у правителя латинской Ахайи большую часть его владений.
После смерти Мехмеда I в отношениях Турецкого государства и Византии произошли коренные перемены. Новый султан, Мурад II, (1421–1451) вернулся к агрессивной политике своего деда Баязида I. Этому способствовала внутренняя консолидация Османской державы, укрепление ее экономики, сплочение вокруг центрального правительства феодальной знати, заинтересованной в завоевательных походах.
Первый удар турок снова обрушился на Византийскую империю. Мурад II имел особые причины быть недовольным византийским правительством, которое в 1421 г. оказало тайную поддержку его брату Мустафе, восставшему против султана. Разбив Мустафу, султан летом 1422 г. осадил Константинополь. И хотя на этот раз осада оказалась безуспешной, она являлась как бы прелюдией трагических событий 1453 г.
Турки не ограничились нападением на столицу империи и уже в следующем, 1423 г. вторглись в Южную Грецию, а затем на Пелопоннес. Морею не спасла длинная стена, построенная императором Мануилом II на Коринфском перешейке (Истме) для защиты Пелопоннесского полуострова. Стена была разрушена
[464].
В 1424 г. император заключил позорный мир с султаном, согласно которому Византийская империя вновь становилась данницей турок. Однако вскоре Византию постиг еще более тяжелый удар. Фессалоника, некогда второй по богатству город империи, переживала столь глубокий упадок, что ее последний правитель, третий сын Мануила II деспот Андроник, не будучи в состоянии спасти город от голода и защитить от турок, предпочел продать его в 1423 г. за большую сумму венецианцам.
Венецианцы, давно мечтавшие о захвате этого важного опорного пункта в Македонии, самонадеянно решили, что смогут возродить город и наладить его оборону от турок. Но их семилетнее господство в Фессалонике не принесло благоденствия городу, а их попытки защитить его от турецких войск оказались тщетными
[465].
В 1430 г. султан Мурад II во главе огромной армии появился у стен Фессалоники. При известии о приближении султана многие жители бежали из города. Ни подоспевший для обороны Фессалоники венецианский флот, ни итальянский гарнизон не могли спасти города. Жители Фессалоники, в равной степени ненавидевшие как итальянцев, так и турок, сражались вяло. После кратковременной осады Мурад II овладел городом. Венецианский гарнизон был перебит, лишь немногие спаслись, бросаясь со стен в море и вплавь добираясь до кораблей.
На этот раз турки решили прочно обосноваться в завоеванном городе. Уцелевшие после штурма местные жители были почти поголовно обращены в рабство, а город был заселен турецкими колонистами. Знаменитая базилика св. Димитрия, славившаяся своими росписями и мозаиками, была обращена в мечеть. Древняя Фессалоника превратилась в турецкий город.
В последние годы своей жизни император Мануил II, подавленный многочисленными неудачами, отошел от дел, доверив управление империей своему старшему сыну Иоанну, которого он еще в 1421 г. сделал соправителем
[466]. Приняв монашескую схиму, престарелый император скончался 21 июля 1425 г.
Тяжелое наследство оставил Мануил своему преемнику Иоанну VIII (1425–1448)
[467]. Империя фактически распалась на отдельные мелкие уделы, теснимые со всех сторон врагами. Экономические затруднения продолжали расти: постоянные войны и происки итальянцев привели к дальнейшему упадку торговли и товарно-денежных отношений. Чеканка в Византии золотой монеты еще более сократилась.
Среди части провинциальных феодалов и купечества Византии распространялись туркофильские настроения: не получая защиты от слабой центральной власти и страдая от конкуренции итальянцев, они надеялись на улучшение экономического положения страны, если она попадет в руки сильного турецкого султана
[468].
Очень напряженной была обстановка в Морее и Греции, где шли постоянные войны между латинскими и греческими феодалами. Смелый и воинственный деспот Морей Константин в 1430 г. захватил Патры и положил конец владычеству латинских рыцарей в Ахайе. Весь Пелопоннес оказался под властью греков. Независимость сохранили лишь венецианские фактории Корон и Модон, а также итальянские владения в Навплии и Аргосе. Однако эти успехи Константина были омрачены непрерывными раздорами между самими деспотами Пелопоннеса — сыновьями императора Мануила II
[469]. Деспот Феодор завидовал славе своего удачливого брата Константина и готов был поднять против него оружие. С большим трудом император Иоанн VIII предотвратил войну между братьями, призвав Константина к себе в столицу.
Обе боровшиеся стороны вмешивали в свои распри то итальянцев, то турок.
Крайне тяжелое внутреннее положение Византии и вплотную надвинувшаяся турецкая угроза заставили Иоанна VIII вновь обратиться за помощью на Запад. Вопрос об унии церквей встал с небывалой остротой. Столкновения между представителями латинофильского и ортодоксального течения в Византии достигли крайнего ожесточения.
Вторая четверть XV в. была кульминационным периодом в длительной борьбе ортодоксальной и латинофильской партий. Латинофильское течение заметно окрепло
[470]. Влияние православной же партии в политической жизни Византии упало. Партия латинофилов полагалась только на помощь латинского Запада. Унию с католической церковью латинофилы считали меньшим злом, чем опасность турецкого завоевания. Ядро латинофильской партии составляли придворная знать, часть фракийских и морейских феодалов и некоторые представители высшего духовенства и интеллигенции. Последние императоры из дома Палеологов поддерживали это течение, а порой и возглавляли его.
Различные социальные группировки византийского общества готовы были к сближению с Западом. Истоки латинофильства, присущего некоторым представителям высшей феодальной знати Византии, восходят еще ко времени латинского господства, когда произошло сближение части греческой феодальной аристократии с западноевропейскими рыцарями. Многие знатные греческие и латинские семьи породнились между собой, греки восприняли некоторые западноевропейские феодальные институты, быт и нравы латинских рыцарей оказали влияние на византийскую знать. Эти связи с Западом не только сохранились в XV в., но даже окрепли из-за турецкой угрозы. К числу царедворцев-латинофилов принадлежало немало родственников дома Палеологов.
Значительная часть византийской интеллигенции, людей науки, была также заинтересована в сближении с Западом. В конце XIV и особенно в первой половине XV в. между Византией и Западной Европой установились тесные культурные связи. Знаменитые византийские риторы и ученые, проникнутые новыми, гуманистическими веяниями, такие, как Мануил Хрисолор, Виссарион Никейский, Феодор Газа, Георгий Трапезундский, Иоанн Аргиропул, Михаил Апостолис и др., поддерживали постоянные тесные контакты со многими выдающимися итальянскими гуманистами своего времени
[471].

Св. Георгий. Рельеф. Дерево. Галлисто близ Кастории. Конец XIII в.
Часть высшего духовенства, поддерживавшая латинофилов, принадлежала к числу так называемых «политиков», или умеренных, противостоявших партии крайних ортодоксов. В противоположность ортодоксам, боровшимся за сильную и независимую от государства церковь, «политики» всегда шли на компромисс с императорской властью, в частности и в вопросе об унии. Они опирались не на монашество, а преимущественно на белое духовенство.
Латинофильские настроения некоторых слоев византийского купечества объяснялись их выгодными торговыми связями с Западной Европой. Но таких торговцев было немного. Большая часть византийских коммерсантов, страдая от конкуренции итальянцев, предпочитала поддерживать то православную партию, то туркофилов.
Латинофилы, и прежде всего феодальная знать, в своей политике встали на ложный путь, возложив все надежды на Запад, который, с одной стороны, не отказался от агрессивных планов против Византии, а с другой — не имел достаточных сил и единства для отпора туркам. Объективно позиция латинофилов и туркофилов вела на путь измены своей родине
[472].
В православную партию в XV столетии входило большинство высшего и среднего константинопольского духовенства. Основной ее опорой было многочисленное византийское монашество. Эта партия с непримиримым фанатизмом выступала против сближения с Западом и заключения церковной унии. Среди представителей православного течения было немало выдающихся богословов и церковных деятелей. Первое место среди них принадлежало знаменитому богослову Марку Евгенику, митрополиту Эфесскому. Его сподвижником, а позднее преемником в качестве вождя ортодоксальной партии был Георгий Схоларий (в монашестве Геннадий), ставший впоследствии первым греческим патриархом в Константинополе во время владычества турок.
К этой же партии примыкали Антоний, епископ Ираклийский, великий экклисиарх Сильвестр Сиропул (автор истории Флорентийского собора, написанной в строго ортодоксальном духе), брат Марка Эфесского — Иоанн Евгеник и многие другие.
Константинопольские патриархи Евфимий II (1410–1416) и особенно Иосиф II (1416–1439) занимали колеблющуюся позицию: они то поддерживали унию, поддавшись давлению императорской власти, то вновь выступали за сохранение строгого православия.
Непримиримая позиция ортодоксов по отношению к унии имела свои корни в исконной вероисповедной вражде и в догматических расхождениях восточной и западной церквей. Однако нетерпимость большинства греческого духовенства к латинянам имела также свои экономические и политические причины. Уния с папским престолом означала для византийского духовенства и монашества резкое падение их церковных доходов и потерю политического и идеологического влияния на народные массы; уния неминуемо привела бы при политической слабости Византии к полному подчинению восточной церкви супрематии папы.
Большинство населения империи поддерживало православную партию, ибо было полно ненависти к латинянам. Латинское господство, приведшее к усилению феодальной эксплуатации народных масс и подавлению самобытной византийской культуры, еще не изгладилось из памяти народа. Византийское купечество и ремесленники страдали от засилья итальянцев, захвативших наиболее выгодные позиции в торговле с Левантом и Причерноморьем. Большое воздействие на широкие массы Византии оказывали и антилатинские проповеди духовенства и монашества. Но православная партия также не оправдала надежд народа, она не стала той силой, которая смогла бы сплотить народные массы Византии для защиты Византии от турецких завоевателей.
Особый размах борьба партий в Византии XV в. приобрела в связи с заключением Флорентийской унии
[473]. Начавшиеся еще в 1431 г. переговоры византийского двора с римским престолом об унии затянулись из-за раскола в католической церкви, вызванного раздорами между папой Евгением IV и участниками Базельского собора. Наконец, было достигнуто соглашение о том, что папа созовет в Италии вселенский собор, где будет решаться и «греческий» вопрос. Иоанн VIII выразил согласие лично прибыть на собор во главе многочисленной церковной делегации.
Как в Италии, так и в Византии началась деятельная подготовка к собору. В состав греческой делегации вошли представители как латинофильской, так и православной партий. Среди латинофилов первые места занимали Виссарион, возведенный в сан архиепископа Никейского, и Исидор, получивший сан митрополита Киевского.
Признанным вождем православной партии, игравшим видную роль в делегации восточного
духовенства, был Марк Эфесский; активную помощь ему оказывали Георгий Схоларий и другие видные иерархи православной церкви
[474].
Для папы Евгения IV, находившегося в затруднительном положении из-за оппозиции Базельского собора, возвращение «схизматиков»-греков в лоно единой католической церкви явилось бы крупным козырем в борьбе с противниками. В свою очередь, деятели Базельского собора также надеялись использовать в собственных интересах приезд греков в Италию.
24 ноября 1437 г. пышно разукрашенная эскадра из восьми судов покинула Константинополь и направилась к берегам Италии. На борту этих кораблей находились император Иоанн VIII, его брат деспот Димитрий, константинопольский патриарх Иосиф II, высшие духовные и светские сановники. 8 февраля 1438 г., после утомительного и опасного путешествия, греческая эскадра прибыла в Венецию. Дож, члены синьории, вся венецианская знать и толпы народа торжественно встретили почетных гостей. Далее путь греков лежал в Феррару, где 9 апреля 1438 г. и начались первые заседания вселенского собора. Папа встретил императора и патриарха с большим почетом, и начало переговоров как будто сулило радужные перспективы византийскому посольству. Однако иллюзии о заключении унии на почетных для греческой церкви условиях вскоре рассеялись.
Прения на соборе по догматическим вопросам оказались бесплодными: обе стороны не шли на уступки, а закулисные переговоры об условиях заключения унии затягивались. Внутри греческой делегации разгорелась сперва скрытая, затем открытая борьба между латинофилами и православными. Она закончилась разрывом между партиями. Произошло острое столкновение их вождей — Виссариона Никейского, предлагавшего пойти на компромисс с папством, и Марка Эфесского, непреклонно отстаивавшего «чистоту православной веры».
Римская курия, раздраженная несговорчивостью греков, решила оказать на византийскую делегацию материальное давление. Она прекратила выдачу греческим прелатам субсидии на их содержание и заставила византийцев терпеть лишения. Затем было решено перенести заседания собора из Феррары во Флоренцию. Удаляясь в глубь страны, греки попадали в еще большую зависимость от курии. Официальным предлогом перенесения заседаний собора во Флоренцию послужила опасность моровой язвы, грозившая Ферраре.
Во Флоренции высшие католические прелаты, особенно кардинал Джулиано Чезарини, приложили немало усилий, чтобы склонить на сторону унии наиболее влиятельных православных иерархов. Они установили самые дружеские отношения с латинофилами, вели с ними беседы на богословские темы, знакомили с трудами западных богословов. Виссарион и его сподвижники по прибытии в Италию попали в среду знаменитых итальянских гуманистов, установили связи с Амброджо Траверсари, Гуарино, Флавио Бьондо, Ауриспа и многими другими виднейшими итальянскими учеными и писателями раннего Возрождения
[475]. Общая любовь к античности сближала Виссариона и его друзей с итальянскими гуманистами. Под давлением курии латинофилы активизировались, стремясь склонить к компромиссу пассивное большинство греческой делегации. Одновременно папский престол пустил в ход подкуп и щедрые посулы в отношении колеблющихся восточных иерархов. Многие видные греческие духовные сановники получили от папы богатые подарки и еще более заманчивые обещания. Латинские кардиналы устраивали для греков пышные обеды, на которых вели льстивые разговоры. Вождям латинофильской партии Виссариону и Исидору были обещаны кардинальские шапки. Впоследствии, по возвращении на родину, византийских архиепископов и епископов обвинили в том, что они были подкуплены «врагами истинной веры». Обвинение в коррупции пало на многих из восточных иерархов, участвовавших в работе Ферраро-Флорентийского собора. В послании монахов Афона русскому великому князю Василию II прямо говорилось, что император и византийское духовенство «какову мерзость въсхотеша очима своима увидети свою благочестивую веру продате на злате студным латинам»
[476].
Император Иоанн VIII, крайне недовольный затяжкой переговоров, оказал решительное давление на упорствовавших духовных сановников, угрожая одним, подкупая других, и в конце концов добился того, что значительная часть греческой делегации согласилась заключить унию на основе догматических уступок папству. На это пошел даже такой видный представитель православной партии, как Георгий Схоларий. Весьма важной причиной, толкнувшей греков на уступки латинянам, были доходившие из Византии тревожные известия о готовившемся новом наступлении турок. Однако Марк Эфесский не сдавался, и ожесточение в борьбе партий на соборе достигло крайних пределов. Виссарион публично назвал Марка «бесноватым», Марк же кричал ему вслед: «Ты ублюдок и таково твое поведение!» Дорофей Митиленский и Мефодий Лакедемонский доносили папе, что Марк называл римского первосвященника еретиком. Упорство и строптивость Марка вызвали такой гнев императора, что Иоанн VIII приказал держать непокорного епископа под арестом во время заключительных переговоров на соборе.
Окончательное согласие на унию греческих иерархов было вскоре достигнуто. Наиболее болезненный вопрос о супрематии папы был сформулирован в довольно туманных выражениях о признании папы «наместником Христа», «пастырем и учителем всех христиан». Требование об апелляции к папе на императора и патриарха не было принято, и латиняне не стали на этом настаивать. Но в других, чисто догматических вопросах и в вопросах литургики папство одержало полную победу
[477]. Латиняне заставили греков признать католическое вероучение во всех основных пунктах и быстро достигли согласия по тем догматическим вопросам, о которых спорили 500 лет.
Одновременно было заключено соглашение между папой и императором на следующих условиях: папа обязался содержать в Константинополе 300 воинов и две галеры, а в случае особой нужды прислать императору 20 галер на полгода или 10 галер на год. Кроме того, папский престол обещал, в случае крайней опасности для Византии, поднять европейские государства на крестовый поход против турок. Католическая церковь согласилась также посылать всех паломников, отправлявшихся на Восток, через Константинополь для возрождения экономической жизни города и повышения политического престижа империи.
5 июля 1439 г. латинская редакция соборного определения об унии была подписана папой и 40 католическими прелатами, в тот же день греческую редакцию определения подписали император и 33 греческих иерарха. Марк Эфесский, оставшийся до конца непреклонным, унию не подписал; кроме того, не подписали ее представители русской и грузинской церквей, еще до заключения унии покинувшие Флоренцию, а также некоторые греческие епископы.
6 июля 1439 г. в кафедральном соборе Флоренции состоялось торжественное заключение унии между католической и православной церквами. В прекрасном храме открылось блестящее собрание западных и восточных прелатов, в центре его в пышных одеждах, окруженный кардиналами, восседал папа. Греческое духовенство теснилось вокруг императора. После католической мессы кардинал Джулиано Чезарини прочитал латинский текст соборного определения, а Виссарион — греческий. Затем греки во главе с императором подходили по очереди к папе, преклоняли перед ним колена и целовали ему руку — эта унизительная для византийцев церемония знаменовала их полное поражение.
Но самым печальным для византийцев было то, что политические и военные условия договора между папой и императором так и остались только на бумаге. Византия и на этот раз, как и прежде, не получила реальной помощи от Запада.
Жертва была принесена напрасно, и по возвращении греков на родину уния была отвергнута почти всем духовенством и народом. Все отвернулись от униатов, и вожди латинофилов Виссарион и Исидор, получив сан кардинала римской церкви, принуждены были уехать в Рим.
Полный крах потерпели попытки принятия унии и на Руси. Митрополит Московский Исидор, назначенный папой после Флорентийского собора наместником Ливонии, Литвы и России, был в Москве низложен великим князем Василием II и брошен в темницу. С большим трудом ему удалось бежать в Литву. После низложения Исидора митрополитом стал русский иерарх Иона, и русская церковь окончательно превратилась в самостоятельную митрополию, независимую от константинопольского патриарха.
Бесплодный по существу для Византии союз с Западом вызвал, однако, страшный гнев султана Мурада II и еще более ухудшил отношения между Константинополем и султанским двором.
Между тем успехи турок, создававшие непосредственную угрозу для европейских стран, в частности для Венгрии, привели, наконец, к созданию новой военной коалиции. Прославленный герой венгерского народа, воевода Трансильвании Янош Хуньяди, ставший во главе ополчения из венгров, сербов и других народов, нанес ряд поражений туркам в Сербии и Валахии. Это подняло дух всего порабощенного турками населения Балкан и вызвало энтузиазм в странах Центральной и Западной Европы. В 1443 г. с благословения папы был организован новый крестовый поход против турок, в котором приняли участие венгры, поляки, сербы, валахи и другие народы
[478]. Во главе крестоносного ополчения на этот раз встал король Польши и Венгрии Владислав III Ягеллон. Под его знаменами в Венгрии собралась большая армия, насчитывавшая около 30 тыс. воинов. Союзниками Владислава III выступили Янош Хуньяди и сербский деспот Георгий Бранкович, ранее лишенный турками своих владений в Сербии.
Воспользовавшись тем, что Мурад II в это время был занят затяжной войной в Малой Азии против эмира области Карамана, армия крестоносцев перешла Дунай и нанесла ряд поражений туркам в Румелии. Крестоносцы, не встречая сопротивления, вторглись в Болгарию, овладели Софией и двинулись далее, во Фракию. Местное население всюду встречало их как освободителей от ига турок.
Победы войск крестоносцев в 1443 г. облегчили борьбу за независимость Албании, почти уже завоеванной турецкими войсками, и албанский народ, под руководством своего вождя Скандербега, еще 20 лет успешно боролся с турецкими завоевателями.
Узнав об успехах крестоносцев на Балканах, Мурад II в течение лета 1444 г. собрал огромную армию и подготовился к встрече с войсками Владислава. Одновременно дипломатия турок сумела внести раскол в стан противников и переманить на свою сторону сербского деспота Георгия Бранковича. Единство крестоносного войска было подорвано. Мурад II пошел на заключение временного мирного договора с европейскими державами сроком на десять лет. Однако папство через своего легата кардинала Джулиано Чезарини склоняло Владислава III к продолжению борьбы; на этом же настаивала и Венеция, обещавшая прислать в поддержку крестоносцам свой флот.
Вожди крестоносцев, несмотря на ослабление их войска и усиление армии противника, самонадеянно порвали мирный договор и возобновили войну с султаном. Крестоносное ополчение в надежде на помощь венецианского флота двинулось к Варне в Болгарии, но венецианская эскадра запоздала с прибытием. Георгий Бранкович отказался участвовать в походе. Усилились раздоры внутри крестоносного войска
[479]. Все это, а также огромное численное превосходство турецкой армии определило исход решающей битвы между турками и крестоносцами при Варне. 10 ноября 1444 г. в одном из самых кровопролитных сражений той эпохи крестоносная армия была, почти полностью уничтожена, сам глава крестоносцев Владислав III пал на поле боя, его трагическую участь разделил и вдохновитель крестового похода кардинал Джулиано Чезарини.
Последняя попытка европейских народов помешать турецким завоеваниям на Балканах полностью провалилась. Турки торжествовали победу, готовя окончательный удар против Византии.
Глава 11
Завоевание турками Византии и падение Константинополя
(Зинаида Владимировна Удальцова)
Разгром крестоносцев при Варне явился непоправимым ударом для всей антитурецкой коалиции европейских народов
[480]. На поле битвы пали не только вожди крестоносного ополчения — король Владислав Ягеллон и кардинал Джулиано Чезарини, сложили свои головы почти все воины их армии. Надежды европейских народов сдержать стремительный натиск турок и противопоставить турецкой армии сплоченный союз монархов Европы и папства были похоронены навсегда. После Варненской битвы антитурецкая коалиция фактически распалась, в стане противников султана царило полное замешательство.
Варненская катастрофа поставила в безвыходное положение прежде всего Византию, против которой готовился главный удар турок. Престарелый Иоанн VIII, удрученный провалом Флорентийской унии и внутренними неурядицами, простившись с последней надеждой на помощь крестоносцев, вновь вынужден был искать милостей у султана, стремясь задобрить его щедрыми подарками. Тяжелые последствия Варненское поражение имело и для греков Морей. Морейский деспот Константин, стремившийся объединить всю Грецию для борьбы против турок, не имел больше времени для того, чтобы развить и закрепить свои успехи. Смелые попытки Константина возродить греческое царство в Морее и выступить в качестве наследника агонизирующей империи незамедлили вызвать подозрения, а затем и месть освободившегося от западной опасности турецкого султана.
Поход 1446 г. Мурада II в Грецию завершился полным разгромом непокорного деспота. Пройдя Центральную Грецию, турецкие войска атаковали и захватили длинную стену на Истме, а затем вторглись в Морею. Разрушительный поток турецких завоевателей обрушился на цветущие города Морей, которые были преданы беспощадному разграблению. Дорогой ценой заплатили за сопротивление султану жители Пелопоннеса: покидая опустошенный край, турки увели с собой около 60 тыс. пленников. С большим трудом Морея сохранила временную независимость, уплатив высокую дань победителю.
Намереваясь громить своих противников поодиночке, Мурад II заключил мир с побежденным деспотом Морей Константином и двинулся против одного из самых опасных своих врагов — Яноша Хуньяди. В октябре 1448 г. венгерские и турецкие войска сошлись снова на том же Косовом поле, где произошло знаменитое сражение 1389 г. Как и тогда, кровопролитная битва окончилась полной победой турок и подчинением Яноша Хуньяди власти турецкого султана. Эта победа повлекла за собой и капитуляцию Сербии. Непримиримый враг турок — вождь албанцев Скандербег, оставшись в изоляции, заперся в своих горных твердынях и продолжал в одиночку вести мужественную и неравную борьбу против османских войск, которые во главе с султаном несколько лет подряд тщетно пытались покорить Албанию.
31 октября 1448 г. в Константинополе скончался Иоанн VIII, подавленный успехами врагов и отчаявшийся спасти свое государство.
Его преемником стал деспот Морей Константин, поддержанный своим бывшим врагом, а ныне временным союзником Мурадом II. Коронация императора состоялась 6 января 1449 г. в Морее. Спустя два месяца новый василевс торжественно прибыл в Константинополь. Морея была поделена между братьями императора Димитрием и Фомой, постоянно враждовавшими между собой и искавшими в борьбе за власть помощи то турок, то итальянцев.
Последний византийский император Константин XI Палеолог Драгаш (1449–1453)
[481] был, по описанию современников, человеком незаурядной энергии и большой личной храбрости. Скорее воин, чем политик, он сосредоточил все свои усилия на подготовке к решительной схватке с турками, которая приближалась неотвратимо. Роковые события были ускорены смертью султана Мурада II (февраль 1451 г.). На смену одряхлевшему турецкому правителю пришел молодой, исполненный энергии и охваченный страстью к завоеваниям его сын — султан Мехмед II (1451–1481).
Мехмед II Фатих («Завоеватель») был одним из самых выдающихся правителей государства османов. Он сочетал непреклонную волю и проницательный ум с коварством, жестокостью и необузданным властолюбием. Для достижения своих целей он готов был применить любые средства. Сын одной из наложниц султана, он боялся за свою власть и после смерти отца прежде всего устранил возможных претендентов на престол. Он приказал убить своего девятимесячного брата Амурата и несколько других родственников. О жестокости нового султана складывали легенды. Современники рассказывали, что Мехмед II, желая разыскать похитителя дыни из своего сада, приказал распороть животы у 14 рабов. В другой раз он отрубил голову рабу, чтобы показать конвульсии шейных мускулов знаменитому итальянскому художнику Джентили Беллини, писавшему портрет султана
[482].
Подобно Гарун-ар-Рашиду, переодетый, он часто бродил по трущобам города, и горе было тому встречному, который узнавал султана, — его ожидала неминуемая смерть.
Вместе с тем новый правитель османов был достаточно образован, владел несколькими языками, в том числе, по-видимому, и греческим, изучал математику, увлекался астрономией и особенно философией, неплохо знал труды греческих философов и под руководством византийских ученых занимался их комментированием. Однако главной чертой характера нового властелина была страсть к завоеваниям. Придя к власти, Мехмед II поставил своей ближайшей целью уничтожение империи ромеев. Давнишняя мечта османских правителей полностью овладела гордой душой молодого султана. Мехмед II стремился не только воссоединить европейские и азиатские владения турок, которые разделял последний оплот византийцев — Константинополь, он хотел полностью ликвидировать остатки некогда великой империи, а великолепный город греков сделать столицей своего государства.
Для захвата Константинополя Мехмеду II, однако, необходимо было сперва упрочить свой тыл. С этой целью он, как «волк, прикрывшись шкурой ягненка»
[483], заключил мирные соглашения со своими соседями на Западе. Обезопасив себя с этой стороны, султан двинул войска на Восток, где державе османов угрожал один из феодальных князьков Малой Азии — эмир Карамана. Война с караманским эмиром заняла часть 1451 и начало 1452 г. Опираясь на свое военное превосходство, Мехмед II нанес поражение правителю Карамана, а затем заключил с ним выгодный мирный договор, развязав себе руки для войны с Византией.
В этот подготовительный период к решительной схватке Мехмед II, чтобы усыпить бдительность греков, любезно принимал византийских послов и даже возобновил с Константином XI выгодное для империи соглашение.
Сигналом к открытому разрыву Мехмеда II с византийцами послужило строительство турками крепости на европейском берегу Босфора, в непосредственной близости от Константинополя. Эта крепость (Румели-Хиссар) была воздвигнута в необычайно короткий срок: в марте 1452 г. турки приступили к ее сооружению, а уже в августе того же года строительство неприступной крепости, снабженной артиллерией и сильным гарнизоном, было окончено. Несколько раньше на азиатском берегу Босфора турки возвели другую крепость (Анатоли-Хиссар). Таким образом, теперь они прочно обосновались на обоих берегах Босфора. Свободные сношения Константинополя с Черным морем были прерваны, подвоз хлеба в город из Причерноморских областей мог быть прекращен в любой момент по воле султана. Вскоре турки стали собирать со всех кораблей, проходивших через проливы, высокую пошлину и подвергать их тщательному осмотру. Решительный шаг к установлению блокады Константинополя был сделан
[484].

План Константинополя. Буондельмонте. 1420 г.
Византийцам было ясно, что борьба вступила в заключительную фазу. Грозная опасность заставила императора Константина начать срочную подготовку к обороне столицы — чинить стены, обвалившиеся во многих местах, вооружать защитников города, запасать продовольствие. Бегство знатных константинопольцев на Запад приняло самые широкие масштабы.
Византийское правительство не прекращало с надеждой отчаяния взывать о помощи к Западу. Но папский престол по-прежнему непременным условием поддержки ставил восстановление и действительное претворение в жизнь церковной унии. Вопреки сопротивлению православной партии в Константинополе, во главе которой стоял непримиримый фанатик монах Геннадий (Георгий Схоларий)
[485], Константин XI завязал новые переговоры с римским престолом.
В ноябре 1452 г. в Константинополь явился для осуществления унии легат папы Николая V (1447–1455), грек-ренегат, перешедший в католичество, кардинал Исидор — активный проводник папской политики
[486]. Помощь, прибывшая из Италии вместе с легатом папы, была ничтожна, тем не менее византийское правительство встретило Исидора с большим почетом. Новое соглашение об унии было подписано. 12 декабря 1452 г. в храме св. Софии кардинал Исидор в знак заключения унии торжественно отслужил мессу по католическому обряду.
Православная партия подняла народ Константинополя на открытое выступление против униатов. Толпы народа, возбуждаемые фанатичными монахами, двинулись к монастырю Пантократора, где принял схиму глава православной партии Геннадий. Схоларий не вышел к народу, но прибил к дверям кельи своего рода манифест наиболее непримиримых ортодоксов, в котором предсказывал скорую гибель Константинополя как наказание за принятие унии с католической церковью. Ответ Геннадия подлил масла в огонь народного возмущения, и толпа с криками: «Не нужно нам ни помощи латинян, ни единения с ними!» — рассыпалась по городу, угрожая расправой униатам и католикам. Хотя народное волнение мало-помалу улеглось, атмосфера недоверия и вражды между ортодоксами и латинофилами еще больше сгустилась в Константинополе накануне осады его турецкими войсками.
Раскол внутри господствующего класса Византии пагубно сказался на судьбах империи. После заключения унии подняли голову туркофилы, стремившиеся использовать религиозные распри среди населения столицы. Главой туркофилов в столице был главнокомандующий византийского флота, мегадука Лука Нотара, который, по словам современников, будучи врагом унии, бросил крылатую фразу: «Лучше увидеть в городе царствующей турецкую чалму, чем латинскую тиару»
[487].

Мученик. Мозаика. Кахриэ-Джами. XIV в.
И эта фраза мегадуки стала пророческой. Жертва, принесенная византийским правительством, — заключение унии, и на этот раз оказалась напрасной. На Западе не было сил, которые действительно хотели бы и могли оказать Византии необходимую военную помощь. Альфонс V — король Арагона и Неаполя, который был наиболее могущественным государем среди правителей стран Средиземноморья, продолжал политику своих предшественников — норманнов, немцев и французов, владевших Южной Италией и Сицилией. Он стремился к восстановлению Латинской империи в Константинополе и мечтал о короне императора. По существу на Западе строились планы захвата ослабевшей Византии и шел спор о том, кто будет ее наследником.
Жизненно заинтересованы в спасении Византии были лишь итальянские города-республики — Генуя и Венеция, имевшие важные торговые фактории в империи, однако постоянная вражда мешала их согласованным действиям против турок. Большую энергию проявляли генуэзцы, которые пользовались покровительством последних Палеологов. Еще до начала осады Константинополя в столицу Византии, к великой рад ости ее населения, прибыл на двух галерах военный отряд из 700 генуэзцев под командованием храброго кондотьера Джованни Джустиниани, по прозвищу Лонг («Длинный»). Этим на первых порах и исчерпывалась реальная помощь Запада. Венецианская синьория, не желая спасать своего конкурента — генуэзцев, медлила с посылкой войск, и лишь позднее из Венеции прибыли два военных корабля под командованием Моросини.
Между тем братья последнего византийского императора, морейские деспоты Димитрий и Фома, даже перед лицом смертельной опасности не прекратили своих междоусобных распрей и опоздали с посылкой помощи Константину IX. Турки сознательно разжигали вражду деспотов Морей и достигли в этом полного успеха
[488]. Таким образом, Константинополь фактически остался один на один с врагом, силы которого во много раз превосходили силы защитников города.
Тучи над столицей империи быстро сгущались. Зима 1452/53 г. прошла в военных приготовлениях с обеих сторон. По рассказам современников, мысль о завоевании Константинополя не давала покоя султану. Даже по ночам он призывал к себе опытных людей, знакомых с расположением укреплений Константинополя, чертил с ними карты города, тщательно обдумывая план будущей осады. Первостепенное значение он придавал созданию мощной артиллерии и собственного турецкого флота. По приказу султана близ Адрианополя была создана огромная мастерская, где срочно отливали пушки. Не жалея средств на подготовку артиллерии, Мехмед II переманил к себе от византийцев талантливого литейного мастера венгра Урбана, недовольного тем, что Константин XI не сумел должным образом оплатить его труд. Урбану удалось отлить для турок пушку невиданных размеров, для перевозки которой к стенам Константинополя потребовалось 60 волов и многочисленная прислуга
[489].
В начале марта 1453 г. Мехмед II разослал приказ по всему своему государству о наборе войск, и к середине месяца под знаменами султана собралась многочисленная армия, насчитывавшая около 150–200 тыс. воинов
[490]. Готовясь к нападению на Константинополь, Мехмед II захватил последние города, еще остававшиеся под властью Константина XI, — Месемврию, Анхиал, Визу.

Констанцо да Феррара. Медаль с изображением Мехмеда II завоевателя. Бронза. 1481 г. Государственный Эрмитаж
В начале апреля 1453 г. передовые полки султана, опустошив пригороды Константинополя, подошли к стенам древней столицы империи. Вскоре вся армия турок обложила город с суши, а султан распустил свое зеленое знамя у его стен. В Мраморное море вошла турецкая эскадра из 30 военных и 330 грузовых судов, а через две недели прибыли турецкие корабли из Черноморья (56 военных и около 20 вспомогательных судов). Под стенами Константинополя султан устроил смотр своего флота, который в общей сложности насчитывал более четырехсот кораблей. Железное кольцо турецкой осады охватило Константинополь и с суши, и с моря
[491].
Неравенство сил воюющих сторон было разительным. Огромной турецкой армии и внушительному флоту византийское правительство могло противопоставить лишь горстку защитников города да небольшое число латинских наемников. Георгий Сфрандзи, друг и секретарь Константина XI, рассказывает, что по поручению императора он перед началом осады города проверял списки всех жителей Константинополя, способных носить оружие. Результаты переписи были удручающими: всего оказалось 4973 человека, готовых к защите столицы, помимо иностранных наемников, которых насчитывалось около 2 тыс. человек. Чтобы не усиливать панику среди мирного населения огромного города, правительство проводило эту перепись в глубокой тайне
[492].
Кроме того, в распоряжении Константина XI был небольшой флот из гэнуэзских и венецианских кораблей, нескольких судов с острова Крита
[493], торговых кораблей из Испании и Франции и небольшого числа византийских военных трирем. Всего флот защитников Константинополя, запертый в Золотом Роге, насчитывал не более 25 судов. Правда, военные корабли итальянцев и византийцев обладали техническими преимуществами перед турецкими, и прежде всего — знаменитым «греческим огнем», — грозным оружием в морских сражениях. Кроме того, византийские и итальянские моряки были опытнее турецких в искусстве ведения морского боя и сохраняли славу лучших мореходов того времени. Зато турки имели огромное техническое превосходство над византийцами на суше: созданная Мехмедом II артиллерия не имела себе равных в Европе. По словам византийского историка XV в. Критовула, «пушки решили все»
[494]. Устаревшие небольшие орудия, которыми располагали осажденные, не шли ни в какое сравнение с мощной артиллерией турок. Все надежды византийцы возлагали на укрепления Константинополя, которые не раз спасали их от внешних врагов. Однако и эти укрепления надо было защищать при огромном превосходстве турок в численности войск: по словам Дуки, на одного защитника города приходилось до 20 осаждающих
[495]. Поэтому, если для Мехмеда II было затруднительным разместить свою армию на узком пространстве между Мраморным морем и Золотым Рогом, то для осажденных было проблемой, как растянуть горсточку защитников города по всей линии укреплений.
Ставка Мехмеда II и центр турецкого лагеря были расположены против ворот св. Романа Константинополя, здесь же была сконцентрирована значительная часть артиллерии, в том числе пушка Урбана. Другие 14 батарей были расставлены вдоль всей линии сухопутных стен осажденного города. Левое крыло турецкой армии раскинулось от ставки султана до Золотого Рога, правое — простиралось на юг до Мраморного моря. На правом крыле были размещены контингенты турецких войск, состоявшие из восточных племен и прибывшие из азиатских владений турок. На левом крыле стояли войска европейских вассалов султана, согнанные из Сербии, Болгарии и Греции. Ставку Мехмеда II охраняла отборная 15-тысячная гвардия янычар, в тылу же ее расположилась конница, которая должна была прикрыть ставку в случае, если бы с Запада прибыла помощь осажденным. Одна турецкая эскадра бросила якорь против Акрополя, другая блокировала Галату, чтобы обеспечить нейтралитет генуэзцев.
Византийское правительство больше всего рассчитывало на итальянских наемников, поэтому отряд Джустиниани был поставлен в центре обороны, у ворот св. Романа, как раз напротив ставки Мехмеда II. Именно сюда турки направляли основной удар. Константин XI, как оказалось, опрометчиво доверил и общее руководство обороной города тому же Джустиниани. На участке стен между воротами св. Романа и Полиандровыми стойко сражался отряд трех братьев-греков Павла, Антония и Троила, а далее к Золотому Рогу — смешанные отряды византийцев и латинских наемников под командованием Феодора Каристийского, Иоанна Немецкого, Иеронима и Леонарда Генуэзского. На левом крыле стоял отряд Феофила Палеолога и Мануила Генуэзского. Оборона побережья Золотого Рога была поручена, как и командование всем флотом, мегадуке Луке Нотаре, а берег Мраморного моря, откуда не ожидалось нападения турок, из-за нехватки византийских войск был оставлен без защитников. 7 апреля турки открыли огонь по городу. Началась осада, которая длилась около двух месяцев. Сначала турки начали штурмовать стены, охранявшие город с суши, выбирая наиболее слабые места обороны. Однако, несмотря на огромное превосходство, турецкие войска длительное время терпели неудачи. Непрерывный обстрел города, при несовершенстве техники стрельбы и неопытности турецких артиллеристов, первоначально не принес желаемых результатов. Несмотря на частичное разрушение отдельных укреплений, осажденные успешно отбивали атаки турок.
Очевидец событий Георгий Сфрандзи писал: «Было удивительно, что, не имея военного опыта, они (византийцы) одерживали победы, ибо, встречаясь с неприятелем, они мужественно и благородно делали то, что свыше сил человеческих»
[496]. Турки неоднократно пытались засыпать ров, защищавший сухопутные укрепления города, но осажденные по ночам с поразительной быстротой его очищали. Защитники Константинополя предотвратили замысел турок проникнуть в город через подкоп: они провели встречный подкоп и взорвали позиции турок вместе с турецкими воинами. Оборонявшимся удалось сжечь и огромную осадную машину, которую турки с величайшим трудом и большими потерями придвинули к городским стенам. В первые недели осады защитники Константинополя часто делали вылазки из города и вступали в рукопашные бои с турками.
Особенно огорчали султана его неудачи на море. Все попытки турецких кораблей прорваться в Золотой Рог, вход в который был прегражден тяжелой железной цепью, не имели успеха. 20 апреля произошло первое крупное морское сражение, окончившееся полной победой византийцев и их союзников. В этот день с острова Хиоса прибыли четыре гэнуэзских и один византийский корабль, которые везли войска и продовольствие в осажденный город. Перед входом в Золотой Рог эта маленькая эскадра приняла неравный бой с турецким флотом, насчитывающим около 150 судов. Ни обстрел из орудий, ни тучи турецких стрел, которых было столь много, что «нельзя было погружать весел в воду»
[497], не заставили отступить моряков, спешивших на помощь Константинополю. Попытки турецких кораблей взять быстроходные суда противника на абордаж также окончились неудачей.
Благодаря военному опыту и искусству византийских и гэнуэзских моряков, большей маневренности и лучшему вооружению их кораблей и в особенности благодаря «греческому огню», который извергался на суда турок, эскадра императора одержала невиданную победу. Сражение происходило вблизи города, и осажденные со страхом и надеждой следили за его ходом. С не меньшим волнением наблюдал за происходившим сам Мехмед II, который в окружении своих военачальников подъехал к берегу. Разгневанный неудачей своего флота, султан впал в такую ярость, что в самый критический момент сражения пришпорил своего коня, бросился на нем в море и поплыл к кораблям: битва в это время происходила в нескольких десятках метров от берега. Подбадриваемые султаном турецкие моряки снова кинулись в атаку, но вновь были отбиты. Турки несли огромные потери, подожженные «греческим огнем» корабли султана пылали на глазах у ликовавших Константинопольцев. По сведениям, быть может, несколько преувеличенным, турки потеряли в этой морской битве десятки судов и около 12 тыс. моряков
[498]. Ночь прекратила сражение, осажденные быстро сняли цепь, закрывавшую вход в Золотой Рог, и маленькая эскадра благополучно вошла в гавань. Гнев султана был столь велик, что он собственноручно избил золотым жезлом начальника турецкого флота, болгарина-ренегата Палда-оглу, отрешил его от должности, а все имущество неудачливого флотоводца отдал янычарам.
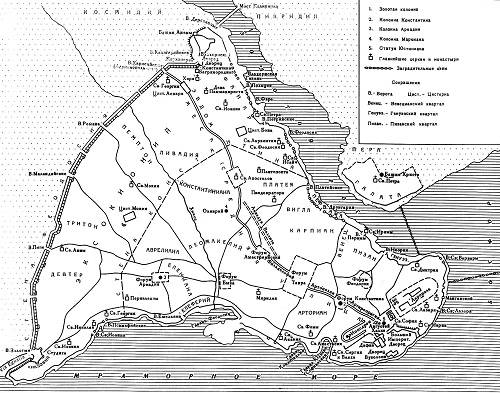
План Константинополя
Блистательная победа в морском сражении вселила новые надежды в души защитников города, но не изменила хода событий. Потерпев неудачу, Мехмед II решил как можно скорее ввести свои суда в Золотой Рог и подвергнуть город плотной осаде не только с суши, но и с моря. Для осуществления этой трудной задачи было решено перетащить турецкие корабли волоком по суше из Босфора в Золотой Рог. Расстояние, которое предстояло преодолеть, равнялось нескольким километрам. По приказу султана в ночь на 22 апреля турки соорудили деревянный настил от залива св. Устье до берегов Золотого Рога. Настил пролегал непосредственно у северных стен Галаты, но генуэзцы ни в чем не мешали приготовлениям турок. На этот настил, густо смазанный бычьим салом, были постав лены турецкие биремы и триремы с распущенными парусами. Под громкие звуки труб и пение воинственных песен турки за одну ночь перетащили свои корабли по суше в Золотой Рог.
Велики были удивление и ужас жителей Константинополя и его защитников, когда на другой день они увидели в гавани Золотого Рога 80 турецких судов. Турки построили от северного берега в глубь залива плавучий помост, на котором установили артиллерию, и начали обстрел как кораблей греков и итальянцев, находившихся в гавани Золотого Рога, так и северной стены города. Это было тяжелым ударом для осажденных. Пришлось снять часть войск с западной стены и перебросить их на северную. Попытка византийцев сжечь турецкие корабли провалилась из-за предательства генуэзцев Галаты, которые предупредили султана о готовившемся ночном нападении. Смельчаки, тайно подплывшие к турецким кораблям, были схвачены и казнены турками. В ответ на это Константин XI предал смертной казни 260 пленных турецких воинов и приказал выставить головы казненных на стенах города. Борьба с обеих сторон становилась все ожесточеннее.
Вскоре в ходе осады произошел явный перелом в пользу турок
[499]. Благодаря советам венгерских послов турки добились большего эффекта от действий своей артиллерии и во многих местах разрушили стены Константинополя. Резко возросли военные трудности обороны, к которым прибавился усиливавшийся недостаток продовольствия в осажденном городе.
Положение в Константинополе быстро ухудшалось не только в связи с успехами турок, но и из-за отсутствия единства в лагере его защитников. Константин XI, хотя и проявлял личное мужество во время осады, все свои надежды на ее благополучный исход возлагал на итальянцев. Политика правительства, ориентировавшегося на иностранцев, вызвала недовольство среди народных масс и волнения в городе
[500]. Кроме того, часть представителей высшей византийской аристократии встала на путь измены
[501]. О пораженческих настроениях придворной знати неоднократно говорит Нестор Искандер. Он прямо утверждает, что некоторые приближенные Константина XI, а также «патриарх» (видимо, Исидор Русский), вместе с командиром наемного отряда генуэзцев настойчиво советовали императору сдать город
[502]. Высшие чиновники государства, Мануил Иагарис и Неофит Родосский, утаили деньги, отпущенные правительством на укрепление стен Константинополя. Мегадука Лука Нотара припрятал во время осады огромные сокровища, которые потом передал султану, желая такой ценой купить жизнь себе и своим родным
[503].
Весьма мало патриотизма проявило и высшее византийское духовенство: оно было крайне раздражено конфискацией церковного имущества на нужды обороны и открыто выражало свое недовольство императору
[504]. Некоторые духовные лица не остановились перед тем, чтобы в критический момент общей опасности возбуждать народ против правительства. Смуты и волнения начались и среди итальянцев, находившихся в Константинополе. Исконные соперники — венецианцы и генуэзцы — нередко на улицах и стенах города завязывали вооруженные кровавые стычки
[505]. Все это ослабляло лагерь защитников города.
Но особенно большой вред византийцам, нанесло вероломство генуэзцев Галаты. В течение всей осады они одновременно помогали и туркам, и грекам. «Выходя из-за стен Галаты, они безбоязненна отправлялись в лагерь турок и в изобилии снабжали тирана (Мехмеда II) всем необходимым: и маслом для орудий, и всем иным, что требовали турки. Тайно же помогали ромеям»
[506]. С горечью и иронией пишет о предательстве генуэзцев Галаты историк Сфрандзи: «Завел он (султан) дружбу с жителями Галаты, а те радовались этому — не знают они, несчастные, басни о крестьянском мальчике, который, варя улиток, говорил: "О, глупые твари! Съем вас всех по очереди!"»
[507]. Генуэзцы притворно выражали дружбу султану, втайне надеясь, что он, как и его предки, не сможет взять столь хорошо укрепленный город, как Константинополь. Султан же, па словам Дуки, в свою очередь думал: «Дозволю я, чтобы змея спала, до тех пор пока поражу дракона, и тогда — один легкий удар по голове, и у нее потемнеет в глазах. Так и случилось»
[508].
Раздраженный затяжной осадой, султан в последних числах мая стал готовиться к решительному штурму города. Уже 26 мая, согласно рассказу Нестора Искандера, турки, «прикативше пушкы и пищали, и туры, и десница, и грады древяные, и ины козни стенобитные…, такоже и по морю придвинувше корабли и катаргы многыа, и начаху бити град отвсюду»
[509]. Но тщетно турки пытались овладеть городом («…нужахутся силою взойти на стену, и не даша им грекы, но сечаахуся с ними крепко»)
[510]. В эти роковые для Византии дни защитники города и большинство его населения проявили огромное мужество. «Градцкые же люди, — пишет Нестор Искандер, — вшед на стенах от мала и до велика, но и жены мнози и противляхуся им в бьяхуся крепце»
[511].
Генеральный штурм города был назначен султаном на 29 мая. Последние два дня перед штурмом обе стороны провели в приготовлениях: одна — к нападению, другая — к последней защите. Мехмед II, чтобы воодушевить своих воинов, обещал им в случае победы отдать на три дня великий город на поток и разграбление. Муллы и дервиши сулили тем, кто падет в бою, все радости мусульманского рая и вечную славу. Они разжигали религиозный фанатизм и призывали к истреблению «неверных».
В ночь накануне штурма бесчисленные огни зажглись в лагере турок и на их кораблях, расположенных на всем протяжении от Галаты до Скутари. Жители Константинополя с удивлением смотрели со стен на это зрелище, полагая сперва, что в стане противника вспыхнул пожар. Но вскоре по воинственным кликам и музыке, несшимся из неприятельского лагеря, они поняли, что турки готовятся к последней атаке. В это время султан объезжал свои войска, обещая победителям двойное жалование до конца жизни и несметную добычу. Воины приветствовали своего владыку восторженными криками.
В то время как турецкий лагерь столь шумно готовился к утреннему сражению, в осажденном городе в последнюю ночь перед приступом царило гробовое молчание. Но город не спал, он тоже готовился к смертельной схватке. Император Константин XI со своими приближенными медленно объезжал укрепления своей обреченной на гибель столицы, проверяя посты и вселяя надежду в души последних защитников Византии. Константинопольцы знали, что многим из них суждено завтра встретить смерть, они прощались друг с другом и со своими близкими.
Ранним утром 29 мая 1453 г.,
когда начали тускнеть звезды и забрезжил рассвет, лавина турецких войск двинулась на город. Первый натиск турок был отбит, но за отрядами новобранцев, посланных султаном на приступ первыми, под звуки труб и тимпанов двинулась основная армия турок. Два часа продолжалась кровопролитная схватка. Сперва перевес был на стороне осажденных — турецкие триремы с лестницами были отброшены от стен города со стороны моря. «Великое множество агарян, — пишет Сфрандзи, — было перебито из города камнеметными машинами, и на сухопутном участке наши приняли врага также смело. Можно было видеть страшное зрелище — темное облако скрывало солнце и небо. Это наши сжигали неприятелей, бросая на них со стен греческий огонь»
[512]. Повсюду раздавался непрерывный грохот орудий, крики и стоны умирающих. Турки ожесточенно рвались на стены города. Был момент, когда, казалось, военное счастье склонил ось на сторону византийцев: командиры греческих отрядов Феофил Палеолог и Димитрий Кантакузин не только отбили нападение турок, но совершили удачную вылазку и в одном месте оттеснили турецких воинов от стен Константинополя. Окрыленные этим успехом, осажденные уже мечтали о спасении.
Турецкие войска, действительно, несли огромные потери, и воины были готовы повернуть назад, «но чауши и дворцовые равдухи (полицейские чины в турецкой армии) стали бить их железными палками и плетьями, чтобы те не показывали спины врагу. Кто опишет крики, вопли и горестные стоны избитых!»
[513]. Дука сообщает, что сам султан, «стоя позади войска с железной палкой, гнал своих воинов к стенам, где льстя милостивными словами, где — угрожая»
[514]. По словам Халкокондила, в турецком лагере наказанием оробевшему воину была немедленная смерть
[515]. Однако силы были слишком неравны, и, в то время как горстка защитников таяла на глазах, к стенам Константинополя, подобно волнам прилива, прибывали все новые и новые отряды турок.
Сведения источников о том, как турки ворвались в Константинополь, противоречивы. Сфрандзи возлагает значительную долю вины на командующего сухопутным участком обороны города генуэзца Джованни Джустиниани. Тот после ранения покинул важнейший пункт защиты столицы близ ворот св. Романа, куда были брошены главные силы турок. Несмотря на просьбы самого императора, Джустиниани ушел с укреплений, сел на корабль и переехал в Галату. Уход военачальника вызвал замешательство, а затем и бегство византийских войск в момент, когда султан бросил в бой свою отборную гвардию янычар. Один из них, по имени Хасан, человек огромного роста и необычайной силы, первым взобрался на стену византийской столицы. За ним последовали его товарищи, им удалось захватить башню и водрузить на ней турецкое знамя
[516].
Несколько иначе описывает эти трагические события латинофильски настроенный историк Дука. Стремясь оправдать Джустиниани Лонга, он доказывает, что атаку турок отбили у ворот св. Романа уже после его ухода. Турки же проникли в город якобы через случайно обнаруженные ими потайные ворота (Керкопорта), захватили на этом участке городские стены и с тыла напали на осажденных
[517].
Так или иначе, турки ворвались в осажденный город. Вид турецкого знамени, развевавшегося на башне ворот св. Романа, вызвал панику среди итальянских наемников. Однако и тогда сопротивление византийцев не прекратилось. Жестокие бои происходи ли в кварталах, прилегавших к гавани. «Народи-ж, — пишет Нестор Искандер, — по улицам и по двором не покоряхуся турком, но бьяхуся с ними…, а инш людш и жены и дети метаху на них сверху полат керамиды (черепицу) и плиты и паки зажигаху кровли палатные дровяные и метаху на них со огни, и пакость им деяху велiю»
[518].
Константин XI с кучкой храбрецов бросился в самую гущу сражения и бился с мужеством отчаяния. Император искал смерти в бою, не желая попасть в плен к султану. Он погиб под ударами турецких ятаганов. Мехмед II, желая собственными глазами убедиться в смерти врага, приказал своим солдатам разыскать его труп. Его долго искали среди груды мертвых тел и обнаружили по пурпурным сапожкам с золотыми орлами, которые носили только византийские императоры. Султан повелел отрубить голову Константина XI и выставить ее на высокой колонне в центре завоеванного города. Пленные константинопольцы с ужасом смотрели на это зрелище.
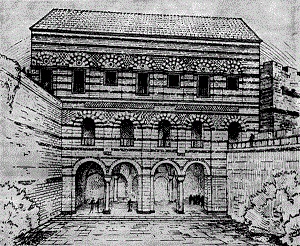
Дворец Текфурсарай в Константинополе. XIII в. Реконструкция
Ворвавшись в город, турки перебили остатки византийских войск, а затем стали истреблять всех, кто встречался на их пути, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. «В некоторых местах, — пишет Сфрандзи, — вследствие множества трупов совершенно не было видно земли». По городу, продолжает этот очевидец событий, сам захваченный в плен турками, неслись стенания и крики множества убиваемых и обращаемых в рабство людей. «В жилищах плач и сетования, на перекрестках вопли, в храмах слезы, везде стоны мужчин и стенания женщин: турки хватают, тащат, обращают в рабство, разлучают и насильничают»
[519].
Трагические сцены разыгрывались и на берегу Золотого Рога. Узнав о взятии города турками, итальянский и греческий флот поднял паруса и готовился к бегству. На набережной собрались огромные толпы народа, которые, толкаясь и давя друг друга, стремились попасть на корабли. Женщины и дети с воплями и слезами умоляли моряков взять их с собой. Но было поздно, моряки лихорадочно спешили покинуть гавань. Три дня и три ночи длился грабеж великого города. Повсюду, на улицах и в домах, царили разбой и насилие. Особенно много жителей Константинополя было захвачено в плен в храме св. Софии, куда они сбежались, надеясь на чудесное спасение в стенах почитаемой святыни. Но чуда не произошло, и турки, перерезав кучку защитников храма, ворвались в св. Софию.
«Кто расскажет о плаче и криках детей, — пишет Дука, — о вопле и слезах матерей, о рыданиях отцов, кто расскажет? Тогда рабыню вязали с госпожой, господина с невольником, архимандрита с привратником, нежных юношей с девами…, а если они силой отталкивали от себя, то их избивали… Если кто оказывал сопротивление, того убивали без пощады; каждый, отведя своего пленника в безопасное место, возвращался за добычей во второй и третий раз»
[520]. По словам Дуки, турки «стариков, находившихся в доме и не способных выйти из жилища вследствие болезни или старости, безжалостно убивали. Младенцев, недавно рожденных, бросали на улицы»
[521]. Константинопольские дворцы и храмы были разграблены и частично сожжены, прекрасные памятники искусства уничтожены. Ценнейшие рукописи погибли в пламени или были затоптаны в грязь.
Большинство жителей древнего города было перебито или захвачено в плен. По словам очевидцев, турки гнали из Константинополя десятки тысяч пленников и продавали их на рынках рабов. Только через три дня Мехмед II приказал прекратить грабеж покоренного города и торжественно вступил в Константинополь под восторженные клики своих воинов. По легенде, в знак победы над «неверными» султан въехал на белом коне в храм св. Софии, удивлялся необычайной красоте этого великолепного здания и повелел превратить его в мечеть. Так 29 мая 1453 г. под ударами турецких войск пал некогда знаменитый и богатейший город, центр культуры и искусства — Константинополь, а с его падением фактически прекратила свое существование и Византийская империя.
Поэты разных народов долго оплакивали гибель великого города. Армянский поэт Абраам Анкирский горестно писал о падении Константинополя в таких стихах:
«Турки взяли Византию.
Мы горько оплакиваем,
Со стоном пролпваем слезы
И вздыхаем скорбно,
Жалея город великий.
Братья-единоверцы,
Отцы и возлюбленные мои!
Сочините скорбный плач
О том, что произошло:
Константинополь славный,
Бывший троном для царей,
Как теперь ты мог быть сокрушен
И попран неверными?!»
[522]
После разгрома Византии Турция превратилась в одну из могущественных держав средневекового мира, а захваченный Мехмед ом II Константинополь стал столицей Османской империи — Стамбулом
[523].
Глава 12
Завоевание турками Мореи, островов Эгейского моря и Трапезундской империи
(Александр Петрович Каждан)
Для греческого населения турецкое завоевание означало установление нового гнета: греки стали политически бесправными, их религия — гонимой. Произвол завоевателей был чудовищным даже для видавшей виды империи ромеев.
Византийцы были ограблены, их жилища разрушены, мужчины, женщины, дети оказались в плену у османов. В недавно найденном архиве адрианопольского купца Николая Исидора
[524] обнаружено несколько относящихся к 1453 г. писем, где говорится о судьбе греков, попавших в турецкий плен. Духовенство Галлиполи просило Николая Исидора выкупить некоего Иоанна Магистра: жестокий мусульманин, которому достался Иоанн, требовал за него две с половиной тысячи аспров (и непременно деньги вперед). Другое письмо написано человеком по имени Димитрий, семья которого попала в руки какого-то евнуха. У Димитрия не было средств, чтобы выкупить своих родственников; он лишь мог посылать подарки евнуху, чтобы как-то умилостивить его и улучшить положение родных.
Даже туркофилы не чувствовали себя уверенными под властью Мехмеда. Их вождь мегадука Лука Нотара был сперва обласкан турецким султаном: победитель посетил дом Нотары, беседовал с больной женой мегадуки, наградил его деньгами и обещал передать ему управление разграбленным и сожженным Стамбулом. Согласие, впрочем, длилось недолго: Мехмед потребовал, чтобы Нотара прислал ему своего младшего сына, — мегадука ответил, что предпочтет погибнуть на плахе, нежели выдать мальчика на поругание. Расправа не замедлила: Нотара был казнен вместе со старшим сыном и зятем, три головы доставлены султану, тела брошены без погребения.
Множество греков эмигрировало — в Дубровник, на Крит, в Италию, Россию
[525]. Многие из них сыграли большую культурную роль — они распространяли эллинскую образованность и византийские художественные традиции
[526]. Греческих ткачей приглашал для французских мануфактур Людовик XI
[527]. Но далеко не всем эмигрантам удавалось устроиться на чужбине: многие нуждались, жили подаянием, зарабатывали на хлеб перепиской греческих книг. Иные возвращались на родину, где жизнь была опаснее, но легче было прокормить семью.
Те же письма из архива Николая Исидора свидетельствуют, что греческое купечество сумело наладить отношения с победителями: строились дома, учреждались торговые компании, шла торговля солью. Николай Исидор велел приказчику привезти ему из-под Месемврии горшок черной икры. Функционировали греческие школы и греческие церкви. Победители позаботились об избрании нового патриарха: им оказался Георгий Схоларий (Геннадий), который бежал из осажденного Константинополя, попал к туркам в плен, был продан на рабском рынке в Адрианополе и, по-видимому, учительствовал в школе, находившейся под покровительством Николая Исидора. Мехмед пригласил его в Стамбул, окружил почестями, и 6 января 1454 г. Геннадий занял патриарший престол. Св. София стала мечетью — Геннадию для службы отвели другую церковь: сперва св. Апостолов, потом — Паммакаристу. Согласие Геннадия стать патриархом означало, что глава восточной церкви признавал новый порядок вещей, православное духовенство избрало путь сотрудничества с завоевателями. Византийская церковь, которая после латинского завоевания 1204 г. была одним из очагов сопротивления, теперь довольно быстро смирилась с мусульманской чалмой на берегах Боспора. Эта позиция греческой церкви, руководимой к тому же одним из наиболее активных антиуниатов, обрекала соглашение с папством на неминуемый крах: Флорентийская уния не соблюдалась, хотя официально греческое духовенство отвергло ее лишь на Константинопольском соборе 1484 г.
[528]
После падения Константинополя турецкие войска приступили к завоеванию последних частей Византийской империи
[529]. Западные державы по-прежнему не могли сконцентрировать свои усилия против мусульман. Итальянские торговые республики (Генуя, Венеция) предпочитали ценой территориальных потерь удерживать в своих руках монополию на торговлю Леванта. Героическое сопротивление Албании, Сербии и Венгрии, несмотря на ряд успехов, не могло остановить натиск Османской империи. Используя военное превосходство турок, умело играя на противоречиях местной знати, Мехмед постепенно распространял свою власть на прежние владения Византии и латинских государств в бассейне Эгейского моря.
Сразу же после разгрома Константинополя прекратили сопротивление Силимврия и Эпиват — последние византийские крепости во Фракии. В 1455 г., воспользовавшись смертью правителя Лесбоса Дориво I Гаттелузи, Мехмед добился увеличения дави, а 31 октября 1455 г. его войска заняли Новую Фокею, принадлежавшую Гаттелузи: богатые генуэзские купцы, владевшие квасцовыми рудниками, были захвачены в плен и увезены на турецких кораблях, население обложено поголовной податью, а сто красивейших юношей и девушек преподнесены в дар султану.
Затем наступила очередь Эноса — крупного торгового центра близ устья Марицы. Он принадлежал другой ветви рода Гаттелузи. После смерти правителя Эноса Паламеда в 1455 г. в городе разгорелась ожесточенная борьба между двумя группировками знати, одна из которых решила искать справедливости при дворе султана. Одновременно на нового правителя, Дорино II, были поданы жалобы турецких должностных лиц: его обвиняли, в частности, в продаже соли «неверным» к невыгоде для мусульман.
Несмотря на необычные холода, Мехмед немедленно двинул войска и флот к Эносу. Дорино II находился во дворне своего отца на острове Самофракии и даже не пытался вмешаться в ход событий. Жители Эноса сдали город без сопротивления. Турецкий флот занял принадлежавшие Дорино острова — Имврос (где наместником султана стал известный историк Критовул) и Самофракию. Дорино пытался сохранить хотя бы островные владения, он послал к султану красавицу-дочь и богатые дары, — но все напрасно. Острова были присоединены к Османской империи, а сам Дорино выслан в глубь Македонии, в Зихну, откуда ему, впрочем, удалось бежать в Митилену на Лесбосе, не дожидаясь расправы султана.
В истории покорения Эноса отчетливо выразилась трагическая ситуация, сложившаяся в середине XV в. в бассейне Эгейского моря: на одной стороне стоял жестокий и энергичный деспот, располагавший огромными материальными ресурсами и преданным войском, на другой — разрозненные, маленькие (хотя и богатые) государства, ослабленные взаимным соперничеством и внутренней рознью.
Впрочем, на первых порах турецкий флот был слишком слаб, чтобы энергично наступать на островные государства. Мехмед должен был обращаться к дипломатической игре: он, например, признал Гильельмо II, правителя Наксоса, герцогом Архипелага и заключил с ним соглашение, по которому Наксос обязывался уплачивать ежегодную дань. Тем самым одно из наиболее сильных государств Эгейского моря получило гарантии и потому равнодушно взирало на судьбы своих соседей. Но соглашение было лишь отсрочкой, и Наксосу тоже пришлось признать турецкую власть — в 1566 г.
Госпитальеры, владевшие Родосом, вели себя иначе — они отказались платить дань туркам. Османская эскадра, посланная против Родоса в 1455 г., действовала без особого успеха. Позднее, в 1480 г., Мехмед решительнее атаковал владения Ордена: турки высадились на острове, осадили крепость, построили сложные механизмы, обстреливали стены из пушек. 28 июля начался генеральный штурм. 40-тысячное войско, неся с собой мешки для добычи и веревки для пленных, ринулось на крепостные валы, опрокинуло госпитальеров и водрузило турецкое знамя. Но в этот момент османский командующий адмирал Месих-паша приказал объявить, что грабеж воспрещается и что колоссальная казна Ордена должна принадлежать султану. Эффект был неожиданным: натиск турецких войск ослаб, осажденные собрались с силами и отбили приступ. Турки потеряли 9 тысяч убитыми и 14 тысяч ранеными и должны были снять осаду. Только в 1522 г. они овладели Родосом
[530].
Под постоянной угрозой турецкой оккупации жил в эти годы и Хиос, принадлежавший привилегированной генуэзской компании, так называемой Маоне. После падения Каффы, захваченной турками в 1475 г.
[531], Хиос оставался последним оплотом генуэзцев на Востоке, и Генуя старалась удержать его. Мехмед так и не решился на прямое нападение, он пытался организовать переворот на острове. Султан требовал уплаты дани и посылки в Галлиполи хиосских мастеров для строительства кораблей. Постоянные военные тревоги, сокращение торговли на Леванте тяжело сказывались на положении Маоны: доходы ее резко сократились, в казне был постоянный дефицит, хиосская монета уже не могла конкурировать с венецианской. В 1566 г. Хиос был занят турками
[532].
Значительно раньше завершились турецкие операции против Лесбоса. Вмешавшись в междоусобицу семьи Гаттелузи, Мехмед в 1462 г. послал эскадру к острову. Турки грабили страну, обращая жителей в рабство. Кто мог бежать, искал спасения за стенами Митилены, но после 27-дневной бомбардировки города правитель Лесбоса Никколо Гаттелузи сдался и, припав к ногам Мехмеда, уверял султана, что всю жизнь был его верным слугой. Однако ни покорность, ни даже принятие ислама не спасли Никколо: он был увезен в Стамбул, а затем брошен в тюрьму и задушен. Лесбос стал турецким, и, придавая победе большое значение, Мехмед торжественно отпраздновал покорение острова.
Через несколько лет, в 1470 г., пала венецианская колония Негропонт. По приказу султана был сооружен понтонный мост, соединивший Эвбею с материком, и по этому мосту турецкие войска переправились на остров. Венецианский флот не решился вмешаться. Только один корабль прорвался в гавань осажденного Негропонта, но это было лишь героическим самоубийством. С помощью предателей, указавших слабые места в обороне крепости, турки сумели вступить в город, который защищали не только воины, но и женщины. Негропонт был разграблен, жители перебиты или обращены в рабство. В 1479 г. Венеция признала потерю Негропонта и ряда других островных владений и крепостей на побережье.
Если овладение островами Эгейского моря затянулось до середины XVI столетия, то последние остатки Византийской империи на материке — Морея и Трапезунд — перешли под власть турок значительно скорее.
Известие о падении Константинополя вызвало в Морее панику, и оба деспота — Фома и Димитрий Палеологи — даже собирались бежать на Запад, но затем отказались от своего плана и остались в Мистре. Впрочем, о независимости от султана уже не приходилось мечтать: политическая ситуация в Морее открывала для Мехмеда постоянные возможности для вмешательства
[533].

Мистра и Тайгет. Общий вид
Уже в 1453 г. страна была охвачена феодальным мятежом, который возглавил Мануил Кантакузин, один из потомков василевса Иоанна VI Кантакузина. Его поддержали морейская знать и албанцы, жившие на Пелопоннесе и составлявшие наиболее боеспособный элемент греческой армии. Кантакузин вел переговоры с венецианцами и генуэзцами, но те ограничились долгими дебатами в правительстве и щедрыми посулами грекам. Опасаясь султана, обе республики отказались от вмешательства в дела на Пелопоннесе.
Палеологи были бессильны справиться с мятежом и обратились за помощью к туркам. В октябре 1454 г. войска наместника Фессалии Турахан-бега нанесли поражение албанцам и заставили мятежников признать суверенитет деспотов, но и Палеологам пришлось расплачиваться за победу: они должны были вносить султану колоссальную ежегодную подать — 12 тысяч золотых монет
[534].
Эта дорогой ценой купленная победа деспотов оказалась, по существу, иллюзорной: феодальная знать Пелопоннеса обратилась через голову правителей Мистры к Мехмеду, и 26 декабря 1454 г. в Стамбуле был подписан составленный на греческом языке указ султана, который даровал высшей морейской аристократии (перечисленной поименно) различные привилегии, сохранять которые Мехмед клялся и кораном, и своей саблей, — зато феодалы Морей вместо зависимости от деспотов признавали зависимость от Стамбула. Отпадение виднейших феодальных фамилий Пелопоннеса ослабляла и экономическую, и военную мощь Морей. Оно не отдаляло, а скорее приближало завоевание Пелопоннеса турками.
И действительно, уже в конце 1457 г. султан стал готовиться к экспедиции против Морей. Когда он двинулся в путь, ему навстречу поспешили послы Палеологов, везя с собой золото для уплаты дани. Мехмед взял деньги, но не остановил похода: 15 мая 1458 г. турецкие войска вступили на Пелопоннес. Почти нигде они не встретили сопротивления — только защитники Коринфа, руководимые Матфеем Асаном, героически сопротивлялись туркам. Город страдал от нехватки продовольствия, стены крепости непрерывно обстреливала артиллерия (ядрами служил мрамор античных построек), но Асан не сдавался, пока не был вынужден уступить настояниям епископа Коринфа. 6 августа, после нескольких месяцев осады, Мехмеду были: вручены ключи от города.
Сдача Коринфа положила конец сопротивлению. Деспоты приняли требования султана и согласились уступить туркам крупнейшие города Пелопоннеса: Коринф, Патры, Калавриту, Востицу. В их руках оставалась лишь ничтожная часть Морейского государства, за которую они должны были платить ежегодно 3 тысячи золотых монет. К тому же деспот Димитрий обязался отправить в гарем Мехмеда свою дочь Елену, славившуюся красотой.
Мир с турками продержался недолго. На этот раз инициатива разрыва принадлежала греческой стороне. В 1459 г. восстал деспот Фома, поддержанный частью пелопоннесской знати. Напротив, деспот Димитрий твердо придерживался протурецкой ориентации, и антитурецкое восстание перешло в гражданскую войну между греками. Фома занял очищенную турками Калавриту и овладел крепостями, принадлежавшими Димитрию. Даже в то время, когда турецкая армия вторглась на Пелопоннес, братья Палеологи не нашли путей к примирению и продолжали грабить владения друг друга. Папа призывал западноевропейские державы оказать помощь Фоме, но дальше призывов и обещаний дело не продвигалось.
Между тем Мехмед с большим войском снова вступил в пределы Морей. В начале 1460 г. он был уже в Коринфе и потребовал к себе Димитрия. Антитурецкие настроения настолько усилились к этому времени, что даже покорный султану Димитрий не решился появиться в ставке Мехмеда и ограничился посольством и подарками. Тогда Мехмед послал войска к Мистре и без сопротивления занял столицу Морей. Димитрий сдался туркам. После падения Мистры греческие крепости стали сдаваться одна за другой, и в июне 1460 г. отчаявшийся Фома Палеолог покинул Пелопоннес и бежал на Корфу. Торжествуя победу, Мехмед посетил венецианские владения на Пелопоннесе, где его подобострастно встречали подданные Республики св. Марка. Только кое-где еще продолжалось сопротивление, особенно упорное в крепости Сальменик, расположенной недалеко от Патр. Хотя город был взят, комендант крепости Константин Палеолог Граитца держался в акрополе до июля 1461 г., тщетно умоляя итальянских правителей о помощи. Его мужество произвело впечатление на турок: когда Сальменик в конце концов сдался, его защитники (вопреки турецким обычаям) получили свободу. Османский визирь говорил, что Граитца — единственный настоящий мужчина, которого он встретил в Морее.
Морейское государство перестало существовать. Только неприступная крепость Монемвасия не была взята турками. Фома подарил ее римскому папе, который пытался удержать город с помощью каталонских корсаров, но в 1462 г. там утвердились венецианцы.
Одновременно с Мореей в руки турок перешел и Трапезунд. Трапезундская империя еще и в XV в.
[535] производила на путешественников впечатление богатой страны. Все проезжавшие через Трапезунд европейцы единодушно восхищались ее виноградниками, покрывавшими холмы, где на каждом дереве вились виноградные лозы. Но источником богатств Трапезунда было не столько виноделие, сколько торговля с Причерноморьем, Кавказом и Месопотамией. Через порты Трапезундской империи уходили корабли в Каффу, а старинные торговые дороги связывали страну с Грузией, Арменией и странами по Евфрату.
Венецианцы и генуэзцы пытались укрепиться в Трапезунде, но, хотя им удалось построить свои замки вблизи столицы, их положение здесь было гораздо менее прочным, нежели в Галате и Пере. Многочисленная армянская колония имела здесь своего — монофиситского — епископа.
Феодальное землевладение в Трапезундской империи продолжало в XIV–XV вв. укрепляться. От императора держали свои лены крупные светские сеньоры. Одни из наиболее влиятельных, Мелиссины. располагали плодородной областью Иней с ее виноградниками и развитым железоделательным производством; рядом с Инеем лежала область Воона, сеньор которой Арсамир мог выставить в начале XV в. 10 тысяч всадников; горные пути в Армению контролировали Каваситы, взимавшие пошлины со всех путников и даже с послов Тимура.
До середины XV в. Трапезунд практически не подвергался турецкой опасности, если не считать неудачного набега 1442 г. Положение изменилось, как только к власти пришел Мехмед. В 1456 г. турецкая армия вторглась в греческие владения, и императору Иоанну IV Комнину удалось удержать трон лишь после того, как он обязался платить туркам дань в 3 тысячи золотых монет. Однако энергичный авантюрист Иоанн IV, который проложил себе путь к престолу убийством собственного отца, не думал складывать оружие. Он пытался создать против Мехмеда коалицию, куда должны были войти и грузинские князья-христиане, и мусульманин Узун Хасан, хан «белобаранной» орды, тюркского племени, занимавшего район Диарбекира в Месопотамии. Чтобы скрепить союз, Иоанн IV выдал за Узун Хасана свою дочь Феодору
[536], слава о красоте которой гремела по всему Востоку. Но в 1458 г. Иоанн IV, вдохновитель коалиции, умер, оставив четырехлетнего наследника Алексея, вместо которого стал править регент Давид, брат Иоанна.
Попытка добиться союза с западными державами не удалась. Именно в это время при папском дворе действовал францисканец Людовико, авантюрист, выдававший себя за путешественника и уверявший, будто государи Эфиопии и Индии только и ждут, чтобы ударить с тыла на гонителя христиан Мехмеда. Предъявленные Людовико письма с восторгом читались в Риме и в Венеции, на францисканца сыпались награды и титулы — пока не выяснилось, что он обманщик. Сам Людовико скрылся, избежав кары, но его авантюра еще более подорвала шансы и без того непопулярной на Западе идеи вмешательства в восточные дела. Как бы то ни было, реальной помощи Трапезунду ни Рим, ни другие государства Европы не оказали.
Тем временем регент Давид, уповая на поддержку Узун Хасана, потребовал от Мехмеда снижения дани. Это было фактическим объявлением войны. Турецкие войска в 1461 г. двинулись к Черному морю
[537]. Целей похода никто не знал. По словам Мехмеда, он вырвал бы и бросил в огонь тот волос в собственной бороде, который догадывался о его тайне. Прежде всего турки без боя овладели Синопом, находившимся в союзе с Трапезундом. Затем турецкие войска направились к Эрзеруму, минуя трапезундскую территорию, — по-видимому, Мехмед собирался нанести удар союзнику Комнинов Узун Хасану, Хан «белых баранов» не решился на войну и запросил мира, султан великодушно согласился, предпочитая бить врагов поодиночке. Трапезунд был предоставлен своей судьбе.
После недолгих переговоров турецкого визиря с протовестиарием Георгием Амирутци (впоследствии его обвиняли в предательстве) город был сдан 15 августа 1461 г. Давида Комнина, его родню и высших вельмож отослали на корабле в Стамбул, жителей Трапезунда выселили или отдали в рабство победителям. Через некоторое время турки овладели последним остатком империи — горной областью, принадлежавшей Каваситам. Добровольная капитуляция Давида Комнина не спасла ему жизни: как многие знатные пленники Мехмеда, он был вскоре брошен в темницу и в ноябре 1463 г. казнен
[538].
Разрозненные, оставленные без активной поддержки с Запада, парализованные страхом перед могуществом турецкого султана, последние греческие и латинские государства одно за другим переставали существовать. Лишь несколько островов, когда-то входивших в состав Византийской империи, сумели сохранить жалкую полунезависимость до середины XVI столетия.
Глава 13
Основные причины падения Византии и последствия турецкого завоевания
(Александр Петрович Каждан)
Трагедия, разыгравшаяся в мае 1453 г. на берегах Босфора, произвела ошеломляющее впечатление на современников и оставила неизгладимый след в их памяти. Известие о падения Константинополя облетело все страны и народы Европы, вызывая гнев и печаль, злорадство и насмешки. Пожалуй, ни одно событие со времен крушения Римской империи не получило такого яркого отражения в разнообразнейших источниках, как завоевание Византии. О гибели империи рассказывается в исторических сочинениях и хрониках, в мемуарах очевидцев и эпистолярной литературе, в народном эпосе и многочисленных «Плачах»
[539]. Византийские историки и поэты, западноевропейские писатели и политические деятели, духовные сановники и воины, летописцы стран Восточной и Центральной Европы — каждый по-своему повествуют о потрясших их воображение последних днях некогда великой империи. Но никто из них не прошел в своих трудах и воспоминаниях мимо этих событий, никто не остался к ним безучастным.
Византийские писатели самых разных идейно-политических направлений единодушно восприняли падение Константинополя как величайшее бедствие, свидетельствующее об изменчивости человеческого счастья
[540]. Не менее сочувственный отклик гибель Византии нашла в странах Восточной Европы. На Руси широкую известность приобрела упомянутая выше «Повесть о взятии Царьграда» Нестора Искандера — произведение большого драматизма и эмоционального накала. Судьба автора повести была столь же трагична, как и описанные им события: русский пленный в стане турок, он принужден был воевать против греков, которым сочувствовал всей душой
[541]. Не меньшую популярность в Русском государстве получил перевод «Плача» на взятие Константинополя турками византийского писателя Иоанна Евгеника
[542].
Нашли отклик падение Константинополя и войны Византии с турками и в русском фольклоре. Сохранилась, например, былина о том, как Илья Муромец отправился выручать Константина Боголюба от Идолища Поганого.
С глубоким горем и возмущением оплакивали гибель Константинополя грузинские и армянские хронисты. Грузинский летописец Артохил расценивал это событие как общее бедствие для всего христианского мира, которое вместе с тем приблизило угрозу турецкого завоевания для самой Грузии и Армении. В армянских стихотворных хрониках XV в. (Абраама Анкирского и Аракела Багешского) с высокой лиричностью и жизненной правдой выражено горе армян-современников, вызванное гибелью великого и прекрасного города Стимбола (Константинополя-Стамбула), и передан ужас очевидцев, рассказавших потомкам о зверствах турок
[543]. Аракел Багешский с грустью противопоставляет былое величие Византии ее современному унижению.
«Окружили тебя неверные
И осквернили, Византия,
Стала посмешищем ты
Для соседей-язычников, Византия.
Как виноградник роскошный,
Ты цвела, Византия,
Сегодня плод твой стал негодным,
Колючкой стал, Византия»
[544]
Чувством полного понимания всей меры бедствий греков и сострадания к ним проникнуты произведения славянских летописцев и писателей, современных этим события
[545]. Сочувствие к судьбе Византии на Руси, в Грузии, Армении и других странах Юго-Восточной и Восточной Европы было обусловлено не только вероисповедными, но и политическими причинами. Турецкая агрессия угрожала непосредственно Грузии и Армении, а через причерноморские степи — также и Руси.
Героическая борьба народов юго-востока Европы против турок и гибель Византии в сочувственных тонах описана у венгерского хрониста Туроци и у польского историка XV в. Длугоша, но эпопея взятия Константинополя здесь, естественно, отступает на второй план перед подвигами венгерских и польских королей и рыцарей в их войнах с турками. Слух о падении Византии достиг и других стран Центральной Европы
[546].
Несколько иным, чем в странах Восточной и Центральной Европы и государствах Закавказья, было отношение к завоеванию Византийской империи в странах Западной Европы. Известие об этом обеспокоило правителей западноевропейских государств и высшее католическое духовенство, но не породило большого сочувствия. К страху западноевропейских феодалов и католических прелатов, вызванному возможностью расширения турецкой экспансии, примешивалась известная доля злорадства в отношении упрямых схизматиков-греков, так и не пожелавших склонить головы перед властью папы и монархов Западной Европы.
Враждебные грекам настроения усиленно разжигались папским престолом и наложили свой отпечаток на большинство сочинений латинских историков об осаде и взятии Византии турками. Лейтмотивом этих сочинений при изображении катастрофы, постигшей Византийское государство, является идея возмездия за отступничество греков от «истинной веры». Латинские авторы пытаются оправдать западноевропейские державы, которые не подали руки помощи гибнущей Византии
[547].
Знаменательно, что почти все собственно турецкие источники, прославляющие великие подвиги Мехмеда II Завоевателя, были написаны много позднее его правления. Так, известная турецкая хроника Саад-эд-Дина (Хаджи-Эфенди) «Венец летописей» была создана спустя почти целое столетие после взятия Константинополя турками. К более позднему времени относятся также и рассказ турецкого хрониста Евлия Челеби о падении Византии и сообщения ряда других турецких источников
[548]. Все эти источники передают скорее уже сложившуюся традицию, своего рода канон в изображении самого Мехмеда II и его царствования. О непосредственном же восприятии событий, связанных с падением Константинополя, в самой Турецкой державе мы не имеем достаточно четкого представления. Несомненно, завоевание Византийской империи чрезвычайно подняло престиж султана и боевой дух его армии, хотя Мехмеду II пришлось вскоре встретиться с немалыми трудностями, связанными с организацией управления завоеванной территорией. Пробел в собственно турецкой историографии XV в. должен был, по-видимому, возместить исторический труд туркофила Критовула (см. выше).
Однако панегирик оказался недостаточно льстивым и не пришелся по вкусу турецкому деспоту. Сочинение Критовула при жизни автора осталось неизвестным, затерявшись на долгие годы среди рукописей Серальской библиотеки.
В многочисленных исторических и литературных произведениях, современных взятию Константинополя турками или близких по времени, дается самое разнообразное объяснение причин гибели Византийской империи
[549]. Этот вопрос почти в равной степени волновал многих писателей XV в. Подавляющее большинство историков давало провиденциалистское объяснение причин катастрофы, постигшей Византию, видя в ней «перст божий», наказание греков за грехи. Различия в этих естественных для того времени взглядах на причинную связь исторических событий проявлялись по большей части лишь в нюансах политического характера. Большинство историков католического направления утверждало, что кара божья постигла Византию за отступничество схизматиков-греков от «истинной веры» (Леонард Хиосский, Убертин Пускул и другие). Отдельные византийские авторы видели в трагедии Византии возмездие провидения за преступления дурных правителей империи (Халкокондил, отчасти Критовул).
Некоторые писатели объясняли причины этого бедствия грехами всех христиан, отданных ныне божьим попущением на поругание туркам (армянские хронисты, Нестор Искандер).
Несколько более прогрессивной для своего времени была историческая концепция о закономерной, фатальной смене мировых держав в истории человечества, высказанная византийскими историками, испытавшими на себе влияние гуманистических веяний.
Однако наряду с провиденциалистским, чисто религиозным объяснением общих причин падения Византии, в трудах современников встречается немало вполне рационалистических трезвых объяснений отдельных фактов, связанных как с международными событиями, так и с социально-экономическим и политическим положением в империи.
В чем же заключались действительные причины падения Византии?
Как любое другое крупное историческое событие, гибель Византийского государства была вызвана целым комплексом внутренних и внешних причин
[550].
Весь ход событий показал бесспорное превосходство военных сил турок по сравнению с силами греков. Чисто военный фактор играл огромную роль в исходе исторической драмы, затянувшейся почти на два столетия. Воинственная, сплоченная армия турок, впитавшая в себя лучшие воинские контингенты покоренных народов, оснащенная сильной артиллерией и одушевленная религиозным фанатизмом, была не только во много раз многочисленнее, чем византийская, она была также более боеспособной, чем отряды наемников-кондотьеров или разрозненные феодальные ополчения Византийской империи.
Военное превосходство над турками византийцы и итальянцы сохраняли лишь на море. Однако во время последнего акта трагедии империи, в условиях осады Константинополя, византийско-итальянскому флоту негде было развернуться, и это превосходства не могло быть использовано в полной мере. Бесспорно, впрочем, и то, что мощь турецкой армии была относительной. В сравнении с войсками ослабевшей Византии и раздираемых внутренними междоусобицами славянских стран Балканского полуострова, явный перевес находился на стороне турок. Иногда этот перевес появлялся и в столкновениях с крупными, но плохо организованными армиями западных крестоносцев. Но когда дело дошло до схватки с войсками Тимура, турки потерпели полный разгром при Анкире. Да и в боях со стойкими, охваченными патриотическим духом отрядами Яноша Хуньяди и Скандербега османские армии часто терпели жестокие поражения. Военное превосходство турок над Византией, таким образом, объясняется не столько могуществом Османской империи, сколько внутренней слабостью Византии и других балканских государств.
Решающую роль в ослаблении, а затем гибели Византии сыграли, конечно, внутренние причины. Главной из них был экономический упадок как деревни, так и города, разорение крестьянства и городских масс страны. Крушение экономики империи было ускорено проникновением иностранных, в первую очередь итальянских, купцов во все сферы экономической жизни Византии. Их деятельность тормозила дальнейшее развитие производительных сил. Политика покровительства иностранцам, вся недальновидность которой с особой силой проявилась во время осады Константинополя, послужила также одной из причин его гибели.
Подобно червоточине, венецианский и генуэзский торговый капитал подточил изнутри Византийскую империю, лишил ее жизненных сил и былых богатств. Византийской торговле и ремеслу был нанесен непоправимый ущерб, ослабло, а затем рухнуло господство Византии на море. Крупнейший мыслитель угасавшей Византии Георгий Гемист Плифон призывал правительство перейти к протекционистской политике, чтобы оградить подорванное ремесленное производство от пагубной конкуренции итальянцев, «Для нас будет значительно более достойным, — писал он, — если мы обойдемся местными тканями, чем если мы будем чужеземные ткани считать лучшими, чем отечественные»
[551].
Большое значение имело также засилие феодалов в экономике и их неограниченное господство во всех сферах политической жизни и управления государством. Феодальный произвол привел к крайнему обострению социальных противоречий в византийском обществе накануне и в период турецкого завоевания. Разгром движения зилотов и разгул реакции еще более ухудшили внутриполитическое положение в стране. Византийские писатели XIV–XV вв. рисуют картину поразительной близорукости и своекорыстия политики правящего класса империи. Турецкое завоевание развертывалось на фоне бесконечных междоусобиц и дворцовых переворотов, беспрерывной чередой сменявших друг друга. В слепом эгоизме соперничавшие феодальные клики предпочитали союз с турками установлению мира в своих рядах для общего отпора турецким завоевателям. Перед лицом смертельной опасности феодальный класс Византии оказался обескровленным и расколотым на враждебные партии и политические течения. Ни латинофилы, ни греки-ортодоксы, проникнутые идеями исихазма, не смогли подняться над своими материальными, вероисповедными и политическими интересами и объединиться в борьбе против внешнего врага, грозившего самому существованию Византийского государства. Даже в кольце турецких войск, в осажденном и обстреливаемом турецкой артиллерией Константинополе униаты и антиуниаты не прекратили ожесточенных богословских дебатов.
Открыто предательскую позицию занимала часть феодальной знати и купечества
Византии, принадлежавшая к туркофильскому течению. Социальной опоры в широких народных массах империи это течение не имело. Правда, стремясь ценою измены спасти свою власть, знатные ренегаты иногда использовали в своих интересах недовольство населения засильем итальянцев, однако большого влияния на народные массы они не имели
[552], Более того, можно предположить, что многие византийские феодалы рассчитывали, опираясь на турок, подавить народные движения в Византии
[553], как Кантакузин и его партия столетие назад с помощью турок подавили восстание населения Фракии. Там, где турки встречали какое-либо сопротивление, его оказывали именно народные массы империи. Так было и в дни решительного штурма Константинополя, и во время завоевания Пелопоннеса. Однако приниженный и угнетенный своими феодальными сеньорами и правительственным чиновничеством народ Византии не был сплочен и организован для борьбы со столь сильным врагом, как турки.
Историческая трагедия Византийского государства состояла в том, что в нём не нашлось ни одной подлинно патриотической партии, способной повести народ на борьбу с турецкими завоевателями. Правящие феодальные и церковные круги Византии не только не смогли возглавить широкие народные массы, но оказались неспособными восстановить единство в своих собственных рядах. В момент, когда требовалась консолидация всех сил государства, в нем всюду царили раскол и вражда, взаимная подозрительность и неверие в себя. Попытки последнего императора, человека лично храброго и честного, опереться на население столицы оказались запоздалыми; близорукая политика его предшественников обрекла их на неудачу.
Внутренние затруднения Византийского государства усугублялись сложной международной обстановкой, которая в этот период складывалась не в пользу греков. В атмосфере нараставшей турецкой опасности центральным вопросом всей внешней политики Византии XIV–XV вв. был поиск союзников. Однако все усилия византийского правительства заручиться поддержкой папы и феодалов Европы были бесплодными. Европа спорадически посылала против турок ополчения, но судьба их была плачевна главным образом из-за отсутствия единства в рядах самих крестоносцев. Организации действенного отпора турецким завоевателям мешали, в частности, бесконечные распри среди западноевропейских сеньоров. Византийский историк Сфрандзи довольно трезво говорит о причинах, по которым Запад не смог оказать реальной помощи Византии: «Многовластие итальянских и других западных владетелей — причина того, что они не имеют единого начальника и среди них нет единомыслия… Они много совещаются, рассуждают и спорят, но мало делают…»
[554].
Немалую роль в задержке помощи сыграла и злая воля давних врагов Византии, которых было немало среди католических прелатов и государей Запада, мечтавших не о спасении империи, а о захвате ее наследства. Искандер был убежден в коварстве правителей некоторых западных держав в отношении к Византии. «А фрягове не восхотеша помощи дати, — пишет он, — но глаголахту в себе: "не дайте, да возмут и турки, а у них мы возмем Царьград"»
[555].
Союзы Византии со славянскими государствами Балканского полуострова были эпизодическими и непрочными как из-за отсутствия доверия с обеих сторон, так и из-за внутренних разногласий внутри самих балканских стран.
Международная обстановка на Востоке в отдельные периоды менялась не в пользу турок, что давало некоторые надежды на спасение Византии. Постоянная борьба турецких султанов с сельджукскими эмирами Малой Азии, нашествие полчищ Тимура, а также внутренние междоусобицы и народные восстания в Османской державе ослабляли натиск завоевателей. Однако эти события не были в полной мере использованы для борьбы с турецкой агрессией в Европе. Они лишь несколько отсрочили гибель Византийского государства.
Турецкое завоевание Византийской империи имело важные исторические последствия. Прежде всего, захват Константинополя облегчил туркам их дальнейшее наступление на Балканский полуостров: обеспечив себя стыла, турецкие феодалы получили возможность бросить все силы против народов Балкан и упрочить свое господство. Многие страны Юго-Восточной Европы попали под иго османов, продержавшееся несколько столетий. Угроза вторжения турецких армий нависла и над другими государствами Европы.
«Турецкое нашествие XV и XVI столетий, — писал К. Маркс, — представляло второе издание арабского нашествия VIII века…Как тогда при Пуатье, как позже при Вальтштатте во время нашествия монголов, так и теперь опасность опять угрожала всему европейскому развитию»
[556].
Окончательное установление турецкого господства в восточной части Средиземноморья и дальнейшее наступление турок на Запад оказали значительное влияние на политическую и экономическую жизнь Европы XV в. В международной политике той эпохи появился новый фактор первостепенной важности — могущественная Османская держава, с которой должны были считаться все монархи Европы. Католический престол, западноевропейские государи и особенно итальянские города-республики должны были теперь расплачиваться за свою близорукую политику в отношении Византии.
С захватом Константинополя турки не только овладели военно-стратегическим пунктом огромного значения, но и стали полными хозяевами проливов, что давало Турецкой державе чрезвычайно существенные как военные, так и экономические преимущества.
Османская держава вновь подчинила единой власти огромные владения в Европе и Азии, некогда принадлежавшие Византийской империи. Во второй половине XV в. государство османов простиралось от Месопотамии до берегов Адриатики. Под контроль турок попали важнейшие торговые пути из Средиземного и Эгейского морей в Черное, торговые коммуникации, соединявшие Европу с Ближним и Дальним Востоком. Захват турками исконных путей транзитной торговли, связывавших Европу со странами Востока, нанес сильнейший удар левантийской торговле европейских держав, в первую очередь — итальянских республик, Венеция и Генуя должны были отныне то униженно заискивать перед султанами, добиваясь от них торговых привилегий, то вести с турками нескончаемые войны на Средиземном море.
С другой стороны, захват турками Константинополя — главного пункта транзитной торговли со странами Востока и Причерноморья — оказался серьезным стимулирующим фактором, заставившим европейских купцов и мореходов начать более энергичные поиски нового морского пути в Индию. В известной мере установление Турецкого государства в Восточном Средиземноморье способствовало великим географическим открытиям XV в.
Что касается стран Восточной Европы и Закавказья, то падение Византии было для них жестоким ударом. Для Грузии и особенно для Армении оно явилось грозным предвестником нашествия турецких войск. Расширение владений и упрочение Турецкой державы усилили и для Руси постоянную угрозу со стороны Крыма и причерноморских степей, где при помощи турок утвердились татарские ханы. Они превратились в злейших врагов Русского государства, за спиной которых всегда стояла могущественная Османская держава.
Враждебная политика турок в отношении Русского государства в немалой степени объяснялась тем, что именно Русь в большей мере, чем другие державы Европы, использовала в своих политических интересах традиции и моральный престиж Византийской империи. Русские государи объявили себя прямыми наследниками Византии, а Москву провозгласили «Третьим Римом». Династический брак могущественного великого князя Московского Ивана III, объединителя русских земель, с дочерью морейского деспота Фомы Софией Палеолог имел целью подкрепить притязания Руси на роль преемницы Византии, поднять авторитет правителя Москвы среди православных народов Восточной Европы.
Падение Византии имело немаловажные последствия и для общеевропейского культурного развития. До самого конца своего существования Византийская империя была крупнейшим центром культуры и образованности в средневековой Европе. В ней не только сохранялось наследие античной цивилизации, но была создана своя, неповторимая и многогранная культура. Константинополь и Мистра до самых последних дней оставались ее важнейшими очагами. В Константинополь даже в мрачные годы турецкой опасности из многих стран Европы стекались люди, жаждавшие приобщиться к византийской культуре и образованности. Здесь можно было встретить западноевропейских паломников, монахов и книжных людей из Руси, Болгарии, Сербии, стран Закавказья. Через Константинополь, Морею и Афон поддерживалось тесное культурное и церковное общение византийских ученых, богословов, деятелей культуры и искусства с образованными людьми многих стран Восточной и Западной Европы. Вероисповедный барьер несколько затруднял эти связи с Западной Европой, но в эпоху гуманизма общение византийских и западноевропейских ученых стало более интенсивным. Для Руси и других славянских народов, а также для Грузии и Армении культурные связи с Византией, стимулируемые религиозной общностью, имели первостепенное значение.
Падение Константинополя и гибель последних очагов византийской цивилизации на Босфоре и Пелопоннесе прервали эти исконные культурные связи. Уничтожение турками в Константинополе величайших культурных ценностей и многочисленных произведений искусства уже само по себе нанесло невосполнимый ущерб развитию общеевропейской культуры. Хотя византийская цивилизация продолжала существовать и в период турецкого владычества, она представляла собой лишь слабый отблеск своего былого великолепия
[557]. В период турецкого ига происходило, несомненно, затухание культурной традиции, которую не могла восполнить деятельность греческих мыслителей и ученых, избежавших гибели и плена. Основной поток греческой эмиграции хлынул на Запад, в первую очередь в Италию, с которой сохранялись связи по морю. Именно туда бежали, спасаясь от кривой сабли османов, виднейшие ученые, крупные политики, церковные иерархи, владетельные сеньоры, уцелевшие представители императорского дома. В Западную Европу были в первую очередь перевезены с великим трудом спасенные во время погрома Константинополя древнейшие греческие рукописи и ценные произведения византийского искусства: иконы, реликварии, ювелирные изделия, иллюстрированные прекрасными миниатюрами книжные кодексы и многое другое. Это была, однако, лишь незначительная часть художественных сокровищ Византии, большинство их или погибло в момент взятия города, или рассеялось и постепенно затерялось в домах частных лиц.
Византийские ученые, бежавшие в Италию и другие государства Европы, сыграли серьезную прогрессивную роль в развитии гуманистического движения и в ознакомлении Запада с неувядающей прелестью творений античной цивилизации. В эпоху, когда во всей Европе необычайно возросла тяга к изучению культуры греко-римского мира, греческие ученые, живописцы, писатели не только поддержали этот интерес к античности, но во многом открыли для европейцев сокровища античной философии, римского права, поэзии, литературы и искусства
[558]. Некоторые византийские ученые и церковные деятели нашли убежище в Русском государстве и других странах Восточной Европы, принеся сюда греческие рукописи и художественные изделия и способствуя ознакомлению образованных людей этих государств с античной и византийской культурой.
Неисчислимые бедствия принесло турецкое завоевание греческому народу и другим народам Балканского полуострова. Вторжение турецких армий всегда сопровождалось массовым истреблением населения, обращением его в рабство, разорением и ограблением городов и деревень. Характернейшей чертой османской экспансии был увод в плен наиболее здоровых и молодых мужчин и женщин, а также детей и продажа их в рабство на невольничьих рынках, появившихся во многих местах Османской державы. Современники турецких завоеваний описывали мрачные картины порабощения населения Балкан. Турецкие воины «набирают столько пленных, что им негде их держать и стеречь, так что они бывают готовы продать их тут же на месте за любую цену, которая колеблется в зависимости от числа рабов. Иногда этих последних идет на продажу столько, что человека, как говорили, отдавали за одну шапку. Купленных рабов торговцы связывают по 10–12 человек одной цепью и так гонят их на базар»
[559].
Турецкие завоевания привели к невиданному возрождению работорговли в XIV–XVI вв. Она стала столь выгодным промыслом, что пошлины с работорговцев составляли значительную статью доходов султанской казны. Большие масштабы получило применение рабского труда в самом Османском государстве, где рабы использовались в качестве слуг в армии и как домашняя челядь. Красивые пленные девушки и юноши наполняли гаремы султана и турецкой феодальной знати. Нередко пленных, в том числе и греков, делали янычарами. Насильственно отобранных у родителей здоровых мальчиков обращали в мусульманство, воспитывали в духе религиозного фанатизма и ненависти к своему родному народу. «Подобно бешеным собакам, — пишет Дука об янычарах, — они всегда испытывают непримиримую, смертельную вражду против своих соплеменников»
[560].
Тяжелый удар нанесли турецкие завоеватели городам бывшей Византийской империи. Большинство их подверглось разграблению и разрушению и обезлюдело. «Среди городов, порабощенных этими варварами, — пишет Димитрий Кидонис, — некоторые были полностью лишены населения, повсюду жители были либо проданы в плен, либо эмигрировали в наиболее удаленные страны
[561]. Правители Османской державы широко применяли переселение турецких колонистов из Малой Азии в наиболее крупные города покоренных государств. В конце XV–XVI в. повсюду на территории Османской империи турецкое население в городах уже преобладало над местным. Но сами турки не занимались ремеслом и торговлей, оставляя эту деятельность на долю местного покоренного населения. Военно-феодальная знать Турецкого государства считала занятие торговлей унизительным, полностью обеспечивая себе все жизненные блага за счет порабощенных народов. Турецкое же купечество было еще крайне немногочисленным.
Положение греческих ремесленников и торговцев в Турецком государстве отличалось неустойчивостью. Их собственность и сама жизнь не имела никаких гарантий от произвола и насилий турецких феодалов и правительства. При чудовищной коррупции, царившей в государственном аппарате Турецкой империи, греческим купцам и ремесленникам приходилось вносить, кроме законных пошлин в казну, многочисленные поборы и взятки чиновникам и представителям власти. Хотя постепенно часть греческого купечества и ремесленников приспособилась к тяжким условиям жизни под властью турок и стала возрождать замершую торгово-ремесленную деятельность, в целом местная торговля в державе османов резко сократилась.

Пророк Аввакум. Миниатюра из Нового завета с псалтирью. Середина XIV в. ГИМ
Непоправимые удары нанесли турки также средиземноморской и черноморской торговле генуэзцев и венецианцев. Итальянцев не спасла ни их предательская политика в отношении к Византии, ни их смирение перед султаном и богатые дары. Хотя Мехмед II после захвата Константинополя проявил благосклонность к генуэзцам Галаты, выразившим ему полную покорность, он приказал, однако, срыть укрепления Галаты и лишил ее автономии. Генуэзцы получили от султана в награду за свою помощь личную неприкосновенность, сохранение имущества и право торговли
[562]. Но и эти милости турецкого правительства были вскоре отняты. Постепенно, по мере обострения отношений между Турецкой державой и итальянскими республиками, турки изгнали венецианцев и генуэзцев из их торговых владений в бывшей Византийской империи.
Что касается греческого сельского населения, то оно после завоевания попало под двойной гнет турецких и собственных, перешедших на службу к туркам феодалов. Турки, у которых еще бытовали примитивные формы феодализма, вначале не меняли феодальных порядков в завоеванных странах. Более того, завоевав Византию, они использовали все применявшиеся ранее в империи формы феодальной эксплуатации, методы налогового обложения, систему местного административного управления. Однако постепенно на территории бывшего государства ромеев утверждались отсталые формы феодализма, принесенные с собой турками
[563].
Уцелевшие от гибели или плена греческие феодалы и чиновные аристократы-туркофилы, вовремя переметнувшиеся на сторону турок, впоследствии постепенно ассимилировались. Некоторые из этих знатных греков, приняв ислам, даже заняли высокие посты в Турецком государстве; многие сохранили свои феодальные поместья и пошли на сотрудничество с турками. Большая часть византийской знати покорилась туркам, либо согласившись на потерю политических прав в обмен на экономические выгоды, либо перейдя в ислам и влившись в ряды господствующего класса Османской империи
[564].
Турецкое завоевание Византии и других государств Балканского полуострова на целые столетия задержало экономическое и культурное развитие населения этих стран, погубило те ростки новых отношений, которые, хотя еще робко, все же пробивались на землях Византийской империи. Однако турецким завоевателям так и не удалось, несмотря на их ассимиляторскую политику, сломить сопротивление греческого и других балканских народов, уничтожить их культуру, обычаи и верования, убить любовь к независимости и свободе. Установление турецкого господства вызвало освободительное движение народных масс бывшей Византийской империи и славянских стран Балканского полуострова.
Глава 14
Наука и образование
(Елена Эммануиловна Липшиц)
В результате Четвертого крестового похода судьбы византийской культуры претерпели существенные изменения. Важнейший центр византийской науки и просвещения — Константинополь, с его старыми традициями и издавна существовавшей высшей школой и библиотеками, был утрачен. Многие жители столицы, принадлежавшие к образованным кругам, бежали в Малую Азию.
Силой обстоятельств средоточием науки и образования в XIII столетии стала Никея, где, как и в соседних городах Малой Азии, по-видимому, интерес к сохранению традиций византийской культуры не ослабевал.
При основании Латинской империи Балдуин сделал попытку создать в Константинополе латинскую высшую школу. Уже в 1205 г. он обратился с посланием к папе Иннокентию III, в котором просил, чтобы Парижский университет взял на себя руководство школой и обеспечил ее учеными и профессорами
[565]. Однако этот план латинизации не дал ощутимых результатов. Парижский университет встретил это предложение без сочувствия. Он ограничился лишь организацией специального заведения, где получили подготовку 20 клириков византийского происхождения, которые позднее должны были вернуться на родину
[566].
В XIII столетии современники, говоря об учености, уподобляли древним Афинам не Константинополь, а Никею
[567]. Императоры из дома Ласкарисов покровительствовали просвещению и считали необходимым не только выступать в роли меценатов, при дворе которых находили убежище видные деятели науки и литературы, но и сами подвизались на этом поприще. Стремление противопоставить древнюю империю ромеев, хранительницу традиций античной образованности, варварскому латинскому Западу играло в политике этих императоров немаловажную роль.
Феодор I Ласкарис широко практиковал приглашение ученых к своему двору. Известный историк и писатель того времени Никита Хониат нашел приют в Никее. Иоанн III Дука Ватац покровительствовал собиранию греческих рукописей, созданию библиотек. Он специально поручил Никифору Влеммиду (1197 — ок. 1272) — видному ученому и церковно-политическому деятелю — обследовать с этой целью Фракию, Македонию, Фессалию и афонские монастыри и собрать там имеющиеся рукописи. Деятельность Влеммида, из школы которого вышли Феодор II Ласкарис и историк Георгий Акрополит, протекала в значительной мере при императорском дворе.
Данные, которые Никифор Влеммид сообщает в своей автобиографии, свидетельствуют о том, что и после завоевания Константинополя латинянами система школьного обучения в городах Малой Азии сохранялась неизменной. Сам Никифор Влеммид получил первоначальное образование в Бруссе, куда его родители бежали из Константинополя в 1205 г. Учителем его был некий Монастириот, избранный впоследствии митрополитом Эфеса. Дальнейшее обучение Влеммида протекало в других городах. В Никее он имел возможность изучить политику и риторику; в Смирне под руководством видного ученого, носившего звание «ипата философов», Димитрия Карика, Никифор Влеммид овладел логикой. Изучение им естественных наук продолжалось в Эфесе. Завершающий этап своего обучения Влеммид связывает с именем Продрома, под руководством которого он работал в Скамандре. Продром, которого некоторые исследователи считают возможным отождествлять с Иларионом Продромом, был известным педагогом. В число преподаваемых им дисциплин входили литература, арифметика, геометрия, физика, оптика с катоптрикой (т. е. оптикой отраженного света), астрономия, логика и философия. Влеммид занимался также медициной, теоретически и практически.
Таким образом, не только в Никее, но и в некоторых других городах на территории Никейской империи традиции науки и образования не были прерваны.
Деятельность самого Никифора Влеммида способствовала сохранению и развитию этих традиций. Григорий Кипрский, ставший позднее патриархом Константинополя (1283–1289), называет школу, основанную Влеммидом в Имафийском монастыре, «прославленной». Он посетил ее в 1258–1259 гг. но есть основания полагать, что эта школа существовала и ранее
[568]. Круг дисциплин, входивших здесь в состав преподавания, включал логику, метафизику, арифметику, музыку, геометрию, астрономию, богословие, этику, политику, юриспруденцию, пиитику и риторику. В учебном процессе использовались специально составленные учебные пособия, представлявшие собой обычно переработку или, говоря точнее, переложение соответствующих сочинений античных писателей и ученых, а также отцов церкви. Некоторые из таких пособий, подготовленные Никифором Влеммидом, сохранились до нашего времени. Особой известностью пользовались, как о том свидетельствуют многочисленные списки, учебники логики и физики Никифора Влеммида. Они были широко распространены не только в Византии, но и на Западе.
Учебник логики Никифора Влеммида был составлен главным образом на основе сокращенного изложения «Органона» Аристотеля и «Исагоги» Порфирия. Доказывая необходимость тщательного и внимательного изучения логики, Никифор Влеммид приводил в качестве довода то, что логика является лучшим средством постижения истины, т. е. бога.
Подобный же компилятивный характер носит и учебник физики Влеммида. Он основан на переложении сочинений Аристотеля, Платона, Птолемея, Евклида и других античных авторов, а также высказываний отцов церкви — Василия Великого, Иоанна Дамаскина, блаженного Августина и т. д. В круг вопросов, рассмотренных в учебнике физики, входили и сведения по географии, астрономии, астрологии и богословию.
Никифору Влеммиду принадлежат также еще два учебных пособия по географии. Одно из них — элементарное, второе рассчитано на более подготовленных слушателей. Эта «Всеобщая география» Влеммида, несмотря на то, что она является не самостоятельным сочинением, а переделкой стихотворного географического произведения Дионисия Периегета, представляет интерес для суждения об уровне географических знаний в Византии XIII в. Она включает довольно подробное описание Малой Азии, а также сведения об обитавших в древности на территории Древней Руси племенах
[569].
Географические сочинения Влеммида также известны в значительном числе рукописей. Любопытно, что эти учебники дают возможность судить и о приемах преподавания, которыми пользовался их автор. Для пояснения приводились чертежи и рисунки, сохранившиеся в списках этих учебных пособий.
Школы, основанные Влеммидом, не были единственными. Так, ученик Никифора Влеммида император Феодор II Ласкарис основал в Никее школу при церкви св. Трифона для обучения слушателей грамматике и риторике. В школе вели занятия Эпсаптериг и Андроник Франкопул, комментированием Гомера занимался Михаил Сенахирим. В школах Влеммида и Феодора II Ласкариса получил учебную подготовку и Георгий Акрополит.
Наряду со школами, рассчитанными на подготовленных слушателей, при монастырях работали школы, преподавание в которых носило более элементарный характер. Десятилетние дети, готовившиеся к тому, чтобы стать монахами, жили в подобных школах-общежитиях.
После восстановления империи, в отвоеванном Константинополе императоры продолжали политику Ласкарисов по сохранению традиций науки и просвещения. Георгий Акрополит получил специальное задание от Михаила VIII Палеолога восстановить систему высшего образования в столице. Сам Акрополит взял на себя преподавание философии Аристотелями математики по Евклиду и Никомаху.
В 1264 г. в эту школу поступил Григорий Кипрский, который учился в ней семь лет. После изгнания из Константинополя латинян и перенесения столицы из Никеи в отвоеванный город начала вновь функционировать и элементарная школа, которая была в свое время основана Алексеем Комнином при Орфанотрофии. Наряду со светскими школами в 60-х годах XIII в. в столице возобновила свою деятельность и школа при патриархии, возглавляемая «вселенским учителем». Главой школы был в те времена «ритор риторов» Мануил Оловол. Популярность школы была очень велика. Число слушателей было значительно
[570].
Оловол являлся весьма яркой личностью. Жизнь его была полна резких перемен (см. выше). Начав свою деятельность в качестве тайного секретаря при дворе императора Михаила VIII, он затем впал в немилость и был удален в монастырь. В монастыре Иоанна Предтечи в Константинополе Мануил Оловол усиленно занимался наукой. При возобновлении деятельности школы патриархии он получил звание церковного ритора. Мануил Оловол преподавал в школе грамматику, логику, риторику. Однако вскоре, будучи решительным противником унии, он вступил в резкие пререкания с императором. В наказание он был подвергнут жестокому членовредительному наказанию и снова заточен в монастырь, где закончил свою жизнь в немилости. По-видимому, составленные им схолии к мелким стихам античных поэтов, комментарии к «Аналитике» Аристотеля и комментированный перевод трактатов Боэция о диалектике и силлогизмах были связаны с его преподавательской деятельностью. Мануил Оловол принадлежал к числу немногих византийцев, владевших латынью.
В школе константинопольской патриархии получили подготовку Феодор Музалон — ученик Григория Кипрского, полемист и автор нескольких богословских сочинений, а также известный ученый, политический деятель и приближенный императора Андроника II Палеолога Никифор Хумн (род. ок. 1250/1255 г., ум. в январе 1327 г.).
Об обычном школьном обучении можно судить по сведениям, которые содержит переписка младшего современника Никифора Хумна — Феодора Иртакина, который занимался в Константинополе преподаванием грамматики и риторики в первой половине XIV столетия. Постоянные жалобы на недостаток средств, на невзнос учениками платы за обучение характерны для подобных учителей. По-видимому, занятие должности учителя являлось государственной службой
[571]. Феодор Иртакин в письме к Феодору Метохиту (1260/1261 г. — 13 марта 1332 г.), крупному политическому деятелю, писателю и ученому, жаловался на дурное поведение его сына, предпочитавшего занятия гимнастикой и театр школе.
Учебные заведения более высокого типа давали учащимся всестороннее знакомство с произведениями античных авторов. Такова была школа выдающегося византийского ученого прогрессивного направления, предшественника западноевропейского гуманизма — Максима Плануда (род. ок. 1260 г., ум. ок. 1310 г.). Хотя эта школа была монастырской и находилась сначала в монастыре Хоры в Константинополе, а затем в монастыре Акаталепта, она носила характер открытого» учебного заведения. Учащиеся, получавшие там образование, нередко вступали потом на путь политической деятельности (например, Иоанн Зарида), становились военными или врачами. К числу близких учеников Максима Плануда принадлежали Иоанн Зарида, его брат Андроник и Георгий Лакапин, который также занимался педагогической деятельностью и составлял учебные пособия. К плеяде учеников и помощников Плануда должен быть причислен и Меркурий.

Портрет Никиты Хониата. Миниатюра из рукописи Венской национальной библиотеки. Первая половина XIV в.
Школа Максима Плануда была рассчитана на учеников, имевших уже предварительную учебную подготовку. Большое внимание там уделялось чтению и комментированию классиков, риторике, математике. Интересно, что в этой школе в состав преподавания были включены предметы, ранее в византийских школах отсутствовавшие, — латинский язык и литература. Владение латынью в новых условиях, когда постоянное общение с Западом благодаря переговорам об унии, а также и возросшим экономическим связям приобрело большое значение, стало весьма важным.
В отличие от школьного преподавания, практиковавшегося в византийских школах в предшествующее время, в XIV в., очевидно, больше внимания стало уделяться практическому овладению знаниями грамматики. Для облегчения усвоения материал излагался в форме вопросов и ответов
[572]. Именно таков был «Диалог о грамматике», составленный Максимом Планудом, а также «Грамматический вопросник» Мануила Мосхопула. В помощь учащимся составлялись словари, например лексиконы имен и глаголов Фомы Магистра и Мануила Мосхопула. В целом, однако, и в эти времена, несмотря на новые веяния, изучение грамматики не выходило за рамки изучения древних авторитетов.
Гораздо значительнее были достижения в области филологии. Расширение круга изучаемых авторов, развитие научной критики текстов дают основание считать, что ученые того времени превзошли своих предшественников. Выдающимся филологом XIV столетия был Димитрий Триклиний. Его схолии к сочинениям греческих писателей, в том числе и к таким, которые ранее в Византии не изучались (к Софоклу, Эсхилу, Еврипиду, Феокриту), сохранившаяся рукопись Гесиода, написанная его рукой в 1316–1320 гг., в которой использованы комментарии Цеца, Прокла Диадоха, Мануила Мосхопула, Иоанна Педиасима, Иоанна Галена, Иоанна Протоспафария, являются прекрасным свидетельством об его учености. Выдающиеся достижения Димитрия Триклиния в области научной критики текста античных трагиков дали основание К. Крумбахеру ставить его в ряд с позднейшими исследователями
[573].
Очень важную роль в развитии филологической науки играли и работы по переводу латинских писателей на греческий язык, которые предпринял Максим Плануд. Переводы сочинений Цицерона, Цезаря, Овидия, Боэция. Доната и Августина явились важным пособием для западных ученых в овладении греческим языком
[574]. Расширение круга изучаемых авторов не ограничивалось классиками. Составлялись комментарии и к средневековым византийским сочинениям — к трудам Павла Силенциария, Никиты Давида Пафлагонянина.
С конца XIII столетия наблюдается и известное оживление интереса к математическим наукам. Историк Георгий Пахимер написал парафразу к математическому сочинению Диофанта Александрийского, а также составил руководство к «квадривиуму наук» (т. е. арифметике, геометрии, астрономии и музыке). Большое внимание уделялось и астрономии — науке, долгое время находившейся в Византии в пренебрежении. Выдающуюся роль в этом отношении сыграли работы Феодора Метохита и его преемников — Никифора Григоры, Феодора Милитениота, Исаака Аргира, Николая Кавасилы. В число дисциплин, которые разрабатывались в те времена, входили физика с акустикой, а также гуманитарные науки — историография, риторика, философия (см. гл. 15).

Массовая сцена. Мозаика. Кахриэ-Джами. XIV в.
К числу наиболее ярких представителей науки и деятелей культуры того времени принадлежал Феодор Метохит. Его ученость высоко оценивалась современниками. Фома Магистр утверждал, что никто не мог сравниться с Феодором Метохитом ио глубине своих знаний. Эта оценка объясняется, по всей вероятности, не только широтой его интересов, которые охватывали области знания, столь далекие друг от друга, как философия, риторика и астрономия, но и необычной для византийского ученого самостоятельностью суждений.
Оценивая роль Феодора Метохита в истории византийской культуры, новейший исследователь Г. Бек пришел к заключению, что Феодор Метохит во многом отличался от своих предшественников. Научное наследство этого политического и культурного деятеля, свойственника императора Андроника II Палеолога, до сих пор еще полностью не издано и не исследовано. Помимо его астрономических трудов, снискавших ему большую известность («Общее введение в науку астрономии», «Введение в "Синтаксис" Птолемея» и комментарий к «Большому Синтаксису» Птолемея), наиболее интересными являются его статьи на философские и исторические темы, называемые иногда условно «
Miscellanea» (см. ниже). По своему общему характеру это произведение Феодора Метохита напоминает «Хилиады» Иоанна Цеца. Однако оно, хотя и написано в форме риторических упражнений, существенно отличается от более ранних подобных произведений. Наиболее важной чертой, выявляющей новизну подхода Феодора Метохита к своей задаче, является стремление превратить риторические упражнения в рассуждения, которые могли бы дать ответ на злободневные, животрепещущие вопросы общественной и политической жизни Византии XIV в. Эти рассуждения служат, таким образом, Феодору Метохиту не для демонстрации своего искусства владеть риторическими приемами, а способом высказывания собственных суждений, чувств, сомнений
[575].
Несмотря на то, что в этом сочинении, как и в других подобных произведениях византийских писателей, отдана немалая дань формальному использованию риторических приемов, все же в целом оно может быть охарактеризовано как одно из интересных произведений византийской критической мысли.
Феодор Метохит был в очень большой степени самоучкой. Его школьное образование не выходило за пределы обычного элементарного образования, на что он сам указывает. Уже в зрелом возрасте, на сорок третьем году своей жизни, он стал увлекаться предметом, который стал сферой его углубленного изучения, — астрономией. Его руководителем по астрономии был Мануил Вриенний. Однако лишь произведения Феона Александрийского Феодор Метохит изучал вместе с Вриеннием. Вся дальнейшая работа над трудами античных астрономов (и в первую очередь Птолемея) была проделана им самостоятельно. Современники чрезвычайно высоко оценивали астрономические труды Феодора Метохита, так же как и всю его многообразную деятельность. Его ученик Никифор Григора в письме к нему в 1328 г. указывал: «Говоря о тебе как о риторе, поэте, астрономе, государственном деятеле, человеке действия, авторе изречений, мы остаемся строго верными истине»
[576]. Еще в более высоких выражениях универсальность знаний Метохита подчеркнута Никифором Григорой в другом письме, написанном примерно в то же время
[577].
В свете современных исследований тот вклад в науку, который сделал Феодор Метохит своими трудами по астрономии, представляется более ограниченным, чем он казался его современникам. Несмотря на безусловно углубленное изучение этим византийским ученым XIV в. трудов своих античных предшественников — Гиппарха, Птолемея, Феона, вряд ли есть достаточные основания считать, что сделанное им представляло действительный шаг вперед. Однако значение трудов Феодора Метохита для той эпохи неоспоримо. Благодаря им, а также благодаря трудам его последователей астрономия стала вновь серьезно изучаться. В своих философских воззрениях Феодор Метохит склонялся больше к взглядам Платона, чем Аристотеля. Это отметил и Никифор Григора в своем письме к философу Иосифу (ок. 1280 — ок. 1330), автору ряда богословских и философских сочинений. Восхваляя Метохита, Григора писал, что «для достижения совершенства его трудам недостает только двух вещей — изучения логики и метафизики Аристотеля»
[578].
Метохиту противопоставляли в этом отношении другого властителя дум того времени, ученика Григоря Кипрского — Никифора Хумна. Никифор Хумн, подобно Феодору Метохиту, был приближенным, советником и сановником Андроника II Палеолога. Значительную часть своей жизни Никифор Хумн провел при дворе этого императора, соревнуясь во влиянии на него с Феодором Метохитом. И тот и другой возглавляли научную и литературную жизнь в Византии в начале XIV столетия. Но, в то время как Феодор Метохит отдавал предпочтение астрономии, Никифор Хумн занимался преимущественно физикой. В противовес Метохиту, увлекавшемуся Платоном, Хумн был сторонником философии Аристотеля. Противопоставляя этих двух ученых, автор одного из новейших исследований справедливо отмечает, что при характеристике культуры того времени поражает та свобода, с которой люди Византии XIV в. говорили о крупнейших авторитетах античной древности
[579]. Богатая переписка, сохранившаяся от многочисленных современников и учеников Метохита и Хумна, содержит многие примеры этого Может быть, слишком смелым было бы рассматривать представителей византийской науки XIV в. как подлинных новаторов, внесших существенный вклад в ее прогрессивное развитие, но во всяком случае нельзя отрицать, что глубокое изучение наследия великих предшественников средневековья византийскими учеными той поры прекрасно подготовило почву для деятелей культуры Возрождения.
Среди учеников Феодора Метохита, несомненно, первое место должно быть отведено известному историку, ученому и политическому деятелю Никифору Григоре (род. ок. 1295 г., ум. ок. 1360 г.). Никифор Григора родился в Ираклии Понтийской, где и получил первоначальное образование у воспитавшего его дяди митрополита Ираклийского Иоанна. После приезда в Константинополь (в 1315 г.) руководителем Никифора Григоры стал патриарх Иоанн XIII Глика (1315–1319). Это был человек, известный своей широкой эрудицией в области как богословских наук, так и светских. Возможность постоянного общения со своими учителями обеспечила Никифору Григоре хорошую подготовку для дальнейших углубленных занятий. Руководителем Никифора Григоры стал Феодор Метохит. Не только занятия под наблюдением Метохита, но и приближение ко двору Андроника II создали благоприятные условия для расширения кругозора Никифора Григоры. Уже вскоре после представления императору он совершил большое путешествие по Балканскому полуострову, в Сербию. Григора принял также активное участие в диспутах по философским вопросам, разгоревшихся после приезда Варлаама из Калабрии в Византию. После смерти Григория Акиндина (ок. 1349 г.) в спорах об исихазме Григора выдвинулся как вождь антипаламитской партии, хотя до того он занимал нейтральную позицию
[580] (см. ниже).
Последовавшая затем опала и заточение в монастыре Хоры в Константинополе явились завершением его политической карьеры. Собор, созванный в 1351 г. во Влахернском дворце под председательством императора Иоанна VI Кантакузина, санкционировал учение Григория Паламы и осудил Варлаама и Акиндина. Никифор Григора был также предан анафеме.
Именно в те годы Никифор Григора отдался работе над своим историческим трудом, в котором описал и события, повлекшие за собой его заточение. Работа была им завершена, когда после падения Иоанна Кантакузина Григора был освобожден.
Феодор Метохит нашел в Никифоре Григоре прекрасного ученика, который, подобно своему учителю, увлекался не только гуманитарными науками (историей, философией, риторикой, богословием), ной математическими — астрономией, геометрией, арифметикой и музыкой. Подобно Феодору Метохиту. Григора углубленно и тщательно изучал труды своих античных предшественников. Как и Метохит, Григора имел большое влияние на своих современников и учеников.
На первый взгляд, характер изучения античных авторов, свойственный Григоре, напоминает тот, который был присущ византийским ученым в предшествующую эпоху. Однако в действительности степень этого изучения была более высокой. Овладение сущностью изучаемого предмета было таково, что Григора мог не только комментировать текст, вносить исправления и устранять ошибки копиистов, исказившие первоначальный смысл, но и восполнять лакуны в трудах античных ученых.
Вот как сам Никифор Григора характеризует свою работу над античными источниками. Говоря о «Гармониках» Птолемея, он писал: «В течение очень многих лет этот труд передавался многими плохими копиистами. Одни из них изменили редакцию, переделали авторский текст, превратно изложив его; другие по причине своего невежества опустили целые фразы, вследствие чего читателю трудно постигнуть последовательность рассуждений. Более того, целые главы были опущены или утрачены. Благодаря упорному труду автору удалось с божьей помощью спасти это сочинение»
[581]. Известно, что Никифор Григора сам составил несколько глав этого произведения
[582].
Подобным же образом Григора прокомментировал и некоторые другие сочинения, снабдил их дополнениями и внес в них необходимые исправления. Он прокомментировал и исправил рукописи
географического трактата Птолемея. Работая над трудным для понимания сочинением Синесия «О сновидениях», которое он оценивал как одно из его лучших произведений, Никифор Григора уступил многочисленным просьбам и попытался сделать этот труд более ясным, снабдив его комментарием
[583].
Сохранившиеся до настоящего времени рукописи сочинений античных авторов, которыми пользовался автор Никифор Григора, имеют немало его пометок. Они свидетельствуют о том, что Григора комментировал не только самые труды, но и суждения более ранних комментаторов.
Наряду с теоретическим изучением трудов античных ученых Никифор Григора ставил себе и практические цели. Этим целям служили два его труда. Первый из них был посвящен установлению правильного исчисления времени празднования пасхи, второй — построению астролябии. Автор отмечал по этому поводу, что его побудили к работе ошибочные суждения, которые накопились в расчетах вследствие незнания астрономии, а также утрата сочинения, посвященного древним исследованиям об астролябии.
Никифор Григора имел много учеников. Первоначально (до 1328 г.) он занимался с ними в своем жилище в монастыре Хоры, где хранилась и его библиотека. Он читал им лекции по философии и астрономии. Участие в публичных диспутах с Варлаамом явилось побудительной причиной для написания Григорой ряда полемических философских и богословских трактатов.
Активная богословско-философская деятельность Никифора Григоры, его большая эрудиция, широкий круг интересов поставили его в центр целого кружка тогдашних образованных людей. Его окружала среда ученых, с которыми он мог говорить на общем научном языке и вести переписку об интересовавших его отвлеченных вопросах. Эта сравнительно широкая прослойка византийской интеллигенции, обладавшая знаниями античной философии и риторики, дискутировавшая в письмах по поводу разнообразных философских проблем и спорившая на злободневные богословско-политические темы, оставила после себя интересное эпистолярное наследство, пока еще недостаточно исследованное. Чертой, более характерной для этого поколения ученых, чем для их предшественников, живших до XIII в., было своеобразное сочетание языческого, античного мировоззрения с христианским, средневековым. Они не ограничивались простой рецепцией античной культуры, а стремились осознать ее и отделить приемлемое для них от неприемлемого
[584].
Несомненно, очень яркой личностью среди современников и корреспондентов Никифора Григоры был Димитрий Кидонис. Глубина его мировоззрения, прекрасный слог, тонкое знание классического наследия давно привлекали к нему внимание исследователей. Димитрий Кидонис родился ок. 1324 г. в Фессалонике — городе, игравшем в то время наряду с Константинополем большую роль в культурной жизни Византии. Полученное им образование современные исследователи квалифицируют как «блестящее и гуманистическое»
[585]. Среди его учителей были такие видные лица, как известный сторонник Григория Паламы богослов и митрополит Фессалоники (с 1361 г. приблизительно до 1363 г.) Нил Кавасила. Соучеником Димитрия Кидониса был племянник Нила Кавасилы известный мистик XIV в. Николай Кавасила. Родной брат Димитрия Прохор Кидонис (род. ок. 1330 г., ум. ок. 1368/1369 г.) снискал себе известность своей антипаламитской деятельностью. Первоначально афонский монах и священник, он был подвергнут в 1366 г. церковному отлучению патриархом Филофеем Коккином (1353–1354 и 1364–1376) за сочинение, опровергавшее с помощью латинской схоластики учение паламитов. Прохор Кидонис занимался переводами сочинений латинских богословов на греческий язык. Владел латынью и Димитрий Кидонис. Сделанные им переводы богословских трактатов оказали большое влияние на византийскую церковную литературу.
Жизнь Димитрия Кидониса была богата событиями. После смерти своего отца — приближенного Иоанна VI Кантакузина — Димитрий также становится при дворе своим человеком, сначала в правление Кактакузина, затем — его преемника Иоанна V Палеолога, которого Димитрий сопровождал во время его поездки в Италию и Рим в 1369–1371 гг. Через 15 лет Димитрий Кидонис оставил службу при императорском дворе и удалился в Венецию, подозреваемый в измене православию в пользу католицизма. Он закончил свою жизнь на острове Крите в 1397/1398 г. В период гонений, которым подвергался его брат Прохор за свои антипаламитские воззрения, Димитрий стал решительно на его сторону, в самых резких выражениях осудив позицию Иоанна Кантакузина в письме к нему и в письмах к патриарху Филофею Коккину
[586].
Не говоря уже о значении переводов трудов Фомы Аквинского на греческий язык, выполненных Димитрием Кидонисом, а также ряда других подобных работ, огромный интерес для изучения византийской культуры имеет его эпистолографическое наследство. Прекрасное знакомство с условиями жизни в различных центрах того времени в Византии и Италии, которое он приобрел благодаря своим путешествиям, ясность мысли, точность изложения, прекрасный язык, в котором он следовал лучшим образцам аттической прозы, дают основание рассматривать письма Димитрия Кидониса как первоклассный источник. Круг корреспондентов Димитрия Кидониса включал таких ученых, как Иосиф Вриенний, имевший связи с итальянскими гуманистами Поджо Браччолини, Бартоломео де Монтепульчано, Агапито Ченчи. Сохранились письма Кидониса к императору Иоанну VI Кантакузину, к деспотам Пелопоннеса Мануилу и Матфею Кантакузинам. Он переписывался с Никифором Григорой, с учеником Григоры — ярым противником исихастов Иоанном Кипариссиотом. Среди переписки Димитрия Кидониса — письма к императору Мануилу II Палеологу, патриарху Филофею Коккину, Хрисовергу, Нилу Кавасиле, Франческо Гаттелузи. В своих сочинениях («Презрение к смерти» и монодия на павших во время восстания в Фессалонике в 1345 г.) Димитрий Кидонис проявил себя как писатель, близкий по своему кругозору к наиболее видным представителям западноевропейского Возрождения. Участие в окружающей сложной жизни, необычная для византийского писателя смелость суждений выделяют этого деятеля поздневизантийской культуры из круга его современников.
К числу людей, сыгравших значительную роль в сближении Византии с Западом, несомненно, должен быть причислен известный участник исихастских споров калабрийский грек Варлаам. Приехав в Фессалонику, а затем в Константинополь, Варлаам снискал себе известность как профессор философии еще до начала полемики с исихастами. Его возросшая популярность побудила Никифора Григору написать специальный памфлет в виде диалога «Флорентий», в котором под вымышленными именами выведены сам Никифор Григора, Феодор Метохит и Варлаам. Григора поставил себе целью опорочить глубину знаний Варлаама, которые, как он старался доказать, сводились лишь к поверхностному знакомству с физикой и силлогизмами Аристотеля. Однако исследование всей совокупности имеющихся в источниках свидетельств ставит под сомнение достоверность этого утверждения Никифора Григоры. Оно, по всей вероятности, брошено Никифором Григорой в пылу спора. Историк Возрождения не может обойти молчанием имя Варлаама уже потому, что он оставил в Италии довольно заметные следы и к нему с уважением относились выдающиеся деятели той эпохи — Петрарка, Боккаччо, Перуджино
[587].
Петрарка, учившийся у Варлаама греческому, характеризовал его как человека, обладавшего даром греческого словесного искусства, богатством идей, острым умом, но лишенного хорошего знания латинского языка. Наиболее известным из его учеников в Византии был Леонтий Пилат — учитель греческого языка Боккаччо и автор впервые сделанного в средние века, хотя и несовершенного, перевода Гомера на латинский язык.
Тяга к науке и образованию в Константинополе в XIV в. сказывалась не только в оживлении интереса к забытым отраслям науки, но и в появлении значительной прослойки образованных людей. Византия вступила в тесное соприкосновение с Западом. Византийцы знакомились и с методами преподавания, практиковавшимися в университетах Италии, Франции и Англии. В то же время большое число итальянцев (Кириак из Анконы, Гуарино, Барбаро, Николо Николли, Филельфо и др.) направлялись в Константинополь для изучения классиков под руководством византийских ученых и для скупки кодексов сочинений греческих авторов. Из Византии вывозились целые библиотеки.

Акафист Богоматери. Миниатюра. Рукопись синодальной библиотеки. XV в. ГИМ
В Константинополе во время правления императора Мануила II Палеолога как известные профессора славились Мануил Хрисолор и Иоанн — его племянник и преемник. Они читали со своими учениками (среди которых были итальянцы Гуарино и Франческо Филельфо) сочинения греческих авторов, вели занятия по естественным наукам и агрикультуре. Посещение Константинополя рассматривалось в те времена, по словам Энея Сильвио Пикколомини, как свидетельство о завершении образования.
В Константинополе продолжали существовать школы, в которых работали видные профессора. Однако, как правило, все выдающиеся ученые заканчивали свою деятельность в Италии. Уже Мануил Хрисолор, оказавший громадное влияние на итальянских гуманистов, прославился своей преподавательской деятельностью во Флоренции. Там его учениками были Леонардо Бруни, Палла Строцци и многие другие
[588]. Тесно связана с Италией была деятельность и другого видного византийского ученого того времени — Иоанна Аргиропула. После 1444 г., по возвращении из Италии, где он стал инициатором изучения греческой филологии, он открыл школу в Константинополе. Аргиропул носил звание «императорского учителя» (дидаскала). После падения Византии он перенес свою деятельность во Флоренцию, где был приглашен Козимо Медичи в число профессоров Флорентийской Академии. Последний этап своей жизни он провел в Риме, продолжая преподавать. Его лекции слушал там Рейхлин
[589].
В Константинополе главным помощником и учеником Иоанна Аргиропула был Михаил Апостолис (Апостолий). В своих описаниях преподавательской деятельности, которую он вел в Константинополе, Апостолис сообщает интересные сведения о распорядке дня слушателей, об учебном плане и т. п.
В те же времена в Константинополе протекала преподавательская деятельность выдающегося византийского богослова, полемиста и «вселенского судьи» Геннадия Схолария (1405–1472). Уроженец Константинополя и ученик Марка Евгеника Эфесского, он был, подобно своим ученым предшественникам, широко образованным богословом, хорошо знакомым с латинскими теологическими сочинениями, которые сам неоднократно переводил. Как и многие другие деятели того времени, Схоларий имел возможность лично посетить Италию, принимал участие на соборе в Ферраре и Флоренции, став после некоторых колебаний решительным противником унии.
Геннадий Схоларий весьма пессимистически оценивал уровень тогдашней византийской науки в Константинополе, несмотря на обилие имевшихся там ученых. Он сетовал, что итальянцы не только овладели греческим, но не останавливаются на достигнутом и открывают новое. С огорчением он констатировал, что большое число византийских книг уходит в страны Западной Европы, так что если бы и пробудились вновь стремления к занятию науками, то пришлось бы доставать книги на Западе
[590].
Действительно, на закате Византии слава Константинополя как центра науки стала меркнуть. С Константинополем на территории Византии с успехом конкурировал в это время новый центр — столица Морей Мистра. Именно в Мистре протекала деятельность крупнейшего ученого этой эпохи Георгия Гемиста Плифона (ок. 1355 — 10.VI.1452), которого наряду с Димитрием Кидонисом, Мануилом Хрисолором и Виссарионом Никейским можно причислить к наиболее передовым деятелям науки того времени
[591]. Георгий Гемист Плифон был уроженцем Константинополя. Там он получил свое первоначальное образование. Большую часть своей жизни он прожил в Мистре, где при дворе деспота Феодора занимал видный, вероятно, судейский пост. Плифон был ученым с широким кругозором и разнообразными научными интересами. Его труды, по-видимому, связанные с преподаванием, свидетельствуют о том, что он включал в свой курс не только философию, но и риторику, грамматику, историю, астрономию, астрологию, географию и музыку. Преподавательская деятельность создала ему широкую известность. Под его руководством изучал философию будущий кардинал Виссарион — виднейший сторонник унии и глава итальянских гуманистов. Учеником Плифона был и Георгий Схоларий — его будущий решительный противник, а также Димитрий Кавака и др.
Георгий Гемист Плифон присутствовал на Ферраро-Флореитийском соборе 1438–1439 гг. Увлечение философией Платона, которого он решительно предпочитал Аристотелю, побудило Плифона добиться от Козимо Медичи организации Платоновской академии во Флоренции. Плифон был глубоко озабочен нависшей над Византией катастрофой. Он усматривал спасение в возрождении древнегреческой культуры. В своих проектах реформ, обращенных к императору Мануилу II и деспоту Феод ору II, а также и в частично известном нам трактате «О законах» Плифон предстает как мечтатель и мыслитель, выросший в кругу идей платоновского идеализма и отчасти ислама. Его фаталистическое мировоззрение, проекты создания идеального государства по образцу древней Спарты, на основе платоновского учения, создание религии по Платону и Зороастру и этического учения, совмещающего в себе черты философии этих мыслителей и стоиков, наконец, увлечение язычеством — все это привело к осуждению Плифона византийской православной церковью. Его бывший ученик Геннадий Схоларий, ставший патриархом, предал сочинения Плифона сожжению. После смерти Плифона его идейные последователи и ученики — Димитрий Кавака и Ювеналий — продолжали проповедовать его учение на Пелопоннесе и во Фракии и вербовать своих последователей среди монахов, созерцательный образ жизни которых Плифон решительно осуждал
[592]. Плифон в равной мере принадлежит и поздневизантийской культуре и культуре итальянского Возрождения
[593].
Последний период развития византийской науки и просвещения характеризуется также развитием юридической науки. К этому периоду относится деятельность известного юриста и фессалоникского судьи Константина Арменопула. Составленное им «Шестикнижие законов» принадлежит к числу популярнейших руководств по праву, неоднократно использовавшихся последующими законодателями в странах Юго-Восточной Европы. «Шестикнижие» получило признание и на Западе. Основой этого юридического памятника явились более ранние источники византийского права, скомпонованные по-новому для удобства пользования в судебной практике (см. выше).
Глава 15
Философия и богословие
(Михаил Яковлевич Сюзюмов)
Философская мысль поздней Византии отразила всю сложность социально-экономической и политической жизни империи в XIII–XV вв. Интерес к философии в это время был характерен для широких слоев византийской интеллигенции, как светской, так и духовной. Образованные византийцы привыкли гордиться перед «варварами» своей непревзойденной культурой, покоящейся на античном наследии. Но после Четвертого крестового похода, когда военное могущество феодального Запада стало очевидным, когда Византия, опустошенная и разграбленная, стала уступать Западу во внешней культуре, византийской гордости был нанесен сильный удар.
После 1204 г., когда от мечтаний о мировой державе не осталось и следа, преклонение перед далеким эллинским прошлым заменило прежнюю гордость Византии, нового Рима. Византийские интеллигенты стали считать себя уже не римлянами, а эллинами, на современность пытались смотреть глазами афинянина времен Перикла
[594]. Тысячелетней истории Византии как бы не существует для философов XIV–XV вв. Свои сочинения они писали аттическим наречием V–IV вв. до нашей эры. Даже месяцы историки стали обозначать древнегреческими названиями.
Первый этап развития поздневизантийской философии, примерно до 1340 г.,
[595] характеризуется еще сохранявшимся у образованных византийцев представлением об их превосходстве над латинянами Запада в сфере религии и философской мысли. Наиболее видными философами в это время были Никифор Влеммид, Феодор Метохит, Никифор Хумн. Начинал свою деятельность тогда и Никифор Григора. Эти философы стремились соединить данные. добытые античными науками, в единое целое. Это было время увлечения астрономией, физикой. Научным центром была в этот период более свободная от экономического влияния Запада Фессалоника.
Но новые удары по политическому и экономическому положению Византии во второй половине XIV в. круто изменили направление общественной мысли. Развитие поздневизантийской философии с 40-х годов XIV в. до начала 20-х годов XV в.
[596] характеризуется распространением упадочнических настроений, выразившихся в безразличии к окружающему, в стремлении к религиозно-созерцательной жизни и к мистике (исихазм). Передовые мыслящие люди Византии, очевидно, сознавали серьезную опасность распространения таких настроений и вступили в отчаянную полемику с исихазмом. Философы стали богословами по преимуществу. Философско-богословские споры раскололи на два лагеря крупнейших мыслителей поздней Византии. Прогрессивные для того времени тенденции защищали Варлаам, Акиндин, Никифор Григора, братья Димитрий и Прохор Кидонисы; на противоположной стороне находились вождь исихастов Григорий Палама, Николай Кавасила, Феофил. Исихасты стали победителями, поскольку их победе способствовали иноземная интервенция и разгром народного движения 40-х годов XIV в. Передовых людей Византии постигло глубокое разочарование. К тому же оказалось, что представление о превосходстве Византии над Западом в сфере философии основывалось только на незнании Запада. С конца третьей четверти XIV в. глубокий пессимизм сменил прежнюю византийскую гордость
[597]. Например, Димитрий Кидонис, вначале высокомерно третировавший «варваров-латинян», которые не понимали «эллинского духа», в 50-х годах убедился, что латиняне понимали этот «дух» чуть ли не лучше, чем сами византийцы. Да и богословие на Западе находилось в это время на более высоком уровне развития, чем в Византии. В кругах интеллигенции зрели сомнения в правоте православия, наблюдался переход в католичество.
С третьего десятилетия XV в. началась последняя стадия развития поздневизантийской философии. Гибель Византии казалась уже неминуемой. Защитники греческой самобытности уже не видели внутри Византийского государства и общества живительных сил и считали единственным спасением обращение к эллинству. Выявилось стремление к полному отрицанию всех византийских традиций. Центром этого движения стала Мистра. Философы стремились к воскрешению «эллинского духа», эллинской доблести, эллинской науки и мировоззрения; в мудрости Платона, который создал учение о «наилучшем обществе», хотели обрести спасение.
Что же понимали в поздней Византии под словом «философия»? Вначале, как и ранее, господствовало самое широкое его понимание. «Философией» называли занятие науками вообще, не проводя между ними четкой грани. По мнению Метохита, стремление к мудрости, созерцательная жизнь (βιοζυεωρητιχοζ)
[598] являлись условием для подлинного овладения философией и единственным путем к блаженству. Под созерцательной жизнью Метохит, однако, не понимал полного отхода от окружающей действительности, он отнюдь не считал идеалом монашество. Философия в его понимании — простая сумма знаний, добытых всеми науками.
Некоторые работы Метохита, Варлаама, Григоры представляют собой своеобразные энциклопедии. Метохит сделал попытку представить всю сумму знаний в своем труде
Miscellanea. Он против того, чтобы изучать науки раздельно, не углубляясь в их единство. Его эрудиция огромна: он цитирует более 70 греческих источников. На первый план он ставит науку о космосе — астрономию, а также математику, которая обусловила возможность развития астрономии
[599].
Другою ветвью философии считалась физика. Математика (с астрономией) ставилась выше физики, ибо она более точна и безгранична по объему. Физика, напротив, ограничена, так как зависит от чувственных восприятий
[600].
Предметом философии как таковой Метохит считал знание о сущем, о природе, о материи, о движении во всем его многообразии, о сути всего существующего
[601]. Иными словами, крупнейшие умы того времени понимали под философией мировоззрение вообще, заключающееся в постижении истины во всей ее глубине, т. е. в понимании природы в целом. Однако настоящие знания об этом, как полагали, можно было получить только от изучения античных авторов, прежде всего — Аристотеля и Платона. Таким образом, и Метохит в известной мере — античный мыслитель, говорящий не о «боге-создателе», а о «природе и ее творениях». Но он все-таки делает оговорку: «С другой стороны, под влиянием христианских догматов мы отвергаем многие из их (античных философов. —
М. С.) положений, которые противоречат истине»
[602].
Занятием философией в это время считали вообще любое, даже беспочвенное, умствование по любому поводу, если только рассуждения основывались на цитатах из сочинений античных авторов, а также отцов церкви и библии. Философия смыкается с риторикой
[603]. На этом этапе философские споры разгорались главным образом вокруг античных авторов. Главной формой изучения философии было переложение и сличение взглядов античных философов. Философия не выходила за рамки комментирования античной науки. Но и это давалось с трудом. Даже Феодор Метохит, по-видимому, плохо понял «Метафизику» Аристотеля, считая ее наиболее слабым произведением античного ученого.

Григорий Палама. Икона. XV в. Гос. музей изобраз. искусств. Москва
Историк Пахимер в начале XIV в. дал изложение учения Аристотеля; монах Софоний изложил учение о категориях и трактаты «О душе», «О сне»; митрополит Лев Магенасий написал комментарий к «Органону» Аристотеля. Мануилу (Максиму) Оловолу принадлежат переводы с замечаниями к «Аналитике».
Молодой Григора писал (до 1330 г.) Иосифу Синопскому, крупному и уважаемому философу того времени, что ожидает от него работу по комментированию Аристотеля. Григора советовал доказать, что нет противоречий между Птолемеем и Аристотелем, хотя по Птолемею сфер меньше, чем по Аристотелю, Евдоксу и Калиппу
[604]. Использовались в XIV в. и старинные комментарии к Аристотелю (Порфирия и Филопона).
Античная философия подавляла византийцев своим величием, глубиной и противоречивостью. Посвятив всю свою жизнь постижению античных авторов, они приходили к убеждению, что ничего нового создать в философии невозможно. У Феодора Метохита звучит нота сожаления, что у древних все уже имеется в готовом виде
[605]. Нет и внимательной аудитории: образованные люди презрительно относятся к современной философии, они знают, что все великое, прекрасное — позади, что нынешняя ученость — мнимая и бездеятельная.
Византийским философам не было чуждо стремление видеть в философии практическую ценность. Опираясь на античные воззрения, они считали, что философия должна быть на практике опорой императорской власти. Согласно Никифору Влеммиду, если император находится под влиянием философа, монархия становится идеальной, ибо правление государством требует научно-философского подхода к проблемам внутренней и внешней политики
[606].
Однако в целом именно комментированием (главным образом Аристотеля и отчасти Платона) и ограничивались при изучении философии древних. Наличие противоречий между этими мыслителями не приводило к самостоятельным суждениям и оценкам. Изучающие просто отдавали предпочтение тому или иному философу, не выдвигая собственной аргументации. Впрочем, иногда древние авторы подвергались и критике. Например, Метохит отмечал, что Аристотель недостаточно знал математику. Разумеется, при этом не принималось во внимание, что Аристотель в IV в. до н. э. не мог знать того, что знал Птолемей во II в. н. э., но в Византии изучали античную философию не в ее развитии, а как единую противоречивую систему.
Однако опасность остаться на стадии комментирования авторитетов прошлого миновала византийскую философию. Действительность вынудила интеллигенцию проявить интерес к проблемам современности. Периоду комментирования древних философов в 40-х годах XIV в. пришел конец. Началась острая идеологическая борьба. В конечном счете ее направления определялись социально-экономическими, этническими и политическими противоречиями. Феодальной знати, пользовавшейся всеми привилегиями, были выгодны распространение религиозной мистики и отход масс от социальной борьбы. В сфере философии начался период самостоятельных дерзаний, выразившихся в яростной богословской и догматической борьбе. Как и во время христологических и иконоборческих споров, философ не мог остаться в стороне от полемики вокруг исихазма. Если бы философия не вмешивалась в богословие, она осталась бы в условиях того времени оторванной от жизни ученостью. Нерасторжимая связь средневековой идеалистической философии с богословием была совершенно естественной.
В ходе богословских споров были поставлены новые вопросы, ответить на которые в духе античной философии было невозможно. Появилось неверие в универсальность античного знания. Ученым Византии пришлось обратиться к изучению западной философии, к католическому богословию, что привело к серьезным последствиям. Углубление в проблемы теологии двояко отразилось на судьбах философии: с одной стороны, оно будило самостоятельную мысль, с другой — еще более отвлекало ее от эмпирических, конкретных исследований.
Полемика была ожесточенной. Она протекала в сложных условиях социальной, экономической и политической борьбы. Полыхала гражданская война, перманентно дебатировался вопрос об унии православной и католической церквей, предпринимались попытки союза с Западом, вплотную надвигалась турецкая угроза. Формы идейной борьбы обострялись еще более в силу резких различий в приемах аргументации враждующих сторон. Философы, связанные с античными концепциями, опирались на законы формальной логики. Их противники — представители апофатического богословия, напротив, с презрением отвергали эти законы (см. ниже).
Самостоятельная философская мысль в Византии развивалась несколько в ином направлении, чем на Западе. Проблема противопоставления веры и знания, а также проблема номинализма или реализма в византийской философии не являлись ведущими. Всякие попытки отождествить византийское мышление с западным противоречат действительному ходу развития византийской философии XIII–XV вв.
Идеологический континуитет античности в Византии, хотя и ослабевал временами, никогда не прерывался, как на Западе. Но в разные периоды акцент переносился на различные философские проблемы. Если в античной философии центральной проблемой был вопрос о первопричинах происхождения и характере всех сущностей, то в Византии XIII–XV вв. в основе философского анализа лежала проблема абсолютной причинности развития общественного бытия, т. е. проблема закономерности и случайности.
Вместе с античным наследием в византийское мышление перешло представление о роли случайности (судьбы — τυχη), которая управляет человеческими делами. Наряду с нею античные авторы говорили о еще более таинственной ειμαρμενη, αναγχη, т. е. о необходимости, предопределенности в природе и человеческом обществе, о непонятной, но осознаваемой закономерности. В связи с представлением об этой могучей, непонятной для людей силе и возникла концепция о цикличном
развитии человеческого общества, о переходе руководящей роли от одного народа к другому (Полибий).
В среде византийской интеллигенции проявлялась тенденция соединить понятие «тихи» с христианским положением о воле божьей» о высшем промысле, предопределении. Само понятие «бог», таким образом, получало особый смысл: это не трансцендентный и совершенно не познаваемый бог, а осознанная, объективная, не зависящая от человеческой воли, персонифицированная закономерность. Стремление познать эту таинственную силу, управляющую человечеством, было естественным для византийской философии в отличие от западной.
Усиленное внимание к проблеме случайности и закономерности было вполне понятным в условиях поздней Византии: с одной стороны, не исчезало традиционное представление, согласно которому именно Византии, Новому Риму, суждено владеть ойкуменой, с другой стороны, в XIII–XV вв. происходил неотвратимый упадок Византийской империи. Идеи детерминизма в византийской философии вполне соответствовали ходу византийской истории: нередко планы, которые строили правящие круги Византии, терпели провал в результате обстоятельств, не зависевших от внутреннего развития страны. Не последнее место среди этих обстоятельств принадлежит перманентным нападениям варварских племен, которые не прекращались в течение всей истории Византии и влияли на сохранение представления о «судьбе», действующей наперекор желаниям человеческим. «Тихи» связывали и с общей закономерностью, и со случайностями в быту человека.
Meтохит, так же как и прочие византийцы, отличал «тихи»-случайность (иногда счастье, иногда несчастье для человечества) от грозной ειμαρμενη — неотвратимой закономерности, которая управляет миром, решая все не так, как этого хотят люди
[607]. Случай-«тихи» Метохит считает подобным потаскушке, изменчивой и непостоянной.
Григора, впрочем, не признает понятия «тихи», однако говорит о наличии в мире всеобщей обусловленности, о целенаправленном движении в природе, управляющем всем существующим, т. е. об ειμαρμένη
[608].
Неуклонное ослабление Византии в XIV в. стали объяснять действием неумолимого рока. Становилось ясно, что Византийской империи суждено пасть так же, как пали в свое время монархии древности. Возродилась теория циклизма, которой историки Халкокондил, Сфрандзи и Критовул и объясняли падение Византии в 1453 г.
[609] Упадок Византии является, по мнению Метохита, результатом действия «законов природы». Идею вечности Рима Метохит уже не высказывает. Этот философ признавал наличие общего закона для всего материального мира: после появления чего-либо следует его развитие, а после достижения совершенства начинается движение в обратном направлении — по пути к небытию. Эта теория, естественно, могла быть распространена и на представление о судьбах государства
[610]. Г. Бек расценивает мировоззрение Метохита как свидетельство о конце «византийского самосознания»
[611].
Наиболее прямолинейно в духе абсолютного детерминизма высказывался Георгий Гемист Плифон в своих трактатах περι ψυχηζ περι ειμαρμευηζ
[612]. Византийское государство все более слабело, а на Пелопоннесе, напротив, возникли некоторые надежды на возрождение, на эллинское объединение. Отсюда и оптимистические прогнозы Плифона: Византии предопределено пасть, но зато суждено возродиться подлинному эллинскому миру. Ειμαρμευη представлялась Плифону неотвратимой закономерностью, всевластной, универсальной, всеобщей обреченностью. Плифон приходит к этой теории, исходя из двух аксиом: 1) ничто не происходит само собой, все имеет причину; 2) если имеется причина, то она и двигает данное явление со всей необходимостью
[613].
Согласно Плифону, случайность возникает в результате неожиданных для человека взаимодействующих причинностей, одинаково неотвратимых; ничего таинственного в случайности нет. Для примера он приводит случайность — совпадение с Олимпийскими играми солнечного затмения: затмения происходят по своему закону, Олимпийские игры — до своему установлению. Это закономерное, доступное вычислению совпадение, которое объясняется различной периодичностью обоих явлений
[614].
Плифон полемизирует с Аристотелем, считая, что основным пороком системы Аристотеля является ограничение действия рока (ειμαρμενη). Согласно Аристотелю, «судьба» касается действия одной единичной причины, но не явлений, в целом. Плифон поэтому замечает, что Аристотель дает волю божественному промыслу и в то же время ограничивает его
[615]. Плифон считал Аристотеля неспособным к пониманию великого единства, вечно растворимого во множестве явлений
[616]. И разум, и религия, по мнению Плифона, требуют признания представления о могуществе и неотвратимости ειμαρμενη. Всякое признание самой возможности чего-то случайного Плифон считает материализмом и атеизмом. Непризнание Аристотелем детерминизма привело якобы к тому, что арабские и западные философы — комментаторы Аристотеля пришли к атеизму.
Признание абсолютного детерминизма, естественно, вело к постановке вопроса о свободе человека в его деятельности. В Византии в то время не были осведомлены о взглядах Августина, поэтому доводы Плифона следует рассматривать как вполне самостоятельные изыскания в духе учения Платона. По мнению Плифона, существование всеобщей необходимости (ειμαρμενη, αναγχη) вовсе не означает порабощение человека, ибо понятие «свобода» вовсе не есть противоположность понятию «необходимость». Человек может вполне свободно учитывать необходимость и действовать в соответствии с ней. Противоположное свободе (ελευδερια) понятие есть δουλεια (рабство), а не αναγχη (необходимость).
Человек, согласно Плифону, свободен не потому, что отсутствуют силы, господствующие над ним, а потому, что он имеет душу
[617]. Душа испытывает воздействие высшего начала, она подчиняется внешним обстоятельствам, но действие внутренних и внешних причин на сознание человека дает ему возможность поступать применительно к этим причинам. Высшая необходимость — это бог. Бог — это αναγχη, но он не имеет ничего общего с δουλεια — порабощением человека.
Человек свободен и счастлив, когда следует глубоким побуждениям божественной необходимости. Но если он действует наперекор необходимости, он превращается в раба низших импульсов души, «Ни один человек не желает себе зла и несчастья: несчастным он становится, если у него нет целей действия, обусловленных глубокими причинами, и тогда он делается рабом… Ни один человек не желает быть плохим, но он против своего желания вредит себе, поступая против необходимости»
[618]. Свободно действовать по внушению неясных детерминированных сил — и есть подлинная свобода для человека.
В первый период поздневизантийской философии представление о непонятной для людей ειμαρμηνη соединялось со стремлением постичь до конца причину вещей, абсолютную истину, которую и христианские вероучители, и философы древности обычно называли «богом». Способен ли ум человеческий ее постигнуть? Величие античного прошлого и неверие в собственные возможности приводили к мысли, что сущность вещей можно постигнуть не путем экспериментального изучения окружающего мира, а лишь при глубоком проникновении в мудрость античной философии. При этом сумма античных знаний в XIII в. рассматривалась как некое единство, несмотря на наличие острых противоречий в положениях античных философов. Влеммид стремился воссоздать стройную систему «знания», эклектически соединяя несоединимое и проходя мимо противоречий между Платоном и Аристотелем.
Столь характерная для всемирноисторического развития борьба материализма и идеализма почти не затронула византийской философии того времени. Философское мышление в основном питалось противоречиями между идеалистами — Аристотелем и Платоном, а не противоречиями между ними и материалистами Демокритом и Эпикуром, Учение Лукреция византийцам вовсе не было известно. Однако даже расхождения между Аристотелем и Платоном разбирались не в плане главной проблемы — о мире идей, а по вопросам суммы знаний.
Тем не менее и в Византии была поднята проблема номинализма и реализма. Влеммид считал, что Аристотель прав, говоря о реальности конкретных вещей, но что и Платон не ошибается, так как в боге-творце заключается глубокий смысл всех сотворенных конкретных вещей еще до сотворения мира, предвечно
[619]. Таким образом, подобное механическое соединение противоположных идей означало скорее не решение проблемы, а желание отойти от нее. Спор об Аристотеле и Платоне достиг особой остроты во время идеологической распри Метохита и Хумна.
Наиболее рьяным поклонником Аристотеля был Никифор Хумн. Он читал и комментировал его труды для своих друзей. Картину мироздания он представлял по Аристотелю
[620]. Он также считал, что идеи не существуют вне тел
[621], и старался опровергнуть теорию Платона. Однако нельзя считать Хумна аристотеликом, а его противника Метохита платоником. Оба они иногда возвеличивали обоих античных философов, а иногда находили недостатки и у того, и у другого. Хумн писал: «Безумием было бы не признавать величия Платона и Аристотеля, но нельзя считать, что их положения являются оракулом, что нельзя ни развивать, ни продолжать их идеи»
[622].
Острым был спор о взглядах Аристотеля и Платона в области астрономии. Метохит был прав, отдавая предпочтение Птолемею, Хумн же придерживался Платона (оба при этом упускали из виду, что ни Платон, ни Аристотель не могли знать того, что знал Птолемей во II в. н. э.). Григора тоже был поклонником Аристотеля, тогда как основная теория Платона об идеях казалась ему странной. «Неужели…, — говорил он, — человеческие законы являются только тенью, игрушкой бога, как это изображает Платон?»
[623]
Теория Платона о мире идей считалась в Византии XIV в. абсурдной, несмотря на благоговение перед ним, как великим философом. Прежде чем перейти к признанию этой теории Платона, византийской интеллигенции в 40-х годах XIV в. пришлось окунуться в богословские споры.
В представлениях людей XIV–XV вв. богословие являл ось наукой, более важной, чем точные науки того времени. Если признать, что наличие бога, управляющего миром, является незыблемым фактом, то, разумеется, познание этого начала являлось обязательным и даже решающим для человеческого разума. Церковь учила, что бог непостижим, т. е. его нельзя познать обычными чувствами, но она внушала, что именно разум подтверждает наличие бога и что, напротив, атеизм свидетельствует об отсутствии разума. Однако в то же время церковь провозглашала, что «мудрость мира сего является безумием перед богом».

Рождество Иоанна Предтечи. Икона. XV в. Государственный Эрмитаж
В богословии существовало, таким образом, два направления — катафатическое и апофатическое. Катафатическое богословие исходило из понятия бога как абсолютизированного бытия и сущности явлений. Из понятия бытия, как из понятия единицы в математике, аналитически выводились все положения о сущности божьей. Основой для катафатического богословия являлись формальная логика и те элементы учения Аристотеля, которые уже в ранневизантийское время были приспособлены отцами церкви (в особенности Филопоном) к нуждам богословия.
Наукообразие импонировало катафатическому богословию, которое, однако, в XIII–XIV вв. в целом не выходило за рамки учения Дамаскина и Фотия — наиболее ярких представителей этого направления в богословии. Вполне понятным было предпочтение, оказываемое церковью Аристотелю перед Платоном, учение которого представляло призрачным и существующий мир, и плоть, и, следовательно, вочеловечение Христа. На Западе теологическая доктрина, построенная на строгих логических умозаключениях, стала господствующей намного раньше и в XIII в. нашла завершение в «Сумме богословия» Фомы Аквинского. Отношение западной церкви к Аристотелю изменилось уже во время крестовых походов, когда умственный кругозор латинян значительно расширился. Авторитет церкви терял свой прежний престиж, вера оказалась недостаточной, возникла необходимость подкрепить ее знанием, откровение — наукой, которую представляли тогда именно труды Аристотеля, более или менее знакомого западной интеллигенции после усиления общения с арабами и греками. Из запретного и даже проклятого церковью язычника во второй половине XIII в. Аристотель стал чем-то в роде христианского пророка
[624]. Вера должна быть осознана разумом, и богословы взялись за изучение Аристотеля, провозгласив, наконец, что между религией и Аристотелем нет противоречия — богословие искало опоры в идеалистической философии.
Естественно, что и в Византии приверженцы логического построения догматики и рационалистического осознания божества в конце концов стали склоняться к католическому богословию (Варлаам, Кидонисы), так как знакомство с трудами западных теологов, основанными на законах логики, давало им преимущество в дискуссиях. Однако углубление в учение Аристотеля таило опасность. Тезис катафатического богословия — раскрытие свойств бога из понятия совершенного бытия — неминуемо приводил тех, кто шел в своих построениях до логического конца, к номиналистическому выводу, что бог является понятием человеческого разума, результатом нашего умствования. Знакомство не с интерпретированным теологами, а с подлинным учением Аристотеля в изложении Аверроэса и Авиценны, известных многим западным номиналистам, серьезно поколебало наукообразные догмы богословия и логически вело к
атеизму.
Именно это обстоятельство заставило некоторых богословов все более определенно предпочитать Платона Аристотелю. Система Аристотеля стала возбуждать массу сомнений, тогда как Платон давал четкое учение о существовании бога и бессмертии души. Система Платона могла стать основой частной и общественной морали, но она содержала странное для здравого рассудка отрицание материальности мира. При опоре на нее был неизбежен переход к символизму в богословии. Все догматы и евангельские повествования приходилось трактовать символически. Этот символизм, разумеется, не был приемлем для развития катафатического богословия. Он стал стимулом для перехода к мистике, и в тесной связи с нею начало развиваться апофатическое богословие.
Мистика не исчезала во все периоды существования Византии, но особенно широкое распространение она получила в эпоху расцвета феодальных институтов, в XI–XIV вв. Мистика основана на представлении о религии как непосредственном единении человеческой сущности с сущностью божества, с таинственной силой, не познаваемой разумом и недоступной для обычного чувственного восприятия. Но эта связь может быть ощущаема человеком в результате особого напряжения воли и при наличии особых харисматических условий.

Портрет Вкладчика, Великого Примикирия Иоанна. Деталь иконы «Христос-Пантократор». 1363 г. Государственный Эрмитаж
Мистическое единение с богом не требовало никаких богословских знаний. Афонские монахи в XI в. изобрели особую «технику» соединения с божеством. «Заперши двери твоей кельи, — учили эти мистики, — сядь в углу ее, отвлеки мысль свою от всего земного, телесного и скоропреходящего. Потом склони подбородок твой на грудь свою и устреми чувственное и душевное око свое на пупок твой; далее, сожми обе ноздри твои так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами то место сердца, где сосредоточены все способности души. Сначала ты ничего не увидишь сквозь тело свое; но, когда проведешь в таком положении день и ночь, тогда — о, чудо! — увидишь то, чего никогда не видал, — увидишь, что вокруг сердца распространяется божественный свет»
[625]. Подобное состояние экстаза и принимали за единение с богом, за его познание. Это монашеское течение, широко распространившееся в XIV в., получило название исихазма
[626]. Теоретическое обоснование познания бога путем подобного мистического единения с ним и является предметом апофатического богословия. Бог есть всеобщая истина, познать ее нельзя ни путем абстрактного мышления, ни при помощи заключений на основе наблюдений видимого мира
[627]. Никакие тонкости философии не могут привести к общению с богом, но поскольку бог создал человека по своему образу и подобию, постольку сам человек — целый мир, в котором отразилось все мироздание. Познание бога состоит в самоуглублении. Согласно апофатическому богословию, в акте познания нет познающего субъекта и познаваемого объекта. Познание состоит в единении познаваемого с познающим, объективного с субъективным. Апофатическое богословие отвергает формально-логическое мышление в применении к познанию.
Главой апофатического богословия в середине XIV в. был Григорий Палама (1295/6–1359), монах-мистик, получивший хорошее философское образование, великолепно владевший терминологией Аристотеля и Платона, знакомый с мистикой Евагрия Понтийского, Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Симеона Нового Богослова, Григория Кипрского и своего духовного отца — мистика Феолепта Филадельфийского
[628]. Паламе было известно и мистическое учение богомильской секты
[629].
До XIV в. мистическая богословская литература почти не оказывала влияния на православную официальную догматику и не была предметом обсуждения на соборах. Поводом к вторжению в политическую и общественную жизнь Византии мистических учений послужило выступление калабрийского монаха Варлаама (ок. 1290–1350). Приехав в Византию, Варлаам первоначально выступал против католического богословия (1333), но потом, ознакомившись с методами «познания бога» исихастов, он пришел в негодование, признав исихазм дискредитирующей православие ересью. Варлаам назвал исихазм «пуподушием», так как, по его мнению, исихасты считали пуп местом пребывания души. Варлаам пришел к выводу, что католицизм больше заботится о внедрении в народном сознании христианских начал, чем православные иерархи, весьма прохладно относящиеся к делу обучения народа в духе христианства, благодаря чему массы греков совершенно не знают официального вероучения. Католичество, по мнению Варлаама, глубже проникает в массы, на Западе христианская религия крепнет и распространяется, тогда как на Востоке множество людей легко и без сопротивления переходит в мусульманство
[630].
Варлаам обвинял исихастов в том, что, согласно их доктрине, для спасения, в сущности, вовсе не нужно священное писание, что бога можно видеть, как обыкновенную вещь, что для этого нужно только прибегнуть к определенным, чисто чувственным приемам
[631].
В защиту исихазма в 1338 г. выступил Григорий Палама со своей сложной теорией, которую он разработал, но отнюдь не систематически изложил в ряде своих «поучений». Основу теории Паламы составляет тезис о том, что познание истины не может быть результатом научного мышления. Истина одновременно и непознаваема, и познаваема: она не познаваема человеческой мудростью, но познаваема путем деификации — соединения с божеством. Между творцом и творением существует общность — единство, которое может быть осознано путем особого напряжения воли и вследствие благодати. Благочестивым людям удается добиться этого единства с богом. Таким образом, человек находит в себе то, чего он не может найти в результате чувственного опыта и вне себя. Сущность бога непознаваема — бог полностью трансцендентен. Но поскольку сотворение человека произошло в результате действия божественной, несотворенной, вечной энергии, то человек может познать бога через осознание действия этой энергии. Согласно Паламе, бога нельзя рассматривать только как сущность, он имеет нечто, не относящееся к сущности
[632], Субстанция, бытие бога непостижимо, но бог превратился бы в пустое понятие, если бы мы не могли познавать его через его энергию
[633]. Энергия бога не сотворена, но безначально связана с сущностью бога (это положение вызвало недоумение и критику со стороны врагов Паламы: ведь этот тезис означает признание двоебожия — бог и несотворенная, столь же безначальная энергия). Палама считал, что его учение об энергии, которую можно воспринять чувствами, содержит основное доказательство существования бога: кто не признает учения об энергии бога, тот фактически не признает и существования бога. Учению Паламы присуща, таким образом, антиномия: с одной стороны, он говорит об абсолютной трансцендентности («внемирности») бога, а с другой стороны, — о его самооткровении через энергию, о его реальном, чувственно познаваемом присутствии в мире.
Признание деификации способствовало осмыслению проблемы конечного и бесконечного, проводилась мысль о связи конечного, материального (т. е. «плоти» человеческой) с бесконечной, безначальной энергией бога и, наоборот, — о превращении нематериальной энергии в реально видимый, так называемый «Фаворский свет» (сияние, которое, согласно евангелию, видели апостолы у горы Фавор и которое, по убеждению исихастов, можно увидеть в моменты экстаза). По учению Паламы, это действительный, хотя и не материальный, свет, но не галлюцинация, как утверждал Варлаам.
Палама абстрагировал естество познающего ума от деятельности ума. В соответствии со взглядами Псевдо-Дионисия он говорил о круговом действии ума: ум наблюдает окружающий мир, а затем возвращается в себя. Этим он отличается от зрения: глаза видят мир, но не видят себя
[634]. Далее, ум восходит от себя к богу путем особой «умной молитвы» и обратно возвращается в себя вслед за познанием бога. Самым трудным для человека является длительное пребывание в этом состоянии ума, но именно оно дает и возможность деификации.
Конечно, деификация, согласно Паламе, не есть механическое соединение с богом, доступное каждому. Божественная энергия дается как благодать лишь благочестивым, святым
[635].
Палама не принадлежал к тем мистикам, которые говорили о греховности «плоти», об отказе от всего материального, как это проповедовали приверженцы дуалистических ересей — павликиане, массалиане, богомилы. Ум, по учению Паламы, во время восхождения к богу не должен находиться вне тела. «Если мы не заключим ума внутрь тела, — говорил он, — то каким образом сосредоточим его в себе самом?»
[636]. Поэтому дается наивный совет: вместе с задержкой дыхания удерживать в своем теле ум.
Палама проповедовал, что для деификации нужна благодать божия, которая снисходит через энергию. Он вводит понятие «синергии» (συνεργεια), которая является соединением усилий человека и божественной энергии. Для деификации необходимо благочестие: отношение добрых дел человека и божественной благодати он поясняет при помощи аналогии со светильником, в котором маслом являются добрые дела, а светом — божественная анергия как ниспосланная благодать
[637]. Из всех византийских богословов Палама наиболее близок к Августину.
Благодать, полученная через таинство крещения, является только потенцией, которую человек развивает покаянием, отрешением от земных помыслов и сосредоточением на небесных, смятением, сокрушением, аскетизмом (воздержанием от излишнего сна, пищи, неги) и в особенности — анахоретством, которое есть «пристань мудрости». Учение Паламы — это идеология оторванного от общества монаха-пустынника, который враждебен всему новому в мире, в том числе и пробивавшим дорогу гуманистическим веяниям
[638].
Сам того не желая, своими антиномиями Палама показал несовместимость веры (мистики) и знания. Он выступил против эллинизма, стремясь будто бы спасти православных от перехода к язычеству, но фактически он разрушил всякую связь церковной идеологии с патриотическим и социальным движением. Асоциальный характер паламизма несомненен.
Учение Паламы, развивавшего идею о возможности спасения через единение индивидуума с богом и фактически отвергавшего мысль о необходимости тесной связи между людьми, стало идеологией реакции в Византии. Не случайно даже такие далекие от богословия люди, как Григора, вынуждены были со всей страстностью вступить в борьбу с паламизмом.
Система деификации человека — сложная концепция, свидетельствовавшая о беспомощности старого общества. Ее развивали приверженцы стагнации и застоя, предпочитавшие полностью отойти от мира, хотя бы ценой гибели народности и государства, чем отказаться от привычного мировоззрения и старого уклада общества. Деификация Паламы ориентирована на асоциальную личность, оторванную и изолированную от общества.
Палама и его сторонники примыкали к политически реакционному лагерю, поддерживая Кантакузина (см. выше). В отношении к турецкой опасности Палама фактически занял капитулянтскую позицию: он не призывал народ к противодействию захватчикам — напротив, он прославлял их веротерпимость
[639]. Силы прогресса потерпели поражение в гражданской войне в результате интервенции иноземцев и слабости городского сословия. Несмотря на протесты ряда иерархов, богословие Паламы на соборе 1351 г. было признано каноническим, а противники Паламы (Варлаам, Акиндин, Григора) подверглись анафеме. Мистике был дан широкий простор в православии. Среди новых мистиков особенно выделялся Николай Кавасила
[640].
Победа мистики имела роковое значение для судеб балканских народов, разрозненных и враждующих между собой в период нарастания турецкой опасности. В тот исторический момент, когда объединявшее балканские страны православие могло быть использовано для организации общего отпора греков, сербов, болгар и влахов нашествию турок под знаменем священной войны, церковь выступила с асоциальными учениями, парализующими волю к сопротивлению. Иерархи страстно спорили об унии церквей и о возможной помощи папы в организации крестового похода против турок, тогда как возглавляемая этими иерархами церковь ничего не предпринимала для сплочения самого населения в общей борьбе.
Трагизм ситуации осознали противники мистики. Они продолжали вести отчаянную полемику с исихастами, которая в то время была, в сущности, борьбой сугубо политической. Антипаламиты стали заимствовать аргументацию у западных богословов. Во второй половине XIV в. были переведены с латинского основные сочинения Фомы Аквинского, но дело завершилось, в конце концов, лишь принятием католичества рядом выдающихся лиц империи. Если паламизм был по существу идеологией смирения перед турецкой опасностью, то антипаламизм фактически санкционировал политику уступок итальянскому торговому капиталу. Антипаламиты, правда, возбуждали некоторые надежды на помощь папы и итальянских городских республик.
Однако ненависть к «латинским» эксплуататорам была в Византии столь велика, что всякое обращение за поддержкой на Запад, обусловленное капитуляцией перед папством, считалось изменой.
Единственная и последняя попытка создать идеологическую доктрину, целью которой являлось сохранение самобытности и духовной независимости греческого народа, была предпринята на Пелопоннесе в среде интеллигенции, группировавшейся при дворе деспота в Мистре. Наличие местного самоуправления в городах Пелопоннеса создавало некоторые благоприятные условия для утверждения этого идейного течения. Оно развивалось в форме движения интеллигентов за воскрешение древнего «эллинского духа», гуманистического протеста против христианства с его асоциальной и лишенной чувства народности мистикой и выразилось в стремлении полностью воспринять древнеэллинскую идеологию. Наиболее выдающимся представителем движения за возрождение эллинизма был Георгий Гемист Плифон, сначала юрист в Мистре, потом прославленный философ и советник морейского деспота. Его основной труд Νομων συγγραφη к сожалению, сохранился только в отрывках (см. выше)
[641].
Философские взгляды Плифона отличает рационализм
[642] и независимость мышления, выделяющие его из среды прочих византийских философов. Камариот обвинял Плифона в том, что тот считал себя одного способным рассуждать относительно смысла всех вещей, что он сделал себя законодателем и следовал лишь своим законам
[643]. Плифон выступил как сторонник философского учения Платона в его чистом виде. Споры Хумна и Метохита, а в особенности антиномии Паламы и мистиков в значительной степени подорвали авторитет Аристотеля и расчистили дорогу учению Платона об идеях. В западной философии и в католическом богословии Аристотель господствовал полностью. Фома Аквинский считал, что платоновские идеи непримиримы с христианством, так как бог создал реальный, а не идеальный (Платонов) мир. Авиценна смягчил это противоречие, утверждая, что платоновские «идеи» существуют не в себе, а в нашем интеллекте. Плифон предпринял попытку создать цельное мировоззрение на основе теории Платона об идеях в чистом виде. Плифон вступил в острую полемику с Аристотелем. Как известно, Аристотель в «Метафизике» (I, 9), называя теорию Платона об идеях пустыми словами и литературными метафорами, призывает обращаться не к идеям, а к реальным вещам.
Аристотель говорит о том, что, принимая теорию идей, нельзя объяснить появление реальных вещей. Для этого нужно, чтобы было то, что производит движение. Плифон возражал на это: ни один предмет, произведенный человеком, не возникает без идей, которые имеются у того, кто создает предметы. Вещи, произведенные природой, должны иметь причину, не низшую, не равную, а превосходящую их.
Согласно Плифону, не конкретное, единичное и, следовательно, в чем-то ограниченное, есть подлинная сущность, а только абстрактное, общее, которое является не умозаключением, а подлинной реальностью. Отношения между конкретными предметами природы и их идеями и составляют, по мнению Плифона, основу античной философии.

Христос-Пантократор. Икона. 1363 г. Государственный Эрмитаж
Идеи, по учению этого философа, делятся на две категории: к первой принадлежат те, которые являются основой для вечных сущностей и способны сами действовать и творить; ко второй — те, которые нуждаются для существования в материи, доставляемой им Солнцем
[644]. Но когда эти идеи получат материальное начало, они самостоятельно влияют на вещи, на материю. Главное обвинение Плифона против Аристотеля состоит в том, что тот, признавая вечность Вселенной, не дает объяснения ее движущей причине. При этом на деле Плифон выступает не столько против Аристотеля, сколько против средневековых его истолкователей, которые рассматривали Аристотеля как сторонника существования единого бога — создателя всех конкретных вещей в мире. Плифон решительно отрицал справедливость такого понимания учения Аристотеля. Поскольку этот древний философ считает и небо и сущности вечными и стоит на позициях плюрализма, его учение не дает монистического представления о мироздании. Поэтому неправы те, кто видит в Аристотеле проповедника христианского бога.
Плифон, таким образом, опровергает то понимание Аристотеля, которое стало традиционным среди церковных авторов — как византийских, так и западных. Плифон — первый ученый, начавший очищать теории Аристотеля и Платона от тех искажений, которые были следствием приспособлений античной философии к христианскому богословию. В этом состоит заслуга Плифона; он первый осуществил научный подход к изучению античной философии
[645] (см. т. II).
Весьма высокомерно относился Плифон и к «Метафизике» Аристотеля, говоря, что философ занимался «пустой болтовней»
[646], а не изучением первопричины сущности, не стремился к отысканию высшего единства для конкретной множественности видов и форм. Согласно Плифону, нелепо рассуждение Аристотеля о целеустремленности явлений природы, если он не видел в них разумного начала, разумной движущей силы
[647]. Целенаправленное действие может быть только сознательным. Поэтому для Плифона ясно, что мирозданием управляет разумное начало, иначе говоря — бог. Плифон усматривал в Аристотеле несомненного материалиста
[648]. Идея бога у Аристотеля, согласно Плифону, постыдна: бог — не творец (а бытие — вечно), бог — только первый двигатель. Плифон порицает Аристотеля за то, что тот в сущности не признает бессмертия души, хотя и не решается сказать об этом прямо
[649].
Атеисты, писал Плифон, боятся допустить, что всему существующему предшествовало сознательное творчество. Они полагают, ссылаясь на иррациональные элементы в природе, что она творит бесцельно. Плифон резко выступал против атеизма
[650], но он считал, что христианство противоречит эллинскому патриотизму и эллинскому мировоззрению. Плифон отдавал отчет в значении идей для политической борьбы и полагал, что вместо христианской мистики и официального православия необходимо воссоздать религию древних эллинов, исходя из учения Платона об идеях.
Христианство (особенно в форме торжествующих идеалов исихазма) не давало, по мнению Плифона, стимулов для утверждения эллинского самосознания и для борьбы греческого народа за существование. Плифон хотел возбудить активность эллинизма в борьбе против турецкого завоевания. Эта религия, однако, не могла найти массовой опоры, она была для этого слишком рациональной. Меры по ее возрождению были бесплодными. Деятельность Плифона напоминала в сущности попытки Юлиана и Прокла в IV–V вв. воссоздать античную религию в противовес христианству
[651].
Используя внешние атрибуты античной религии, Плифон хотел создать совершенно новую, чисто философскую религиозную систему, опирающуюся не на «Откровение», а на логическое мышление, на очевидные истины — аксиомы и силлогизмы. Вместо веры основой создаваемой Плифоном религии являлся разум. Основная аксиома Плифона гласила: все должно иметь свою причину, совершенную во всем. Это — Зевс, причина всего сущего, сам собою сущий, сам собою единый, сам собою высшее добро
[652]. Но добро не может быть добром, если оно не распространяется на других, — и Зевс сотворил «другое»: творчество, необходимо связанное с добром; необходимость же, исходящая из сущности, и есть свобода. У Зевса, который есть и совершенство, и свободная воля, и потенция, и действие, творчество составляет неразрывное единство
[653].
Плифон создал новую мифологию олимпийских богов (совсем не похожую на античную). Богу-отцу христиан у Плифона соответствовал Зевс, христианскому Логосу-Сыну — важнейший бог в системе Плифона — Посейдон
[654]. Посейдон у Плифона — это платоновский мир идей как единство, это идея идей, начало, дающее форму; поскольку Посейдон рожден без матери (а в материнстве заключено все материальное), он лишен всего материального. Это чистая идея — сущность, мировой разум (Νους). Идею материи, идею создания множественности в единстве Плифон приписывает Гере. Соединение действий Посейдона, дающего формы конкретной действительности, и Геры, рождающей множественность, образует конкретный множественный мир, противоположный миру идей
[655]. Идею сходства и тождества представляет, согласно Плифону; Аполлон; идею различия — Артемида. Разум человек получил от олимпийских богов, а материя в ее конкретности обязана своим происхождением Гелиосу — Солнцу. Носителем идеи человеческой бессмертной души является бог Плутон, а идеи смертной человеческой плоти — одно из низших божеств системы Плифона — титанка Кора
[656]. Душа человеческая соединена с плотью, но вечна. Плифон признает теорию переселения душ, но только в сознательные существа, а не в бессознательных животных
[657]. Воплощением идеи, движущей силой размножения, благодаря которой смертный человек сохраняет идею вечного человека, является Афродита. Таким образом, категориям вневременным соответствуют Зевс и его законные дети, а категориям временным — низшие боги, незаконные и побочные дети Зевса.
Носителями идей конкретных сущностей являются и дети Посейдона. В числе их находятся идеи бессмертных конкретных категорий: Солнце, Луна, планеты (Гелиос, Селена, Эосфор, Стилбон и т. д.). Идеям смертных конкретных категорий соответствовали незаконные дети Посейдона: демоны, люди, животные, растения, неорганические вещи
[658]. Пан представлял собой идею лишенных разума животных. Необходимо отметить, что в отличие от античных боги Плифона вовсе не являлись антропоморфической персонификацией идей. Они были самыми идеями — сущностями, движущими и управляющими трансцендентными силами.
Подражая христианскому «символу веры», Плифон в своем сочинении «Основы религии Зороастра и Платона» составил «Выводы», состоящие из 12 тезисов
[659]. Догмат «верую в единого бога» Плифон заменил тезисом «верую во множество богов». Наряду с единым принципом вещей рекомендовалось верить во множество посредников — в мировой разум, в идеи звезд, в демонов. Плифон изобрел и свой календарь и литургию. Религия Плифона имела целью дать блаженство не в потустороннем мире, а в этом, достигаемое путем соответствующего устройства общества и благодаря особой (построенной на идеях Платона) морали. Мораль Плифона основана на понятиях добра и зла; добро происходит от богов, зло проистекает от отсутствия совершенства. Человек делается плохим в результате появления в его душе низких побуждений, в силу удаления от божественной стороны человеческой души и приближения к ее смертной стороне. Зло, таким образом, состоит в удалении от высшей Идеи.
Боги наказывают людей, но это не кара в собственном смысле слова, а стремление оздоровить людей. Если под влиянием смертной стороны души человек поступает дурно, наказание, ниспосланное богами за грехи, имеет целью освободить человека от рабства у низменной, смертной части души и сделать его свободным. Добро не существует само по себе, а состоит в подражании богу, в стремлении к возвышенному в меру способностей каждого.
Плифон говорит в четырех основных добродетелях, которые в свою очередь делятся на производные, специфические добродетели: 1) φρονησις — обсуждение поступков по глубочайшим, имманентным человеку мотивам, устойчивое состояние духа, познающего сущность вещей; 2) διχαιοσυνη — справедливость в отношении к другим существам; 3) ανδρεια — мужество — преодоление инстинктивных влечений; 4) σωφροσυνη — благоразумие, или регулирование поступков, связанных с телесными потребностями.
В сущности, под «подражанием богу» Плифон понимает «следование законам природы»
[660].
Человек является составной частью множества организмов, частью великого «ВСЕ» — космоса, а также частью государства, семьи, и он обязан воздавать должное каждой общности
[661], выражаемой понятием πολιτεια. Если «полития» представляет отношение человека к обществу, то благочестие — отношение человека к богу. Это благочестие в трактовке Плифона отлично от христианского. Оно означает индивидуальное стремление познать конечную причину всех вещей и является высшей добродетелью человека. Чтобы быть счастливым, каждый должен развивать свои способности. Никакого загробного мира Плифон не признавал. Любые призывы христианских иерархов к «спасению» он называл бесстыдством.
Плифон полагал, что его религия должна стать основой для индивидуальной и социальной морали. В противоположность религии древних, которые считали ее результатом экстаза, религия Плифона объединяла онтологию и мораль. Забота о плоти и забота о морали объединялись, так как, по утверждению Плифона, одаренный разумом человек является в мир, как на организованный праздник. Никакому аскетизму в религии Плифона не было места.
По своему социальному характеру философия Плифона была аристократической, поскольку она не имела ничего общего с идеями христианского учения обездоленных, а совершенство и блаженство отождествляла с интеллектуальным развитием индивида, свободного от житейских треволнений и забот
[662]. Плифон организовал в Мистре тайную языческую секту, деятельность которой, однако, не имела особого успеха. Запоздалое язычество с рассудочной мифологией было чуждо массам. Прямое выступление против христианства было не только преждевременным, но и опасным в период, когда стоял вопрос о сохранении самой греческой народности. Народ скорее воспринял бы реформу христианства, чем полный отказ от него. Что те касается аристократической прослойки, то для нее призыв Плифона к отказу от христианства создавал прецедент, облегчивший в дальнейшем, во время турецкого господства, переход в ислам.
Политические советы Плифона деспоту Морей были вполне искренними и проникнутыми патриотизмом. Однако основанные на платоновских идеях совершенного государства, они были абсолютно беспочвенными. В период, когда развитие шло в направлении укрепления товарного и денежного обращения, Плифон рекомендовал натуральный обмен. В условиях, когда торжествовала частная собственность, он выступал против нее. Все свои надежды он возлагал на силу эллинизма. Однако философия, черпающая идеи в прошлом и игнорирующая условия и обстановку настоящего, является в сущности идеологией обреченности.
Учение Плифона, не встретившее сочувствия на греческой почве, имело, тем не менее, существенное значение для развития итальянского Ренессанса. Его труды были высоко оценены деятелями Возрождения. Сам Плифон, будучи членом делегации на Флорентийском соборе, читал лекции во многих городах Италии. Исключительным было его воздействие на Помпония Лета. Под влиянием Плифона христианские сюжеты стали осмысливаться в языческом духе: Иоанн Креститель изображался как Дионис, ангел — как Ганимед, Мария — как Геба и т. д. Плифон помог Западу освободиться от идеологического гнета схоластического богословия, основанного на толкованиях Аристотеля. Он ознакомил Запад с подлинным Платоном и тем способствовал взлету идей Возрождения. Пребывание Плифона во Флоренции сыграла большую роль в развитии философии в Западной Европе. Козимо Медичи под влиянием Плифона содействовал изучению Платона во Флоренции (1438/39), где в 1459 г. возникла Академия.
Как перенесение праха Августина в Италию знаменовало господство идей Августина на Западе, так и погребение Плифона в этой стране (в Римини) символизировало наступление нового периода в истории западноевропейской общественной и философской мысли
[663]. Плифон своим платонизмом потряс здание западной схоластики, и в этом состоит его историческая заслуга
[664]. Категорический отказ Плифона от обязательной для средневекового европейца христианской идеологии способствовал развитию критической мысли на Западе. В Италии некоторое время процветал культ Платона. Его пламенные приверженцы даже обратились к папе с просьбой канонизировать Платона как христианского святого. Это был своего рода протест против схоластического извращения учения Аристотеля богословами католицизма.
В Византии вплоть до падения Константинополя продолжалась борьба вокруг платонизма Плифона. Ярым врагом Плифона был Георгий Схоларий
[665]. Он выступил против Плифона в защиту Аристотеля, т. е. фактически в защиту традиционного, освященного церковью аристотелизма. Понимая непримиримую враждебность Плифона к христианству, Схоларий добился сожжения главного произведения Плифона. Схоларий долго жил в Италии, хорошо ознакомился с латинским богословием и схоластической философией Запада. Выступая против унии, против католической догматики, Схоларий, тем не менее, отдавал преимущество латинским методам аргументации в богословских вопросах. Особенно он увлекался Фомой Аквинским. («Ах, если бы ты был греком, а не латиняном!» — говорил он). Однако в середине XV в. Фома Аквинский уже был знаменем реакции на Западе. В своих многочисленных сочинениях, особенно тех, которые были напечатаны после того, как он стал константинопольским патриархом, Схоларий стремился сохранить незыблемой всю систему православия.
Спор между сторонниками Платона и Аристотеля, столь обостренный Плифоном, продолжался и после падения Константинополя. Георгий Трапезундский (ум. в 1478 г.) выпустил труд «Сравнение Платона и Аристотеля», полный самой резкой критики системы Платона и Плифона. Ему отвечал известный ученый Виссарион (1403–1472), глава греческих гуманистов в Италии, бывший ученик Плифона, в четырехтомном труде «Против клеветника на Платона». Это произведение вызвало больший отклик в Италии, чем в Византии, уже задавленной турецким игом
[666].
Под турецким владычеством закончилось развитие византийского богословия, а вместе с тем и византийской философии.
Изложенные выше выводы о философских и богословских концепциях поздней Византии, в последние века существования которой общественная мысль испытала известный подъем, являются весьма относительными. Сохранилось громадное количество философских и богословских сочинений, которые остаются по большей части неопубликованными и недостаточно изученными.
Глава 16
Литература
(Сергей Сергеевич Аверинцев)
После катастрофы 1204 г., как уже было сказано, средоточием византийской духовной жизни стала Никейская империя. «Никея сделалась центром греческого патриотизма»
[667], подлинной столицей константинопольской культуры и эмиграции
[668].
Наставник императора Феодора II Ласкариса и его постоянный корреспондент Никифор Влеммид — один из самых видных и характерных представителей никейского периода византийской культуры
[669] (см. выше). Литературная деятельность Влеммида весьма разнообразна. От него дошли трактаты по логике и естествознанию, а также по теологии (на тему о св. духе), толкования на псалмы
[670], риторические декламации (например, похвальное слово евангелисту Иоанну) и придворные стихи. Но самое интересное из написанного Влеммидом — две автобиографии в прозе
[671], изобличающие повышенный интерес к собственной личности, — чувство, почти незнакомое византийской словесности предыдущих веков. Общее настроение, разлитое в автобиографиях Влеммида, пожалуй, больше всего напоминает выросшее на той же греческой почве девятью веками раньше сочинение Ливания «О моей судьбе»: и там и здесь ярко выступает чопорное самомнение ритора, придающего великое значение каждому моменту своей жизни, и это чувство в обоих случаях облечено в адекватную ему изысканную форму. Современного читателя это отсутствие скромности и чувства юмора обычно отталкивает; следует, однако, помнить, что за всем этим стоит вера в значение риторической учености как синонима всего утонченного и благородного, как единственной альтернативы варварству. Конечно, между язычником Ливанием и православным монахом Никифором есть и различие; последний хочет быть не только великим мудрецом и витией, но вдобавок еще и божьим избранником, любимцем провидения (впрочем, и античные софисты типа Ливания охотно вмешивали богов в мелочи своей жизни). При этом Влеммид не был бы византийцем, если бы его гордость ученого и монашеское презрение к миру хоть сколько-нибудь препятствовали ему проявлять самый откровенный сервилизм в своих придворных сочинениях.
Когда у Феодора II Ласкариса родился сын Иоанн, Влеммид приветствовал рождение наследника стихами, в которых он без малейшего смущения оперировал высшими богословскими понятиями (хотя приравнивание земного царя к небесному — у византийских поэтов обычно)
[672]:
«Тебе, младенец-государь, тебе, о цвет престола,
У бога молит всяких благ седой монах Никифор.
О чадо солнца светлого, луны прекрасной чадо,
Двойного света ты нам луч, двойного блеска отблеск.
Ведь ты имеешь от отца ума напечатленье,
А чистоты высокий дар — от матери родимой.
Христос есть Девы чистой сын, ты — сын жены чистейшей.
Христов Отец — верховный Ум, вселенский миродержец,
Отец же твой среди людей умом по праву первый.
Христов Отец над миром всем есть властный самодержец,
Христос есть Царь и сын Царя; и твой удел таков же.
Как некогда Христа волхвы, так мы тебя искали…»
Все же для интеллектуальной атмосферы никейского кружка показательно, что в льстивых стихах Влеммида прославлялись духовные качества властителя (в какой мере это соответствовало истине, дела, конечно, не меняет). Слишком простонародная форма «политического» стиха кажется для Никифора не вполне органичной, неадекватно передающей строй его мыслей; и в самом деле, от него дошло также большое стихотворение, воспевающее Сосандрский монастырь гексаметром («гомеровская» дикция в этой маленькой поэме также выдержана). Из классических размеров он пользовался и триметром.
Другой наставник Феодора II Ласкариса, Георгий Акрополит, был лет на 20 моложе Влеммида. Важнейшее сочинение Акрополита — «Хроника»
[673], излагающая события от начала осады Константинополя в 1203 г. до его возвращения в 1261 г. (см. выше). Стиль ровен, ясен, хотя несколько скучноват. Сам Георгий выставляет в качестве своей программы полную беспристрастность: «Писать историю должно не то что без зависти, но без всякого недружелюбия или пристрастия, единственно ради самой истории, дабы не предать бездне забвения… чьи бы то ни было дела, безразлично, хорошие или худые…»
[674].
Кроме того, Акрополит занимался богословской полемикой (все на ту же неизбежную тему об исхождении святого духа), писал речи, составил стихотворное вступление к письмам Феодора II Ласкариса; но до подлинной поэзии он поднялся только один раз — когда писал стихи на смерть Ирины, дочери Феодора I Ласкариса и жены Иоанна III Дуки Ватаца. Собственно говоря, перед нами снова придворное стихотворение «на случай», но в нем неожиданно открывается такая прочувствованность и человечность, какую нелегко отыскать в светской византийской поэзии. Так, Ирина вспоминает свое счастье с Иоанном, причем подчеркивается, что это был именно брак по любви:
«Во цвете лет девических судьба дала
Мне разделить и ложе, и властительство
С таким супругом! Стать его державная
Изобличала сразу благородства блеск —
Ведь был он Дукой, мужем крови царственной!
Он был как бы второй Давид по кротости,
Как бы Самсон — по мощи необорных рук.
И с ним я сочеталась, с юным — юная,
И по любви взаимной мы в одно слились.
Связало нас законное супружество,
Но крепче страсть связала обоюдная:
Супружество смесило нас в едину плоть,
Любовь же душу нам дала единую!
Да, я любила страстно, он — еще сильней,
Да, я дарила радость и брала ее!
Он был мне близок, как очей сияние,
Но я ему — дороже, чем сиянье глаз,
Усладой сердца, духа подкреплением!
Да, в том, как щедро дивный был украшен брак,
Душа и плоть имели долю равную…»
[675].
Не часто встречается в византийской литературе столь живое и цельное выражение чисто мирского идеала молодой силы и взаимной любви. Характерно, что все это поэтом было дано в контексте надгробного плача и через призму смерти. Стихотворение Акрополита любопытно сравнить с более типичным для среднего уровня придворной поэзии этих десятилетий эпиталамием Николая Ириника
[676] (биография и точные даты жизни неизвестны), написанным по случаю второго брака того же самого Иоанна Дуки, никейский император через три года после кончины Ирины женился на Констанце-Анне, незаконной дочери Фридриха II Гогенштауфена.
Николай Ириник просто пускает в ход набор общих мест свадебной поэзии, в определенных моментах восходящих к архаическим глубинам фольклора:
«Стоит пригожий кипарис, вокруг же плющ обвился:
Моя царица — кипарис, а плющ — то государь мой.
Весь мир есть сад, и в том саду наш плющ прекрасный вьется
И все умеет обхватить в своих извивах хитрых,
И все объемлет, единит, искусно сочетает:
Народы, земли, города, и племена, и страны.
Стоит пригожий кипарис…» и т. д.
Вот еще одна строфа из этого эпиталамия (строфы в соответствии с исконными законами свадебной песни рассчитаны на «амебейное»— попеременное пение двух хоров):
«Железо любит ведь магнит, жених невесту любит,
Властитель — благородную, избранницу — наш Дука,
Воитель непреклоннейший — нежнейшую девицу;
Он снял железный свой хитон, сложил свои доспехи
И в брачный золотой наряд, в порфиру облачился.
Так и для свадьбы есть свой час, не только лишь для брани.
Железо любит ведь магнит…» и т. д.
Конечно, поэзия реагировала на столь важное событие, как освобождение ромейской столицы; дошла, например, поэма, состоящая иэ 759 пятнадцатисложников без рифмы, датированная 1392 г. и озаглавленная «О падении и обратном завоевании Константинополя»
[677]. Сам автор излагает свою цель так:
«О том, как матерь городов пленили италийцы
И как она же в свой черед возвращена ромеям,
Я все пространно изложил; прочти, коль есть охота».
Два виднейших и характернейших представителя той эпохи, которая началась после 1261 г., — современники и соперники, Никифор Хумн
[678] и Феодор Метохит
[679]. Эта эпоха была особенно благоприятной для рецепций античного наследия: никейский период сохранения византийской государственности и последовавшая затем победа 1261 г. стимулировали «эллинский» патриотизм, а исихастская реакция еще не успела созреть. Сам Хумн был непосредственно связан с культурными традициями никейской эпохи через Григория Кипрского, чьим учеником он был. Риторический трактат Никифора «О том, как судить о речах, и как они воздействуют»
[680] — отчетливое выражение аттикистской тенденции, ориентировавшейся на образцы Исократа и Элия Аристида. Декламации и письма
[681] самого Никифора (между прочим, он много переписывался с Метохитом, так что их до последнего времени считали друзьями) показывают, как эта теория прилагалась к практике.
Хумн довольно серьезно занимался и античной философией; любопытно, что его борьба с Метохитом облекалась в мало адекватную форму полемики относительно классических риторов и философов.

Преображение. Миниатюра из рукописи Парижской национальной библиотеки
Главный труд великого логофета Феодора Метохита носит название «Гномические памятки и заметки»
[682] (условно —
Miscellanea) и представляет собой комплекс 120 эссе на различные литературные, философские и моралистические темы. Бросается в глаза обилие очерков об античных авторах
(например, о Плутархе, самая структура «Моралий» которого очевидным образом повлияла на непринужденное многословие Феодора), Метохит писал также речи и декламации, трактаты по философии и астрономии
[683], стихи в гексаметрической форме и т. д. Напомним, что имя Феодора Метохита определенным образом связано и с историей византийской живописи: он был заказчиком возникших около 1303 г, мозаик Кахриэ-Джами. «На мозаиках лежит печать изысканного вкуса их заказчика…, являвшегося одним из культурнейших и образованнейших византийцев XIV века», — замечает В. Н. Лазарев
[684]. Среди этих мозаик сохранился, между прочим, и портрет Феодора, на коленях подносящего Пандократору модель церкви.
Темы и штампы продромовского круга продолжает в XIV в. поэт из Эфеса Мануил Фил
[685]. Вся топика жалоб на бедность, условного попрошайничества и т. д. снова проходит в его поэзии, хотя и в гораздо менее выразительной и свежей форме, чем это имело место у Феодора Продрома:
«Державный повелитель, обносился я!
Хитон поистрепался, продырявился,
И ворс на львиной шкуре, тонко стриженный,
Весь вылез от морозов и попортился.
И вот, нуждаясь страшно в одеянии,
К тебе я прибегаю!…»
[686].
Более интересны принадлежащие ему же стихи о различных предметах искусства
[687], показывающие, как византиец воспринимал икону, произведение ювелирного искусства и т. д., хотя и эта часть творчества Фила всецело стоит под знаком старой традиции риторического «экфрасиса».
Палеологовская эпоха — время расцвета такой специфической литературной формы, как роман в стихах. Еще роман Евматия Макремволита «Повесть об Исминии и Исмине», непосредственно примыкающий к традиции позднеантичной эротической литературы, написан прозой, как и романы II–IV вв. Но уже «Каллимах и Хрисорроя»
[688] (первоначальную редакцию этого романа относят к XII в., а окончательную — к концу XIII или началу XIV в.)
[689] выполнен в пятнадцатисложниках. Это понятно: роман принадлежал к развлекательной литературе, а бойкий «политический» стих был более доходчивым, чем претенциозная риторическая проза. Правда, «Каллимах и Хрисорроя» по своему стилю и языку представляет собой посредствующее звено между антикизирующим академизмом и настоящей популярной словесностью.
В его топике также наблюдается странное соединение откровенно фольклорных мотивов («Драконов замок», смертоносное яблоко, животворное яблоко и т. п.) и налета книжности (постоянные клятвы Эротом и Афродитой). В других образцах палеологовского стихотворного романа «лубочная» стихия более решительно преодолевает книжную, что дает в итоге большую грубость, но и большую цельность.
Как раз через эту жанровую форму передавалось интенсивное воздействие западного рыцарского эпоса. Колоритный результат этого воздействия — поздний роман в 1874 нерифмованных пятнадцатисложниках «Флорий и Плацафлора»
[690], т. е. византийская переделка известной провансальской легенды о Флоре и Бланшефлер.
Это сочинение настолько связано со своими западными прототипами, что удерживает все католические религиозные реалии (например, паломничество родителей героя к Сант-Яго де Компостелла в Галисии, ст. 10–20). Но словесная ткань романа органично связана с исконными традициями греческой поэзии; между прочим, мы встречаем в гл. 11 великолепную игру на склеивании слов в «протяженносложенные»
composita, как это в свое время делал еще Аристофан, а в византийскую эпоху — Арефа в своей эпиграмме на Льва Хиросфакта. В четырех стихах подряд красота Плацафлоры описывается в эпитетах такой протяженности, что два из них всякий раз занимают весь пятнадцатисложник:
«… И он узрел красавицу…
Пурпурнорозоустую, лилейноснеговую…»
[691].
К этой же категории относятся романы «Иверий и Маргарона»
[692] (т. е. «Пьер и Магелонна» — опять обработка провансальской легенды, дошедшая в трех поздневизантийских изводах различного объема) и «Вельфандр и Хрисанца»
[693] (сохранившаяся редакция XV в., по-видимому, восходит к оригиналу XIII в.). Вот колоритный кусок из «Вельфандра и Хрисанцы», изображающий героя в роли Париса на куртуазном конкурсе красоты:
«И вот Вельфандр увидел их и так им всем промолвил:
«Коль скоро сам Эрот меня поставил вам судьею,
Извольте все передо мной проследовать нередкой!»
Одна красавица идет, такие речи молвит:
«Ах, господин, весьма прошу тебя о снисхожденье!»
Но так промолвил ей Вельфандр: «Сужу тебя по правде:
Никак нельзя тебе отдать, красавица, победу,
Затем, что очи у тебя и красны, и распухли».
Она, услышав приговор, скорей ушла в сторонку.
Из хора девичьего вот еще одна выходит,
Становится прямехонько насупротив Вельфандра,
А он ведет такую речь: «Твои раздулись губы,
И от того твое лицо уж очень безобразно».
Вот так он и ее прогнал; она ушла скорее,
И снова стала в стороне в унынии немалом,
И горестно заплакала от эдакой напасти…»
[694].
Инерция этой романной формы столь велика, что захватывает и достаточно отдаленные литературные сферы. Например, хроника Ефрема
[695]; относящаяся, по-видимому, к началу XIV в. и излагающая историю ромеев от Юлия Цезаря до 1261 г., написана в стихах и использует бойкие интонации стиховой развлекательной литературы, хотя по своему настроению остается в русле той назидательности, которая характерна для хронистов-прозаиков; вот как он повествует о Константине:
«Отец благочестивых государей он,
Первейший из христолюбивых кесарей;
Собор созвал он пастыреначальственный,
Чтоб Ария низвергнуть лжеучение».
Для византийской поэзии XIV в. характерно оживление интереса к героям троянской легенды. Причем поразительно, что этот материал, связанный с изначальными основами греческой литературной традиции, воспринимается авторами этой эпохи по большей части через чужую призму — под знаком западного рыцарского эпоса. Это еще слабо выявляется в «Илиаде» Константина Гермониака
[696] (первая половина XIV в.), автор которой претендовал на то, чтобы точно переложить Гомера на современном ему языке, но на деле уснастил повествование самыми колоритными анахронизмами в духе средневекового романа (например, Ахилл предводительствует, кроме мирмидонян, еще болгарами и венграми!). Но анонимная «Троянская война»
[697] уже совершенно ясно зависит от старофранцузского «Романа о Трое» Бенуа де Сент-Мора: потомок эллинов называет на римский манер Геракла «Еркулесом», а Ареса — «Маросом»! Дух западного рыцарского эпоса чувствуется и в поэме «Ахиллеида»
[698], дошедшей в двух вариантах — кратком (761) и расширенном (1820 ст.). Здесь вождь мирмидонян именует свою даму сердца «куртеса» (ит.
cortege — обращение к знатной госпоже), участвует в турнирах, собирает вокруг себя (по примеру короля Артура!) 12 витязей и в конце концов отправляется венчаться с сестрой Париса в троянскую церковь и гибнет жертвой предательского нападения.

Константин Комнин и Евфросиния Дукеня Палеологиня. Миниатюра Оксфордской рукописи. Ок. 1400 г.
То, что греки XIV в. воспринимали воспетую Гомером троянскую легенду через западные подражания Диктису и Дарету, в высшей степени неожиданно, но по сути дела вполне понятно: время требовало такого прочтения этой легенды, которое соответствовало бы феодальному стилю жизневосприятия — а в этом «франки» опередили византийцев.
Изо всех упомянутых обработок троянских сказаний самым ярким и поэтически интересным является, без сомнения, пространный вариант «Ахиллеиды». Наивные анахронизмы только усиливают жизненность поэмы. Автор умело владеет стихом: его пятнадцатисложники хорошо держатся на аллитерациях, парономасиях и т. п.
Вот место из этой поэмы (ст. 861–892), изображающее куртуазную переписку Ахилла и Поликсены (эта последняя не имеет в византийском романе ничего общего с дочерью Приама — она лишена какого бы то ни было отношения к Трое и состоит в счастливом браке с Ахиллом шесть лет, а потом умирает).
«…И вот он деве написал любовную записку,
Призвал к себе кормилицу и с ней послал записку,
И речи этой грамоты гласили слово в слово:
«Пишу письмо любовное, пишу, а сам тоскую.
Возьми письмо, прочти письмо, не отвергай признанья.
Услышь, о дева милая, услышь, цветок желанный:
Меня и стрелы не берут, и меч меня не ранит,
Но очи ранили твои, в полон меня забрали,
Да, твой зрачок в конец смутил несчастный мой рассудок,
И сделал он меня рабом, рабом порабощенным.
О, сжалься же, красавица, любезная девица,
Ведь сам Эрот — заступник мой, любви моей предстатель.
Не убивай меня, краса, своей гордыней лютой,
Пойми печаль, прими любовь, смягчи мои терзанья,
На сердце мне росу пролей — оно пылать устало!
Но если ты не сжалишься, не тронешься любовью,
Я меч схвачу и сам себя без жалости зарежу,
Клянусь тебе, владычица, — и ты виною будешь».
Вот он незамедлительно послал письмо девице,
Она же, в руки получив Ахиллово писанье,
Не сжалилась, не тронулась, любви не сострадала,
Но села и не мешкая ответ свой написала,
И речи этой грамоты гласили слово в слово:
«Мой господин, письмо твое мне передали в руки,
Но отчего ты так скорбишь, я, право же, не знаю.
Коль скоро мучают тебя, в полон поймав, Эроты,
Ты их и должен попросить, любезный, о пощаде.
А мне и вовсе дела нет до всяких там Эротов;
Любви меня не одолеть, Эротам не осилить,
Не знаю стрел Эротовых, не знаю мук любовных.
А ты, уж если боль твоя взаправду нестерпима,
Один изволь убить себя, один прощайся с жизнью!»
[699]
В последние века перед падением Византии отчетливо выступает фольклорная линия, которой суждено пережить и ромейскую державу, и вообще средние века. Необычайно колоритны так называемые «Родосские любовные песни» (в рукописи они озаглавлены Στιχοι περι ερωτος χαι αγαπης)
[700]. Нельзя сказать, чтобы господствующее в них настроение было особенно здоровым и привлекательным; здесь перед нами тот стиль эротики, который сочетает примитивное жеманство с наивным цинизмом и служит необходимым коррелятом всякого «домостроевского» уклада жизни. Эта не слишком импонирующая сфера образов и чувств получила в определенные века самое широкое распространение; у нас в России она была представлена с XVII в. «лубочным» романом и затем продолжала жить в полународном, полумещанском мире частушки и «жестокого» романса, поразительно стойко сохраняя присущую ей систему общих мест. В центре «родосского» цикла стоит стихотворение, которое озаглавлено «Стослов». Ситуация такова: мальчишка (νεωτερος) объясняется красотке (λυγερη досл.: «стройная») в любви:
Мальчишка
Я потихоньку ото всех горю, а ты не видишь.
Красотка
Ведь ты еще совсем дитя, совсем ребенок малый.
Любовник, нечего сказать! Ну где тебе, мальчишка!
Молчи! Услышит кто-нибудь — меня в конец задразнят.
Мальчишка
Почем ты знаешь, будто я в любви совсем не смыслю?
Меня сначала испытай, потом суди, как знаешь.
Увидишь ты, как мальчуган умеет целоваться,
Как будет угождать тебе и всласть тебя потешит.
Хоть велика растет сосна, плодов с нее не снимешь,
А виноград и невелик, да плод дает отменный
[701].
Девица предлагает поклоннику своего рода игру в фанты: он должен будет сказать экспромтом сотню стихотворных прибауток, каждая из которых должна начинаться соответствующим по порядку числительным, и тогда она согласна с ним целоваться:
«Изволь-ка мне сказать, дружок, подряд до сотни вирши,
И если складно выйдет стих, тебе подставлю губы».
Начинаются двустишия, поразительно напоминающие по своей структуре русские частушки (это выступает особенно наглядно, если разбить каждый «политический» стих на четырехстопную и трехстопную строки).
1
«Одна красавица давно меня поймала в сети,
Опутала меня в конец, а выпустить не хочет.
2
Два глаза есть у бедного, и оба горько плачут;
Из камня сердце у тебя, а нрав — избави боже!
3
Три года я из-за тебя готов сидеть в темнице,
Как три часа они пройдут из-за красы-девицы.
4
Четыре у креста конца, а крест висит на шее;
Другие пусть целуют крест, а я тебя целую.
5
Пять раз на дню я исхожу из-за тебя слезами;
Поутру раз и в полдень раз, три раза попозднее»
[702].
Однако автор, то ли утомясь сам, то ли боясь вызвать скуку у читателя, сокращает затянувшуюся игру: уже после десятой прибаутки оказывается, что жеманница на все согласна и в нетерпении предлагает юноше придумывать «частушки» только на цифры 20, 30 и т. д. Когда он доходит до 100 и берет у девицы все, что ему было нужно, он принимается грубо куражиться над ней.
Еще более откровенная грубость отличает рифмованное стихотворение «Слова девицы и юноши», относящиеся, по-видимому, уже к эпохе турецкого завоевания
[703].
Чрезвычайно характерны для византийского фольклора и низовой литературы звериные сюжеты. Средневековый грек любил истории про животных; этой потребности удовлетворяли, между прочим, простонародные варианты «Естествослова» («Фисиолог»)
[704]. В поздневизантийской плебейской культуре оживает исконная басенная стихия, в свое время породившая басни Эзопа. Но теперь она создает вместо басенных миниатюр произведения больших форм. Примером может служить хотя бы «Повествование для детей о четвероногих животных»
[705], занимающее не больше, не меньше, как 1082 «политических» пятнадцатисложника (без рифмы). Сюжет вкратце таков: Лев, царь зверей, провозглашает вечный мир в своем царстве и созывает подданных на сходку; однако звери принимаются хвастать своими заслугами и бранить друг друга, причем брань начинается с простолюдинов звериного мира (Кошка, Мышь, Пес) и постепенно доходит до могущественных господ, Быка и Буйвола. Именно это сквернословие, для нашего восприятия неимоверно многословное, и составляет основу всего стихотворения. Затем Лев объявляет, что перемирие закончилось и звери могут снова поедать друг друга; все заканчивается всеобщей потасовкой. Несомненно, поэма содержит зашифрованные «эзоповским языком» злободневные намеки на социальные противоречия в византийском обществе
[706].
Общее настроение «Повествования о четвероногих» — дерзкое вышучивание всего, что попадется под руку; встречаются издевки над другими народами (юдофобское изречение в ст. 424), над католической церковью (утверждается, что основа латинской литургии — свинья, ибо из ее щетины делают кропила, см. ст. 385–389), но нисколько не лучше автор относится и к такой православной святыне, как иконописание (которое зиждется опять-таки на свинячьей щетине, без которой не сделаешь кистей — см. ст. 395–400). В «Повествовании о четвероногих» много чисто фольклорного сквернословия, которое иногда обнаруживает теснейшую связь с античными ритуальными традициями; извечная средиземноморская тема «фаллизма» осла трактована таким образом (ст. 644–655), как будто со времен Аристофана ничего не изменилось.
Сюжетная структура «Повествования о четвероногих» в точности воспроизведена в «Птицеслове» (Πουλολογος)
[707], озаглавленном в рукописи так: «Птицеслов обо всех пернатых и об их ссоре, как они бранили друг друга, а себя хвалили, содержащее кое-какое хорошее присловие для потехи и вразумления человеческого, нередко же и для поучения юношей». И здесь «Орел, великий государь над всем народом птичьим», созывает своих подданных, на этот раз на свадьбу своего сына. Темп здесь более сжатый, чем в предыдущей поэме, и поэтому скандал начинается уже со ст. 5 (всего в «Птицеслове» 550 нерифмованных пятнадцатисложников). Сквернословие играет здесь заметно меньшую роль, а бытовые намеки более прозрачны, чем в «Повествовании о четвероногих»: оказывается, что среди подданных птичьей державы один — неоплатный; должник, другой корчит важного господина, третий — латинянин из Рима, четвертый — татарин и болгарин сразу и т. д.
Звериный эпос мог, нисколько не меняя своих приемов и установок, перейти на растительную топику (как это время от времени происходит и в басне античного или лафонтеновско-крыловского типа). Это дало прозаический «Плодослов» (Διηγησις του πωριχολογου)
[708]. Здесь басенно-сатирическое иносказание бьет в глаза. В центре действия — ложный донос, и притом политического свойства. С этим доносом выступает перед престолом царя Айвы Винная Лоза; ее поддерживают лжесвидетели — настоятельница монастыря Маслина, домоправительница Чечевица, монашенка Изюм и др. Донос направлен против высоких чиновников — протосеваста Перца и др.; он поступает на рассмотрение «архонтов и игемонов», к которым присоединяется и варяжская придворная стража. Все же истина торжествует, и над Винной Лозой изрекается приговор: «…Ты будешь повешена на кривой хворостине, тебя будут резать ножи и топтать мужчины, и кровь твою будут они пить и хмелеть от этого, и не будут ведать, что они делают. И будут они болтать несвязные речи, несуразицу, словно бы твоя кровь навела на них порчу, Лоза, и будут они шататься, опираясь о стены, от одних яслей до других; и валяться будут они, как осел валяется на траве, и, падая, заголят себе зады. На улицах будут они спать и гваздаться в грязи, свиньи будут их обнюхивать и котки облизывать; и бороды у них вылезут, и куры будут клевать их, они же и не почуют по причине крови твоей, о, лживая Лоза!» И так проклял царь Айва Лозу, ибо ложь изрекла она перед Его Величеством. Архонты же немедля возгласили: «Многая лета, владыко царю Айва, многая лета! Яко тебе приличествует царство, яко ты един благороден воистину, аминь!»
[709] На этой остро-пародийной фразе и кончается «Плодослов»; хотя «общечеловеческая» тема пьянства трактована в нем весьма выразительно, все же главная его суть — в высмеивании (скорее карнавальном, чем собственно сатирическом) двора и чиновничества, пышных титулов, доносов. Изображение шутовского судебного процесса имеет в низовой литературе различных народов многочисленные параллели (ср. русскую «Повесть о Ерше Ершовиче»).

Пиршественная сцена. Миниатюра из книги Иова Парижской национальной библиотеки. 1368 г.
Византийская пародийная, «потешная» литература с героями-животными создала один по-настоящему интересный памятник. Это — история об Осле, Волке и Лисе; она дошла в двух вариантах — более кратком (393 «политических» стиха) и более пространном (540 таких же стихов, на этот раз с рифмой). Первый извод пародийно озаглавлен: «Житие (
Suvaiapiov) досточтимого Осла»
[710]; если принять во внимание ведущуюся в поэме остро сатирическую игру с набожными формулами и жестами, заглавие оказывается особенно пикантным. Во втором изводе заглавие более нейтрально, причем, вероятно, отражает восхищение переписчика всей вещью: «Превосходное повествование про Осла, Волка и Лису»
[711].
Персонажи этого звериного эпоса и ситуации, в которых они оказываются, прекрасно известны в самых разных литературах мира (высказывались предположения относительно того, что «Житие Осла» — переработка западноевропейских историй о Лисе). Но в рамках этой поэмы все традиционные, «бродячие» положения и образы получают чисто византийский колорит. Лиса и Волк — не просто аллегории хитрости и насилия «вообще»; это мыслимые только в атмосфере вековых традиций «византинизма» елейные ханжи, вкрадчивые фискалы, тихо опутывающие простого человека невидимой сетью страха. Притом же они, как истинные эллины, не чужды претензий на высокую образованность: Лиса с гордостью именует себя единственной ученицей Льва Мудрого (Лев — благодарное «звериное» имя, которое не выводит читателя из животного мира поэмы и в то же время в сочетании с эпитетом «Мудрый» безошибочно вызывает в памяти известного Льва VI).
Средневековый человек, для которого религия была бытом, почти механически пародировал священные формулы, действования, понятия. Византийцы тоже с упоением предавались игре в кощунственное выворачивание обряда (например, было составлено «Последование службы козлорожденному нечестивому евнуху…»)
[712], но это был еще низший уровень игры. Можно было найти новый ход, введя в игру зверей (в обстановке «космической» универсализации церковных понятий так естественно было представить себе, что и у зверей они на языке).
Еще в свое время у Феодора Продрома была юмореска, в которой представлена мышь-начетчица
[713]: попав в лапы к кошке, она принимается сыпать цитатами из покаянных псалмов: «Ах, госпожа моя, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене! Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя! Беззакония моя превзыдоша главу мою…» и т. д. Кошка в ответ на эти выкрикивания предлагает процитировать пророка Осию (6, 7) в новой редакции: «Жратвы хощу, а не жертвы» (в подлиннике игра на том, что слова ελεος — «милость» и ελαιος — «оливковое масло» выговаривались одинаково). У Продрома прием самоцелен; травестируются слова как таковые. Центральный момент «Жития Осла», когда Лиса ведет ханжеские речи с целью безнадежно запутать и погубить Осла, — это и то же, и совсем не то. Старый прием поворачивается по-новому и начинает «работать». Травестия переходит в сатиру: высмеиваются не слова, а жизнь.
Вот сюжет стихотворения в целом. Осел, простодушный и грубый деревенщина, сбежал от жестокого хозяина. К нему приближаются господа — Волк и Лиса, которые предлагают ему вместе с ними отправиться на Восток в поисках фортуны; Ослу с самого начала не по себе в подобном обществе, но он неспособен противостоять такому приглашению. Животные садятся на судно и отправляются в плавание: Волк присваивает себе должность капитана, Лиса — кормчего, а гребет за всех, конечно, Осел. Но вот Лиса сообщает, что ее недобрый сон предвещает кораблекрушение; поэтому всем необходимо всенародно исповедать свои грехи. Волк рассказывает, как он задирал скот, Лиса — как она съела единственного петуха у бедной слепой старухи, а перед этим ластилась к ней, прикидываясь кошкой; затем хищники богомольно каются, дают обеты отправиться на св. Гору (т. е. на Афон), чтобы принять постриг, и затем отпускают друг другу грехи. Очередь исповедоваться доходит до Осла, но здесь обстановка неожиданно меняется: перед Волком появляется Номока нон, чернила, бумага, и он начинает аккуратно записывать показания Осла, который превратился из кающегося в подсудимого. Все отвращение безграмотного простолюдина к мрачной и зловещей таинственности судебной процедуры весьма колоритно выражено в этом разделе. Ослу, собственно, и каяться не в чем, кроме того, что он однажды, невыспавшийся, усталый и голодный, съел листочек хозяйского салата, за что тогда же сполна принял кару. Рассказ об этой каре выразителен и энергичен:
«На горе мне хозяин мой немедля все приметил
И тотчас же без жалости кнутом меня приветил.
Огрел по шее он меня, по уху угодил мне,
Мой зад злосчастный ободрал и все бока отбил мне.
Мне это было невтерпеж, и верх взяла природа:
Я гулко звуки испускал из заднего прохода. —
Ах, господа любезные, простите это слово!
Увы, судьба моя, судьба была ко мне сурова…»
[714].
Приговор изрекается по всей строгости законов (бродячий сюжет, хорошо известный русскому читателю по обработке Крылова в басне «Мор зверей»!):
«Какой преступник ты, Осел, развратом обуянный,
Властей и веры гнусный враг, разбойник окаянный!
Сожрать без уксуса салат! Какое преступленье!
И как доселе наш корабль избегнул потопленья?
И мы решим твою судьбу законным приговором:
Смотри, вот здесь закон гласит, что делать должно с вором.
Мы по статье седьмой вполне законно поступаем:
Тебе выкалываем глаз и руку отрубаем.
А по двенадцатой статье ты должен быть повешен,
И это все претерпишь ты, затем что очень грешен»
[715].
На этом и должна была бы кончиться жизнь Осла (как это происходит в старинном басенном рассказе, использованном у Крылова). Но дух народной сказки требует счастливого конца и победы простодушного героя. Осел принимается уверять своих судей и палачей, что его заднее копыто наделено магическим даром; тот, кто посмотрит в него, укрепившись предварительно молитвой, получит необычайные силы. Следует новая травестия священной ситуации — Волк три часа стоит на коленях и твердит «Отче наш». Затем Осел ударом пресловутого заднего копыта сбивает Волка за борт, а перепуганная Лиса сама спрыгивает туда же. Поэма кончается торжественным похвальным словом «философу» Ослу, благодаря своей мудрости одолевшему врагов. Для большей иронии похвала вложена в уста Лисы.
Византийскому фольклору суждено было надолго пережить крушение византийской цивилизации и впоследствии перейти в новогреческую народную поэзию. Традиция греческой народной литературы также оказалась достаточно устойчивой и еще на грани XVI в. дала такого поэта, как Сахликис с Крита
[716], мастер грубого и плоского, но колоритного юмора. Кстати сказать, Крит вообще играет на протяжении XVI и XVII вв. роль своего рода заповедника греческой словесности, в то же время испытывая сильное влияние Италии; скрещивание двух традиций отчетливо прослеживается в творчестве грекоязычного критского стихотворца XVI в. с итальянской фамилией Корнаро
[717].
Но «высокая литература» была более хрупким растением; последние сочинения византийской прозы большого стиля — это исторические описания катастрофы 1453 г. Здесь следует назвать прежде всего «Истории» (в 10 книгах) Лаоника Халкокондила
[718], охватывающие период 1298–1463 гг. Этот автор, время жизни которого приходится на трагический для империи период (середина XV в.) (попытки более точно определить даты рождения и смерти спорны)
[719], — последний крупный представитель палеологовского классицизма, который в дальнейшем имел будущее лишь в ином культурном кругу, на западной почве. Глубоко символично, что Халкокондил — уроженец Афин; это дает ему возможность начать свой труд гордой фразой, написанной «под Фукидида»: «В этой истории записано то, что видел и слышал в своей жизни Лаоник Афинянин…»
[720]. Дикция Лаоника отмечена стилизаторством, которое иногда заходит так далеко, что мы встречаем у него грамматическую форму двойственного числа, вышедшую из живого употребления еще в первые века нашей эры. Он продолжает перекрещивать русских — в сарматов, сербов — в триваллов, болгар — в мидян, татар — в скифов и т. п. И все же в сочинении Лаоника живет пафос, несводимый к академической игре
[721]. То, о чем он пишет, — великое бедствие его народа: «…Я говорю о гибели, постигшей державу эллинов, и о том, как турки забрали силу, больше которой и не бывало…»
[722]. В этих условиях подчеркнутый пиетет к традициям греческого языка, которому Халкокондил посвящает настоящее похвальное слово, утверждая, что «…этот язык повсюду и всегда был наипаче других прославлен и в чести, и еще сегодня это общий язык чуть ли не для всех…»
[723], — это патриотический акт, выражение надежды на то, что «держава эллинов» еще возродится и будет управляться «эллинским царем»
[724]. Конечно, Лаоник говорит об «эллинах», а не о «ромеях»; в годы катастрофы он, как и его старший современник Плифон, через века византийской истории обращается к исконному греческому прошлому, воспринимая его именно как национальное прошлое, — черта, прослеживающаяся еще у публицистов никейской эпохи. В западноевропейском гуманизме линия «возрождения классической древности» и линия строительства национальных культур дополняли друг друга, но ни в какой мере не совпадали (некоторым исключением была, конечно, Италия, где в XV в. воинственно противопоставляли «своего» Вергилия «испанцу» Марциалу)
[725]. Только для греков слава Гомера и Афин совпадала с пафосом патриотизма; по иронии судьбы именно они не могли реализовать свою национальную идею, и Лаонику оставалось жить прошлым и будущим — настоящего у него и ему подобных не было.
Книжный классицизм проявляется у другого историка этой эпохи, Критовула с острова Имвроса, почти в таких же формах, как у Лаоника. И он воспроизводит фукидидовские схемы изложения (временами прямо вставляя в свой текст выдержки из Фукидида). Но живая душа антикизирующего пафоса Халкондила здесь как бы вынута; Критовул — глашатай не патриотизма, но коллаборационизма, и прославляет он не побежденных, а победителей. Однако, подобно тому, как некогда Иосиф Флавий сумел сочетать в себе придворного историка Флавиев и поклонника традиций иудейского народа, так и Критовул, повторивший его ситуацию, при каждом удобном случае демонстрирует свою привязанность к эллинизму. Но это приобретает гротескные формы: османы оказываются у Критовула отдаленными потомками Персея и Даная, а стало быть — исконными эллинами; Мехмед II ведет себя как просвещеннейший «филэллин» и в то же время выступает в своей войне с эллинами-«ахейцами» не больше, не меньше как мститель за Трою. В целом Критовул — прототип образованного «фанариота», способного только тешить себя надеждой, что завоеватель окажется не слишком грубым.
Гибели Константинополя посвятил монодию (тип риторической декламации) трапезундский ритор Иоанн Евгеник, автор изысканных «Описаний». Его монодия пересыпана цитатами из Гомера и Фукидида (которому вообще везло в эту эпоху), уснащена риторическими фигурами, что не мешает ей быть прочувствованной и выразительной. Интересно, что «Монодия на взятие Константинополя» была почти немедленно (не позже 60-х годов XV в.) введена в оборот русского читателя — случай редчайший во всей истории литературных связей той эпохи.
Глава 17
Архитектура и живопись
(Елена Эммануиловна Липшиц)
Распад целостной, централизованной империи после 1204 г. имел огромные последствия для последующего развития византийской культуры. Вклинившиеся латинские владения, постоянное и активное участие в экономической и политической жизни того времени Генуи и Венеции, а также Сербии наложили неизгладимый отпечаток на культуру Византии.
Прежнее неоспоримое главенство Константинополя в культуре империи было подорвано. После латинского завоевания видные деятели культуры живут в Никее. Особую роль в эту эпоху играла Фессалоника, Мистра — столица Морейского государства; большое значение имел Афон. По-видимому, немало нового было создано и в менее известном нам Трапезунде.
Тяжелое экономическое и политическое положение империи, которое характерно для всего последнего периода ее существования, казалось бы, не только не должно было способствовать успешному развитию искусства, но скорее могло бы привести если не к упадку, то во всяком случае к застою. Тем не менее именно в последний период искусство продолжало необычайно прогрессивно развиваться. В памятниках византийского искусства XIII–XV вв. впервые проявились черты, предвосхитившие тот великий переворот, который нашел свое наиболее яркое воплощение в культуре итальянского Возрождения. Хотя византийское искусство и в эту эпоху не утратило присущего ему спиритуализма, однако в памятниках той поры впервые ясно наметился поворот в сторону более живого и свободного понимания исскуства.
В научной литературе последних лет был высказан взгляд, согласно которому творческий расцвет, наблюдавшийся в последние века византийской культуры, не распространялся на архитектуру и ограничился лишь областью живописи. Так, архитектура, относящаяся ко времени правления династии Палеологов, рассматривается некоторыми исследователями не как начало новой, качественно иной фазы в развитии византийского зодчества, существенно отличающейся и по своим задачам и их решениям от предшествующей, а лишь как непосредственное продолжение архитектуры XI–XII вв. Формы архитектуры последнего периода, по мнению этих исследователей, только развивают то, что уже было найдено в XII столетии, а памятникам XIII–XV вв. свойственна лишь дальнейшая дифференциация архитектурного стиля, связанная с развитием этнических особенностей в разных районах
[730].
Решить этот важный вопрос крайне трудно из-за отсутствия обстоятельного и обобщающего рассмотрения в литературе всех собранных материалов. Лучше всего изучены памятники Греции и соседних с Византией славянских государств. Искусство Болгарии и Сербии, хотя и было связано с византийским, носило, однако, совершенно своеобразный и более независимый от канонических традиций характер. Поэтому использование этих материалов при характеристике византийского искусства требует большой осторожности.
Вместе с тем необходимо сказать, что взгляд на развитие византийской архитектуры последнего периода как на простое продолжение предшествующей требует серьезных коррективов. Если в провинциальных центрах, даже таких значительных, как Мистра на Пелопоннесе, в области архитектурной композиции было создано не очень много нового, то этого никак нельзя сказать о константинопольской школе архитектуры. В поздневизантийском Константинополе наблюдается ряд новых архитектурных решений
[731].
Обращают на себя внимание также и необычайные масштабы строительства. Количество памятников, построенных в те времена, чрезвычайно велико, несмотря на экономические затруднения, которые переживало тогда византийское общество.
Если в Константинополе новые архитектурные вкусы нашли свое воплощение в зданиях, подвергшихся в те времена перестройке и перепланировке, то в провинции дело обстояло совершенно иначе. В Греции было сооружено множество новых памятников зодчества — как церковного, так и гражданского. Наряду с Мистрой, где за два с половиной столетия был выстроен целый город, поражающий разнообразием архитектурного облика отдельных зданий, живописно расположенных с учетом особенностей рельефа местности, немало появилось нового и в других районах. Большое число остатков архитектурных памятников сохранилось в Северной Греции, в Македонии и ее главном городе — Фессалонике. В меньшей степени известны памятники архитектуры того времени во Фракии.

Свод северной половины внутреннего Нартекса. Кахриэ-Джами. XIV в.
Несмотря на господство крестовокупольного типа зданий, явившегося высшим достижением зодчества предшествующего периода, в XIII–XV вв. встречается много купольных базилик. Таковы, например, церкви Софии, Хрисокефалос, Евгения в Трапезунде. Здания подобных же форм сооружались и в Греции — в Мистре и в столице Эпирского царства — Арте. Нередко в первом этаже план здания строился в форме греческого равноконечного креста. Центральный купол воздвигался на основании, образованном четырьмя коробовыми сводами. По углам креста ставились четыре малых купола. Иногда возводились многоэтажные колокольни, например в Трапезунде и Мистре, напоминающие аналогичные сооружения на Западе.
Как правило, строившиеся в этот период здания невелики по объему. Исключительно большое внимание зодчие уделяли наружному оформлению архитектурных памятников. Яркими образцами этого являются храмы Греции и Македонии. Так, чрезвычайно богата наружная отделка в церкви св. Апостолов в Фессалонике. Вся восточная часть храма украшена снаружи сплошным ковром барельефов. Чередование разнообразных поясов геометрического орнамента, глухих аркад, неглубоких многократно профилированных нишек и полуколонок с капителями придают апсидальной части здания и куполам с их высокими гранеными барабанами необычайно живописный и нарядный вид.
Подобное же внимание к наружному виду и богатство замысла обнаруживают церкви Мистры. В храме Пантанассы горизонтальные линии и украшающая здание наружная легкая колоннада напоминают дворцовые сооружения Италии того времени. Горизонтальная ось подчеркнута сплошными рядами орнаментации зданий фестонами, опоясывающими храм, следуя всем его изгибам над глухой колоннадой первого этажа. Памятник великолепно поставлен на фоне поднимающейся возвышенности.
Архитектурные памятники того времени, как об этом свидетельствует их богатое внешнее оформление, подобно произведениям скульптуры, были рассчитаны в первую очередь на обозрение извне. Небольшие размеры храмов и их значительное количество указывают, кроме того, на стремление строителей создать уютные помещения, предназначенные для небольшого круга молящихся.
О характере оформления внутреннего пространства дает, пожалуй, наиболее яркое представление один из важнейших памятников архитектуры Константинополя — церковь монастыря Хоры, превращенная при турецком владычестве в мечеть Кахриэ-Джами. Несмотря на многократные перестройки, которым храм подвергался еще в византийские времена, он в своем окончательном виде является цельным и законченным архитектурным памятником поздней Византии
[732]. Первоначальный его план, восходящий, возможно, еще к VI столетию
[733], был использован позднейшими зодчими для создания архитектурной композиции, отвечающей вкусам поздневизантийского общества.
При ознакомлении с планом здания бросается в глаза асимметрия его построения, замкнутость и интимность отдельных уютных помещений, как бы намеренно созданных для уединения. Как вся композиция плана, так и тонкие градации света и тени, предусмотренные строителями при распределении источников света, придают этому монастырскому храму черты, которые ближе к западноевропейской дворцовой архитектуре, чем к памятникам византийского церковного зодчества. Центральное помещение невелико по своим размерам. Не только главная часть здания, но и отдельные боковые приделы были рассчитаны на одновременное участие в церковной службе отдельных, разобщенных стенами и коридорами, групп молящихся. Если уже ранее, в усыпальнице Палеологов — церкви монастыря Липса в Константинополе, были намечены эти тенденции разъединения отдельных частей храма, то в монастырской церкви Хоры они нашли свое полное воплощение.
Храм монастыря Хоры получил широкую известность в науке не только как памятник, замечательный своими архитектурными достоинствами, но и как яркое свидетельство высоких достижений византийских художников и мозаичистов в эту последнюю эпоху существования империи.
Великолепное внутреннее убранство храма, сохранившееся и поныне, связано с именем выдающегося деятеля времени первых Палеологов — писателя и ученого Феодора Метохита» Метохит был ктитором храма Спасителя в Хоре, и именно при нем и по его заказам здание было заново украшено лучшими художниками того времени. Коленопреклоненный Феодор Метохит представлен художником в мозаике над императорской дверью. Он подносит Христу Спасителю модель церкви Хоры.
В произведениях Метохита имеется поэтическое описание убранства храма Хоры. Он восхваляет «прекрасные притворы храма, прелестные своей красотой», рассказывает о «сверкающих внизу и вокруг, хорошо пригнанных друг к другу кусках полированного мрамора», о «сияющих неописуемой красотой блестящих камешках (мозаики —
Е. Л.) вверху»
[734].
Действительно, мозаики монастыря Хоры даже сейчас поражают зрителя своим изяществом, мягкостью переливов красок, совершенством исполнения, прекрасным чувством формы и композиции, являясь блистательным свидетельством высокой одаренности художников, создавших этот ансамбль. Именно мозаики монастырского храма Хоры, которые были опубликованы 50 лет назад Ф. И. Шмитом в издании Русского археологического института в Константинополе, положили начало продолжающейся еще и поныне дискуссии о характере искусства Византии на последнем этапе ее жизни. В связи с этим памятником византийской живописи широко дебатируется вопрос о так наз. «византийском Ренессансе», явившемся провозвестником великого переворота, который произошел в Западной Европе в эпоху Возрождения. Новые открытия фресковых росписей храма дополнили данные о его живописном убранстве свежими материалами, которые еще более полно свидетельствуют о значении этого памятника живописи XIV в. В настоящее время можно считать доказанным, что истоки стиля последней фазы византийского искусства следует искать в XIII в. Вместе с этим выводом лишается своего основания гипотеза Д. В. Айналова, приписывающая происхождение нового стиля влиянию Запада
[735].
Открытие мозаичной композиции Деисуса в церкви Софии в Константинополе (XII в.), в которой уже намечены черты,
родственные искусству XIV в., и в особенности изучение памятников миниатюры, дают возможность проследить предысторию мозаик церкви Хоры. Передовые художники конца XIII в. шли по тому же пути, по которому в XIV в. с таким успехом продолжали идти создатели ансамбля Хоры.

Церковь Марии Паммакаристы. Константинополь. XIII в.
Наиболее отчетливо отмеченные выше новые черты стиля поздневизантийской живописи выступают в миниатюрах, которые относятся к концу XIII столетия. Таковы, например, миниатюры Евангелия № 5 Ивирского монастыря. В несколько иной форме ведут поиски нового художественного языка миниатюристы, иллюстрировавшие Евангелие 1285 г. из собрания Британского музея, а также лист рукописи № 1713, датируемый примерно 1280 г., из собрания Стокгольмского музея.
В целом живопись той поры на протяжении своего более чем двухвекового существования выработала единый стиль, первоначально более живописный, позднее более графичный. Влияние этого искусства было очень значительным не только во всех уголках византийского мира, но и за его пределами. Если в искусстве более раннего времени господствовал плоскостный принцип композиционного построения, то в памятниках пелеологовского времени явно ощущается тенденция к объемности. Эта тенденция сказывается в многоплановости построения сцен с использованием первого плана как своеобразной сценической площадки, имею щей сложный архитектурный задник с переброшенными от одного здания к другому драпировками. Действующие лица, выдвинутые на передний план, изображаются в порывистом движении. Позы их разнообразны. Одежды с непринужденно падающими складками свободно облекают фигуры и подчеркивают их движения. Диагонально уходящие вглубь причудливые архитектурные сооружения как бы вторят мотивам переднего плана и придают им дополнительную впечатляющую силу. Пространственное построение композиции приобретает в византийской живописи более целостный характер, чем прежде. Вместе с тем гораздо свободнее и объемнее строятся многофигурные сцены, широко используется красочная лепка, усиливающая пластическую выразительность. Краски мягкие, богатые оттенками. Сцены приобретают бол ее свободный и живой характер, значительно расширяется число сюжетов за счет включения наиболее жизненных, заимствованных часто из апокрифической литературы. Отчетливо намечается стремление к жанровости, к передаче ситуаций, способных воздействовать на эмоциональное восприятие зрителя.

Кахриэ-Джами. Продольный разрез
Вместе с тем даже на этом этапе своего развития византийское искусство остается по существу спиритуалистическим. Ощущению нереальности изображения способствует не только некоторая плоскостность и условность построения, но и отсутствие единства точек зрения. Отдельные предметы, здания, части фона, аксессуары показаны каждый по-своему. Художники умело используют множественность точек зрения для композиционных целей.
Все эти черты в полной мере выражены в мозаиках и фресках церкви Хоры. Сцены из жизни Христа и богоматери иллюстрируют темы, почерпнутые в своем большинстве из текста священного писания и апокрифических евангелий. Эти сюжеты дали художникам благодатную возможность для передачи широкой гаммы движений, ситуаций и чувств. Драматизм и мягкий юмор, жестокость и нежность переданы в этих мозаиках с равной мерой совершенства.
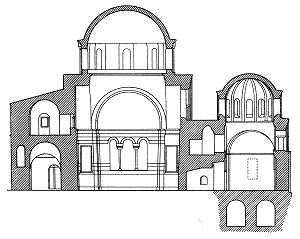
Кахриэ-Джами. Поперечный разрез
Композиция, как правило, проста. В некоторых случаях подмеченные художником жизненные детали придают ей жанровый характер. Такова, например, сцена переписи. Слева сидит императорский сановник, за спиной которого находится оруженосец. Справа подходит Иосиф с сопровождающей его группой людей. В центре композиции — Мария, стоящая перед чиновником, делающим записи в свитке. Рядом с чиновником — сопровождающий его воин в полном богатом вооружении. Изящные и удлиненные фигуры действующих лиц показаны на фоне архитектурного ландшафта. Левая и правая группы уравновешивают друг друга. Действие разыгрывается на переднем плане, ограниченном сзади стенкой, по обеим сторонам которой возвышаются причудливые и легкие архитектурные сооружения, напоминающие здания, характерные для эллинистической живописи. Архитектурные сооружения повторяют и подчеркивают ритмическую композицию переднего плана. Каждое из этих сооружений передано в обратной перспективе. В построении отражается множественность точек зрения. Таким образом, реалистическая сценка пронизана своеобразным ритмом, напоминающим о ее легендарном, нереальном характере.

Исцеление Сухорукого. Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Подобные же черты наблюдаются и в других композициях. С необычайной живостью изображена не имеющая прототипа в более ранней иконографии сцена ласкания ребенка Марии ее родителями — Иоакимом и Анной. Чрезвычайно выразительно, с тонким юмором дана поза Марии и в сцене, где к ней обращается с упреками Иосиф.
Высокое мастерство композиции, при котором не только люди, но и весь архитектурный ландшафт, все детали используются для выделения центральной сцены, легкость и стремительность движений, мягкость красочной гаммы придают неповторимое очарование этому памятнику поздневизантийского мозаичного искусства. Не менее высоки по своему качеству и фресковые росписи, украшающие парэкклесион храма. Среди них обращает на себя внимание трактовка живописцем часто изображаемого в византийской живописи сюжета — сошествия Христа во ад и воскресения (анастасис). Не отступая от условностей установленной иконографии, живописец сумел передать стремительное, энергичное движение центральной фигуры Христа во славе, вытягивающего за руки из разбитых саркофагов Адама и Еву, разнообразие поз групп людей на фоне горного ландшафта, богатство красок их одежд, в особенности оттенки одежды Христа. Парящий на одной из фресок ангел, разворачивающий свиток небес, показан в стремительном полете. Великолепны и выразительны образы отдельных святых, раскрытые в этом приделе храма.

Обручение Марии с Иосифом. Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Возможно, к той же школе живописи относятся и некоторые другие памятники столичной живописи, например роспись купольной мозаики в нынешней мечети Фетиэ-Джами с изображением Пантократора и пророков, полуфигура богоматери в Килиссе-Джами и т. д.
Весьма вероятно, в выработке нового художественного языка сыграли роль художники, создавшие уже в более раннее время великолепные росписи в храмах Македонии, Болгарии и Сербии. Как бы то ни было, передовое течение в искусстве Византии не ограничилось одной столичной школой. Наряду с Константинополем на видное место выдвигаются живописная школа, работавшая в Мистре, школы, трудившиеся в Фессалонике, на Афоне. Византийское искусство последней поры нашло широкое отражение и за пределами Византии. Византийские художники творили там в сотрудничестве с местными мастерами, как, например, в России, Грузии, Армении, Болгарии и Сербии.
Уже в XIII столетии в Македонии были созданы памятники живописи в Тресковице (близ Прилепа) и в Мельнике. К XIV в. особенно значительную роль стала играть фессалоникская школа живописи. Мозаика, изображающая вход в Иерусалим в церкви Апостолов в Фессалонике, полностью выполнена в новом, прогрессивном стиле, последней поры византийского искусства.
Построение композиции носит пространственный характер. Многочисленные группы встречающих и сопровождающих Христа людей поражают разнообразием движений и лиц, скульптурностью трактовки. Гористый ландшафт на заднем плане мозаики типичен для памятников искусства того времени. Справа изображен город с украшающими его главными архитектурными памятниками. Действие развертывается среди горного пейзажа. Отроги горы используются художником для построения композиции по диагонали. Фигура Христа, показанная на фоне горы, из-зa которой выходит сопровождающая его группа учеников, дана в сложном повороте, выявляющем ее объемный характер. На переднем плане, отделенном отрогом горы слева, уравновешивая фигуру Христа, изображена выходящая из города процессия. Впереди нее дети разбрасывают одежды. Трактовка сцены в целом носит весьма живой характер, хотя художник и здесь не выходит за пределы некоторой условности, свойственной византийскому спиритуалистическому искусству.

Упреки. Кахриэ-Джами. Мозаика XIV в.
Важнейшим центром развития византийского искусства того времени была Мистра с ее большим числом храмов. Многочисленные фресковые росписи, сохранившиеся в храмах Мистры, дают яркое представление о высоком искусстве работавших там мастеров живописи. Трактовка сюжетов содержит много нового и в стиле, и в иконографии. Памятникам Мистры свойственно не в меньшей степени, чем памятникам Константинополя и Фессалоники, стремление к жанровости, объемности, к созданию композиций, полных движения.
В храмах XIV и XV вв. (Митрополия, Вронтохион, Перивлепта, Пантанасса) многоплановость композиций является правилом. Фигуры действующих лиц полны стремительного движения. Облекающие их одежды часто разлетаются, следуя движению фигур. Таковы, например, изображения Иоакима и Анны в сцене встречи у Золотых ворот в церкви Перивлепты. Показанные на заднем плане две другие фигуры, выполненные в меньшем масштабе, подчеркивают пространственность фрески и как бы вторят главной теме.

Благовещение. Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Мастерство художников Мистры нашло свое проявление в богатстве палитры. Сияющие и переливчатые краски в сцене божественной литургии в церкви Перивлепты в Мистре (начало XV в.) прекрасно гармонируют с общей ритмикой композиции, создавая впечатление необыкновенной легкости и парения движущихся фигур ангелов. В других фресках ярко воплощена мастерская лепка лиц, скульптурность построения фигуры (например, изображение Иоанна Златоуста в той же церкви). Художники Мистры, подобно своим собратьям, украсившим фресками церковь Хоры в Константинополе, умели великолепно передавать стремительность полета (например, в изображениях полета ангелов в церквах Вронтохион и Перивлепта). В часто встречающихся групповых сценах обращает на себя внимание разнообразие жестов, яркость портретных характеристик отдельных фигур, свободное построение групп.
Развитие монументальной живописи являлось лишь одной, хотя л важнейшей, из сторон развития искусств в XIII–XV вв. В этот период было создано немало выдающихся памятников иконописи. На первых порах иконопись отдавала дань тем же живописным тенденциям, которые были тогда характерны и для монументальной живописи. С конца XIV в. в иконописи появляются новые черты. Вырабатывается стиль линейного графического письма, который отразился в ряде памятников, например в иконе Успения Государственного Эрмитажа и в иконе Благовещения Третьяковской галереи. Тонкость письма сочетается в этих памятниках с большой строгостью изображения, величавостью, красотой и глубиной красок. Именно этими чертами привлекают известная икона Христа-Пантократора (ок. 1363 г.) и икона «Сошествие во ад».

Избиение младенцев Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Подобно художникам, расписывавшим церковные здания, миниатюристы также отдали дань стремлению к объемности, движению, реализму. Это отличает миниатюры последней эпохи византийского искусства от более ранних. Замечательные миниатюры парижской рукописи Иоанна Кантакузина с его портретом и превосходно исполненной сценой Преображения получили широкую известность. Вряд ли можно найти во всем византийском искусстве более впечатляющую передачу стремительности падения, чем та, которую мы находим в передаче фигур апостолов, скатывающихся с крутизны при виде Христа. К числу произведений высокого искусства миниатюры относятся и выполненные в более графичной манере миниатюры рукописи Гиппократа, хранящейся в Парижской национальной библиотеке (№ 2144). Тонкость линейного письма нашла свое яркое отражение в портрете великого дуки Алексея Апокавка на одном из листов этой рукописи.
Таким образом, последний этап в развитии византийского искусства, несмотря на сковывавшую художников традиционную схему, был богат и разнообразен. Наиболее передовые художники порою близко подходили к постановке проблем, аналогичных тем, которые ставили художники современной им Италии.
Глава 18
Прикладное искусство
(Алиса Владимировна Банк)
Последние века существования Византии не были благоприятными для развития многих видов прикладного искусства — прежде всего из-за экономического кризиса и обеднения империи. Изготовление шелковых тканей, драгоценных изделий из золота и слоновой кости, перегородчатых эмалей, обработка цветного камня почти замирают. Даже на императорском столе оловянная и глиняная посуда вытеснила золотую и серебряную.
Накануне завоевания турками Константинополя Константин XI отдал распоряжение об изъятии изо всех церквей драгоценных предметов и превращения их в монеты для уплаты жалования защитникам города.
Вторжение завоевателей в «царственный град» привело к почти полному разграблению и исчезновению как в столице, так и в других центрах произведений прикладного искусства. Они сохранились кое-где в удаленных монастырских сокровищницах, а также в Италии и России, давая лишь частичное представление об уровне художественного мастерства. Пожалуй, больше данных можно почерпнуть из письменных источников, свидетельствующих о богатом убранстве дворцов знати (например, таких деятелей, как великий логофет Феодор Метохит), сокровищницы храма св. Софии в Константинополе и некоторых других. Нередко упоминаются драгоценные, шитые золотом, серебром и обнизанные жемчугом облачения не только духовенства, но и императоров. Такие одежды можно видеть на ряде миниатюр или на фресковых росписях, где представлены сербские правители, одетые по византийскому образцу. Византийское шитье лучше всего известно для позднего периода, и, по-видимому, именно в это время оно и получило особое развитие. К XIV–XV вв. относятся также первые дошедшие до нас изделия с тонкой резьбой по дереву, в большом числе воспроизводившиеся на Афоне в послевизантийское время.
Те сдвиги, которые произошли в конце XIII — начале XIV в. в различных отраслях византийской культуры (в литературе, философии, живописи), отразились и в некоторых видах прикладного искусства. Чаще, чем ранее, встречаются портретные изображения, свидетельствующие о большем интересе к индивидуальности. Богатая красочная гамма с применением переходных тонов, подобно живописи, характерна и для шитья.
Сохранившиеся образцы византийского шитья украшают исключительно предметы культового назначения. Некоторые из них имеют надписи, указывающие имя вкладчиков — более или менее известных исторических лиц; на отдельных предметах указана точная дата, многие определяются по иконографическим и стилистическим признакам.
Целая серия церковных покровов, так называемых «плащаниц», представляет лежащую фигуру умершего Христа, оплакиваемого ангелами. Этот патетический сюжет был, несомненно, созвучен мистическим настроениям эпохи. Древнейшая дошедшая до нас плащаница хранилась до 1916 г. в церкви Климента в Охриде. В вышитой на ней надписи упоминается имя Андроника Палеолога, и ее склонны датировать концом XIII в. Число представленных на ней фигур невелико; они вышиты по малиновому шелку золотыми и серебряными нитями и разноцветными шелками. На более поздних образцах композиция усложняется, число действующих лиц возрастает, усиливается драматическое напряжение сцены. Изумительной тонкостью работы и необыкновенным изяществом рисунка отличается плащаница из церкви Панагуди в Фессалонике (XIV в.), ныне хранящаяся в Византийском музее в Афинах. По сторонам центральной сцены, представляющей мертвого Христа, окруженного ангелами, херувимами и серафимами, дана разделенная на две части сцена «Причащения апостолов».

Оклад иконы Владимирской Богоматери. Золото. XV в. Государственная Оружейная палата
Фигуры переданы в стремительном движении, они как бы переговариваются друг с другом, их лица выразительны. Красочная гамма богата, характерны цветные рефлексы, которыми отмечены одежды, в духе живописи палеологовского времени.
Такого рода вышитые покровы получили широкое распространение на Балканах и в Древней Руси, где шитье достигло особо высокого мастерства. Полное соответствие византийской живописи XIV–XV вв. представляет шитье нескольких дошедших до нас церковных облачений: это, в первую очередь, так называемая «далматика Карла Великого» (хранящаяся в сокровищнице храма св. Петра в Риме), а также епитрахиль и два саккоса, связанные с именем митрополита Фотия (в Оружейной палате в Москве). Заполняющая почти всю поверхность далматики сцена Преображения полна такого драматического напряжения, ее фигуры даны в столь порывистом движении, в нескольких планах, в живых поворотах, колорит столь тонок и гармоничен, что высокая одаренность изготовлявших этот предмет мастеров не подлежит сомнению. Единство палеологовского стиля, сближающее шитье с фресковыми росписями, проявляется и в других упомянутых выше произведениях. Быть может, они (за исключением епитрахили Фотия) действительно относятся к более позднему времени, чем далматика. На это, возможно, указывает большая раздробленность поверхности на множество сцен, ее сплошное заполнение бесчисленным количеством фигур, свидетельствующее как бы о боязни пустого пространства. Такого рода качества присущи и стенописям XV в.

«Саккос Фотия» с изображением в нижней части императора Иоанна VIII Палеолога и его жены, князя Василия I Дмитриевича и его жены. XV в. Государственная Оружейная палата
Особенно интересны имеющиеся на «Большом» саккосе Фотия портретные изображения: здесь представлены московский князь Василий Дмитриевич, его жена Софья Витовтовна, их дочь Анна Васильевна и ее муж Иоанн Палеолог. Имеется также портрет Фотия. Около русской княжеской пары — сопроводительные русские надписи, тогда как около всех других изображений — греческие. На первом плане представлена византийская чета; окружающие их головы нимбы также подчеркивают первостепенное значение, которое в глазах мастера имели византийские правители.

Так называемая «далматика Карла Великого». XV в. Сокровищница собора св. Петра. Рим
Портреты на саккосе Фотия дают некоторое представление о не дошедших до нас светских памятниках, прежде всего — одеждах. Осознание политического значения парадных одежд получило свое яркое отражение в рассказе Георгия Пахимера о Михаиле Палеологе, поучавшем своего сына Иоанна. Иоанн выехал однажды на охоту в вышитой золотом одежде и на обратном пути встретил отца. Михаил сказал сыну, что в его поступке нет ничего хорошего для ромеев, так как Иоанн расточает их достояние на развлечения, не приносящие никакой пользы. Император отметил, что шитые золотом «сирские» ткани сотканы из крови ромеев и их нужно использовать только в тех случаях, когда это выгодно для ромеев. Таким случаем, по его словам, является прием иностранных послов — тогда дорогие облачения императоров помогают создать, при иноземных дворах представление о богатстве ромеев
[736].
Именно такого характера драгоценные одежды обычно представлены на различного рода портретных изображениях. Так, на полях серебряного оклада иконы Богоматери (из собрания Третьяковской галереи), относящегося, скорее всего, к концу XIII или первым годам XIV в., представлены сын известного хрониста Георгия Акрополита — Константин, носивший, подобно отцу, сан великого логофета, и его жена — Мария Комнина, из рода Торников. В этих фигурах, молитвенно обращенных к центральному образу, заметно стремление мастера придать лицам византийских вельмож индивидуальные черты. Вместе с тем тщательно переданы их одежды и головные уборы. Установлено полное соответствие изображения одежды этих вельмож описаниям Кодина в «Книге о чинах». Характерен длинный кафтан Константина, застегнутый до самого низа пуговицами, невысокая шапочка, на которой укреплена металлическая пластика с изображением Христа (подобная той, которая венчает голову Иоанна примикирия на иконе Христа от 1363 г.); за поясом с пряжкой заткнут платок. Мягкими складками спадают двойные парчовые одежды Марии, на ее голове зубчатая корона с подвесками, украшенная камнями и жемчугом. Тонко передан чеканом довольно мелкий рисунок тканей, представляющий листья плюща или передающий плетение. На других портретных изображениях этого времени различимы традиционные византийские шелка с геральдическими изображениями птиц и животных. В кругах (как на портрете Апокавка в рукописи от 1342 г.) изображен характерный для того времени герб Палеологов в виде двухглавых орлов.

Моление Анны. Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Много реалий можно найти на различного рода портретных изображениях, которые украшают рукопись 1400 г., хранящуюся в Бодлейанской библиотеке (№ 35): наряду со светскими портретами здесь имеются и женские монашеские. Мужские монашеские костюмы переданы в другой рукописи, в сцене, на которой представлен Иоанн Кантакузин, председательствующий на соборе. Неизменно привлекает к себе внимание необыкновенной формы головной убор Феодора Метохита в ктиторской мозаике Кахриэ-Джами: этот огромный конусовидный полосатый колпак напоминает восточные тюрбаны. Никифор Григора, дивясь новым модам, распространившимся в его время, отмечает заимствования как от латинян, так и от восточных народов. Особое внимание он обращает на своеобразие головных уборов, для изготовления которых служили, кстати говоря, драгоценные сирийские материи
[737].
До нас дошел единственный в своем роде конусообразный шлем, который датируется концом XIII в. (Оружейная палата): он выкован из листа железа и украшен золотой и серебряной насечкой. Всю поверхность его верхней части заполняет тонкий стилизованный растительный орнамент, а по низу даны к тому же полуфигры Христа, богоматери и других священных персонажей. Техника убранства этого шлема перекликается с той, которая применялась для украшения бронзовых дверей XI в., свидетельствуя об устойчивости приемов. Эти приемы до известной степени вырождаются в украшении бронзовых дверей Ватопедского собора на Афоне, предположительно работы константинопольских мастерских конца XIV — начала XV в. Помимо украшающих ее литых пластин с изображением Благовещенья, вся поверхность дверей, разбитая на множество прямоугольников, покрыта резьбой; орнаментальные растительные мотивы чередуются с многократно представленными двухглавыми орлами и фантастическими фигурами василисков. Резьба была заполнена не золотом или серебром, а красной мастикой, что, по-видимому, было также следствием обеднения. В характере орнаментации замечается некоторое влияние Запада.

Раздача пряжи. Кахриэ-Джами. Мозаика. XIV в.
Влияние Запада, в частности готики, проявилось и в убранстве выточенной из яшмы вазы, имеющей оправу из позолоченного серебра. Это бесспорный вклад Мануила II Палеолога в тот же монастырь Ватопеда: на поддоне, среди погрудных изображений святителей в медальонах (данных в характерных для того времени живых поворотах), расположена монограмма Мануила. Ажурные розетки и другие орнаментальные элементы встречаются в окладах икон того времени; фигурки фантастических животных напоминают орнаментацию рукописей и резьбу по дереву, но необычны ручки сосуда в виде изогнутых драконов, близкие к готическим формам.
Начиная с конца XIII в. иконы особенно часто покрываются серебряными, значительно реже золотыми окладами, почти скрывающими живопись. Сохранились лишь единичные образцы (лучше известные по описаниям современников и инвентарям сокровищниц) окладов, украшенных драгоценными камнями и жемчугом. На множестве серебряных окладов, помимо чеканных изображений фигур святых и сцен, постоянно встречается ажурный прорезной орнамент; характерны рельефные выступающие розетки. Фигурные изображения толкуются по-новому, отражая общее направление так называемого палеологовского стиля. Так, на золотой иконе (из собрания Эрмитажа) изображена богоматерь, к щеке которой прильнул младенец в излюбленном для этой эпохи лирическом типе «Умиление»; трон дан в необычном повороте, как бы перспективно (конец XIII в.).

Икона Богоматери с младенцем. Святые. Золото на дереве. Конец XIII в. Государственный Эрмитаж
Едва ли не наиболее значительным памятником золотых дел мастерства рассматриваемого времени является золотой оклад знаменитой иконы Владимирской богоматери (размером 105 см × 70 см). В его нижней части вплетена греческая монограмма «Фотия, архиепископа России», московского митрополита. В разбивке поля оклада имеются некоторые особенности: здесь нет членения на отдельные прямоугольники, заполненные орнаментом или фигурными изображениями. Необычны пятилопастные завершения пластинок, на которых изображены двенадцать праздничных сцен. Своеобразно как бы сплошное поле обрамляющего их орнамента. Особым богатством и необычайно высоким качеством исполнения отличается именно этот многообразный сканный орнамент, в который вплетена и монограмма.

Рождество Христово. Сретение. Деталь оклада иконы Владимирской богоматери. Золото. XV в. Государственная Оружейная палата
Техника его исполнения с использованием сравнительно широких золотых ленточек, напоминающих те, которые применяются в перегородчатых эмалях, послужила М. М. Постниковой-Лосевой основным материалом для убедительного утверждения, что оклад исполнен византийскими, а не русскими (как ранее считали некоторые исследователи) мастерами. На это указывают и некоторые иконографические и стилистические особенности. Трактовка многих сцен, их подчеркнутая эмоциональность, иногда драматическое напряжение, несмотря на некоторую сухость и не столь высокое качество исполнения, характерны для поздневизантийского периода и сближают оклад с другими одновременными памятниками: такова, например, сцена Вознесения или Воскрешения Лазаря. Повышенная графичность, как, например, в передаче фигуры распятого Христа, свойственна периоду заката византийского искусства.

Орнамент. Деталь оклада иконы Владимирской богоматери. Золото. XV в. Государственная Оружейная палата
Единичными памятниками представлено для этого периода собственно ювелирное искусство: таковы золотые перстни с надписями и монограммами Палеологов (хранящиеся в собраниях Британского и Берлинского музеев и в частных коллекциях в Афинах), быть может, некоторые серьги и браслеты.
В большом числе так называемых экфрасисов (стихов, посвященных произведениям искусства) известного византийского поэта XIV в. Мануила Фила дается описание гемм. Были ли это произведения, созданные во время жизни поэта или он воспевал памятники более ранние, не всегда ясно. Тем не менее среди дошедших до нас камей имеются такие, которые по характеру исполнения можно отнести к XIII–XV вв. Их отличает большая живость изображений, отступление от строгой фронтальности и пр. Можно предполагать, что и некоторые стеатитовые иконки, например изображаю щие св. Георгия, поражающего дракона, Иоанна Предтечу (в Оружейной палате), и суховатые по исполнению пластинки с праздничными сценами, относятся к последним векам жизни Византии.

Сошествие Христа во ад, Кахриэ-Джами. Фреска. XIV в.
Единственной в своем роде является крохотная пиксида (диаметром 4,3 см) из слоновой кости с изображением двух семейных групп. Фигуры императоров даны в торжественных позах, фронтально, тогда как сопровождающие их фигурки музыкантов и танцоров переданы в разнообразных живых поворотах. Судя по надписям, здесь представлены император Иоанн, императрица Ирина и мальчик Андроник. Около второй группы имена не указаны, хотя место для надписей предусмотрено. Как недавно установил А. Грабар, этот маленький предмет отразил политические события середины XIV в. — смену на престоле Иоанна V Палеолога Иоанном VI Кантакузином. Не свидетельствует ли этот факт об особой ценности слоновой кости в обедневшей империи?
Вместо слоновой кости в это время использовался не только стеатит, но и резное дерево. Другой византийский поэт, также писавший экфрасис, Иоанн Евгеник (XV в.), воспевает искусство великолепной резьбы по дереву: на незначительной поверхности, говорит он, мастера создавали исключительно тонко и правдиво выполненные произведения.
Подавляющее большинство дошедших до нас образцов резных деревянных изделий относится ко времени после 1453 г. Сделаны они главным образом на Афоне; среди них имеются экземпляры, на которых указана дата — XVI в. Однако некоторые предметы, по-видимому, изготовлены еще в XIV в.: они исполнены в несколько иной технике и ином стиле. Такова, например, часть складня со сценами Воскрешения Лазаря и Успения (собрание Эрмитажа) и как бы с резными иконками на углах, служащих капителями и базами колонок. Особенно привлекательно трактованы сами колонки, обвитые пышным орнаментом в виде виноградной лозы, на стеблях которой расположены фигурки птиц и животных. В характере изображений есть некоторое созвучие с фигурами на деревянных дверях церкви Николая в Охриде, а в орнаменте, завершающем полукруг арки, сходство с обрамлением иконы Пантелеймона в Нерези (близ Скопье). Не исключено, что центром производства подобных изделий была Фессалоника или другой македонский город.

Св. Феодор. Мозаичная икона. Начало XIV в. Государственный Эрмитаж
Как и для всех предшествующих веков существования Византии, весьма скудны данные для характеристики художественной культуры широких слоев общества. Ведущее место здесь по-прежнему занимает поливная керамика. Можно было бы ожидать, что ее большое распространение не только в городской, но и в аристократической среде должно было бы способствовать повышению ее художественного качества (как это имело место в странах мусульманского Востока). Однако сохранившиеся образцы не позволяют сделать подобный вывод. Для украшения поливных сосудов применялись различные виды техники: наряду с изображениями, исполненными глубокой и довольно широкой врезанной линией, использовалась техника снятия фона; нередко применялся ангоб, которым (наподобие современной глазури) исполняли надписи и рисунки. На многих сосудах XIII–XIV вв., сделанных из белой глины, синими, красновато-коричневыми или зелеными тонами исполнены фигуры птиц и животных. В репертуар изображений включены монограммы владельцев. В соответствии с новым историческим этапом несколько иной характер приобрело ощущавшееся и ранее на изделиях из этого вида материала влияние Востока. В свою очередь, византийские керамические центры (такие, как Никея-Изник и Никомидия) продолжали играть большую роль и после завоевания Византии турками-османами.
Византийское прикладное искусство последних веков существования империи еще недостаточно изучено. Быть может, не всегда удается распознать созданные в это время произведения в их новой, порой восточной, порой испытавшей влияние Запада оболочке. Тем не менее не подлежит сомнению, что эти наиболее «демократические» малые формы искусства продолжали развиваться и после падения империи. Их традиции ощутимы не только в единоверных странах, как, например, в Румынии или на Руси; они перерабатывались в Италии и даже в оплоте правоверного ислама — Османской империи.
Глава 19
Своеобразие общественного развития Византийской империи.
Место Византии во всемирной истории
(Зинаида Владимировна Удальцова)
Более пятисот лет прошло с той поры, как имя Византийской империи, — в прошлом могущественного средневекового государства, — исчезло с карт мира. И все же след, оставленный Византией в истории человечества, столь глубок, что и по сей день память о ней живет не только на страницах исторических сочинений, но и в произведениях ее духовной и материальной культуры. До сих пор историки и археологи, нумизматы и папирологи, искусствоведы и сфрагисты многих стран с трепетом склоняются над изысканными творениями византийских ювелиров и эмальеров, над извлеченными из земли византийскими золотыми монетами, углубляются в чтение греческих манускриптов, пристально вглядываются в произведения византийских художников, вновь открытые во дворцах и храмах. Они неустанно ищут и собирают все, что может воскресить перед современным человеком этот давно ушедший с исторической арены, но вечно живой мир византийской цивилизации.
В чем же состоял вклад Византии в историю человечества?
Византия отнюдь не была каким-либо историческим феноменом. Она не являла собой пример отклонения от общих закономерностей развития человеческого общества. В течение своей тысячелетней исторической жизни, казалось бы столь длительной, но вместе с тем столь краткой в общем ходе мировой истории, Византия прошла те же основные стадии общественного прогресса, что и многие другие страны средневекового мира. Ей были знакомы крушение рабовладельческого общества, рождение, расцвет и упадок феодального строя.
Но в Византии общественное развитие принимало специфические формы, имело свой неповторимый колорит. В этом ярком своеобразии, отличавшем Византию от соседних с ней государств Европы и Азии, быть может, и таится та притягательная сила, которая влечет к ней исследователей.
Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения на двух континентах — в Европе и Азии, а порою простиравшей свою власть и на области Африки, делало империю как бы средостением между Востоком и Западом. Постоянное раздвоение между восточным и западным миром, скрещение азиатских и европейских влияний с преобладанием в отдельные эпохи то одних, то других стало историческим уделом Византии. Смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на общественную жизнь, государственность, религиозно-философские идеи, культуру и искусство византийского общества.
Однако Византия пошла своим историческим путем, во многом отличным от судеб как Востока, так и Запада.
Роль Византии и ее политический престиж, естественно, менялись в течение тысячелетнего существования империи. Византийское государство переживало периоды взлета и падения, расцвета и упадка.
В истории Византийской империи отчетливо вырисовываются три периода в соответствии с ее внутренним развитием и той ролью, которую это государство играло в международной жизни средневековья.
Первый период охватывает три с половиной столетия — с IV до середины VII в. В эту эпоху Византия, непосредственная преемница Римской империи, сохраняет еще ореол мировой державы. Во внутренней жизни византийского государства это было время изживания рабовладельческих, античных порядков, главным оплотом которых являлся полис. Крушение античного полиса в такой же мере отделяло новый, феодальный период от старого, рабовладельческого, как и арабский, славянский и лангобардский натиск.
VII столетие принесло с собой кардинальные сдвиги в истории Византии: упадок полиса-муниципия, временное ослабление государственной власти, перенесение центра общественной жизни в деревню, а культурного центра — в монастырь. Наступило средневековье. Второй период начинается с середины VII и продолжается до начала XIII в. Византия в это время стала по преимуществу греческим, а в XI–XII вв. — греко-славянским государством. Несмотря на территориальные потери, она оставалась одной из могущественных держав Средиземноморского бассейна. Для социально-экономических отношений этой эпохи характерно преобладание деревни в жизни общества. Доминантой общественных процессов стало вызревание вотчинной (сеньориальной) формы эксплуатации крестьянства и формирование феодальных институтов.
Начало последнего периода истории Византии совпадает с латинским завоеванием и раздроблением империи на отдельные государства.
Временное и неполное воссоединение греческих земель после полустолетних войн с латинянами не привело к возрождению былого могущества Византийской державы. Покинутая союзниками, раздираемая внутренними смутами, Византия была отныне обречена на безнадежную, неравную борьбу с могучей Османской империей — борьбу, трагически завершившуюся в середине XV столетия. Третий и последний период византийской истории характеризуется разложением феодальных порядков; робкие ростки предкапиталистических отношений, пробивавшиеся здесь и там, гибли, однако, в условиях торжества феодальной реакции, итальянского экономического засилья и османской военной угрозы.
Своеобразие общественного развития Византии определилось еще в ранний период ее существования. Экономическая жизнеспособность Византии помогла ей не только уцелеть в огне варварских нашествий и сохранить самостоятельность, но и перейти в наступление против варварского мира. В то время как Западная Римская империя лежала в развалинах, Византия сумела, пусть временно, покорить ряд варварских королевств, наводивших ужас на все цивилизованные страны. Этому во многом способствовало то обстоятельство, что в Византийской империи вплоть до VII в. разложение античного полиса привело не к полной аграризации страны и исчезновению крупных городов, а лишь к изменению характера городской экономики. Города из главной цитадели рабовладельческой земельной собственности превращались постепенно в центры ремесла и торговли. Именно богатые города Византии, которым посчастливилось спастись от разорения варварами, оставались экономической опорой центральной власти в ранней Византии.
Византия избежала судьбы Западной Римской империи, она не знала полного завоевания страны варварами и гибели государства. Поселение на ее территории различных народов, в том числе славян, армян, арабов и других племен, хотя и изменило этнический состав населения империи и усилило влияние общественных отношений варваров на внутреннюю жизнь Византийского государства, тем не менее не привело к образованию на исконных землях Византии самостоятельных варварских королевств.
В отличие от Византии на Западе крах рабовладельческого общества происходил в условиях полной победы варваров, что не только ускорило изживание рабства, но и сделало ликвидацию его пережитков более радикальной. В различных странах Западной Европы процесс рождения феодализма происходил, естественно, по-разному: в одних он протекал на основе синтеза романских и германских элементов, в других феодальный строй вырастал непосредственно из разлагающихся родоплеменных отношений варваров. Однако, как правило, на Западе формирование феодального общества сопровождалось уничтожением рабовладения, гибелью римской государственности и права, упадком городов и античной культуры.
Для Византии же характерно спонтанное развитие феодальных отношений внутри разлагающегося рабовладельческого общества. Синтез прораставших в империи элементов феодализма с общественными порядками варваров был менее интенсивным, чем в Западной Европе. Это обусловило и замедленность разложения рабовладельческого строя в Византийском государстве. В Византии феодальное общество складывалось в обстановке длительного изживания рабовладения, существования греко-римской государственности и правосознания, сохранения крупных городов и античной цивилизации.
В дальнейшем ходе истории эти факторы первостепенной важности определили тип византийского феодализма, специфику феодального развития Византийской империи.
Своеобразие византийского феодализма проявлялось как в формах собственности на землю и рентных отношениях, так и в характере сеньориальной эксплуатации и в особенностях феодальных институтов. В аграрном строе Византийской империи существовало немало черт сходства и различия с аграрными отношениями стран Запада и Востока. В отличие от Западной Европы в Византии гораздо дольше сохранялись разнообразные виды рабовладельческого хозяйства. Но, как и на Западе, на смену им пришла свободная крестьянская община, получившая большое распространение в империи в VIII–IX вв. Византийская община по своей внутренней организации была далека от восточной, подчиненной государству податной общины и ближе стояла к западноевропейской общине-марке. Подобно марке, ей был присущ дуализм — сочетание общинного землевладения с частной собственностью на крестьянские наделы.
Характерной особенностью было длительное сохранение в Византии полной, безусловной частной собственности на землю. Этот вид собственности кристаллизовался как в крупной вотчине, так и в хозяйстве свободных крестьян. Государственная собственность на землю, правда, не достигла в Византии таких масштабов, как в странах Востока, однако в противовес Западу тенденции к складыванию этого типа аграрных отношений в византийской деревне проявлялись достаточно интенсивно.
Иерархическая структура земельной собственности, нашедшая столь яркое и законченное воплощение в феодальном землевладении Западной Европы, в Византии складывалась несколько более медленными темпами. Коренные изменения произошли лишь в XII в., когда наряду с другими видами собственности, довольно
широкое распространение получают такие формы условного землевладения, как прения, близкая к западноевропейскому бенефицию, и гоникон, пожалование земли в наследственное владение при условии несения феодалом определенной службы в пользу государства. В Византии, однако, имел значительно меньшее развитие, чем на Западе, процесс субинфеодации. В этом аспекте аграрный строй Византии имеет больше сходства с аграрными отношениями стран Востока.
Вотчинная организация хозяйства сочеталась в Византии с централизованной эксплуатацией крестьянства через развитую, в какой-то мере унаследованную от Рима налоговую систему. Нигде на Западе в раннее и классическое средневековье доля прибавочного продукта, присваиваемая в форме государственного налога, не была так велика, как в Византии. В своих вотчинах византийские феодалы находились под постоянным контролем центральной власти. Государство ограничивало число освобождаемых от налогов крестьян в частных имениях, регулировало размеры взимаемой сеньором ренты и сохраняло за собой право конфискации земли без суда и следствия. Лишь со временем этот контроль стал несколько ослабевать.
По мере развития феодализма в Византии значительно возрастает доля феодальной ренты, уплачиваемой крестьянами непосредственно своему сеньору, и сокращаются размеры централизованной ренты в пользу государства. Это все больше сближает Византию с Западной Европой и отдаляет от Востока, где прочно сохраняются централизованные формы эксплуатации.
Феодальные институты, сложившиеся в Византии: прения, харистикий, экскуссия — типологически были близки соответствующим учреждениям вассально-ленной системы Западной Европы. Однако и эти феодальные институты принимали в Византии своеобразные формы. При значительном распространении централизованной ренты прения порою была связана не только с передачей феодалу земельного владения, но с предоставлением ему права сбора в его пользу определенной квоты налогов, а экскуссия (во всяком случае, до XIII в.) сводилась по преимуществу к податному иммунитету.
В противоположность Западной Европе вассально-ленная система осталась в Византии сравнительно неразвитой: феодальные дружины выступали здесь чаще как свита, а не как вассалы, связанные со своим сеньором личными, поземельными и формально-этическими узами. Многоступенчатая феодальная иерархическая лестница в Византии так и не создалась. И это было вполне закономерно при наличии в Византийской империи сильной центральной власти и развитой бюрократии. Разумеется, элементы чисто западных вассально-ленных связей складывались в Византии, но они утверждались де-факто и никогда и не были признаны государством де-юре.
Начало кризиса феодализма, хронологически совпавшее с последним периодом исторической жизни Византии, было ознаменовано повышением товарности вотчинного хозяйства феодалов, возрастанием удельного веса денежной ренты и появлением в деревне такой новой фигуры, как арендатор-предприниматель, снимавший в долгосрочную аренду землю феодального собственника и возделывавший ее с помощью субарендаторов. В сфере аграрных отношений Византия вплотную подошла к вызреванию раннекапиталистических форм хозяйства, однако в отличие от Западной Европы она так и не перешла этот рубеж поступательного развития средневекового общества.
По-особому складывались судьбы византийского города. Как это ни парадоксально на первый взгляд, своего наивысшего расцвета города Византийской империи достигли не в конце, а в начале истории Византии. В то время, как на Западе многие античные городские центры были смыты волной варварских завоеваний и запустели, Византия на заре своей истории по праву могла называться страной городов.
В ранневизантийский период империя ромеев обгоняла Запад по уровню развития городского ремесла и торговли. В это время произведения византийских мастеров оставались недосягаемым эталоном для ремесленников многих стран, а византийские купцы, особенно сирийцы и египтяне, проникали в отдаленнейшие уголки ойкумены. На востоке они торговали с такими сказочными в представлении европейцев странами, как Цейлон, Индия и Китай. На юге византийцы вели оживленный обмен с африканским континентом, установив торговые связи с изобиловавшей золотом, слоновой костью и благовониями солнечной Эфиопией. На севере корабли византийских мореходов достигали туманных островов Британии и суровых берегов Скандинавии. В торговле же с Западом по Средиземному морю, несмотря на опасные нападения пиратских судов, византийцы долго сохраняли свою гегемонию. Византийские золотые солиды с изображением константинопольских василевсов имели хождение во всех странах и играли роль международной валюты. Никогда в последующее гремя византийская торговля не достигала такого огромного размаха, как в период до арабского завоевания и отторжения от империи ее восточных провинций.
Вместе с тем Византия, подобно Западной Европе, также пережила упадок городов и известное затухание их экономической активности. Однако дезурбанизация, происшедшая в конце VII–VIII в., ощущалась в Византийской империи значительно слабее, чем на Западе. Даже в эти столетия в Византии продолжали существовать крупные города — не только как административные и церковные, но и как торгово-ремесленные центры, очаги культуры и образованности. И первое место среди них по-прежнему принадлежало Константинополю, и тогда сохранившему свое значение «царицы городов».
Различия в общественном строе и внутренней организации античного и феодального города проявлялись в Византии столь же отчетливо, как и в Западной Европе. Однако рождение феодального города в империи происходило в иных, чем на Западе, условиях. Феодальные общественные отношения в городах Византийской империи складывались в обстановке более длительного изживания традиций античного полиса. Это имело как свои положительные, так и отрицательные последствия. Преимуществом Византии в сравнении с другими государствами Европы было сохранение в городах империи унаследованной от античности высокой техники ремесленного производства. Тормозящее же воздействие на развитие новых производственных отношений в городах оказывал применявшийся в значительно больших масштабах, чем на Западе, рабский труд. Все же и в Византии с X–XI вв. основной фигурой в городском ремесленном производстве становится свободный ремесленник, владелец небольшой ремесленной мастерской.
Другим важным условием, оказавшим влияние на формирование феодального города в Византии, была всеобъемлющая государственная регламентация городского ремесла и торговли. Это явление, столь характерное именно для средневековой Византии, также имело свои позитивные и негативные стороны. Покровительство торгово-ремесленным корпорациям со стороны государства стимулировало временный расцвет городского ремесла. Государственная поддержка обеспечивала торговую монополию цехов, защиту ремесленных корпораций от конкуренции внецехового ремесла, обилие заказов императорского двора, армии, константинопольской знати, безопасность на дорогах и в городах империи.
Государственная помощь, однако, покупалась дорогой ценой: цехи теряли свою самостоятельность и попадали под строгий контроль центральной власти. До поры до времени выгоды, извлекаемые торгово-ремесленными корпорациями из подобного рода привилегированного положения, превышали ущерб, наносимый их деятельности докучливой государственной регламентацией. Более того, эти привилегии даже давали византийским корпорациям немаловажные преимущества в сравнении с условиями, в которых рождались ремесленные цехи и купеческие гильдии других стран Европы.
До XII в. экономическое превосходство Византии над другими европейскими странами было бесспорным. Изобретение греческого огня и косого паруса обеспечивало морские успехи империи, а расцвет строительной техники, достижения точных и естественных наук, особенно математики, астрономии и медицины, помогали Византии обогнать в своем развитии многие государства Востока и Запада.
Византийские города, преодолев кризис VII–VIII вв. раньше, чем города Западной Европы, вновь вступили в полосу экономического процветания. Этот подъем, начавшийся еще в IX в., достиг своего апогея в XI–XII вв., причем охватил не только столицу, но распространился на многие провинциальные городские центры. Вплоть до XII в. Константинополь оставался средоточием транзитной торговли между Азией и Европой, поистине «золотым мостом» — по выражению Маркса — между Востоком и Западом. Византийское мореходство и торговля, несмотря на конкуренцию арабов и норманнов, все еще продолжали играть главенствующую роль в бассейне Средиземноморья, а византийская золотая монета высоко котировалась на всех рынках от Евфрата до Гибралтара. Организация византийской морской торговли, морские законы и техника мореплавания византийцев служили объектом заимствования и подражания в странах Юго-Восточной и Западной Европы.
Коренной перелом в поступательном экономическом развитии Византии наступил в XII в. С конца этого столетия экономическое превосходство переходит, и притом окончательно, к государствам Западной Европы. И, пожалуй, решающую роль в этом сыграли различия в судьбах византийских и западноевропейских городов. Именно в XII в. пути общественного развития городов Византийской империи и Западной Европы окончательно разошлись.
В Западной Европе неуклонный рост городских центров привел к кардинальным сдвигам во всей социально-экономической жизни феодального общества, а позднее — к зарождению в наиболее передовых странах того времени, в Италии и Нидерландах, раннекапиталистических отношений. В Византии же расцвет городов оказался недолговечным и не повлек за собой коренной ломки феодальной экономики страны. Более того, поздневизантийская эпоха отмечена постепенным угасанием экономической деятельности городов империи.
Ремесло в городах поздней Византии так и не достигло мануфактурной стадии своего развития. В то время как на Западе разложение цехового строя было связано с переходом к высшей ступени организации производства, в Византии корпоративное устройство стало разлагаться тогда, когда еще не появилось условий для развития мануфактур. Византийское ремесло чахло, будучи не в состоянии выдержать конкуренцию итальянцев, и не только из-за того, что последним в этот период покровительствовало византийское правительство, а главным образом потому, что расцвет мануфактур в Италии того времени обеспечил решающее превосходство итальянского ремесленного производства над византийским. Византия теряла былую монополию в посреднической торговле между Востоком и Западом, переходящую в руки венецианских и гэнуэзских купцов. Этому способствовало и постоянное соперничество между Константинополем и провинциальными городами империи, и ослабление свободных крестьянских общин, которое мешало складыванию византийского внутреннего рынка, и, наконец, феодальные междоусобицы и внешнеполитические неудачи.
Различны были также судьбы византийских и западноевропейских торгово-ремесленных корпораций. Византийские корпорации с течением времени все острее стали ощущать сковывающую их инициативу государственную регламентацию. Взращенное в тепличном климате исключительной привилегированности, византийское ремесло, потеряв в поздней Византии поддержку сильного государства и лишившись прежнего обеспеченного спроса императорского двора и знати, уже не могло соперничать с процветающим итальянским ремесленным производством. С XII в. византийские торгово-ремесленные корпорации приходят в упадок, а в XIII–XIV вв. многие из них исчезают.
В поздней Византии городское торгово-ремесленное население так и не консолидировалось в сплоченное и влиятельное сословие горожан, которое могло бы противостоять наступлению феодалов. Византийское правительство постоянно стремилось внести раскол в среду городского населения, а феодалы захватывали в свои руки не только экономические позиции, но и политическую власть в городах. Они скупали городские земли, заменяли труд свободных ремесленников трудом феодально-зависимых париков, подчиняли себе управление городами.
Иную картину в эти же столетия мы наблюдаем в Западной Европе. Западноевропейские цехи, возникнув позднее, чем византийские корпорации, развивались более интенсивно и не только стимулировали подъем ремесла и торговли, но и помогали политическому сплочению торгово-ремесленного населения городов. А с ростом богатства и политического влияния сословия горожан на Западе расцвел яркий цветок городских коммун. Они не только упорно боролись с феодалами за свои вольности, но и добились освобождения многих городов от власти феодальных сеньоров.
Однако ошибочно было бы полагать, что в Византии совсем не было коммунального движения и борьбы горожан за свои привилегии и свободы. Фессалоникская республика зилотов середины XIV в. — наглядный пример подобного движения. Но именно гибель Фессалоникской республики, задушенной в кольце иноземных войск, призванных феодалами, особенно ясно показывает и экономическую слабость византийского города, и политическую его изолированность. Потеряв поддержку государства, горожане не приобрели новых влиятельных союзников: восстания крестьян оказались слишком стихийными и разрозненными, чтобы оказать реальную помощь городам, а сплоченного сословия рыцарей, которое могло бы, как и на Западе, стать союзником горожан, в Византии так и не сложилось до конца существования империи. Все это объясняет, почему византийские города потерпели неудачу в борьбе с феодалами и не превратились в такую решающую силу прогрессивного развития общества, как города Западной Европы.
Ни в одной сфере общественной жизни отличие Византии от Запада и ее сходство со странами Востока, в частности с Сасанидским Ираном и Арабским халифатом, не бросается так явно в глаза, как в организации государственной власти. Вместе с тем именно в области государственного устройства в Византии были особенно устойчивыми традиции поздней Римской империи. Разумеется, в истории Византии не раз обнаруживались тенденции к политическому разобщению страны, к феодальной раздробленности. Однако, за исключением последнего этапа своего существования, государство ромеев оставалось централизованным.
Наибольшего расцвета государственная централизация достигла в ранней Византии. В то время Византия выступала как единственная законная наследница великого Рима и претендовала на то, чтобы быть повелительницей всей цивилизованной ойкумены. И хотя реальная действительность варварских нашествий резко контрастировала с этими притязаниями самонадеянных ромеев, идея всемирной монархии с центром в Константинополе жила не только в самой Византии, но и в варварских королевствах Запада. Вплоть до создания на Западе империи Карла Великого варварские королевства — пусть номинально — все же признавали верховную власть константинопольского императора; варварские короли почитали за честь получать от него высшие имперские титулы и пышные инсигнии своей власти, латинские хронисты зачастую вели летосчисление по годам правления византийских василевсов, а при дворах западных правителей чеканились монеты, имитирующие византийские солиды. Долгое время многие правители Юго-Восточной и Западной Европы стремились не только подражать обычаям и нравам византийского двора, но и использовать систему византийского государственного управления в качестве образца при создании административного аппарата в своих странах.
Несколько ослабевшая в VII в. централизация Византийского государства вновь упрочилась к X в. Именно в это время происходит отчетливая кристаллизация всех форм государственности. Византия в эту эпоху была уже не мировой монархией, а средневековым феодальным государством, правда с сильной центральной властью. Оно управлялось из императорской канцелярии, а провинциальные наместники, получая жалование из казны, зависели от центра. Огромную роль в жизни византийского общества играл централизованный бюрократический аппарат; государственные чиновники объединялись в замкнутую касту, в которой царила строгая иерархия в соответствии с табелью о рангах.
Византийское государство в принципе контролировало всю жизнь страны вплоть до уплаты податей в каждой отдельной деревне, деятельности ремесленных коллегий, строительства дорог, взимания торговых пошлин. Система круговой ответственности за взнос налогов облегчала контроль за выполнением государственных повинностей.
Централизация государства накладывала свой отпечаток и на социально-экономическую структуру Византии. Именно наличие централизованного государства определило такие особенности общественного строя Византийской империи, как существование многочисленных категорий крестьян, подчиненных непосредственно государству, прикрепление крестьян к деревням и налоговому тяглу, довольно широкое применение ренты-налога, государственная регламентация ремесла и торговли. Централизованное государство, блестящий императорский двор не только поддерживались влиятельными кругами столичной придворной аристократии и высшего чиновничества, но, в свою очередь, порождали сплоченность и силу, обеспечивали богатство и привилегии константинопольской знати.
Вместе с тем государственная централизация определила относительную слабость провинциальной феодальной аристократии Византии. В отличие от самовластных феодальных владетелей Европы византийским феодалам так и не удалось расчленить империю на обособленные феодальные мирки.
Все сказанное отнюдь не исключает постоянной борьбы центробежных и центростремительных сил в Византийском государстве, усиливавшейся по мере его феодализации. Недаром вся политическая история Византии наполнена постоянными столкновениями константинопольской чиновной знати с местными феодальными землевладельцами. Соперничество этих социальных группировок, их смена у власти — зерно всей борьбы внутри господствующего класса империи, зачастую, правда, принимавшей форму дворцовых переворотов, бунтов провинциальных феодалов или династических заговоров.
По своей политической структуре Византия представляла собой самодержавную монархию. Власть императора не была ограничена никакими условиями, никаким «общественным договором». Император мог казнить подданных и конфисковать их имущество, назначать и смещать должностных лиц, издавать законы. Он был высшим судьей, руководил внешней политикой и командовал армией; его власть считалась божественной. И все же теоретически беспредельная власть византийского государя нередко оказывалась фактически ограниченной. Она не являлась привилегией того или иного аристократического рода и поэтому не наследовалась сыном императора по закону. Это открывало путь ко всевозможным узурпациям и делало престол шатким. Часто самодержавные василевсы на деле были игрушкой в руках борющихся социальных группировок. Многие византийские государи правили недолго и кончали пострижением в монахи или гибелью от руки наемных убийц.
Тем не менее именно в Византии окончательно сложилось и получило теоретическое обоснование господствующее в средние века учение о монархическом государстве. Своими корнями это учение восходило к политии Платона и неоплатоников, но затем оно претерпело значительную эволюцию. Для неоплатоников, как известно, государство — это как бы микрокосм, отражение иерархической структуры божественных сил. Одновременно оно было союзом самоуправляющихся полисов в рамках единой империи, а органы государственной власти избирались обществом и несли ответственность перед ним.
Хотя с торжеством христианства и упадком полисной системы государство по-прежнему рассматривалось как земное отражение небесной иерархии, во главе которой стоял император, однако василевс потерял облик античного магистрата, делегированного народом, и окончательно превратился в неограниченного монарха. Христианская церковь в Византии обосновала теорию божественного происхождения императорской власти, дав религиозную санкцию неограниченной христианской монархии. В теоретическом оформлении учения об автократии важную роль сыграло унаследованное от Римской империи обожествление личности императора, а также философско-политические концепции абсолютной власти, воспринятые Византией от восточных народов. В средневековой Византии, однако, еще долго сохранялись рудименты античных представлений о верховной власти в виде избрания василевса синклитом и войском и фикция его избрания народом. Со временем власть василевса, скованного торжественным этикетом и рутиной общественных традиций как в теории, так и в жизни, все больше отрывалась от общества, все выше поднималась над народом. Это получило свое теоретическое обоснование в трудах византийских философов, политиков, ученых-богословов, не раз обращавшихся к созданию образа идеального государя.
Политические воззрения византийцев на государство и созданная ими теория божественности власти императора, без сомнения, оказали сильное воздействие на формирование концепций верховной власти в странах Юго-Восточной и Восточной Европы, в частности и на Руси. Довольно широкое распространение они получили также и в Западной Европе.
Особый облик общественной и идейной жизни в Византии придавали специфические черты, присущие восточному христианству и византийской церкви. Между восточной — православной — и западной — католической церквами с самого начала наметились существенные различия. Хотя и та и другая генетически восходили к единой вселенской церковной организации, каждая из них уже с первых столетий их истории пошла своим особым путем.
Номинально церковное единство признавалось и Римом и Константинополем, но фактически в течение столетий между папским престолом и константинопольской патриархией шла никогда не затухавшая то подспудная, то открытая борьба за религиозное и политическое главенство. Эта борьба изобиловала драматическими коллизиями, страстной догматической полемикой. Не раз церковная рознь между Востоком и Западом доходила до жестоких стычек пап и патриархов и привела в середине XI в. к разрыву — схизме. Церковный мир, периодически восстанавливаемый, оказывался столь шатким, что окончательный раскол был неминуем. И он действительно произошел, когда после завоевания Византии крестоносцами католическая церковь попыталась провозгласить папскую супрематию на Востоке, но натолкнулась на решительное сопротивление как греческого духовенства, так и широких масс населения. В последующие столетия церковные разногласия переросли в открытую вражду «схизматиков»-греков и католического Запада, и все попытки заключения церковной унии успеха не имели.
Между православной и католической церквами уже очень рано возникли значительные расхождения как социально-политического, так догматического и обрядового характера. Эти расхождения, разумеется, во многом отражали различия в общественной структуре и идейной жизни Византии и Запада.
В Византии церковь не имела той экономической и административной автаркии, какая сложилась в Западной Европе. В империи церкви и монастыри, хотя и были крупными феодальными землевладельцами, но так и не превратились в независимые от государства замкнутые феодальные княжества, подобно церковным вотчинам и аббатствам Запада. Православная церковь и экономически и политически в большей степени, чем католическая, зависела от государства, от императорских пожалований, теснее была связана с централизованной государственной системой.
В Византийской империи православные иерархи, за редким исключением, не претендовали на главенство над могущественной светской властью. Православная церковь в Византии, существовавшая в условиях централизованного государства, не являлась носительницей универсалистских тенденций, а, наоборот, проповедовала единение церкви и государства. В противовес этому в феодально-раздробленной Европе именно папский престол был провозвестником универсалистских идей и стремился стать центром католического мира, независимым от государства и стоящим над ним. Именно римская курия неуклонно отстаивала доктрину о примате духовной власти над светской.
Если на Западе сложилась строго централизованная церковная организация, и только папа пользовался непререкаемым моральным авторитетом и огромной реальной властью, то на востоке в теории господствовала система пентархии — одновременного существования пяти полноправных патриархий в Риме, Константинополе, Александрии, Антиохии и Иерусалиме. Между восточными патриархами не было единства, и они не хотели признавать полного главенства одного из патриарших престолов. Рим и Константинополь постоянно спорили из-за первенства, в ранний же период с подобными притязаниями выступали и другие патриархии. В православной церкви церковные соборы стояли выше патриархов и лишь они являлись создателями церковных канонов. Вместе с тем они сами подчинялись светской власти, в отличие от Запада, где церковные соборы, за редким исключением, выполняли волю папского престола.
Внутренняя организация католической церкви носила более аристократический характер, чем православной. Церковная иерархия была осуществлена на Западе строго последовательно, и корпоративная общность клира оказалась весьма прочной. В странах Западной и Центральной Европы католическая церковь противостояла мирянам, как особая сплоченная привилегированная корпорация. Обособленность католического духовенства от мирян проявлялась, например, в причащении клириков вином и хлебом, а светских лиц только хлебом, в установлении для всех католических священников безбрачия — целибата. В Византии грань между духовенством и мирянами проводилась отнюдь не столь резко: все верующие причащались под обоими видами, безбрачие распространялось только на епископов и монахов. В восточной церкви в несколько меньшей степени ощущалась противоположность между высшим и низшим духовенством.
Подобные различия в структуре церквей были, естественно, связаны и с догматическими разногласиями. На Западе господствовало учение о том, что спасение человека якобы зависит от деятельности особой корпорации — церкви, в руках которой находится и оценка заслуг верующего, и отпущение его грехов. Восточное же христианство отличалось большим индивидуализмом, отводило важную роль в спасении человека индивидуальной молитве и через ее посредство допускало мистическое слияние с божеством. При этом отчетливо давали себя знать идейные традиции обеих церквей: на Западе — влияние юридизма, восходящего к классическому римскому праву, на Востоке — спекулятивной греческой философии, прежде всего неоплатонизма.
Между восточной и западной церквами довольно резко обозначились расхождения, касающиеся церковной обрядности. Эти различия складывались в течение веков и являлись не только результатом догматических несогласий, но и символическим выражением церковных традиций Запада и Востока, на которые в свою очередь оказывали воздействие локальные обычаи, принятые в церковном ритуале той или иной местности. Языковые различия и территориальная разобщенность Запада и Востока, естественно, усугубляли эти литургические расхождения. Споры по вопросам обрядности между католическим и православным духовенством чаще всего втягивали в борьбу широкие народные массы и способствовали углублению церковной розни.
Однако как в католических странах Европы, так и в Византии одновременно с тенденциями к разобщению церквей всегда находились социальные силы, поддерживающее не только экономическое и культурное, но и церковное единение Запада и Востока. Но в эпоху средневековья подобное единство никогда не было достигнуто.
Особый склад общественных отношений в Византии, специфика расстановки классовых сил, государственной и церковной организации и идейно-политической жизни византийского общества во многом определили своеобразие классовой борьбы в Византийской империи. В свою очередь, классовая борьба оказывала постоянное воздействие на самые различные сферы внутренней жизни Византийского государства. Сохранение в ранней Византии социальных и идейных традиций античного полиса, особая организация городского населения по димам, необычайно большая роль зрелищ в жизни шумных, многоязычных и многоликих по этническому составу крупных городов империи породили в византийском обществе такое специфическое явление в истории классовой борьбы, как движение димов и столкновения цирковых партий. Это движение не имеет исторических аналогий и характерно лишь для Византии и отчасти Западной Римской империи. Накакая другая страна Европы и Азии не знал подобных форм социальной борьбы.
В движении димов и факций причудливо переплетались и социальные выступления народных масс, и столкновения политических-притязаний руководящих группировок цирковых партий, и религиозные разномыслия сторонников противоборствующих течений в христианской церкви. Главной же особенностью борьбы вокруг зрелищ являлось то, что участники движения в своих социально-политических целях использовали прочно сложившиеся организации городского населения, выполнявшие политические, военные и религиозные функции. Именно это придавало движению известную сплоченность и согласованность действий и составляло особую опасность для византийского правительства.
Значительно более стихийными и локально-разобщенными были социальные выступления крайне пестрого как в классовом, так и в этническом отношении сельского населения Византии. В ранний период особый облик народным движениям придавали весьма сложные взаимоотношения восстававших народных масс с вторгавшимися в империю варварами. Чаще всего именно сельское население — колоны, рабы, зависимые крестьяне вступали в союз с варварами и объединялись в борьбе против общего врага — византийского правительства и правящих классов империи. Однако, как правило, этот союз был недолговечен и разбивался о грабительскую политику варварской знати. Городские же жители обычно защищали свои города от сокрушительных нападений варварских войск. Варварские вторжения способствовали падению рабовладельческого общества в Византии, но одновременно они несли с собой разорение страны. В Византии, видимо, так и не сложилось в широком масштабе единого фронта народных масс империи и варваров. Это дало возможность византийскому правительству консолидировать свои силы и не только подавить народные восстания, но и отбросить варваров от границ Византийского государства.
Византия, как и Иран, была колыбелью многих ранних народно-еретических движений. Пестрота их необычайна: среди них мы встречаем сторонников множества различных учений от самых радикальных дуалистических сект демократического характера, подобных манихеям, монтанистам, мессалианам, до гораздо более умеренных религиозных течений, не согласных с догматами господствующей церкви, как ариане, несториане или монофиситы. Наибольшее распространение радикальные еретические движения имели среди сельского населения Византии, хотя еретические идеи широко проникали и в среду горожан. К социальным мотивам народно-еретических учений зачастую примешивались самые разнообразные политические интересы различных племен и социальных групп, участвовавших в религиозно-догматической борьбе.
Нередко с ними были связаны и соперничество различных группировок господствующего класса и сепаратистские тенденции отдельных провинций. Но несмотря на наличие весьма существенных оттенков и градаций в характере и направленности еретических течений в Византии, в эти движения, разумеется, в разной степени всегда были вовлечены народные массы. Это неизбежно придавало ересям не только религиозную, но и социальную окраску. Некоторые из восточных вероучений, например арианство, получили распространение и в варварских королевствах Запада. Необычайно широкий размах народно-еретических движений характеризует классовую борьбу в Византии в течение всего раннего средневековья.
Религиозная экзальтация, граничащая с мистическим экстазом, жажда мученичества, страстный протест против всех погрязших в пороках земных правителей, бунтарский дух, соединенный с бескомпромиссным аскетизмом, порожденным верой в извечную противоположность добра и зла, духа и плоти, полное отречение от земных радостей — вот черты, отличавшие некоторые наиболее радикальные еретические учения в Византии.
Идейные истоки религиозно-философских и морально-этических представлений, легших в основу догматики подавляющего большинства византийских ересей, следует искать на Востоке. Однако в Византии под влиянием своеобразных общественных условий и чрезвычайно насыщенной духовной жизни самых различных социальных слоев общества, еретические учения, пришедшие с Востока, значительно видоизменялись, принимая зачастую совершенно новые формы. Вместе с тем сама Византия сыграла весьма важную роль посредника в распространении народноеретических учений в Юго-Восточной, а затем и в Западной Европе. Это можно наиболее ясно проследить на примере судеб павликианского движения. Зародившись в Армении, впитав немало восточных философско-этических доктрин, сочетающихся с идеями раннего христианства, павликианство расцвело на византийской почве и постепенно из замкнутой еретической секты превратилось в массовое антифеодальное движение. Позднее учение павликиан распространилось на Балканах и в близких, хотя несколько модифицированных, социальных условиях слилось с богомильством, — одним из самых мощных антифеодальных народноеретических движений, какие только знала Юго-Восточная Европа в эпоху средневековья.
В свою очередь, дуалистические идеи богомильского учения, семена которых были занесены на социально-родственную почву Запада, были восприняты последователями некоторых западноевропейских ересей, в частности катарами (альбигойцами) Южной Франции, Северной Италии и отчасти Германии.
Антифеодальные крестьянские восстания в Византии отнюдь не всегда принимали форму религиозных ересей. Видную роль в них играли наряду с социальными, религиозными и этнические противоречия. В этих восстаниях нередко находила выход ненависть к Византийскому государству со стороны покоренных империей племен и народов, которые, став подданными Византии, все же сохранили в известной мере самобытные черты — свои национальные языки, военную организацию, культуру, быт и нравы. Постоянная борьба этих народов против нивелирующего воздействия империи — характерная особенность истории Византии. Ярким примером ее являются восстания славянского и валашского населения Балкан против византийского господства в XI–XII вв. Можно отметить еще одну специфическую черту, присущую классовой борьбе в Византии. При наличии в Византийской империи сильного государства, разветвленного налогового аппарата и ренты-налога крестьянские выступления в Византии, естественно, часто принимали форму восстаний против гнета налоговых сборщиков. В субъективном представлении крестьянства именно податный сборщик выступал как злейший и наиболее опасный эксплуататор.
Весьма распространенным явлением в Византии, впрочем как и в других странах Востока и Запада, было использование народных движений представителями господствующих классов. Непокорные феодалы, знатные узурпаторы, безвестные самозванцы и просто авантюристы, стремясь к захвату престола византийских василевсов, нередко направляли народное недовольство в русло династической борьбы. При этом они не гнушались призывать на помощь самых злейших внешних врагов империи. Порою все эти социальные, религиозные, этнические, антиналоговые и династические мотивы соединялись в тесно сплетенный клубок в одном и том же народном движении, как это, например, было во время знаменитого восстания Фомы Славянина.
В истории Византии бывали периоды, когда социальная борьба народных масс сочеталась с сопротивлением иноземным завоевателям и приобретала патриотическую окраску. Так случилось во время латинского владычества, когда для зависимых крестьян-греков феодал и франк-завоеватель соединялись в одном лице, а для торгово-ремесленного люда византийских городов главным и притом беспощадным конкурентом стал итальянский купец. К этому присоединились различия в языке, культурных традициях, вероисповедании, и таившаяся подспудно неприязнь к латинянам теперь приобрела характер непримиримой вражды, а народные выступления получили антилатинскую и антикатолическую направленность.
Еще одной характерной особенностью классовой борьбы в Византии является постоянная смена в ее истории ведущей роли то городских, то крестьянских восстаний. Весь ранний период, как уже было сказано, отмечен преобладанием более организованных городских движений, а классическое средневековье наполнено широкими антифеодальными выступлениями крестьянских масс. В этот период восстания горожан вспыхивают лишь отдельными очагами преимущественно в самой столице империи и в ее наиболее крупных городских центрах. В последние же столетия исторической жизни Византийского государства вновь происходит оживление социальной борьбы городских масс Византии. Однако и в кульминационный период своего развития в XIV в. городские движения в Византии так и не достигли социальной консолидации и политического размаха городских восстаний, развернувшихся в Западной Европе, в частности в Италии, в то же столетие. Это объясняется относительной экономической слабостью византийских городов, отсутствием сплоченности среди горожан и политической незрелостью низов городского населения. Даже наиболее мощное городское движение в Византии — Фессалоникская республика зилотов — не нашла себе сильных союзников и погибла потому, что осталась разобщенной внутри и изолированной от внешнего мира извне. Временно возникший союз горожан с восставшими крестьянами быстро распался, в то время как феодалы в борьбе с зилотами не только создали сплоченную лигу, но ради своей победы даже открыли дорогу в глубь византийского государства его непримиримым врагам — туркам-османам.
Своеобразие общественного развития Византии не менее ярко проявилось в области правовых отношений. В Византийской империи в сфере как гражданского, так и уголовного права в большей степени и более длительное время, чем на Западе, сказывалось влияние римских юридических традиций. В отличие от других стран средневекового мира Византия, особенно в ранний период своей истории, оставалась государством, где сохранялось единое кодифицированное и обязательное для всего населения империи действующее право. Среди моря варварских королевств, где господствовало локально-разобщенное, отражающее различные общественные порядки обычное право «Варварских Правд», где римские правовые нормы потеряли силу всеобщего закона, — Византия бесспорно выделялась своей относительной упорядоченностью и единообразием законодательства и судопроизводства.
Вместе с тем само римско-византийское право той переходной эпохи отличалось крайней сложностью и противоречивостью: прогрессивные черты сочетались в нем с реакционными воззрениями рабовладельческого общества, — новое противоборствовало старому. С одной стороны, это право несло на себе немало родимых пятен рабовладельческого мира и по своей классовой направленности было даже более суровым в отношении народных масс, чем обычное право рождающегося феодального общества. С другой стороны, в основу законодательства ранневизантийского времени были положены лучшие достижения римской юридической мысли: в нем была завершена разработка римской теории права, получили окончательное оформление такие теоретические понятия юриспруденции, как право, закон, обычай, уточнено различие между частным и публичным правом, определены нормы уголовного права и процесса, заложены основы регулирования международных отношений.
Недаром в памяти потомков Византия навсегда останется страной, где была осуществлена знаменитая Юстинианова кодификация римского права. Именно благодаря ей сокровища римской юридической науки смогли стать достоянием юристов средних веков и нового времени.
Юридическая наука ранней Византии не ограничивалась только кодификацией римского права. Она значительно обогатилась, впитав в себя философско-правовые идеи греческих философов, религиозно-этические представления восточных народов, а также христианства. Все это помогло оформлению теории «естественного права», понятий «гуманности» и равенства человека перед законом. Произошел как бы взаимный обмен правовыми и этическими ценностями, созданными греко-римским и восточным мирами.
В противовес средневековой Европе именно Византия являлась страной, где в действующем гражданском праве получил юридическую санкцию принцип полной частной собственности. Это не могло не иметь значительных последствий: защита прав частной собственности стимулировала развитие товарно-денежных отношений, особенно в городах Византии.
Вместе с тем юридическая санкция принципа частной собственности, регулирование торгово-ростовщических операций, прав наследования и других институтов римско-византийского законодательства оказали бесспорное влияние на развитие юридической мысли в Западной и Восточной Европе и породили рецепцию Юстинианова права в буржуазном обществе.
Однако сохранением для будущих поколений высших достижений римского права отнюдь не ограничивается историческая значимость византийского законодательства. Несмотря на то, что важным отличием Византии от других стран средневекового мира было преобладание в византийской юриспруденции на всем протяжении существования империи римских правовых норм, было бы ошибочным представлять византийское законодательство как нечто раз и навсегда застывшее и лишь повторяющее на разные лады основы ранневизантийского права. Право феодальной Византии постепенно видоизменялось, развивалось, воссоздавая в новых юридических узаконениях многообразие социально-экономической и политической жизни византийского общества. Не столь блестящее, как римское право, с точки зрения разработки
теоретических положений юриспруденции, византийское законодательство классического средневековья все же отражало эволюцию форм собственности и эксплуатации, изменения общественных связей, преобразование структуры классов, государства, церкви, налогового обложения, появление новых форм классовой борьбы. В большей или меньшей степени эта эволюция обнаруживается в большинстве памятников византийского, светского и канонического права той эпохи.
Правда, следует подчеркнуть, что сквозь плотный покров римской юридической терминологии порой бывает трудно прощупать вызревание новых общественных институтов. Оформлению феодального права собственности в Византии, например, во многом препятствовало сохранение римских правовых традиций с их последовательно проведенным принципом частной собственности. Новые отношения — там, где они зарождались, — оформлялись в категориях безусловной частной собственности, феодальные по своему существу связи зачастую принимали облик римского вещного права или римских договорных отношений. Если феодальная терминология для отношений крестьянской зависимости в Византии была создана, то особой терминологии для отношений феодальной собственности на землю византийское право по существу так и не знало.
Сохранявшееся еще в поздней Византии классическое римско-византийское право в известной мере препятствовало правовому оформлению условной иерархической феодальной собственности. А при сравнительно слабом вызревании элементов раннекапиталистического строя оно еще не могло быть применено для юридической санкции новых общественных отношений. В этом кроется причина того, на первый взгляд парадоксального явления, что классическое римско-византийское право получило импульсы качественно нового развития не в самой Византийской империи, а на почве Западной Европы. На Западе, где более интенсивно зарождались раннекапиталистические отношения, это право, основанное на частной собственности, было использовано применительно к новым социально-политическим условиям жизни. Рецепция римско-византийского права стимулировала, в свою очередь, дальнейшее оформление правовых институтов буржуазного общества в Западной Европе.
Выдающуюся роль играло Византийское государство и в международной жизни средневекового общества. Удельный вес Византии на международной арене, разумеется, изменялся: Византийская империя знала и периоды расцвета своего внешнего могущества, и тяжелые годины военных поражений и дипломатических неудач. Но всегда Византия сохраняла самые разветвленные внешнеполитические связи, всегда стремилась оказывать влияние на ход международных событий не только в Европе, но и в Азии, а временами даже и в Африке.
В течение веков не раз менялись главные враги Византии, менялись и ее союзники. В раннее средневековье основная опасность грозила империи с востока и севера. Сперва ей приходилось отбивать удары закованных в броню сасанидских воинов и грозных, хотя и беспорядочных полчищ варваров-гуннов, готов, авар, славян. Позднее их сменили удачливые завоеватели — арабы, которым, однако, так и не удалось сломить мощь Византии. Не раз под стенами Константинополя появлялись ладьи храбрых руссов и войска болгар. Нередко сама Византия переходила в наступление на своих соседей, нанося им чувствительные поражения. С XI в., несмотря на продолжающуюся борьбу на Востоке, которая велась на этот раз с турками-сельджуками, основная опасность для Византии переместилась на Латинский Запад. Именно оттуда появились и кичливые норманны и расчетливые итальянцы, и первые завоеватели Константинополя — грабительские армии крестоносных рыцарей.
В последние столетия существования Византийского государства наибольшая, на этот раз смертельная, опасность вновь надвинулась с Востока, откуда хлынули и смяли империю войска турок-османов. Гибели Византийской державы способствовало и вероломное попустительство Запада, и постоянные столкновения со славянскими государствами Балканского полуострова, ослабившие перед лицом общего врага как Византию, так и славян.
Только после падения Византии ошеломленная Европа в какой-то мере осознала ту историческую роль, которую долгие годы играла эта страна в международной политике средневековья.
Византийская империя, подобно Древней Руси, на протяжении столетий служила как бы барьером для Западной Европы, о который разбивались многочисленные тюркские и монгольские орды, двигавшиеся с Востока.
Византийское государство в течение всей своей истории находилось в центре сложной внешнеполитической борьбы. Быть может, именно тяжелая международная обстановка и выковала столь искусную и изощренную византийскую дипломатию. Внешняя политика Византии прославилась умением комбинировать тайную дипломатическую игру с меткими военными ударами. Особенно искусно умели византийские правители разбить сильного врага чужим оружием, хитрыми интригами, натравив на него его же союзников.
Окруженная опасностями, Византия постоянно старалась избежать одновременной борьбы на два фронта. И всегда, когда ей это удавалось, она выходила победительницей из самых острых коллизий.
Препятствуя объединению врагов, византийское правительство не брезговало для достижения своих целей любыми средствами. Чаще всего в ход пускались подкуп иноземных правителей, интриги при иностранных дворах, натравливание одних народов на другие, разжигание среди соседей племенной или религиозной розни. Византийская дипломатия являлась своего рода кодексом вероломства: ее девизом по-прежнему оставался испытанный принцип политики римлян — «Разделяй и властвуй!». Коварство и изворотливость, умение плести самые хитроумные козни, разыгрывать дипломатические комбинации, как шахматную партию, — были основным нервом византийской дипломатической системы. Византийские дипломаты были великими мастерами склонять к измене самых лучших друзей своих противников, разъединять своих врагов, покупать за золото и высокие имперские титулы союзников. Широко использовались и династические браки иноземных правителей с византийскими принцессами для подчинения соседних государств влиянию Византии.
Вместе с тем византийской дипломатии были присущи и некоторые особые черты, отличающие ее от дипломатии других феодальных государств Европы. Прежде всего византийская дипломатия носила централизованный характер. Вся внешнеполитическая деятельность византийских дипломатов руководилась из единого центра — императорского дворца и находилась под неустанным строжайшим контролем государства. Текли столетия, чередовались у власти социальные группировки господствующего класса, приходили и уходили с исторической арены византийские императоры и их логофеты, менялись в зависимости от внутренних и внешних причин цели и задачи внешней политики Византии, но сохранялась централизация византийской дипломатической системы, совершенствовались ее методы и приемы.
В сравнении с неупорядоченной, распыленной, зачастую действующей несогласованно дипломатией варварских королевств или феодальных княжеств раздробленной на замкнутые мирки Европы, централизованная, твердо направляемая государством византийская дипломатия имела свои бесспорные преимущества. Византийское государство, используя традиции Поздней Римской империи, сумело создать необычайно разветвленную дипломатическую систему. Византийская империя обладала огромным штатом высоко образованных дипломатов и массой переводчиков, обученных языкам почти всех известных тогда народов мира.
Заслугой византийской дипломатии является разработка правил посольского дела: порядка приема и отправления посольств, определения прав и обязанностей послов и других дипломатов. В положении византийского посла при иноземном дворе наблюдалась драматическая двойственность: с одной стороны, Византия чрезвычайно заботилась о поддержании высочайшего престижа посла великого государства, с другой — посол всегда оставался лишь исполнителем воли императора и мог принимать серьезные решения только с его санкции. Для охраны своих дипломатов Византия ввела в международное право принцип неприкосновенности личности посла; этот принцип позднее получил широкое распространение в странах Западной и Восточной Европы. Византийской дипломатией была введена процедура заключения и расторжения договоров с иностранными державами, созданы формуляры международных договоров, составляемых обычно на языках обеих договаривающихся сторон, установлен церемониал их подписания. Византийские дипломаты применили систему верительных грамот для послов и определили многие другие формальности дипломатического ритуала. Пышный церемониал приема иностранных послов в императорском дворце Константинополя должен был своим блеском ослепить варваров, внушить им представление о силе Византийского государства, скрыть от них все его слабости. Задачей византийской дипломатии было очаровать и одновременно запугать чужеземных послов, чтобы тем легче их обмануть. Иностранные послы при византийском дворе жили фактически на положении почетных пленников, которых стремились полностью отгородить от населения империи. Их то одаривали роскошными подарками, то в случае неуступчивости унижали и грозили убить. Все чужеземные дипломаты, приезжавшие в Византию, были опутаны хитроумной сетью неусыпного надзора.
Византийская дипломатия умело использовала во внешнеполитических интересах византийского правительства торговые, религиозные и культурные связи империи с самыми различными странами и народами. Византийский купец, миссионер и дипломат в большинстве случаев действовали единодушно, способствуя распространению влияния Византийского государства далеко за его пределами. Порою же купец и миссионер одновременно выполняли и дипломатические функции, проникая раньше послов в самые отдаленные и неведомые страны.
Византийские дипломаты, купцы и миссионеры неустанно собирали в интересах своего правительства многообразные сведения о всех государствах, где им довелось побывать, о политической атмосфере, царящей при дворах правителей иноземных королевств, о военном деле, торговле, нравах и обычаях различных народов. Иногда на основе этих наблюдений впоследствии рождались интереснейшие описания самых экзотических стран, являющиеся превосходным историческим источником. Вместе с тем сами торговые и церковные интересы Византии, в свою очередь, зачастую направляли деятельность византийской дипломатии.
Особенно крупная роль во внешней политике Византии принадлежала церкви и церковным миссиям. Распространение христианства являлось важнейшим дипломатическим орудием Византии на протяжении многих столетий. Гибкость и изворотливость византийской дипломатии были в равной степени присущи и миссионерской деятельности православной церкви. Стремясь скрыть истинные политические цели под маской благожелательности, стремясь привлечь на свою сторону симпатии новообращенных народов, Константинопольская патриархия применяла более гибкие методы миссионерской деятельности, чем папский престол. Византийские миссионеры вели проповедь христианства и вводили богослужение на местных языках, они переводили на эти языки священное писание, в то время как католический Рим сурово искоренял литургию на национальных языках. Такая гибкая политика православной церкви во многом способствовала успеху византийской дипломатии, утверждению византийского политического и идейного влияния в христианизированных странах.
Византийская дипломатия оказала глубокое влияние на организацию дипломатического дела в других средневековых государствах и долгое время оставалась своего рода эталоном для многочисленных варварских народов. Организационные принципы и внешние формы дипломатического этикета византийской дипломатии легли в основу европейской дипломатии феодальной эпохи. По своей целенаправленности и четкой централизации с византийской дипломатической системой в Европе может сравниться лишь дипломатия католического престола и Венецианской республики. Но, кстати сказать, именно венецианские дожи и папская курия особенно много заимствовали в своей дипломатической деятельности от византийской дипломатической школы, а многие их агенты были учениками и последователями византийских дипломатов.
Сама византийская дипломатия, в свою очередь, немало позаимствовала от дипломатической организации восточных монархий, в частности Сасанидского Ирана и особенно Арабского халифата. Несмотря на длительные войны с персами и арабами Византия поддерживала постоянные тесные связи с восточным миром, что, естественно, привело к взаимному усвоению обеими сторонами приемов и методов дипломатии другой страны. Этому способствовало и то, что дипломатическая система Ирана и Арабского халифата тоже во многом носила централизованный характер, направлялась правительством шахов и халифов и тем самым была более близка к византийской дипломатии, чем дипломатическая организация феодальных княжеств и королевств Европы.
В истории мировой культуры византийской цивилизации, поражавшей современников не только своей торжественной пышностью, но и внутренним благородством, изяществом форм и глубиной мысли, принадлежит особое небесспорно выдающееся место. В течение всего своего тысячелетнего существования Византийская империя — эта прямая наследница греко-римского мира и эллинистического Востока — оставалась центром своеобразной и поистине блестящей культуры. Более того, вплоть до XIII в. Византия по уровню развития образованности, по напряженности духовной жизни и красочному сверканию материальной культуры, бесспорно, стояла впереди всех стран средневековой Европы.
Создание византийской культуры было сложным, порой мучительно-противоречивым процессом. Византийская цивилизация, в отличие от западноевропейской, в тревожные времена варварских нашествий во многом осталась последним оплотом греко-римских традиций. Как византийская государственность устояла под натиском варваров, так и византийская культура сумела противостоять волне варварских влияний. Византийская культура, однако, сама впитала художественные традиции, созданные многочисленными народами, населявшими империю. Не только греки, но сирийцы и копты, армяне и грузины, малоазийские племена и славяне, народности Крыма и латинское население Иллирика в разной, конечно, степени внесли свою лепту в формирование собственно византийской культуры. Но после ее окончательного сложения культурное развитие этих народов пошло под знаком нивелирующего господства византийской цивилизации.
Становление византийской культуры происходило в обстановке глубоко противоречивой идейной жизни ранней Византии. Это было время складывания всей идеологии византийского общества, оформления системы христианского миросозерцания, утверждавшегося в острой борьбе с философскими, естественнонаучными и эстетическими воззрениями античного мира. На авансцене идейной жизни той поры мы видим страстную полемику языческих философов и христианских богословов, шумные столкновения прославленных риторов и фанатичных монахов. Христианство энергично ведет наступление, но язычество еще не сдает окончательно своих позиций, а порою одерживает временные победы.
Античные традиции еще господствуют в естественных науках, в проникнутой пафосом римской государственности придворной историографии, в искусственной, наполненной духом ретроспективизма светской поэзии, в блистающей отточенностью аттических форм риторике и эпистолографии. Еще сохраняются античная космогония и космография, высокий уровень научного познания мира, живут эстетические идеалы эллинизма.
Вместе с тем именно в этот период медленно, но неуклонно идет процесс сближения, взаимопроникновения и взаимообогащения, античной и христианской культур. Христианство, победив политически, могло, однако, бороться с неиссякаемым обаянием античности в сфере философии, науки, классической литературы и искусства, лишь усваивая и ставя себе на службу высшие достижения языческой цивилизации.
Если в раннем христианстве с его ригористической непримиримостью в художественном творчестве наблюдалось нарушение гармонии между формой и содержанием, если дидактичность и суровый аскетизм раннего христианства приводили к забвению формы в угоду нравоучительности, а все, на чем сохранялось клеймо язычества, с пренебрежением отбрасывалось, то позднее положение существенно изменилось. Наиболее образованные и дальновидные христианские богословы поняли необходимость овладения всем арсеналом языческой культуры, использования ее филигранной формы при создании новых философских и эстетических концепций.
В патристической литературе ранневизантийской эпохи, где закладывался фундамент средневекового христианского богословия, мы видим сочетание идей раннего христианства с неоплатонической философией, парадоксальное переплетение античных риторических форм с новым идейным содержанием. Христианская догматика формируется под сильным воздействием неоплатонизма. Мистический и теистический характер учения неоплатоников, их этические воззрения, перекликавшиеся с христианским аскетизмом, открывали путь к такого рода сближению. В самом неоплатонизме в борьбе двух течений — радикального, враждебного христианству, и более умеренного — постепенно берут верх сторонники компромисса с христианским богословием. Происходит как бы двуединый процесс отталкивания, обособления и одновременно сближения, слияния неоплатонической философии и христианского богословия. Он завершается, как известно, поглощением неоплатонизма христианством.
В переходную эпоху гибели рабовладельческого и становления феодального общества коренные сдвиги происходят во всех сферах духовной культуры Византии. Рождается новая эстетика, возникает новое видение мира, более соответствующее складу мышления и эмоциональным запросам средневекового человека. Патристическая литература, библейская космография, литургическая поэзия, монашеская повесть, всемирная хроника, христианская агиография, пронизанные религиозным миросозерцанием, мало-помалу овладевают умами византийского общества.
Лихорадочный темп жизни, полной социальных и политических катаклизмов, отражается в самых разнообразных сферах творческой деятельности людей того времени. Общественная мысль находится в постоянном движении. В империи бушуют тринитарные и христологические споры, идет непримиримая борьба господствующей церкви с ересями. Вся духовная жизнь общества отличается драматической напряженностью. Вместе с тем в ней наблюдается удивительное смешение языческих и христианских идей, мыслей, образов, представлений, колоритное соединение языческой мифологии с христианской мистикой. Эпоха становления новой, средневековой культуры рождает талантливых, порою даже отмеченных печатью гения, мыслителей, писателей, поэтов. Индивидуальность художника еще не растворилась в церковно-догматическом мышлении. Интимная биографичность, глубочайший самоанализ, смятенность душевных переживаний характерны для некоторых поэтических произведений того времени. Психологизм и душевная открытость поэзии Григория Назианзина перекликаются со знаменитой на Западе «Исповедью» Августина.
В формирующейся христианской идеологии в этот период можно наметить две струи: аристократическую, связанную с господствующей церковью, и плебейско-народную, выросшую из ересей и корнями уходящую в толщу религиозно-этических представлений народных масс и широких слоев беднейшего монашества. Православная церковь, господствующие классы империи, императорский двор, константинопольская аристократия и образованное высшее духовенство все энергичнее выступают за использование всего лучшего, что было дано человечеству античной культурой. Христианские богословы, писатели, проповедники все чаще и чаще заимствуют из сокровищницы греко-римской цивилизации импонирующую простоту и пластичность философской прозы, филигранные методы неоплатонической диалектики, логику Аристотеля, практический психологизм и искристое красноречие античной риторики. Постепенно происходит своего рода подспудная реабилитация классического образования и античной литературы, в школах, наряду с Библией, начинают изучать Гомера. В ранневизантийский период христианская ученая литература достигает высокой степени утонченности, соединяя изысканное изящество формы с глубоким спиритуализмом содержания. Византийская богословско-патристическая литература оказала огромное влияние на формирование богословско-философских концепций в Западной Европе раннего средневековья.
Иные эстетические идеалы в это же время были выдвинуты представителями плебейского народного течения в христианской идеологии. Питаемая народной средой, рождается новая монашеская повесть и хроника, церковная поэзия, агиография. Это направление вольно или невольно все больше приближает христианскую литературу к народу и отрывает ее от ученой античности. В художественное творчество все сильнее проникают стихийный темперамент, народная цельность и наивность восприятия мира, искренность и эмоциональная приподнятость нравственных оценок, неожиданное соединение мистицизма с жизненностью бытового колорита, набожной легенды с деловитым практицизмом. Сильная народная струя проникает в литургическую поэзию, где рождается новая метрика и ломаются античные нормы стихосложения, где торжествуют новые эстетические идеалы, пронизанные народным духом.
В VII в. завершается первый этап развития византийской культуры и идеологии. К этому времени окончательно кристаллизуется христианская догматика, в основном складываются эстетические воззрения византийского общества. На смену драматической напряженности беспокойных первых столетий истории Византии приходит некоторое идейное успокоение, в общественной мысли господство получают спиритуалистические идеалы созерцательного покоя, нравственного совершенства, все как бы застывает, делается строже, суше, статичнее. Христологические и тринитарные споры, будоражившие ранневизантийское общество, временно затихают, подчиняясь единому церковно-догматическому мировоззрению.
В культурной жизни империи этого времени весьма ощутимы упадок научных знаний, вульгаризация и сакрализация литературы, снижение уровня образованности. Античные традиции временно меркнут, уступая место средневековому миросозерцанию. В VIII–X вв. наблюдается известная стабилизация византийской культуры: это были века систематизации христианского богословия. Богословско-философская мысль окостеневает, теряет свой творческий характер, труды богословов и философов делаются все более догматичными и компилятивными. Происходит как бы обобщение и классификация всего достигнутого в науке, богословии, философии, литературе. Завершается процесс своего рода отрицания античной культуры.
Этому сопутствует усиление традиционализма и консервативных веяний в духовной жизни византийского общества. Идеализация ушедшего в прошлое величия римско-византийского государства, прославление василевсов ромеев, истинной веры, правопорядка, превосходства цивилизованных византийцев над невежественными варварами получают выражение в застывшем в своей парадной неподвижности придворном этикете, в пышном церковном ритуале. Магия обряда проникает всюду — в богослужение, в придворный церемониал и дипломатию, в частную жизнь общества.
В греческой литургии как бы сливаются воедино медлительный ритм богослужебного действа, величавое спокойствие церковных гимнов с торжественными интонациями церковной музыки и очертаниями церковного интерьера. Здесь было достигнуто такое же гармоническое единство поэтического текста и архитектурного пространства, как в греческом театре классической эпохи.
Устремленность в прошлое, консерватизм мышления, однако, отнюдь не свидетельствовали о духовном застое, лености мысли, бессилии ума византийцев. Это была своего рода общественная позиция, выдвинутая для защиты классовых основ византийского общества и государства.
В период классического средневековья в византийской культуре полностью торжествуют обобщенно-спиритуалистические принципы. Общественная мысль, литература, искусство как бы отрываются от реальной действительности и замыкаются в кругу высших, абстрактных идей. Христианство, борясь как против античного миросозерцания, где царила гармония духа и тела, так и против дуалистических еретических учений, отделявших непроходимой пропастью духовное и телесное начала, хотя и осознает трагическую противоречивость мира, но стремится снять это противоречие. Выход из тупика, создаваемого этим извечным конфликтом духа и материи, христианство ищет в примирении духа и плоти, в соединении несоединимого путем подчинения плотского начала духовному.
Византийская литература этого периода обращается к символическому лиризму; ей теперь чужда динамика действия, разрешение конфликта достигается не путем саморазвития образа героя, а через его внезапное духовное озарение. В литературу врывается элемент чуда и занимает там надолго прочные позиции. Метафоры и аллегории делаются все пышнее, но безжизненнее, масштабы повествования грандиознее, но дальше от интимной жизни и психологических переживаний человека. Характеристика персонажей часто лишается полнокровной конкретности.
Византийская литература, как и вся культура той эпохи, в своей основе статична, бездейственна, рассудочна. Художник не только не вмешивается в течение окружающей жизни, не только не высказывает своего отношения к ней, но даже и не стремится познать все многообразие бытия. Он часто живет в выдуманном, нереальном мире рассудочных абстракций и канонизированных ситуаций и образов. Вместо познания природы и человека он занят воплощением идеи в стройной системе символов. Постоянная изменчивость, подвижность видимого мира для него лишь иллюзия, лишь оболочка, скрывающая неизменную извечную сущность всех вещей. Повествование замыкается в кругу излюбленных трафаретных сюжетов; в произведениях церковной литературы той поры поселяются символические, стереотипные герои, абстрактные пейзажи, господствует метафизическая игра словами, порою утомительный фразеологический этикет. Полнокровные бытовые детали, грубоватый народный юмор, столь характерные, например, для житийной литературы ранней Византии, все чаще сменяются бесплотными, аскетическими фигурами мучеников и святых. Канонизированность и унифицированность всей духовной жизни Византии постоянно поддерживаются строгой регламентацией мышления со стороны государства и господствующей церкви. Задачи творчества четко ограничены поучительностью, дидактичностью литературы: цель писателя — не осмысление природы и бытия, а просвещение и спасение тех, кто бродит во тьме невежества и греховности. Для него нет необходимости обладать своим собственным видением мира.
Канонизированность и традиционность византийской культуры той эпохи не смогли, однако, полностью погасить в общественной жизни внутреннего творческого горения, уничтожить живые искания полнокровных художественных образов. В сухую пустыню голых абстракций из реальной жизни порой неожиданно врываются трогательно-поэтичные, наивно-бесхитростные образы простых, маленьких страждущих людей. На страницах византийской житийной литературы возникает истинно народный образ немощного телом, но чистого душой человека. Обычно это нищий духом, всюду гонимый, осыпаемый насмешками и оскорблениями толпы юродивый. Но именно он, такой несчастный, а порой смешной в своей беспомощности, рисуется агиографами как избранник божий, который творит чудеса и совершает подвиги добродетели. Все повествование пронизывает щемящее чувство искреннего сострадания к бедному человеку, такому убогому и такому мудрому в своей простоте. В литературе хотя и увековечивается дисгармония, царящая в мире, но вместе с тем громко звучат нотки гуманизма, которых так не хватало в моральном кодексе рабовладельческого общества.
Таким образом, двойственность византийской культуры, наличие и противоборство аристократической и народной струи не стираются даже в периоды наивысшего господства догматизированной церковной идеологии. Вместе с тем, в отличие от Западной Европы, почти целиком утратившей в раннее средневековье сокровища античной культуры, в Византии традиции греко-римской цивилизации никогда не умирали, а упадок образованности ощущался в значительно меньшей степени, чем на Западе. Естественно поэтому, что и возрождение античной культуры в Византии началось раньше, чем в Западной Европе. Средневековая христианская Византия как бы хочет, но не может сбросить с себя груз античной культуры, и все вновь и вновь возвращается к этому источнику знания. Правда, в IX–X вв. изучение античности в Византии не было еще творческим, а носило компилятивный характер. X век был веком энциклопедий, компендиев, эксцерптов из произведений древних авторов, но мало-помалу античное наследие вновь начинают использовать в целях развития новых эстетических взглядов общества.
Значительное накопление позитивных знаний, медленный, но неуклонный рост естественных наук, расширение представлений человека о земле и вселенной, потребности мореплавания, торговли, дипломатии, юриспруденции, развитие культурного общения со странами Европы и арабским миром — все это приводит к обогащению византийской культуры и крупным переменам в мировоззрении византийского общества. В XI–XII вв. в византийской культуре происходят серьезные сдвиги. Это было время подъема научных знаний и зарождения рационализма в общественной мысли византийского общества. Крупные византийские мыслители того времени впервые пытаются, правда пока еще не очень последовательно, логически обосновать важнейшие церковные догматы. Рационалистические тенденции у византийских философов и богословов, так же как и западноевропейских схоластов X–XII вв., проявлялись прежде всего в стремлении сочетать веру с разумом, а порою и поставить разум выше веры. Но в отличие от западноевропейской схоластики византийская философия XI–XII вв. строилась на основе античных философских учений разных школ, а не только преимущественно на трудах Аристотеля, как это было на Западе. Выразителями рационалистических веяний в византийской философии были Михаил Пселл, Иоанн Итал и их последователи.
Важнейшей предпосылкой развития рационализма в Византии был новый этап возрождения античной культуры в империи, нашедший выражение в осмыслении античного наследия как единой целостной философско-этической системы. Византийские мыслители XI–XII вв. воспринимают от античных философов уважение к разуму; на смену слепой вере, основанной на авторитете, приходит исследование причинности явлений в природе и обществе. Рационалистические идеи византийской философии XI–XII вв. оказали заметное влияние на развитие западноевропейской схоластики и средневековой философской мысли в целом. Как в Византии, так и на Западе они подвергались жестоким гонениям со стороны господствующей церкви.
В это же время происходят значительные сдвиги в литературном творчестве и морально-этических воззрениях византийского общества. В период расцвета феодализма и тесного политического и культурного общения Византии с Западом усиливается светское течение в византийской литературе, в кругах феодальной знати и интеллигенции растет религиозный индифферентизм, появляются остро сатирические произведения, бичующие пороки монашества. Монашеский идеал целомудрия находит все меньше адептов и сменяется воспеванием простых человеческих радостей земной любви. Создание куртуазного рыцарского романа на Западе совпадает с появлением в Византии воинской повести, героического эпоса, любовного романа, на страницах которых живут и действуют новые герои — смелые воины, творящие чудеса храбрости уже не во имя аскетических идеалов спасения души, а ради своих прекрасных возлюбленных и во славу василевса ромеев. В литературе происходит смена жанров — классическое житие заменяется светской повестью, всемирные хроники — мемуарами и трудами историков, описывающих современные им события. Византийская историография вновь переживает блестящий расцвет. Возрождается риторика, эпистолография. Наряду с религиозными гимнами развиваются светская любовная лирика и обличительная сатирическая поэзия.
Но новые веяния проявляются не только в эволюции литературных жанров, а прежде всего в изменениях этических воззрений. Заметно меняется творческая позиция художника. На смену пассивному преклонению перед церковно-догматическим отображением мира сверхчувственных сущностей постепенно приходит осознанное восприятие художником реального мира.
Художник теперь не только ясно видит всю противоречивость и сложность человеческой души, но и дает свою оценку действий человека. Если в житийной литературе предшествующих столетий характеристика героя была всегда однозначной — он был или сосудом добра, или вместилищем всех зол, то ныне в литературе появляются сложные человеческие характеры: герой рисуется уже не только светлой или темной краской, но и полутонами, образ делается более жизненным, правдивым. Сам писатель то восхищается своим героем, то иронизирует над ним, то бичует его пороки. Сочнее, полнокровнее становится и язык литературных произведений, мертвый, книжный язык античных классиков или отцов церкви начинает заменяться народным разговорным языком.
Все эти бесспорно прогрессивные явления в византийской культуре XI–XII вв. нашли свое дальнейшее развитие в последний период существования Византийской империи. Вместе с тем они наталкивались на самое отчаянное сопротивление со стороны идеологов господствующей церкви. Культура поздней Византии отмечена печатью утомленного величия. В обстановке трагического умирания некогда могучей империи, ныне зажатой в кольце внешних врагов и сотрясаемой внутренними социальными конфликтами, происходит ясная поляризация двух основных течений в византийской идеологии.
Даже в самую тяжкую годину вражеских нашествий в Византии сохранялись очаги культуры, билась живая мысль, зрели новые идеи, порою опережавшие свой век и предвосхищавшие эпоху гуманизма. Передовые социально-политические идеалы зилотов, смелая, пусть утопическая, философско-религиозная система Плифона, стремившегося не только создать свою новую, проникнутую языческим пантеизмом религию, но и возродить в Византии идеальное государство Платона, хотя и были обречены на неудачу, оставили заметный след в развитии человеческой мысли.
В возрожденной политии Платона Плифон видел не абстрактный идеал государственного устройства, а реформированное на новой социальной основе реальное Византийское государство, где будут гармонически трудиться под защитой воинов как богатые граждане, так и простые труженики, управляемые мудрыми философами. Там вновь под эгидой протекционизма расцветут ремесло и торговля, будет создана национальная регулярная армия, способная спасти империю. В политическом учении Плифона уже зрели семена реальных идей национального государства, за которыми было будущее в Европе.
Последний период истории Византии был в то же время веком выдающихся византийских эрудитов. Широчайшие познания прославленных византийских философов, богословов, филологов, риторов — таких, как Димитрий Кидонис, Мануил Хрисолор, Виссарион Никейский и другие, вызывали безграничное восхищение итальянских гуманистов, многие из которых были учениками и последователями византийских ученых. В историографии и светской литературе поздней Византии явственно проступают гуманистические черты — интерес к человеческой личности, к природе, мирозданию; наряду с библейской концепцией исторического процесса зарождаются новые историко-философские теории, в частности теория закономерной смены мировых монархий. В это время заметен прогресс в точных и естественных науках, особенно в математике и медицине.
В XV в. все теснее становится идейное общение византийских эрудитов с итальянскими учеными, писателями, поэтами, все сильнее их влияние на формирование раннеитальянского гуманизма. Именно византийским эрудитам суждено было открыть западным гуманистам прекрасный мир греко-римской древности, познакомить их с классической античной литературой, с подлинной философией Платона и Аристотеля.
Но одновременно с зарождением гуманистических идей в поздней Византии происходит необычайный взлет мистицизма. Как будто бы все временно притаившиеся силы спиритуализма и мистики, аскетизма и отрешенности от жизни консолидировались теперь в исихастском движении и начали наступление на идеалы Ренессанса.
В атмосфере идейной безнадежности, порождаемой смертельной военной опасностью, феодальными усобицами и разгромом народных движений, среди византийского духовенства и монашества зрело стремление найти спасение от земных бед в мире пассивной созерцательности, полном успокоения, — исихии, в самоуглубленном экстазе, дарующем мистическое слияние с божеством и озарение божественным светом. Поддерживаемое господствующей церковью и феодальной знатью, учение исихастов одержало победу, заворожив мистическими идеями широкие народные массы империи. Победа исихастов во многом была роковой для культурного развития Византии, да и для судеб самого Византийского государства: исихазм задушил ростки гуманистических идей в литературе и искусстве, ослабил волю к сопротивлению народных масс в борьбе с внешними завоевателями. Мистические идеи исихазма оказались весьма живучими и после падения Византии проникли далеко за пределы империи в страны Восточной и Юго-Восточной Европы.
Прогрессивные идеи византийских мыслителей, горячих приверженцев античной цивилизации, однако, не исчезли бесследно, а были перенесены на почву Западной Европы, где и продолжали жить, во многом оплодотворив ее культуру в эпоху Ренессанса.
Выдающееся место в истории мировой культуры по праву принадлежит также византийскому искусству. Средневековая Европа обязана Византии созданием неповторимого по своей эмоциональной силе и элегантной изысканности художественного стиля, оказавшего неизгладимое воздействие на развитие эстетических воззрений во многих сопредельных с империей странах.
Византийское искусство генетически восходило к эллинистическому и восточнохристианскому художественному творчеству. В ранний период в византийском искусстве как бы слились воедино рафинированная пластичность и трепетная чувственность позднеантичного импрессионизма с наивной, порой грубоватой экспрессивностью народного искусства Востока. Эллинизм долгое время оставался главным, хотя и не единственным, источником, откуда византийские мастера черпали изящество форм, правильность пропорций, чарующую прозрачную колористическую гамму, техническое совершенство своих произведений. Но эллинизм, естественно, не мог в полной мере противостоять мощному потоку восточных влияний, нахлынувших в Византию в первые столетия ее существования. В это время ощущается значительное воздействие на византийское искусство египетских, сирийских, малоазийских, иранских художественных традиций, народного творчества степных кочевников-варваров.
Однако уже в VI–VII вв. византийские художники сумели не только впитать эти многообразные влияния, но и, преодолев их, создать свой собственный стиль в искусстве. С этого времени Константинополь превращается в прославленный художественный центр средневекового мира, в «палладиум наук и искусств». Позднее за ним следуют Никея, Афины, Трапезунд, Мистра, Афон, также ставшие средоточием византийского художественного стиля.
Возникнув в придворной, аристократической среде столицы мировой державы с ее автократической властью василевсов и влиятельной православной церковью, византийское искусство во всей полноте отразило основные черты христианского мировоззрения, воплотило эстетические идеалы феодального общества Византии. Эллинистический языческий антропоморфизм отныне был наполнен совсем иным идейным содержанием: искусство прониклось философскими представлениями восточнохристианской религии, а эстетика византийских мастеров оказалась органически связана с религиозным миросозерцанием.
Если классическое античное искусство отличалось умиротворенным монизмом, если оно не знало борьбы духа и тела, а его эстетический идеал воплощал гармоническое единство телесной и духовной красоты (χαλοχαγαδια), то уже в поз дне античном художественном творчестве намечается трагический конфликт духа и плоти. Монистическая гармония сменяется столкновением противоположных начал, «дух как бы стремится сбросить оковы телесной оболочки». Это противоборство духовного и плотского элементов привело к сочетанию в позднеантичном искусстве языческой чувственности с огромной духовной напряженностью.
Эстетика византийского общества на первых порах впитала из эстетических идеалов поздней античности взволнованную одухотворенность и философский спиритуализм, подобно тому как сама восточнохристианская религия восприняла элементы мистики из неоплатонической философии. В дальнейшем византийское искусство преодолело конфликт духа и тела, его сменила спокойная созерцательность, призванная увести человека от бурь земной жизни в сверхчувственный мир чистого духа. Это «умиротворение» происходит в результате признания примата духовного начала над телесным, победы духа над плотью. Основной эстетической задачей византийского искусства отныне становится стремление художника воплотить в художественном образе трансцендентную идею. Это было закономерным следствием глубокого изменения всех общественных отношений, всей идеологии Византийской империи: сенсуалистическая эстетика античности не отвечала уже запросам господствующего класса и православной церкви Византии и была постепенно вытеснена спиритуалистическими идеалами средневековья.
Прекрасное, радостное, пантеистическое божество античных греков заменил трансцендентный, суровый, далекий от мира бог — воплощение чистой идеи; беломраморные языческие храмы древней Эллады,
пронизанные солнцем, как бы слитые с окружающей природой, сверкающие на фоне голубого неба и жемчужного моря, сменила скромная по внешнему виду христианская базилика, вся прелесть которой таилась в ее внутреннем убранстве.
В полумраке сводов византийских храмов сумеречно сияло множество свечей и лампад, озарявших таинственными отблесками золото мозаик, темные лики икон, многоцветные мраморные колоннады, великолепную драгоценную утварь. Статуи античных богов и героев, прекрасные в своей мужественной пластичности, навсегда были изгнаны из дворцов и храмов и уступили место аскетическим образам христианских святых, воплощавших на мерцающем золотом фоне икон и мозаик бесплотный идеал христианского смирения.
Византийское искусство все более и более приобретает вневременной и внепространственный характер; абстрактный золотой фон, столь любимый византийскими мастерами, заменяет реальное трехмерное пространство, выполняя важную эстетическую функцию: он призван как бы отгородить отвлеченное изображение того или иного явления от живой действительности окружающего мира. Торжественный монументализм все чаще соединяется с усложненной символикой. Победа обобщенно-спиритуалистического принципа в эстетике приводит к растворению многообразия реального мира в символах, художник стремится освободиться от излишних, докучливых деталей, не раскрывающих, по его мнению, основной идеи произведения. Отвлеченные архитектурные ансамбли, фантастические пейзажи фона делаются все более абстрактными и зачастую заменяются золотыми или пурпурными плоскостями. В живописи и архитектуре начинает господствовать строгая, рассудочная симметрия, спокойная, торжественная уравновешенность линий и движений человеческих фигур на фресках и мозаиках храмов. В искусстве господствует пышная декоративность. Творчество художника приобретает отныне безликий характер, оно сковано традицией и церковным авторитетом, а порывы индивидуальных творческих исканий мастера подчинены нивелирующему действию канона.
Церковное богослужение, превратившееся в Византии в своего рода пышную мистерию, должно было по замыслу церкви затмить в душе человека эмоциональную приподнятость античной трагедии, здоровое веселье мимов, суетные волнения цирковых ристаний и даровать ему отраду в тусклой повседневности реальной жизни. И поскольку эти надежды далеко не всегда сбывались и простые радости бытия часто брали в народе верх над проповедью аскетизма, постольку церковь стремилась с особой настойчивостью использовать для идейного воздействия на широкие массы магическую силу искусства.
Глубокий спиритуализм эстетических воззрений византийского аристократического общества не увел, однако, искусство Византии окончательно в мир голой абстракции. В отличие от мусульманского Востока, где примат духовного начала над плотским привел к господству в изобразительном искусстве геометризма и орнаментальных форм, вытеснивших изображение человека, в искусстве Византии человек все же остался в центре художественного творчества. Прежде всего этому способствовали прочные традиции греческого антропоморфизма, весьма живучие в различных социальных слоях византийского общества.
Вместе с тем в самой восточнохристианской религии видное место, как мы знаем, занимало учение о воплощении Христа, принявшего для спасения человечества телесный облик человека. Этот догмат христианства как бы реабилитировал самого человека, примиряя религию с неизбежностью существования его телесной природы, а следовательно, и возможностью ее изображения в искусстве. Мощная стихия беспредметного искусства мусульманского Востока в эпоху иконоборчества, как мы видели, грозила затопить и Византию, но греческий антропоморфизм не только устоял, но и победил в этой борьбе.
С X в. в византийском искусстве складывается определенный устойчивый канон в изображении человека. Если языческий мир воспевал в нем телесную красоту, то византийское искусство прославляло его душевное величие и аскетическую чистоту. И в стенных росписях, в мозаиках и иконах, и даже в книжной миниатюре голова как средоточие духовной жизни становится доминантой человеческой фигуры, тело же стыдливо скрывается под струящимися складками одеяний, линейная ритмика сменяет чувственную экспрессию.
В изображении человеческого лица на первый план художник выдвигает его одухотворенность, самоуглубленную созерцательность, внутреннее величие, глубину душевных переживаний. Огромные глаза с экстатически расширенными зрачками, пристальный взор которых как бы завораживает зрителя, высокий лоб, тонкие, лишенные чувственности губы, — характерные черты портрета в византийском искусстве классического средневековья.
Впечатление пассивной созерцательности, замкнутости художественных образов достигается, кроме того, и применением византийскими мастерами особой колористической гаммы. Вместо античного импрессионизма с его тончайшей нюансировкой нежных полутонов с X в. начинают господствовать плотные локальные краски, наложенные декоративными плоскостями с преобладанием пурпурных, лиловых, синих, оливково-зеленых и белых тонов. С этой поры цвет мыслится как уплотненный свет, и задача художника — не воспроизведение реальных тонов, а создание отвлеченной колористической гаммы. Образ человека как бы окончательно застывает в величественном бесстрастии, лишается динамизма, олицетворяет состояние аскетического покоя.
Таким образом, господство религиозного мировоззрения и спиритуалистическая эстетика византийского общества, порожденная общественными отношениями средневековья, закономерно сделали невозможным появление реалистического течения в искусстве Византии. Сохранение эллинистических традиций, однако, не позволило окончательно дематериализовать человеческий образ. Применение эллинистической иллюзионистской техники не дало поглотить объем фигуры плоскостью, а восстановление античной системы пропорций воспрепятствовало растворению человеческого образа в абстрактной символике или геометрическом орнаменте. Некоторые материалистические черты в изображении человека и реального мира, его окружающего, порою, хотя и робко, пробиваются из глубин народного творчества Востока. Но они неизменно преследуются господствующей церковью и придворной аристократией.
Рафинированное искусство Константинополя, тесно сросшееся с придворным ритуалом и религиозным культом, выполняло в Византии важнейшие социально-политические и идейные функции. Подданных империи — христиан оно должно было наставлять в истинной вере, смирять их волю и отуманивать разум в мистическом экстазе, подчинять душу всеобъемлющей власти государства и церкви. Чужеземные же варварские народы оно призвано было ослеплять своей пышной роскошью и утонченным аристократизмом, внушать им преклонение перед величием Ромейской державы и православной церкви. В противовес индивидуализму античного миросозерцания, где в центре художественного творчества находилась героизированная личность, в Византии индивидуум растворялся в обществе, а идея величия в идеологии и искусстве прилагалась лишь к церкви, государству, императору.
Византийское искусство с X в. становится все более программным, строго регламентируется церковью и государством; его тематика и иконография подчиняются устойчивому канону, сюжетные новшества преследуются. Византийское искусство как бы закостеневает в гордом величии своего неизменного совершенства.
В этом, кстати сказать, состояло одно из важнейших отличий византийского искусства от художественного творчества Западной Европы раннего и классического средневековья. В Византии нивелирующая струя единого художественного стиля была значительно сильнее, чем на Западе, где царило многообразие школ и направлений, где более явственно сказалось влияние изменчивых форм варварского искусства. В то время как Запад жил многоликой художественной жизнью и там было столько же течений в искусстве, сколько крупных городов, богатых аббатств или замков владетельных феодалов, в Византии местные школы живописи или архитектуры большей частью подчинялись воздействию художественных норм столичного искусства. Если на Западе в живописи царила как бы анархия тематики, иконография менялась с калейдоскопической быстротой, постоянно рождались новые сюжеты, прославляющие местных святых, патронов феодальных княжеств или торговых городов, то в Византии раз созданная иконография, подчиненная дидактическим целям, оставалась почти неизменной на территории всей страны. Сковывающее воздействие традиционализма мешало саморазвитию византийского художественного творчества и, быть может, послужило одной из причин, не давшей искусству Византии подняться до вершин западноевропейского Ренессанса.
Противоречивость общественных отношений поздней Византии, слабость ростков предкапиталистических отношений и острая идейная борьба в империи, завершившаяся победой мистических течений, как известно, привели к тому, что возникшее там новое направление в художественном творчестве, в известной мере родственное раннеитальянскому Ренессансу, не получило своего завершения. Правда, в палеологовском искусстве XIII–XIV вв. явственно выступают некоторые гуманистические черты: вырабатывается более живописный стиль, усиливается динамизм, жестикуляция фигур становится более порывистой, экспрессивной, одеяния развеваются, повороты людей делаются свободнее, ракурсы смелее. Одновременно усложняется иконография, отдельные изображения приближаются к жанровым сценам, носящим интимный, порой сентиментальный характер; образы людей сливаются с фантастическим пейзажем, мельчают, теряют свою былую монументальность и неподвижность, колористическая гамма делается мягче, светлее. И тем не менее искусство Византии как бы остановилось на пороге Ренессанса, так и не перейдя заветной черты, отделявшей средневековое спиритуалистическое художественное творчество от полнокровного, чувственного реалистического искусства Возрождения.
Действительно, поздневизантийское искусство остается далеким от реализма, оно сохраняет верность спиритуалистическим традициям, полно ретроспективизма, человеческие фигуры так и не обретают объема и телесности, красочные плоскости так и не сменяются светотеневой моделировкой, а фантастические декорации фона не вытесняются интерьером. Более того, как известно, в последние десятилетия существования Византийской империи в искусстве, как и во всей идеологической жизни, вновь полностью побеждают реакционно-мистические начала, в живописи сухость, линейная графичность берет верх над сочностью и красочностью некоторых лучших творений палеологовского Ренессанса, динамическая экспрессивность вновь сменяется торжественной неподвижностью. Блестящий взлет палеологовского Возрождения оказался кратковременным, и расцветший на почве Мистры и в Кахриэ-Джами хрупкий цветок предренессансного искусства быстро увял под холодным дыханием аскетических идей исихазма и канонизированного эстетства господствующей церкви. Византийское искусство накануне гибели империи как бы окончательно застыло в своем уже померкнувшем величии.
Вместе с тем необычайная устойчивость византийского стиля в какой-то мере обеспечила его широкое проникновение и длительное воздействие на соседние с Византийской империей страны и народы. Внутри Византийского государства универсальный характер столичного искусства привел к известной ассимиляции национальных художественных школ коптов, сирийцев, армян, грузин, сербов, болгар, латинян, хотя одновременно само византийское искусство, в свою очередь, подвергалось обратному воздействию местных художественных форм, их эстетики, их особого восприятия мира, техники художественного творчества.
За пределами Византийской империи наблюдается картина широкой экспансии византийского искусства. Многие соседние с Византией народы испытали на себе чарующую магию глубоко одухотворенного и идейно целеустремленного искусства Константинополя. Константинополь долгое время сохранял славу законодателя художественных мод, провозвестника изысканного вкуса. Недаром сюда стекались учиться талантливые художники из феодальных замков солнечной Сицилии, из горных монастырей Кавказа и Балкан, со снежных равнин Древней Руси. Все они мечтали познать тайны творчества византийских художников, мозаичистов, архитекторов, ювелиров, усвоить благородство форм и изысканность колорита византийского искусства. Недаром самые влиятельные феодальные владетели Европы стремились заполучить из Константинополя к своим дворам греческих мастеров для постройки у себя дворцов и храмов,
В успехе экспансии византийского искусства немалую роль играла его социальная и идейная направленность. Придворная знать и высшее духовенство феодального общества Южной Италии и Сицилии, Рима и Венеции, побережья Адриатики и монастырей Сербии и Болгарии, горных княжеств Грузии и Армении, далеких городов Руси — Киева, Владимира, Новгорода, Москвы — охотно воспринимали аристократическое по своему духу, близкое их собственным социальным запросам и религиозно-эстетическим идеалам искусство Византии. Проникновение влияния византийского искусства, как и всей византийской цивилизации в целом, происходило наиболее интенсивно именно в родственной Константинополю социальной среде, именно в тех странах, где общественное развитие шло аналогичными с Византией путями.
В народной среде сопредельных с Византийской империей стран влияние аристократического искусства Константинополя, естественно, распространялось значительно медленнее. В толщу народа этих стран чаще проникали те элементы искусства местных школ империи, которые сохраняли более демократические, земные черты. Таким образом, известная двойственность искусства Византии порождала как бы две струи византийского влияния, просачивавшиеся в другие страны Европы. Но преобладающим, конечно, оставалось влияние господствующей столичной школы.
Вместе с тем семена художественных влияний Византии, попадая на почву самобытного творчества местных национальных школ различных стран Европы, хотя и приносили обильный урожай, одновременно подвергались серьезной переработке под воздействием уже сложившихся ранее национальных художественных форм и эстетических воззрений. Так было в Сицилии и Южной Италии, в странах Балканского полуострова, на Кавказе и в Древней Руси.
Древнерусских мастеров справедливо считают мудрыми и бережливыми наследниками лучших традиций византийского искусства. Они не только сохранили высочайшие для своего времени духовные ценности, созданные Византией, но и приумножили эти богатства, осветив византийское искусство творческим гением русского народа, внеся в него свой жизнеутверждающий оптимизм, проникновенную мягкость, сострадание к простому человеку, всеобъемлющий гуманизм.
Византийская цивилизация оказала глубокое и нередко устойчивое воздействие на развитие культуры многих стран средневековой Европы. Ареал распространения влияния византийской культуры был весьма обширен: Сицилия, Южная Италия, Далмация, государства Балканского полуострова, Древняя Русь, народы Закавказья, Северного Кавказа и Крыма — все они в той или иной степени соприкасались с византийской образованностью. Наиболее интенсивно византийское культурное влияние, естественно, сказывалось в странах, где утвердилось православие, связанное прочными нитями с Константинопольской церковью.
Византийское влияние осуществлялось в области религии и философии, общественной мысли и космогонии, письменности и образования, политических идей и права; оно проникало во все сферы искусства — в литературу и зодчество, живопись и музыку. Через Византию античное и эллинистическое культурное наследие, духовные ценности, созданные не только в самой Греции, но в Египте и Сирии, Палестине и Италии, передавались другим народам. Влияние византийской культуры в средние века во многом являлось продолжением распространения тысячелетних культурных традиций греко-римского и восточно-эллинистического мира в страны Юго-Восточной и Восточной Европы.
Восприятие элементов византийской цивилизации в Болгарии и Сербии, Грузии и Армении, в Древней Руси способствовало дальнейшему прогрессивному развитию феодального общества в этих государствах, отвечало их внутренним потребностям, поднимало их международный престиж. Со стороны правящих феодальных классов этих стран это было обращением к самым высоким образцам, наиболее изысканным духовным ценностям, созданным средневековой Европой.
Со стороны Византии распространение культурного влияния на сопредельные страны носило активный, целенаправленный характер и сочеталось с желанием подчинить эти государства церковной и политической супрематии империи. Однако силу и масштабы влияния византийской культуры равным образом не следует как преувеличивать, так и преуменьшать. Византийское влияние в различных сферах культуры проявлялось с неодинаковой степенью интенсивности. Порою это влияние было более длительным, быстро амальгамировалось с местной культурой, в других же областях оно было более поверхностным, как бы наложенным тонким слоем на самобытную культуру различных народов.
Как правило, степень эффективности проникновения византийского влияния зависела не только от активности Византийского государства и православной церкви, но и от уровня развития дохристианской народной культуры. Чем выше был уровень самобытной местной культуры, чем более прочно сохранялись в ней традиции языческого народного творчества, тем ограниченнее было воздействие византийской цивилизации.
Наиболее сильным византийское влияние, естественно, было в области церковной идеологии, канонического права, литургики, богослужебной литературы, гимнографии, церковной музыки, церковного изобразительного искусства. Несколько слабее оно проявлялось в сфере светской культуры, хотя византийская переводная литература светского характера, наряду с агиографией и церковной поэзией, получила широкое распространение во многих странах Юго-Восточной и Восточной Европы. Как известно, велика была роль Византии в возникновении и совершенствовании славянской письменности.
Еще важнее то, что перенесенные на чужеземную почву иноязычных местных культур духовные ценности, созданные Византией, нередко подвергались здесь глубокой трансформации, начинали как бы новую жизнь, приобретали совсем иные черты под воздействием национальных творческих начал. Воздействие аристократической феодальной культуры Византии, разумеется, было значительно более интенсивным на высшие слои общества сопредельных с империей стран — князья и феодалы государств Юго-Восточной и Восточной Европы, как мы видели, нередко перенимали византийский придворный этикет, некоторые черты быта и нравов рафинированной византийской знати. В широкие же слои народа этих стран византийское влияние просачивалось несравненно меньше. Однако, несмотря на противодействие правящих кругов и высшего духовенства, из империи тайными путями распространялась и запрещенная еретическая литература, демократические по своему духу апокрифы, антицерковные сатирические произведения, способствовавшие, в свою очередь, развитию вольнодумства в странах, находившихся в сфере византийского влияния.
Параллельно с распространением византийского влияния в странах Юго-Восточной, Восточной и Западной Европы происходил обратный процесс воздействия культуры этих народов на формирование общественных и эстетических идеалов самого византийского общества. Южные славяне и русские, армяне и грузины и многие другие народы играли немалую роль не только в политической, но и в идейной жизни Византии, обогатив в свою очередь своими художественными традициями византийскую культуру.
Византия прошла трудный, но насыщенный яркими событиями общественной и культурной жизни тысячелетий исторический путь. Ей по праву принадлежит видное место в прогрессивном развитии человеческого общества. История Византии поэтому вызывает живой интерес и у людей современной эпохи.
Список сокращений
ВВ — Византийский временник
ВИ — Вопросы истории
ГИМ — Государственный исторический музей
ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ГСУ — Годишник на Софийския университет
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗРВИ — Зборник радова. Византолошки институт
ИП — Исторически преглед
ИРАИК — Известия Русского археологического института в Константинополе
МГПИ — Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина
МГУ — Московский государственный университет
СВ — Средние века
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы
УЗ — Ученые записки
ABAW — Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
BNJB — Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher
BS — Byzantinoslavica
Byz. — Byzantion
BZ — Byzantinische Zeitschrift
DOP — Dumbarton Oaks Papers
EEBS — 'Επετηρις 'Εταιρειας Βυζαντινων Σπουδων
FHG — Fragments Historicorum Graecorum
JHS — Journal of Hellenic Studies
JOBG — Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft
Jus — С. Е. Zachariae a Lingenthal. Jus graeco-romanum.
MM — F. Miklosich et J. Muller. Acta et diplomata graeca medii aevi
OrChrPer — Orientalia Christiana Periodica
PG — J. P. Migne Patrologiae cursus completus. Series Graeca
PL — J. P. Migne. Patrol ogiae cursus completus. Series Latina
RE — Pauly-Wissova — Kroll. Real-Encyclopadie der klassischen Altertumswissenschaft
REB — Revue des Etudes Byzantines
RER — Revue des Etudes Roumaines
RES — Revue des Etudes Slaves
SBAW — Sitwmgaberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaiten
SK — Seminarium Kondakovianum
Хронологические таблицы
I. Византийские императоры
324–337 Константин I
337–361 Констанций
361–363 Юлиан
363–364 Иовиан
364–378 Валент
379–395 Феодосии I
395–408 Аркадий
408–450 Феодосии II
450–457 Маркиан
457–474 Лев I
474 Лев II
474–475 Зинон
475–476 Василиск
476–491 Зинон (повторно)
491–518 Анастасий I
518–527 Юстин I
527–565 Юстиниан I
565–578 Юстин II
578–582 Тиверий I Константин
582–602 Маврикий
602–610 Фока
610–641 Ираклий
641 Константин III и Ираклеон
641 Ираклеон
641–668 Констант II
668–685 Константин IV
685–695 Юстиниан II
695–698 Леонтий
698–705 Тиверий II (III)
705–711 Юстиниан II (повторно)
711–713 Филиппин
713–715 Анастасий II
715–717 Феодосии III
717–741 Лев III
741–775 Константин V
775–780 Лев IV
780–797 Константин VI
797–802 Ирина
802–811 Никифор I
811 Ставракий
811–813 Михаил I Рангаве
813–820 Лев V
820–829 Михаил II
829–842 Феофил
842–867 Михаил III
867–886 Василий I
886–912 Лев VI
912–913 Александр
913–959 Константин VII
920–944 Роман I Лакапин
959–963 Роман II
963–969 Никифор II Фока
969–976 Иоанн I Цимисхий
976–1025 Василий II
1025–1028 Константин VIII
1028–1034 Роман III Аргир
1034–1041 Михаил IV
1041–1042 Михаил V
1042 Зоя и Феодора
1042–1055 Константин IX Мономах
1055–1056 Феодора (повторно)
1056–1057 Михаил VI
1057–1059 Исаак I Комнин
1059–1067 Константин X Дука
1068–1071 Роман IV Диоген
1071–1078 Михаил VII Дука
1078–1081 Никифор III Вотаниат
1081–1118 Алексей I Комнин
1118–1143 Иоанн II Комнин
1143–1180 Мануил I Комнин
1180–1183 Алексей II Комнин
1183–1185 Андроник I Комнин
1185–1195 Исаак II Ангел
1195–1203 Алексей III Ангел
1203–1204 Исаак II (повторно) и Алексей IV Ангелы
1204 Алексей V Мурчуфл
1208–1222 Феодор I Ласкарис
1222–1254 Иоанн III Дука Ватац
1254–1258 Феодор II Ласкарис
1258–1261 Иоанн IV Ласкарис
1259–1282 Михаил VIII Палеолог
1282–1328 Андроник II Палеолог
1328–1341 Андроник III Палеолог
1341–1391 Иоанн V Палеолог
1347–1354 Иоанн VI Кантакузин
1376–1379 Андроник IV Палеолог
1390 Иоанн VII Палеолог
1391–1425 Мануил II Палеолог
1425–1448 Иоанн VIII Палеолог
1449–1453 Константин XI Палеолог
II. Правители мусульманских стран
1. Непосредственные преемники Мухаммеда
632–634 Абу Бекр
634–644 Омар I
644–656 Осман
656–661 Али
2. Омейяды
661–680 Моавия I
680–683 Йазид I
683–684 (?) Моавия II
684–685 Мерван I
685–705 Абд-ал-Малик
705–715 Валид I
715–717 Сулейман
717–720 Омар II
720–724 Йазид II
724–743 Хишам
743–744 Валид II
744 Йазид III
744 Ибрахим
744–750 Мерван II
3. Аббасиды
750–754 ас-Саффах
775–785 ал-Махди
785–786 ал-Хади
786–809 Харун ар-Рашид
809–813 ал-Амин
813–833 ал-Мамун
833–842 ал-Мутасим
842–847 ал-Васик
847–861 ал-Мутаваккиль
861–862 ал-Мунтасяр
862–866 ал-Мустаия
866–869 ал-Мутазз
869–870 ал-Мухтади
870–892 ал-Мутамид
892–902 ал-Мутадид
902–908 ал-Муктафи
903–932 ал-Муктадир
932–934 ал-Кахир
934–940 ал-Ради
940–944 ал-Муттаки
944–946 ал-Мустакфи
946–974 ал-Мути
974–991 ал-Таи
991–1031 ал-Кадир
1031–1075 ал-Каим
Упоминание об остальных аббасидских калифах (до 1258 г.) не имеет существенного значения для истории Византии
4. Сельджукские султаны Иконопийкого султаната (Рум)
1077/8–1086 Сулейман I
1092–1107 Кылич Арслан I
1116–1156 Масуд I
1156–1192 Кылич Арслан II
1192–1196 Кой-Хюсрев I
1196–1204 Сулейман II
1204 Кылич Арслан III
1204–1210 Кей-Хосров I (повторно)
1210–1220 Кей-Каус I
1220–1237 Кей-Кубад I
1237–1245 Кей-Хосров II
1246–1257 Кей-Каус II
1248–1256 Кылич Арслан IV
1249–1257 Кей-Кубад II
1265–1282 Кей-Хосров III
1282–1304 Масуд II
1284–1307 Кей-Кубад III
1307–1308 Масуд III
5. Османские султаны (до завоевания Константинополя)
1288–1326 Осман
1326–1362 Урхан
1362–1389 Мурад I
1389–1402 Баязид I
1402–1421 Мехмед I (с 1413 единовластен)
1402–141 Cулейман
1411–1413 Муса
1421–1451 Мурад II
1451–1481 Мехмед II Завоеватель
III. Эпирское царство
1204–1215 Михаил I
1215–1224 Феодор (осенью 1224 захватил Фессалонику и вскоре стал императором)
Фессалоника
1224–1230 Феодор (император)
1230 — ок. 1237 Манупл
ок. 1237–1244 Иоанн
1244–1246 Димитрий (в 1246 г. Фессалоника подчинена Иоанном III Ватацем)
Эпир
ок.1231–1268 Михаил II
до 1268–1296 Никифор I
1296–1318 Фома (регентша Анна Палеологиня — Кантакузина, примерно до 1313 г.)
1318–1323 Николай Орсини
1323–1335 Иоанн Орсини
1335–1340 Никифор II (регентша Анна Палеологиня)
(В 1340 г. Эпир был подчинен Андроником III Палеологом, а в 1348 — Стефаном Душаном)
Фессалия
1271–1296 севастократор Иоанн I
1296–1303 Константин
1303–1318 Иоанн II
(В 1318 г. Фессалийское государство распалось, а в 1348 г. было подчинено Стефаном Душаном)
IV. Латинская империя
1204–1205 Балдуин I Фландрский
1206–1216 Генрих Фландрский
1217 Петр де Куртене
1217–1219 Иоланта
1219–1228 Роберт де Куртене
1228–1261 Балдуин II
(1231–1237 Иоанн де Бриенн)
V. Морея
1348–1380 Мануил Кантакузин, сын Иоанна VI
1380–1383 Матфей Кантакузин, сын Иоанна VI
1383 Димитрий Кантакузин, сын Матфея
1383–1407 Феодор I Палеолог, сын Иоанна V
1407–1428 Феодор II Палеолог, сын Мануила II — один
1428–1443 с братьями Константином и Фомой
1443–1449 Константин и Фома (Константин в 1449 стал императором)
1449–1460 Фома с братом Димитрием
VI. Болгария
681–702 Аспарух
702–718 Тервель
718–725 неизвестный
725–74 Cевар
740–756 Кормисош
756–762 Винех
762–765 Телец
765–767 Сабин
767 Умар
767–772 Токту
772 Паган
ок. 772–777 Телериг
777 ок. 803 Кардам
ок. 803–814 Крум
814 Докум, Дицевг
814–831 Омортаг
831–836 Маломир
836–852 Пресиан (возможно, идентичен Маломиру)
852–889 Борис I Михаил
889–893 Владимир
893–927 Симеон
927–969 Петр
969–971 Борис II
976–1014 Самуил
1014–1015 Гавриил Радомир
1015–1018 Иван Владислав
1186–1196 Асень I
1196–1197 Петр
1197–1207 Калоян
1207–1218 Борил
1218–1241 Иван II Асень
1241–1246 Коломан Асень
1246–1256 Михаил Асень
1257–1277 Константин Тих
1277–1279 Ивайло
1279–1280 Иван III Асень
1280–1292 Георгий I Тертер
1292–1298 Смилец
1299 Чака
1300–1322 Феодор Святослав
1322–1323 Георгий II Тертер
1323–1330 Михаил Шишман
1330–1331 Иван Стефан
1331–1371 Иван Александр
1371–1393 Иван Шишман (ок. 1360–1396 в Видине: Иван Страцимир)
VII. Сербия
Середина IX в. Властимир
До 891 Мутимир
891–892 Првослав
892–917 Петр Гойникович
917–920 Павел Бронович
920 — ок. 924 Захарий провославьевич
927 — после 950 Часлав Клономирович
Зета
Конец X в. — 1016 Иоанн Владимир
ок. 1040 — ок. 1052 Стефан Воислав
ок. 1052–1081 Михаил, с 1077 — король
1081 — ок. 1101 Константин Бодин
Рашка
Ок. 1083 — ок. 1114 Вуткан
Время правления следующих великих жупанов точно не установлено.
Важнейшие из них: Урош I, Урош II, Деша, Тихомир (брат Немани)
Ок. 1168–1196 Стефан Неманя
1196 — ок. 1228 Стефан Первовенчанный, с 1217 — король
Ок. 1228 — ок. 1234 Стефан Радослав
Ок. 1234–1243 Стефан Владислав
1243–1276 Стефан Урош I
1276–1282 Стефан Драгутин
1282–1321 Стефан Урош II Милутин
1321–1331 Стефан Урош III Дечанский
1331–1355 Стефан Душан, с 1345 — царь
1355–1371 царь Стефан Урош (1365–1371 король Вукашин)
1371–1389 князь Лазарь
1389–1427 Стефан Лазаревич. с 1402 — деспот
1427–1456 Георгий Бранкович, с 1429 — деспот
1456–1458 Лазарь Бранкович — деспот
Патриархи Константинополя
(381–1456 гг.)
381–397 Нектарий
398–404 Иоанн I Хрисостом
404–405 Арсасий
406–425 Аттик
426–427 Сисиний I
428–431 Несторий
431–434 Максимиан
434–446 Прокл
446–449 Флавиан
449–458 Анатолий
458–471 Геннадий I
472–489 Акакий
489–490 Фравита
490–496 Евфемий
496–511 Македонии II
511–518 Тимофей I
518–520 Иоанн II Каппадокийский
520–535 Епифаний
535–536 Анфим I
536–552 Мена
552–565 Евтихий
565–577 Иоанн III Схоластик
577–582 Евтихий (повторно)
582–595 Иоанн IV
595–606 Кириак
607–610 Фома I
610–638 Сергий I
638–641 Пирр
641–653 Павел II
654 Пирр (повторно)
654–666 Петр
667–669 Фома II
669–675 Иоанн V
675–677 Константин I
677–679 Феодор I
679–686 Георгий I
686–687 Феодор I (повторно)
688–694 Павел III
694–706 Каллиник I
706–712 Кир
712–715 Иоанн VI
715–730 Герман I
730–754 Анастасий
754–766 Константин II
766–780 Никита I
780–784 Павел IV
784–806 Тарасий
806–815 Никифор I
815–821 Феодот Мелиссин Касситера
821–837 Антоний I Кассимат
837–843 Иоанн VII Грамматик
843–847 Мефодий I
847–858 Игнатий
858–867 Фотий
867–877 Игнатий (повторно)
877–886 Фотий (повторно)
886–893 Стефан I
893–901 Антоний II Кавлеа
901–907 Николай I Мистик
907–912 Евфпмий I
912–925 Николай I Мистик (повторно)
925–927 Стефан II
927–931 Трифон
933–956 Феофилакт
956–970 Полиевкт
970–974 Василий I Скамандрин
974–979 Антоний III Студит
979–991 Николай III Хрисоверг
991–996 вакантен
996–998 Сисиний II
1001–1019 Сергий II
1019–1025 Евстафий
1025–1043 Алексей Студит
1043–1058 Михаил I Кируларий
1059–1063 Константин III Лихуд
1064–1075 Иоанн VIII Ксифилин
1075–1081 Косьма I
1081–1084 Евстратий Гарида
1084–1111 Николай III Кирдиниат Грамматик
1111–1134 Иоанн IX Агапет
1134–1143 Лев Стип
1143–1146 Михаил II Куркуас
1146–1147 Косьма II Аттик
1147–1151 Николай IV Музалон
1151–1154 Феодот II (1153–1154 Неофит I)
1154–1157 Константин IV Хлиарин
1157–1170 Лука Хрисоверг
1170–1178 Михаил III Анхиальский
1178–1179 Харитон Евгениот
1179–1183 Феодосии Ворадиог
1183–1186 Василий II Каматир
1186–1189 Никита II Мунтан
1189 Досифей Иерусалимский
1189 Леонтий Феотокит
1189–1191 Досифей Иерусалимский (повторно)
1191–1198 Георгий II Ксифилин
1198–1206 Иоанн X Каматир
1208–1214 Михаил IV Авториан
1214–1216 Феодор II Ириник
1216 Максимин II
1217–1222 Мануил I Сарантия
1222–1240 Герман II
1240 Мефодий
1244–1254 Мануил II
1255–1259 Арсений Авториан
1260 Никифор II
1261–1264 Арсений Авториан (повторно)
1265–1266 Герман III
1266–1275 Иосиф I
1275–1282 Иоанн XI Векк
1282–1283 Иосиф I (повторно)
1283–1289 Григорий III (Георгий Кипрский)
1289–1293 Афанасий I
1294–1303 Иоанн XII Косьма
1303–1309 Афанасий I (повторно)
1310–1314 Нифон I
1315–1319 Иоанн XIII Глика
1320–1321 Герасим I
1323–1332 Исайа
1334–1347 Иоанн XIV Калека
1347–1350 Исидор I
1350–1353 Каллист I
1353–1354 Филофей Коккин
1355–1363 Каллист I (повторно)
1364–1376 Филофей Коккин (повторно)
1376–1379 Макарий
1379–1388 Нил
1389–1390 Антоний IV
1390–1391 Макарий (повторно)
1391–1397 Антоний IV (повторно)
1397 Каллист II Ксанфопул
1397–1410 Матфей I
1410–1416 Евфимий II
1416–1439 Иосиф II
1440–1443 Митрофан II
1443–1450 Григорий III Мамм (в 1450 покинул Константинополь, умер в 1459 г.)
1454–1456 Геннадий II Схоларий (первый патриарх в завоеванном турками Константинополе)
Генеалогические таблицы
(Таблицы ни в коей мере не являются полными)

1. Династия Ираклия (610–711)

2. Сирийская (исаврийская) династия (717–802)

3. Аморийская (фригийская) династия (820–867)

4. Македонская династия (867–1056)

5. Династия Дук (1059–1078)

6. Династия Комнинов (1081–1185)

7. Династия Ангелов (1185–1204)
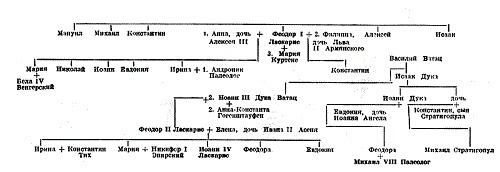
8. Династия Ласкарисов (1204–1261)

9. Династия Палеолитов (1261–1453)

Примечания
1
Опубликован: ММ, IV, р. 1–289. См. о нем F. Dolger. Chronologisches und Prosopographisches zur byzantinischen Geschichte der 13. Jhdts. — BZ, 27, 1927, S. 291–320. В настоящее время Э. Гликатци-Арвейлер готовит критическое издание.
(обратно)
2
Важнейшие издания: L. Petit. Actes de Chilandar, I. BB, XVII, 1911. Приложение; W. Regel, E. Kurtz, B. Korablew. Actes de Zographou. — BB, XIII, 1907. Приложение; F. Dolg e r. Sechs byzantinische Praktika des 14. Jhdts fiir das Athoskloster Iberon. — ABAW, Philhist. KL, 28, 1949; J. Bompaire. Actes de Xeropotamou. Paris, 1964.
(обратно)
3
A. Guillоu. Les archives de S. Jean-Prodrome sur le mont Menecee. Paris, 1955. См. о нем I. Dujсev. L'ancien cartulaire du monastere de S. Jean-Prodrome sur le mont Menecee. — ЗРВИ, 6, 1960, p. 171–185.
(обратно)
4
Ф. И. Успенский, В. Н. Бенешевич. Вазелонские акты. Ленинград, 1927.
(обратно)
5
Общая характеристика императорских жалованых грамот дана в работе: П. А. Яковенко. Исследования в области византийских грамот. Юрьев, 1917 и в ряде статей Ф. Дэльгера. См. F. Dolgеr. Byzantinische Diplomatik. Ettal, 1956; idem. Die byzantinische und die mittelalterliche serbische Herrscherkanzlei. — «Actes du XIIе Congres International d'Etudes byzantines», t. I. Beograd, 1963.
(обратно)
6
Основная работа — Г. А. Острогорский. Византийские писцовые книги. — BS, IX, 1948.
(обратно)
7
См. о них G. Ferrari. I documenti greci medioevali di diritto private dell'Italia meridionale e loro attinenze con quelli bizantini d'Oriente. — «Byz. Archiv», 4, 1910 и некоторые дополнения: А. П. Каждан. Локальные форму ляры поздневизантийских грамот. — ВВ, III, 1950, стр. 387–393.
(обратно)
8
Преамбулы хрисовулов могут быть использованы и для изучения официальной идеологии. См. Н. Hunger. Prooimion. Wien, 1964 и дополнения: R. Browning. Notes on Byzantine Prooimia. Wien, 1966.
(обратно)
9
См. Ф. И. Успенский. Византийские землемеры. — «Труды VI Археологического съезда в Одессе», т. II, 1888, стр. 272–331. Критическое издание подготавливает Н. Зворонос.
(обратно)
10
F. Dolger. Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches, T. 3–5. Munchen, Berlin, 1932–1965.
(обратно)
11
Издано: G. E. Heimbасh. Constantini Harmenopuli Manuale Legum. Lipsiae, 1851. О рукописи «Шестикнижия», относящейся, скорее всего, к 1347–1348 гг., см. J. Verpeaux. Un temoin de choix des oeuvres de Constantin Harmenopoulos: Le Vaticanus ottobonianus gr. 440. — REB, XXI, 1963. 0 «Шестикнижпи» как источнике см. В. А. Сметании. Византийское законодательство XIV в. о крестьянстве (по Арменопулу) и отражение его в актах. — «УЗ Пермского гос. ун-та», 143, 1966, стр. 98–102.
(обратно)
12
К сожалению, «Регесты» В. Грюмеля не охватывают этого периода: последний из изданных выпусков завершается 1206 г.
(обратно)
13
Письма и канонические решения Апокавка (значительная часть их сохраняется в Ленинг декой рукописи ГПБ 250 — см. Е. Э. Гранстрем. Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ. — ВВ, XXIV, 1964, стр. 180–193) издавались в разнообразных журналах и сборниках; см. H.-G. Beck. Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. Munchen, 1959, S. 708. Основная монография: М. Wellnhofer. Johannes Apokaukos, Metropolit von Naupaktos in Aetolien. Freising, 1913.
(обратно)
14
Основное издание канонических решений Хоматиана: J. В. Рitrа. Analecta sacra et classsica Spicilegio Solesmensi parata, vol. VI. Parisiis, Romae, 1891. См. о нем N. P. Matses. Νομιχα ζητηματα εχ των εργων Δημητριου Χωματιανου. Athenai, 1961.
(обратно)
15
Pseudo-Kodinos. Traite des offices par J. Darkeaux. Paris, 1966.
(обратно)
16
Издан с русским переводом и комментарием: И. Троицкий. Автобиография императора Михаила Палеолога… СПб., 1885. Перепечатан с французским переводом: Н. Gregoire. Imperatoris Michaelis Palaeologi de vita sua. — Byz., XXIX–XXX, 1960, p. 447–476.
(обратно)
17
Изданы: G. Rесоura. Les Assises de Romanie. Paris, 1930. Английский перевод и комментарий: Р. W. Торрing. Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania. Philadelphia, 1949. См. о них: P. W. Торрing. The Formation of the Assizes of Romania. — Byz., XVII, 1944–1945.
(обратно)
18
Cм. P. W. Topping. Le regime agraire dans le Peloponnese latin au XIVе siecle. — «L'Hellenisme contemporain», II, 10, 1956.
(обратно)
19
S. Кugeas. Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessalonike aus dem Anfang des XV. Jhdts. — BZ, 23, 1914/19 (1920), S. 144–163. Ср. еще В. Мошин. Византийка книга расхода из XIV века. — ЗРВИ, 8/2, 1964, 287–294.
(обратно)
20
II Libro dei conti di Giacomo Badoer, ed. U. Dorini e T. Bertele. Roma, 1956. Книги Бадоэра относятся к 1436–1440 гг. Они составлены на венецианском диалекте.
(обратно)
21
Н. Нungеr, К. Vоgel. Em byzantinisches Rechenbuch des 15. Jhdts. Graz, Wien, Koln, 1963.
(обратно)
22
C. J. G. Turner. Pages from Late Byzantine Philosophy of History. — BZ, 57, 1964, S. 346–373.
(обратно)
23
G. Georgiades Arnakes. The Names of the Months in the History of Georgios Pachymeres. — BNJb, 18, 1945–1949 (1960), p. 144–153.
(обратно)
24
Geоgrii Acropolitae Opera, rec. A. Heisenberg (далее — Aero p.), v. I. Lipsiae, 1903. Русский перевод: Георгий Акрополи т. Летопись. СПб., 1863. Помимо «Хроники», от Акрополита сохранились риторические сочинения, например эпитафия императору Иоанну Ватацу (Асrор., II, р. 12–29). Специальная монография об Акрополите отсутствует. О политических идеях Акрополита см. V. Valdenberg. Notes sur oraison funebre de G. Acropolite. — BZ, 30, 1929/30, p. 91–95.
(обратно)
25
Georgii Pachymerisde Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII, rec. I. Bekker (далее — Расhуm.), v. I–II. Bonnae, 1835. Русский перевод: Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах, т. I. СПб., 1862. О точности хронологии Пахимера см. J. Verpeaux. Notes chronologiques sur leslivres II et III du De Andronico Palaeologo de Georges Pachymere. — REB, 17, 1959, p. 168–173.
(обратно)
26
Nicephori Gregorae Byzantina historia, ed. J. Schopen (далее — Greg.), v. I–II. Bonnae, 1829–1830. Русский перевод: Никифор Григора. Римская история. СПб., 1862. О рукописях Григоры см. I. Sevсеnkо. Some Autographs of Nicephorus Gregoras. — ЗРВИ, 8/2, 1964. Письма Григоры частично изданы: Correspondence de Nicephore Gregoras, ed. R. Guilland. Paris, 1927. Основная монография: R. Guilland. Essai sur Nicephore Gregoras. Paris, 1926.
(обратно)
27
loannis Cantacuzeni historiarum libri IV, ed. J'Schopen, v. I–III. Bonnae, 1828–1832. Кроме «Истории», Кантакузину принадлежат и другие сочинения — речи и письма (см., например, J. Darrouzes. Lettre inedite de Jean Cantacuzene relative a la controverse palamite. — REB, 17, 1959, p. 7–27). Единственная монография о нем: V. Раrisоt. Cantacuzene, homme d'etat et historien. Paris, 1845 — устарела. См. также: R. J. Lоenertz. Ordre et desordre dans les Memoires de Jean Cantacuzene. — REB, 22, 1964, p. 222–237.
(обратно)
28
Duсas. Istoria turco-bizantina, ed. V. Grecu. Bucuresti, 1958. См. о нем: E. Черноусов. Дука, один из историков конца Византии. — ВВ, XXI, 1914 (1915), стр. 171–221.
(обратно)
29
Обе версии изданы Georgios Sphrantzes. Memorii, ed V. Grecu. Bucuresti, 1966. Cм. V. Grecu. Das Memoirenwerk des Georgios Sphrantzes. — «Actes du XIIе Congres International d'Etudes byzantines», t. II. Beograd, 1964, p. 327–341.
(обратно)
30
Издано: Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstrationes, rec. E. Darko, v. I–II. Budapestini, 1922–1927. См. о нем: E. Б. Веселаго. К вопросу об общественно-политических взглядах и мировоззрении византийского историка XV века Лаоника Халкокондила. — «Вестник МГУ», истор. науки, 1960, № 1, стр. 43–49.
(обратно)
31
Cм. Г. Диттен. Известия Лаоника Халкокондила о России (I, 122.5–126.9). — ВВ, XXI, 1962, стр. 51–94; Н. Bitten. Spanien und die Spanier im Spiegel der Geschichtsschreibung des byzantinischen Historikers Laonikos Chalkokondyles. — «Helikon», III, 1963; idem. Bemerkungen zu Laonikos Chalkokondyles Nachrichten tiber die Lander und Volker an der europaischen Ktisten des Schwarzen Meeres. — «Klio», 43–45, 1965.
(обратно)
32
Critobul din Imbros. Din domnia lui Mahomed al II-lea anii 1451–1467, ed. V. Grecu. Bucuresti, 1963. См. о нем: З. В. Удальцова. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула. — ВВ, XII, 1957, стр. 172–197; V. Grecu. Kritobulos aus Imbros. — BS, 18, 1957, S. 1–17.
(обратно)
33
The Chronicle of Morea, ed.J. Schmitt. London, 1904. Новый английский перевод: Crusaders as conquerors. The Chronicle of Morea, transl. by H. E. Lurier. New York, London, 1964.
(обратно)
34
CM. P. I. Zepоs. Το
διχαιον εις το Χρονιχον του Μορεως — EEBS, 18, 1948, σελ. 202–220.
(обратно)
35
A. Xаханов. Трапезундская хроника Михаила Панарета. М., 1905. Новое издание: Μιχαηλ του Παναρετου Περι των Μεγαλων Κομνηνων ed. O. Lampsides. Athenai, 1956.
(обратно)
36
Leontios Makhairas. Recital concerning the Sweet Land of Cyprus, vol. I–II, ed. R. Dawkins. Oxford, 1932. Существует также локальная эпирская хроника, известная под ошибочным наименованием «Истории» Комнина и Прокла [см. L. Vranoussis. Deux historiens byzantiris qui n'ont jamais existe: Comnenos et Proclos. — «'Επετηρις του Μεσαιωνιχου 'Αρχειου» 12, 1962 (1965)].
(обратно)
37
Основная публикация: Nicephori Blemmydae curriculum vitae et carmina, ed. A. Heisenberg. Lipsiae, 1896. См. о нем: В. И. Барвинок. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911.
(обратно)
38
Издана: PG, t. 142, col. 20–29.
(обратно)
39
I. Sevcenko. Etudes sur la polemique entre Theodore Metochite et Nicephore Choumnos. Bruxelles, 1962. О Метохите см. H.-G. Beck. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jhdt. Munchen, 1952; A. Gigante. Teodoro Metochites critico letterario. — Rivista di Studi bizantini e neoellenici, 2–3, 1965–1966. См. о Хумне: J. Verpeaux. Nicephore Choumnos, homme d'etat et humaniste byzantin. Paris, 1959.
(обратно)
40
I. Sevсenko. Alexios Makrembolites and his «Dialogue between the Rich and the Poor». — ЗРВИ, 6, 1960, p. 187–228.
(обратно)
41
I. Sevсеnko. Nicolas Cabasilas' «Anti-Zealot» Discourse: A Reinterpretation, — DOP, 11, 1957, p. 79–171. См. также ответ И. Шевченко на возражения критиков: I. Sevcenko. A Postscript on Nicolas Cabasilas' «Anti-Zealot» Discourse. — DOP, 16, 1962, p. 403–408, где указана литература вопроса. Кавасиле принадлежат также письма, трактат против ростовщичества и ряд других сочинений. См. R. Guilland. La correspondance inedite de Nicolas Cabasilas. — BZ, 30, 1929/30, p. 97–102; idem. Le traite inedit «Sur l'usure» de Nicolas Cabasilas — «Εις μνημην Σπ. Λαμπρου». Athenai, 1933.
(обратно)
42
Demetrios Cydones. Correspondance, t. 1–2, ed. par R. J. Loenertz. Vatic., 1956–1960.
(обратно)
43
E. Legrand. Lettres de l'empereur Manuel Paleologue. Paris, 1893. См. также E. Trap p. Manuel II. Palaiologus. Dialoge mit einem «Perser». Wien, 1966.
(обратно)
44
Особо следует отметить письма из архива некоего Николая Исидора, судьи в Адрианополе, написанные сразу же после падения Константинополя:. J. Darrouzes. Lettres de 1453. — REB, 22, 1964, p. 72–127.
(обратно)
45
F. Thiriet. Regestes de deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie, t. I–III. Paris, La Haye, 1958–1961. Регесты охватывают период 1329–1463 гг.
(обратно)
46
N. Jоrga. Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades au XVе siecle, t. I–VI. Paris, 1899–1916. Событиям до 1453 г. включительно посвящены 4 первых тома.
(обратно)
47
П. Погодин. Обзор источников по истории осады и взятия Византии турками в 1453 г. — ЖМНП, ч. 264, август 1889, стр. 205–258; I. Dujсev. La conquete turque et prise de Constantinople dans la litterature slave contemporaine. — BS, 16, 1955. Ср. М. О. Скрипиль. «История» о взятии Царь-града турками Нестора Искандера. — ТОДРЛ, 10, 1954, стр. 166–184.
(обратно)
48
См., например, плачи о падении Константинополя армянских поэтов. XV в. Абраама Анкирского и Аракела Багешского: А. С. Анасяy. Армянские источники о падении Византии. Ереван, 1957.
(обратно)
49
О термине см. R. L. Wоlff. Romania: the Latin Empire of Constantinople. — «Speculum», 23, 1948, p. 1–34.
(обратно)
50
Основная монография: J. Longnon. L'empire latin de Constantinople. Paris, 1949. Ср. также: W. Miller. The Latins in the Levant. London, 1908. На русском языке — только старое исследование: П. Медовиков. Латинские императоры в Константинополе. М., 1849.
(обратно)
51
См. о нем: R. L. Wolff. Balduin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of Constantinople. — «Speculum», 27, 1952, p. 281–322. Ср. также:; E. Gerland. Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von Konstantinopel, I. Homurg v. d. Hohe, 1905.
(обратно)
52
До последнего времени в историографии господствовало мнение, будто Бонифаций получил титул фессалоникского короля. На самом деле этот титул не встречается до 1209 г. [см. Б. Ферjанчиħ. Почеци Солунске кральевине (1204–1209). — ЗРВИ, 8/2, 1964, 101–116].
(обратно)
53
См. об этом: Н. П. Соколов. Венецианская доля в византийском «наследстве». — ВВ; VI, 1953, стр. 156–185. Ср. Н. П. Соколов. Образование Венецианской колониальной империи. Саратов, 1963, стр. 383–400.
(обратно)
54
Б. Примов. Гръцко-български съюз в началото на XIII век. — ИП, IV, 1947, № 1; А. Кrantonelli. 'Η χατα Λατινων 'Ελληνο-Βουλγαριχησυμπραξις εν Θραχη» 1204–1206, Athenai, 1964.
(обратно)
55
П. Петров. Поражение на латинците при Одрин през 1205 г. и неговото историческо значение. — ИП, XVI, 1960, № 4, стр. 26–51.
(обратно)
56
О начале завоевания на Пелопоннесе см. A. Bon. La prise de Kalamata par les Francs en 1205. — «Melanges Ch. Picard», t. I. Paris, 1949, p. 98–104.
(обратно)
57
Ph. Lauer. Une lettre inedite d'Henri Ier d'Angre, empereur de Constantinople, aux prelats italiens (1213?). — «Melanges G. Schlumberger», v. I. Paris, 1924, p. 198 sq.
(обратно)
58
W. Miller. The Dukes of Athens. — «The Quarterly Review», 206, 1907, p. 100.
(обратно)
59
J. Lоngnоn. Les Autremencourt seigneurs de Salona en Grece (1204–1311). — «Bulletin de la Societe historique de Haute Picardie», 15, 1937.
(обратно)
60
W. Miller. The Marquisate of Boudonitza (1204–1414). — «JHS», 28, 1908, p. 234–249.
(обратно)
61
L. de Mas Latrie. Les seigneurs tierciers de Negropont. — «Revue de l'Orient latin», I, 1893, p. 415 sq.
(обратно)
62
А. Воn. Forteresses medievales de la Grece centrale. — BCH, 61, 1937, p. 136–208.
(обратно)
63
S. B. Luсe. Modon, a Venetion Station in Mediaeval Greece. — «Classical and Mediaeval Studies in Honor of E. K. Rand». New York, 1937.
(обратно)
64
P. W. Тоpping. Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania. Philadelphia, 1949, p. 173 f. В отличие от П. Топпинга, Ж. Лоньон рисует идеализированную картину положения морейских вилланов (J. Lоngnоn. L'empire latin…, p. 209 sq.).
(обратно)
65
J. Longnon. Dans la Grece franque: Documents sur la vie economique, — «Annales», 6, 1951, № 4, p. 529.
(обратно)
66
J. Longnon. L'empire latin…, p. 203 sq.
(обратно)
67
Б. Т. Горянов. Поздневизантийский феодализм. M., 1962, стр. 30 и cл.
(обратно)
68
P. W. Тоpping. Feudal Institutions…, p. 109.
(обратно)
69
CM. D. Jасоbу. Un regime de coseigneurie greco-franque en Moree. Les «casaux de parcon». — «Melanges d'archeologie et d'histoire», 75, 1963, p. III — 125. Подобные случаи совладения засвидетельствованы источниками с конца XIII в. Возникает вопрос, зародилась ли система «ко-сеньории», как полагает Д. Якоби, в период установления мирных отношений между Мореей и Византийской империей после 1262 г. или же она существовала с самого образования Ахайского княжества.
(обратно)
70
P. I. Zepоs. Το διχαιου εις το тои Χρονιχον του. — EEBS, 18, 1948, σελ. 208 εξ.
(обратно)
71
См. R. L. Wolff. Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204–1261 — DOP, 8, 1954, p. 225–303. Ср. также: Б. А. Панченко. Латинский Константинополь и папа Иннокентий III. Одесса, 1914.
(обратно)
72
О западном монашестве в Латинской империи см. R. L. Wolff. The Latin Empire of Constantinople and the Franciscans. — «Traditio», 2, 1944; E. A. R. Вrоwn. The Cistercians in the Latin Empire of Constantinople and Greece. — «Traditio», 14, 1958.
(обратно)
73
Cм. D. Zakythinos. 'Ο αρχιεπισχοπος 'Αντελμος χαι τα πρωτα ετη της Λατινιχης εχχλησιας Πατρων. — ΕΕΒΣ, 10, 1933, σελ. 401–417.
(обратно)
74
Cм. M. Dendias. Sur les rapports entre les Grecs et les Francs en Orient apres 1204. — ΕΕΒΣ, 23, 1953, σελ. 374. M. Дендиас считает, однако, религиозную рознь не только формой, но и основным содержанием франко-греческих противоречий.
(обратно)
75
R. L. Wодff. The Organization of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204–1261. — «Traditio», 6, 1948, p. 43.
(обратно)
76
R. L. Wоlff. The Organization…, p. 39.
(обратно)
77
Cм. R. L. Wоlff. A New Document from the Period of the Latin Empire of Constantinople: the Oath of the Venetian Podesta. — «Melanges H. Gregpire», v. 4. Bruxelles, 1953, p. 555 f. Ф. Тирье (F. Тhiriet. La Romanie Venicienne au Moyen age. Paris, 1959, p. 74 sq.) выдвинул теорию, будто венецианцы в Константинополе при Марино Дзено проявляли стремление к сепаратизму, к обособлению от Республики св. Марка. Критика этой теории дана Н. П. Соколовым в рецензии на работу Тирье (ВВ, XIX, 1961, стр. 341–344).
(обратно)
78
Greg., I, p. 13.9–14. См. также: Niс. Сhon., р. 827. 1–11; 843. 1–4; Асrоp., I, p. 12.5–13.
(обратно)
79
B. Sinogowitz. Uber das Byzantinische Kaisertum nach dem vierten Kreuzzuge (1204–1205). — BZ, 45, 1952, S. 351–356. Об истории вопроса см. G. Ostrogorsky. Geschichte des Byzantinischen Staates. Munchen, 1963, S. 353, Anm. 4; У. Пападрианос. Да ли je Константин Ласкарис био византийски цар? — ЗРВИ, 9, 1966.
(обратно)
80
A. Heisenberg. Neue Quellen zur Geschichte des Lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion. — SBAW, Philos. - philol. und hist. Klasse. Jg. 1923, 2. Abb. Munchen, 1923, S. 5–11, 28, 35.
(обратно)
81
Pachym., I., p. 16. 2–19.
(обратно)
82
P. W. Wittek. Das Furstentum Mentesche. Studien zur Geschichte West-Kleinasiens im 13–15. Jh. Istanbul, 1934, S. 4–11.
(обратно)
83
H. Glykatzi-Ahrweiler. La politique agraire des empereurs de Nicee. — Byz., XXVIII, 1959, p. 56–62.
(обратно)
84
G. Ostrogorskij. Pour l'histoire de la feodalite byzantine. Bruxelles, 1954, p. 68–71.
(обратно)
85
P. Charanis. On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the Thierteenth Century and Later. — BS, 12, 1951, p. 129–133.
(обратно)
86
См. о Никее: Ф. И. Успенский. О рукописях истории Никиты Акомината в Парижской национальной библиотеке. — ЖМНП, ч. 194, ноябрь 1877, стр. 76–77.
(обратно)
87
Асrор., I, р. 105.21–26.
(обратно)
88
A. Heisenberg. Kaiser Johannes Batatzes der Barmherzige. — BZ, 1, 1905, S. 179–183.
(обратно)
89
Pachym., I, p. 99.9–12.
(обратно)
90
Датировка заговора затруднительна, однако Акрополит (I, p. 34, 36–37) сообщает о нем после рассказа о разгроме Ласкарисов.
(обратно)
91
Асrор., I, р. 37.6–7.
(обратно)
92
Pachym., I, p. 68.12–17; 71.2–5.
(обратно)
93
Theodori Scutariotae additamenta ad Georgii Acropolitae historiam (далее — Тheоd. Scut.), in: Acrop., I., p. 286. 22–27.
(обратно)
94
Greg., I, p. 42.1–20.
(обратно)
95
Ibid., p. 42.20–43.9.
(обратно)
96
Тheоd. Sсut., p. 287.15–288.5.
(обратно)
97
Ibid., p. 285.23–286.7.
(обратно)
98
Greg., I, p. 37.4–9. См. также отрывок из неизданной речи Феодора II Ласкариса: Ф. И. Успенский. К истории крестьянского землевладения в Византии. — ЖМНП, ч. 225, февраль 1883, стр. 339; Nicephori Blemmуdae curriculum vitae et carmina, ed. A. Heisenberg. Lipsiae, 1896, p. 118.96–99.
(обратно)
99
Greg., I, p. 43.17–44.6.
(обратно)
100
Тheоd. Sсut., p. 285.18–23.
(обратно)
101
Acrop., I., p. 80.1–8.
(обратно)
102
Ibid., p. 77.14–19; 80.1–8.
(обратно)
103
Ibid., p. 72.2–8.
(обратно)
104
Ibid., p. 96.4–97.2; 99. 7–15.
(обратно)
105
Ibid., p. 93–99.
(обратно)
106
Greg., I, p. 49.7–14.
(обратно)
107
Pachym., I, p. 21.1–23.13.
(обратно)
108
Имя Ласкариса Феодор унаследовал от своей матери Ирины.
(обратно)
109
Theod. Scut., p. 286.12–16.
(обратно)
110
J. Draseke. Theodores Lascaris. — BZ, 3, 1894, S. 499 ff.; E. Lappa-Ziziсas. Un traite inedit de Theodore II Lascaris. — «Actes du VIe Congres international d'Etudes byzantines», t. I. Paris, 1950, p. 119–126; M. A. Andreeva. A propos de l'eloge de l'empereur Jean III Batatzes par son fils Theodore II Lascaris. — SK, X, 1938, p. 134–143.
(обратно)
111
Аcrор., I, p. 154.20–155.10.
(обратно)
112
Ibid., p. 105.4–12.
(обратно)
113
Ср. H. Glykatzi-Ahrweiler. La politique agraire…, p. 65–66.
(обратно)
114
Pachуm., I, p. 69.11–18.
(обратно)
115
Acrop., I, p. 125.1–5; Greg., I, p. 56.7–13.
(обратно)
116
Cам Палеолог говорит, что его оклеветали (Н. Gregoire. Imperatoris Michaelis Palaelogis de vita sua, — Byz., XXIX–XXX, 1960, p. 453).
(обратно)
117
Greg., I, p. 70.2–15.
(обратно)
118
Pachym., I, p. 98.1–2.
(обратно)
119
Ibid., p. 92.9–12; 97.16–18. См. об этом: G. Ostrogorskij. Pour l'histoire de la feodalite byzantine, p. 95–106.
(обратно)
120
Pachym., I, p. 93.2–8.
(обратно)
121
Cм. D. J. Geanakoplos. The Nicene Revolution of 1258 and the Usurpation of Michel VIII Palaeologos. — «Traditio», 9, 1953; P. Wirth. Die Bergundung der Kaisermacht Michaels VIII Palaiologos. — JOBG, 10, 1961.
(обратно)
122
Д. Ангелов. К вопросу о правителях фем в Эпирском деспотате и Никейской империи. — BS, 12.
(обратно)
123
Аcrор., I, р. 142.12–15.
(обратно)
124
Ф. И. Успенский. О рукописях истории Никиты Акомината, стр. 73.
(обратно)
125
Б. Ферjанчиħ. Породица Малиасина у Тесалиiи. — ЗРВИ, 7/1, 1963, р. 241–249.
(обратно)
126
D. М. Niсоl. The Despotate of Epiros. Oxford, 1957, p. 8–14.
(обратно)
127
V. Laurent. Charisticariat et commende a Byzance. — REB, 12, 1954, p. 106–107.
(обратно)
128
Д. Ангелов. Принос към народностните и поземелни отношения в Македония (Епирския деспотат) през първата четвърт на XIII век. — «Известия на камарата на народната култура». Серия хуманитарни науки, т. IV, № 3. София, 1947, стр. 19–20, 31, 34.
(обратно)
129
G. Ostrogorskij. Pour l'histoire de la feodalite byzantine, p. 87.
(обратно)
130
Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия в XI–XII вв. М., 1960, стр. 155.
(обратно)
131
D. Niсоl. The Despotate of Epiros, p. 54–55; Г. Г. Литаврин. Болгария и Византия в XI–XII вв., стр. 246.
(обратно)
132
Асrор., I, р. 80.1–8.
(обратно)
133
Д. Ангелов. К вопросу…, стр. 61 cл.
(обратно)
134
См. о датировке: Б. Ферjанчиħ. Када je умро деспот Михаило II Анħео — ЗРВИ, 9, 1966, р. 29–31.
(обратно)
135
L. Stiеrnоn. Les origines du despotat d'Epire. — REB, 17, 1959, p. 96, 124–126; R. Guilland. Etudes sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. — Ibid., p. 56, 60, 68–71; L. Stiernon. Les origines du despotat d'Epiros. — «Actes du XIIе Congres International d'Etudes byzantines», II. Beograd, 1964, p. 197–202. См. также рец. Р. Лемерля на кн.: D. Niсоl. The Despotate of Epiros, in: BZ, 51, 1958; Б. Ферjанчиħ. Деспоти у Византиjи и jужнословенским земльама. Београд, 1960, стр. 49–89.
(обратно)
136
Асrор., I, р. 34–5–12. См. D. Niсоl. Op. cit., p. 67–69.
(обратно)
137
Greg., I, p. 26.13.
(обратно)
138
Ф. И. Успенски. Выделение Трапезунда из состава Византийской империи. — SK, I, 1927, р. 26; F. Epstein, in: BZ, 31, 1931, S. 102.
(обратно)
139
Такова дата смерти Тамар, принятая грузинскими учеными (см. Н. А. Бердзенишвили, В. Д. Дондуа, М. К. Думбадзе, Г. А. Меликишвили, Ш. А. Месхиа. История Грузии, I. Тбилиси, 1962, стр. 207; ср. G. Оstrоgоrskу. Geschichte…, S. 352).
(обратно)
140
Начало этих родственных связей восходит к первой половине XII в. Однако степень родства Тамар с юными Комнинами, несмотря на множество гипотез в историографии, нельзя считать окончательно установленной. См. А. А. Куник. Основание Трапезундской империи в 1204 г. — «УЗ ими. Академии наук по первому и третьему отделениям», т. п. СПб., 1854, стр. 722–723; С. Toumanoff. On the Relationship between the Founder of the Empire of Trebizond and the Georgian Queen Thamar. — «Speculum», 15, № 3, 1940, p. 302–311; A. A. Vasiliev. The Empire of Trebizond in History and Literature. — Byz., XV, 1941, p. 369–370; А. Вrуеr. Trebizond: the Last Byzantine Empire. — «History Today», X, № 2, 1960, p. 127–128.
(обратно)
141
А. А. Куник. Указ, соч., стр. 722–723; П. В. Безобразов. Трапезунт, его святыни и древности. Пг., 1916, стр. 5.
(обратно)
142
М. Г. Джанашвили. «Картлис-Цховреба» — Жизнь Грузии. — «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 35. Тифлис, 1905, стр. 141–142; Михаил Панарет. Трапезундская хроника. Греч, текст с переводом, предисловием и комментариями издал А. Хаханов. М., 1905, стр. 1. См. W. Е. D. Аllеn. A History of the Georgian People. London, 1932, p. 108.
(обратно)
143
A. A. Vasiliev. The Fondation of the Empire of Trebizond (1204–1222). — «Speculum», 11, № 1, 1936, p. 6–7.
(обратно)
144
Мы полагаем, что, принимая титул «Великие Комнимы», братья противопоставляли себя Алексею III Ангелу, назвавшему себя также Комнином, и деспотам Эпира (Ангелам), состоявшим в некотором родстве с Комнинами и включавшим это имя в свой титул.
(обратно)
145
Ф. И. Успенский, В. В. Бенешевич. Вазелонские акты. Ленинград, 1927, стр. 87–101; См. также: О. Lampsidis. Ou en sommes nous de l'histoire des Grands Comnenes? — «Actes du XIIe Congres Intern. d'Et. byz.», II, p. 165–169.
(обратно)
146
Ф. И. Успенский. Очерки из истории Трапезунтской империи. Ленинград, 1929, стр. 32, 81–83.
(обратно)
147
Там же, стр. 87–89.
(обратно)
148
Fontes historiae imperii Trapezuntini, ed. A. Papadopulos-Kerameus, I. Petropoli, 1897, p. 117–118.
(обратно)
149
Georgii PachymerisDe Michaele et Andronico Palaeologis libri tredecim, v. 1. Bonnae, 1835, p. 15.8–18.
(обратно)
150
Nicetae Choniatae historia. Bonnae, 1835, p. 797.15–798.3.
(обратно)
151
B. Sinogowitz. Ober das Byzantinische Kaisertum nach dem vierten Kreuzzuge. — BZ, 45, 1952, S. 349.
(обратно)
152
Nic. Chоn., р. 826.12–21.
(обратно)
153
Ср. А. А. Vasiliev. The Foundation of the Empire of Trebizond. — «Speculum», 11, № 1, 1936, p. 24.
(обратно)
154
W. Miller. The Empire of Nicaea and the Recovery of Constantinople, — «Cambridge Medieval History», v. IV, Ch. XVI. Cambridge, 1923, p. 483.
(обратно)
155
B. Sinogowitz. Ober das Byzantinische Kaisertum nach dem vierten Kreuzzuge, S. 345.
(обратно)
156
P. Оrgels. Sabas Asidenos, dynaste de Sampson. — Byz., X, 1935, p. 69–75.
(обратно)
157
Nic. Chоn., р. 842.8–13.
(обратно)
158
Об этом сообщают Акрополит, Пахимер, Григора. Только Никита Хониат, «История» которого доведена лишь до 1206 г., говорит, что Алексей III был отослан латинянами на Запад (Niс. Сhоn., р. 819. 4–6).
(обратно)
159
Никита Хониат (Bibliotheca graeca medii aevi, ed. К. Sathas, v. 1. Venetia, 1872, p. 132) и Абу-ль-Фида (Historiens orientaux, 1, p. 86) свидетельствуют, что убил султана Феодор Ласкарис.
(обратно)
160
Greg., I, p. 21.4–6.
(обратно)
161
J. Lоngnоn. La campagne de Henri Hainaut en Asie Mineure en 1211. — «Bulletin de l'Academic de Belgique», 34, 1948.
(обратно)
162
Acrоp., I, p. 27.20–21.
(обратно)
163
О датировке см. А. А. Vasiliev. Mesarites as a Source. — «Speculum», 13, № 2, 1938, p. 181–182; см. также A. A. Vasiliev. The Foundation…, p. 25–28.
(обратно)
164
D. M. Niсоl. The Despotate of Epiros. Oxford, 1957, p. 26–32.
(обратно)
165
Аcrор., I, p. 24.23–25.2.
(обратно)
166
M. Дринов. О некоторых трудах Димитрия Хоматиана как историческом материале. — ВВ, I, 1894, стр. 336–338.
(обратно)
167
Аcrор., I, р. 26.8–9.
(обратно)
168
О датировке см. J. Lоngnоn. La reprise de Salonique par les Grecs en 1224. — «Actes du VIе Congres International d'Etudes byzantines», I. Paris 1950; B. Sinogowitz. Eroberung Thessalonikes im Herbst 1224. — BZ, 45, 1952, S. 28.
(обратно)
169
Дринов. О некоторых трудах Димитрия Хоматиана, стр. 8–15.
(обратно)
170
См. Analecta sacra et classica Specilegio Solesmensi parata, ed. J. B. Pitra, v. VI. Parisiis — Romae, 1891, p. 381–384.
(обратно)
171
Асrоp., I, p. 35.7–9.
(обратно)
172
Датировка этого события затруднительна, но Акрополит относил его ко времени до заключения мира с латинянами в 1225 г. (Асrор., I, р. 38.8–12).
(обратно)
173
В. Н. 3латарски. Иван Асень II (1218–1241). — «Българска историческа библиотека», год. 3, т. 3, 1930.
(обратно)
174
П. Ников. Църковната политика на Иван Асень II. — «Българска исторпческа библиотека», год. 3, т. 3, 1930.
(обратно)
175
Greg., I, p. 28.5–19.
(обратно)
176
В. Н. Златарски. Българо-сърбските политически отношения в миналото. — «Българска историческа библиотека», год. 3, т. 2, 1930, стр. 83–85.
(обратно)
177
Ф. И. Успенский. О древностях города Тырнова. — ИРАИК, т. 7, 1901, табл. 5.
(обратно)
178
П. Ников. Църковната политика на Иван Асень II, стр. 80–81.
(обратно)
179
О спорах относительно того, от кого исходила инициатива союза (от Асеня или Ватаца), см. G. Ostrogorsky. Geschichte des Byzantinischen Staates. Munchen, 1963, S. 361, Anm. 1.
(обратно)
180
В. Г. Васильевский. Обновление болгарского патриаршества при царе Иоанне Асене II. — ЖМНП, ч. 238, 1885, март, апрель.
(обратно)
181
Ст. Станоjевиħ. Св. Сава и проглас бугарске naтpиjapшиje — «Глас српске кральевске академике», CLVI. Други разред, 79. Београд, 1933, стр. 178–187; Ст. Станоjевиħ и А. Соловjев. Koje je године умро св. Сава. — Там же, стр. 161, 169.
(обратно)
182
Асrор., I, р. 58.13–14; 60.4–9.
(обратно)
183
Ibid., p. 61.23–24.
(обратно)
184
Г. Вернадский. Золотая орда, Египет и Византия в их взаимоотношениях в царствование Михаила Палеолога. — SK, I. 1927, р. 74.
(обратно)
185
Аcrор., I, р. 75.12–77.23.
(обратно)
186
Ibid., p. 79, 16–80.8.
(обратно)
187
Расhуm., I, р. 21.11–20.
(обратно)
188
W. Nоrden. Das Papsttum und Byzanz. Berlin, 1903, S. 367–380.
(обратно)
189
Аcrоp., I, p. 108.2–4.
(обратно)
190
См., например, ibid., p. 117.18–27; 145.10–15; 147.1–10.
(обратно)
191
Ibid., p. 161.25–163.15.
(обратно)
192
Pachуm., I, p. 106.8–10.
(обратно)
193
Ibid., p. 106.10–14.
(обратно)
194
W. Nоrden. Das Papsttum und Byzanz, S. 382 f.
(обратно)
195
D. M. Niсоl. The Despotate of Epiros, p. 176.
(обратно)
196
Асrоp., I, p. 168. 1–8. Пахимер поднимает эту цифру до 3000 (Раchym., I, р. 83.3–5).
(обратно)
197
D. J.Geanakoplos. Greco-Latin Relations on the Eve of the Byzantine Restauration: the Battle of Pelagonia — 1259. — DOP, 7, 1953, p. 109.
(обратно)
198
Robert Lee Wolff. Mortgage and Redemption of an Emperor's Son: Castile and the Latin Empire of Constantinople. — «Speculum», 29, № 1, 1954, p. 52–54.
(обратно)
199
О трудностях датировки см. D. M. Niсоl. The Date of the Battle of Pelagonia. — BZ, 49, 1956, S. 68–71.
(обратно)
200
Pachуm., I, p. 85.20–22.
(обратно)
201
Аcrоp., I, p. 171.20–23.
(обратно)
202
D. M. Nikоl. The Despotate of Epiros, p. 189.
(обратно)
203
См. Р. Wirth. Von der Schlacht von Pelagonia bis zum Wiedereroberung Konstantinopels. Zur aufieren Geschichte der Jahre 1259–1261. — BZ, 55, 1962, S. 30 f.
(обратно)
204
Jus, III, p. 574–582.
(обратно)
205
Асrоp., I, p. 188.3–7.
(обратно)
206
Pachym., I, 164.8–10.
(обратно)
207
Ibid., p. 97.15–19.
(обратно)
208
Ibid., p. 321.8–10; G. Ostrogorskij. Pour l'histoire de la feodallte byzantine, p. 100.
(обратно)
209
MM, IV, p. 330–336.
(обратно)
210
Pасhуm., I, p. 98.10–13.
(обратно)
211
C. Chapman. Michel Paleologue, restaurateur de l'empire byzantin. Paris, 1926, p. 154.
(обратно)
212
A. Heisenberg. Aus der Geschichte und Literatur der Palaiologenzeit. — SBAW, Philos.-philol. und histor. Klasse, № 10. Munchen, 1920, S. 91; cp. G. Ostrogorskij. Op. cit., p. 97.
(обратно)
213
C. Chapman. Op. cit., p. 155.
(обратно)
214
Г. А. Острогорский. К истории иммунитета в Византии. — ВВ, XIII, 1958, стр. 75.
(обратно)
215
Там же, стр. 78; ср. G. Ostrogorskij. Quelques problemes d'histoire de la paysannerie byzantine. Bruxelles, 1956, p. 35 sq.
(обратно)
216
См., например, MM, IV, p. 26–28; 332; 335; 336–339.
(обратно)
217
С. Сhapman. Op. cit., p. 156.
(обратно)
218
Ibid., p. 157.
(обратно)
219
Pachym., I, p. 222.8–10.
(обратно)
220
Pachym., I, p. 18, 12–17; G. Arnakis. Byzantium's Anatolian Provinces during the Reign of Michael Palaeologus. — «Actes du XIIе Congres International d'Etudes byzantines», t. II. Beograd, 1964, p. 39, 40.
(обратно)
221
Pасhуm., I, p. 193–201.
(обратно)
222
G. Arnakis. Op. cit., p. 43–44.
(обратно)
223
D. Geanakoplos. Emperor Michael Paleologus and the West. Cambr., Mass., 1959, p. 168 sq.
(обратно)
224
Ibid., p. 182–183.
(обратно)
225
С. Сhapman. Op. cit., p. 54.
(обратно)
226
H. Evert-Kappesowa. Une page de I'histoire des relations byzantino-latmes. — BS, 13, 1952, p. 70.
(обратно)
227
D. Geanakоplоs. Op. cit., p. 197–199.
(обратно)
228
С. Сhapman. Op. cit., p. 127–128.
(обратно)
229
Pасhуm., I, p. 430 sq.; Greg., I, p. 130 sq. П. О. Карышковский. Восстание Ивайла. — ВВ, XIII, 1958, стр. 119 сл.; П. Петров. Въстанието на Ивайло (1277–1280). — ГСУ, Фил. — ист. фак., т. 49, кн. 1, 1955, стр. 175–257.
(обратно)
230
D. Geanakорlоs. Op. cit., 232, 253.
(обратно)
231
С. Сhapman. Op. cit., p. 113–114.
(обратно)
232
Ibid., p. 49–50, 101–103.
(обратно)
233
H. Evert-Kappesova. La societe byzantine et l'Union de Lyon. — BS, 10, 1949, p. 39–40.
(обратно)
234
H. Evert-Kappesova. La societe byzantine…, p. 77 sq.
(обратно)
235
Pасhуm., I, p. 410–411; B. Rоberg. Die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274). Bonn, 1964, p. 196 f.
(обратно)
236
J. Gay. Les registres de Nicolas III. Paris, 1898–1938, № 370. 128–130; D. Geanakoplos. Op. cit., p. 313 sq.
(обратно)
237
G. Evert-Kappesova. La societe byzantine…, p. 28–30.
(обратно)
238
Ibid., p. 29.
(обратно)
239
Pасhуm., I, p. 308. 13–21.
(обратно)
240
PG, t. 141, col. 950–951.
(обратно)
241
M. Niсоl. The Greeks and the Union of the Churches. The Report of Ogerius, Protonotarios of Michael VII Palaiologos in 1280. — «Proceedings of Roy. Irish Academy», 63, Sect. C, № 1. Dublin, 1962, p. 3, 11 sq.
(обратно)
242
Pасhуm., I, p. 506. 7–14; G. Geanakоplоs. Op. cit., p. 340 sq.
(обратно)
243
S. Runсiman. The Sicilian Vespers. Cambridge, 1958, p. 208 sq.
(обратно)
244
Ibid., p. 214–225.
(обратно)
245
H. Hunger. Zur Humanitat Kaiser Andronikos' II. — ЗРВИ, 8/1, 1963, S. 149–152.
(обратно)
246
Greg., I, p. 219.20–22.
(обратно)
247
Ch. Diehl. Princesses d'Occident a la cour de Paleologues: I. lolande de Monferrat. — «Figures byzantines», 1908, II, p. 226–245.
(обратно)
248
G. I. Вratianu. Notes sur le pro jet du mariage entre l'empereur Michel IX Paleologue et Catherine de Courtenay (1288–1295). — «Revue historique du Sud-Est europeen», I, 1924 p. 59–63.
(обратно)
249
G. I. Вratianu. Recherches sur le commerce genois dans la Mer Noire au XIIIe siecle. Paris, 1929, p. 253 sq. Cp. E. Ч. Скржинская. Генуэзцы в Константинополе в XIV в. — ВВ, I, 1947, стр. 223–224.
(обратно)
250
Расhуm., II, р. 322–324.
(обратно)
251
G. Arnakis. Οι πρωτοι 'Οδωμανοι Συμβολη εις προβλημα της πτωσεως του 'Ελληνισμου της Μιχρας 'Ασιας (1282–1337). Athens, 1947; J. Hammer-Purgstall. Geschichte des Osmanischen Reiches. I. Von der Grundung des Osmanischen Reiches bis zur Eroberung Constantinoples, 1300–1453. Pest, 1962; А. Массе. Ислам. Очерк истории. M., 1961; E. Werner. Die Geburt einer GroBmacht — Die Osmanen. Berlin, S. 84, 95 f.
(обратно)
252
S. Tramontana. Per la storia della Compagnia Catalona in Oriente. — «Nuova Rivista Storice», 46, 1962, p. 58–95.
(обратно)
253
N. Iоrga. R. Muntaner et I'empire byzantin. — «Revue historique du Sud-Est europeen», IV, 1927, p. 332 sq.
(обратно)
254
G. Schlumberger. Expedition des Almugavares ou routiers Catalans en Orient de l'an 1302 a l'an 1311. Paris, 1902, p. 108–109.
(обратно)
255
D. Zakythinos. Crise monetaire et crise economique a Byzance du XIIIе au XVе siecle. Athenes, 1948, p. 8 sq., 26.
(обратно)
256
Greg., I, p. 227. 20–21.
(обратно)
257
N. Iоrga. R. Muntaner et I'empire byzantin, p. 325–355.
(обратно)
258
Pachym., II, p. 554.6–8.
(обратно)
259
N. Iоrga. R. Muntaner et l'empire byzantin, p. 347 sq.
(обратно)
260
Ibid., p. 451.
(обратно)
261
Cм. K. M. Settоn. Catalan Domination of Athens 1311–1388. Cambr., Mass., 1948.
(обратно)
262
Greg., I, p. 229 sq.
(обратно)
263
MM, V, p. 77.
(обратно)
264
В хрисовуле Андроника II Палеолога Янине от 1319 г. разрешается продавать землю только жителям города (ММ, V, р. 83).
(обратно)
265
Известен документ, свидетельствующий о запрете продажи париками земли прониарам, поскольку прониарные земли всегда находятся под властью государства. См. ММ, IV, р. 199.
(обратно)
266
F. Dolger. Sechs byzantinischePraktika des 14. Jh. fur das Athoskloster Iberon. — ABAW, N. F., H. 28, 1949, A 457; RV 245.
(обратно)
267
К. В. Хвостова. Некоторые вопросы феодальной ренты по материалам Ивирских практиков XIV в. — «Византийские очерки». М., 1961, стр. 248–255, 259–268.
(обратно)
268
Сохранение телоса на прежнем уровне при изменении размеров имущества не было, однако, строгим правилом: во многих случаях наблюдались известные колебания телоса.
(обратно)
269
К. В. Xвостова. Некоторые вопросы феодальной ренты…, стр. 259–263.
(обратно)
270
Р. Lemerlе. La notion de decadence a propos de l'Empire byzantin. Classicisme et declin culturel dans l'Islam. Paris, 1957, p. 268, 270; idem. Esquisse pour une histoire agraire de Byzance. — «Revue historique», t. 220, 1958, p. 89; N. Svоrоnоs. Sur quelques formes de la vie rurale a Byzance. — «Annales», 1956, № 3, p. 326.
(обратно)
271
Ф. И. Успенский, В. Н. Бенешевич. Вазелонские акты. Материалы для истории крестьянского и монастырского землевладения в Византии XIII–XV вв. Ленинград, 1927, стр. XXXV. 12–16.
(обратно)
272
Известна тяжба париков с монахами кельи св. Христодула на острове Леросе по поводу пастбищной земли. Парики утверждали, что они имели право входить и владеть этой землей, монахи, напротив, отрицали владельческие права париков (ММ, VI, р. 38–40).
(обратно)
273
F. Dolger. Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Miinchen, 1948, № 32.30–31; 115.13–14.
(обратно)
274
О противопоставлении телоса и паричских повинностей см. ММ, VI, р. 122; F. Dolger. Aus den Schatzkammern…, № 15.6–7.
(обратно)
275
Actes de Chilandar, ed. L. Petit. — BB, XVII, 1911. Приложение, № 55.4–13.
(обратно)
276
F. Dolger. Aus den Schatzkammern…., № 30.10–12.
(обратно)
277
Ср. А. П. Каждан. Деревня и город в Византии IX–X вв. М., 1960, стр. 139.
(обратно)
278
F. Dolger. Sechs byzantinische Praktika, RV 235 ff.
(обратно)
279
Такими налогами были ситаркия, кастроктисия, орики, митат, энномий. См. Actes de Chilandar, № 113.29–39.
(обратно)
280
К. В. Xвостова. Некоторые вопросы истории иммунитетных грамот македонских монастырей в XIV в. — ВВ, XIX, 1961, стр. 47.
(обратно)
281
Вряд ли можно согласиться с мнением тех исследователей, которые полагают, что свободное крестьянство в Византии перестало существовать уже с X в., так как государство закрепостило крестьян и превратило их в государственных париков. (G. Ostrogorskij. Quelques problemes d'histoire de la paysannerie byzantine. Bruxelles, 1956, p. 11, passim; А. П. Каждан. К вопросу об особенностях феодальной собственности в Византии в VIII–IX вв. — ВВ, X, 1956, стр. 60).
(обратно)
282
Известна, например, земельная тяжба жителей села Малахион и Патмосского монастыря. См. ММ, VI, р. 211, 213. Спор шел не о фактическом владении, а о праве собственности, т. е. жители этого села — свободные крестьяне, владевшие землей
suo nomine. Парики могли вчинять только поссессорные иски.
(обратно)
283
Actes de Chilandar, №№ 31.14–15; 60.27–28; 67.3.
(обратно)
284
Г. Острогорскиj. Прониjа. Прилог историjи феудализма у Византиjи у jужнословенским земльама. Београд, 1951, стр. 105 сл.
(обратно)
285
G. Villehardouin. La Conquete de Constantinople, t. I, ed. E. Bouchet. Paris, 1891, p. 171.
(обратно)
286
Ibid., p. 173. Cf. Critobuli ImbriotaeDe rebus gestis Mechmetis. — FHG, V, pars 1, p. 99.
(обратно)
287
М. Марковиħ. Византиске повелье дубровачког архива. — ЗРВИ, 1/1, 1952, стр.211–227; Ф. Баришиħ. Писмо Михаила II Анħела дубровачком кнезу из 1237. — ЗРВИ, 9, 1966, стр. 12.
(обратно)
288
М. Марковиħ. Указ, соч., стр. 227.
(обратно)
289
Jus, III, p. 566–567.
(обратно)
290
Greg., I, p. 43.22–24.
(обратно)
291
W. Miller. Trebizond: the Last Greek Empire. London, 1926, p. 26.
(обратно)
292
The Chronicle of Morea, by J. Schmidt. London, 1904, p. 138–140.
(обратно)
293
MM, V, p. 154.
(обратно)
294
Ibid, p. 77.
(обратно)
295
Cм. L. Вrehier. Les institutions de l'empire byzantin. Paris, 1949, p. 216; G. I. Вratianu. Privileges et franchises municipales dans l'empire byzantin. Paris — Bucarest, 1936, p. 116.
(обратно)
296
О. Тafrali. Thessalonique au XIVе siecle. Paris, 1912, p. 66–77.
(обратно)
297
Cм. E. Franсes. La feodalite et les villes byzantines au XIIIе et au XIVе siecles. — BS, 16,1, 1955, p. 76.
(обратно)
298
Чрезвычайно скудные и косвенные свидетельства о столичных корпорациях в поздней Византии не позволяют внести в этот вопрос достаточную ясность. Некоторые ученые считают, что константинопольские корпорации в XII–XIII вв. вообще исчезали (см. P. Charanis. On the Social Structure and Economic Organization of the Byzantine Empire in the XIII Century and later. — BS, 12, 1951, p. 151–152; E. Franсes. La disparition des corporations byzantines. — «Actes du XIIе Congres International d'Etudes byzantines», t. II. Beograd, 1964, p. 93–101).
(обратно)
299
Согласно акту, датированному 1295 г., в Фессалонике существовала корпорация нотариусов (F. Dolger. Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Miinchen, 1948, № 59/60, S. 166–167); в акте от 1320 г. фигурирует старшина корпорации мироваров (ibid., № 111, S. 303); документ от 1326 г. упоминает старшину корпорации строителей домов (ibid., № 112, S. 306).
(обратно)
300
См. Е. Ч. Скржинская. Генуэзцы в Константинополе в XIV в. — ВВ, I, 1947, стр. 215 cл.
(обратно)
301
Greg., II, р. 842. 2–4.
(обратно)
302
Ioannis Cantacuzeni Historiarum libri IV, v. III. Bonnae, 1832, p. 69.2–4. О том же говорит Никифор Григора (Greg., II, p. 877.8–9; III, p. 41.15; III, p. 194. 16–19).
(обратно)
303
Greg., III, p. 555–556.
(обратно)
304
F. Thiriet. Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanic, I. Paris, 1958, №№ 342, 551, 575.
(обратно)
305
Greg., I, p. 527. 6–7.
(обратно)
306
Cp. M. M. Шитиков. Венецианское купечество в первой половине XV в. в его торговых сношениях с Византией. — «УЗ МГПИ им. В. И. Ленина», № 237. «История средних веков». М., 1965, стр. 127–129.
(обратно)
307
Greg., I, p. 446.20–447.1.
(обратно)
308
Т. Gerasimоv. Les hyperperes d'Andronic II et d'Andronic III et leur circulation en Bulgarie. — «Byzantinobulgarica», I. Sofia, 1962, p. 213–225; E. Stein. Untersuchungen zur spatbyzantinischen Verfassungs-und Wirtschafts-geschichte. — «Mitteilungen zur osmanischen Geschichte». Bd. II, 1–2. Hannover, 1925, S. 11–13.
(обратно)
309
В. Рegоlоtti. La pratica della mercatura. Cambr., Mass., 1936, p. 40.
(обратно)
310
См. Б. Т. Гоpянов. Византийский город XIII–XV вв. — ВВ, XIII, 1958, стр. 174–175.
(обратно)
311
Greg., I, p. 416.24–25.
(обратно)
312
R. Guilland. La correspondence inedite d'Athanase, patriarche de Constantinople (1289–1293; 1304–1310). — «Melanges Charles Diehl», I. Paris, 1930, p. 138–139.
(обратно)
313
О высоких ценах на продукты питания в столице говорит также Георгий Пахимер (Georgii Pachymeris De Michaele et Andronico Palaeologis libri XIII. II. Bonnae, 1835, p. 494.2–11).
(обратно)
314
R. Muntaner. Chronique d'Aragon, de Sicile et de Grece, in: J. A. Вuсhоn. Chroniques etrangeres, relatives aux expeditions francaises, pendant le XIIIе siecle. Paris, 1841, p. 420.
(обратно)
315
Все возраставшие трудности продовольственного снабжения Константинополя и тех немногих городов, которые еще оставались под византийской властью, заставили правительство начиная с XV в. издавать специальные указы, резко ограничивавшие или вообще запрещавшие вывоз зерна из Византии (ММ, III, р. 146, 156, 166, 179 sq.). Однако сама повторяемость этих указов свидетельствует об их малой эффективности.
(обратно)
316
A. M. Sсhneider. Die Bevolkerung Konstantinopels im XV. Jahrhundert. Gottingen, 1949, S. 236–237.
(обратно)
317
В. Рegоlоtti. La pratica della mercatura, p. 33 sq.
(обратно)
318
M. H. Тихомиров. Пути из России в Византию в XIV–XV вв. — «Византийские очерки». М., 1961, стр. 29–30; М. М. Шитиков. Указ, соч., стр. 128.
(обратно)
319
Greg., I, p. 417.18–19.
(обратно)
320
Р. Тafur. Travels and Adventures 1435–1439. New York and London, 1926, p. 146.
(обратно)
321
R. Guilland. Autour du Livre des Ceremonies de Constantin VII Porphyrogenete. La Mese ou Regia. — «Actes du VIе Congres International d'Etudes byzantines», II. Paris, 1951, p. 181–182.
(обратно)
322
Существовавший в Х в. строгий запрет перепродажи шелка-сырца иностранцам давно был забыт: в 1440 г. Бадоэр вывез в Венецию на трех галерах 820 кг шелка-сырца [Il nuovo Ramusio. Raccolta di viaggi, testi e documenti relativi ai rapporti fra l'Europa el'Oriente a cura dell' Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente, vol. III. Il libro dei conti di Giacomo Badoer (Costantinopoli 1436–1440). Testo a cura di Umberto Dorini e Tommaso Bertele. Roma, 1956].
(обратно)
323
Так, Бадоэр сообщает, что Димитрий Нотара и Константин Палеолог закупили у него ткани, а продали пшеницу и просо. Нотара продал Бадоэру также крупную партию перца (Il nuovo Ramusio…, v. III, p. 101).
(обратно)
324
Cм. О. Тafrali. Thessalonique au XIVе siecle, p. 119.
(обратно)
325
Ioannis Anagnostae De excidio urbis Thessalonicensis. Bonnae, 1838, p. 533. 11–12.
(обратно)
326
F. Thiriet. Les venitiens a Thessalonique dans la premiere moitie du XIVе siecle. — Byz., XXII, 1952, p. 325.
(обратно)
327
О. Тafrali. Thessalonique au XIVе siecle, p. 126.
(обратно)
328
W. Heуd. Histoire du commerce de Levant, I. Leipzig, 1936, 483–484.
(обратно)
329
О. Тafrali. Thessalonique au XIVе siecle, p. 16.
(обратно)
330
См. Г. Острогорский. К истории иммунитета в Византии. — ВВ, XIII, 1958, стр. 81, 85; Б. Т. Горянов. Поздневизантийский феодализм. М., 1962, стр. 103.
(обратно)
331
Nicephori Gregorae Byzantina historia, I. Bonnae, 1829, p. 285.7–10.
(обратно)
332
Ibid. p. 295.17–19.
(обратно)
333
Ibid. p. 300.12–16; 301.5–6.
(обратно)
334
Ibid. p. 302.3–8.
(обратно)
335
Ibid. p. 317.8–20.
(обратно)
336
Ibid. p. 302.10–12.
(обратно)
337
Ibid. p. 319.13–21.
(обратно)
338
Ibid. p. 321.2–10.
(обратно)
339
Ibid., p. 358.17–23.
(обратно)
340
V. Parisоt. Cantacuzene homme d'etat et historien. Paris, 1845, p. 41.
(обратно)
341
Joannis Cantacuzeni Historiarum libri IV, v. III. Bonnae, 1832, p. 184–185.
(обратно)
342
Greg., I, p. 356.6–357.2.
(обратно)
343
А. Бурмов. История на България през времето на Шпшмановци, св. I. — ГСУ, Ист. — филол. фак-т, т. 43, 1947, стр. 5–23.
(обратно)
344
I. Sevсenkо. Etudes sur la polemique entre Theodore Metochite et Nicephore Chumnos. Bruxelles, 1962, p. 144.
(обратно)
345
Greg., I, p. 351.9–14.
(обратно)
346
R. Guilland. Essai sur Nicephore Gregoras. L'homme et Pceuvre. Paris, 1926, p. 11.
(обратно)
347
Б. Т. Горянов. Неизданный анонимный византийский хронограф XIV века. — ВВ, II, 1949, стр. 282; V. Laurent. La chronique anonyme de God. Mosquensis Gr. 426 et la penetration turque en Bithynie au debut du XIVe siecle. — REB, 7, 1950, p. 208.
(обратно)
348
V. Laurent. Isaie, patriarche de Constantinople (1323–1332). — «Catholicisme», 6, 1963, p. 146 sq.
(обратно)
349
Greg., I, p. 392.13–16; 397.2–6; 397.9–12; 399.2–18.
(обратно)
350
Ibid., p. 416.15–25; 417.17–19.
(обратно)
351
J. Verpeaux. Le cursus honorum de Theodore Metochite. — REB, 18, 1960, p. 195–198.
(обратно)
352
Cp. U. V. Bosch. Kaiser Andronikos III. Palaiologos. Versuch einer Darstellung der byzantinischen Geschichte in den Jahren 1321–1341. Amsterdam, 1965.
(обратно)
353
Т. Флоринский. Андроник Младший и Иоанн Кантакузин. — ЖМНП, ч. 204, 1879, июль, стр. 123.
(обратно)
354
P. Lemеrlе. Le juge general des grecs et la reform e judiciaire d'Andronic III. — «Memorial Louis Petit». Bucarest, 1948, p. 295–300; idem. Recherches sur les institutions judiciaires a l'epoque des Paleologues. — «Melanges Henri Gregoire», I. Bruxelles, 1949, p. 372–374.
(обратно)
355
А. Буpмов. Указ, соч., св. II, стр. 5–6; П. Мутафчиев. История на българския народ, т. II. София, 1943, стр. 239, 241; Ст. Станоjевиh. Историка српскога народа. Београд, 1926, стр. 159; Т. Томовски. Белешки по повод воениот поход на Андроник III во Македония во 1330 г. — «Годишен зборник филоз. фак-та», 16. Скопье, 1965, стр. 41–44.
(обратно)
356
Г. Острогорски. Душан и ньегова властела у борби са Византиjoм. — «Зборник у част шесте стогодишаице Законика цара Душана», I. Београд, 1951, стр. 80–83, 86; G. Оstrоgоrskij. Etienne Dusan et la noblesse serbe dans la lutte centre Byzance. — Byz., XXII, 1952, p. 152–155.
(обратно)
357
Greg., I., p. 499.2–3.
(обратно)
358
Ibid., p. 524.17–21.
(обратно)
359
Cм. E. Dallggio d'Alessio. Galata et la souverenite de Byzance. — REB, 19, 1961.
(обратно)
360
P. Lemerle. L'Emirat d'Aydin, Byzance et l'Occident. Recherches sur «la'geste d'Umur Pacha». Paris, 1957, p. 98.
(обратно)
361
А. В. Соловьев. Фессалийские архонты в XIV в. — BS, 4, 1932, стр. 163; И. Соколов. Крупные и мелкие властели в Фессалии в эпоху Палеологов. — ВВ, XXIV, 1926.
(обратно)
362
Е. Frаnсes. La feodalite et les villes byzantines au XIIIe et au XIVe siecles. — BS, 16 (1), 1955, p. 91.
(обратно)
363
Greg., I, p. 545.20–21.
(обратно)
364
P. Сharanis. Les βραχεα χρονιχα comme source historique. — Byz., XIII, 1938, p. 344; Cp. R. J. Lоenertz. Ordre et desordre dans les memoires de Jean Cantacuzene. — REB, 22, 1964, p. 229; V. Parisоt. Op. cit., p. 10.5
(обратно)
365
М. Я. Сюзюмов. J. Meyendorff. Introduction a l'etude de Gregoire Palamas. Paris, 1959. — BB, XXIII, 1963, стр. 264.
(обратно)
366
Сantaс., II, p. 80.
(обратно)
367
Ibid., III, p. 219, 279.
(обратно)
368
Greg., II, 610.1–3.
(обратно)
369
F. Dolger. T. Bertele. Monete e sigilli di Anna di Savoia, imperatrica di Bisanzio. Roma, 1937. — BZ, 38, 1938, S. 195–196.
(обратно)
370
P. Charanis. Βραχεα χρονιχα comme source historique, p. 344.
(обратно)
371
Greg., II, p. 614.1–7.
(обратно)
372
Ibid., p. 613.10–19.
(обратно)
373
Cantac., II, p. 181.20–27.
(обратно)
374
H. G. Весk. Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich. Munchen, 1959, S. 322–332, 712–732.
(обратно)
375
1F. Dolger. Regesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches, 5. Teil. Munchen, 1965, № 2896.
(обратно)
376
Demetrius Kydonis. Μονψδια επι τοις εν Θεσσλονιχη πεσουσιν — PG, t. 109, col. 645.
(обратно)
377
I. Sevcenko. Alexios Makrembolites and his «Dialogue between the Rich and the Poor.» — ЗРВИ, 6, 1960, p. 199, 205, 206, 210; А. П. Каждан. — ВИ, 1960, № 10, стр. 194.
(обратно)
378
Cantac., III, p. 117.
(обратно)
379
P. Lemerle. Un praktikon inedit des archives de Karakala (Janvier 1342) et la situation en Macedoine orientale au moment de l'usurpation de Cantacuzene. — «Χαριστηριον εις 'Α. Κ 'Ορλανδον». τ. Ι. Αδηυαι, 1964, σελ. 293.
(обратно)
380
К сожалению, мы очень мало знаем о программе зилотов. Сочинения Николая Кавасилы, на основании которых в историографии ее воссоздавали, относятся к событиям 70–80-х годов XIV в. и не имеют отношения к зилотам (I. Sevcenko. Nicolas Cabasilas' «Anti-Zealot» Discourse: A Reinterpretation. — OOP, 11, 1957; idem. The Author's Draft of Nicolas Cabasilas' «Anti-Zealot» Discourse in Parisianus Graecus 1276. — DOP, 14, 1960; idem. A. Postscript on Nicolas Cabasilas' «Anti-Zealot» Discourse. — DOP, 16, 1962).
(обратно)
381
G. Сammelli. Demetrii Cydonii orationes tres adhuc ineditae. — BNJb, Bd. 4, 1923, S. 79.
(обратно)
382
O. Tafrali. Thessalonique au quatorsieme siecle. Paris, 1913, p. 227.
(обратно)
383
V. Laurent. La liste episcopale du synodicon de Thessalonique. — «Echos d'Orient», 36, 1933, p. 308–309.
(обратно)
384
Э. Вepнep. Народная ересь или движение за социально-политические реформы? Проблемы революционного движения в Солуни в 1324–1349 гг. — ВВ, XVIII, 1960, стр. 179–191.
(обратно)
385
Greg., II, р. 796.2–18.
(обратно)
386
Cantac., II, р. 573.20.
(обратно)
387
П. Яковенко. О. Tafrali. Thessalonique… — BB, XXI, 1914, стр. 184–185.
(обратно)
388
М. Я. Сюзюмов. Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии. — «Византийские очерки», М., 1961, стр. 61–63; его же. Противоречия между плебейскими массами и зилотами в 1342–1348 гг. в Фессалониках. — «Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции византинистов в Тбилиси». Тбилиси, 1965, стр. 35–37.
(обратно)
389
F. Dolger. Regesten…, V, № 2884, 2900.
(обратно)
390
Г. Острогорский. К истории иммунитета в Византии. — ВВ, XII, 1958, стр. 88.
(обратно)
391
Б. Т. Горянов. Поздневизантийский феодализм. М., 1962, стр. 187.
(обратно)
392
Т. Флоринский. Южные славяне и Византия во второй четверти XIV в., вып. I. СПб., 1882, стр. 80–85.
(обратно)
393
Э. Франчес. Классовая позиция византийских феодалов в период турецкого завоевания. — ВВ., XV, 1959, стр. 74.
(обратно)
394
J. Gау. Le pape Clement VI et les affaires d'Orient. Paris, 1904.
(обратно)
395
G. 0strоgоrskij. Etienne Dusan et la noblesse serbe dans la lutte contre Byzance. — Byz., XXII, 1952, p. 156–158; А. В. Соловьев. Греческие архонты в Сербском царстве XIV в. — BS, 2 (1), 1930.
(обратно)
396
Г. Острогорски. Душан и ньегова властела…, стр. 84–85.
(обратно)
397
См. о Момчиле: В. Гюзелев. Момчил в светлината на един нов исторически извор. — «Вести на народния музей в Хасково», I. Хасково, 1965, стр. 21–27.
(обратно)
398
Р. Браунинг. Комуната на зилотите в Солун (1342–1350). — ИП. год. VI, № 4–5, 1950, стр. 520. Ср. V. Нrосhоva. La revolte des Zelotes a Salonique et les communes italiennes. — BS, 22, 1961 и рец. А. П. Каждана (ВИ, 1961; № 10, стр. 192–194).
(обратно)
399
Сantас., II, р. 572.
(обратно)
400
R. J. Lоеnеrtz. Note sur une lettre de Demetrios Cydones a Jean Cantacuzene. — BZ, 44, 1951, p. 407–408.
(обратно)
401
PG., t. 109, col. 645 B.
(обратно)
402
Ibid., col. 648 C.
(обратно)
403
Б. Т. Горянов. Первая гомилия Григория Паламы как источник к истории восстания зилотов. — ВВ, I, 1947, стр. 265–266.
(обратно)
404
М. Диниħ. За хронологjу душанових ocsajaньa византиских градова. — ЗРВИ, 4, 1956, стр. 6–11; G. С. Sоulis. Notes on the History of the City of Serres under the Serbs (1345–1371). «’Αφιερωμα Μαν. Τριανταφυλλιδη». Thessalonike, 1960, p. 373–379; А. Шкривaниħ. О jужним и jугоисточним границама српске државе за време цара Душана и после аегове смрти. — «Историjски часопис», XI. Београд 1961, стр. 5–9. Ср. Е. П. Наумов. К истории сербо-византийской границы во второй половине XIV в. — ВВ, XXV, 1964, стр. 234; Г. Острогорски. Ссрска облает после Душанове смрти. Београд, 1965.
(обратно)
405
Г. А. Острогорский. К истории иммунитета…, стр. 87; G. С. Sоulis. Tsar Stephan Dusan and Mount Athos. — «Essays… dedicated to F. Dvornik». — «Harvard Slavic Studies», 2, 1954, p. 125–139.
(обратно)
406
О значении титулов «царь» и «автократор» в Сербии см. Г. Острогорски. Автократор и самодержац. Прилог за историку владалачке титулатуре у Византиjи и у jужних Словена. — «Глас Српске кральевске академике», 164. Другие разред, 84. Београд, 1935, стр. 144–160.
(обратно)
407
С. Jirесеk. Geschichte der Serben, I. Gotha, 1911, S. 385.
(обратно)
408
F. Dоlger. Regesten…, V, № 2915, 2616.
(обратно)
409
Ibid., № 2918.
(обратно)
410
CM. F. Dolger. Johannes VI. Kantakuzenos als dynastischer Legitimist. — SK, 10, 1938.
(обратно)
411
Greg., II, p. 747.21–748.4.
(обратно)
412
Ibid., III, p. 181.6–7.
(обратно)
413
Cant., III, p. 105.18–21.
(обратно)
414
Greg., II, p. 870; Сantac., III, p. 38–39.
(обратно)
415
Э. Франчес. Народные движения осенью 1354 г. в Константинополе и отречение Иоанна Кантакузина. — ВВ, XXV, 1964, стр. 145–146.
(обратно)
416
F. Dolger. Regesten…, V, № 2932.
(обратно)
417
D. A. Zakуthinоs. Le Despotat grec de Moree, v. I. Paris, 1932, p. 77–100.
(обратно)
418
Cм. Ctahojeвиħ. Историка српскога народа. Београд, 1926, стр. 166; А. В. Соловьев. Фессалийские архонты в XIV в. — BS, 4, 1932, р. 159, 166.
(обратно)
419
Greg., II, р. 844.14–19; 877.8–19. Е.Ч. Скржинская. Генуэзцы…, стр. 226 cл.
(обратно)
420
Р. Сharanis. Les βραχεα χρονιχα…, p. 347.
(обратно)
421
F. Dolger. Regesten…, V, № 2945. Впрочем, экономическое значение этой льготы умалялось тем, что она предоставлялась и монастырям, т. е. крупным феодальным собственникам (ibid., № 2956).
(обратно)
422
F. Dolger. Regesten…, V., № 2967; P. Lemerlе. Philippes et la Macedoine orientale a l'epoque chretienne et byzantine. Paris, 1945, p. 202.
(обратно)
423
В руках Душана находился и Христополь. См. Г. Острогорски. Христополь измену Срба и Византинаца. — «Зборник Филоз. фак», 8 — «Melanges М. Dinic», I. Beograd, 1965, p. 333–342.
(обратно)
424
П. Мутафчиев. История на българския народ, т. II. София, 1943, стр. 273. Ср. Л. Иончев. Българо-византийски отношения около средата на XIV в. — ИП, год. 12, № 3, 1956, стр. 63–74.
(обратно)
425
С. Jirесеk. Stojan Novakovic. Срби и турци XIV и XV века. Београд, 1893. — «Archiv fur slavische Philologie», Bd. 17. Berlin, 1895, S. 256–257.
(обратно)
426
C. Zachariae a Lingenthal. Jus graeco-romanum, pars III. Lipsiae, 1857, p. 708–709.
(обратно)
427
Сantac., III, p. 33.
(обратно)
428
М. Я. Сюзюмов. Рецензия на: J. Meyendorff. Introduction…, p. 265–268.
(обратно)
429
V. Parisоt. Cantacuzenehomme d'etat et historien. Paris, 1845, p. 289–290; E. Werner. Johannes Kantakuzenos, Umur Pasa und Orhan. — BS, 26, 1965, S. 255–276.
(обратно)
430
Попытка Г. Арнакиса (G. G. Arnakis. Gregory Palamas among the Turks and Documents of his Captivity as Historical Sources. — «Speculum», 26, Januares 1951, p. III; idem. Gregory Palamas, the Χιονες and the Fall of Gallipoli. — Byz., XXII, 1952, p. 310–311) дать новую датировку взятия Галли-поли турками (1355 г.) была опровергнута П. Харанисом [Р. Сhаranis. On the Date of the Occupation of Gallipoli by the Turks, — BS, 16 (1), 1955]; E.Werner. Die Gehurt…, S. 134–138.
(обратно)
431
Э. Фpанчес. Народные движения…, стр. 144; ср. V. Раrisоt Op. cit., p. 298.
(обратно)
432
Ср. А. Вurmоv. Les probl ernes de la conquete de laPeninsule des Balkans par les Turcs. — «Etudes historique a l'occasion du XIe Congres International des sciences historiques a Stockholm». Sofia, 1960.
(обратно)
433
D. A. Zakуthinоs. Le Despotat grec de Moree, II. Athenes, 1953, p. 227 sq.
(обратно)
434
V. Grесu. Ducas. Istoria turco-bizantina (1341–1462). Bucuresti, 1958 (далее — Ducas), p. 49.26–28.
(обратно)
435
Ibid., p. 57.18–22.
(обратно)
436
N. Jоrga. Latins et Grecs d'Orient et etablissement des Turcs en Europe (1342–1362). — BZ, 15, 1906, S. 179–222; P. Сharanis. The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370–1402. — Byz., XVI, 1944, p. 286–315; idem. The Greek Historical Sources of the Second Half of the XIVth th Century. — «Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America», January 1944; M. Silberschmidt. Das orientalische Problem zur Zeit der Entstehung des turkischen Reiches nach venezianischen Quellen. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen Venedigs zu Byzanz, Ungarn und Genua und zum Reiche von Kiptschak (1381–1400). Leipzig — Berlin, 1923.
(обратно)
437
Duсas, p. 179.2. См. И. С. Достян. Борьба южнославянских народов против турецкой агрессии в XIV–XV вв. — ВВ, VII, 1953, стр. 32–50.
(обратно)
438
P. Wirth. Die Haltung Kaiser Johannes' V. bei den Verhandlungen mit Konig Ludwig I von Ungarn zu Buda im Jahre 1366. — BZ, 56, 1963.
(обратно)
439
A. A. Vasiliev. II viaggio delFimperatore bizantino Giovanni V Paleologo in Italia (1369–1371) e Punione di Roma del 1369: — «Studi bizantini e neoellenici», v. 3. Roma, 1931; M. Viller. La question de l'union des eglises entre Grecs et Latins depuis le concile deLyon jusqu'a celui de Florence. — «Revue d'histoire ecclesiastique», 17, 1921, p. 261–305, 515–532; 18, 1922, p. 20–60. H. Hunger. Kaiser Johannes V. Palaiologos und der Heilige Berg. — BZ, 45, 1952, S. 357–379.
(обратно)
440
О спорах в литературе относительно причин задержки Иоанна V в Венеции см.: G. Ostrogorsky. Geschichte3…, S. 446, Anm. 1.
(обратно)
441
И. Иванов. Български старини из Македония. София, 1931, стр. 226–227.
(обратно)
442
G. Ostrogorsky. Byzance. Etat tributaire de I'Empire turc. — ЗРВИ, 5, 1958, p. 53.
(обратно)
443
R. Lоenertz. La premiere insurrection d'Andronic IV Paleologue (1373). — «Echos d'Orient», 38, 1939, p. 340 sq.
(обратно)
444
F. Dоlger. Zum Aufstand des Andronikos IV. gegen seinen Vater Johannes V. im Mai 1373. — REB, 19, 1962, S. 328–332.
(обратно)
445
G. Сamelli. Demetrius Cydones, Correspondance. Paris, 1930, cap. 5, p. 11.50–55. см. об этом: Р. Сhаranis. The Strife…, p. 286–314; R.-J. Loenertz. Manuel Paleologue et Demetrius Cydones. Remarques sur leur Correspondance. — «Echos d'Orient», 36, 1937, p. 271–287, 474–487; 37, 1938, p. 107–124; D. A. Zakуthinоs. Le Despotat grec de Moree, II. Athenes, 1953.
(обратно)
446
F. Thiriet. Venise et l'occupation de Tenedos au XIVe siecle. — «Melange d'archeol. et d'hist.», 1953, p. 219 sq.
(обратно)
447
R.-J. Loenertz. Notes sur le regne de Manuel II a Thessalonique 1381/2 — 1387. — BZ, 50, 1957, S. 390–396; G. T. Dennis. The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382–1387. — «Orientalia Christiana Analecta». Roma, 1960.
(обратно)
448
R.-J. Loenertz. Pour l'histoire du Peloponnese au XIVе siecle (1382–1404). — «Etudes byzantines», I, 1943; idem. Hospitaliers et Navarrais en Grece, 1376–1383.— OrChrPer, 22, 1956; G. Т. Dennis. The Capture of Thebes by the Navarrese (6 March 1387) and other Chronological Notes in two Paris. Manuscripts. — OrChrPer., 26, 1960, p. 42–50.
(обратно)
449
N. Radojcic. Die griechischen Quellen zur Schlacht am Kosovo Polje. — Byz., VI, 1931, S. 247–251; H. Gregоire. L'opinion byzantine et la bataille de Kossovo. — Byz., VI., 1931, p. 253–272; M. Вraun. Kosovo, die Schlacht auf demAmselfeld in geschichtlicher und epischen Uberlieferung. Leipzig, 1937; P. Тоmats. Kosovska bitka. — «Vojnoistor. glasnik», I, 1950, str. III sq.
(обратно)
450
J. Bergerde Xivrey. Memoire sur la vie et les ouvrages de l’empereur Manuel Paleologue. — «Academie des inscriptions et belles lettres. Memoires», 19. Paris, 1853; N. V. Тоmadakes. Μανουηλ β’ ο Παλαιολογος († 1425) χαι οι λογιοι των χρονων αυτου — «Παρνασσος». II, 2, 1960, asX. 561–575; Th. Кhourу. L'empereur Manuel II Paleologue. — «Proche-Orient Chretien», 15, 1965, p. 127–144.
(обратно)
451
Д. Ангелов. Турското завоевание и борбата на балканските народи против нашествениците. — ИП, 4, 1953, стр. 374–398.
(обратно)
452
Duсas, р. 77.26–28.
(обратно)
453
M. Silbersсhmidt. Das orientalische Problem…, S. 97–110.
(обратно)
454
G. Кling. Die Schlacht bei Nicopolis im Jahre 1396. Berlin, 1936; A. S. Atiуa. The Crusade of Nicopolis. London, 1934; Ch. L. Tiptоn. The English at Nicopolis. — «Speculum», 37, 1962, p. 528–540.
(обратно)
455
J. H. Mordtmann. Die erste Eroberung von Athen durch die Turken zu Ende des 14. Jahrhunderts. — BNJb, 4, 1923, S. 346–350.
(обратно)
456
F. Dolger. Johannes VII. Kaiser der Rhomaer, 1390–1408. — BZ, 31, 1931, S. 37–57, 334–350.
(обратно)
457
А. А. Васильев. Путешествие византийского императора Мануила II Палеолога по Западной Европе (1399–1403 гг.). СПб., 1912; G. Sсhlu into erger. Un empereur de Byzance a Paris et a Londres. Paris, 1916; M. A. Andreeva. Zur Reise Manuels II. Palaiologos nach Westeuropa. — BZ, 34, 1934; C. Marinesco. Manuel II Paleologue et les rois d'Aragon. — «Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique», XI, 1927; idem. Deux empereurs byzantins en Occident: Manuel II et Jean VIII Paleologues. Paris, 1957; idem. Deux empereurs byzantins: Manuel II et Jean VIII Paleologues, vus par des artistes occidentaux. — «Le Flambeau», № 9–10, 1957.
(обратно)
458
M. M. Alexandrescu-Dersсa. La campagne de Timur en Anatolie (1402). Bucuresti, 1942.
(обратно)
459
Duсas, p. 109.19–21.
(обратно)
460
A. Ellissen. Analecten der mittel — und neugriechischen Literatur, IV, 2. Leipzig, 1860, p. 77.
(обратно)
461
Ibid., IV, 1, p. 198–199.
(обратно)
462
Ibid., IV, 1, p. 245–246.
(обратно)
463
Г. И. Ибрагимов. Крестьянские восстания в Турции в XV–XVI вв. — ВВ, VII, 1953, стр. 122–146; А. С. Степанов. Труд Дуки как источник по истории восстания Берклюджи Мустафн начала XV в. — ВВ, V, 1952, стр. 99–105; А. Д. Новичев. Крестьянское восстание в Турции в начале XV в. — «Проблемы востоковедения», 3, 1960, стр. 67–81; Е. Werner. Die Geburt…, S. 198–213.
(обратно)
464
N. Bees. Zum Bericht des Laonikos Chalkokondules iiber den Feldzug Murad II. gegen Morea. — BNJb, 17, 1944; E. W. Воdnar. The Istmian Fortifications in Oraculer Prophecy. — AJA, I960, p. 165–171.
(обратно)
465
P. Lemerle. La domination venitienne a Thessalonique. — «Miscellanea G. Galbiati», III («Fontes Ambrosiani», 27), 1951, p. 219 sq.; G. T. Dennis. The Second Turkish Capture of Thessalonica. — BZ, 57, 1964, p. 53–61.
(обратно)
466
F. Dolger. Die Kronung Johannes VIII. zum Mitkaiser. — BZ, 36, 1936, S. 318–319.
(обратно)
467
J. Gill. John VIII Paleologus, a Character Study. — «Studi bizantini e neoellenici», 9, 1957; K. M. Sellоn. The Emperor John VIII Slept Here. — «Speculum», 33, 1958, p. 222–238.
(обратно)
468
З. В. Удальцова. Борьба партий в Пелопоннесе во время турецкого завоевания по данным византийского историка Критовула. — СВ, III, 1951; ее же. Предательская политика феодальной знати Византии в период турецкого завоевания. — ВВ, VII, 1953, стр. 93–122; F. Dolger. Politische und geistige Stromungen im sterbenden Byzanz. — JOBG, III, 1954, S. 3–18; Э. Фpанчес. Классовая позиция византийских феодалов в период турецкого завоевания. — ВВ, XV, 1959, стр. 71–100.
(обратно)
469
У Мануила II было 6 сыновей: старший Иоанн VIII был императором, Андроник правил Фессалоникой, а затем продал ее венецианцам, Феодор и Фома были деспотами Морей; Константин, получивший вначале в удел черноморские города, потом стал деспотом Морей, Димитрий долго оставался без удела.
(обратно)
470
З. В. Удальцова. Борьба партий в Византии в XV в. — «Вестник МГУ», № 1, 1947.
(обратно)
471
Г. М. Xартман. Значение греческой культуры для развития итальянского гуманизма. — ВВ, XV, 1959, стр. 100–125.
(обратно)
472
З. В. Удальцова. Борьба партий в Византии XV в. и деятельность Виссариона Никейского. — ВВ, II, 1949, стр. 294–308; Э. Франчес. Классовая позиция турецких феодалов в период турецкого завоевания, стр. 71–100.
(обратно)
473
G. Hofmann. Die Konzilsarbeit in Ferrara. — OrChrPer, 3, 1937, p. 110–130; 403–455; idem. Die Konzilsarbeit in Florenz. — ibid., 4, 1938, p. 157–158; 372–422; idem. Epistolae pontificiae ad concilium florentinum spectantes, I–III. Roma, 1940–1946; Acta graeca concilii Florentini, ed. J. Gill, 1–2. Roma, 1964; J. Gill. Personalities of the Council of Florence and other E ssays. Oxford, 1964.
(обратно)
474
3. В. Удальцова. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии. — ВВ, III, 1950, стр. 106–133.
(обратно)
475
L. Мohlеr. Kardinal Bessarion. Paderborn, 1923; R. Loenertz. Pour la biographie du cardinal Bessarion. — OrChrPer, 10, 1944, p. 116 sq. А. Садов. Виссарион Никейский. СПб., 1883.
(обратно)
476
Послание прота и иноков Афонской горы к великому князю Василию Васильевичу о правоверии Восточной церкви и суемудрии Западной по случаю Флорентийского собора. — «Летопись занятий археографической комиссии за 1864 г.» СПб., 1865. Приложения, стр. 29.
(обратно)
477
А. Меrсati. II decreto d'unione del 6 luglio 1439 nelF Archivio Vaticano. — OrChrPer, 11, 1945, p. 3 sq.
(обратно)
478
В. Кrekic. Dubrovnik u rativima protiv Turaka 1443 i 1444 g. — ЗРВИ, 2, 1953, p. 148 sq.
(обратно)
479
E. Babinger. Von Amurath zu Amurath. Vor- und Nachspiel der Schlacht bei Varna. — «Oriens», 3, 1950, S. 229 ff.; idem. Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Miinchen, 1953, S. 28 ff.; О. Нalezki. Angora, Florence, Varna and the Fall of Constantinople. — «Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses». Miinchen, 1960.
(обратно)
480
O. Halezki. Angora, Florence, Varna and the Fall of Constantinople; J.-J. Bouquet. Byzance et les dernieres offensives de l'Occident contre d'lslam. Monnedorf, 1961;. G. J. Вratianu. Autour des croisades au XVе siecles… — RER, 5–6, 1960; H. Inalсik. Byzantium and the Origins of the Crisis of 1444 under the Light of Turkish Sources. — «Actes du XIIе Congres International d'Etudes byzantines», II. Beograd, 1964, p. 159–163.
(обратно)
481
По своей матери — императрице Елене — Константин Драгаш принадлежал к роду сербских князей Драгашей из Восточной Македонии. См. Г. Острогорски. Господин Константин Драгаш. — «36. Филозоф. фак.», 7/1. Београд, 1963; V. Laurent. Le dernier gouverneur byzantin de Constantinople: Demetrius Paleologue. — REB, 15, 1957; G. Коlias. Constantin Paleologue, le dernier defenseur de Constantinople. 1453–1953. — «Le cinq-centieme anniversaire de la prise de Constantinople». Athenes, 1453, p. 41 sq.; E. Driault. Constantin XII, le heros martyr basileus. Paris, 1936; I. Papadrianos. The Marrige-Arrangement between Constantine XI Palaeologus and the Serbian Mara (1451). — «Balkan Studies», 6, 1965, p. 131–138.
(обратно)
482
C. Marinesco. A propos de quelques portraits de Mohammed II et d'un dignitaire byzantin attribues a Gentile Bellini. — «Bulletin Antique de France», 1962, p. 126–134.
(обратно)
483
V. Grесu. Ducas. Istoria turco-bizantina (1341–1462). Bucuresti, 1958 (далее — Ducas), p. 218.
(обратно)
484
F. Getz. Die Eroberung von Konstantinopel. Leipzig, 1920.
(обратно)
485
Существует мнение, что Георгий Схоларий принадлежал к туркофильскому течению, имевшему много сторонников среди византийской знати (Э. Франчес. Классовая, позиция византийских феодалов, стр. 83–84). Но, на наш взгляд, этот вывод нуждается в дополнительной аргументации.
(обратно)
486
С. Marinesco. Notes sur quelques ambassadeurs byzantins en Occident a la veille de la chute de Constantinople sous les Turces. — «Melanges H. Grefoire», II. «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale et Slave», 10, 1950.
(обратно)
487
Duсas, p. 329.11. Вопрос о туркофильстве Луки Нотары вызывал большие споры в литературе. Настойчиво и убедительно эту точку зрения отстаивает румынский историк Э. Франчес (указ, соч., стр. 79, ел.). См. также: Н. Evert-Kappesowa. La tiare ou le turban. — BS, 14, 1953; p. 245–257; D. A. Zakythenos. - 'Ιδεολογιχαι συγχυσεις εις την πολιορχουμενον Κωνσταντινουπολιν. — «Νεα 'Εστια», 24, 1950, σελ. 794–799.
(обратно)
488
З. В. Удальцова. Борьба партий в Пелопоннесе во время турецкого завоевания по данным византийского историка Критовула. — СВ, III, 1951, стр. 161–179.
(обратно)
489
Ducas, p. 321. 13–19.
(обратно)
490
Точных данных о численности турецких войск не сохранилось, ибо сведения источников противоречивы: Сфрандзи (Georgii Phrantzae Chronikon. Bonnae, 1838, p. 240.15–17. — далее Phrantz.) называет цифру в 258 тыс. Дука — 400 тыс. (Ducas, p. 333. 2–4), русский очевидец осады Константинополя турками Нестор Искандер [Повесть о Царьграде Нестора Искандера (далее — Нестор Исканде р). — «Памятники древней христианской письменности», т. 62, 1886, стр. 11] не дает точной цифры, хотя и говорит, что войско турок было неисчислимо.
(обратно)
491
Об осаде Константинополя турками см.: П. Погодин. Обзор источников по истории осады и взятия Византии турками в 1453 г. — ЖМНП, ч. 264, 1889, август, стр. 205–258; G. Schlumberger. Le siege, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453. Paris, 1915; E. Pears. The destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the Turks. London, 1903; C. Amantоs. La prise de Constantinople, in: «Le cinq-centieme anniversaire de la prise de Constantinople». Athenes, 1953; F. Babinger. Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Munchen, 1953; M. Chavarders. La chute de Constantinople. Paris, 1963; J.-J. Bouquet. Byzance et les dernieres offensive de l'Occident centre l'Islam. Monnedorf, 1961; G. Zоras. Περι την αλωσιν της Κωνσταντινουπολεως. Athenai, 1964; St. Runciman. The Fall of Constantinople in 1453. Cambridge, 1965.
(обратно)
492
Georgius Phrantzes. loannes Cananus, loannes Anagnostos. Bonnae, 1838, p. 240.17–241.12.
(обратно)
493
M. Manoussakas. Les derniers defenseurs cretois de Constantinople d'apres les documents venetiens. — «Akten des XI. Byzantin. Kongresses». Munchen, 1960.
(обратно)
494
Critobulos. — FHG, v. V, p. I, p. 80.
(обратно)
495
Duсas, p. 331.14–17. О турецких источниках, рассказывающих о взятии Константинополя, см. Н. Turkova. A propos du siege de Constantinople d'apres le Seyahatname d'Evliya Celebi. — BS, 17, 1956.
(обратно)
496
Phrantz., p. 243.12–14.
(обратно)
497
Ducas, p. 335.18–20.
(обратно)
498
Phrantz…, p. 250.1–3.
(обратно)
499
Е. V. Ivanka. Die letzten Tage von Konstantinopel. Graz. Wien, Koln, 1954; «The face of the Constantinople». London, 1955. Д. Ангелов. Турcкото завоевание и борбата на балканските народи против нашествениците. — ИП, 9, 1953; «Падение Константинополя». — BS, 14,1953.
(обратно)
500
Phrantz., p. 261.7–13.
(обратно)
501
Ibid., p. 241.13–16.
(обратно)
502
Нестор Искандер, стр. 15–16, 21–22.
(обратно)
503
Phrantz., p. 291.15–292.1.
(обратно)
504
Dueas, p. 254–255; 261–262; 290–291.
(обратно)
505
Phrantz., p. 258.10–18.
(обратно)
506
Dueas, p. 343.27–30; 345.1–3.
(обратно)
507
Phrantz., p. 275.18–21.
(обратно)
508
Due as, p. 333. 15–18.
(обратно)
509
Нестор Искандер, стр. 27–28.
(обратно)
510
Там же, стр. 28.
(обратно)
511
Там же, стр. 13.
(обратно)
512
Phrantz., p. 281.19–282.2.
(обратно)
513
Ibid., p. 282.9–12.
(обратно)
514
Duсas, р. 357.2–4.
(обратно)
515
Laonici Chalcocondylae Atheniensis historiarum libri decem. Bonnae, 1843, p. 393.17–20.
(обратно)
516
Phrantz., p. 280.1–286.2. Рассказ Сфрандзи совпадает с сообщением Халкокондила, расходясь с ним лишь в незначительных подробностях (Сhalсос., р. 394.14–396.11).
(обратно)
517
Duсas, р. 359.2–11. Е. Ivanka. Der Fall Konstantinopels und das byzantinische Geschichtsdenken. — JOBG, III, 1954; R. Browning. A Note on the Capture of Constantinople in 1453. — Byz., XXII, 1952/53; U. Вenigni. La caduta di Constantinopli ed un appello postumo ai latini. — «Bessarione», № 43–44, 1900.
(обратно)
518
Нестор Искандер, стр. 38.
(обратно)
519
Phrantz., p. 288.20–290.8.
(обратно)
520
Duсas, р. 367.2–13.
(обратно)
521
Ibid., p. 371.13–15.
(обратно)
522
Абраам Анкирский. Плач на взятие Константинополя. Русск. перев. С. С. Аревшатяна. — ВВ, VII, 1953, стр. 458.
(обратно)
523
Стампол (Стамбол) — Истампол происходит фонетически от греч. εις την πολιν, что означает «в город». Турки придали форме Стамбол новую этимологию, осмыслив это название как «Исламбол» («изобилие ислама»).
(обратно)
524
J. Darrouzes. Lettres de 1453. — REB, 22, 1964, p. 72–127.
(обратно)
525
О греках в России см. М. Н. Тихомиров. Греки из Морей в средневековой России. — СВ, 25, 1964, стр. 166–175. Ср. еще В. И. Рутенбург. Итальянские источники о связях России и Италии в XV в. — «Труды Ленингр. отд. Института истории», 7, 1964, стр. 455–462.
(обратно)
526
См. об этом: Г. М. Xартман. Значение греческой культуры для развития итальянского гуманизма. — ВВ, XV, 1959, стр. 118 и cл. Характерная фигура тех лет — Михаил Апостолис, который после падения Константинополя попал в плен, но, по-видимому, сумел бежать в Италию, а затем на Крит. Здесь он жил в бедности, мечтая о преподавательской деятельности и оплакивая Византию. См. о нем: D. J. Geanakoplos. Greek Scholars in Venice. Cambr.-Mass., 1962, p. 73–110 (в 1965 г. вышел новогреческий перевод).
(обратно)
527
Е. Мuntz. Les artistes byzantins dans l'Europe latine du Vе au XVе siecle. — «Revue de l'art Chretien», a. 36, 5e ser., t. IV, 1893, mai, p. 190.
(обратно)
528
J. Gill. The Council of Florence. Cambr., 1959, p. 410 f.
(обратно)
529
См. об этом F. Вabinger. Mehmed der Eroberer und seine Zeit. Munchen, 1953. В 1959 г. вышло новое издание этой книги с несущественными дополнениями и поправками. И первое, и второе издание — без аппарата: в предисловии ко второму изданию Ф. Бабингер сообщает, что им подготовлен специальный том, содержащий обоснование его изложения. До сих пор этот том еще не увидел света. См. поправки: Н. Inаlсik. Mehmed the Conqueror (1432–1481) and his Time. — «Speculum», 35, 1960, p. 408–427.
(обратно)
530
Греческое население Родоса поддерживало госпитальеров. См. N. Jоrgа. Rhodes sous les Hospitaliers. — «Revue historique du Sud-Est europeen», 8t 931, p. 109 sq.
(обратно)
531
См. А. М. Чиперис. Внутреннее положение и классовая борьба в Каффе в 50–70 гг. XV века. — «УЗ Туркменского гос. ун-та», 21, 1962, стр. 245–266; он же. Борьба народов Юго-Востока Крыма против экспансии султанской Турции в 50–70-х годах XV в. — Там же, 17, 1960, стр. 131–155.
(обратно)
532
О положении Хиоса во второй половине XV–XVI вв. см. Ph. P. Аrgеnti. The Occupation of Chios by the Genoese and the Administration of the Island. 1346–1566, vol. I. Cambridge, 1958, p. 203–369.
(обратно)
533
О последних годах Морейского государства см. D. A. Zakуthinos. Le Despotat grec de Moree, t. I. Paris, 1932, p. 247–284.
(обратно)
534
Ф. Бабингер (F. Вabinger, Mehmed…2, S., 130) относит установление подати к самому началу мятежа, Д. Закифинос, ссылаясь на Халкокондила, — к моменту подавления восстания (D. Zakythinos. Op. cit., p. 249).
(обратно)
535
По данным испанского путешественника начала XV в. Клавихо, Трапезундская империя простиралась с востока на запад на 9 дней пути, а с юга на север — на два дня. Следовательно, ее территория по сравнению с XIII в. значительно сократилась. См. W. Miller. Trebizond. The Last Greek Empire. London, 1926, p. 74 f. Ср. также Ф. И. Успенский. Очерки из истории Трапезундской империи. Ленинград, 1929, стр. 117 cл.
(обратно)
536
Ф. Бабингер (F. Вabingеr. Mehmed…2, S. 196) повторяет ошибку Я. Фальмерайера, считавшего, что ее звали Екатерина. См. об этом: W. Miller. Trebizond…, p. 89, n. 1. Об Узун Хасане см. Е. Werner. Die Geburt…, S. 298–304.
(обратно)
537
Ф. Бабингер относит к этому же походу и взятие генуэзской Амастриды, которое он датирует осенью 1460 г. (F. Вabingеr. Mehmed…2, S. 203). В действительности же захват Амастриды относится к более раннему времени — к 1458–1459 гг. (см. Н. Inаlсik., Mehmed…, p. 422).
(обратно)
538
J. Е. Роwеll. Die letzten Tagen der Grosskomnenen. — BZ, 37, 1937, S. 359 f.
(обратно)
539
A. Papadopulos — Кerameus. Θρηνοςτης Κων σταντινουπολεως. — BZ, 12, 1903; K. Krumbacher. Ein dialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel. — «Jahrbuch der phil.-hist. Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften», 1901, дополнения: BZ, 11, 1902, S. 215 f; Sp. P. Lambrоs. Der Codex des Gedichtes tiber die Eroberung von Konstantinopel. — BZ, 9, 1900; S. 161 f.; П. Погодин. Обзор источников по истории осады и взятия Византии турками в 1453 г. — ЖМНП, ч. 264, 1889, август; G. Megas. La prise de Constantinople dans la poesie et la tradition populaires. — «Le cinqcentieme anniversaire de la prise de Constantinople». Athenes, 1953, p. 129 sq.
(обратно)
540
Ducas — Kritobulos — Sphrantzes — Chalkokondylas. Περι αλωσεως της Κωνσταντινουπολεως 'Αδηναι, 1953.
(обратно)
541
M. О. Скрипиль. «История» о взятии Царьграда турками Нестора Искандера. — ТОДРЛ, 10, 1954; Н. А. Смирнов. Историческое значение русской «Повести» Нестора Искандера о взятии турками Константинополя в 1453 г. — ВВ, VII, 1953.
(обратно)
542
Н. А. Мещерский. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод. — ВВ, VII, 1953; И. Дуичев. О древнерусском переводе «Рыдания Иоанна Евгеника». — ВВ, XII, 1957. Перу Иоанна Евгеника принадлежали и другие произведения того же жанра (см. G. Меrсati. Un «lamento» di Giovanni Eugenico per la disfattadi Corinto nel 1446.— «Bessarione», 21, 1917).
(обратно)
543
Армянские хронисты о падении Константинополя. Предисловие и
подготовка текста А. С. Анасяна, перевод с древнеармянского С. С. Аревшатяна. — ВВ, VII, 1953, стр. 444–466.
(обратно)
544
Аракел Багешский. Плач о стоце Стимболе. Русск. перев. с древнеармянского С. С. Аревшатяна. — ВВ, VII, 1953. стр. 463; см. также А. С. Анасян. Армянские источники о падении Византии. Ереван, 1957.
(обратно)
545
J. Dujсеv. La conquete turque et la prise de Constantinople dans la litterature slave contemporaine. — BS, 16, 1955.
(обратно)
546
A. Vasiliev. Yorg of Nurenberg, a Writer Contemporary with the Fall of Constantinople (1453). — Byz., X, 1935; М. Вraun, A. M. Schneider. Berichtuber die Eroberung Konstantinopels. Leipzig, 1943; J. Irmscher. Zeitgenossische deutsche Stimmen zum Fall von Byzanz. — BS, 14, 1953. О румынском фольклоре, отразившем эти события, см. N. Jоrga. Une source negligee de la prise de Constantinople. — «Academic Roumaine. Bulletin de la section historique», XIII, 1927, p. 59–128.
(обратно)
547
M. L. Concasty. Les «Informations» de Jacques Tedaldi sur le siege et la prise de Constantinople en 1453. — «Actes du Xе Congres International d'Etudes byzantines». Istambul, 1957.
(обратно)
548
Н. Тurkоva. Annotations critiques au texte du Seyahatname d'Evlija Celebi, t. I, ch. 10, concernant le siege de Constantinople. — «Archiv Orient.», 25, 1957.
(обратно)
549
G. Lоras. Orientations ideologiques et politiques avant et apres la chute de Constantinople. — «Le cinq-centieme anniversaire…», p. 116 sq.
(обратно)
550
3. В. Удальцова. О внутренних причинах падения Византии в XV веке. — ВИ, 1953, № 7, стр. 102–120.
(обратно)
551
А. Еllissеn. Analecten der mittel — und neugriechischen Literatur, p. IV, 11, S. 22.
(обратно)
552
З. В. Удальцова. Предательская политика феодальной знати Византии в период турецкого завоевания. — ВВ, VII, 1953, стр. 126; Э. Франчес. Классовая позиция византийских феодалов в период турецкого завоевания. — ВВ, XV, 1959, стр. 99.
(обратно)
553
З. В. Удальцова. Византийский историк Критовул о южных славянах и других народах Балканского полуострова в XV в. — ВВ, IV, 1951, стр. 94.
(обратно)
554
Phrantzes. Chronicon. — PG, t. 156, col. 860.
(обратно)
555
Нестор Искандер, стр. 11, См. В. Unbegaun. Les relations vieux russes de la prise de Constantinople. — RES, IX, 1–2, 1929.
(обратно)
556
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VI, стр. 180.
(обратно)
557
Н. Йорга, на наш взгляд, преувеличивал степень развития византийской культуры во время господства турок (N. Jоrga. Byzance apres Byzance. Bucarest, 1934). Ср. К. Dieterich. Turkentum und Byzantinertum. — «Beilage der Munchener Neuesten Nachrichten», № 127–128, 1908.
(обратно)
558
Г. M. Xapтман. Значение греческой культуры для развития итальянского гуманизма. — ВВ, XV, 1959, стр. 100–125.
(обратно)
559
А. Погодин. История Болгарии. СПб., 1910, стр. 136; А. С. Достян. Борьба южнославянских народов против турецкой агрессии в XIV–XV вв. — ВВ, VII, 1953, стр. 39–40.
(обратно)
560
Duсas, р. 139.
(обратно)
561
Demetrius Cydones. Correspondance, p. 89.
(обратно)
562
N. Jоrga. Le privilege de Mohammed II pour la ville de Pera (ler juin 1453). — «Academie Roumaine. Bulletin de la section historique», 2, № 1,1914, p. 11–32.
(обратно)
563
И. И. Соколов. Земельные отношения в Турции до Танзимата. — «Новый Восток», 6, 1924.
(обратно)
564
Э. Франчес. Классовая позиция византийских феодалов…, стр. 99. Ср. F. Dolger. Politische und geistige Stromungen…, S. 15.
(обратно)
565
PL, t. 215, col. 637. См. F. Sсhemmel. Die Schulen von Konstantinopel vom XIII–XV. Jahrhundert, — «Philologische Wochenschrift», 45, № 8, 1925, S. 236; F. Fuсhs Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig — Berlin, 1926, S. 53.
(обратно)
566
F. Fuсhs. Die hoheren Schulen…, S. 54.
(обратно)
567
PG, t. 142, col. 21. См. И. Е. Троицкий. Автобиография Георгия Кипрского. — «Христианское чтение», 11, 1870, стр. 167 сл.
(обратно)
568
В. И. Барвинок. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911, стр. 59.
(обратно)
569
Там же, стр. 352 ел. Сведения Влеммида о половцах и болгарах см. С. Muller. Geographi Graeci Minores, II. Parisiis, 1861, pp. 458–468; Gy. Moravсsik. Byzantinoturcica, I. Berlin, 1958, p. 443.
(обратно)
570
По некоторым версиям, число учеников достигало 300 человек. Цифра эта, вероятно, сильно преувеличена.
(обратно)
571
Учителя были подчинены великому логофету и получали государственное содержание. К этому присоединялись нерегулярные взносы за обучение, вносимые родителями учащихся (F. Fuсhs. Die hoheren Schulen…, S. 58). Ср. также письмо Никифора Григоры Феодору Метохиту (R. Guilland. Correspondence de Nicephore Gregoras. Paris, 1927, p. 13).
(обратно)
572
Как отметил Р. Гийан, древнейшие вопросники такого типа встречаются в рукописях XIII столетия (R. Guilland. Essai sur Nicephore Gregoras. Paris, 1926, p. 58).
(обратно)
573
K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munchen, 1897, S. 584–585.
(обратно)
574
В этой связи дожны быть упомянуты и сравнительно недавно обнаруженные поздневизантийские переводы некоторых произведений Овидия (Е. Кenneу. A Byzantine Version of Ovid. — «Hermes», 91, 1963, p. 213–227; C. Wendel. Maximos Planudes. — RE, 1950, S. 2202–2253; R. Browning. Byzantine Scholarship. — «Past and Present», 28, 1964, p. 17 sq.)
(обратно)
575
H.-G. Beck. Theodores Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im XIV. Jh. Munchen, 1952, S. 21.
(обратно)
576
R. Guilland. Correspondence…, p. 63.
(обратно)
577
«Метохит превзошел всех ученых настоящего и прошлого. Он универсален. Его слава затмевает славу Архимеда, Пифагора и Платона. Метохит изучил то, что происходит на земле и на небе» (R. Guilland. Correspondence…, P. 7).
(обратно)
578
В этом же письме Григора обращается с просьбой к Иосифу «приложить все старания, чтобы доказать, что ученый Птолемей согласен с тем, что говорил Аристотель о сферах и планетах» (ibid., p. 60).
(обратно)
579
I. Вevсenkо. Etudes sur la polemique entre Theodore Metochite et Nicephore Choumnos. La vie intellectuelle et politique a Byzance sous les premiers Paleologues. Bruxelles, 1962, p. 10 sq.
(обратно)
580
H.-G. Beck. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Munchen, 1959, S. 719.
(обратно)
581
R. Guilland. Correspondence…, p. 96.
(обратно)
582
Рукописные данные дали основание Р. Гийану прийти к заключению, что последние главы «Гармоник», начиная с 14-ой, были выправлены Никифором Григорой (R. Guilland. Essai…, p. 273).
(обратно)
583
R. Guilland. Correspondance…, p. 12; cf. p. 95.
(обратно)
584
H. Hunger. Von Wissenschaft und Kunst der friihen Palaiologenzeit. — JOBG, 8, 1959, S. 123–155; H.-G. Beck. Humanismus und Palamismus. — «Actes du XIIe Congres International d'Etudes byzantines», I. Beograd, 1963, p. 74, n. 42.
(обратно)
585
H.-G. Beck. Kirche und theologische Literatur, S. 733.
(обратно)
586
Demetrius Cydones. Correspondance, ed. G. Camelli. Paris, 1930, p. 147; cf. p. 35–37.
(обратно)
587
Ф. И. Успенский. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1892, стр.298; D. J. Geanakoplos. Byzantine East and Latin West. New York and Evanston, 1967, p. 124 f.
(обратно)
588
H.-G. Beck. Kirche und theologischeLiteratur…, S. 751 f.; F. Fuсhs. Die hoheren Schulen…, S. 65 f.
(обратно)
589
Рейхлин перевел по предложению Аргиропула речь Фукидида с греческого, что вызвало восхищение учителя (F. Schemmel. Die Schulen…, S. 236 f.)
(обратно)
590
F. Fuсhs. Die hoheren Schulen…, S. 66 f.; I. Sevсеnko. The Decline of Byzantium Seen through the Eyes of its Intelectuals. — DOP, 15, 1961, p. 174.
(обратно)
591
H.-G. Beck. Kicrhe und theologische Literatur…, S. 767 f.
(обратно)
592
H.-G. Beck. Theodores Metochites…, S. 126 f.
(обратно)
593
R. et. F. Masai. L'ceuvre de Georges Gemiste Plethon. — «Bulletin de la Classe des Lettres de l'Academie Royale de Belgique», t. XL, 7. Bruxelles, 1954, p. 536 sq. См. монографическое исследование того же автора, посвященное рассмотрению философского мировоззрения Плифона (F. Masai. Plethon et le platonisme de Mistra. Paris, 1956).
(обратно)
594
H. W. Haussig. Kulturgeschichte von Byzanz. Stuttgart, 1959, S. 497.
(обратно)
595
B. Tatakis. Histoire de la philosophie byzantine, in: E. Вrehier. Histoire de la philosophie, II. Paris, 1949, p. 232–261.
(обратно)
596
В начале 20-х годов ХV в. Византия потеряла Фессалонику, центр философской мысли переместился на Пелопоннес и в Константинополь.
(обратно)
597
H.-G. Beck. Theodoros Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im XIV. Jh. Munchen, 1952, S. 123.
(обратно)
598
Theodori Metochitae Miscellanea philosophica et historica, ed. G. Muller, Th. Kiessling (далее — Metосh.). Lipsiae, 1821, p. 490. Ср. также M. Treu. Le Philosoph Joseph. — BZ, 8, 1909.
(обратно)
599
Metoch., cap. 12–13. CM. Les poesies inedits de Theodore Metochite, par R. Guilland. — «Etudes byzantines», Paris, 1959.
(обратно)
600
I. Sevcenko. Etudes sur la polemique entre Theodore Metochite et Nicephore Chumnos. Logos 14, cap. 21, p. 245. 1–11.
(обратно)
601
Ibid., Logos 13, cap. 4, p. 191.2–3.
(обратно)
602
Ibid., Logos 13, cap. 5, p. 193.10–13.
(обратно)
603
K. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Litteratur. Munchen, 1897, S. 551.
(обратно)
604
R. Guilland. Correspondence du Nicephore Gregoras. Paris, 1927, lettre 57.
(обратно)
605
H.-G. Beck. Theodoros Metochites, S. 61.
(обратно)
606
PG, t. 142, col. 689.
(обратно)
607
Metoch., p. 753.
(обратно)
608
R. Guilland. Essays sur Nicephore Gregoras. Paris, 1926, p. 204.
(обратно)
609
З. В. Удальцова. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула. — ВВ, XII, 1957, стр. 172 сл.
(обратно)
610
В. Tatakis. Op. cit., p. 256.
(обратно)
611
H.-G. Beck. Theodoros Metochites, p. 198.
(обратно)
612
Трактат о ειμαρμενη, написанный как самостоятельное сочинение, позднее был включен в основной труд Плифона — Νομοι как его шестая глава. (PG, t. 160, col. 961 sq.). См. 'Ε. Στεφανου Ηειμαρμενη εν τφ φιλοσοφιχψ συσηματι του Πληδωνοs. — Εις μνημην Επ. Λαμπρου. Αδηναι, 1935, σελ. 315–320.
(обратно)
613
F. Sсhultze. Georgios Gemistos Plethon und seine reiormatorischen Bestrebungen. Jena, 1874, S. 254 ff.; Fr. Masai. Plethon et le platonisme de Mistra. Les classiques de l'humanisme. Paris, 1956, p. 198.
(обратно)
614
Plethоn. De differentiis. — PG, t. 160, col. 921–924; Fr. Massi Op. cit., p. 161.
(обратно)
615
W. F. H. I. Gass. Gennadius und Pletho. Aristotelismus und Platonis mus. Breslau, 1844; Fr. Masai. Op. cit., p. 196.
(обратно)
616
Plethоn. De differentiis. — PG, t. 160, col. 912.
(обратно)
617
F. Sсhultze. Op. cit., S. 258; Fr. Masai. Op. cit., p. 240.
(обратно)
618
Fr. Masai. Op. cit., p. 240.
(обратно)
619
PG, t. 142, col. 761; ср. В. Тatakis. Op. cit., p. 233.
(обратно)
620
R. Guilland. Correspondence…, p. 319.
(обратно)
621
J. Fr. Воissоnade. Anecdota nova. Parisiis, 1844, p. 191–291.
(обратно)
622
Ibid., p. 39.
(обратно)
623
R. Guilland. Correspondence…, p. 156; cf. ep. 148.
(обратно)
624
F. Sсhultze. Op. cit., S. 12.
(обратно)
625
П. Успенский. История Афона, ч. III. Афон монашеский, СПб., 1892.
(обратно)
626
От слова ησυχια — «спокойствие».
(обратно)
627
J. Meyendorff. Introduction а l'etude de Gregoire Palamas. Paris, 1959, p. 185 sq.
(обратно)
628
Ibid., p. 25–32.
(обратно)
629
Ibid., p. 55–58.
(обратно)
630
PG., t. 151, col. 1258. См. Ф. Успенский. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891, стр. 317.
(обратно)
631
П. Успенский. Указ, соч., стр. XLI.
(обратно)
632
PG, t. 150, col. 1216.
(обратно)
633
J. Meyendorff. Op. cit., p. 291.
(обратно)
634
PG, t. 150, col. 318–319.
(обратно)
635
PC, t. 150, col. 1111, 1118. При этом, согласно Паламе, божество не своею частью входит в каждую личность при деификации, но полностью и всем совершенством (J. Meуendоrff. Op. cit., p. 296). Палама как бы щеголяет своим выступлением против начал формальной логики — он не отличает части от целого: «Бог для всех делим и остается неделимым» (ibid., p. 294–296). Чувствуя, однако, что эти положения могут привести к пантеизму, Палама прибавляет, что бог, вселяясь в людей, остается по своей сущности полностью трансцедентным (ibid., p. 299).
(обратно)
636
PG, t. 150, col. 319.
(обратно)
637
PG, t. 151, col. 215.
(обратно)
638
Cp. H.-G. Beck. Humanismus und Palamismus. — «Actes du XIIe Congres International d'Etudes byzantines», I. Beograd, 1963.
(обратно)
639
M. Я. Сюзюмов. Рец. на: J. Meyendorff. Op. cit. — BB, XXIII, 1963, стр. 265.
(обратно)
640
Несмотря на явное преклонение перед Паламой, Кавасила совсем не упоминает тех его положений, которые вызвали споры ив некоторой степени дискредитировали учение Паламы, т. е. учение о Фаворском свете, о видениях и об энергиях (см. H.-G. Beck. Humanismus und Palamismus, S. 78; M. Lоt-Bоrodine. Un maitre de la spiritualite byzantine au XIVе siecle. Nicolas Cabasilas. Paris, 1958; S. Salaville. Le Christocentrisme de Nicolas Cabasilas. — «Echos d'Orient», № 35, p. 129–167). Учение Кавасилы было рассчитано на более широкий круг верующих. Он выступал против анахоретизма, считал, что если бог вездесущ, то обращаться к нему можно везде. Эти взгляды давали возможность соединять мирскую жизнь с мистикой (В. Тatakis. Op. cit., p. 269). Основное положение Кавасилы заключалось в призыве к «жизни во Христе», в соединении с Христом, который — и наш гость, и наше жилище (PG, t. 150, col. 500, 721). Старинный «телесный» аскетизм Кавасила заменял настоящим спиритуализмом (В. Тatakis. Op. cit., p. 281).
(обратно)
641
Plethon Georgios Gemistos. Traite des lois, ed. C. Alexandre. Paris, 1858. Прочие его сочинения: PG, t. 160, 161. Важнейшие труды о Плифоне: F. Sсhultze. Geschichte der Philosophic der Renaissance, I. Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen. lena, 1874; I.-P. Mamalakis. Γεωργιος Γεμιστος Πληδων. 'Αδηναι, 1939; M. Jugie. La polemique de Georges Scholarius centre Plethon. Nouvelle edition de sa correspondence. — Byz., X, 1935; F. Taescher. Georgios Gemistos Plethon, ein Vermittler zwischen Morgenland und Abendland zu Beginn der Renaissance. — BNJb, 1931; M. V. Anastоs. Plethon's Calendar and Liturgy. — DOP, 4, 1948; I. W. Тауlоr. Gemistos Pletho's Criticism of Plato and Aristotle. Chicago, 1921; В. Тatakis. La Philosophic byzantine. Paris, 1949; F. Masai. Plethon et le Platonisme de Mistra. Paris, 1956 (наиболее полное исследование о философии Плифона).
(обратно)
642
Plethon, cap. 35; F. Masai. Op. cit., p. 112.
(обратно)
643
Camariotes. Orationes, II, ed. H. S. Reimarus. Leyden, 1721, p. 220; F. Masai. Op. cit., p. 113.
(обратно)
644
PG, t. 160, col. 928.
(обратно)
645
F. Masai. Op. cit., p. 178 sq.
(обратно)
646
PG, t. 160, col. 925.
(обратно)
647
F. Masai. Op. cit., p. 191.
(обратно)
648
В. Тatakis. Op. cit., p, 293.
(обратно)
649
PG, t. 160, cap. 11.
(обратно)
650
Особенное влияние на распространение безбожия Плифон приписывает Аверроэсу, который в то время имел много последователей на Западе (F. Sсhultze. Op. cit., S. 83).
(обратно)
651
F. Masai. Op. cit., p. 283.
(обратно)
652
Plethоn, p. 182.
(обратно)
653
Ibid., p. 74.
(обратно)
654
Ibid., p. 104.
(обратно)
655
Ibidem.
(обратно)
656
Ibid., p. 220.
(обратно)
657
Ibid., p. 190; F. Sсhultze. Op. cit., S. 155–175.
(обратно)
658
F. Schultze. Op. cit., S. 175–185.
(обратно)
659
F. Masai. Op. cit., p. 234.
(обратно)
660
PG, t. 160, col. 868–869; F. Masai. Op. cit., p. 249.
(обратно)
661
PG, t. 160, col. 868.
(обратно)
662
F. Masai. Op. cit., p. 263.
(обратно)
663
H. W. Hаussig. Kulturgeschichte von Byzanz. Stuttgart, 1959, S. 541.
(обратно)
664
В. Тatakis, Op. cit., p. 541.
(обратно)
665
Georgios (Gennadios) Scholarios. Oeuvres completes, I–VIII. Paris, 1928–1936; J. Draseke. Zu Georgios Scholarios. - BZ, 4, 1895; M. Jugie. Georges Scholarios et S. Thomas d'Aquin. — «Melange Mandonet». Paris, 1930.
(обратно)
666
О Виссарионе, впоследствии кардинале католической церкви, существует большая литература. См. А. И. Садов. Виссарион Никейский, его деятельность на Флорентийском соборе. СПб., 1883; L. Моhler. Kardinal Bessarion, als Theologue, Humanist und Staatsmann, I–II. Padeborn, 1923, 1927; 3. В. Удальцов а. Борьба византийских партий на Флорентийском соборе и роль Виссариона Никейского в заключении унии. — ВВ, III, 1950.
(обратно)
667
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. V, 1938, стр. 206.
(обратно)
668
PG, t. 142, col. 24D–25А.
(обратно)
669
Ср. В. Барвинок. Никифор Влеммид и его сочинения. Киев, 1911.
(обратно)
670
H. Bell. The Commentary on the Psalms by Nicephorus Blemmydes. — BZ, 30, 1929–1930, S. 295–300.
(обратно)
671
Nicephori Blemmydae Curriculum vitae et carmina, ed. A. Heisenberg. Lipsiae, 1896.
(обратно)
672
Ibid., p. 110–111. Тексты здесь и ниже даны в переводах С. С. Аверинцева.
(обратно)
673
Georgii Acropolitae Opera, rec. A. Heisenberg, I–II. Lipsiae, 1903.
(обратно)
674
Ibid., I, p. 60.
(обратно)
675
Ibid., II, p. 3–4, v. 35–54.
(обратно)
676
A. Heiseberg. Aus der Geschichte und Literatur der Palaiologenzeit. — SBAW, Philos.-philol. Klasse. Miinchen, 1920, S. 100–101; Byzantinische Dichtung, hrsg. von G. Soyter. Heidelberg, 1930, S. 33–34.
(обратно)
677
I. Muller. Byzantinische Analekten. — «Sitzungsberichte der Wiener Akademie», 9, 1852, S. 336–419.
(обратно)
678
Cp. J. Verpeaux. Nicephore Choumnos, l'homme d'etat et humaniste byzantin. Paris, 1959.
(обратно)
679
Cp. H. G. Beck. Theodores Metochites. Die Krise des byzantinischen Weltbildes im 14. Jahrhundert, Miinchen, 1952; H. Hunger. Theodores Metochites als Vorlaufer des Humanismus in Byzanz. — BZ, 45, 1952, S. 4–19.
Ср. новые данные: I. Sevcenko. Etudes sur la polemique entre Theodore Metochite et Nicephore Choumnos.
(обратно)
680
J. Fr. Воissоnade. Anecdota Graeca, v. III. Parisiis, 1831, p. 356–364.
(обратно)
681
J. Fr. Воissоnade. Anecdota Nova, Parisiis, 1844, p. 1–190.
(обратно)
682
Theodori Metochiti Miscellanea, ed. Chr. G. Mtiller, Th. Kiessling. Lipsiae, 1821.
(обратно)
683
K. Sathas. Bibliotheca graeca medii aevi, II, p. III; M. Тreu. Dichtungen des Grosslogotheten Theodores Metochites. Potsdam, 1895.
(обратно)
684
B. H. Лазapeв. История византийской живописи, т. I. M., 1947, стр. 213.
(обратно)
685
Manuelis Philae. Carmina inedita, ed. Em. Martini. Neapoli, 1900; Quatro epigrammi inediti di Manuele Files, «Rdc. Accad. Arch. Lett e B. A.» Napoli, 1903.
(обратно)
686
Manuelis Philae Carmina inedita…, № 26, p. 30; ср. С. А. Тrypanis, Medieval and Modern Greek Poetry. Oxford, 1951, № 54, p. 50.
(обратно)
687
G. А. Тrуpanis. Medieval and Modern Greek Poetry, № 55, p. 51.
(обратно)
688
Collection des romans grecs en langue vulgaire et en vers, publics par Sp. P. Lambros. Paris, 1880, p. 1–109.
(обратно)
689
Cp. R. Сantarella. Poeti Bizantini, v. II. Milano, 1943, p. 244.
(обратно)
690
Le Roman de Phlorios et Platzia Phlore, public par D. C. Hesseling. Amsterdam, 1917.
(обратно)
691
Ibid., S. 7, v. 192.
(обратно)
692
Collection des romans grecs en langue vulgaire…, v. I, p. 283–320.
(обратно)
693
Bibliotheque grecque vulgaire, publiee par E. Legrand, v. I. Paris, 1880, p. 125–168; D. C. Hesseling. Le roman de Belthandros et Chrysantza. — «Neophilologus», 23, 1938, S. 135–139.
(обратно)
694
Bibliotheque grecque vulgaire…, p. 143–144.
(обратно)
695
PG, t. 143, col. 1–380.
(обратно)
696
Bibliotheque grecque vulgaire…, v. V. Paris, 1890.
(обратно)
697
Εχλογη μνημείων της νεωτερας έλληνικής γλωσσης εχδιδ. υπο Δ. Μαυροφρυδου. 'Αδηναι 1866, σελ. 183–211.
(обратно)
698
L'Achilleide byzantine publiee par D. C. Hesseling. Amsterdam, 1919. Cp. G. Wartenberg. Die byzantinische Achilleis, in: «Festschrift fur Jo. Vahlen». Berlin, 1900, S. 175–201.
(обратно)
699
L'Achilleide…, v. 861–892.
(обратно)
700
Erotopaignia, ed. D. C. Hesseling et H. Pernot. Paris, 1913 (Bibliotheque grecque vulgaire…, v. X).
(обратно)
701
Erotopaignia, v. 168–172, 173, 175, 177–181, 183.
(обратно)
702
Ibid., v. 198–199, 204, 206, 210–211; далее по наксосской версии — ст. 27–28, 216 и 219. В выборе строк мы следовали примеру Зойтера (G. Soyter. Griechischer Humor von Homers Zeiten bis heute. 2. Auflage. Berlin, 1961, S. 112–114).
(обратно)
703
Bibliotheque grecque vulgaire…, v. II, p. 51–57.
(обратно)
704
Annuaire de l'association pour l'encouragement des etudes grecques en France, ed. E. Legrande, v. VII. Paris, 1873, p. 225–286.
(обратно)
705
G. Wagner. Carmina Graeca medii aevi. Leipzig, 1874, S. 141–178.
(обратно)
706
Ср. В. С. Шандровская. Византийская басня «Рассказ о четвероногих» (XIV в). — ВВ, IX, 1956, стр. 211–249; ее же. Художественные особенности и язык памятника. — ВВ, X, 1956, стр. 181–194.
(обратно)
707
Pulologos, kritische Textausgabe mit sprachlichen und sachlichen Erlauterungen von S. Krawczynski. Berlin, 1960.
(обратно)
708
G. Wagner. Carmina…, S. 199–202.
(обратно)
709
Ibid., S. 201–202.
(обратно)
710
Ibid., S. 112–123.
(обратно)
711
Ibid., S. 124. 1–10.
(обратно)
712
Bibliotheque grecque vulgaire…, v. II, p. 28–47.
(обратно)
713
J. Fr. Воissоnade. Anecdota Graeca, v. I. Parisiis, 1829, p. 429–435.
(обратно)
714
G. Wagner. Carmina…, v. 327–340.
(обратно)
715
Ibid., v. 365–374.
(обратно)
716
Ibid., S. 62–105. Ср. Я. Н. Любарский. Критский поэт Стефан Сахликис. — ВВ, XVI, 1959, стр. 65–81.
(обратно)
717
Ср. переделку прославленной идиллии Гварино: O πιστικός βόσκος: Der Treue Schafer. Der Pastor Fido des G. B. Guarini, von einem Anonymus im 17. Jahrhundert in kretische Mundart ubersetzt. Erstausg. von P. loannou. Berlin. 1962.
(обратно)
718
Laonici Chalcocardylae Historiarum demonstrationes, emend. E. Darko. Budapestini, 1922. Лаоник Халкокондил. История (из книги VIII), пер. и предисл. Е. Б. Веселаго (ВВ, VII, 1953). Имя этого автора сохранено рукописной традицией в нескольких вариантах, из которых приходится считаться с двумя: χαλχοχονδυλης («человек о медном пере») или — χαλχοχονδυλης («человек о медной лампадке»). Венгерский издатель труда Лаоника Е. Дарко принимает второй вариант, большинство советских ученых — первый: ср. В. Греку. К вопросу о биографии и историческом труде Лаоника Халкокондила. — ВВ, XIII, 1958, стр. 198.
(обратно)
719
См. В. Греку. К вопросу о биографии…, стр. 198–200.
(обратно)
720
Ср. Е. Б. Веселаго. Историческое сочинение Лаоника Халкокондила (опыт литературной характеристики). — ВВ, XII, 1957, стр. 203–217; ее же. Еще раз о Лаонике Халкокондиле и его историческом труде. — ВВ, XIV, 1958, стр. 190–199; ее же. К вопросу об общественно-политических взглядах и мировоззрении византийского историка XV века Лаоника Халкокондила, — «Вестник МГУ, историч. науки», № 1, 1960, стр. 43–49.
(обратно)
721
Гуманист Андреа Навагеро ежегодно в день рождения Вергилия предавал сожжению списки стихов Марциала. Ср. Я. Буркгардт. Культура Италии в эпоху Возрождения, пер. С. Брилианта, т. I. СПб., 1904, стр. 326, прим. 2, а также стр. 213–229.
(обратно)
722
FHG, I, р. 52–164.
(обратно)
723
Ср. З. В. Удальцова. К вопросу о социально-политических взглядах византийского историка XV в. Критовула. — ВВ, XII, 1957, стр. 172–197.
(обратно)
724
Sp. P. Lаmbrоs. Παλαιολογεια χαι Πελοποννησιαχα, I. Athenae, 1912–1923, p. 215–218.
(обратно)
725
Cр. H. A. Meщeрский. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод. — ВВ, VII, 1953, стр. 72–86; И. Дуичев. О древнерусском переводе «Рыдания» Иоанна Евгеника. — ВВ, XII, 1957, стр. 198–202.
(обратно)
730
О. Demus. Die Entstehung des Palaologenstils in der Malerei. — «Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongrelj». Munchen, 1958, S. 4.
(обратно)
731
H. И. Брунов. Очерки по истории архитектуры, II. M.—Л., 1935, стр. 528; H. И. Врунов. Архитектура Византии. Всеобщая история архитектуры, т. 3. Л.—М., 1966, стр. 157 сл.
(обратно)
732
Н. И. Брунов. Очерки…, II, стр. 330.
(обратно)
733
Ф. И. Шмит. Кахриэ-Джами. — ИРАИК, 11. София, 1906, стр. 23. Как показали новейшие изыскания на месте, здание было перестроено шесть раз (D. Oats. Summary Report of the Excavations of the Byzantine Institute in the Karye-Jami, 1957, 1958. — DOP, 14, 1960, p. 223–231).
(обратно)
734
M. Тrеu. Dichtungen des Grosslogothets Theodoros Metochites. Programm des Victoria Gymnasiums zu Potsdam. Potsdam, 1895; Ф. И. Шмит. Мозаики и фрески Кахриэ-Джами. — ИРАИК, VIII. София, 1902, стр. 20.
(обратно)
735
Д. В. Айналов. Византийская живопись XIV века. Пг., 1914; В. Н. Лазарев. История византийской живописи, I. М., 1947, стр. 137 сл.
(обратно)
736
Рachym, I, р. 38–39.
(обратно)
737
Grеg., I, p. 276–277.
(обратно)
Оглавление
Глава 1
Источники
(Александр Петрович Каждан)
Глава 2
Латинская империя
(Александр Петрович Каждан)
Глава 3
Социально-экономический и политический строй Никейской империи, Эпирского царства и Трапезундской империи
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Глава 4
Внешнеполитическая борьба на Балканском полуострове и в Малой Азии
Латинская империя, Никея, Эпир и Болгария (1204–1261 гг.)
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Глава 5
Восстановленная Византийская империя
Внутренняя и внешняя политик первых Палеологов
(Кира Александровна Осипова)
Глава 6
Аграрные отношения в Византии XIII–XV вв.
(Ксения Владимировна Хвостова)
Глава 7
Города, ремесло и торговля в поздней Византии (XIII–XV вв.)
(Раиса Анатольевна Наследова)
Глава 8
Междоусобная борьба в Византии и соседи империи (1320–1341 гг.)
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Глава 9
Византия в период гражданской войны и движение зилотов (1341–1355 гг.)
(Геннадий Григорьевич Литаврин)
Глава 10
Византийская империя а последнее столетие своей истории
Завоевание турок на Балканском полуострове, Византия и Запад
(Зинаида Владимировна Удальцова)
Глава 11
Завоевание турками Византии и падение Константинополя
(Зинаида Владимировна Удальцова)
Глава 12
Завоевание турками Мореи, островов Эгейского моря и Трапезундской империи
(Александр Петрович Каждан)
Глава 13
Основные причины падения Византии и последствия турецкого завоевания
(Александр Петрович Каждан)
Глава 14
Наука и образование
(Елена Эммануиловна Липшиц)
Глава 15
Философия и богословие
(Михаил Яковлевич Сюзюмов)
Глава 16
Литература
(Сергей Сергеевич Аверинцев)
Глава 17
Архитектура и живопись
(Елена Эммануиловна Липшиц)
Глава 18
Прикладное искусство
(Алиса Владимировна Банк)
Глава 19
Своеобразие общественного развития Византийской империи.
Место Византии во всемирной истории
(Зинаида Владимировна Удальцова)
Список сокращений
Хронологические таблицы
I. Византийские императоры
II. Правители мусульманских стран
III. Эпирское царство
IV. Латинская империя
V. Морея
VI. Болгария
VII. Сербия
Патриархи Константинополя
(381–1456 гг.)
Генеалогические таблицы
*** Примечания ***