
В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Юность нового века
Повесть
ОТ АВТОРА
Эту книгу я задумал давно. Писалась она и легко и трудно.
Легко мне было потому, что я вспоминал, как прошло мое детство. Я вырос в калужском селе, как и герои этой повести — Димка Шумилин и Колька Ладушкин. И так же, как они, создавал я с друзьями первую комсомольскую ячейку, когда белогвардейский генерал Деникин был в сорока верстах от села и по утрам нас подымала зловеще гулкая в лесах пушечная пальба.
Но мне было и нелегко: я словно заново переживал все то, что в огневые годы гражданской войны легло на хрупкие плечи детей. Я видел себя босым и голодным, в сыпном тифу, в жарком бою с бандитами. И обо всем хотелось сказать. Но в одной книге этого сделать нельзя. Пришлось многое оставить в тайниках памяти и сказать лишь о самом главном: как мы шли вперед и выше, от мрака к свету, к тому далекому будущему, что нынче стало явью.
В книге есть горестные страницы: война, снова война, смерть близких, пожарище, жизнь трудная, на самой крайней грани. Но много и радостного: веселые шалости детства, школа, открытие мира. Затем — комсомол, маленький подвиг ячейки. И безмерная радость великого боя за новую жизнь, геройство и дорогое товарищество.
Я не хочу бросать своих героев на полпути. И, может быть, напишу новую книгу о них, потому что пойдут они и дальше той дорогой, которая близка мне. Я могу встретить их в Козельском педагогическом техникуме и в Ленинградском университете, на комсомольской работе в годы коллективизации, на ударных стройках первых пятилеток и на фронтах Великой Отечественной войны, где пролегала и моя стежка.
Но не будем гадать. Сейчас я занят новой книгой — о старом большевике, жизнь которого есть удивительный подвиг. И Димка с Колькой могли стать героями этой повести только потому, что новый мой герой и его товарищи были преданы делу Ленина и привели советский народ к великой победе.
В. Архангельский
 ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!
ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!
СОЛНЦЕ В ЛУЖЕ
Димка торопился:
— Скорей же, ну, скорей! Вот копается!
А мать не спеша застегивала неподатливые крючки на его новой шубке, расправляла возле воротника шейный платок.
— Не на пожар. Набегаешься! Да не крутись ты! Совсем непоседа, как дед Семен. Сейчас шапку напялим, и — отправляйся!
Она потянулась за шапкой, но в ярком свете первого зимнего дня увидела за печкой тонкую нить паутины. Встала на табуретку и подхватила ее тряпкой.
— Да что ж ты? Кинула меня? Ой, не могу! Жарко! Давай живей, а то и так убегу!
— Я тебе убегу! На шапку! Подставляй голову, пострел!
В овчинной шубке, не покрытой сукном и собранной сзади гармошкой, в белой самоделковой шапке из кролика и в просторных яловых сапогах Димка выбежал на крыльцо и огляделся.
— Ишь ты! — сказал он.
Все кругом было залито солнечным светом: кончились осенние проливные дожди. Ночью ударил первый мороз, и белая крупа, искрясь и сверкая, плотно запорошила землю.
Вот тут, перед самым домом, на площади, была на днях ярмарка. Мужики размешали колесами грязь на дороге, истоптали ее лаптями. А еще раньше, летом, пролегали тут две ровные колеи, где Димка любил гонять вечером теплую и мягкую, пушистую пыль. Бегал перед домом, поджидал, когда придет со стадом усталая и ласковая Зорька, вся пропахшая молоком, гудел, свистел и в мечтах плыл по широкому, безбрежному морю. А кругом так и хлестали волны, забрызгивая штаны выше колн и приятно щекоча в носу.
А сейчас совсем не то: постарался дед Мороз, всюду накидал белой крупы. И ловко это у него вышло!
Димка прошелся по тычку возле крыльца без всякой цели. Но она сейчас же нашлась: бить лед!
Льдинки синели, искрились на всех осенних лужах. И то-то раздолье — нацелиться каблуком и трахнуть по тонкой стекляшке! И вся-то она в белых пузырьках и блестит до боли в глазах, потому что золотистой луковицей горит в ней солнце. Хватишь по этой луковице, и во все стороны с хрустом разбегаются сахарные лучи и круги.
Самое яркое солнце было в большой круглой льдине, и под ней бездонно чернела вода. Дед Семен перекладывал грубку в горнице и сделал тут глубокую яму, когда месил глину.
Димка дал солнцу в этой льдине отличного тумака, но просчитался: нога провалилась. Он взмахнул руками и полетел в пропасть. Холодным обручем обхватила его вода до подбородка. Острая льдинка кольнула в левую щеку, и он заорал: истошно, с испугом, захлебываясь от слез.
Выбежала мать, придерживая концы платка на груди, но не вдруг заметила белую Димкину шапку: она сливалась с поседевшей от мороза жухлой травой.
Вышел дед Семен в меховой жилетке, догадался:
— Ну, в яме и есть!
Он схватил внука за плечи, поволок на кухню, выставив вперед руки, словно нес горячий чугун или самовар. А за ним тянулся по мерзлой земле тоненький ручеек.
В четыре руки стащили с Димки все, и скоро он стоял на лавке голый, в тазу, между заржавевшим черным безменом и ходиками. Мать растирала его холодной водкой: щипало под мышками и резало в глазах. Ежась и вздрагивая, Димка прикасался плечом то к гире на ходиках, то к перевесу с острым крюком на безмене, и мороз прохватывал его до пят, хотя все тело горело огнем. Затем дед перекинул его поперек живота на левую руку, шлепнул для порядка и уложил на жаркую печь, под тулуп.
«Вот и все кончилось, и опять все хорошо, только улицы мне теперь не видать. И с Колькой не поиграю. А он разобьет все льдинки перед своим домом, пройдется под нашими окнами, а я как Полкан на цепи! Сбегать бы сейчас с Колькой на речку, набрать голышей полные карманы и кидать по льду — чей дальше? Эх, здорово!.. А все яма виновата. И дед — не закопал ее».
Димка разогрелся, высунул голову из-под тулупа.
«Нынче суббота, к вечеру придет домой папка, а я не встречу его на дороге. Можно бы и на крыльце встретить, да нешто дед даст сухие штаны с рубахой? Хоть бы он ушел к соседям. Мамка меня раздетого не оставит…»
Так думал Димка, поглядывая в окошко. Только с печки не очень-то видно: одни голые кусты акации, штакетник, а возле него сморщенная седая крапива.
Да и этой радости вскоре лишил его дед: расселся на лавке, поскреб пятерней бороду и уставился на бутылку, в которой не набралось бы водки и на полстакана.
— Драть бы тебя за такие проделки! — пробурчал он, вскинув на Димку глаза поверх очков. — Бутыль водки пришлось извести на такого поганца! А ведь ей, брат, цена — сорок одна копейка!
— Да не скупись ты на такое дело, — это мать заступилась за Димку. — Хоть и не ко времени, а уж лучше выпей, что осталось, — и она отрезала деду кусок хлеба и густо посыпала его крупной солью.
Дед бултыхнул водку в большую стопку, истово перекрестился на образ Христа — бородатого, с широким пробором на гладко зачесанных женских волосах, выпил, крякнул и захрустел солью.
Жуя и причмокивая, он прошамкал, глотая слова:
— Ты, Анна, из тазу-то водку не выливай, глядишь и сгодится.
— Да ты что, уж не пить ли надумал?
— Малец куда чистый, ты его позавчера купала.
— Совсем ты, батя, сбрендил!
— Много ты понимаешь! Подай-ка перцу для верности, он все отобьет. А не выпью, так поясницу буду растирать от простуды. — Дед смахнул в ладонь узловатым толстым пальцем крошки со стола, ловко кинул их в рот, взял таз и стал осторожно сливать водку в пустую бутылку.
Мать покачала головой, сердито хлопнула дверью в сенцы, но скоро вернулась и бросила на стол початый красный стручок.
— Чем такими глупостями заниматься, закопал бы яму. Твой недосмотр, так и знай! — поддела она деда. — Весной и корова ввалится.
— Закопаю! Нынче же закопаю, — отмахнулся дед и дробно застучал ножом по краю стола, мелко кроша перец.
Димкина шубка, подвешенная к потолку на жерди, пустила большую лужу перед шестком. На пузатом глиняном кубане, где обычно хранилась сметана, обсыхала распяленная шапка из кролика. На печи, с самого края, сиротливо стояли порыжевшие мокрые сапоги, уже словно тронутые плесенью вдоль ранта. Дед пообещал насыпать в них овса, чтобы не ссохлись, да, видать, забыл, а Димка боялся ему напомнить.
Все до этого дня в Димкиной жизни — глухая полночь, потемки, мрак: и как родился, и как пичкали соску, чтоб меньше кричал, и как пеленали раз десять на дню, чтоб не сучил ногами и не разбрасывал без дела беспокойные, жадные руки.
А с этого дня стал он себя помнить.
Набегают, набегают памятные события, и забыть их нельзя. Бегут они, нижутся в длинную цепочку каких-то самых первых дел, всегда неотложных и очень значительных. И из них образуется тот кусок жизни, который называют детством.
НЕМЦЫ
Дед Семен умел задираться.
В субботу вечером ставил он на стол большой медный самовар — от Баташева, из Тулы, — с двуглавыми орлами выше узорчатого крана, и давай вздыхать полной грудью и так тяжело, словно в доме лежал покойник.
— Ты опять за свое, батя? — настораживался отец.
— И не отступлюсь! Потерял ты место в своем селе, третий год мыкаешься в чужой волости и в ус не дуешь! Чуть только корень пустил, и все прахом пошло. Теперь вот рот мне закрываешь. А я все равно скажу: нашалил, так не гордись! Можно и покаяться, не велик барин!
Отец отодвигал стакан, шарил в желтом ящике с табаком, набивал гильзу и усаживался дымить на табуретке возле печки.
— Да уймись ты, Семен Васильевич! — вмешивалась мать. — Что за язык у тебя? Совсем Алексея затюкал. Так и от дома его отобьешь, — вздыхала она. — Ну, живем и — ладно.
— Спасибо, детушки, спасибо! Образумили старика? Оно и правда: слава богу, что хоть так. А то хоть по миру иди с сумой! — Дед вздыхал еще раз и начинал громко прихлебывать крепкий, горячий чай с блюдца, быстро перекидывая во рту твердую, сладкую и липкую ландринку.
Димка был в смятении. Он не все понимал, что слышал, а встревать в разговор старших ему не полагалось. Он вылезал из-за стола с горькой обидой на всех, уходил в горницу, на теплую кафельную лежанку и, пока не слипались глаза, думал о том, как все просто в его делах и как все сложно у деда, отца и матери.
Он готов был обрушиться на деда, что тот обидел отца, но и смутно чувствовал какую-то правоту в его суровых словах. Конечно, дед ершится и бурчит, а говорит правду: по отцу все соскучились, и почему бы ему не учить ребятишек в своем селе, вон в той школе, что видна из окна? А про какой-то корень, про суму, с которой хоть по миру иди, и про отцовские шалости — такое в голове не укладывалось.
«Корень — у дерева. Сума — у старой нищенки Феклы. Она всегда стучит клюкой в раму, когда просит милостыню, — и мы подаем ей сухарь. А отец вовсе и не шалит! Что он, мальчишка? И зачем только дед такое выдумывает?..»
А дед Семен не выдумывал.
С натугой вывел он сына в люди. Сам кое-как кормился топором и рубанком, постился даже в скоромные дни, а Алексея вытянул — дал ему стать учителем.
Вернулся домой сын из калужской семинарии с молодой женой. Дед Семен и пустил корень: за год срубил пятистенку — против площади, на взгорке. А за домом мало-помалу разросся сад.
Всей душой любил его дед: за хорошими черенками ходил по всей округе, посадил яблони и груши, вишни, сливы, малину, крыжовник, а от вороватых ребятишек укрыл его живой изгородью из колючих кустов терновника.
Перед домом высился палисадник: акации, сирень, жасмин, и маленький цветничок — анютины глазки, маргаритки, резеда и ноготки. Дед Семен все мечтал о каких-то тюльпанах, что росли на барских клумбах. Но старая генеральша строго-настрого запретила своему садовнику давать их кому-либо.
В год, когда родился Димка, дела у деда Семена пошатнулись: кто-то шепнул по начальству, что валил он с мужиками для избы сосны в барском лесу. Нагрянули казаки, взяли шестерых, а с ними и деда Семена. Отсидел он в каталажке сорок дней — всю посевную. А потом его высекли и отпустили домой: вспоминай, мол, мужик, как на барское добро зариться! Революции захотел, вишь ты! Так не про тебя она писана! Пошумели люди в городах, кой-где подпустили мужики своим господам красного петуха, и — ладно! А теперь сиди на печи да помалкивай!
Колькиному деду — Лукьяну Аршавскому — дед Семен как-то рассказывал в праздник, после второй стопки:
— Здорово это у них, у жандармов! Я кумекал, что пороть будут, как бог на душу положит, ан нет, брат, все обошлось по инструкции. Ее государь император Николай Первый самолично писал: и какие розги брать — чтоб были поболе аршина длиной, по пятнадцати штук в пучке и не свежие, а маленько вялые. И врезали не наотмашь, а с оттяжкой, чтоб лучше кожу прихватывало… Мастера, чтоб им подавиться старой онучей!..
Дела пошатнулись, но скоро поправились: выручил сад. Дед Семен свез на базар в Плохино урожай со всех десяти яблонь и привез в закуту пегую Зорьку. А через год заржал во дворе конь Красавчик — темный, с большой салфеткой на лбу, халзаной масти, но бракованный, с бельмом на левом глазу. Купил его дед по случаю у проезжих цыган.
Стеречь все это добро был приставлен серый дворняга Полкан. С полгода держали его на цепи. Но добродушный пес был так общителен и ласков, что с цепи его спустили, и он стал веселым участником всех Димкиных забав. Но по ночам брехал звонко, с заливом, и за это дед кормил его овсянкой и всякими отходами с кухни.
Только наладилась жизнь в семье, отец, по словам деда, «сболтнул лишнего». С осени до осени просидел он без службы, и дорога ему в свое село была закрыта.
Отец не соглашался, что сболтнул лишнего, и не желал просить прощения у проклятой немчуры. Мать держала его линию. Кто прав, кто виноват, понять Димка не мог.
А дело было так.
Верстах в десяти от села, в сторону Сухиничей, высоко над левым берегом Жиздры, стоял серый и мрачный барский дом под черепицей. Когда привезли эту красную черепицу в лесные брынские
[1] места, где тесу и дранки было вдоволь, толком никто не помнил: дому перевалило годов за сто с гаком. Но древние старики судачили, что строил этот дом какой-то на диво грязный барин из Пруссии и что с той самой черепицей и со всяким другим барахлом доставил он из своего отечества хорошую порцию рыжих тараканов — прусаков. Они вольготно разошлись по всем соседним деревням и стали теснить привычных черных тараканов-запечников. А этих медлительных и жирных запечников бабы жалели: думали, с ними живет в избе надежда на счастье. Уходили тараканы, и, по старинному поверью, надо было ждать горя: пожара, недорода или покойника.
Теперь в доме под красной черепицей жил какой-то дальний родич того грязного барина — богатый помещик фон Шлиппе, Леонтий Густавович, отставной мичман, рыжий, сажень в плечах, с большой коричневой родинкой на кончике носа.
Отец часто хаживал на охоту по заливным лугам вдоль Жиздры и по Родинским кустам, которые граничили с землями фон Шлиппе. Он не раз добирался до села Колодези и ночевал в просторной людской у помещика. Он даже слегка подружился с немцем: играл с ним в шахматы, а появлялся третий партнер — садились за карты.
В домашнем обиходе, с глазу на глаз, фон Шлиппе был приятным человеком: хлебосольным и учтивым. А при посторонних, особенно при барчуках немцах, которых было много в большом уезде, начинал чваниться. При каждом удобном случае он назойливо, утомительно перебирал все ветви своей родословной и особенно подчеркивал, что господа Шлиппе потомки каких-то рыцарей, которые не сдались в плен Александру Невскому. Доставал он из перламутровой шкатулки грамоту с большой сургучной печатью. Этой грамотой Екатерина Вторая жаловала его деда всеми мужиками в селе Колодези.
Важный и чопорный, он сразу отдалялся от отца в такие минуты, словно их вдруг разделяла какая-то незримая сословная черта. И выходило так, что только в деревенском скучном одиночестве он готов был выносить общение с бедным рыжеусым семинаристом без роду и без племени.
Однажды отец зашел к фон Шлиппе, когда кутила у него шумная компания окрестных немцев.
Какой-то краснорожий немец решил, что появился еще один друг хозяина, и полез целоваться. Фон Шлиппе остановил его жестом и что-то сказал по-своему: отец уловил лишь два знакомых слова — школа и семинария.
— О, семинария! — брезгливо бросил краснорожий и предложил: — Господа! Налейте этому деревенскому Фребелю стакан водки, и пусть он продекламирует нам из библии. Ну, хотя бы «Песнь песней» царя Соломона. Такой пикантный вещь! — немец заржал и смачно поцеловал кончики сложенных пальцев.
Отец возмутился и встал, чтоб уйти.
— Сидите, Алексей Семенович! — с раздражением сказал фон Шлиппе. — Вы все же мой гость, — подчеркнул он. — Но надо бы вам знать, что в нашем обществе, таком приятном и, прямо скажу, блистательном, надо бы оставить свои грубые семинарские замашки. Пейте и читайте, раз вас просят! — приказал барин и пощипал родинку на носу: он был сердит.
Отец насупился и молчал.
Фон Шлиппе бросил на отца презрительный взгляд:
— Оставьте его, друзья! Господин Шумилин одумается. Не будет же он валять дурака весь вечер! Прошу за стол. Я расскажу вам о самом страшном дне в моей жизни.
И полились воспоминания: как мичман фон Шлиппе чудом спасся 27 января 1904 года — когда офицеры и матросы героического крейсера «Варяг», открыв кингстоны, готовы были принять смерть, он выкинулся за борт, пробарахтался в холодной соленой воде, но все же добрался до берега.
— О, великий германский нация! Хох! Доблестные ее сыны даже в воде не тонут! — крикнул пьяный долговязый немец и, продолжая орать: — Хох! Хох! — поднял тост за хозяина.
Немцы вскочили из-за стола и потянулись к фон Шлиппе чокаться и целоваться.
Обалдевший от вина краснорожий немец с трудом взобрался на стул и гаркнул:
— Господа! Вы не забыли, надеюсь, что даже песню о гибели этого русского крейсера сочинил немец — Рудольф Грейнц!
И в наступившей тишине начал петь, коверкая слова:
Наверх, о товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!
Немцы не знали слов и не подтягивали. Долговязый обнял фон Шлиппе и зашумел:
— К черту! Что это за песня про какую-то русскую посудину! Будем пить, господа, за свой великий фатерланд и за доброго хозяина, которого не приняли воды Японского моря. Хох! Хох!
Отец не смог снести такого кощунства.
— Хох! Хох! — передразнил он долговязого. — Великий! Великий! А живешь тут, у нас! И водку в России жрешь! Нет, господа немцы, давайте повернем это дело как надо — на русский манер. В народе так говорят про гибель «Варяга»: золото ко дну пошло, а дерьмо всплыло. Вот так! Не нравится? Ну, не дерьмо, так рыжий таракан!
Словом, пустил он немцам ежа под череп! Фон Шлиппе скомкал сигару и поднялся во весь рост. Это послужило сигналом. Краснорожий немец угодил отцу в левый глаз соленым груздем, долговязый схватился за бутылку.
На шум прибежал лакей. Отец улучил момент и юркнул за дверь. По счастью, под рукой оказалось ружье, и немцы в погоню не кинулись. Но дичь — две утки и тетерев — остались на кухне. Был слух, что утром их съели дружки фон Шлиппе, когда сели опохмеляться.
Мать не любила скандалов. Она верила, что на белом свете больше добрых людей, чем злых, и думала, что все обойдется: не станет же такой учтивый барин раздувать скандал! Дед Семен гнул круче, и вышло так, как говорил он.
Фон Шлиппе не простил публичной обиды, и где-то что-то завинтилось. Дней через десять отца вызвал благочинный — отец Алексей и сказал:
— Сильные мира сего вдруг узнали с удивлением, что существует слишком угловатый и дерзкий учитель Шумилин, и не хотят видеть его в нашей сельской школе.
Благочинный не лишен был юмора. Он говорил с отцом строго, но не мог скрыть улыбки. В узких глазах его — карих, с прищуром — играли смешинки, а на круглом животе, туго обтянутом новой кашемировой рясой, мелко дрожал от сдавленного смеха золоченый наперсный крест.
— Скажу не для огласки: ловко вы отбрили немчуру! И я, батенька, картинно представляю себе все эти сытые, самодовольные рожи после вашей тирады. Вы истинно русский человек и не могли поступить иначе. Но…
Благочинный вскинул к плечу правый рукав рясы с шелковым отворотом и провел тыльной стороной ладони под широкой седеющей бородой. Это означало, что разговор заканчивается.
— Но, к сожалению, Алексей Семенович, ваша проделка получила огласку даже в епархии, у преосвященного. А вы его знаете: он крут и дорожит мнением дворянства. Даже немецкого! И в досье на вас найден пренеприятный штрих: папеньку вашего высекли в канцелярии козельского исправника. И вам, батенька, придется искать места в пределах нашей епархии — Калужской и Боровской — в любом училище, но не в церковноприходской школе. По совести, жаль мне вас. Человек вы молодой, только начали делать карьеру! И я беру грех на душу: не увольняю вас с волчьим билетом, а прошу самолично подать в отставку! Ну, к примеру, по семейным обстоятельствам!
Прошение было написано, принято, и отец почти весь год просидел дома: скучал, курил, читал, изредка работал в саду, рассказывал Димке сказки, писал бумаги всякому школьному начальству и ссорился с дедом. Дед Семен наскакивал петухом, когда надо было идти в лавку к Олимпию Саввичу, а в большом мягком кошеле из кожи — с железными дужками и двумя дробинами наперехват — не звенели даже тонкие и легкие медные полушки.
Отец, глядя по сезону, то хватал корзину и уходил по грибы на целый день в Долгий верх, то пропадал с ружьем две-три зари, пока мать не начинала плакать и упрекать деда — тихо и долго — за тяжелый нрав и злой язык.
Но кланяться фон Шлиппе отец не пошел. И если в субботний вечер дед еще бурчал по привычке, отец делал знак матери одеваться и уходил с ней в гости к дяде Ивану — фельдшеру, который жил на окраине села, за барским садом, в деревянном флигельке возле больницы. А дед доканчивал самовар в одиночестве и заваливался спать на широкой русской печке.
После такого субботнего разговора Димка почти всегда мучился на своей лежанке, крутился во сне и видел что-нибудь страшное. Однажды он закричал во сне: фон Шлиппе выстрелил в отца из шомполки, и во все стороны разлетелись мелкие стеклянные осколки.
СТАРАЯ ШОМПОЛКА
Мать с отцом нашли управу на деда: по субботам стал захаживать к ним дядя Иван. А при нем дед Семен не задирался.
Дядя Иван гремел на крыльце сапогами, обметая с них березовым голиком налипший снег. Входил — высокий, с бравой солдатской выправкой, нагибая голову под притолокой, снимал черную барашковую шапку, тронутую молью, вешал шубу на колок и, проводя рукой по ежику на круглой лобастой голове, зычно здоровался:
— Мир честной компании! И особое почтение крестнику — другу сердечному — таракану запечному!
Весь пропахший табаком, карболкой, йодом, тискал он Димку мягкими, ловкими, холодными руками, кружил по кухне и подкидывал до потолка, а в кармане у мальчишки незаметно появлялась длинная, как хлопушка, конфета из патоки, что продавалась в лавке: на копейку — две.
Он садился за стол, не помолясь, словно в красном углу и не было бородатого Христа, приглядывался к початой краюшке хлеба и говорил свою любимую присказку:
— Краюха невелика, а гостя черт принесет, и последнюю унесет!
Все начинали потчевать дядю Ивана, и в доме сразу становилось светлее, уютнее. И чай шел с добрым разговором.
Однажды дядя Иван подсел бок о бок к деду Семену и сказал:
— Какая ни будь война в семье, а мира не миновать. И чем скорей, тем лучше. Ты пойми, Семен Васильевич: не может Алексей по-твоему. Не может! У него ведь тоже гордость есть, хоть он и тихий, как агнец божий. Да и о Димке подумать надо: ты тут разводишь турусы на колесах, а он от этих бестолковых разговоров кричит по ночам. И не дело это — душу ему травить. И без вас он хлебнет горюшка в распроклятой нашей жизни. Да и у сестры, у Аннушки, положение такое, что волноваться ей не след. Медицине, Семен Васильевич, насквозь все видно. Ты лучше думай, кого в будущем году крестным звать? Небось внучку пожелаешь?
Дед Семен сидел разиня рот, молчал и слушал. И что-то было ему в диковинку, видно про внучку. А когда он стал разливать чай, заметно дрожали его сильные большие руки в рыжих ворсинках.
А дядя Иван уже говорил про другое. Он каждый день читал от корки до корки «Русское слово» — большую газету с красивыми круглыми буквами — и знал все новости на свете. Димку просто поразило, что какой-то Сергей Уточкин из Одессы летает по воздуху с писателем Куприным. И в эту ночь он тоже полетел во сне.
И до чего же хорошо было парить в воздухе по всей кухне, крепко зажав руки между коленями. И облетать вдоль стен, не задевая смолистых бревен, разделенных паклей, не касаясь безмена и ходиков, лампады, горки с посудой, самовара и всякого тряпья, развешанного у входной двери за печкой. И, беззвучно хохоча, кружить над спящим дедом Семеном, и щекотать его, как русалка, и дуть ему в горячее розовое ухо, из которого седые волосы торчат пучком. И проникать в горницу, держаться, как пушинка над широкой деревянной кроватью, где, сбившись головами на одну подушку, спят самые близкие — мамка и папка, плыть над швейной машиной и самодельным письменным столом и делать плавные круги под потолком, где висит лампа с грузным подвесом, похожим на бомбу.
Димке очень хотелось вылететь на улицу и сделать круг над селом. Но двери и окна были закрыты, руки сильно зажаты, и — ничего не получилось. С тем он и проснулся — просветленный и сильный, счастливый, что смог оторваться от земли и стать птицей.
Близко к рождеству дед Семен присмотрел три улья на жарковском хуторе; сказать по правде, давненько он мечтал завести пчел. Отец пообещал ему на это дело золотую пятерку из первого жалованья в новом году. И в семье наступил мир.
Дед, отвалившись от самовара, занимался то хомутом, то сбруей — что-то чинил и ладил, орудуя шилом, и в кухне плавал терпкий, смолистый запах дегтя. Мать вышивала крестом для маленькой думки краснобрового петуха с острыми золотистыми шпорами. Димка водил карандашом по листу бумаги, и на белом поле возникали кривобокие домишки: из покосившихся труб валил дым — густой и черный, как всклокоченные волосы курчавого брюнета, а по пригорку шли вереницей квадратные человечки на ногах-спичках, без одежды, обутые по-зимнему: кто в лаптях, кто в валенках, и обычно с коромыслом через плечо. Иногда рисовалось солнце. Но круг не удавался, хотя Димка старательно мусолил карандаш во рту. Чаще выходила картошка с неровными краями, а от нее разбегались во все стороны лучи-спички, точь-в-точь как ноги у человечков.
Димке и рисовать-то не хотелось: он просто ждал. И карандаш с бумагой летели на лавку, в угол под божницей, когда отец, уткнувшись носом в окно, чтобы лучше видеть искрящийся снег в лунном блеске, говорил нараспев:
— То-то хороша погодка! Пройдусь-ка утречком за зайчишками!
Никто его не отговаривал. Он озорно подмигивал Димке левым глазом и приносил из горницы ружье. Это была очень старая шомполка восьмого калибра с коротким дулом и маленькой трещиной на темной ореховой ложе возле курка. Курок — огромный, толстый, как загнутый указательный палец деда, с глубокой чашечкой, накрывавшей наковальню и пистон. И взводился он на два счета — щелчками, с треском и не раз пугал дичь на заре еще до того, как гремел выстрел.
Появлялась шомполка, и дед заводил разговор о новом ружье. Он говорил, что со временем надо бы сбиться на берданку — с одним стволом и с затвором, как у винтовки.
— О двух стволах да еще с патронами только господа охотятся. Припасов им не жалко, пуляют себе в белый свет и — довольны. А мы и с одним стволом обойдемся и, даст бог, мазу не сделаем, — рассуждал дед. — И я бы с таким ружьишком на старости лет сбегал по весне за тетеревами в Родинские кусты. Милое дело! Отчего бы и нет?
А отец хотел купить императорскую тулку с двумя стволами, двенадцатого калибра, с золотыми орлами на патронниках: ружье отличное, на всю жизнь, но дорогое, почти как у барина Булгакова.
Отец говорил вслух о своей мечте, и дед даже жмурился от удовольствия. Закинуть в сени шомполку-коротышку, с которой он проохотился сорок лет — почитай с тех пор, когда всем селом вышли на волю 19 февраля 61-го года, — и взять в руки такую вещь, на которую тайком молиться можно, — так ведь это чудо из чудес, счастье!
Дед надевал очки со сломанными дужками, перекидывал нитку на затылок — седые волосы собирались у него в кружок — и начинал оглядывать шомполку, перечисляя все ее достоинства и недостатки.
Бьет она кучно и резко, в этом изъяна нет, но тяжела, словно увесистый брус металла; дуло широкое, смажь его изнутри салом, так и крыса туда пролезет; и отдает в плечо крепко, и припасу жрет, как малая пушка, из которой палят на площади парни в темную пасхальную ночь; и трещина вот на ложе: отслужило ружьишко, состарилось, совсем отстало от времени. Патронная-то снасть куда сподручнее: ни тебе дождь, ни тебе мороз — ничто не помеха. Дома подготовился, на охоте выстрел дал, новый патрончик вдел и — погуливай! Конечно, надо новое ружье ладить. Куда денешься? Охотники в семье природные: без дичи за праздничный стол не садятся.
Но как только в голове у деда возникала мысль о новом ружье и глаза уже начинали светиться, по лицу вдруг пробегала тень. Он откладывал в сторону старую шомполку, доставал с божницы потрепанную тетрадь, где у него были разные записи: когда снег лег, когда огурцы зацвели, когда первый гром грянул и засвистели над куполом церкви быстрокрылые, звонкие стрижи. Дед записывал скупо: «На Афанасия (18 января) сильный был мороз. Потому и называется этот день Афанасий-ломонос. Это так надо понимать: ходи, да береги нос».
Ниже этих записей пестрели цифры: жалованье отца, случайные заработки деда: кому-то он делал грабли, гнул дугу и вытачивал зубья для бороны, кому-то перекрывал крышу, навешивал новые ворота, покойнику мастерил домовину в шесть досок — царство ему небесное! А на отдельной странице всего семь строк занимали первые доходы от молодого сада.
Дед охал, качал головой.
— Дык твоя-то тулка, Леш, прямо под корень рубит: девяносто целковых! Да за такие деньги можно еще одну Зорьку с Красавчиком привести.
— А на что они тебе? — Мать сердито вонзала иглу в красный петушиный гребень на канве. — И так хлопот полон рот!
— Вот именно! — поддерживал ее отец. — Ты что ж, рубанок с пилой в кабак снесешь, а сам начнешь на старости извозом заниматься? Как это в песне поется: «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской, да с бубенчиком»?!
Дед пропускал мимо ушей всякие такие пустые слова, но не молчал.
— Да ведь при таких-то деньгах от рождества до пасхи можно в лавку ходить! И не с пустым кошелем!
— Ты, дед, ну, как репей! — вставлял Димка и на всякий случай прятался за отца, чтоб не получить щелчка от деда.
Дед Семен прятал тетрадь за икону.
— Ваш верх! Совсем старика задякали: сыт по горло, кабыть штей с салом нахлебаться! Ума у вас три гумна, да сверху, видать, не крыты. А мне што? Я твою мечту, Леш, хоронить не буду, только в кармане у тебя пусто. Крути-верти, а никуда не денешься — девяносто целковых, это почти сотня! Целая катеринка! Не гляди, что без одной красненькой. И — на ружье! Ведь баловство это! Грех-то какой!
Кряхтя, он забирался на печку, ложился — головой наружу, сивой кустистой бородой — на подушку и глядел, как отец готовится к охоте: обтирает ветошью ствол, капает маслом на ржавый винт курка, ссыпает в баклажки порох и дробь, ватой перекладывает в коробке пистоны из красной меди и отбивается локтем от Димки. А Димка разлегся на столе и все норовит спихнуть на пол хотя бы один пистон. Вот будет звону, когда он завтра, на глазах у Кольки, хватит тяжелым молотком по этому гремучему колпачку!
Деду все видно с печки: и как Димка двигал пистон мизинцем, и как смахнул его на пол краем рукава, и как закатил голой пяткой под лавку, куда и мать с веником залезает не каждый день, и как воровато глянул на отца.
«Совесть есть у поганца, — думал дед. — Пускай забавляется, а приструнить никогда не поздно».
Мать тоже слышала, как дзинькнуло под столом, но виду не подала. Да и отец слышал, но нагибаться не стал, а про себя улыбнулся: когда-то и у него проснулась охотничья страсть, и он вот так же старался перехитрить Семена, чтобы услышать приятный сердцу гром выстрела.
Рано утром на кухне хлопнули дверью.
«Ушли!» — решил Димка. Он приподнял голову с подушки и прислушался. А когда шаги затихли, выпростал голые ноги из-под одеяла и, придерживая одной рукой холщевые подштанники, подбежал к окну.
Отца не было. Мать задавала корм Зорьке, дед Семен стоял у колодца, держа в поводу Красавчика. Конь правой передней ногой неторопливо бил слежавшийся снег и словно не пил, а щипал мягкими губами холодную воду из обледенелой деревянной колоды, обдавая ее паром из ноздрей.
В иной бы раз Димка сплющил нос на стекле и постучал в раму: чтобы и дед и Красавчик глянули в его сторону. А сейчас он торопился по неотложному делу, и дело это было тайное. И весь интерес был в том, чтобы эту тайну не раскрыли.
Он достал пистон из-под лавки. Но куда его спрятать? И на душе тревожно: мест всяких — глаза разбегаются, да не все надежные.
Кинуть в ящик с игрушками, второпях и не найдешь. Да и дед Семен догадается: редко лазил туда Димка, когда подрос и зачастил на улицу. Кубики там разные с буквами да два бородатых мужика: они бьют кувалдой по наковальне, когда двигаешь планку.
В карман шубы сунуть? Там и ключ ржавый, и два гвоздя, и кусок красной стекляшки, чтобы глядеть на солнце, и крошки хлеба, все недосуг вытрясти. В стол? Мать может найти. Вот уж правда, когда дело тайное, приходится и попыхтеть!
Но выход нашелся: мать всегда прятала пятаки в варежку, когда собиралась в лавку.
«И как это я сразу не догадался! — обрадовался Димка. — И под рукой, и из кармана никуда не денется. Только надо варежку сложить пополам да запихнуть в карман поглубже!»
Так он и сделал. И пока умывался да завтракал, все поглядывал на тот карман, где хранилась первая в жизни «тайна». А после завтрака накинул шубейку и помчался к Кольке.
Колькин дом — ветхий, с подслеповатыми низкими окнами, с кособокой завалинкой, почти наполовину занесенной сугробом, — стоял рядом, на косогоре.
Жил Колька с древним дедом Лукьяном. Мать его умерла семь лет назад. Она принесла Кольку прямо в поле, под крестцом ржи, сразу после ильина дня, когда Димке пошла лишь другая неделя. Родила и — захворала.
А дядя Иван, на беду, был в отъезде. Приехал он, да поздно: почернела Колькина мать и отошла — без слез, без горьких жалоб на тяжелую бабью долю.
Вскормила Кольку его крестная — Анна Шумилина. И появился у Димки молочный брат, и сдружился он с ним почти с пеленок.
Совсем бы захирел дед Лукьян со своим внуком, да выручила дочь Ульяна. Жила она без детей, замужем за кузнецом Потапом, и забегала в хату к отцу — то печь истопить, то бельишко постирать, а то просто сказать доброе слово.
А Колькин отец почти совсем отбился: вдругорядь он жену не взял, скитался бобылем в людях. Зимой жег уголь в дальнем лесу для лавочника, для Олимпия Саввича, и появлялся домой только на святки. А с первого марта — на Евдокию-свистуху — подряжался в пастухи.
В этот первый день весны он всегда приходил к деду Семену и просил не оставлять соседей — старого да малого — без хозяйского присмотра. Потом долго сидел на крыльце и все гадал, какое будет лето. Под порогом была мокреть, снег плющился настом. И если дул очень теплый ветер с Орловщины, Антон говорил со вздохом:
— Пастуху, Семен Василич, чистая труба! Видать, все лето будет мокрое, и лаптей по чужим печуркам не высушить.
— Примета верная, — подтверждал дед, принюхиваясь к влажному, теплому ветру. — И у меня в тетради так отмечено. Да ведь есть бог, все в его воле.
— Так-то оно так! Да как говорится: сам будь не плох. Придется новые лапти через каждые десять ден плести… Ну, живите тут в добре, а я пошел по чужим людям щи хлебать!
Дед Лукьян сорок лет был работником в барской экономии у господина Булгакова — подметал двор, чистил конюшни, а потом его выкинули, как старую метлу. Ходил дед к барину, просил помощи. Устроил его молодой Булгаков ночным сторожем — по пятачку за дежурство. И теперь Лукьян два раза в ночь обходил вокруг имения с колотушкой, а до обеда отдыхал — глядел сны.
Когда Димка прибежал к Кольке, дед Лукьян спал после ночного обхода, укрывшись с головой рваной шубой.
— Во! — Димка вывернул варежку и показал колпачок из красной меди.
— А чтой-то? — даже не удивился Колька: он не знал, с чем и сравнить такую штуку.
— Молоток давай. Сейчас стрелять будем.
— Врешь?!
— Чтоб я да врал?
Димка достал топор под лавкой, положил на него пистон, Колька подал молоток, и началась торжественная минута приобщения молочных братьев к ружейному бою.
Трах!!!
Сизый дымок повис в избе. Дед Лукьян по старой солдатской привычке буркнул во сне: «В ружье!» — и повернулся на другой бок. Колька захлопал в ладоши. А Димка изменился в лице и схватился за большой палец левой руки: сидела в нем маленькая закопченная медная заноза.
— К дяде Ивану беги або домой, — посоветовал Колька, видя, как выступает на пальце у друга алая капелька крови.
— Молчи ты! Еще высекут! Я ведь тайком взял. Давай иголку.
Кое-как вытащили занозу, а соленую кровь Димка высосал.
Новый день начался так необычно! А впереди — до обеда и ужина — могли быть и другие приключения. И в поисках этих новых приключений Димка и Колька помчались к ребятам — кататься с горы, бегать и драться.
ПОД ГОРУ, В СУГРОБ
Все ребята катались на самодельных санках. Делали их без особой сноровки: на ребро ставили две доски с заструганными носами, три планки клали поперек. И одна рейка служила для распорки. У двух-трех мальчишек полозья были подбиты жестью, и санки скользили лучше: не зарывались носом в колдобины, не кувыркались при встрече с затвердевшей кучей конского навоза.
У Димки с Колькой ничего не было. Как видно, у деда Семена руки не доходили до этого: он занялся хорошей работой в барской усадьбе — строил новый курятник с железными сетками.
— Управляющий выдумал, чех, — говорил дед Семен. — Хочет, чтоб курица неслась прямо в лоточек. Подошел, руку протянул, и — готово! Не надо и в курятник лазить.
А может, из-за этого лоточка дед и проглядел, что молочным братьям пришла пора обзавестись своими санками.
Димка стал обхаживать отца. Он просидел возле него весь воскресный вечер, вздыхал и канючил:
— Пап, ну скажи деду, пускай санки сделает! Все катаются, а нам с Колькой хоть плачь! Нынче насилу у барской девчонки выклянчили. Эх, и саночки! Покупные, дальше всех летят! Мы-то не управились перед почтой, и — носом в снег!
— А ведь про это и стихи есть хорошие. Хочешь, почитаю?
— Давай! Только про санки не забудь.
Отец читал нараспев, как в школе, четко выговаривая каждое слово:
Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках
По горе крутой.
Вот свернулись санки,
И я — набок хлоп,
Кубарем качуся
Под гору в сугроб.
Все лицо и шею
Залепил мне снег.
Мне в сугробе горе,
А ребятам смех.
Все было так живо и верно в этом простом и милом стихе, что Димка хорошо заучил его с повтора.
— А я знаю! — засмеялся он. — Это ты написал. Небось видел из окна, как мы катались, и — написал!
Даже дед не удержался от смеха. Чудак этот Димка! И все у него проще простого.
— Есть у тебя салазки, батя? — Отец обнял Димку за шею. — Видишь, как растет мальчишка? Надо ему забаву дать. Последнюю зиму гуляет, с осени — в школу!
— Салазки не годятся: велики. Да и для хозяйства нужны. Придумаем что-нибудь. Завтра утром Кольку зови, — дед Семен кивнул Димке. — Отвезу отца, вернусь, тогда и займусь с вами.
В понедельник, до света, дед Семен запряг Красавчика и повез отца в школу. Сквозь сон — сладкий и крепкий на заре — Димка слышал краем уха, как гремели на кухне самоварной трубой и заслонкой, пили чай и разговаривали вполголоса. Потом Красавчик глухо топал копытами, заходя в оглобли. Мать стояла на крыльце и кричала вслед саням, мягко скрипевшим на снегу:
— Не застудись, Лешенька!..
Когда вернулся дед, на дворе шла война. Колька, крича во все легкие: «Вот свернулись санки!», дал подножку Димке и зарыл его носом в снег. Димка отряхнулся, набычился, ткнул Кольку головой в живот, сбил с ног в сугроб и заорал: «Все лицо и шею залепил мне снег!»
Дед Семен покачал головой, вынес из амбара две высокие круглые корзины, в которых носили сечку корове, складывали щепки или сосновые шишки для самовара, и перевернул их вверх дном.
— Теперь идите к закуте да стерегите, когда у Зорьки будет свежий помет.
Ребята уткнулись носом в щель, стараясь не сопеть. Но Зорька явно не торопилась. Принесли ведро воды, ковш, лопату. И — вовремя! На Димкин крик пришел дед Семен. Он подхватил лопатой теплый Зорькин блин, и ровным слоем разложил его на днище двух корзин.
— Морозом прихватит, начинайте поливать. — Дед Семен задал сено Красавчику и ушел строить барский курятник.
Эх, терпение! Где сыскать тебя? А надо — наспех такой самокат не сделаешь. И мороз, ну, просто расшалился: за нос берет, а корзину студить не хочет!
Колька не вытерпел, тронул слегка пальцем:
— Вроде прихватило?
Брезгливо тронул и Димка:
— Держит! Давай ковш!
Плеснули по ковшу воды. И опять время остановилось. И озоровать неохота. Сбегали домой, погрелись — на ровном днище стал блестеть тонкий, но заметный слой льда. Возвращались из дому раза четыре — лед все нарастал и нарастал. Распрощались под вечер: надо было переждать ночь, а утром плеснуть еще раз.
Колька забарабанил в дверь чуть свет.
Плеснули по последнему ковшику, перевернули корзины вниз дном, и — готов сказочный самокат деда Семена. Набили корзины сеном, привязали по веревке к ручкам и пошли на площадь пробовать.
Первая горушка начиналась острым мыском от Колькиной избы. Выводила она на дорогу, что вела мимо школы к почте и к лавке. Тут был край для маленьких. А катиться можно было и дальше: мимо чайной, мимо кузницы и неглубокого колодца без журавля, завернуть налево и мчаться до самой Омжеренки, где обочь с дорогой на Плохино сделали недавно прорубь — Иордань
— и святили воду.
Решили кататься с маленькой горушки. Сели на сено, как клушки, поджав ноги калачиком, раскачались и — понеслись. Корзины скользили быстро — просто дух захватывало! — и вертелись. Перед глазами мелькали то церковь, то начало горушки, то школа, то крутой спуск, то соседские избы, то почта: все видно, даже шеей крутить не надо!
Вылез Димка — перед глазами круги. Глянул на Кольку — шатается. Потряс головой, стало лучше.
— Ну еще: под гору, в сугроб! — крикнул он, дал знак Кольке и потащил корзину на высокий мысок.
Сбежались со всего села ребята, разглядели самокат, стали дразнить:
— Гля-кося! Димка как курица сидит! Эй, Димка, снеси яичко! Я на пасху буду катать!
— Колька! Корова еще по нужде сходила! Вертайся в закуту да подбирай! Ха-ха-ха!
Заглянули с переменки ребята постарше: долговязый и спокойный Сила, толстый озорной Витька.
— Шумилины горазды на выдумки. — Витька по-хозяйски оглядел корзины. — И заднице тепло, и вертится, как карусель на ярмарке. А ну, мелюзга, дай-ка я попробую! — Он отнял у Димки корзину, сел, как на скамью: самокат даже крякнул и приплюснулся.
Прокатился, понравилось.
— Ишь, какая штука — лучше санок. И ход хороший, и в голове туманит. Дед Семен выдумал?
— Ага.
— Правильный старик, рукодельный! Придется и мне после школы под корову лезть!
Через два-три дня все ребята катались на корзинах. С визгом и криком мчались друг за другом по косогору, и пушистый снег разлетался белыми брызгами, когда очередной неудачник зарывался головой в сугроб. И всем было смешно, совсем как в той песне про катанье с гор, которую со слов Димки все теперь знали назубок.
Кольке надоела корзина задолго до масленицы.
— Слышь, поговори с дедом: надо бы коньки сделать, — приставал он к Димке. — У барских-то девчонок «снегурочки» так и сверкают. И носы закорючкой, чтоб не падать, не гляди, что катаются по ровному, на катке. Сам надысь подсмотрел: там у них, возле бани, дырка в заборе, хорошо видно. Я им язык показал и — айда! Своему-то деду говорил, да что с него толку: ночь ходит, день спит…
Димку тоже заело, что барские девчонки обзавелись коньками. «Все им дают, чего не захотят. А у нас старая корзина с Зорькиным навозом», — горько думал он.
И по вечерам началась осада деда Семена. Мать не перечила Димке, но и к дедушке не приставала: она теперь шила распашонки, подрубала пеленки. А дед не сдавался. Он ставил так много условий, что у Димки голова шла кругом, и про Кольку он подумал с обидой:
«Глаза у него завидущие! Катался бы на корзине, и все! Так нет, коньки ему надо!»
А дед загибал палец за пальцем: и не врать, и не воровать, и в церковь ходить по воскресеньям, и научиться определять время по ходикам.
«Дорого обойдутся мне эти коньки! — невесело думал Димка и со страхом глядел на зажатые в кулак пальцы левой руки деда Семена. — Да что он? Уже на правую руку перешел! Знал бы, так и просить не стал!»
— Я обронил вчерась две копейки: от барина расчет принес, — скрипел дед. — Ты, поганец, поднял и не сказался. А Олимпий Саввич шепнул, что ты с Колькой купил четыре конфеты. Было?
Димка молчал.
— Было, спрашиваю?
— Ну… было…
— К обедни мать звала, сказался больным, а сам убежал кататься. Бывает, и ходишь, так ни одной молитвы толком не знаешь. С ребятами пересмеиваешься, рожи корчишь. В крещенье, когда к водосвятию стали выходить с хоругвями, Настеньке Чернышевой подзатыльник дал.
— Так она жиляка! Все дражнится!
— Побить можно и не в храме божьем. Особливо если за дело. Молитву будешь учить?
Димка скреб пальцем край стола и беспечно глядел на улицу, где тащилась с пустой сумой на левом боку старая нищенка Фекла.
— Повторяй: «Достойно есть, яко воистину…»
Димка пробубнил, не понимая слов, и шмыгнул носом, собираясь заплакать.
Дед надел очки. Сломанные дужки заменяла суровая нитка, которую он привычно заводил за лохматый затылок, и седые его волосы — мягкие и пышные — плотно прихватывались к голове.
— Что там? Который час на ходиках?
— Две стрелки, одна на другой, концами к потолку. Скоро обедать.
— «Одна на другой», — передразнил дед. — Полдень это! Двенадцать часов! А насчет обеда ты неплохо напомнил. Анна, на стол накрывать пора! — крикнул дед в горницу.
Мать перестала строчить на швейной машине и пришла в кухню греметь миской, ложками, ухватом.
Втроем сели с одного края стола, под божницей, стали хлебать щи. Димка заспешил. Дед — не больно, но обидно — стукнул его по лбу деревянной ложкой:
— Не части! Ешь с отворотом: хлебнул, положи ложку на хлебушко. Прожуй, как положено, и опять тянись. Есть научишься, тогда и про коньки разговор пойдет.
Димка снова шмыгнул носом, и горькая слеза — чистая и ясная — тяжело упала в ложку.
— Полно, батя! Чего куражишься? Не даешь и пообедать спокойно, — мать вынула из миски ноздреватый сахарный мосол и положила его перед Димкой.
— Ладно, ладно! — Дед и сам смекнул, что хватил через край: взялся за внука круто, да, как видно, все подряд он и не осилит.
После обеда он затащил Димку на печку и решил проверить его на загадках:
— Ты да я, да мы с тобой. Много ли стало?
— Я и ты. Два!
— Верно. Только говорить надо — двое… Сам худ, а голова с пуд. Что это?
— Колька! Совсем тощий, а голова здоровая!
Дед засмеялся.
— Нет! Безмен это. Я тебе такие загадки даю, что на каждую есть ответ в кухне. Ну-ка, сообрази: висит — болтается, всяк за него хватается.
— И я хватаюсь?
— Не один раз на дню.
Димка огляделся и крикнул:
— Рукомойник!
— Угадал! Теперь слушай хорошенько: и шипит, и кипит, в дырочку льется, а станешь пить — жжется.
— Э! Самовар! Вот что!
— По этой части ты мужик толковый. Так и быть: придется тебя уважить…
Вечером дед Семен взялся мастерить коньки. В кухне запахло лесом, как в сочельник, когда синеватые иглы маленькой елки скупо освещались в горнице грошовыми восковыми свечками.
Дед разрезал ножовкой еловый чурбак — без сучков, прямостойный и круглый — на четыре доли, отстругал их на верстаке, словно делал новую щеколду к двери. Долотом пробил по узкой щели, длиной в четверть, и просверлил по две дырки — с носа и у пятки. Кое-где прошелся кривым и острым садовым ножом, зачистил шкуркой, и готовые колодки улеглись рядком на подоконнике.
На другой день в кузнице, где под ударом молота по раскаленному железу каждая золотая и багровая искра так и норовила попасть Димке в глаз, дед с кузнецом Потапом отковали четыре острых лезвия и вогнали их накрепко в колодки.
Получилось четыре коротких полоза: впору и на лапти и на валенки. Продень веревки в дырки, примотай к ноге покрепче, чтоб не ерзали под подошвой, и — кати!..
— Не воруй! — Димка подал Кольке первый конек. — Не ври! — подал второй. А про церковь, как говорил дед, про ходики и про загадки он позабыл: торопился набить пухлую синюю шишку на лбу, с которой и приплелся домой к обеду — жаркий, красный и счастливый.
А барские девчонки, как услыхали про Димкины коньки, побросали свои «снегурочки» и стали ходить на лыжах.
Но у Димки в эту зиму дело до лыж так и не дошло.
 ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ
ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ
РЫЖИЙ БАРИН
Барин был в селе чудной.
Полгода о нем и слуха не проходило: жил он на теплых заграничных водах и крупно играл — не то в картишки, не то в рулетку. А недавно прикатил на тройке — высокий, рыжеватый, с бородкой, как у царя, в романовском дубленом полушубке и с медвежьей меховой полостью в санях. И словно всем он стал на пути: кому — в добро, а кому — во зло. И каждый день и в каждой хате толковали о нем вдосталь.
В селе неплохо знали своего барина: кончился у него загул! Как хороший скакун на бегах, крепко уходился он на чужой стороне, притащился под родную крышу и начнет теперь выкомаривать: собирать долги за старые годы, объезжать молодых лошадей на кругу под каштанами, что-то ломать и строить.
Сиделец Ванька Заверткин — торгаш из винной казенной лавки, из монопольки, — увидал барина, мигом запряг каурого и помчал на открытых санях в Козельск за водкой.
Лавочник Олимпий Саввич заметил, как резво укатил сиделец, запряг вороного и махнул в Плохино за бархатным пивом. И вез его для барина, укрыв от солнца новым ватным одеялом.
Кузнец Потап поскреб пятерней в затылке — и прикупил два воза древесного угля: барин заводной, глядишь, мимо кузни и не пройдет!
Повар сбился с ног и всем говорил, что барин дал ему наказ: строго держать русский стол.
— Так и распорядился, чтоб кажин день было горяченько, пекленько, вкусненько, холодненько да кисленько!
— Квасу ему со льдом кислого! Да рассолу огуречного — бочки две. Вот и войдет он в норму! — шутил дядя Иван.
Дед Семен навострил рубанок, два топора, пилу и сидел по вечерам, как клушка на гнезде, все ждал: не позовет ли его барин?
Даже дед Лукьян приосанился: побрил подбородок, распушил седые баки и стал похож на старого генерала, который по рассеянности обрядился в рваный зипун, холщовые портки и разбитые лапти.
А Димка жалел, что не примчалась барская лихая тройка в знойный летний день. Встретили бы они с Колькой ее у околицы, распахнули ворота от старой толстой вереи, и кинул бы им барин полную горсть серебра!
А мужики, которые с давних лет были в хорошей замазке у барина — кто деньгами, кто зерном, вздыхали и говорили промеж себя вполголоса:
— И нанес же господь этого рыжего черта! Крути не крути, а прижмет! Вот уж истинно гуторил умный бедняк: хвали рожь в стогу, а барина — в гробу!
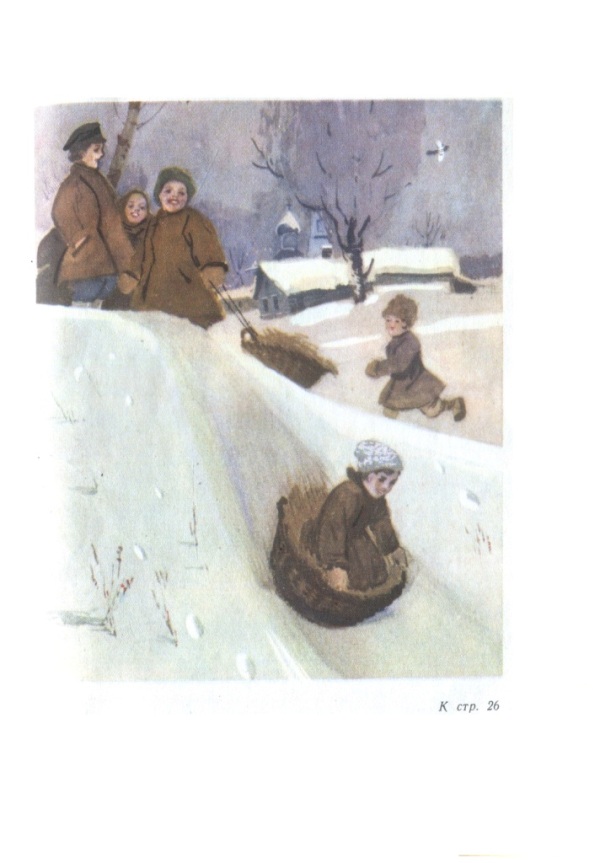
Им оставалось одно: крутить да выкручиваться. Застонали они, заохали: кто — с животом, кто — с почечуем, кто — с прострелом, кто — с зубной болью. И чередой потянулись к дяде Ивану, а из больницы на печь. И полеживали там, чтоб не поволок их стражник за старый должок барину в холодную блошницу при волостном правлении.
Как-то вечером пришел дядя Иван и сказал, кивнув в сторону барской усадьбы:
— Был я у него с визитом. Чванится Вадим Николаевич: и стул не предложил и руки не подал. А мне, Леша, и стукнуло в голову: с какой стати? По фамилии судить, так Булгаковы не из знатного дворянского рода. Ты знаешь, что такое булга?
— Нет.
— Тревога, суета, беспокойство. А булгаки, на поверку, просто маклаки: шурум-бурум, старье берем! Кошкам да собакам хвосты вертели, а шкурки меняли на всякую мелочь, на щепетильный товар.
— Да брось ты выдумывать, Иван! — сказала мать в сердцах. — Со зла такое городишь!
— Все, что говорю, истинная правда!
И пошел дядя Иван и пошел: помаклачили Булгаковы на грешной земле, даже при дворе императора послужили, а теперь валятся под откос. И ничего у них не ладится, одно лишь беспокойство себе да людям, которые еще с ними якшаются.
— Страшно начался двадцатый век у наших Булгаковых, — дядя Иван расхаживал по кухне. — Братец барина — Роман Николаевич — повесился. Был этот Роман ни в отца, ни в мать. Про што-то такое он думал, чтоб мужику жилось малость легче. Помню, вздорил он с папашей, с генералом, из дому убегал. Иногда ночевал на сельском покосе, с народом, а то пропадал на охоте. А где его нашли? В Америке, на резиновых подтяжках висел.
Димку так и затрясло от страха. Знал он этот глубокий овраг, заросший вязами, кленами и липами. Все лето из него несло прелью и дурманом — от сырости и плесени, от буйных сочных трав и высоких лопушистых цветов. И по-правильному назывался он Обмерикой: старый барин при разделе земли урвал в том месте большой выгон у мужиков.
И на самом толстом вязе в этом овраге висел барин-мертвец!
Сколько раз пробегал Димка без страха мимо Обмерики к дальней околице. А теперь будет бояться, особливо по вечерам, когда покойники поворачиваются в гробу, чтобы в полночь выйти на волю и посидеть на зеленых кладбищенских холмиках.
— И оставил Роман завещание, — перебил Димкины мысли дядя Иван, — выдать всем слугам жалованье за три месяца вперед в его поминки и на тот же срок кормить мясом вволю его собак: легавых, борзых и гончих. А главное, скостить с мужиков всю недоимку, все долги барской конторе! Да, был один мало-мальски сносный человек в семье, да и тот не выдюжил — ушел из жизни ни за грош!
Димка словно первую книгу читал — про барина и про его семью, о чем слышал он только урывками.
Папаша барина — камергер царя Александра Третьего — отправился на тот свет через год после Романа: выпил яду в калужской гостинице, когда прокатили его на выборах в предводители дворянства. Был он генерал злой, властный, настоящий барин-крепостник. Память о нем сохранилась недобрая: даже мимо каменного его склепа мужики проходят без всякого почтения. И только сердобольные бабы вспоминают о его превосходительстве, когда идут в церковь: над вратами из зимнего притвора в летний вмазана им в стену большая картина — Иисус Христос, в длинном женском шушуне, идет по воде, отшлепывая голыми пятками по малым волнам Генисаретского озера.
Остался у генеральши один сын — Вадим. Генеральша — важная, сердитая, молчаливая. Летними вечерами, приехав из Питера, сидела она на балконе белокаменного большого дома, и все снимали издали шапки и картузы в ее честь. Димка видел ее не раз, да подойти поближе боялся.
И еще осталась у генеральши дочь — Мария Николаевна. Она вышла замуж за немца Бурмана и жила верстах в пяти от села в имении Кудеярово, на краю обширного Брынского леса.
Там Бурман выстроил дом, как у фон Шлиппе, под черепицей. А рядом поставил заводишко, похожий на просторную кузню, и рабочие штамповали ему фигурные пепельницы из чугуна.
Заводишко примыкал к пруду, где Бурман развел карасей. Прошлым летом привезли их в село — золотистых и широких, как лапти, — и пустили в сажалку, возле Омжеренки: генеральша ждала в гости архиерея, который выгнал отца из школы. А кузнец Потап с дедом Лукьяном прознали, что никакой охраны возле сажалки нет, и этих карасей выловили! То-то было смеху! Скандал на всю округу: не отведал архиерей карасей в сметане! А Димка с Колькой и на постном масле съели Лукьянову долю! Хорошо! Только дед Лукьян взял клятву: про это дело — ни гу-гу! Рассказать бы сейчас об этих карасях, да нельзя!..
Засиделись на кухне поздно. И Димка опасался, что дед Семен завалится на печь или мать уйдет в горницу — не захочет слушать всякие байки про барина, и разговор прекратится.
Но в дверь постучали, и вошел дед Лукьян: по бритой бороде и седым густым бакам — чистый генерал, а по разбитым лаптям и рваным онучам — голь перекатная.
— Хлеб да соль! — переминаясь с ноги на ногу, он стоял в дверях и мял шапку.
— Садись, дедушка, — мать налила ему чай.
— Вышел свой пятак заработать от барина, гляжу — у вас огонек. Вы уж того… не обессудьте, — он положил на подоконник колотушку с шапкой, сел за стол. Но к чаю не притронулся.
— Да ты что, Лукьян? — ласково сказал отец. — При дяде Иване, что ли, церемонии разводишь? Пей! Мы тут про барина толкуем.
И рассказал, как охотился по весне барин с Костиком Родиным на разливах Жиздры.
— Подгребаюсь я веслом к островочку — маленький такой: с нашу кухню. Слышу: визжит кто-то, жалобно, надсадно. Подъезжаю: мальчонка в шалаше. Зипунишка в заплатах, сам синий от холода, и в глазах у него — страх. Годов ему восемь, чуть больше Димки.
Один. И — на таком пятачке! А кругом на три версты — студеная и грязная вода в лугах. Спрашиваю:
«Ты чего тут?»
«Барин велел», — отвечает мальчонка и — в слезы.
«Садись, домой подвезу».
«До вечера велено».
«Да зачем?»
«На счастье. Кричу, селезней пужаю, а они на барина налетают. Слышь, палит?» И заголосил: «А-а-а!»
«И что ж тебе перепадет от барина?»
«Двугривенный мамке посулил. Да страшно сидеть-то: надысь барин уехал с Костиком на жарковские хутора да всю ночь и гулял там. А я со страху чуть не помер: водяной до света в кустах возился. И лягушка мне на морду сиганула».
Дал я ему кусок хлеба и спички оставил: пусть хоть у костра погреется… Идиотская затея с этим мальчишкой!..
— А ведь ты, Лукьян, за посаженого отца был, когда барин женился? — спросил дядя Иван.
— Какой за посаженого! — прошамкал дед. — Навел его на Варьку да и к отцу ее — Митьке Казанцеву — сватом ходил, когда барин, решил за благословлением сбегать. А Митька жадюга — чайную открыл, как дочку пристроил, да не больно-то зовет в гости.
Дед Лукьян перевернул чашку вверх дном, перекрестился.
— Вышло это у барина ненароком. Одни болтают: по пьяному делу, другие: из озорства. А про любовь никто не баит. Девка, правда, была смазливая — чернявая, кровь с молоком. Да вы ее не хуже моего знаете… Да… Учился барин в Санкт-Петербурге, в какой-то лицеи. И в татьянин день видался с приятелями в Москве, при веселом застолье: обычай такой соблюдался. Дело было в войну с японцами, под пятый год. И промеж себя барчуки спорили: а ведь слабо нам, господам, на деревенской девке жениться? Не дурак затеял такой спор! Свои-то бабенки среди господ все больше кволые, а наша девка — что твоя молодая сосна: и здорова и красива… Кто-то и ляпни: кто на деревенской женится, тому и свадьбу справлять всем дворянским миром. И собрать приданого не менее десяти тыщ золотом. Вот наш барин на этот золотой мешок и клюнул: генеральша в те дни строго его держала, не при деньгах…
Развел дед Лукьян эту историю про барскую свадьбу. Димке — не до сна!
— Пока барин на каникулы приехал да пока я навел его на Варьку, прошло лето. Задумал барин жениться, а ходу ему нет: гости понаехали, старая генеральша все еще на балконе прохлаждается, а при ней и не думай! И вся дворня на ее стороне: лизоблюды, наушники. Тронь коня с тарантасом со двора, крику не оберешься. А барин чумовой, задумал — значит вынь да положь. И такую он комбинацию подстроил, что потом все ахнули и по всей губернии звон пошел.
— Ну-ка, ну-ка! — Дядя Иван сел рядом с Лукьяном.
— Перво-наперво решил он у генеральши правую руку отнять; вызвал к себе управляющего Чукова — был такой еще у старого генерала, и по чину — урядник, а при нем шесть стражников. Его убрали, когда Семена Васильевича высекли, и пошло среди мужиков брожение: мало того, мол, что сами с усами, дык еще у них и урядник в услужении! Пришел этот Чуков, выслушал через барина генеральшин приказ и, как миленький, поскакал в Козельск с бумагами. Туда-обратно шестьдесят верст, и, выходит, управляющий свадебному делу не помеха.
— Удумал, каналья! — засмеялся дядя Иван.
— Да. Взялся барин за маменьку: надо и ее с места стронуть. Подделал он руку своей сестрицы и подал генеральше письмо: так, мол, и так, маман, занедужила я крепко и непременно хочу вас видеть сегодня. Генеральша схватилась за голову:
«Мигрень у меня, Вадя. Да и поздно, на улице так сыро».
«Полноте, маменька! Мари вас так ждет! Укроетесь пледом, кони отличные, Борис Антоныч мигом вас домчит».
«Ну, будь по-твоему!»
Борис Антоныч надел плисовую безрукавку, широкие кучерские штаны, красную рубаху, шляпу с пером и крикнул у крыльца:
«Тпру! Пожалте, ваше превосходительство!»
Укатила генеральша в Кудеярово, к господам Бурманам карасей кушать! Всех раскидал барин, заторопился. Сам сел в тройку за кучера да махнул за Варькой на мельницу: она первую рожь молола. Схватил ее, как была в лаптях, в зипунишке, в поневе, кинул в карету, мимо села крюк дал и — под Сухиничи, в село Радождево. Там поп был забулдыга: мать с отцом, деда с бабкой, кого хошь продаст за катеринку! Обкрутился барин под венцом — и на станцию. А тут Чуков скачет! Замешкайся поп хоть на пять минут, все бы прахом пошло!
— А что вышло-то? — спросил дед Семен. — Я забыл про это.
— Не доехал Чуков до города, вспомнил про какие-то бумаги. Возвертается в имение, а тут полный разгром. Ну схватил меня за грудки, до всего доискался: я как на духу сказал. Да и куда денешься? Страшный был урядник. Оседлал Чуков коня да со стражником в Сухиничи. А Вадим-то Николаевич поцелуйчик ему послал из вагона и — был таков!..
— Вот тебе и Вадя-дурачок! Почти до самой свадьбы на ходулях ходил, с ребятишками игрался, а какой номер отколол! Ну, распотешил ты меня, Лукьян Анисимыч! Всю бы ночь слушал, да надо хозяевам покой дать! — Дядя Иван стал одеваться.
— Да и я пойду. Засиделся, а пора колотушкой греметь, — сказал дед Лукьян и поплелся в ночной обход.
Через день пришел дед Семен из барской усадьбы.
— Ты приберись, Анна, на скорую руку. Управитель шепнул: пойдет барин гулять, завернет к нам — работешка наклюнулась.
Барин показался на площади под вечер. Шел он — высокий, в новой поддевке, в мерлушковой шапке, белых бурках, с борзой пегой сукой и упругим арапником из мягкой кожи.
— Здгавствуйте, Анна Ивановна! И Семен Васильевич! — Барин уложил суку возле двери, раскинул полы поддевки и, широко расставив ноги, уселся на табурет посреди кухни. Пахло от него хорошим табаком, духами и нафталином.
Он огляделся, заметил Димку, который прятался за широкой спиной деда.
— Гастет малец! И бедовый, скажу вам. Оленька жаловалась, что с ног ее сбил. Но что поделаешь? Дети! И такие шалости в их хагактеге.
Мать с дедом, как по уговору, глянули на Димку, и он так зарделся, что даже уши стали пунцовыми.
«Тоже жиляка, хуже маленького, — подумал Димка, — а мог бы и помолчать: за язык никто не тянет. И говорит смешно: разгакался. Ну, подстерег, когда на площадь вышла, и сбил. А чего она задается: на лыжах фасонит и прокатиться не дает. И язык кажет!»
— Вам, конечно, сказали, Семен Васильевич, что я по делу. Мой стиль во всем английский, это вы знаете. А сейчас в моду входят деловые амегиканцы. И эти, извините, сукины дети, недавно на весь миг пготгубили, что за одни сутки постгоили жилой дом. Я хочу показать, что гусские умельцы могут стгоить быстгее. План у меня оггомный, о нем я буду говогить на сельском сходе, а габоты для вас хватит до петгова дня. Но пегвое дело — утегеть нос амегиканцам. Мои условия: одна комнатка, как ваша кухня, два окна, небольшая ггубка, как бывает в гогнице.
Он никак не мог сказать слово «грубка» и выдавил из себя что-то похожее на «ггубку». Махнул рукой и залился смехом:
— В Евгопе пгивык болтать на языке бгитанцев, и такие гычащие звуки пгосто не выговагиваются. Ха-ха! Но вегнемся к нашему делу, Семен Васильевич! Высота, — он встал и дотянулся поднятой рукой до потолка, — пгимегно такая. Кгыша — односкатная, железная. Конечно, двегь, две ступеньки на кгыльце, но обойдемся и без пегил и балясин. Фундамент самый пгостой — четыге блока по шестнадцать кигпичей. Вы назначаетесь стагшим. Подвигайте агтель, и — с богом! Сгок — меньше суток. Габотать начнете в четвегг на масленой, накануне дня моего гождения! Я плачу за все, как у вас пгинято говогить, гамузом — пятьдесят гублей. Вот задаток.
Вадим Николаевич распахнул поддевку и из коричневого раскладного кошеля на шелковой подкладке достал и подал деду сложенную пополам новую десятку.
Когда барин ушел, дед Семен про Оленьку и не вспомнил. Он отдал матери десятку и весело сказал:
— Сходит барин с ума! А что нам от этого? Одна польза!
Он оглядел инструменты, зачем-то перевесил фартук поближе к двери и опять засмеялся:
— А подумать, так интересно это: утереть нос американцам! Пойду-ка сбегаю место оглядеть да и с дружками потолковать.
Почти все село сбежалось глядеть, как дед Семен с артелью утирал нос американцам.
Работали впятером, на западной окраине барского сада, окруженного липами в два ряда, почти против больничной бани. Дед Лукьян был шестым — за подсобника: носил воду, известь и глину, замешивал раствор, помогал, где двоим не хватало пятой руки.
Он суетился больше всех, как человек при чужом деле, который не знает, за что ухватиться, семенил по тропе от колодца с ведром воды и успевал подмигивать любопытным бабам:
— Блошка банюшку топила, вошка парилася, таракан воду носил!
И его веселое настроение передавалось всем, кто строил этот домишко для барина.
Работа шла ходко. Дед Семен, конечно, схитрил. Он успел за это время сделать дверь, притолоку и две рамы. А в усадьбе у Булгаковых нашлись в запасе подходящие сосновые венцы, которые хорошо шли в дело. Да и кузнец Потап не дремал: загнул края у листов жести. Все остальное делали на месте: заложили блоки, стали класть бревно на бревно, в лапу, конопатили и размечали простенки между окнами. А печник Андрей, сидя на корточках, колдовал над кирпичной печной коробкой. Сперва он был виден весь, затем — по плечи, а к вечеру, когда вставили рамы, лишь в окне виднелся его рыжий собачий треух.
Над участком не затихали дробный перестук трех топоров, визг пилы на две руки, глухое падение щепок на притоптанный снег, веселое кряхтение плотников на любимой спорой работе, легкий скрежет мастерка в ловких руках Андрея, шепелявый голосок Лукьяна и незлая брань деда Семена, когда что-то не клеилось как надо.
Димка с Колькой три раза на день носили дедам и молоко, и хлеб, и даже горячий горшок с гречневой кашей, а возвращались домой с корзинами, доверху набитыми ароматными шуршащими стружками, смолистыми плоскими щепками с острыми краями.
К вечеру дед Семен велел принести свежую рубаху: взмок. Да и с каждого его дружка пот валил в три ручья. Но работа не останавливалась.
А когда Димка с Колькой улеглись спать, снова началось оживление. На стройке разожгли большой костер, да еще барин приказал развесить на липах пять зажженных «летучих мышей». И парни с девчатами — в ночь после посиделок — завели у костра игры и песни. А кто-то и завлекся барской затеей, помогая выводить трубу и настилать кровлю. Да и всяк из парней хорошо понимал, что после такой работенки худо-бедно, а на ведро водки в монопольке поубавится.
За ночь дом вырос, и как полыхнула заря, глядел он на мир новыми окнами, в которых отражался золотистый и розовый снег раннего погожего дня. И в девять утра, розно через двадцать три часа — минута в минуту! — барин сел на сосновый чубак посреди пола, оглядел почерневших и осунувшихся мастеровых, которые без сил развалились по углам, возле стен, и бросил своему управляющему:
— Всех напоить! В стельку!
Сделал широкий жест рукой и задымил папироской. Был он в этот миг мальчишкой, которому совсем зря навесили рыжую бородку государя императора.
Но он был все же барин, именинник, и красовался перед мастеровыми. А они вдруг стряхнули с себя усталость и гоготали вместе с ним над чванливой Америкой.
Дед Семен пил и гулял до субботы: приканчивал веселую масленицу. А перед вечером, когда ему совсем разломило башку, запряг Красавчика, усадил отца с матерью, пихнул в розвальни Димку с Колькой и Лукьяном, примостил на запятках дядю Ивана, гикнул, как разбойник, и помчался по селу, за околицу, до ветряной мельницы, где свежим февральским ветерком выдуло у него из пьяной головы всю дурь.
ДЕД СЕМЕН ГОВОРИТ ПРО ЛЮБОВЬ
Дошла очередь и до благочинного: пришлось ему великим постом схватиться с барином.
А началось с того, что задумал барин открыть театр в яблочном сарае. И пока дед Семен помаленьку городил помост для актеров, стал он набирать людей в хор.
В середине поста в большой людской набилось народу — не продохнешь! Барин сидел в кожаном кресле и обмахивался душистым платочком: по всей комнате стелился тяжелый дух от зипунов и онуч, долго залежавшихся на печи.
С левой руки от барина, в простенке между окнами, чернел высокий ящик фисгармонии, а возле сидел, подбоченясь, и глядел на всех одним острым черным глазом старый регент Митрохин. В просторной крылатке, горбоносый, сутулый, с длинными руками, как крылья огромной летучей мыши, он казался Димке страшным, чужим и далеким. А когда один его глаз, бегая по раскрасневшимся лицам мужиков и баб, вдруг прицеливался в Димку, тот совсем робел и прятал голову за Колькин затылок.
— Сейчас будут Стешку пробовать, — Колька толкнул Димку локтем в ребро. — Вот увидишь, эту возьмут!
Стешка скинула синий шушпан и вышла в круг в красивом праздничном наряде: шерстяная клетчатая понева с бахромой, вышитая рубаха — в ромашках и полсапожки с резинками. А на покатых и широких плечах ее расстилался драдедамовый пунсовый платок.
— Что петь будешь? — спросил ее регент.
— «Травушку».
Митрохин задвигал ногами. В ящике засипело, словно там тяжело дышал уставший человек. Длинные руки регента вылезли из-под крылатки, тонкие пальцы пробежали по черным и белым клавишам: они что-то искали в высоком ящике и — нашли. И Стешка, притопнув три раза острым носком правой ноги, затянула протяжную, грустную песню:
Я ли в поле да не травушка была,
Я ли в поле не зеленая росла;
Взяли меня, травушку, скосили,
На солнышке в поле иссушили.
Ох ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!
Димка никого не хотел теперь видеть в душной людской: ни барина, ни плотной и такой жаркой толпы, сбившейся возле стен и у двери. Ему нужна была лишь одна Стешка, ее задушевные слова, ее сильный и звонкий молодой голос. Но почему-то нужен был рядом со Стешкой и этот одноглазый регент: он подправлял песню, вел ее вперед, и она звенела, как он хотел, и ширилась, и плакала. И Димка всем своим существом понимал, что была Стешка зеленой травинкой и стала душистым сеном; была пшеничушкой, да срезали ее серпом и положили в сноп; была стройной калинушкой в поле при дороге — поломали люди, в жгутики посвязали; была счастливой доченькой у батюшки, как нарядный цветочек! Так взяли ее в неволю, повенчали с седым немилым мужем! И снова плакал припев, от которого перехватывало в горле: «Горе мое, горюшко! Знать, такая моя долюшка!»
Мужики и бабы не знали, что делать: кричать, плакать, смеяться, хлопать в ладоши? И они молчали затаив дыхание. И в необычной тишине, которую принесла под конец эта Стешкина песня, раскатисто загремел голос Митрохина:
— Эх, Степанида! Был бы я помоложе да при двух глазах, пели б мы с тобой, красавица, в Белокаменной!
Стешка зарделась, схватила шушпан и припала счастливым лицом к плечу подруги. Мужики и бабы весело загалдели, барин махнул платочком.
— Берем, берем! Кто следующий?
После Стешки было мало охотников. Но две бабы вызвались и крикливо — с надсадным визгом — пропели по частушке. Да и мужичьи голоса не пошли в счет: кто хрипел от застарелой простуды и едкого самосада, кто скрипел, как немазаная телега, и никак не мог попасть в тон.
Взяли только Гришу. Он лихо прокричал «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья», словно его и впрямь задумали взять в солдаты. И регент сказал, что с такой глоткой вполне можно петь в хоре, но стоять надо на втором плане, возле театрального задника на сцене.
Барин не очень огорчился этой неудачной пробой и переметнулся в школу. В старших классах ребята знали грамоту, и при виде нотной бумаги с точками и закорючками у них не мельтешило в глазах.
Посулил барин мальчишкам и девчонкам по алтыну за спевку, они и убежали из школы. И каждое утро горланили теперь в людской. Управлял ими Митрохин. И так повернул дело, что они липли к нему, как мураши к свежему меду. В перерыв начинал он с ними небывалую в селе игру. Посадит мальчишку на табурет да как глянет на него страшным черным глазом, тот голову набок и — спит; а во сне проделывает всякие штуки, как Митрохин скажет: сено косит, руками под берегом раков ловит, от пчел отбивается: то-то весело!
Как-то заглянул на спевку любопытный дед Лукьян. Увидал, что Митрохин проделывает, и сказал:
— Спробуй-ка и меня, господин певчий. Ну-тка, я и не поддамся!
И чего только не выделывал перед ребятами старый солдат! С березовой метлой «на караул» стоял, отбивал лаптями парадный гусиный шаг, лез на стенку — штурмом брал турецкую крепость!
А благочинный в это время был в отъезде в селе в Медынцеве. Там совсем спился молодой поп на масленой: рясу снес в монопольку и хотел сменять на водку престольную чашу от святых даров. И благочинный, как старший в округе поп, прихватил с собой трех священников из окрестных сел и устроил суд над пьянчужкой. И здорово прищучил его: заставил три недели кряду класть поклоны перед алтарем — сто раз на дню бить себя в грудь и посыпать голову пеплом.
А когда благочинный вернулся домой да увидал, что творилось без него в людской у барина, коршуном налетел на регента:
— Креста на тебе нет, Митрохин! Срам какой: великий пост, прихожане повсеместно о душе пекутся, а ты тут песенки про любовь разводишь да сеансы гипноза устраиваешь! Я тебя согну в бараний рог! Ты у меня наплачешься! Сейчас же отпусти детей в школу!
— Увольте, отец Алексей! — заюлил Митрохин, припадая губами к пухлой руке благочинного. — Я человек кругом подневольный: вам пою на клиросе, и хор у меня справный. А тут — барин. С него и спрос.
— Ну, я и с ним поговорю! — пригрозил благочинный. — А вы, — он навел бороду на притихших ребят и поднял над головой трость с набалдашником, — живо в школу! И про всякое баловство забудьте!
Людская мигом опустела. Отец Алексей, сердито засаживая трость в посеревший весенний снег и придерживая над лужами длинные и широкие полы тяжелой шубы, направился в деревянный флигель, что стоял рядом с оранжереей, где круглый год зеленели или цвели кусты, а сейчас, сквозь рамы, золотились лимоны. Во флигеле и жил барин с двумя девчонками и со своей Варварой, которую не допускала старая генеральша в белокаменный дом с широким балконом.
О чем шла речь у благочинного с барином, в селе об этом не знали. Только ребята стали бегать на спевку по вечерам, и все больше тайком. Барин передал сельскому старосте через управляющего, что надумал он строить новую школу, на выгоне, ближе кладбища. И школа эта не простая, а в честь трехсотлетия дома Романовых. Театр же откроется не постом, как обещал барин, а на третий день пасхи.
В страстную субботу дед Семен истопил баню. Вымылись мать с отцом, дед Семен, принарядились и пошли ко всенощной. А Димка попарился с дядей Иваном и с ним остался встречать праздник дома.
После великого поста — а дед Семен соблюдал его в семье по всей строгости — у Димки и дяди Ивана глаза разбегались от богатого застолья: пирамидой высилась сырная пасха; на тарелках, где недавно пустил зеленые усики молодой овес, разноцветным кушаком лежали крашеные яйца; янтарным жиром исходил горячий окорок, запеченный в тесте; так и манили к себе сочные пироги с капустой.
— Что ж, начнем помалу? — Дядя Иван поставил на стол пузатый графинчик с водкой. — Для тебя с мамкой где-то есть у деда Семена наливочка, — он поднял крышку коника и достал бутыль, в которой на дне сбились в кучу побуревшие вишневые ягоды.
— А как же боженька? — Димка глянул на горящую лампаду, на образ и, тяжело вздохнув, проглотил слюну. — Он же еще не воскрес?
— С богом я договорился, — шутил дядя Иван, разливая вино в рюмки. — Он мне и сказал: «Живи, Иван Иванович, меня понапрасну не задевай, ни к селу ни к городу не божись, гадких слов обо мне избегай. Сделаешь так, и не буду тебя замечать. А в церковь ходи: хоть раз в году, на четвертой неделе поста, и сдавай все грехи благочинному».
— А почему так?
— Бог далеко, и что ему за нужда нас с тобой из-за всякой мелочи бить перстом по макушке? А поп близко: за каждым глядит, все видит, блюдет закон божий. И чуть что выйдет ему против шерсти, сейчас же за стол сядет, перышко обмакнет в чернила, кинет письмо в почтовый ящик к господину Терентьеву Петру Васильевичу, и — пропал твой дядя Иван не за понюх табаку. Так что, племяш, с богом и ты когда-нибудь договоришься, а попа, станового или исправника — за три версты обходи. Дед Лукьян правильно говорит: с царем не бранись, с барином не дерись, а попа не подковыривай. Особливо такого, как наш благочинный… Ну, за твое здоровье и… с праздничком!
Дядя Иван выпил, закусил и завалился спать, а Димка побежал на площадь. Пять мужиков притащили из церковной сторожки короткую медную пушку, зарядили ее, и кузнец Потап, щурясь и далеко отставляя руку, тронул горящим факелом кучку пороха у запальной дырки. Громовое эхо отозвалось в барском саду, в просторных окнах каменного дома старой генеральши и под церковной крышей.
В глубине церкви, за распахнутыми и ярко освещенными вратами, под плясовой мотив грянул хор Митрохина: «Святися, святися, новый Иерусалиме, слава бо господня на тебе воссия!» Кто-то громко крикнул за оградой: «Христос воскрес!», и сейчас же затрезвонили все одиннадцать колоколов на высокой стрельчатой колокольне.
Мужики стали христосоваться, вытирая рукавом усатые рты. А у Димки заныло, завело ниже пояса. Он ухватился за живот и со всех ног бросился в нужник.
Что ни делал с ним дядя Иван — не помогло. Димка корчился на своей кафельной лежанке и, когда схватывало невмочь, кричал уныло и жалобно:
— Ой, мама! Ой, мама, живот!
Пришла мать — радостная, сияющая, с куличом, завернутым в чистый белый платок. Ласковыми руками перенесла она своего Димушку в постель, легла рядом — такая чистая, добрая, мягкая, теплая, — провела легкими пальцами по разметавшимся волосенкам сына, погладила ему животик и замурлыкала, как в том, уже далеком, первом детстве, когда он так любил засыпать под ее колыбельную песню.
— Ты совсем, мамочка, святая! — Димка обнял мать, прильнул щекой к ее груди.
— Каждая мать святая! Она живет вот для такого мальчика, как ты!
Но Димка уже не слышал: он приласкался и забылся.
На первый день пасхи Димка отважился покатать крашеные яйца перед домом, но скоро вернулся, и — вовремя! На другой день побегал по площади, гоняя лапту с ребятами по едва зазеленевшей травке возле барской ограды. А на колокольню, где звон стоял с утра до поздней ночи и где Колька что-то кричал ему, просунув голову между балясинами, не полез. Но к театру он успел: мать догадалась напоить его крепким кислым отваром из лесных диких груш и кинула в питье дубовую корочку.
В яблочном сарае ставили пьесу «Эрос и Психея» — про какую-то длинную, горячую и нежную любовь. Но не это захватило Димку. Было ему невдомек — зачем говорят стихами, когда можно сказать по-простому. И никак он не мог понять: почему не мерзнут на сцене почти голые актер и актерка — в белых рейтузах, плотно облегающих ноги, в легких невесомых плащах из марли, и даже на их лицах полыхает яркий румянец? А все зрители — в чистых праздничных одеждах притопывают ногами: пол земляной, к вечеру подморозило, и в любую щель сарая вползал холодок.
А еще было смешно, что артист, которого недавно доставили со станции, как загулял в первый день пасхи, так и не очухался. Он даже стоять не мог и где-то лежал за кулисами на топчане. Но когда Митрохин подавал ему знак, он все же рычал, да так густо, что на сцене моргали керосиновые «молнии».
Иногда вступал хор, и ребята пели согласно. Но самым знакомым во всей этой пьесе был чистый и задушевный голос Стешки.
Дед Семен сидел завороженный, и ему было приятно, что на высоких помостках, где он укладывал доски и забивал гвозди, идет такое чувствительное действо. Он и вздыхал, и старался подавить смешок, и смахивал в бороду скупую слезу: на его лице отражалось все, что говорили и делали актеры на сцене. Он не отводил глаз, словно пристально подглядывал в раскрытое окно чужую жизнь, сотканную из любви: из больших радостей и сильных огорчений.
По дороге домой он даже позавидовал той чужой жизни.
— Эх, как ловко живут люди! И трудиться не надо: одна у них сладкая и горькая любовь! А захотят пожрать, так мигом подадут им боги або слуги, что хошь, и — на подносе!
— Плетешь невесть что! — вставил к месту дед Лукьян.
— Дык показывают, значит так бывает! А по правде, так без работы — это не жизнь! Топориком разомнешься, рубаночком намахаешься, пилой седьмой пот выжмешь: то-то любо! И на душе покой, простор, тишина! Прав ты, Лукьян: видать, эти байки не про нас. У нас, брат, по-иному: пошло дело на лад, и сам делу рад!..
 НЕПОЙМАННАЯ МОЛНИЯ
НЕПОЙМАННАЯ МОЛНИЯ
ОГНЕННЫЙ ШАР
Перед вечером навернулась гроза.
Дом трясся, и острый конус горящей лампады дрожал и качался, когда по хмурому небу проносился Илья-пророк в громыхающей огненной колеснице.
Мать закрыла дверь, трубу и самоварную вьюшку. А запахнуть окно дед Семен не дал. Он не боялся грозы и сидел у подоконника в холщовой рубахе, без пояса. Самовар он повернул краном к себе и наслаждался горячим чаем, вытирая рушником волосатую грудь и багровые щеки, густо усеянные капельками пота.
Громко прихлебывая с блюдца и подставляя разгоряченное лицо свежему ветру, он приговаривал с восторгом:
— Ай да гроза! Ну, гроза! Годов двадцать такой не бывало!
Мать прилегла в горнице. «Небось укрыла голову подушкой, а то как трахнет, так и сердце обрывается», — решил Димка. А дед Семен рассудил иначе: тяжело Аннушке ходить к концу срока. Да и слышал он, как говорила она ночью своему Алексею: «Ой, боюсь, Лешенька, не донесу! Чует мое сердце!»
Димка давно бы отвалился от стола, да крепко приманил его дед Семен: выставил первую корчагу с липовым медом.
Пчел он так и не купил: и денег не было, и все недосуг — барин крутился в селе, подвертывалась всякая мелкая работа.
А принесла этот мед дикая пчелиная семья, которую удалось поймать и посадить в улей.
Недель пять назад Димка увидал клубящийся рой в небе над садом и завизжал так, что пчелы заметались между деревьями, не зная, где притулиться. Дед Семен примчался с ведром и с веником. Он прыгал над грядками моркови, как заяц, и все старался попасть брызгами в летящий шар. А когда матка села на толстый сук груши и ее сейчас же окутали живым слоем тысячи пчел, дед и внук притащили лестницу, дымогар и ловушку.
Дед Семен устроил пчел в новый улей, послушал, как глухо жужжат они в своем красивом тереме, и сказал тогда:
— Во темной темнице красны девицы без нитки, без спицы вяжут нам вязеницы! Молодец ты, Димка, не промахнулся!
А сейчас, за столом, Димка важничал: как-никак, а ведь он помощник деда в таком значительном деле! И, конечно, имеет он полное право макать и макать корочкой черного хлеба в янтарную, густую и липкую сладость.
Дед лишь поглядывал с укоризной на его проделки и покачивал головой: было ему не с руки давать щелчка своему помощнику, хоть и негоже торопился он за столом.
И решил дед взять хитростью:
— Должно, воску наспех наглотался. Так и давит под ложечкой, совсем как у тебя на пасху.
Он перевернул вверх дном поместительную белую чашку и уже раскрыл рот, чтобы сказать: «Вот и бог дал, почаевали!», как за окном
упала зеленая стрела и грохнуло так, что заплясала конфорка на самоваре. И случилось такое, что даже дед Семен развел руками и — окаменел.
Упала в лопухи та зеленая стрела, и в раскрытое окно плавно вкатился огненный шар: золотой, как солнце, с тонким синим ободком. Он прошел мимо дедовой бороды, вздрогнул над самоваром, как студень, выправился и поплыл по кухне, как пух, легкий и послушный ветерку. Сунулся к загнетке, обошел печку с угла. Зябко дрожа, повисел немного у входной двери. Потом покачался над самоваром и повис в окне.
Тишина наступила такая, как в глубоком погребе.
Вдруг крикнула мать:
— Что у вас? Чего притаились?
Она выглянула из двери, что вела в горницу, увидала огненный шар, застонала и вдруг упала на пороге.
А дед Семен и шевельнуться не мог: он только удивленно вскинул лохматые брови и скосил на дверь страшно испуганные глаза.
Огненный шар повисел, повисел в окне у самой бороды деда Семена, выплыл в окно, и притянуло его к яблони.
Взрыв был такой силы, что погасла лампада, зазвенели чашки и с потолка посыпалась чердачная тырса — пыль и опилки. В ушах у Димки заныло, и он свалился с табуретки. Дед Семен оттолкнул ногой табуретку, подбежал к матери, взял ее под мышки, поволок на кровать:
— Скорей беги за дядей Иваном! Мать помирает!
Он крикнул и забегал по кухне, стал ставить заново самовар.
Димка накинул на голову рабочий фартук деда и под проливным дождем побежал по мокрой и скользкой тропе.
— Пронеси! Пронеси! — шептал он, всхлипывая.
С ужасом думал он о той беде, что нависла над матерью. И понимал, что с дядей Иваном надо вернуться быстрей. И он не бежал, а летел: ноги едва касались мокрой земли, огнем жгло в глотке, кулаком стучало под ребра сердце.
И страшной грозы, из-за которой он свалился с табуретки, будто и не было, хотя она все разбрасывала и разбрасывала искры над селом и грохотала так, что Димка не мог слышать, как громко шлепают на бегу его босые ноги по залитой водой тропе.
Дядя Иван прибежал без картуза, с маленьким чемоданчиком.
— Жива? Жива? — крикнул он с порога горницы и закрылся в комнате с дедом Семеном.
Димка скинул мокрую одежонку, накрылся на печи тулупом. «Жива-жива! — отдавалось у него в голове. — Жива-жива!»
Он обсох, разогрелся, и потянуло его ко сну. И уже сквозь легкую дрему слышал он, как суетился дядя Иван возле рукомойника, как дед Семен выносил таз во двор и снова гремел самоварной трубой.
И где-то далеко-далеко чуть слышно застонала мать. Дядя Иван зачем-то захлопал в ладоши и запел:
— Уля-ля! Уля-ля!
Дед Семен закатился смехом и что-то вставил про другого внука. И сквозь их голоса прорезался громкий, острый писк, словно в горнице замяукал котенок.
Димка дремал, дремал и заснул. И не слыхал, как вернулся отец из города.
А утром окликнула его мать. Он подошел к ней, поцеловал ее в горячую щеку.
Мать лежала больная, но улыбалась. И легонько приоткрыла одеяло: на подушке, повязанный, как девчонка, сердитый, с крохотным носом, похожим на лесной орех, чмокал губами совсем маленький человечек.
— Братик! — ласково сказала мать.
— Братик, братик! — Димка запрыгал на одной ноге, покружил по горнице, выбежал на крыльцо. — Колька! Скорей! Иди братика глядеть!
Колька прибежал босиком по холодной росе, шмыгнул носом, по привычке поддернул штаны:
— Большой?
— Какой там: от горшка два вершка!
Посмотрели малыша, пошли к деду Семену. Он был в саду, возле яблони, в которую угодила молния.
Молодая, но сильная боровинка сверху донизу была расколота по кривой линии. Изуродованная одна ее половина еле держалась корнями за землю и белела ободранным боком. А другая, примяв траву, валялась на земле. Дед Семен обрезал сучья. Все яблоки облетели, и только в середине кроны чудом уцелело одно маленькое яблочко, еще не разрисованное красными продольными мазками.
— Вот это да! — сказал Колька, осторожно топчась на месте, чтобы не придавить сбитые яблоки. — Мо́лонья, значит?
— Да! Шаровая! — ответил дед. — И слава богу, что хоть так! А ударила бы в кухне — и не видать тебе дружка: завтра ел бы блины на его поминках.
— А вы бы, дедушка, в горшок ее споймали! Жила бы она там и светила, когда надо. Все лучше керосина!
Дед Семен раскатисто захохотал, согнул крючком указательный палец на правой руке. Колька знал про этот дедов жест и смекнул, что хватил лишку, но не сдавался.
— Да вить, говорят люди, что освещаются в городе электричеством.
— Э, милай, только не из горшка! Как это делается, не знаю, а в городе сам видел: пузырик висит на проволоке, и кругом от него свет. А доживем ли мы до такой поры, чтоб и у нас было, не ведаю, — вздохнул дед.
Колька насупился и выставил крутой лоб, над которым, как смеялись ребята, телушка зализала ему цветок на русых волосах, недавно остриженных лесенкой с боков и на затылке: он думал.
— Пойдем по грибы, што ли?
— Беги за корзиной. Я сейчас.
Димка сходил в амбар и скоро вернулся: с ножом и плетенкой.
ВСЯКАЯ НЕЖИТЬ И РАЗБОЙНИК КУДЕЯР
— Завалиться бы в Брынский лес, вот где рай! — размечтался Колька, едва поспевая за Димкой по садовой тропке. — Глядишь, ты и лешего бы там увидал!
Счастливый этот Колька: «дедку» видел — домового — в ночь под пасху. Пошел по нужде в хлев, а он там на сене прохлаждается. «Косматый, — говорит, — и все!» А других примет не сказал: память отшибло начисто! И угадал под пасху узреть: это же к счастью! А в другой бы день — совсем плохо!
Лес был очарованным краем: он манил и пугал. И когда молочные братья шли туда одни, лезла им в голову всякая чертовщина.
В небольшом лесочке вокруг села лешего не было: это человек совсем чужой, из дремучего бора, где и в ясный день — потемки! Так-то оно так!.. А вдруг забежал он на денек и сидит себе в том сыром и темном овраге, где надо брать красноголовые подосиновики? Такого трусу спразднуешь, что и в штанах будет мокро!
Русалок тоже нет: в речке — неглубоко, а они все больше на яру, под мельницей, в омуте. И водяной, сказывали, перебрался в Жиздру. А раньше был. Это точно! Только Омжеренка мала для него. И по берегам, где есть неплохие грибы — чернухи, ходить можно смело… Так-то оно так!.. А глядишь, другую нежить встретишь: полевого, к примеру. Ведь придется переходить из малого леса в лесок побольше. А дорога ведет там ржаным полем.
А Брынский лес — это мечта! Там и разбойник Кудеяр. Он грабит купцов, цыган и всяких лоточников, которые приходят в село с мелким красным товаром.
Этим летом раздели одного лоточника. Языкастый такой ярославец, все, бывало, дразнился. Увидит мальчишек и — давай:
«Эй вы, аршинники калуцкие! Научите по-вашему тараторить: «Щогол щаглуя на асиновом дубу да как васкагуркне! Ха-ха-ха!»
Отняли у него лоток и — поделом! Не будет зубы скалить. А то, бывало, только и слышно: «Зеркала! Помада! Ленты-бантики!» Крикун!..
Но в Брынский лес не подашься! Страшней лешего глинские мальчишки: задиры, головорезы, на троицын день даже в церковь приходят с ножами. И в драке всегда первые: изобьют и корзинки отымут!..
Так вот и крутились в голове у Димки разные мысли, пока он вел Кольку в лес и завернул к заветной липе.
Липа наклонно стояла на крутом спуске к ручью и была тайным гнездом маленьких сельских «разбойников». В густой ее кроне сиживал тот, кто честно играл в Кудеяра: не грабил бедных и приносил сюда то, что удавалось украсть у богатых или просто найти в ничейном месте.
Это был вертеп и заманчивый склад сокровищ. Здесь зарождались все озорные и опасные набеги. И если кому-либо из сверстников Димки или Кольки влетало ремнем, виноваты были дела, задуманные на этой липе.
Наместником Кудеяра был любой «разбойник», на сменку. Сейчас подошла Димкина очередь, и он должен был проверить, все ли цело в дупле, под второй веткой, где затычкой служила плоская сосновая щепка.
— Давай! — Димка прошел по стволу. А когда над бездонным оврагом стала кружиться голова, полез он на четвереньках, как медвежонок.
Колька — за ним. Все выше и выше, по крутобокой шершавой лесине, давно обсиженной тощими задами.
Все было на месте: глазурованные черепки из барской усадьбы, красные и синие стекляшки из разбитого церковного окна, грузный — в зелени — екатерининский медный пятак, весь набор для игры в бабки — и битка, и литок, и гвоздарь и шлюшки, пробки из монопольки, карандаш из лавки, пуговица от мундира почтмейстера и всякая прочая мелочь.
— Серебра нет! — вздохнул Димка. — У Кудеяра небось полным-полно, кошели ломятся.
— А где его возьмешь? — поддержал разговор Колька. — Я вон по яблоки сбегал, так и досе зад болит!
В прошлом месяце Кудеяром был Колька. Ребята постарше сговорились отрясти под вечер очень сладкую грушу в саду у благочинного. И Колька — «разбойник», «хозяин вертепа» — вызвался сидеть возле липы с запасным мешком: мало ли что, глядишь, и понадобится! Но промахнулись ребята: сторож приметил их и метко выпустил в их спины заряд пшена. Страшно прогремел выстрел по окрестному лесу. И Колька дал такого стрекача по задворкам, что про мешок и думать было некогда.
Пшено вынимал из-под кожи дядя Иван, но ребят не выдал: почесалось у них два дня и обошлось. А Колька остался в ответе: нашел проклятый сторож тот мешок с меткой деда Лукьяна Аршавского.
Благочинный пригрозил деду пальцем, ну, тот и постарался: разложил на лавке раба божьего Николая и, конечно, всыпал ему. Хотел не больно сделать, да не вышло. Колька заголосил на всю площадь, и сам дед прослезился:
— Сирота ты, сиротинушка! Не надо бы мешка ронять! Из-за него и слезы льем! А благочинный — пес с ним: не обеднел бы с одной грушины!
Вертеп был осмотрен, пора и в лес, пока не обсохла роса.
За ручьем начиналась Лазинка — лесистый овраг, десятин на двенадцать, где попадались и сыроежки и всякие хорошие грибки.
Боровички, особенно маленькие, что появлялись на свет из-под мягкой подушки зеленого моха, страшно боялись взгляда. И Колька, заметив в зеленом сплетении молодых усов глянцевитую шляпку не больше гроша, кричал:
— Замри! И не гляди! — и отворачивал лицо в сторону.
И Димка знал, что через два дня тут будет красоваться упругий грибок на плотной ножке. Отец научил его беречь грибницу, и он срежет его ножом, а на сочной зелени моха останется ровный белый кружочек.
Грибы попадались разные, но Колька брал их плохо: проходил мимо подосиновиков, не замечал сыроежек и маслят, а одного чернуха, холодного, как лягушка, нечаянно придавил босой ногой.
— Темно, что ли: вижу плохо. Солнце сядет — совсем я слепой. Вчера после грозы на двор пошел — башкой об дверь стукнулся. С чего бы это? — спросил Колька.
— Так совсем-совсем ничего и не видишь?
— Да.
— Курячья слепота. Так дядя Иван говорил. И у Витьки было. Заставили его кажин день морковь грызть, и прошло. Приходи ужо-тко: нарвем. Дед Семен не заругается.
Выбрались на опушку, сели среди ромашек. Под ясным синим небом вдали холмился горизонт и дрожал от зноя. По суглинку тянулись к речке узкие полоски невысокой и редкой ржи, где привольно цвели васильки и чернел куколь. Только на обширном барском поле хлеба стояли стеной: чистые, колос к колосу, и сочные стебли — с матовой синевой. Да ведь у барина пахали плугом и навозу кидали вдосталь!
— Смеется дед Семен про горшок с молнией, — задумчиво сказал Колька, — а электричество где-то есть. Горит себе пузырик и светит, как солнышко! Вот бы нам: не сидел бы и я слепой. А то моргасик коптит, ничего не видать: того и гляди ложку мимо рта пронесешь.
Колька размышлял о таких делах, которые никак не лезли в Димкину голову. И он молчал, разглядывая давно сбитый ноготь на левой ноге и застрявшую под ним былинку.
— А агронома помнишь? Он тоже на электричестве прикатил, — сказал Колька.
Еще бы не помнить агронома! Чернявый, курчавый, с колючими усами, шустрый. Осетин, что ли? Кидалов!
— Не забыл! — сказал Димка.
Они сидели тогда на изгороди возле околицы, болтали босыми ногами и ждали с товаром Олимпия Саввича. В тот день Димка был Кудеяром, и пронеслась у него в голове легкокрылой и быстрой птицей дерзкая мысль: а не ограбить ли этого толстого лавочника? Конфеты раздать малышам, которые ждут не дождутся сладкой ландринки.
Подумал, устрашился, даже дух перехватило. И Кольке не сказал. Куда там: лавочник — не по плечу, огреет ременным кнутом по лопаткам, света не взвидишь! Да и начальник он не маленький — сельский староста.
И сидели «разбойники» и ждали, когда придет пора распахнуть ворота и получить по копейке или горсть леденцов. За этим лавочник никогда не стоял, коль делали ему уважение сам Кудеяр и его верный друг!
Над дорогой повисла пыль, но показалась не подвода, а какой-то дядька. Сидел он не то на колесе, не то на палке, гремел на всю округу и подскочил так быстро, что «разбойники» только слетели кубарем с изгороди, а убежать не успели.
— Что ж вы, чертенята, труса празднуете? — весело крикнул дядька. — А ну, открывайте! Да поживей! — И кинул на дорогу пятак.
Дрыгнул левой ногой, и самокат, дымя и фыркая, запрыгал по колдобинам возле Обмерики. А «разбойники» мчались рядом — вдоль барской усадьбы, мимо церкви, прямо к дому, где отец и дед Семен уже приглядывались из-под ладони. Из соседних изб бежали люди, словно поднятые на пожар набатом.
Агроном Кидалов оказался другом отца и пробыл в гостях четыре дня. По утрам седлали ему коня, и он уезжал за речку, за Омжеренку, где разбивали большой огород для старой генеральши. А по вечерам ходил с отцом ловить рыбу, играл в шашки с дедом Семеном и спорил с ним про какую-то новую грушу.
— Вот вы хотите назвать этот сорт «Александр Второй». Зачем же царя за усы притягивать, Семен Васильевич? Что он вам — кум? Сват? Вы говорите: из уважения, — он мужикам волю дал. Хороша воля! Пять душ у вас в доме, а сидите без земли! И привезете во двор один воз ржи. Царь, царь! А кровавая каша на Ленских приисках? Вы что, забыли о ней? Народ по городам распрямляет спину, пора бы и вам гнать из своей души верноподданного мужика!
— Свят, свят! — крестился дед. — Да за такие слова: ай-ай-ай! И слушать страшно!
— Скоро привыкнете! А грушу свою назовите «бера», как у нас на Кавказе. И меня добрым словом вспомянете, и будет у вас на сердце куда легче!
И дед прислушался к словам агронома и назвал грушу, как тот советовал.
Иногда агроном катал мальчишек на своей тарахтелке. Колька очаровался самокатом и вспоминал о нем даже поздней осенью, когда рубчатые следы его на земле давно смыло дождем.
Электричество, машины, техника — все это было в каком-то ином, чужом мире. А у себя в селе Колька довольствовался тем, что бегал смотреть молотилку на конном приводе в барской усадьбе или ручную веялку на току у благочинного. Да еще на почте можно было видеть, как Петр Васильевич, сидя в очках за проволочной сеткой, отбивал ключом на телеграфе какие-то точки-тире.
Когда вернулись из лесу, Колька сказал:
— Барские девчонки вчерась в телефон играли. Давай и мы спробуем: я все подглядел.
В крапиве за барской баней Димка с Колькой нашли две жестяные банки. Пробили в донышке по дырке, протянули длинную суровую нитку, навощили ее и стали разговаривать, не видя друг друга: Димка — с чердака, Колька — со двора.
— Как работает телефон? — крикнул Колька.
— Хорошо!
— Ну, скажи что-нибудь, да потише.
— Травка зенелеет, солнышко блестит.
— Чего, чего?
— Погоди, сбился. Травка зеленеет, солнышко блестит, — шептал Димка.
— Не слышу!
— На дворе трава, на траве дрова, — болтал Димка, видя перед собой и траву и дрова, сложенные под навесом в высокие поленницы.
Телефон бездействовал.
Димка высунул голову в слуховое окно, Колька сел на полено. Держа в руках телефонные банки, они вели простой, обычный разговор: завтра надо махнуть в ночное, а потом за сеном; скоро жать рожь: полоски-то рядом. А еще надо отцу сказать: пускай ворону застрелит, вывесим чучело. А то совсем замучили дубоносы: сидят на вишнях, знай клюют. И целый день кидай в них камнями!
Наговорились, сошлись на крыльце.
— А в «разбойников» лучше играть. Телефон — это скучно! — зевнул Димка.
— Эх, забыл! Ребята стали барскую лодку растаскивать. Не опоздать бы и нам сбегать! — предложил Колька.
Эту барскую лодку всю зиму клепал на берегу Жиздры кузнец Потап с каким-то механиком. И получалась она, как корабль: двенадцати аршин длиной, пять — шириной, и такая высокая, хоть чурбак подставляй, а то и не влезешь.
После пасхи поставили руль, навесили мотор, и в половодье прокатился барин до Козельска: весь уезд взбаламутил!
Говорили мужики, что загулял он в городе во весь размах: даже квасу не хватило, чтоб опохмелиться! Но башки не потерял: вернулся по большой воде, на мели не сидел. Привез в бездорожье водку Ваньке Заверткину для монопольки, какой-то товар в лавку Олимпия Саввича, новый подрясник для благочинного, и все.
Потом пять лошадей цугом да на деревянных катках тащили тот корабль в барский сад. Там и оставили его без присмотра, возле яблочного сарая, где ранней весной приезжие артисты играли пьесу про любовь.
Налет на корабль прошел гладко, только Димка весь перемазался маслом, а Колька разрезал палец. В дупло Кудеяровой липы поместились болты, гайки и какие-то трубочки.
А ремень пошел на подметки. И это было самым ценным из того, что мог предложить двум разбойникам новаторский гений барина!..
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
На рассвете все село кинулось убирать хлеб. Мужики, которые не ушли в отход на заработки или прибежали на недельку домой, спешно косили рожь, а бабы двигались следом и вязали ее в снопы.
В ясную, теплую ночь еще раздавалось не очень согласное пение на ближайшем поле, за кладбищем: там сообща довязывали хлеб. И на всем широком пространстве вокруг села падала от луны тень крестцов, похожая на большую перевернутую чашечку зрелого мака.
А на другое утро почти все потянулись к барской усадьбе: отрабатывать за деньги, забранные в долг с рождества, с масленой недели или с пасхи. Торопились: с узелками, с серпами. Бабы несли грудных детей. Девки шлепали босиком, обмотав онучей икры, чтобы не наколоть кожу острым жнивьем.
Не спешил лишь благочинный. У него были проворные испольщики из соседней деревни, да и с барином он не вел долговых расчетов. Не торопились и деды — Семен и Лукьян. Дед Семен был по уши в долгах в прежние годы, когда рубил хату, но отбился от барина рукомеслом. А Лукьян, которому управляющий не дал бы и гроша в долг, помаленьку промышлял колотушкой: тук-тук, и пятак в кармане!
Рожь убрали деды в один день: по четыре копны в пятьдесят два снопа. Димке с Колькой дали побаловаться серпом, и они принесли на стан по охапочке стеблей, срезанных кое-как, с вырванными корнями.
Хлеб не стали держать на поле, и Красавчик перевез снопы домой за четыре ездки — к себе и к Лукьяну.
Возле сарая отец острой лопатой обновил небольшой точок, заросший подорожником. Но хлеба было так мало, что он сказал деду:
— Видать, батя, не стоит овчинка выделки. Ей-богу! Своего хлеба и до рождества не хватит. Придется подкупать. И что тебе за нужда на такой бесплодной плешине каждый год сохой ковыряться? Развел бы пчел! Купил бы улья три, как хотел.
— Да что ты! Не могу я от земли оторваться, хоть сколь ее ни будь! Пускай хоть четыре копны, а свои. Как же мужику жить на свете без своей новины? Все ее ждут, как светлого дня. А я чем хуже? — сказал дед и уже не так уверенно добавил: — И скотине солома нужна. Нельзя без соломы. И Димку надо приучать к делу. Я ему и цепочек легонький смастерил.
Отец не напирал. Сам он давно оторвался от земли, и не в радость было ему таскаться весной или осенью за Красавчиком и за сохой по маленькому полевому клочку суглинка.
Правда, он еще ковырялся в огороде, и это ему нравилось. И на досуге помогал деду окучивать яблони, обмазывать их стволы известью. А к пчелам и не подходил.
Самым значительным днем было для него двадцатое число каждого месяца, когда он получал в школе свои восемнадцать рублей — золотыми пятерками и бумажными кредитками.
Он приносил деньги, отдавал их матери, оставив себе лишь шестьдесят четыре копейки на два фунта получистого турецкого табака, и мог идти по ягоды, по грибы, на рыбалку или на охоту. И если бы дали ему полную волю, купил бы он хорошее ружье и собаку. Мечтал он о легавой, об ирландском сеттере — с длинным и лохматым коричневым хвостом, но, на крайний случай, обошелся бы и гончаком: ходить за зайчишками, за лисой. Но и ружье и собака были, как говорил дед, не по деньгам.
А деду Семену была в радость всякая работа в саду, в поле и в огороде. Он переворачивал на грядке первый пласт отдохнувшей под снегом земли — жирный, ноздрястый, в белых корешках сорных трав, и улыбался работяге червяку, нырявшему от солнечного света в глубокую и темную ямку. Он смазывал известью ствол яблони — корявый, в трещинах — и нежно разговаривал с почкой, сложенной в кулак и далеко запрятавшей в зеленый и серебристый панцирь розовые лепестки веселого и нарядного цветка. Он ставил палочки для сахарного гороха, жадно раскинувшего зеленые цепкие усики. И когда усик прямо на главах обвивался вокруг палочки, он журил его — тихо, незлобно: «Рад дурак, что дурня нашел. Ну, живи, живи!» А свежий огурец — холодный, в капельках росы, шершавый, как терка, — нес он в дом на широкой загрубевшей ладони, как хрупкого птенчика, нечаянно выпавшего из гнезда.
В конце лета спокойно и важно дед Семен собирался на сев ржи: топил баню («хлебушко любит чистые руки»), надевал свежую рубаху с портами и смазанные дегтем яловые сапоги («надо все чин по чину, как в праздник») и примерял легкое — из тонкой липовой пластины — чистое лукошко на широком ремне.
И ходил по вспаханному полю, разбрасывая зерно правой рукой под левый шаг. И лицо его светилось, а в седой бороде пряталась счастливая улыбка, словно совершал он великое таинство.
Это шел ладной поступью человек, и давал он своей земле самый угодный сердцу наказ: «Укрой, кормилица, зерно от недоброго глаза, от птиц, от мышей и взрасти всем на радость хлеб наш насущный!..»
И весь этот день ходил дед Семен просветленный, как с исповеди, и добрый, как старый и ласковый домовой, который приятно щекочет во сне и гладит голову легкой мохнатой рукой. Дед не лез в споры, только посмеивался, и у него можно было за полчаса — не больше! — выпросить копейку, чтоб купить в лавке стручок сладкого грецкого гороха.
Димка так и размечтался об этом сахарном стручке. Но сначала нужно было обмолотить хлеб.
— Вставай! Ишь, разоспался! — Дед Семен тронул внука за плечо, когда солнце уже вошло в силу. — Пойдем снопы на ток выносить.
Дед брал два снопа, Димка — один, и они расставляли толстых «баб», опоясанных перевяслом, колосьями к солнцу, на ток, уже подметенный новой березовой метлой.
Потом был завтрак: с молоком и обжигающей рот верещагой — большой горячей яичницей, в которой трещали, отдувались и корчились тонко нарезанные ломтики сала.
Вышли на работу все, даже братика принесли в люльке, прикрыли его от мух пеленкой и оставили в тени возле сарая.
Дед с отцом разложили два ряда, две веревки снопов — дюжина в ряд, колосьями в середину. Мать встала против отца, с боку, дед — в голове, и по команде «С богом!» согласно затюкали по надутым, толстым «бабам», которые вздрагивали при каждом ударе. А в садовой листве и в пустом сарае дружно отозвалось эхо: «То-то-мы! То-то-мы! То-то-мы!»
Каждый цеп бил по тому месту, где другой только что хлестал по нему, и удары — тяжелые и глухие — сыпались беспрерывно. Зерна влетали высоко в воздух и градом сыпались на веревку.
Димка слушал музыку молотьбы и возился с Полканом. Пес вырывался из рук, припадал к земле, прыгал, лаял на снопы и даже ухитрился перемахнуть через веревку под ногами у деда Семена. И дед, напруженный и ловкий, не нарушая ритма, как озорной мальчишка, поддел его носком под зад. И заплясал по колосьям, выбивая своим цепом тяжелое и грузное «мы». Мать ответила тоненько «то», отец погуще дал свое «то», дед крякнул «мы». И пошло опять: «То-то-мы», «То-то-мы», «То-то-мы».
Прошли с цепами по двум веревкам, снопы перевернули; прошли еще раз — перерезали серпом скрученные жгутом перевясла и начали отбивать солому.
Со стороны двора показались Лукьян и тетка Ульяна — застенчивые, словно невпопад забрели они к соседям на семейный праздник, поклонились работающим, пряча за спиной по цепу. Так уж принято: призывный звук на току влечет к себе, как и милая сердцу поющая жалейка — дудочка-сопелочка из толстой камышинки.
Гости плюнули на руки. Все встали по местам, подняли цепы и — начали! Втроем шли с одного боку веревки, часто притопывая ногами в лад и посылая цеп от головы, из-за правого плеча. А деды крепко стали бить из подмышки вкось по соломе, заставляя ее живей шевелиться и отлетать в сторону. И пошла по всему саду другая плясовая в пять цепов: «Че-ко-ту-шеч-ки!», «Че-ко-ту-шеч-ки!»
Братик проснулся и пискнул.
— Погляди, Димушка, мне недосуг! — бросила мать, не оставляя цепа.
А чего на него глядеть? Лежит, лупит серые глазенки, слушает и все хочет сбросить пеленку, которая закрыла ему весь свет.
— Угу, маленький! Агу! Че-ко-ту-шеч-ки! — припевал Димка, покачивая люльку.
Песня на току оборвалась. Мать запеленала братика в сухое. А деды с отцом и Ульяной подхватили солому граблями, вытрясли и убрали в сарай. Зерно сдвинули к середине грядкой, сделали боровок, на котором вразброс валялись тяжелые колосья с зернами.
— Эй, Димка! Бери свой цеп, пройдемся по боровку да стукнем по колоску! — весело крикнул дед Семен.
Отец закурил. Лукьян полез в карман за берестяной коробочкой с круглой липовой крышечкой. Насыпал зеленого табаку в ямку, где начинался большой палец правой руки, прикрыл одну ноздрю мизинцем и нюхнул так раскатисто и громко, что даже Полкан тявкнул и виновато замахал хвостом.
Димка, неумелый и робкий, уперся ногами в точок и полоснул короткой дубовой бильдюжкой по мягкому боровку, дед подхватил, и пошли: тук-тук! Но получалось несогласно и скучно.
— Гляди, малец! Раз! — Дед ударил цепом, рассекая грядку зерна. — Два-три! — Заносил он цеп за макушку. — Опять: раз! Не части, со счету не сбивайся, по порядку, как ходики тикают: два-три! Раз!

Скоро боровок рассыпался, легкие колосья — без зерна — стали мякиной. На току еще простучало «тук-тук, тук-тук!». И первый заход окончился.
Вечером, почти в сумерках, дед Семен широкой деревянной лопатой провеял зерно, собрал его холмиком, похожим на большую муравьиную кучу в Долгом верху. Отец помог ему ссыпать золотистое чистое зерно в мешки.
Рано утром дед Семен хотел махнуть на мельницу. Не терпелось ему отведать своей новины: каравая, выпеченного на горячем сером поду да на широких капустных листьях, и сладкого пирога с творогом. Ничего нет на свете вкусней этой новины из свежей муки!
Он уже сложил мешки на телегу по старому обычаю: завязкой к задку, разукрасил дугу голубой лентой, расчесал гриву у Красавчика, навесил между задних колес черную мазницу с дегтем и велел подавать завтрак.
Дед обещал взять отца с Димкой, и они ладили старую шомполку, запасали пыжи, порох, дробь и пистоны, чтобы поохотиться в лугах возле мельницы. Но вдруг за отцом прислали от благочинного.
Всякие такие штучки: вызов к попу, в волостное правление, к уряднику — настораживали, пугали и злили. И в доме становилось смутно, как в растревоженной пчелиной колоде. А еще страшней была телеграмма. На Димкиной памяти пришла она прошлой осенью и принесла беду: умер мамин отец, калужский дедушка Иван, который так и не повстречался со своим внуком из далекого села.
Отец накинул пиджак, ушел, но скоро воротился.
— Благочинный велит мальчонку крестить. Я ему говорю: слаб он еще, родился до срока, греем его в вате, чтоб не застыл. А он свое: «Никто еще не умирал от святого крещения! А беспорядка в приходе я не потерплю!»
Мать послала Димку за дядей Иваном. Он шагнул через порог и раскричался:
— Сдурел благочинный! И чего это он в семейные дела лезет! Рано мальчишку в купель окунать!
— Ты мне обедню не порти, Иван! — Дед Семен, видно, все думал про свое: про новину, про мельницу, и опасался, что дядя Иван отговорит отца с матерью. — Ты вот горланишь, и в кусты. А ребенок наш, и нам с благочинным лаяться не резон. А может, он и прав? По теплой-то погоде воспримет малец крещение, и не придется тащить его осенью… Готовь, Анна, трешницу, а я, на скорую руку, пойду Лукьяна кумом звать: он и сам не раз навязывался. А Димка пускай за Ульяной сбегает: кого еще искать — баба вроде своя, по всем статьям аккуратная… Вот навязал нечистый этого благочинного! — пробурчал дед уже с порога. — У меня же зерно на телеге. Собирайтесь! — кивнул он Димке с отцом. — Окунем мальца и — на мельницу!
В полдень мать согрела самовар: боялась она, что дряхлый псаломщик, совсем выживший из ума, натворит при купели невесть чего — возьмет и нальет холодную воду из колодца!
Так с ведром воды, с братиком на руках, с кумой и с кумом двинулись в церковь — без гостей и свидетелей. Дядя Иван махнул на все рукой и ушел в больницу: знал он, что деда Семена не переспоришь!
В большой и высокой медной лохани, обтыканной по краям горящими свечками, псаломщик сготовил воду. Отец проверил: окунул туда палец, когда благочинный просовывал голову в ризу.
Димка томился. В церковь он ходил редко, обычно с мальчишками, и это было весело: дашь подзатыльник, получишь сдачу, выскочишь в ограду, заведешь возню.
А сейчас стоял он без баловства, и это было скучно. На мельнице и на охоте его ожидали самые простые мирские радости, и он жадно хотел их. А глядеть приходилось на грешников, которых по всей западной стене поджаривали и четвертовали в аду. Переводил он взгляд на другую стенку: хмурые, сердитые схимники впивались в него острыми, злыми глазами. И только над вратами зимнего притвора летал в золотых лучах веселый бородатый Саваоф, растопырив длинные сильные руки.
Кума стояла пунцовая и одергивала передник на высокой груди. Лукьян, совсем не к месту, часто шмыгал табачным носом и чем-то напоминал того грешника в сцене страшного суда, которого два дюжих цыгана с козлиными рогами усаживали на горячую сковородку.
Все молчали, только благочинный начал читать молитву, стоя лицом к купели.
— Отреклся ли еси сатаны? — вдруг спросил он, наставив бороду на Лукьяна.
— Э-э-э… — затянул перепуганный дед. — От-ре-кох-ся! — с трудом выдавил он из себя непонятное слово.
— И дуни, и плюни на него! — возвысил голос благочинный.
Лукьян задвигал губами, понатужился и ловко плюнул три раза через левое плечо. И растер плевок ногой.
— Сочетаваеши ли ся Христу? — нараспев и очень громко в пустом притворе спросил благочинный.
Лукьян захлопал глазами, потом уставился в потолок, на люстру.
— Со-че-та-ва-юсь, — проскрипел он и тяжело вздохнул.
— И веруеши ли ему?
— Верую, батюшка, верую! — обрадовался Лукьян, что можно сказать не по-церковному.
— Не торопись, Лукьян! Это тебе не с колотушкой. Читай — «Верую».
Розовая лысина старика покрылась испариной, пока он через пень-колоду бормотал, что верует во единого бога-отца.
— Видимого и невидимого, вседержателя и творца, — плел Лукьян и наклонял голову к деду Семену, который громко шептал молитву.
А благочинный не отвязался: заставил старика ломать язык трижды. И Лукьян украдкой смахнул пот с лысины, когда благочинный привычно подхватил братика и — раз, два, три! — быстро окунул его в купель.
Братик натужно кряхтел и выделывал кренделя, подтягивая к животу розовые пятки. Он схватился ручонкой за толстый палец благочинного и, тараща глазенки на огонь и улыбаясь, пускал пузыри.
— Облачается раб божий… — затянул благочинный, вытирая братика пеленкой и надевая ему распашонку. — Как звать будем, Семен Васильевич?
— В честь Сергея Радонежского, батюшка! — поспешил с ответом дед Семен.
— Раб божий Сергей!.. В ризу правды! — гремел благочинный.
А старый псаломщик уже петухом ходил возле деда и что-то ему нашептывал. Незаметным движением руки дед сунул ему сложенную в доли зеленую трешницу.
НА МЕЛЬНИЦЕ
Дед Семен не любил молоть рожь на ветряной мельнице, что стояла на развилке дорог недалеко от села: сиди жди ветра, да и скрипит она вся, и дрожит, жернов ходит не так справно. То ли дело мельница водяная на реке Вытебеть! И хоть далеконько она — почитай десять верст, а прямой расчет ехать туда. Это не самоделка с дырявыми махами, а настоящая машина: с колесом и лучшими жерновами по всей волости. А шепнешь мельнику, он тебе, по дружбе, такую мучицу выдаст: пух, сладость!
Веселой дорогой — через две деревушки, сосновый бор и покатое поле, где всюду белели рубахи, поневы, цветастые юбки и золотился хлеб в снопах и крестцах, — добрались быстро.
Но благочинный со своим «отрекохося», конечно, подкузьмил. Дед Семен потерял золотое времечко, и на мельнице было завозно; оглоблями вверх стояли десятки телег с мешками, над кострами коптились чайники с малиновым, с липовым настоем и грузные чугунные котлы с пшенным кулешом.
— Так что пропущу тебя за полночь, — сказал деду Семену мельник.
Дед остался чаевать с мужиками, отец с Димкой отправились на вечерней заре бродить по лугам.
Травы были скошены. И уже не кричали коростели, не носились над мочажинами легкокрылые чибисы. Пораньше-то, после весны или жарким летом, непременно бы встретили они тревожным криком «Чьи вы? Чьи вы?» и стали бы носиться над самой головой нежданных пришельцев.
Луга отдыхали: не бродили в них люди, не топтал их скот. И густая зеленая отава так шла в рост, что скоро снова можно было идти сюда с косой.
На маленьком озерке отец заметил стайку чирков. Он распластался на траве животом и грудью, погрозил Димке пальцем и быстро пополз вперед, опираясь на зажатую в руке старую шомполку.
Димка — за ним. Он полз, плотно прижимаясь к податливой мягкой зелени. А комары не дремали: опускались на шею, кусали в лицо, в руки, и отгонять их было неудобно. Но ведь охота! Значит, надобно и потерпеть!
Отец добрался до высокой осоки, венчиком обегавшей вокруг озерка, раздвинул ее стволом. Громко, щелчками, взвел курок, прицелился и нажал на спуск, рывком качнувшись назад от выстрела.
Сквозь дым, разогнавший комаров, Димка увидел двух уточек на воде: одна уткнулась носом, другая часто-часто хлопала правым крылом.
— Ой, папка, есть! — вскочил с травы Димка. — Дай я сплаваю!
— Попробуй! — Отец продул ствол, стал засыпать в него порох.
Димка скинул одежду, зябко вошел в воду до пояса и поплыл, как девчонка, часто и громко шлепая ногами.
Он добрался до чирков, но не знал, что делать. Взять в левую руку, так с одной правой не доберешься. Гнать лбом по воде, с двумя-то не управишься. Вот бы еще одну руку, как бы ладно! А отец сидел и посмеивался: было и у него такое, когда дед Семен впервой испытывал его на охоте.
— Пап, ну, скажи! Не могу взять! — Димка держался на воде кругами, почти тычась носом в убитых уток.
— Эх, голова садовая! Зубами схвати за крылья — и к берегу, по-собачьи!
Димка схватил одно крыло — мягкое, глянцевитое, щекочущее язык, изловчился — ухватил другое. И, высоко выставив мокрую голову, плыл, как водяной, нечаянно подавившийся утиными перьями.
— Вот и ты приобщился к охоте! — Отец спрятал чирков в ягдташ.
— А стрельнуть дашь? — Димка, дрожа и поеживаясь, совал ногу в штанину.
— Заряд велик, так стеганет, что и на ногах не устоишь.
— Ну, папка! — клянчил Димка.
— Пошли, пошли! Успеется. Мал еще!..
Домой возвращались ночью. Димка спал на мягком мешке и видел сон: он сидит на берегу озера, с ружьем, ест караваи из новины и посмеивается, а отец и дед — наперегонки — плавают среди убитых им уток и никак не могут схватить их зубами.
СТАРАЯ ЦЕРКОВНАЯ СТОРОЖКА
Лето пошло на убыль, и на Димку насели со всех сторон.
Отец съездил в город и привез серый коломянковый пиджак с тремя кармашками, черные штаны из чертовой кожи и новые яловые сапоги — окрашенные наспех, с заметной рыжинкой на голенищах.
Штаны и пиджак, словно сделанные из жести, коробились и гремели. Босые ноги болтались в просторных головках с острыми носами: все было куплено по дешевке, впрок, на вырост.
И будто наглухо захлопнулась дверь в привычный и такой обжитой мир — с разбойником Кудеяром, с шумной, драчливой игрой в лапту, с веселой рыбалкой на крутом берегу Омжеренки, — когда Димка без всякой охоты облачился в неудобный городской наряд.
Мать прилаживала на нем новые вещи и приговаривала:
— Какой красивый будет школьник!.. Да повернись ты!.. Ну, всем на загляденье!
С того дня, как примерили этот наряд, Димке не удавалось побыть одному, поиграть с Колькой или хотя бы повозиться на сеновале с шаловливым Полканом. Отец тянул его то в сад, то в огород и все говорил про школу.
— В школе, Димушка, пропадешь, если памяти нет: и учитель затюкает, и останешься в одном классе на второй год. А память идет от стихов. Больше их в голове, и уроки будут даваться легче!
Собирая в корзину яблоки или огурцы, отец читал вслух стихи, а Димка схватывал их на лету: и про бурю, которая мглою кроет небо, крутит снежные вихри, воет зверем, плачет, как дитя; и про ниву золотую, что зреет на солнце, наливая колос.
А когда отец отлучался, к Димке подбиралась мать. Она не говорила про память, а напирала на письмо:
— Писать, Димушка, надо красиво, чисто, прилежно. Люди кормятся от такого письма, всякие важные бумаги пишут. И учитель будет доволен. Давай страничку напишем!
Она раскрывала тетрадку перед Димкой и совала в его непослушные пальцы деревянную копеечную ручку. Димка зажимал ее в кулак и, высунув язык, выводил на косых линейках толстые палочки, похожие на частокол в палисаднике. Длинное бронзовое перо, на котором стояли рядом цифры восемь и шесть, понемногу уползало в правую сторону, обильно раскидывая на бумаге жирные крупные кляксы. И мизинец никак не слушался и не хотел держать на весу кулак и ручку.
Кричал Сережка, ласково мычала Зорька, кипел и фыркал самовар, мать отлучалась. За столом разваливался дед Семен и довершал свою науку про ходики. Потом заставлял бойко пересчитывать пальцы на обеих руках и говорил:
— Школа! А для чего она сделана? — И сам же отвечал: — Выходит, для нашей пользы! Выйдет из нее пастух — и коровы у него на счету, и про свой заработок имеет он ясное понятие. Получится, к примеру, плотник, вот как я, приложит он аршин к еловой тесине, и сразу ему видать, сколь в ней вершков и надо ли маненько укоротить. И по любому делу так… Седьмой год как школу открыли, и теперь хоть с десяток наберешь в селе мужиков, что грамоте обучены. А допрежь совсем как турки жили! Помню, царев манифест вышел про волю, а мы — ни в зуб ногой! Поп с амвона читал!
Дед доставал с божницы закапанную воском книжку, раскрывал наугад страницу, разрисованную густой вязью черных и красных букв.
— Школа, брат, учит с богом разговаривать: по-церковному, как на клиросе поют. Богу не скажешь: «Дай кусок хлеба!» Это ему невдомек, он и не услышит. Надо с почтением да с молитовкой: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» Вот тут все и сказано, — стучал он толстым пальцем по истрепанной странице. — Эта вот буква по-нашему «а», по-церковному — аз. И идут они по порядку: аз, буки, веди, глаголь, добро. Есть буквы: люди, рцы, твердо. А вот и твое имя: добро, иже, мыслете, како, аз — Димка! Здорово, а? Всю эту премудрость одолеешь, почище регента запоешь!
Но Димка уже не слушал. Ему представилось, как завтра войдет он в класс, и учитель грозно спросит:
«Кто такой?»
«Шумилин, Димка, — ответит он, заплетаясь. — Добро-иже-мыслете-како-аз!»
Один лишь дядя Иван не лез в учителя. Он принес в подарок крестнику маленький деревянный пенал. Горячим гвоздем на крышке была выжжена смешная мартышка. Сидя на полу перед круглым зеркалом, она примеряла очки деда Семена с обломанными дужками.
Димка выдвинул крышку, а там — богатство: грифель, карандаши, перья и две резинки — белая и красная.
— Я тебя, Дмитрий Алексеевич, слезно прошу об одном: резинку не жуй, в ней — стекло. Карандаши зря в рот не пихай. И перо вгорячах не заглатывай. А то я тебе живот разрежу и выну всякую дрянь, которую ты в школе съешь!
И хоть шутил дядя Иван и все заливались смехом, но страху не поубавилось.
Рано утром напились чаю. Мать надела Димке через правое плечо холщовую сумку, где еще с вечера поместились книжки, тетрадь и грифельная доска. Молча посидели на широком конике возле двери, словно собираясь в дальнюю дорогу.
— Ну, с богом! — сказал дед Семен и взял внука за руку.
На улице дожидался Колька — в белой рубахе с сыромятным пояском и в белых штанах, заправленных в новые онучи. И лапти были новенькие. Дед Лукьян плел их два дня, и получились они на диво: с тупой голова́шкой, с крепким у́шником, темным обу́шником и с прочным запя́тником. И лапотные хвосты были красиво заделаны на Кольке вокруг щиколоток. И сумка висела на левом боку, как у Димки. Вот это школьник!
Старая церковная сторожка — каменная, присадистая, с узкими окнами на юг и на север — гудела от криков и визга. Тряслась от беготни, топота и ошалелой возни.
Дед Семен пробился со своими ребятами в раздевалку и стал в углу, возле колков для одежды, где жались к стенам родители с оробевшими малышами. А от парадной двери на улицу до черной двери в церковную ограду, толкаясь и раздавая звонкие, веселые подзатыльники, носились ребята постарше, уже знакомые с порядками в школе.
Сторож Евсеич — подслеповатый пономарь — осипшим голосом покрикивал на шалунов, но его никто не боялся. Подбирая полы длинного кафтана, пропахшего ладаном и лампадным маслом, и выставив руку со звонком, он пробрался в свою каморку, где висели древние ходики, засиженные мухами. И — прозвенел звонок.
Распахнулась дверь в класс, и показался учитель — Михаил Алексеевич, приземистый и чернявый, с пушистыми усиками, гладко причесанный, в добротной черной паре и в белой рубахе с галстуком.
Мимо него проходили ребята к партам и все говорили на пороге:
— Здравствуйте, Михайла Алексеич!
А он кивал и улыбался, и под черными усиками поблескивали ровные белые зубы. И пахло от него луком и водкой.
— Новенькие? — сказал учитель, подходя к малышам. — И много вас? — Он обошел вдоль стен и, как баранов в стаде, пересчитал всех по головам. — Двадцать семь!
Неплохо! А как фамилия? — уставился он на Кольку.
— Ладушкин! — ответил дед Семен. — Внук сторожа Лукьяна, по кличке Аршавского.
— Так-с! Шумилин! — Учитель глянул на Димку и что-то отметил в книжечке. — Дмитрий, если не ошибаюсь?
— Он самый! Внучок мой, Михайла Алексеич. Первый! — Дед Семен мял картуз в руках.
— Станьте по двое, и — за мной! — скомандовал учитель.
Димка хотел схватиться за Колькину руку, но не успел. И поплелся в класс в паре с пухлой и раскрасневшейся Полей Бобылевой.
Девочек было двое, и их посадили на первой парте, а между ними втиснули Димку. И весь первый урок ему было неплохо, хотя девчонки все время перешептывались у него за спиной. Он толкал их в бок и украдкой щипал. Они дружно отвечали, виновато вскидывая глаза на учителя, который сидел рядом, за маленьким черным столиком.
Урок шел, и Димка освоил две буквы, «м» и «а», и даже стал понимать, что из этих букв можно составить слово «мама».
Было у него время и осмотреться. За спиной пыхтели малыши, и, когда к ним подходил учитель, они монотонно говорили друг за другом: «Мы-а — ма!»
За спиной учителя, вдоль длинной стены с двумя окнами, сидели ребята из третьего класса. Возле прохаживалась высокая, полная, с копной каштановых волос на голове, жена учителя — Анна Егоровна. Она иногда поправляла широкие складки на белой кофте и придерживала рукой подол длинной черной юбки, когда он задевал за ножку парты.
— Твой отец, Сила, — она обращалась к долговязому мальчишке с горбатым носом, — вчера сказал отцу Поли Бобылевой, — она обернулась и глянула на толстую девочку, что сидела справа от Димки: — «Хведот! Вели бабе спрячь яечню, я принису гарелки, тюкнем по чарке, да и баста!» Как надо бы сказать правильно?
Димка развеселился. Сила воровал груши в саду у благочинного и получил заряд пшена в тощую спину. Тогда он выкрутился. А как сейчас?
Раскрыв рот, Сила старательно тер горбатый нос и молчал. Десять ребят — его соседи по партам — загалдели, вскинули руки над стрижеными головами.
— Я скажу, Анна Егоровна!
— Я! Меня спросите!
Справа и ближе к входной двери человек двадцать во втором классе водили грифелями по доске. Анна Егоровна дала им задачку про лавочника: купил человек штуку сукна и не знает, сколько будет у него барыша. Вот всем классом и помогали ему, да без толку: решил лишь один мальчишка — он сидел на задней парте, важный, надутый, а списывать не давал и всем показывал розовый, шершавый язык, как у Полкана.
А у старших ребят, у второгодников, отделенных от второго класса высокой черной доской, шла зубрежка: Михаил Алексеевич что-то показал им в книжке и велел выучить.
Так и шло в большой комнате старой церковной сторожки:
— Мы-а — ма! — складывали малыши.
— Купил сукно, а во сколь оно обошлось? — шептали справа.
— Федот, а не Хведот! — кричали в третьем классе.
Но всего интереснее было у старших. Витька Кирюшкин — толстый мальчик в синей рубашке, что зимой катался на Димкином самокате, сидел почти рядом, через узкий проход, и читал вполголоса:
— «Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге…» А что было дальше, — не понять.
— Мы-а — ма! Ма-ма! — громко читала Поля Бобылева, а за ней Настя Чернышева. Им было радостно, что они сложили такое понятное, родное слово!
На первой переменке Димка заскучал и едва не заплакал. Мальчишки из первого класса толкали его в бок и дразнили:
— Бабник! Бабник! С девчонками сидит! Ты с ними в куклы играй!
Колька стал защищать Димку, и не миновать бы драки, да Евсеич вовремя позвонил.
А когда вошли в класс, Димка за парту не сел.
— Это что такое, Шумилин? — спросил учитель.
Вся школа затихла и ждала, что будет.
— Не сяду с девчонками. Ребята смеются!
— Садись!
Димка угнул голову в плечи. Встала Поля, чтобы дать ему пройти. Но он не шел.
— Садись!
Димка поднял глаза на Михаила Алексеевича, но с места не сдвинулся.
— Ну, я покажу тебе, гадкий мальчишка! — Учитель схватил Димку за шиворот и так развернул в проходе, что новые яловые сапоги с подковками загремели об парту. — Я тебя приучу к порядку! — слегка поддал учитель коленом. — Сиди тут! — и он присадил Димку на самый край задней скамейки возле Кольки и двух его товарищей. — Ты у меня наплачешься! — и деревянная линейка учителя тяжело и обидно опустилась на Димкину шею.
Кто-то вздохнул, кто-то загремел партой.
— Ми-ша! — гневно сказала Анна Егоровна и с сердцем захлопнула классный журнал.
— Ладно, ладно! — Учитель почти побежал к своему столику.
И урок начался. Разноголосо зашумела школа. И каждый был занят своим делом. Но еще долго Димка ловил на себе какие-то непонятные взгляды ребят.
Он закусил губы, чтобы не зареветь, и тесно прижался к Кольке, у которого так и колотилось сердце под белой рубашкой. Локоть свисал с парты, писать было неудобно, но колышки получились хорошие и бронзовое перо совсем не делало клякс.
После шестого звонка Димка надел сумку и собрался идти домой. Толстый Витька остановил его возле двери и сказал громко, чтобы слышали все:
— Эй вы, мелюзга! Шумилина больше не задевайте! А то — во! — и он показал увесистый кулак.
 ПОД ФЛАГОМ КУДЕЯРА
ПОД ФЛАГОМ КУДЕЯРА
РЕЗИНОВЫЙ МЯЧ
Димка иногда считал и себя виноватым, но больше винил барина: навернул его черт в это лето не к добру!
Только замыслят ребята какое-нибудь дело поживей да похитрей, непременно наскочат на барина. А уж тот придумает такую каверзу, что без слез и не обойдешься. И все потому, что занедужила старая генеральша.
Она прикатила к Николе вешнему на вороной тройке. Но ни разу не показалась под зонтиком на широком балконе. А потом прошел слух, что подалась она куда-то на теплые воды.
Молодой барин так развернулся без маменьки, что жизнь в селе пошла кувырком.
С утра до вечера мотался он по улицам то в сером пиджаке до колен с разрезом сзади, то в легкой шелковой рубахе, расшитой черными петухами: строил!
— Нашла, значит, на него такая планида! Теперь не удержишь! — говорил дед Семен, обжигаясь щами за ужином после тяжелой работы от зари до зари.
В Обмерике жгли кирпич и известь. По дорогам везли камни, бревна, гравий, сосновые доски и листовую жесть. Только в полдень да ночью затихал шум стройки и прекращался гомон работников.
Возле кладбища и рядом с тем местом, где играли пьесу про горячую любовь древних греков, строилась школа в честь дома Романовых — длинное здание из красного кирпича. Коридор выходил на солнце, классы — на север.
— И как это можно строить без всякого понятия! — кипятился дядя Иван. — Говорил я Булгакову: поверните классы к солнцу, не калечьте ребят. У них почти поголовно куриная слепота! Как они будут сидеть в потемках? Так барин — дуб дубом: ни в какую!.. На одно доброе дело решился человек, и то без ума!
— Говорил и я с ним: не слушается! — Отец махал рукой. — Подбоченится и твердит: «Благодетель я! В ножки кланяйтесь, в ножки! И не учите меня. Строю красиво, фасадом на улицу. Отгрохаю такую школу, что сам Глухарь пришлет мне благодарность».
— Это что еще за Глухарь? — спросила мать.
— Его превосходительство, старик Абросимов, предводитель дворянства всей губернии, — усмехнулся дядя Иван. — Тот самый, что вместо генерала Булгакова был выбран. Глух он как пробка, вот в пятом году и нарисовали его в газете: глухарь во фраке. Алексей помнит, при нем это было!..
Димка не очень прислушивался к таким разговорам, хотя Глухарь ему и запомнился: сидит себе на толстой сосновой ветке, в очках и с бакенбардами, как у Лукьяна Аршавского, когда встречает он праздник.
А то, что в школе делали подвал с плитой, где барин обещал кормить ребят пшенной кашей, было заманчиво. Но всего интересней было то, что в школьном притворе возле парадной двери выкладывали теплый нужник с кафельной печкой. Диковинка! Да про такую штуку даже благочинный не знал! А про мужиков и говорить нечего: они бегали по нужде куда придется. Обычно в хлев, где прошлой весной под пасху подвидел. Колька лохматого и веселого домового.
Рядом со школой рубили из бревен дома для учителей. А тому домику, которым дед Семен утер нос американцам, суждено было стать школьной сторожкой.
На другом конце села ладили мост через Лазинку. Шесть плотников под «Дубинушку» три недели забивали высокие сваи толстой дубовой бабой, перехваченной понизу железным обручем, а потом клали настил.
Бородатые грабари рыли дорогу в крутом берегу оврага. А чуть выше, на широком и ровном поле, где чаще всего сеяли клевер для выездных лошадей генеральши, каменщики и печники выкладывали в два длинных ряда лабазы, лавки, трактир и постоялый двор.
Замыкал всю эту стройку высокий каменный фундамент нового дома, куда пожелал перебраться барин со своей Варькой: знать, надоело ему сидеть бедным родственником в деревянном флигеле бок о бок с оранжереей, конным двором и каретником.
Барин строил и мотался по двору и по селу из конца в конец. И как было разминуться с ним, когда площадь и улица — самые желанные места для встреч, озорных игрищ, шального крика и неугомонной беготни!
Первый раз наскочили на барина в разгар весны, в тот самый день, когда прилетели звонкие стрижи. Они падали к земле из-под крыши на колокольне, взмывали вверх, со свистом резали воздух.
Генеральша уехала, совсем опустел старый барский дом. Перед этим домом, на зеленой лужайке, где в другие лета играть воспрещалось, и завязалась шумная лапта: в семь пар.
Волан был тряпочный, в десять одежек, как большая луковица. А внутри него лежал круглый камень-голыш: для веса. И когда по такому мячу били палкой, он — сырой от травы — летел в небо, раскидывая брызги, и на землю падал тяжело и мягко, как лягушка. Но не прыгал.
Димка стоял в «городе» и в очередь с Филькой бил по мячу, а Колька гили́л, ловко подкидывая для удара самодельный кругляш из тряпья.
Витька бегал в поле, но никак не мог поймать волан с лету. И ругал долговязого Силу, что тот не может засалить противника.
После очередного удара Филька в шестой раз отмахал на рысях до черты в поле и удачно вернулся: его не зачакали.
Димка занес лапту сплеча. Но вдруг к его ногам упал из-за барской ограды и запрыгал маленький черный шарик: резиновый, круглый, как ядро, и чуть седой — словно его присыпали порошком.
— Во! — закричал Димка, держа шарик в руке.
И к нему, в город, сбежались все игроки. Сила сдавил шарик в руке, он только спружинил. Витька попробовал на зуб — даже следа не осталось. Колька ударил шариком об землю, он зазвенел и подпрыгнул. Все бросились к нему, и на лужайке сбилась бестолковая куча мала, когда всех давят и никто не виноват.
— Начали! Этим шариком я тебе сейчас врежу! — Витька отдал мяч Димке и побежал в поле.
Но игроки не успели занять места: из калитки барского сада вышла младшая дочка барина Оля, в розовом платьице, в белых туфельках, с бантом на голове и такая чистенькая, будто прямо из корыта.
— Чего тебе? — насупился Димка, когда черноокая фея зыркнула на его босые ноги и уставилась на поперечную прореху под правой коленкой.
Оля опасливо оглянулась в сторону флигеля и сказала:
— Мальчики! Дайте я с вами поиграю.
— Возьмем? — крикнул Витька и молодцевато поддернул штаны.
— Жиляка она, — Колька глядел в землю и ковырял ногой в траве. — Димка ей зимой ножку подставил, так она пошла жалиться!
Но ребята не поддержали Кольку, и Витька подал команду:
— Становись!
— Только я не хочу в город, там Димка, а он такой драчун! — Оля дернула плечом.
— Давай сюда! — опять крикнул Витька.
Оля показала Димке язык и помчалась в поле. Игра началась.
Видно, не зря был у этой девчонки ладный резиновый мяч. Филька крепко ударил по нему, а она ловко взяла его с лету. Город был продан при первом ударе, и Димка повел своих игроков в поле.
Витька дал пробить девчонке, и она хорошо навесила мяч. Черный резиновый шарик ткнулся в Колькин затылок и отлетел к Димке. Ему и пришлось салить бегунью. И он, почти не целясь, запустил мяч, как из пращи.
— Есть! — крикнул Колька: он видел, как вздрогнула Оля.
Но мяч откатился далеко, и Витька сказал добродушно:
— Мазила!
— Мимо! Чего там говорить! — Сила взялся за лапту.
— Ой! — завизжала Оля. Она прикрыла ладонью левое ухо, недобро взглянула на Димку и тряхнула головой.
И все увидели, как стало багроветь, пухнуть и отдавать синевой ее ухо.
— Она почакана, что я говорил!.. Право слово! — подбежал к городу Колька.
Но его никто не слушал. Витька сорвал лист подорожника и приложил к Олиному уху. Сила подал комок сырой земли. Девочка — удивленная и испуганная, совсем чужая среди босоногих игроков — села на траву и заревела.
Тут-то и навернулся барин.
— Ай-ай-ай! — он наклонился над Олей. — И зачем ты вышла к этим гадким мальчишкам?.. И кто это газбил ей ухо? — грозно спросил он.
Ребята переминались с ноги на ногу и молчали.
— Это он, он! — девочка показала пальцем на Димку.
— Ну, я! — набычился Димка. — Она нарывалась, а я кинул в нее мячом.
Барин шагнул к нему, прищурился и больно схватил за левое ухо тонкими сильными пальцами: с вывертом, как чужой, недобрый человек. И вытер пальцы духовитым носовым платком.
— За что, Вадим Николаич? Ненароком же вышло. Игра ведь! — с обидой сказал Витька и прикрыл Димку спиной.
— Я тебе покажу иггу, шельмец!
Барин сунул в карман мяч, подхватил плачущую Олю и понес ее во флигель.
— Ну погоди, Вадя-дурачок, мы с тобой посчитаемся! — прошептал Витька и сжал кулаки.
А Димка плакал на его груди, зажимая рукой горевшее ухо.
И в этот весенний день впервые он затаил обиду на барина.
ОШЕЙНИК ИЗ КАРТОФЕЛЬНОЙ БОТВЫ
Ухо болело два дня. И когда Димка бегал, то поддерживал его рукой: стало оно тяжелое, как живая речная ракушка, и словно хотело отпасть.
А потом дело пошло на поправку. Но обида не проходила: ни дать ни взять — завелся сверчок в голове. И только забудет Димка про него, а он — ножкой об крылышко: «Ва-дя-ду-ра-чок! Ва-дя-ду-ра-чок!»
Да и дома подогревали Димку, особенно дядя Иван.
— Ну и мерзавец этот Булгаков! Здоровый чертила, а в ребячьи дела полез.
Он усаживал Димку к себе на колено — жилистое и длинное — и прикладывал к его уху влажный холодный бинт со свинцовой примочкой. По телу пробегал озноб, и почему-то хотелось смеяться.
— Дай волю Булгакову, так он и свою маменьку заткнет за пояс! А уж на что крутая старуха: деда Семена в лоск отделала за четыре бревна!.. Ну, резвись, друг сердечный, таракан запечный! Только в другой раз барину ухо не подставляй: лучше ему пятки показывай!..
В барском лесу ребята приловчились тайком драть лыко. На молодых лозинках делали ножом надрез у второго сучка и снимали горьковатую липкую кожу до самой земли. Лавочник Олимпий Саввич платил по пятаку за пуд сырого лыка. И ребята в полдень, когда работники за артельным столом набивали брюхо хлебным квасом, кислыми щами и пшенной кашей, а барин небось пил кофей и заедал его персиком, забегали с товаром в лавку. А Димка с Колькой воровато пробирались к дому и сдавали припас деду Лукьяну. Он все дни плел лапти и обещал выдать к покрову по гривеннику — на ярмарку, которую хотел открыть барин перед своим новым домом за Лазинкой.
Как-то Витька собрал «разбойников» на берегу Омжеренки, против барского огорода, что разбивал для генеральши черноусый агроном Кидалов.
— Навернулось дельце! — Витька решительно поддернул штаны. — Огородники сейчас пойдут щи хлебать, а мы сделаем налет на редиску.
— А что это? — спросил Филька.
— В земле растет, как редька. Рубаха красная, а в середине бело, как сахар. Скусная, и на зубах: хруп-хруп-хруп! Надысь я ухватил три штуки, а съел бы полную пазуху. Барин ест, ну и нам надо спробовать.
Ребята зашлись слюной.
— У меня и подкоп сделан. — Глаза у Витьки заблестели. — Прямо из крапивы. Кусается, чертяка, зато ползешь, как мышь, никому не видно. И бежать сподручно — прямо в лес.
Огородники оставили в сторожке древнего старика и пошли по шатким лавам в барскую усадьбу, где только что прозвенел колокол на обед. Они что-то несли. И Димке показалось, что в руках у них ветки с крупной малиной.
— Вот она самая — редисочка! — знающе сказал Витька. — Ну, давайте помалу за мной. Только тихо. А Филька пускай сидит на горушке, в ельнике. Не промахнись, паря. Коли чего не так, свистни в сбою дудку!
Глядеть Фильке было страшно и весело, как цепочкой ползли ребята за Витькой среди грядок и запихивали в колышку красные ягоды с длинной зеленой ботвой.
Налет прошел удачно. И скоро все сидели на упругом зеленом мхе под высокой прямой елкой, как на большом разбойничьем кружале, вытирали редиску подолом рубах, совали ее в рот без соли и нахваливали вполголоса:
— Эх, и редька! И впрямь скусна!
— И в носу першит!
— Ну, что твое яблочко!
Вот уж поблаженствовали в этот день! Словно и не было на свете вкуснее этой штуки! А все потому, что редиска была добыта тайком, как завещал Кудеяр, а главное, на барской земле. А украсть у барина — это подвиг! Да и не каждому он по плечу!..
После ильина дня купаться не полагалось, и многие летние радости ушли напрочь.
Миновали веселые дни сенокоса: сено давно лежало в сараях, а заводить на нем возню не разрешалось. Хлеб обмолотили, и из первой муки выпекли ароматную новину — с грибами, с капустой, с рыбой и даже с мясом, смотря по достатку.
Лето помаленьку отходило, и по ночам холодный туман молоком разливался над лугами. Улетели стрижи. На барских липах, среди старых толстых ветвей, стали проглядывать желтые бляшки, точно пуговицы на мундире у почтмейстера.
Яблони ломились от сочных плодов, но до первого спаса, когда благочинный на глазах у всех съедал первое румяное яблоко в церкви и разрешал снимать урожай, было еще далеко.
Ребята без всякой охоты лакомились падалицами. Да свои яблоки — будь то антоновка, скрут, боровинка, апорт, даже самая сочная грушовка — ничто не шло в сравнение с яблоками у благочинного, у лавочника и особенно у барина!
Дней за десять до первого спаса Витька предложил дерзкий план. У ребят голова пошла кругом: сделать подкоп под высокую ограду в барском саду, в двух шагах от флигеля, навалиться миром на ветвистую коробо́вку — сладкую как мед, — и ночью отрясти ее до последнего яблока.
— Барина кондрашка хватит, провалиться на этом месте! — божился Витька. — А главное — не прозевать! Сдаст Вадя козельским мещанам все яблони на корню, а у тех горлохватов и падалицу не выпросишь.
Дело было заманчивое, но Сила заколебался. Он долго ковырял в длинном горбатом носу и поеживался, будто его знобило.
— Благочинный в прошлом году пшеном под зад угостил. А у этого Вади и дроби схватишь. Садовник больно старательный. Прямо как брат родной Булгакову.
Витька решил взять своего дружка хитростью.
— Не годишься ты, Силантий, в разбойники: много у тебя мякины в башке! Знаете што? — обратился он к ребятам. — Я вам загадку дам, вы мне шепнете на ухо, а кто не отгадает, того не возьмем. Сила ни в жисть не разгадает! Куда ему! Эх, Сила, Сила, зря тебя мать на двор носила!
— Давай! — сказал Димка. Он понаторел в этой штуке с дедом Семеном и приготовился слушать.
Витька сказал:
— В брюхе — баня, в носу — решето, на голове — пупок, всего одна рука, и та — на спине.
Димка переговорил тайком с Колькой, и они первые шепнули Витьке. Даже Филька догадался. А Сила старательно скреб большим пальцем левой руки в затылке и сопел. Но без толку.
— У барина есть? — спросил он.
— У барина все есть. И у тебя был, да велел кланяться. И, видать, до покрова не будет. На что ты деньги собирал за лыко?
— Чайник! И как я не скумекал, вот пустая башка! Ну как, возьмешь, а? — Сила стал упрашивать Витьку. — Я тоже согласный по яблоки лезть.
Решили так: сделать налет, когда барин поведет молодого садовника к Аниске Афониной, красивой девке, и начнет там разводить турусы на колесах.
Ходили они по субботам, когда стемнеет, а суббота была не за горами.
Со своей пегой сукой и бок о бок с молодым садовником барин отправился к Афониным — на край поместья, рядом с Обмерикой.
Витька подглядел в оконце: барин принес бутылку водки, и ее уже начали. Вадя сидел в красном углу — рыжий, с бородкой, как у царя. Рядом — и еще рыжей барина — примостился возле угла садовник с козлиной рожей, которая казалась непомерно длинной из-за жидкой бородки, чуть раздвоенной на конце, как рыбий хвост.
Старики примостились с другого узкого края стола, и на их лицах застыла какая-то виноватая улыбка, будто никогда они не умели хмуриться. Аниска поставила самовар возле отца и пристально поглядела на барина. Тот скосил глаза на садовника. И девка прошлась по хате, как в хороводе, — повела и дернула крутыми плечами. Садовник уставился на нее и все глядел, глядел не моргая.
Барин налил всем по стопке и подмигнул старикам.
— У вас товар, у нас купец! Ходим, ходим, не пора ли и по рукам бить?!
Витька отскочил от оконца и зашептал:
— Сватает барин за садовника. Айда, разбойники! Самое время!
Разбежались по домам за мешками и скоро сошлись в лопухах, возле церкви. Филька припас ржавый обломок косаря. И подкоп начался!
Колотилось у Димки сердце и отдавало стуком в висках, когда он залез на яблоню следом за Витькой, уперся ногой в ствол и дернул ветку на себя. В ночной тишине словно буря прошла, и крупным градом затарахтели по сухой земле зрелые яблоки. Трясанул Витька на вершине: гулом наполнилась земля!
Сила и Филька кинулись собирать, на спину им сыпались яблоки: ударялись гулко и звонко прыгали к ногам.
Веселая пошла работа! А вышло не ладно!
В этот ночной час тащился вдоль ограды дед Лукьян с колотушкой: выгадывал свой пятак от барина. Шел тихо: не хотелось ему нарушать тишину, когда люди добрые только ткнулись головой в подушку, а парни с девками еще шушукались у плетня.
Нехотя переставлял ноги дед Лукьян и думал вслух:
— Надо-ть лыко замачивать липовое. Ярманка начнется, снесу-ка я лаптей — дюжины две. По двугривенному возьму — и то, почитай, пять целковых! А это деньги! Антон воротится из пастухов, а у меня: пшена пуд припасен — шестьдесят копеек, гречки пуд — рублишко уйдет, сахару фунтов семь — опять же целковый, махорки десять пачек — три гривенника. А еще что?
Дед Лукьян стал пересчитывать будущие расходы, сбился, вспомнил про керосин и про спички, про бутылку водки. Махнул рукой с досады и решил скрутить цигарку.
Тут-то он и услыхал, как подшумели жулики в барском саду, и по старой солдатской привычке зычно подал голое на все село:
— Караул!
Ребята попались в ловушку и заметались по просторному саду, натыкались впотьмах на ветки, ломая кусты.
Димка птицей долетел до барской лодки, вдруг вспомнил про старый подкоп возле нее, свистнул Кольке. Вырвались они на волю, добежали до кладбища, совсем забыли, что надо бояться мертвецов в этот поздний час, и пролежали в канаве, пока не пропели первые петухи.
Баринова пегая сука прижала Витьку в смородине, а Силу с Филькой нашла под сараем. Трех разбойников отвели за решетку в старый курятник, где до утра грызли их блохи.
А утром картавый Вадя распорядился:
— Надеть на этих жуликов ошейник из кагтофельной ботвы и пговести с бубном по площади. И пусть нагот поглядит на вогишек, когда пойдет от заутгени.
Как только начали бить в колокола, Витьку, Силу и Фильку вывели с барского двора: мешки под мышкой, на шее — по большому венку из ботвы.
Генеральшин кучер — Борис Антоныч — в красной рубахе, на которую до пояса падала могучая черная борода, и в плисовых шароварах — шел впереди и неумело лупил в бубен. Вся барская челядь — с малышами — сгрудилась полукольцом. От церкви бежали парни, девки, наперегонки мчались ребятишки: им почудилось, что в село приехал цыган с медведем. И чей-то мальчишка, из соседней деревни, уже кричал загадку про медведя:
— «Заинька, милый, где был? — «У Тули». — «Что видел?» — «Алхирея». — «В чем он?» — «В черной шубе и кольцо у губи!»
На крыльце флигеля стоял барин со своей Варькой, с девчонками, курил и смеялся.
А толпа, что сбилась смотреть на позорное шествие, молчала. И никто не кидал в воришек комья земли, никто не порывался щипнуть или поддеть их пинком.
Димка с Колькой сразу поняли, на чьей стороне правда. Им страшно захотелось действовать, но идти к толпе они побоялись. И тогда зародилась озорная мысль: запустить чем-нибудь в барина, который так нахально ржал на крыльце.
— Камнем не докинешь! — с сожалением сказал Колька.
— Картошка! — Димка хлопнул себя ладонью по лбу.
Они залезли на крышу, насадили по картошке на тонкий конец хлыста, запустили снаряд сплеча и спрятались за трубу.
Зазвенело разбитое стекло справа от барина. Господа кинулись в комнаты. Борис Антоныч перестал бить в бубен. В толпе раздался резкий свист.
Из церкви показались деды — Лукьян и Семен. Они на скорую руку поклонились старым церковным воротам и подошли к толпе.
— Твоя забота, Лукьян? — круто спросил дед Семен, когда увидел пунцовых от стыда ребят. — Таких-то воров ты выследил? А еще хвастался!
— Дык трясли, Семен Васильевич, ночью. Хоть и у барина в саду, а не положено.
— У барина, у барина! — передразнил дед Семен. — Сам-то не озорничал? Такой был ворюга отпетый, избави боже!
В толпе засмеялись.
— Как теперь ребят выручить: ведь наши, деревенские. И самая последняя гольтяпа! — вздохнул дед Семен.
К дедам придвинулся Гриша — балалаечник, певец и самый свежий кавалер на селе.
— Дал ты промашку, дядя Лукьян! Вишь, что получилось! А по правде сказать, кабы-ть у мужика украли, вот бы этот ошейник и кстати: позор! А у барина?.. Не может барин деревенским обычаем пользоваться! И не позор это, а вовсе глупая забава. Только к чему она? Семен Васильевич правильно сказал: кончать надо! А как ребят домой увести? Рыжему сейчас кто-то стекло высадил, того и гляди прибежит он сюда зло чинить.
— Надо-ть благочинного кликнуть. Он этот артикул мигом прикроет, — сказал дед Лукьян и засеменил к церковной ограде.
Благочинный — без шляпы, в светло-сером подряснике — широким шагом подошел к толпе и сказал властно:
— Кто это в час моления задумал беса тешить?
— Не сами, батюшка, не сами! Вадим Николаич распорядился, — Борис Антоныч припал бородой к пухлой руке отца Алексея.
— Тэк-с! Опять непочтение к храму! — Благочинный кинул взгляд на флигель и быстро провел тыльной стороной ладони под сивой бородой. — Расходитесь-ка, православные, с миром! А вы, — он подошел к «разбойникам» и сбросил с них ошейники, — завтра утром явитесь ко мне в церковь. Я с вами по-го-во-рю!
И от того, как сказал эти слова благочинный, затряслись у ребят колени, а у деда Лукьяна — от затылка к пояснице — галопом промчалась стайка мурашей.
Вечером все «разбойники» встретились на площадке у пожарного сарая, где девки и парни под балалайку плясали «Барыню» и, выхваляясь друг перед другом, пели озорные частушки.
Витька вошел в круг, подбоченился, топнул ногой и бойко выкрикнул:
Слава богу и Христу,
Что я не пьяница расту,
Что я не пьяница, не вор,
А с кабака часы упер!
Весь вечер он был героем. А с утра — и всю долгую неделю — ходил с Филькой и с Силой в летний притвор церкви, стоял на коленях и по десять раз бубнил заповеди.
Благочинный особенно напирал на восьмую — «Не укради!». У него в саду был хороший урожай, и он хотел и себя защитить от шустрых, неутомимых налетчиков.
Но Витька не сдался. В самый канун спаса он собрал «разбойников» и сказал:
— Нынче огляделся, зря мы в ту ночь попались! Вишь, как угораздило: трясли-то не коробовку, а какой-то скрут, леший его дери! Надо опять налет делать!
И — небывалый случай — отказались «разбойники» служить своему Кудеяру.
Коробовку отряс Гриша с парнями. А деда Лукьяна предупредили за время: поднесли ему к носу и дали понюхать здоровенный кулак.
ДИМКА ВЫХОДИТ ИЗ РАЗБОЙНИКОВ
Барин делал все не по-людски. Дом не достроил, окна забил щитами, школу сбыл с рук кое-как: не стал штукатурить по фасаду. И была она белая со двора, красная — с проезжей дороги к сельскому кладбищу.
В просторном коридоре, где был сделан временный помост, благочинный торжественно отслужил молебен: с горластым дьяконом и тихим, глухим псаломщиком.
Дьякон ревел басом: «Мно-га-я лета!» И у ребят захватывало дух, потому что дребезжали окна, качалась под потолком лампа-«молния», белой крошкой сыпалась штукатурка. А псаломщик носил за благочинным тяжелую медную чашу, из которой брызгали святой водой на сырые, в потеках стены.
А потом благочинный поклонился до пояса портрету государя императора в парадном синем мундире с эполетами и пошел с барином, со своим причтом и с учителями пить чай в подвале. «Чай» был крепкий: после него долго пахло водкой и солеными грибками.
На другой день ученики расселись по классам. Урок начался с молитвы. Настя, стоя за партой, громко прочитала «Отче наш» и кивнула в сторону богоматери, что висела за стеклом в углу, в светлой ризе, и держала на руках румяного мальчугана.
Димка решал задачку про два чана, из которых весь урок перекачивалась вода по трубе. Писал: «Лето красное прошло». И «Поздняя осень, грачи улетели». Благочинный весело рассказывал, как плыл Ной в своем ковчеге и с ним — «семь пар чистых и семь пар нечистых».
И Колька был рядом, и сидели свободно — по двое на новых партах без крышек. И Поля с Настей привычно занимали место у самого столика Анны Егоровны. А на шкафу стоял голубенький глобус. А было неуютно и скучно: в старой церковной сторожке дела шли куда веселей. Главное, не было Витьки и Силы. Они кое-как одолели премудрость за три класса, и с весны открывалась им торная дорога — в подпаски. И Димка вспомнил слова деда Семена: «Выйдет из школы пастух — и коровы у него на счету, и про свой заработок имеет он ясное понятие!» Только заработки не велики: пришел недавно Антон, принес Кольке одни лишь полсапожки, погулял три дня и снова за дело — определился жечь уголь для лавочника.
Но в новой школе была и радость: теплый нужник. На перемене запирались там большой кучей и поднимали возню. Подслеповатый Евсеич дён пять ходил звонить перед дверью. А потом сорвал крючок, и все очарование нужника пошло насмарку.
На большой перемене мчались в подвал: ели пшенную кашу от барина и пили жидкий чай с маленьким кусочком сахару.
Да скоро и это кончилось. Повариха выпила с дедом Лукьяном весь запас барской водки из шкафчика и так загуляла в своем подвале, что гонялась с метлой за школьниками, задирала подол и показывала им круглое, дряблое место ниже поясницы.
Ее выгнали, а другой поварихи не взяли. И про кашу скоро забыли. Стали ребята приносить в холщовых сумках ломоть ржаного хлеба с солью, картошку и соленые огурцы. И вечно гремели кружкой, прихваченной на толстую цепь к бачку с сырой колодезной водой.
А барину было не до каши: у него нашлась новая забава — он торопил с ярмаркой.
Через мост над Лазинкой протянулся плакат. На длинном белом полотнище красиво стояли рыжие буквы: «Добро пожаловать!»
Подвода за подводой въезжала под эти буквы на громыхающий помост и выбиралась по новой дороге на ярмарку, где громко перекликались люди, тревожно ржали кони и протяжно, тоскливо мычали коровы.
В лавках и на лотках лежал ходовой товар — от деревянной ложки и сладких петушков на лучинке до хромовых вытяжек, хомутов, ведер, шалей, ластика и тульских гармоней с малиновыми разводами.
Барин — в русской поддевке, опоясанный красным кушаком, в смазных сапогах и в синем картузе с бархатным околышем — прискакал на дрожках.
Расталкивая народ, он поднялся на чью-то телегу в яблочном ряду, расправил рыжую бородку. Борис Антоныч — кучер — поставил ладони на ребро вокруг волосатого рта:
— Барин хочет говорить! Слушайте все!
Надрываясь, чтоб слышно было всей ярмарке, Булгаков картаво закричал, что он и во сне радеет мужикам. По рядам прокатился несмелый смешок.
— Две сотни лет ездят наши люди на базаг в Плохино. Ггязь, непогода, а тащатся, словно нельзя тогговать на месте. И не бывать этому боле! Я пгизываю вас: забудем пго Плохино! У нас не хуже! Видите, как я постагался! Тоггуйте и веселитесь в любой воскгесный день, делайте всякий полезный обогот. Веселитесь и тоггуйте, но не забывайте и выпить за своего багина! С добгым почином, господа мужики!
Барин тяпнул на глазах у всех малый ковш холодной водки, закусил соленым огурцом. Выставил бочку хмельного для мужиков, пустил ковш вкруговую и повязался спорить с дюжим купцом, с прасолом о каком-то жеребце.
Мужики навалились на бочку, и на ярмарке все пошло ходуном!
Дед Лукьян после доброго ковша стал игриво закликать баб и мужиков на свои липовые лапти с двойной подошвой, и дела у него пошли неплохо. Только с первого ковша потянуло его на второй. И когда солнце поднялось в гору, он уже не мог вязать лыко. Колька с Димкой и дед Семен еле-еле перевалили отяжелевшее тело его на телегу, где жевал сено распряженный Красавчик. Там и уткнулся старый солдат сивыми бакенбардами в толстую и грубую дерюгу. И проспал в телеге под навесом у Шумилиных до самой ночной побудки, когда пришло время идти в обход с колотушкой.
Дед Семен — мерой и полумерком — бойко продавал яблоки. Он был румян и возбужден от барского ковша, но держался, как купец, которому еще не приспичило завалиться в шинок.
Работник благочинного — длиннорукий и молчаливый парень с коричневой родинкой на кирпатом носу — вел коммерцию на две руки. Слева от него сочились пчелиные соты на подносе и искрился янтарный мед вразлив — в трех больших бутылях и в новом ночном горшке. Справа — толстыми бабами стояли в два ряда развязанные мешки с рожью и с гречкой.
Барин выбросил на ярмарку добрую половину своих запасов: ячмень, овес, пшено, муку, яблоки, голенастых белых кохинхинов, грузных индюков, уток, гусей, целый загон откормленных свиней, двух жеребцов в серых яблоках и одного тяжеловоза, владимирца, с гривой более длинной, чем борода у Бориса Антоныча.
И всех барских торгашей время от времени обходил управитель — коренастый чех Франт Франтыч, с узкими длинными усами и маленькой трубочкой-носогрейкой.
Даже языкастый ярославец, который прошлым летом дразнил ребят «асиновым щаглом» и которого потом накрыли с товаром в Брынском лесу, суетился со своим лотком в людской каше, пробивал дорогу локтями и кричал во весь голос:
— Ленты, бантики! Гребешки! Помада! Зеркала! Кольца!
Все что-то покупали, почти все что-то продавали, торговались, клялись и гулко били по рукам.
Димка с Колькой оглянуться не успели, как спустили все свои капиталы. И купили-то ерунду: по горсти леденцов, по сладкой пампушке, папиросы «Дядя Костя» — десять штук за шесть копеек, коробок спичек и дюжину кузнечных гвоздей для самострела.
На высоком помосте в ситцевом ряду сидел, поджав ноги калачиком, грузный, в меховой лисьей шапке татарин. Перед ним стояла пара чая. Он отхлебывал чай с блюдца и ловко кидал в рот то кусочек сахара, то маленькую дольку баранки. А к прилавку нажимали девки и бабы. И когда одна из них приказывала отрезать от штуки, татарин бросал по-своему два-три слова мальчонке, а тот шустро и сильно натягивал ситец на аршин.
А ярмарка гудела, горланила и властно тащила Димку и Кольку в свой водоворот.
С пустым карманом еще горше было глядеть на грецкие орехи, переводные картинки, на сладкие заморские рожки и особенно на сморщенный и липкий инжир, который выставил перед их носом Олимпий Саввич на деревянном лотке.
И запел у Димки с Колькой в сердце льстивую песню старый, верный Кудеяр:
«Денег на ярмарке — хоть лопатой греби! А вы ходите да облизываетесь! Будто не знаете, как их взять!»
Слушать льстивую песню было не плохо, да с какого боку зайти?
Подвернулся случай.
После обеда окликнул Димку с Колькой дед Семен:
— Вы того… Постойте тут, ребята! А я в шинок сбегаю. Что-то в горле першит: по погоде, а может, и нужда приспичила. Я мигом!
Димка с Колькой понуро стояли в яблочном ряду и нехотя отвечали покупателям, что скоро вернется дед Семен.
На дерюге завозился Лукьян, а в кармане у него что-то звякнуло: негромко, маняще. Колька протянул руку к карману и вместе с зелеными и желтыми крошками самосада выволок на ладони пять медяков.
Димка виновато опустил глаза и заметил под холстинкой, где лежали отборные яблоки деда Семена, какую-то мелочь. Отвернулся, вздохнул. А потом решился и, словно ненароком, смахнул эту мелочь в кулак. И стало на душе гадко, точно плюнули ему в глаза. Но стало и дерзко, потому что Кудеяр, давясь смехом, шептал в ухо:
«Да не узнает дед Семен! Не узнает дед Семен!»
Он и не узнал, когда явился к своему торговому месту — навеселе, с заметным блеском в живых серых глазах и с хлебными крошками в седой бороде.
Димка с Колькой купили картуз грецких орехов, кулек инжира, леденцов в красивой жестяной коробке и побежали к своей заветной липе над Лазинкой славить доброго разбойника Кудеяра.
Погрызли орехов, набили ими карманы, спрятали коробку с леденцами и распечатали пачку папирос, на которой улыбался толстый и бритый артист Константин Варламов.
Колька затянулся, и пошла у него голова кругом: едва в овраг не упал, хорошо, что успел ухватиться за ветку. Попробовал Димка и не заметил, как крошка горячего пепла с табаком упала на новую ластиковую рубаху и сделала на ней круглую маленькую дырку над пояском.
По дороге домой открыто щелкали орехи и сговорились пойти к тайнику завтра, после школы.
Отец еще не вернулся с охоты. Мать кормила Сережку овсяной кашей, навесив ему на грудь резиновую слюнявку. Он перемазался и грязным пальцем указал на Димку, когда увидел его на пороге:
— Н-на!
Дед пил чай и пригласил внука к столу.
— Батюшки! — взмахнула руками мать. — Да где ж ты рубашку прожег?
С этого и началось.
— Курил? — Дед Семен уставился на круглую дырочку с оранжевыми краями.
Димка молчал, но это было еще хуже.
— Дыхни, поганец!
Пришлось дыхнуть деду в бороду.
Дед вскочил, выбежал на улицу и скоро вернулся с начатой пачкой папирос, с леденцовой коробкой и грецкими орехами.
— Нашел. Следы до самой липы довели. У них тайник там!.. Ты ему давала деньги, Анна?
— Пятачок.
— Ну, на эти деньги не разгуляешься!
— Дед Лукьян дал по гривеннику за лыко, — без всякой надежды сказал Димка.
— Да у вас припасу почти на целковый! Воровал? То-то я гляжу, вроде пропала у меня мелочь под холстинкой!
— Взял немного.
— Ну, парень, коли уж ты от барина на своих перекинулся и всякую совесть потерял, вышибу я из твоей башки разбойника Кудеяра! Выдь-ка, Анна, с мальцом в горницу: у нас сейчас мужской разговор состоится!
Крестясь и вздыхая, мать подхватила на руки Сережку и вышла.
— Ну-ка, ложись на коник, раб божий Димитрий! — Дед Семен плюнул на руки и снял с деревянного колка у входной двери тонкий сыромятный ремешок.
— Дедушка! — Со страхом и с мольбой в глазах Димка глянул на деда.
— Знаю, что дедушка! Оттого и выволочку даю. Ложись да заголи зад, поганец! По голому-то месту скорей до мозгов дойдет!
Димка покорно расстегнул пуговицу и лег голым животом на твердый холодный коник. И сыромятный ремешок, будто отдирая кожу, раз за разом прилип к голому заду.
Хотелось реветь, успокоить себя криком, но сдержался: было и стыдно и страшно, и все перепуталось в голове. Однако и молчать не мог. И, упершись подбородком в согнутые руки, он мычал протяжно и тоскливо, как корова на ярмарке.
— И мычать не след, получил за дело! — уже с болью в голосе сказал дед Семен и повесил ремешок на место. — Я бы тебе и еще прибавил, да не могу: самого себя виню за недогляд! Мать с Сережкой день-деньской мается: пеленки, каша. Глаз с него не сводит: долго ли мальцу до беды. Отец — то в школе, то на охоте. А тут еще дядя Иван — вот смутьян, прости господи! — что-то про войну болтает: не зря, говорит, господин Пуанкаре золотишко царю дал, купил нашего государя! Ну, отец и задумывается. Я кажин день копейку топором рублю, фуганком строгаю. Вот и получилась безотцовщина!.. Эх-хо-хо!.. Ну, иди на печь, бедолага. Отойди душой. Не со зла ведь, а для науки я тебя отделал! И пора, Димушка, за ум браться. Не дурак. Во второй класс ходишь!
Дед Семен перекрестился и сел допивать чай.
— Анна! — крикнул он. — Подкинь угольков, самовар остыл.
И когда мать вошла, сказал с хитрецой:
— А мы с Димкой твердо поговорили. Он все понял: Шумилин, мужчина! И теперь отдыхает от своих забав на печке. Вот так!
Димка зла против деда не затаил: правильный человек дед Семен, только не в меру строгий. Да и Сережка напросился к нему — ласковый, веселый, сдобный, пропахший молоком и овсянкой. И пошла на печке возня.
— Вот, брат, и все! С Кудеяром покончено! Да и какой я разбойник, если у деда у родного стащил мелочь! У своего деда! — шептал он Сережке, ласкаясь. — Хватит! Побаловались! — И загибал салазки малышу, а тот урчал, как медвежонок, и отбивался.
Все добрее становилось сердце, и Димка уже любовался дедом Семеном, который выставил на волю широкую волосатую грудь, обтирался рушником и приговаривал:
— Вот и почаевали!..
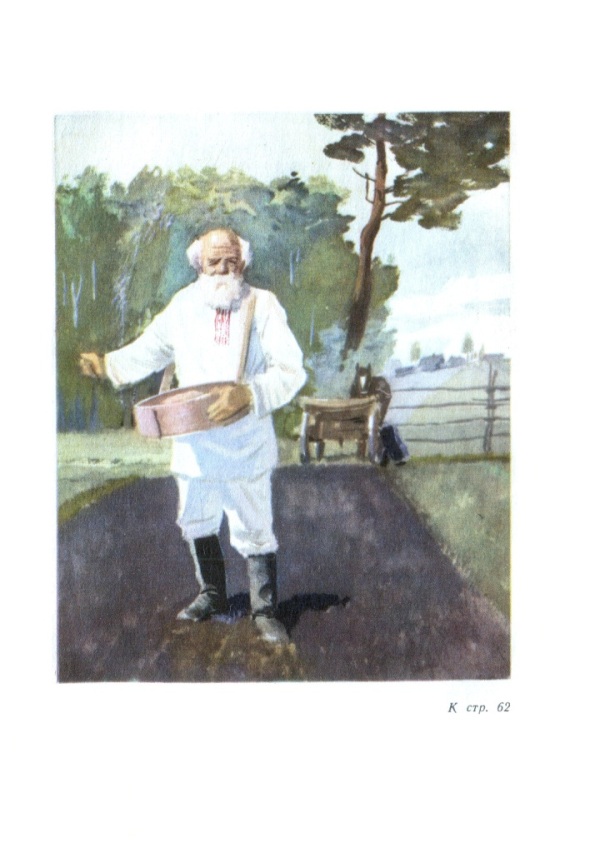
 НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
РАЗГОВОР ПРО ЧУДЕСА
С того покрова, когда была выволочка, Димка заметно остепенился: не пропускал занятий в школе, не каждый день катался с Колькой на корзине, по вечерам прилежно готовил уроки.
На кухне, где-то за печкой, заводил в сумерках скрипучую песню сверчок. Димка придвигал к носу маленькую керосиновую лампу в семь линий, с самодельным колпачком из картонки, от которой всегда пахло горелой бумагой, и начинал писать: черновик — грифелем, беловик — пером.
По счету и письму все давалось с ходу. И пока дед Семен не заваливался на печку, было время полистать книгу Василия Порфирьевича Вахтерова «Мир в рассказах для детей».
В тихий вечерний час Димка уносился в мыслях далеко-далеко. И отступало, уплывало куда-то вдаль родное село — с маленькой Омжеренкой, негромко журчащей на камнях, с Лазинкой, где склонялась над ручьем заповедная Кудеярова липа, с Долгим верхом, где
все лето можно было брать ягоды и грибы, с новой и неуютной школой и даже с этой вот кухней, где зарождался и манил к себе неизведанный мир из книжки.
— Эх, и здорово! Чудно и радостно! — шептал Димка, листая книгу. — Кругом ходишь по земле: захотел и поехал — хоть на север к белым медведям, хоть на юг — к крокодилам! Одним словом, грамота!
Он всегда начинал с диковинных зверей и птиц: как висят вниз головой обезьяны в жарких лесах, словно летучие мыши, и как уносятся от всадника быстроногие голенастые страусы. А потом читал про моря и океаны, где на седой и крутой волне ходят фелюги, парусники и корабли.
Иногда хотелось узнать, как давным-давно жили люди. Вахтеров писал про это скучно: не умел он придумывать забавные истории. Куда интересней были рассказы с картинками из священной истории Ветхого завета.
Ной и Моисей долго плавали, и это было заманчиво. Правда, не все было ясно, что такое «семь пар чистых и семь пар нечистых» на большом деревянном ковчеге у Ноя. Но старый Ной, держа бороду против ветра, вел свой корабль в бушующей пучине потопа и, когда захотел узнать, где лежит земля, запустил стаю голубей. И они долетели до высокой горы Арарат, где теперь живут турки — в красных фесках, похожих на цветочный горшок, и с кривыми саблями, на которых никогда не высыхает кровь православных людей.
Маленький мальчик Моисей плыл по реке Нилу и спал, надув щечки, точь-в-точь как Сережка, когда пускал пузыри в подушку. И корзина у мальчишки Моисея была как у Кольки, но он не мчался с горы, а плыл в ней по широкой воде. А на берегу встречали сонного Моисея чернявые женщины с опахалом из перьев страуса, который умеет бегать по степи резвей скакуна.
Но больше всего захватывал Димку рассказ, как Иаков боролся с богом.
На краю холма, среди колючих кактусов, курчавый Иаков бросил посох и схватился с господом. Бог был на картинке как молодой ангел — в белом платье до земли и с крыльями. Он словно и не боролся с человеком, а просто валял дурака: схватил руками кисти Иакова, посмеивался, как барин в тот день, когда вели с ошейником из ботвы маленьких кудеяровцев, и просто не давал борцу хода.
А Иаков бычился, бычился, но никак не мог вырвать рук из железных тисков бога.
— Не по правилам! — как-то вечером сказал Димка.
— Чего там еще? — дед Семен заглянул в книжку.
— Боролись, говорю, чудно! Стояли, стояли и — ни с места! Раз борьба по-вольному, знай одно правило: не драться, не кусаться, ниже пояса не браться. Все ребята так борются, милое дело! Мог бы Иаков изловчиться, дать богу подножку!
— Про бога не болтай! — Дед Семен опасливо глянул на икону в красном углу и слегка толкнул Димку в бок. — Бог все может! И не сподобился Иаков побороть его. Подножка! Я тебе дам подножку! Спать иди, богохульник!..
О боге приходилось думать часто — в церкви, в школе и дома. В семье вспоминали о нем каждый день, непременно крестились ему: мать — сердечно, с теплым ласковым светом в глазах, дед Семен — деловито, как на работе, словно рубил топором, отец — как-то застенчиво, мимоходом. Дядя Иван на икону и не заглядывал.
Бог казался многоликим.
Сначала он был веселым и добрым стариком с седой бородой, как над вратами зимнего притвора в церкви, где он летал по небу в золотых лучах. И что-то было в нем от того озорного дедки, от домового, который щекотал Кольку в пасхальную ночь.
Был и обходительным старый бог: смог же дядя Иван сговориться с ним. Димка хорошо помнил тот волнующий разговор с дядей в ночь под пасху. Но если судить по книге, делал бог не только добро. От его имени было писано: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб». Значит, бог учил мстить: сурово, грозно. А кому он делал зло, мог ли тот желать ему добра?
Димка залезал в своих рассуждениях в непролазные дебри, и ему делалось страшно. Он поскорее открывал новую страницу, где описывались чудеса бога.
В рассказах Ветхого завета было много чудес, а в селе их не случалось.
Только благочинный хотел сделать чудо — выгнать беса из кликуши — из пожилой солдатки Степаниды, у которой японцы растерзали мужа под китайским городом Мукденом.
Однажды в час обедни при всем честном народе забилась Степанида в корчах. И закричала она звериным голосом и стала проклинать царя-батюшку и его генералов, что оставили ее вдовой с шестью малыми детьми на руках.
Одноглазый регент Митрохин в черной крылатке птицей слетел с клироса и побежал поддержать Степаниду: она совсем зашлась — колотилась головой об каменный пол, изо рта у нее струйкой текла желтая слюна.
Благочинный, прервав обедню, велел псаломщику подать старый, затрепанный требник в кожаном переплете и строго сказал каким-то чужим, непривычным голосом:
— Сотворим молитву, православные! Да изгонит господь демона из рабы божией Степаниды!
Его знобило от возбуждения: пухлые щеки залились краской, требник дрожал в правой руке. И над головами молящихся загремели непонятные, тяжелые слова:
— Даждь заклинание мое, о страшном имени твоем совершаемо, грозно быти ему, владычице лукавствия, и всем споспешникам его… И обрати я на бежание!..
Видно, и впрямь стало грозно лукавому! Степанида затихла, и ее — растрепанную, в старых лаптях и в драной кацавейке — вынесли в ограду. Там она отлежалась и шаткой походкой поплелась в свою деревню, тряся седой головой и зябко пожимая плечами.
А вечером зашел ненадолго дядя Иван, сел на коник, не снимая поддевки, и сказал:
— Одного человека из местных властей уважал я — благочинного. Поглядеть, так по всем статьям подходящий поп: рассудительный, сору из избы не выносит и прихожанам своим не враг. А теперь и в нем разуверился: жил-был простой смертный в люстриновом подряснике, пил водочку про свят день и грибками закусывал. Да решил завернуть чудо, что твой апостол!
— Чего мелешь-то, Иван Иваныч? Не любо мне слушать такие речи! Садись-ка лучше к столу, гостем будешь. — Дед Семен подвинулся, смахнул ладонью крошки.
— Не любо? Да возьми ты в толк, Семен Васильевич, что медицина еще не дошла, как лечить падучую! Ме-ди-ци-на! А благочинный со своей заклинательной молитвой сунулся. Ты уж извини меня: это ведь чистое шарлатанство! И сам отец Алексей понимает это: как говорится, бог богом, а сядет у благочинного чирий на причинном месте, так бежит он не в алтарь, а в больницу — к рабу божьему Ивану Давидову!
В кухне стало зловеще тихо. Только сверчок чиркал ногой по твердому крылышку.
— Я вот нынче был у Степаниды, — вздохнул дядя Иван. — Лежит баба: вся в холодном поту, дети голодные, крыша дырявая, корова недавно сдохла. Каково солдатке, а? Ну, вы как хотите, а я такое горе видеть не могу. Подумал, надо бы собрать для нее денег. Пациенты мои поддержат: кто гривну, кто пятак даст. С миру по нитке, а надобен четвертной: и корову купить, и крышу покрыть. Вношу на это дело рубль.
Дед Семен не больно жаловал дядю Ивана за всякие дерзкие речи и почти всегда начинал кипятиться. А на этот раз сдержался. Только поиграл желваками, пощипал кустистую седую бороду.
— Анна, подай целковый!.. Мы ведь тоже люди!
Вылезая из-за стола, он перекрестился, словно рубанул топором, и отправился на печку.
— Ну, друг сердечный — таракан запечный, поставь вот тут свою фамилию. И распишись! За всех Шумилиных! — сказал дядя Иван и расстелил перед Димкой лист бумаги, что лежал у него в кармане, сложенный четвертушкой. — Деньги счет любят, братец. Особенно мирские!..
С этого вечера и завладел Димкой Василий Порфирьевич Вахтеров. Он не умел писать про чудеса, да к ним и не так уже тянуло, как прежде, до этого вечернего разговора о Степаниде, убитой горем, и о благочинном, который хотел сотворить чудо. В книге Вахтерова была сама жизнь, хоть и не всегда похожая на обыденную жизнь в селе.
А священная история Ветхого завета постепенно стала сказкой. И в эту сказку Димка заглядывал теперь только поневоле, когда готовил для благочинного уроки по закону божьему.
Когда же хотелось прочитать сказку — простую, понятную, земную, без всяких чудес, Димка раскрывал «Родное слово» Константина Дмитриевича Ушинского.
Эту книжку привез ему отец, когда сняли с него опалу. Тот-то было радости, что кончились его скитания в чужом селе! Вернулся он домой, и определили его третьим учителем в неуютную школу, что выстроил барин Булгаков! Теперь вся семья была в сборе! Под одной крышей!
И в первый же вечер, в кругу семьи, отец прочитал Димке чудесные сказки и про смешного Тита, которого никак не могли дозваться молотить, и про страшного медведя на липовой ноге.
СНЕГИРЬ НА ЕЛОВОЙ ВЕТКЕ
Мать повздыхала, отец пожал плечами. А дед Семен был удивлен до крайности: ни с того ни с сего проявил Димка характер — не пошел к барину на елку.
Дед ходил по избе в раздумье, мялся, мялся, а потом затащил Димку на печку и стал ластиться.
— Ну, так што? А? Почему не идешь?
С горячей печки через раскрытую в горницу дверь видна была маленькая и островерхая елочка на столе, вставленная в обтесанный березовый крест: вся в бумажных и стеклянных игрушках, опутанная золотой канителью.
Вокруг стола, растопырив ручонки и переваливаясь с боку на бок, неумело ходил Сережка и не сводил глаз с блестящей звезды на зеленой маковке деревца.
— Хочу с Сережкой побыть, — Димка думал, что дед отвяжется, и сказал, что взбрело в голову.
— Вот и хитришь, поганец! Сережке и с нами хорошо. А ты с ним не того… бывает, и совсем не занимаешься.
Димке пришлось выкручиваться.
— Барин ребят обидел, ошейник надел, как на собаку.
— Не дури! Так они же воровали!
— И Ольку я не люблю! Прицепится, пойдет драка или нудга. Да и глазеет она на меня, как на нищего.
— Ну, не ждал: гордый ты, поганец! А с пустым-то карманом в гордецах ходить не след! Да и барин осердится, а мне с ним еще дела делать!
Сказал дед — и задумался. Никак не укладывалось в голове: как это не пойти к барину, где елка — до потолка, веселья — целый ворох, а гостинцев для ребятишек — не счесть. Сыздавна так заведено на селе — ходить к барину трижды в год: в сочельник, на масленой неделе и непременно на второй день пасхи, когда подбивались дома харчишки и таким удивительно вкусным казался кусок черствого пирога с богатого барского стола.
Покойный генерал, Вадин папаша, был мальчишкой в коротких штанах, когда Сенька Шумилин, держась за рукав Лукьяна Аршавского, тогда еще Лукьяшки Ладушкина, впервой вошел в сияющий огнями большой зал каменного барского дома и наследил на дубовом паркете мокрыми лаптями. Страшно, как в аду, гремел духовой оркестр, набранный из крепостных. И было радостно на душе, что господа допустили к себе мальчишку из кривобокой курной избы.
«А может, совсем отошло то времечко и все пошло прахом?» — мучительно думал дед Семен, уставив глаза в потолок. Но не мог он взять в толк, как дошел до этого Димка, и вдруг решил, что тут дело не чисто.
— Ты мне прямо скажи: дурил тебе голову дядя Иван?
— И ничего не дурил. «Не ходи, — говорит, — если не хочешь: нам с барином не с руки». А не пошел бы никто из ребят, так еще лучше: проглотили бы барские девчонки горькую пилюлю из хины. Вот и все!
— Ну, Иван и есть! — Дед вскочил и слез с печки. — Вот уж греховодник, прости господи! Меня сбить не может с пути истинного, так отца путает и тебя туда же! Плюнь ты на Ивана! Сходи, Димушка, поиграешь вокруг елки, гостинчек схватишь!
— Да не трави ты ему душу, батя! Один раз человек рассудил правильно, а ты его — коленкой под зад! — вмешался отец.
— И верно, Семен Васильевич! Сочельник ведь, зачем в такой день горячить сердце? Давайте елку зажигать, а то Сережке скоро спать пора! — сказала мать и зажгла первую свечку.
Вечер прошел совсем не скучно. Дружно били «ла-а-душ-ки, ла-душ-ки», и Сережка смешно топал правой ногой, словно она была набита ватой. А дед, с платком в руке над седой курчавой головой, как молодуха в хороводе, петушком носился вокруг него. А потом Сережка взмахнул руками, и свалился как сноп, и на четвереньках стал кружить за дедом, норовя ухватить его за голенищи.
Его посадили на стол, под елку, и ладно спели «Жил-был у бабушки серенький козлик». И все прыгали и строили рожи, а Сережка заливался звонким смехом.
Отец навесил простыню между окнами, достал из-под кровати черный ящик с дыркой на верхней крышке и с длинным носом, приладил лампу, с которой Димка готовил уроки, и в цветных картинках пошла перед ребятами умная веселая сказка про Конька-Горбунка. Вот было диво!
Но Сережке подоспело время, и си стал клевать носом. Мать взяла его на руки и велела ему гасить свечи. Он надул щеки, смешно запыхтел, и в горнице потянулись к потолку узкие, синие полоски дыма.
Елку поставили на пол, Сережку сунули в кроватку, на столе появился самовар, пироги, соленые грибы и жаркое.
С клубом пара распахнулась дверь в кухне: пришел дядя Иван. Он сбегал к Степаниде, отнес ее ребятам гостинцы и, видно, торопился к Шумилиным: на крутом его лбу под ершистым русым ежиком блестели капли пота.
Дядя принес бутылку смирновской водки. Выпили под грибки, и пошел горячий разговор, от которого у Димки расшумелось в голове.
Он вышел в кухню и сидел грустный, потому что страдал от своей гордости. И ненароком поглядывал на площадь, прижавшись носом к холодному стеклу. В барском флигеле сияли все окна, и над стеклянной крышей оранжереи струился мягкий свет, словно там жгли маленький костер, как в ночном, когда Димка с ребятами стерег коней на выгоне за Долгим верхом.
Правда, скучать пришлось недолго. Примчался с барской елки Колька — в потрепанном зипуне и в старой шапчонке из овчины, но в новых полусапожках, на которых быстро таяли снежинки. Глаза у него горели, на щеках полыхал румянец, от стриженых волос шло какое-то радостное сияние. Он шмыгнул носом с мороза, развалился на конике и зашептал, чтоб не слышали в горнице:
— Спрашивали про тебя. В жмурки играли, чай пили с пампушкой. Полы у барина красные, нас долго в людской держали, кухарка боялась, что наследим. Девчонки с незнакомой барышней, с учителькой, што ли, песенку спели не по-нашему. А барыня в пляс пошла, и здо́рово: зна́мо, наша, деревенская! А Вадя трубку курил, длинную-предлинную, как ваш ухват. Не веришь? Да провалиться мне на этом месте! Так пыхнет, так пыхнет, аж дым валит, как из печки. Антиресно!
— Раздевайся, — вяло сказал Димка. — Посидим.
— Вот нам Олины подарки. Мне-то резиновый мячик дала, вишь, какой складный! А тебе… — Колька глубоко запустил руку за пазуху и осторожно вытащил красногрудого снегиря с черной шапочкой и с толстым коротким носом. Снегирь был как живой и держался лапками за еловый сучок, слегка наклонив голову набок. — Давала и наказывала: «Отдай беспременно, он птиц любит. А на елку не пришел, так я ему припомню, я ему что-нибудь подстрою!» Ей-богу, так и сказала.
У Димки не хватило сил отказываться от такого подарка. Да и из домашних никто его не подзуживал. Дед Семен подержал на ладони красивое чучело птички и рассмеялся:
— Достались по наследству перья после бабушки Лукерьи!
Отец сказал:
— Хорошо сделано чучельцо, сразу видна рука мастера! В школе бы такое вывесить!
Даже дядя Иван, немного хмельной от крепкой смирневской водки, не стал куражиться. Он вбил гвоздик в горнице, возле окна, пристроил там снегиря.
— От паршивой овцы хоть шерсти клок! И черт с ним, с барином! А подумать, так Димке с Сережкой все же радость!
С этого вечера, в сочельник, Димка с Колькой и надумали ловить птиц.
Декабрьская стужа расправила крылья: склонилось солнце на лето, зима — на мороз. В день Спиридона-солнцеворота дед Семен сверял свои записи в потрепанной тетради, что хранилась на божнице.
— Все правильно помечено, — говорил он Димке. — Идет, идет зимушка! «Варвара мостит, ледовые дороги ставит. Трещит Варюха — береги нос да ухо». Три недели тому это было, аккурат в тот день, когда отец домой воротился. Помнишь, как у него на усах сосульки нависли? «Савва гвозди острит, и Никола прибивает», — бог дал, прошло: хорошие морозы были, по первопутку кони в санях пошли. А с ноне, кажин день, хоть на воробьиный скок, да прибудет дня. Другие старики говорят: «Прибавится день на куриную ступню». И про кур вспоминают. Мамка-то не знает про старый обычай, а тебе, видать, скажу. Я тебе гречки дам, ты ее в правый рукав схорони. Пойдешь с ней во двор да тайком от чужого глаза и сыпани курам в корытце.
— Ну и выдумщик ты, дед!
— Верно говорю! Примета такая есть: будут куры раньше нестись.
Димка оделся и побежал с гречкой в курятник. И так было хорошо во дворе, что домой не тянуло. Он, как и дед Семен, любил это ядреное начало русской зимы!
По утрам, в багряных лучах зари, стояли усыпанные инеем, высокие липы в барской усадьбе, дубы и березы — за церковной оградой. Тронь ветку, и посыплется на плечи шумящий снежный дождь!
Днем иней подтаивал и на ступеньках крыльца, залитого ярким солнцем, курился легким парком. Все окрест сровнялось, все закрылось легким ноздреватым снегом. Он искрился до боли в глазах — на крыше, на площади, на бревнах; звонко, хрупко трещал под ногами, а полозья саней пели в накатанной колее негромкую песню, как запечный сверчок.
Выйдешь на крыльцо в поздних сумерках — зябко дрожат зеленые звезды в бездонном черном небе. И дед Мороз озорует: спасу нет! Запахнет он на груди овчинный тулуп, распушит окладистую белую бороду и бесшумно полетит над селом. Голосистые девки — врассыпную: щиплет он их за розовые щеки! И парни мнутся, пристукивая пятками: холодит он пальцы в сапогах, давит тяжелую каплю из озябшего носа! И в каждую дырку лезет: и в побитом зипуне, и в рваных варежках, и даже в старой избяной конопатке. И худо тем, у кого плохо в дому, тяжело с одежонкой!
А плохо у Кольки. Слепой его домишко почти до окон закрыт соломенной завалинкой, но в нем холодно: не набирает он тепла от ранней утренней топки. Дед Лукьян, Антон и Колька накидывают на плечи разное старье да пожарче жгут сосновую лучину в железном одноногом светце, когда Колька готовит уроки.
А у барина, у благочинного, у лавочника, у Митьки Казанцева — в людской чайной, у Ваньки Заверткина, что торгует водкой, да еще у двух-трех крепких мужиков дым валит из труб и по вечерам. Даже почтмейстер — Петр Васильевич — топит на ночь круглую пузатую печку, облицованную черной жестью. А Колька не может. Почему так?
Дед Семен машет рукой и говорит:
— Дров нет!
Дед Лукьян кутается в рваный зипун и кряхтит:
— А дрова-то почем? Лишнюю лесину спалишь, совсем без порток останешься!
А ведь лес кругом, и сушняк есть, и Красавчик мог бы по хорошей дороге привезти сажень дров за две ездки. Да, видать, нельзя.
Димка думал, думал и зашел в тупик, как в тот памятный вечер, когда он впервые стал размышлять о боге.
И словно потускнели для него чудесные краски зимнего дня, и захотелось сделать добро Кольке, у которого так мало радостей даже в этот веселый день рождественских каникул.
Колька скатился с печки и кинулся навстречу Димке. Он собрался на скорую руку и побежал за своим другом в теплую кухню к Шумилиным.
Дед Семен поджидал ребят. Он уже надергал пучок волос из хвоста у Красавчика и вязал узлом петли для силка, которым можно ловить птиц. Петли были одиночные, маленькие. Проворными руками дед прихватывал их деревянными гвоздиками к дощечке, где уже были набиты дырочки, и ловко пристукивал молотком, словно забивал шпильки в старую подметку.
— Это ловушка для снегирей, для овсянок и для щеглов. Глядите: один раз покажу, потом делайте сами. А голубя, к примеру, надо накрывать корзиной. Есть у вас две — со льдом да с навозом, вот они и годятся для вашего дела: и зад греть и птицу брать…
ЧУЖОЙ МУЖИК С ВЕРИГАМИ
Голубей научились ловить в первый же день.
Корзину поставили вполбока на колышек, к нему привязали длинную суровую нитку. Рассыпали под корзиной горсть ржи и уселись поодаль, за высокой поленницей.
Сизарь долго ходил вокруг корзины, кивал головой и оглядывался. Потом сунулся за зерном и — попал в западню.
А с петлями дело не шло. Сыпали на дощечку и конопляное семя, и просо, и овес; клали дощечку на снег, ставили на пенек, на высокий столб в изгороди: птица не шла.
Воробьи ухитрялись садиться на самый край дощечки, и так ловко растаскивали зерна, что ни головой, ни лапкой за петлю не цеплялись.
Да и не нужны были воробьи: вот невидаль! Круглый год они были перед глазами: в саду, в поле, на огороде. Они сновали по закутам, воровали овес у Красавчика, добирали остатки еды в миске у Полкана. А сейчас жались к порогу, воевали с сороками на помойке и даже заглядывали в окна, разрисованные ельчатым узором.
В саду, на ветвях яблонь, звонко тинькали синички. Это тоже не диковинка: и Димка и Колька видели их всякий раз, когда ходили в лес. Да и никто не держал синичек в клетке: не было в селе такой привычки.
То ли дело снегири и щеглы! Летом их не бывало. Снегирь так и прозван, потому что появляется он с первой пургой, со снегом да с морозами. И щегол туда же! Словно дед Мороз высыпал их из лукошка, и они веселыми стайками разлетелись по садам и огородам, на репейники, на чертополох.
Один снегирь попался под Новый год — скучный, не то ленивый, не то больной. И петь он не хотел и все сидел на прутике, нахохлившись и тряся головой. И Димка хотел пустить его на чучело для школы, благо дед Лукьян обещал снять с него шкурку и обработать ее. Да воспротивился Сережка — поднял крик.
Занимать клетку этим скучным снегирем Димка не хотел. Он его спихнул с насиженного места перед раскрытой форточкой, когда Сережка возился с игрушками. И полетел снегирь славить в саду самого младшего из Шумилиных!
А щеглы никак не давались! Рассядутся по репью — одни головами вверх, другие головами вниз. Сильные, ловкие, красивые! От них пестро и весело на ветках будыля: мордашки красные, на крыльях — желток, грудка белая, спинка коричневая, хвост черный с белыми пятнышками. Перепархивают, как первая по весне бабочка крапивница, когда еще в любой колдобине и в тени — за сараем, под хворостом — долеживает хрусткий снег.
И звенят их голоса: «По-пить! По-пить!» А то слышится переливчато, как на беседе: «Ирглить, ирлить!» А раздерутся из-за семечка и давай долдонить: «Рэ-рэ-рэ!»
— Что придумать? Петлю, што ли, на репейник пристроить?
Колька совсем отчаялся.
Пристроили, да плохо, и ничего не вышло.
— А я так думаю: не на то мы ловим! Знаешь чего: наберем семян от репья да поставим силок у забора, под будылем. И как это я раньше не догадался! — Димке уже не сиделось на месте.
— Постой, постой! Семена оборвем, улетят щеглы к благочинному або к барину. А там нам не с руки.
— А мы к благочинному слазим! Не заругает, ведь не по яблоки! И за церковью, где могила старого генерала, репей на репье. А ну, мигом!
Так и сделали. И два щегла в тот же день запутались лапками в цепких волосяных петлях.
…Дни пошли за днями, отрывая у долгой ночи желанного света на куриную ступню. Димка просыпался по-темному, плескался холодной водой из рукомойника и начинал заниматься птицами: чистил клетки, менял воду, подсыпал зерна.
Из-за церкви выглядывало раннее солнце, птицы наперебой заводили песню. Под эту песню Димка завтракал, повторял стишок либо новую сказку про бога, надевал шубейку, перекидывал через плечо холщовую сумку и бежал в школу. А под окном уже стоял Колька: он строил рожи, манил пальцем и свистел, как Кудеяр.
Димка хотел выпустить птиц на Алексея Теплого, в день именин отца, когда в полном согласии с календарем деда Семена шумела весенняя ростепель, колоду с пчелами из омшаника вынесли в сад, а сани затащили на поветь и вывернули из них оглобли.
Но дед Семен с матерью отсоветовали.
— Потерпи, сынок, восемь дней. И как спокон веков заведено, выпустишь своих птичек на благовещенье. Это самый большой праздник у бога, — попросила мать. И отказать ей было нельзя.
— И денек-то какой! — поддержал ее дед Семен. — Даже птицы не вьют гнезд! И грешников в аду не мучают, дают им отдых. Что и говорить: веселый день — цыган шубу сымает да продает!..
В день благовещенья Димка с Колькой взяли по клетке в каждую руку и отправились через сад к Лазинке, на высокий солнечный бугор, где перед птицами открывался дальний и вольный простор.
Бугор отогрелся, зазеленел первыми усиками молодой травы, и на нем было светло и тепло, как в летнее утро.
Ребята скинули верхнюю одежонку, распахнули дверцы в клетках и отбежали за высокий и кряжистый вяз, невдалеке от Кудеяровой липы.
Щеглы и снегири, еще не веря в свободу, сбились кучками, вытянув шейки и опасливо оглядываясь по сторонам.
Самый смелый и голосистый щегол, которого Димка прозвал Пестряком, решился первый. Он скокнул на землю, отряхнулся и громко крикнул: «Ирглить, ирлить!» А потом снялся и полетел через Лазинку к барскому полю, где в покров шумела ярмарка.
Нажимая друг на друга, толкаясь и переругиваясь, все птицы выпорхнули из клеток и — по одной, по две — устремились за Пестряком.
У Димки хорошо стало на душе, как после большого, доброго и чистого дела. Лучисто глянул он на Кольку и сказал:
— Ненадобна соловью золотая клетка, ему лучше зеленая ветка! Так говорит дед Семен, и, видать, правильно!.. Побежим на площадь: ребят увидим, потолкаемся!
Но Колька не ответил. Он схватил Димку за рукав и молча указал на тропинку, что вела вдоль ручья: на высоком пне старой ели сидел какой-то мужик в армяке, в поповской плисовой скуфейке и держал на коленях большой лист бумаги.
Мужик поглядел на бумагу и долго прислушивался. В овраге щебетали птицы, да с бугра, привольно разливаясь по всему лесу, лился благовест в час обедни: подслеповатый старый Евсеич редко бил в один колокол.
Мужик спрятал лист бумаги за пазуху и подошел к ручью. Там он наклонился над водой, ловко спихнул скуфейку с головы и… остался без бороды.
— Фокусник! — шепнул Колька. — Еще почище регента Митрохина!
Обмыв лицо и руки, мужик надел скуфейку. И — диво дивное! Тотчас же выросла у него борода.
Возле пня лежал мешок из дерюги. Мужик вытащил из него толстую цепь, накинул ее через плечи, как сбрую, и замкнул на груди большим замком. А поверх цепи навесил над поясом железный ящик.
Глухо звякнуло железо, когда мужик вскинул за спину пустой мешок. Потом опять огляделся, послушал, вдруг согнулся в поясе и, опираясь на клюку, шатко, как больной, поплелся к дороге, которая от барского моста, мимо кузни старого Потапа круто поднималась к церкви.
— Юродивый! Ой, боюсь я таких! Хорошо, хоть не видал, не привязался! — поеживался Димка, подбирая одежду и клетки. — Пойдем скорей! Сейчас он начнет при народе всякие коленца выкидывать!..
Юродивый и впрямь выделывал коленца!
Он ползал по паперти, гремя веригами и ящиком, и выкрикивал ребятам, которые не зашли в церковь и толпились в ограде:
— Шилды-булды, пачики-чикалды, шивалды-валды, бух-балды!
И ребята, не сдерживая смеха в час обедни, ухмылялись и ржали, глядя на мужика, который делал такое веселое представление.
Из церкви вышли парни — перекинулись словом с девчатами, которые давно ждали этой минуты, сбившись кучкой слева от паперти. Юродивый закричал:
— Белогубы огурцы, молодцы белопупы! Подайте копеечку на храм Симеона-столпника!
И парни дали ему, гремя медяками в карманах.
В церкви прошел слух, что на паперти чудит юродивый.
Вышел поглядеть на диковинку сельский староста Олимпий Саввич — человек крупный, рыхлый, в годах, заимодавец и благодетель, который умел с елеем в голосе снимать с должника последние портки. Был он в черной поддевке до колен, с форменной бляхой на грузной, золоченой цепи.
Юродивый увидал старосту, сел, поджав ноги, как татарин на ярмарке, поднял очи к небу и загремел:
— Семя лукавое, сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды?.. Когда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи моя от вас и, если умножите моления, не услышу вас!.. Подайте, ваше степенство, на храм Симеона-столпника!
Олимпий Саввич важно вынул из кармана кожаный гаманок и кинул в кружку звенящий гривенник серебром.
Поднаперли из церкви любопытные бабы и девчонки, и юродивый запричитал напевно:
— Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны, коза в сером сарафане, корова в рогоже, всех дороже!.. Жертвуйте, бабоньки, Симеону-столпнику!
Бабы и девки не знали, что и делать: плакать или смеяться. И торопливо сыпали в ящик юродивого копейки, семишники и алтыны.
И опять пополз мужик с веригами к ребятишкам:
— Чичер, ечер, сходитесь на дер: кто не дерет, того пуще за власы драть, за косицы, за власицы, за единый волосок! Не учитесь грешить, учитесь богу молиться, Христу поклониться!
Он выбросил вперед длинную руку и вырвал у Фильки русый клок волос из темени.
Обедня кончилась. К паперти подвалил народ, еще умиленный торжественным песнопением в праздничный день. В ограду вышли степенные старики, а с ними — Семен и Лукьян.
Колька спрятался за дедову спину и крикнул юродивому:
— Эй, блаженный! Скинь-то скуфейку! Пускай народ поглядит, какой ты фокусник!
Юродивый дернулся, встал во весь рост и гневно поглядел на Кольку.
— В чем дело? — сердито шагнул к Кольке Олимпий Саввич. — Почему такие речи?
— Мы сейчас видели: он бороду на ручье снимал! — залепетал Димка.
Олимпий Саввич подошел к юродивому и сильно дернул его за конец рыжей бороды: она туго оттянулась от бритого подбородка и встала на место.
— Стражника! — поверх притихшей толпы загремел голос старосты.
И когда предстал в мундире долговязый стражник Гаврила с большой «селедкой» на левом боку, повели блаженного в волостное правление и заточили в блошницу.
А к вечеру прошел по селу слух, что этот юродивый — человек вредный, посланный в глухой уезд с чужой земли что-то разнюхать и нанести на карту.
— Шпион! Германский шпион! — сокрушался дед Семен. — Кто бы мог подумать?..
 ГОРЬКОЕ ЛЕТО
ГОРЬКОЕ ЛЕТО
ВОЛОСАТАЯ ЗВЕЗДА
Дед Лукьян вернулся с обхода, кинул колотушку на подоконник и сказал Кольке:
— Нонче, брат, напужался! Подошло время вторым петухам петь, гляжу: летит над барским садом волосатая звезда, что твоя головешка из костра. И во все края от нее искры, как от красного железа в Потаповой кузне. А за ней — рыжая борода клином, как у того блаженного, что в город свезли. «Эх, — думаю, — упадет эта головешка и — прямо по маковке». Отсиделся на крыльце в волостном правлении — обошлось! Только не к добру такая звезда!
Дед Лукьян помельтешил дрожащей рукой перед носом, не глядя на икону, и запихнул в беззубый рот кусок горячей картошки.
И пошел по селу бередящий душу слушок.
Бабы по вечерам стали сбиваться в кучу у плетня, возле колодца. Они судачили, чего им ждать после этой волосатой звезды в черном небе, и вспоминали про Степаниду, у которой лихое солдаткино горе совсем помутило разум. И, размашисто крестясь, приговаривали со вздохом:
— Пронеси, господи! Свят, свят, свят!
К бабам подсаживались мужики; они слушали, почесывали в затылке и кряхтели: мало кто не верил, что такая звезда — к войне.
Один печник Андрей не терял бодрости и гнул по-своему:
— В десятом-то году не такая звезда пронеслась: почище, прямо огненная стрела! Думали, конец света пришел. Моя маманя саван приготовила, а и досе жива! И что ж на поверку вышло? Сгорела баня у благочинного! Так она бы и без этой звезды полыхнула. Все знают: почтмейстер пошел париться, хорошую косушку принял до мытья, сушняку накидал в печку да заснул. Сам-то хоть не сгорел, и то слава богу! И еще случай был в том году: угорел Митька Казанцев в своей новой чайной — всей улицей отливали его холодной водой из колодца. Вот тебе и война!
Но Андрею просто не верили. Все искали какую-нибудь другую плохую примету и — находили.
До самых петровок шли проливные дожди. И грибы повыскакивали из мокрой земли, как сорняки на худом поле. Димка с Колькой до того расхрабрились, что даже самую крепкую сыроежку не считали за гриб. Брали только отборные грибы: в еловом лесу, на мхах — сочные боровики в коричневой плисовой шапочке; под березами и на опушках — черноголовые подобабки, словно смазанные жиром; под иудиным деревом, которое всегда дрожало, как намокший щенок, — подосиновики в большой красной шляпе, на толстой белой ножке, усыпанной черными точками, как на румяной ягодке земляники.
А такие сильные грибы не к счастью! И тревога в селе не утихала.
Да и в барской усадьбе все шло шиворот-навыворот.
Под Николу вешнего, в страшную грозу, прикатила с намокшим до последней нитки Борис Антонычем старая генеральша. И намылила она холку своему непутевому Ваде: за ярмарку, за лабазы да за новый дом, что глядел на село пустыми окнами с далекой базарной площади.
Ох, и сбила она спесь с барина! И ходил он по селу смурной — без пегой суки, в старых сапогах, с нечесаной бородой. И сидел по вечерам в чайной у тестя, промеж всяких лапотников и заезжих торговых людей, отводил душу за бутылкой смирновской водки с почтмейстером либо с лавочником. А иногда допускал в свою компанию и деда Лукьяна. Это было совсем не по правилам, хоть Лукьян и желал когда-то уберечь молодого барина от гнева старой генеральши, когда тот похитил на мельнице и уволок в Москву краснощекую пышную Варьку…
Всем мастеровым генеральша объявила расчет вчистую. И управляющий Франт Франтыч, попыхивая коротенькой трубочкой-носогрейкой, кое-что заплатил им в конторе, безбожно обсчитав на харчах и даже на всяком фураже для лошадей.
Дед Семен выражался в полный голос:
— Какое дело загубила генеральша: стройку прикрыла! Да мы бы всем миром тянули с этого шалопутного Вади за грошем грош, за целковым — катеньку. Под самый корень подрезала старуха, чтоб ей подавиться старой онучей! Ай-яй-яй!
А Вадя грустил-грустил, а потом собрал кой-какие вещички, оставил свою Варьку с девчонками в селе и один улетел со вторым кучером в крытом кургузом тарантасе в Белокаменную: видать, за песнями.
Базар заглох. Там, где недавно маклачили перекупщики, торговали в рядах всякие купцы, что-то сбывали и покупали окрестные мужики, все окна и двери в лавках забили шелевкой. В недостроенном Вадином доме стали селиться голуби, воробьи и стрижи. Мужики, не поминая добром старую генеральшу, снова потащились со своей нуждой — в грязь и в непогоду — через две речушки да через два крутых бугра на старинный, исконный базар в Плохино.
На петров день разведрилось. И подошла пора сенокоса: застучали деды молотками по наковаленкам, зазвенели, запели стальные косы!
А по селу уже летел тревожный, хотя и радостный слух: раскололась Марья Андреевна!
Никогда она не сдавала обширный заливной луг за рекой, за Жиздрой, как ее ни упрашивали всем миром на сельском сходе. А тут на-поди!
Явился на сход управитель Франт Франтыч, в накладных кожаных голенищах, в шляпе с маленьким пером, как хохолок у молодого петушка, с пахучей трубочкой-носогрейкой, и давай говорить через пень-колоду:
— Старый барыня пожелайт мужичка уважить. Как говорится: деньги на бочок!
Мужики затряслись от смеха.
— Простите, не так вышло. Деньги — на бочку! И в добрый час! Можете косить окол Дубовый бугра!
Дед Семен с печником Андреем и с Гришей, выбранные на сходе отвечать перед генеральшей и торговаться с ней до последнего, быстро обошли все избы и набрали целый ворох рублевых кредиток и с ведро медяков.
Андрей ссыпал звенящие монеты в мешок.
— Смехота подкатила! Несем барыне ее же деньги. Ну, не ее, так Вадины! А почудил бы он еще с полгодика, могли бы нагрузить медяков целый воз. Да пошли бы в экономию торговать землицу за Долгим верхом!
Андрей подавил смешок и насупился.
— Эх, мужики! Сплю я и вижу ту барскую землю. Купить бы ее всем обществом, поделить по-честному, без мироедов, да собрать бы с нее по сто пудиков с десятины, колос к колосу! Вот бы житуха!
— Не возбуждай! — сумрачно сказал Гриша и подал знак — идти.
Старая генеральша допустила к себе выборных. Но так почала торговаться, что у деда Семена мелко, дробно затряслась сивая борода. И подумал он горько, что не сбить им старуху и все пойдет прахом из-за одной полсотни.
Но пораскинул дед Семен мозгами, и надоумил его лукавый припугнуть генеральшу и улестить ее приятной речью.
— Дозвольте еще одно слово молвить, ваше превосходительство! Я вот так думаю: как ни крути, как ни поворачивай, а с мужиком вы одним миром мазаны. Обедняем мы, к примеру, пойдем по округе с протянутой рукой либо земскому начальнику станем поклоны бить, так и вам несладко. Конешно, с мужика, с бедняка можно и последние портки снять. Только он от этой штуки куда злей делается, душой кипит, и лезут ему в башку всякие проклятья: на мироеда, на богатого. И — на барина! Не ко времени вспомнилось, да только когда казачки по вашему приказанию выдрали меня розгами, как на духу говорю, не хотел я вас поминать добрым словом! И любого другого коснись: он такое загнет, что и в гробу перевернешься. А зачем вам это?.. Супруг ваш, покойный генерал, царство ему небесное, николь нас под корень не резал, хоть и крут был, не чета вам! А от вас, благодетельница наша, ждем мы только милостей!
Генеральша наставила золотой лорнет на деда Семена и даже слегка улыбнулась:
— Не слыхала я от вас таких слов, Семен Шумилин, не слыхала! Верить им не могу, но хвалю вас, что кладете вы душу за общество. Уговорил, греховодник: пусть будет по-вашему!..
А когда выборные вышли на площадь, Гриша ухватил деда Семена за рукав и сказал сердечно:
— Ну и говорун ты, батя! Быть бы тебе в Государственной думе, только по статьям ты не вышел: капиталу нет, штаны у тебя с огузьем, да и сапоги в дегте. Небось генеральша окно распахнула — дух от нас чижолый!
Андрей засмеялся.
— За полсотни всего и старался. Можно бы и полегче говорить! Но удивил, удивил ты, Семен Васильевич! Бабы как узнают, что ты от генеральши отбился, вымажут тебе на покосе бороду сметаной. От радости, конечно! Так что держись, голова!..
Росной зарей повалили все мужики на арендованный барский луг. А в селе остались богатеи, захребетники: не было им резона совать нос в бедные мирские дела.
Дед Семен сделал почин: размашисто, под левую ногу, опробовал на глазок у всех острую новую косу: трава вздрогнула, легла густо и тяжело.
— Пошли! — крикнул он косцам и, не делая больших шагов, словно поплыл по зеленому морю за своей лихой косой.
В звенящем шелесте следом двинулись мужики длинной цепочкой — и Андрей, и Гриша, и Потап, — без картузов, в белых посконных рубахах до колен, в новых лаптях с легкой онучей. Замыкал цепь отец. Димка впервой видел его на покосе. А позади всех тащился дед Лукьян. Он тоже ловко тыкал косой в травяную гущину, почти синюю ранним утром, подмигивал мальчишкам и балагурил:
— Эх, выдерну-ка я лычко из-под кочедычка!
Он часто шмыгал длинным табачным носом и приговаривал:
— Под носом у молодца румянец, ой-люли! А во всю щеку — что под носом, ай-люли! Ну, знай наших!
Взял косу и Димка. Не мужскую длинную литовку, а мальчишечью горбушу с коротким кривым косьем. И пошел с Колькой, с Филькой и с другими ребятами обкашивать траву у высокой кромки берега реки, меж кустов и по закрайкам мочажин и болот, заросших осокой, камышом и телорезом. Сильно засаживал пятку косы в рассыпчатые холмики луговых муравьев. И клял себя, но не сдавался. И, обливаясь потом, звонко шаркал бруском по блестящему лезвию, наспех сбрасывая сочные травинки, прилипшие к мокрому желобку горбуши.
В полдень пришли с граблями на плече, с голосистой и протяжной песней задорные веселые девчата — в ярких тканых поневах или в широченных юбках из цветастого ситца.
Они разбили траву в грядках, уселись на берегу Жиздры и затянули старинную песню про любовь. Стешка зачинала, все подхватывали припев:
Летят утки, летят утки
И два гуся.
Ой, кого люблю, кого люблю —
Не дождуся!
Мил далеко, мил далеко,
Где ты, где ты?
Ой, хороши ли, хороши ли
Мои приветы?
Когда, милый, когда, милый,
Бросать станешь,
Ой, не рассказы… не рассказывай,
Что знаешь!
Летят утки, летят утки
И два гуся.
Ой, кого люблю, кого люблю —
Не дождуся!..
Хитрые девки! Пели они с умыслом и дождались тех, про кого думали в песне.
Пришли к ним парни с прибаутками, с ходу кинулись в пеструю девичью толпу. Схватили Аниску, которую барин так и не сосватал за молодого садовника. И прямо в одеже бросили ее в Жиздру с крутого берега. Завизжала Аниска, как хрюшка, и гвоздем пошла на дно. А купол широкой юбки, как венчик цветка, еще сухой в воде, покачивался на волнах.
Вылезла Аниска и, смеясь и плача, бросилась вдоль берега в кусты, сверкая голыми пятками.
Налетели парни на Стешку, да пришлось идти на попятную: загорелись глаза у Гриши, крепко сжал он сильные кулаки.
— Ого! А тут, братцы, любовь! — прыснул со смеху долговязый парень с тонкой журавлиной шеей. — Не скумекали! Значит, нам от ворот поворот. Ну, пошли, мужики, купаться: пускай Гришка любовь крутит!
Перед вечером девчата ворошили сено. И скоро вокруг бугра, где еле слышно отвечала листвой легкому ветерку тенистая дубрава, стали подниматься первые стога — высокие, крутые, от которых пряно несло ароматом увядших цветов.
Копнили их древние старики: босые, седобородые, в домотканых белых портках с широким огузьем, как у запорожских казаков. Работали они споро, пританцовывая после каждой новой охапки. И, закончив стог, приказывали подать наверх густую и длинную ветку чернотала. С маху втыкали ее в макушку стога и этим вершили дело до нового дня.
За веселой работой на лугу — да всем миром! — словно и позабыли о комете — о волосатой звезде деда Лукьяна.
Но пришел срок, и она дала о себе весть.
Мужики и девки ушли в село, а с ними и деды — Семен и Лукьян. А сторожить мирское сено вызвался отец со своей шомполкой. С ним остались Андрей и Гриша и, конечно, Димка с Колькой, которым так хотелось провести ночь в дубраве, у горящего костра, а под утро зарыться головой в пахучий стог сена и увидеть чудесные сны.
В ночи, когда затих последний коростель в нескошенном лугу и только утки высвистывали крыльями под яркими звездами — фить-фить-фить, — закричал кто-то истошным голосом.
Вся мирская охрана кинулась через луг: в черной пучине боролся с водяным старый почтмейстер и орал во всю глотку:
— Ой, батюшки-светы! Караул!
Люди добрые! Ка-ра-ул!
На воде он держался плохо, словно его дергали за ногу. Он пыхтел и отдувался, нырял и опять выставлял на поверхность лысую голову: только она и белела в воде, как незрелая тыква. А вокруг кипели буруны, будто рядом с ним резвилась в реке кобыла.
— Держись, Петр Васильевич! — крикнул Гриша, разделся и поплыл.
А отец с Андреем поползли на карачках к месту боя по шатким рыбацким лавам.
Каждое лето делал почтмейстер загородку в реке. От берега до берега ставил в песчаное дно березовые козлы, на них клал жерди. А через жерди перекидывал на всю глубину связанные в комле густые еловые ветки.
В этом речном плетне оставлял он неширокие воротца, где был самый ход рыбы. И сидел по ночам на помосте, держа в руках шнур от кнейки, от сетки. А когда рыба заходила в кошель и стучала в шнур, поднимал он свою снасть и снимал улов. И кормился от этой рыбы: менял ее на творог, на яйца.
Гриша плыл быстро, уже возился рядом с почтмейстером и кричал:
— Бросай шнур, дурья голова! Да садись на закорки! Потащу к берегу!
— Што ты, што ты! — выдохнул почтмейстер и — пустил пузыри: бу-бу-бу! Гриша нырнул за ним.
— Ну, сам черт сидит в кнейке, мало не утопил! — отдувался почтмейстер. — Поддержи меня малость, воды наглотался. А ну-ка, подмогните, братцы!
— Где шнур? — спросил отец.
— Да вот он! — подал голос Андрей. — Ну и чертяка! Как этого дядю брать будем, а? Темень страшенная, утопит он нас!
— Дима! Костер надо! — крикнул отец.
Димка сорвался с места, толкнул Кольку.
— Отставь! — глухо сказал Гриша, хлопая по воде ногами. — Глянь у меня в кармане, там спички. Да поживей, рыбак совсем зашелся.
— На берег меня, на берег! — застонал почтмейстер. — Вы, братцы, того… клячьте помалу, а я за дрючком сбегаю. Не оглушим, так веревку на башку накинем!
Держась за Гришу, почтмейстер едва живой выполз на берег: на нем все чвакало и хлюпало. Но мигом отдышался, разделся донага, выдернул кол из загородки, подхватил моток веревки и ловко засеменил по лавам к своим воротцам.
Гриша, тяжело дыша, улегся на теплой земле.
— Ну и живучой старикашка! — сказал он ребятам. — Вишь, как чешет! А в воде совсем с душой прощался… Ну, я пойду на подмогу, а вы сушняку подкиньте: свету мало.
— Что там, дядя Гриша? — Димка сгорал от любопытства.
— Не русалка? — спросил Колька.
— С хвостом! А кто такой, не разберешь. Развернулся, дернул да и кинул рыбака мордой в речку! — Он побежал по лавам, но оскользнулся и полетел в воду. — Сейчас я, сейчас! — отмахивался он саженками. — Заводите наверх, а я с реки пособлять буду, с воды поддякивать. Эх, одна дяка: хоть за рыбу, хоть за рака!
В кошеле шел бой. Андрей, отец и почтмейстер кряхтели, упираясь ногами в козлы. И тянули, тянули что было сил. Что-то черное — длинное и толстое, как старый дубовый топляк, — тяжело развернулось в сетке. И почтмейстер крикнул:
— Бей его, Андрюшка, как по почтовой марке!
И сейчас же Андрей ударил сплеча во что-то мягкое. И это мягкое, еще недавно такое грозное, страшное, квокнуло один раз, другой и затихло.
— Не донесем! — засуетился почтмейстер. — Накиньте веревку, Алексей Семеныч, под жабры. А ты уж, Гриша, плавом его тащи, как бревно.
Это был сом. Чудо-сом, пуда на три! И почтмейстер великодушно отдал его для мирской ухи.
Вечером, когда старики копнили последние стога на барском лугу, отец позвал Димку на рыбалку. Тот страшный сом, которого съели всем миром в полдень, не давал отцу покоя: манил, звал попробовать счастье.
Отец устроился поодаль, в кустах, за крутым поворотом реки. А Димка побежал ловить живцов возле затопленного дуба, который лежал в воде шершавой акулой, уткнувшись могучим комлем в песчаную навись над омутом.
С крючка у Димки соскочила серебристая плотичка и запрыгала, заплескалась на узкой отмели возле дуба. Он бросился за рыбкой, но упал лицом к воде: нога застряла в зарослях ежевики, как в сетке. Уперся локтем в песчаную навись, рука провалилась: глаза, уши, рот, вся голова ушли в омут.
Димка забарахтался и дернул ногу: ежевика ее не отпустила. Хлебнул воды и — перепугался. Вскинул голову над омутом, закричал и снова шлепнулся лицом об воду.
Даже ворот рубахи еще не намок, а он тонул! И уже совсем не оставалось времени, чтобы жить! Вода заполонила рот, набилась в уши. И какие-то оранжевые круги с того света заплясали перед глазами. Фыркая и захлебываясь, он терял сознание.
Отец подоспел вовремя. Он перекинул Димку грудью через колено и дал такого пинка под зад, что из ноздрей фонтанчиком брызнула вода.
И услыхал Димка голоса людей на лугу и звонкую трель жаворонка в голубом ясном небе. И уткнулся лицом в колючую щетку скошенной травы и заревел: от большой радости, что жив, от счастья.
К ночи дед Семен нарезал кучу жеребьев из лозы, похожих на наперсток, и по кривому срезу проставил карандашом номера. По жребию, который мужики вынимали у костра из овчинной шапки деда Лукьяна, разделили все стога по дворам. И Красавчик потащил в село первый воз.
Димка с Колькой лежали на сене. Отец шел впереди и рассказывал, как он напугался, когда услыхал Димкин крик:
— Орет где-то! А выйду на луг: ничего не видать. Сел к удочкам — опять крик. Хорошо хоть, круги на воде заметил да и вовремя из западни его вытащил. Не успей — было бы худо!
Дед Лукьян плелся по обочине мягкой луговой дороги, рядом с дедом Семеном, и вздыхал:
— Не к добру, ой, не к добру та волосатая звезда! Пролетела она неслышно, а сколь нам хлопот: почтмейстера с Димкой в один день могли потерять!
— Да хватит тебе, вещун! — огрызнулся дед Семен и причмокнул: — Но, Красавчик! Вперед, милай!..
КРАСНЫЙ ПЕТУХ
На улице было жарко и ветрено. И Димка пускал мыльные пузыри на кухне. Они вылетали из соломинки, как пули, как ядра. Сережка был в диком восторге: прыгал, дул на них, хватал руками. И пузыри лопались с легким щелчком, как стручки акации, когда подоспело им время разбрасывать семена. Иногда пузыри попадали в яркую полосу света и отдавали сиреневым блеском. И в них, как в зеркальце, виднелись стекла в окне, и переплеты рам, и полыхающий золотыми бликами самовар на конике, и веселые, словно раздутые вширь, рожицы двух шалунов.
В доме никого не было. Да и все село будто вымерло: люди жали хлеб. Только древние старухи хлопотали в избах: сушили на штакетнике стоптанные валенки, глиняные горшки; да всякие несмышленые ползунки резвились на крыльце или копались в горячей дорожной пыли, как цыплята. А ветер подхватывал пыль, ловко закручивал ее воронкой и далеко уносил прочь вместе со щепками, с былинками сена, с сухим куриным пометом и всякой другой дрянью.
Димке очень хотелось в поле, да пришлось вот остаться из-за Сережки: стал он ходить, бегать, лопотать, нужен за ним глаз да глаз. То за ножом тянется, то за спичками: мало ли до греха? А уж егоза — голова идет кругом; лезет на руки — возиться, слушать сказки, ласкаться. Хорошо хоть, о пузырях вспомнил: пускали с Колькой по весне прямо на улице!
Но пузыри надоели Сережке. И Димка спросил:
— А хочешь, я тебя в полет пущу?
— Хоцу! Хоцу! — обрадовался Сережка.
— Становись! Голову и плечи нагни, а руки сложи ладошками, вот так, и просунь между ног. Видел, как папка делал: крутанет меня, и я лечу. Здорово!
— Давай!
Димка крепко ухватился за Сережкины руки и рванул на себя. Изо всех сил хотел, да не вышло: не смог приподнять братишку, сделать ему полное сальто. И малец, завершив полукруг, с маху клюнул в тряпичный половик.
Нос будто сплющился, полилась кровь, крик разорвал уши. В эту минуту и брякнуло в разбитый колокол: бом-бом-бом!
Набат всегда леденил сердце. Был он страшней потопа, страшней вулкана, страшней покойника. Бом-бом-бом-бом! — словно всадили нож в глотку.
Димка забыл про Сережку и выбежал на улицу. Бом-бом-бом-бом-бом! И все оборвалось в душе: за почтой, на скате горы к Омжеренке, вовсю горела-полыхала соломенная крыша.
Из густого синего дыма вырывались к небу красные искры. Трещали и кувыркались в воздухе горящие головни. Огонь ухал, плясал, ветер свистел. И уже по соседней избе — как живой — бежал огонь под застреху.
Анна, мать Андрея, что-то выкидывала через окно, а на ее крыше огненные языки клубились, как змеи.
Две старухи метались по улице среди огня и едкого дыма и кричали безумно, дико. В голос плакали ребятишки, но их вопли заглушал набат: бом-бом-бом-бом-бом-бом!
Ветром занесло головню во двор к почтмейстеру, и по старой дранке почты заметались танцующие огни.
Димка врос в землю: почти все село на его глазах полыхало костром! Он кусал губы, и слезы скатывались в рот, падали на грудь.
Из этого оцепенения вывел его Сережка. Он вышел на крыльцо — весь в слезах, в крови и с такой гулей, будто ему вместо носа прилепили картошку.
Димка кинулся к нему и запричитал:
— Сереженька! Пожар! Да не плачь ты, маленький, не хотел я тебя обидеть!.. Ой, сгорим! Гляди! К Лукьяну перекинулось!.. Люди! — завизжал Димка. — Папа! Деда! Где вы?
И эти слова, которые он выкрикнул до боли в ушах, очерствили его сердце. И он вдруг понял, что один он тут: хозяин, работник, надежда семьи.
Он подтолкнул Сережку, у которого застыли глаза от страха.
— Беги скорей вон туда: к барскому саду. Я буду тебе вещи таскать!
И заметался по кухне: достал тетрадь деда Семена, схватил самовар — отнес к Сережке. Прибежал за подушками, ногой выпихнул из сеней пустое ведро. Снял со стены безмен и ходики. А вещей не убывало, и какую из них брать — он не знал, голова шла кругом.
На Красавчике прискакал верхом, без седла, дед Семен — в расхристанной рубахе, без картуза.
— Одежу, одежу таскай! Сгорим — не справим! — крикнул он Димке, а сам, спрыгнув с коня, схватил ведро с водой и побежал к Лукьяновой избе. С ходу выбил дверь плечом, полез на чердак, плеснул водой из ведра. Но опалил бороду в огне и стал вышвыривать далеко на улицу ложки, чашки, зипуны, лапти.
Прибежал отец. За ним Колька, мать, Лукьян. Выкинули, что смогли, из хаты деда Аршавского. А огонь уже охватил закуту у Шумилиных.
— Алешка! Живо на крышу! Сбивай искры мокрым помелом! — крикнул отцу дед Семен. — Всем таскать, что успеем! — И ударил оглоблей по крыше закуты, чтоб заглушить пламя, и стал быстро бегать от колодца к пожару и опять от колодца к пожару с полным ведром.
Отец проворно влез на крышу, но не смог удержаться — искры сыпались на дранку, как из решета, под застрехой зловеще полыхнуло пламя, рубаха стала тлеть. Дом вспыхнул, как сухая лучина, и пошел трещать, гудеть в огне и рассыпаться.
Только и успели: перебежать в сад, отстоять сарай да раскидать багром с десяток нижних бревен у венца в сгоревшем доме. Их залили водой, но они долго еще трещали и угарно чадили на пепелище.
В этот страшный день никто не вспомнил про пожарную бочку с ручным насосом. И она сгорела в дощатом сарае за винной лавкой, так и не пойдя в дело.
Из соседних деревень прибежали мужики с топорами и с железными пиками. Но уже догорал дом благочинного и полыхали всякие кляузные бумаги в конторе волостного правления.
Старая генеральша отсиделась в своем каменном доме и не шевельнула даже мизинцем. Пароконная пожарная бочка на ее усадьбе так и простояла на одном месте: из нее поливали водой деревянный Вадин флигель, где Варвара Булгакова со своими девчатами тряслась от страха, хотя пожар ей почти не угрожал.
Дядя Иван был в соседней деревне, по вызову, и прибежал, когда Сережку с вещами уже снесли в сарай. Он вышагивал по земляному полу, натыкаясь на ведро, на сундук, на сложенную в кучу одежду, от которой пахло горелой тряпкой, и бросал гневные слова деду Семену:
— Вот тебе и хваленые господа! Мужик горит у них на глазах, а им хоть бы что!.. Сволочи они! Я всегда тебе говорил. И когда только кончится эта проклятая жизнь: с барином, с приставом, с благочинным да и с твоим богом в придачу!
Дед Семен перекидывал в руках топор — хотел прилаживать рукомойник к стене — и отмалчивался.
— Убегу из села! Санитаром пойду на завод, в больницу. Там хоть люди, товарищи! И умеют они постоять друг за друга! — Дядя Иван совсем рассвирепел.
Колька с Лукьяном сидели на жалкой рухляди в темном углу и всхлипывали, как по покойнику. Отец примостился на чурбаке. Он курил, давил сапогом окурок за окурком и тяжело вздыхал. Мать, как наседка, хлопотала возле Сережки и обмывала ему разбитый нос.
Димка сидел на грядке, против ворот, и будто без всякой думы глядел на петуха. А тот как ни в чем не бывало задрал голову кверху и задорно прокукарекал. И где-то вдалеке отозвался ему петушиный крик на селе.
— А что делать, Иван? — покорно спросил дед Семен и кинул топор к ногам. — Красного петуха старой генеральше ты не подпустишь, даже со зла. Да и черт с ней: сгорит, так еще лучше отстроится.
— А вы с нее денег потребуйте — всем миром. Она из вас сорок лет жилы тянула! Не даст денег — лес берите, да не так, чтобы вас по заднице березовыми прутьями хлестали! И пускай она на земство жмет, чтоб ссуду дали. Безвозмездную ссуду. Понимаешь?! И — Голос, голос подайте! Да кулаком по столу. И не просите, не кланяйтесь, а свое требуйте!
— Правильно! — сказал отец. — Всем миром надо требовать. Ведь не один ты погорел? У всех такая беда.
— А я, видать, по миру пойду. Не встать мне на ноги, ох, не встать! — Дед Лукьян обхватил голову руками и застонал. — А все та звезда волосатая, лишенько мое, лихо!
— Да замолчите вы со своей звездой, дядя Лукьян! — вскипела мать. — Обойдется! Не среди волков живете. И не бросим мы вас в беде. Кольку выходили, неужели теперь его под забором оставим?!.
«ПОСЛЕДНИЙ НОНЕШНИЙ ДЕНЕЧЕК…»
От старого села остались больница да школа, барская усадьба за вековыми липами, каменная церковь, сарай у Шумилиных и четыре столба возле Потаповой кузни, где ковали лошадей в станке.
На пепелище шныряли ребятишки и среди черных углей и пепла находили то посинелый гвоздь в разводах окалины, то ухват или чапельник, то сковородку и дверную скобу, а то и подкову, давным-давно прибитую к порогу на счастье. Только и с этой подковой, натертой ногами до блеска, птица-счастье не залетала в хату, а теперь о ней не приходилось и думать!
На пятый день после пожара прискочил земский начальник на гнедой паре: барин в годах, с каким-то незначительным лицом, с обвислыми усами и толстым пузом под синим мундиром.

А за ним прискакал козельский исправник — высокий и поджарый полицейский офицер, первый в округе матерщинник и залихват. Почище любого запьянцовского он умел глушить водку, громко лаялся в голос и страшно сучил кулаки. И на расправу был спор и крут.
Он и раньше заезжал к Булгакову и ночью, после пьянки, крутил граммофон и пел осипшим голосом:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноокую девицу,
Черногривого коня!
Крикливый кучер исправника гнал обычно по селу, не разбирая дороги: давил кур и поросят, сплеча стегал собак кнутом. Мальчишки горохом рассыпались с дороги, кидались в избу. А теперь и спрятаться было негде! Разве в шалаше да в землянке, где всей семьей копались, как кроты.
Исправник прискакал, вызвал к себе старосту и стражника Гаврилу. И мигом дознался, отчего вышел пожар.
Виноватой считали старую нищенку Феклу. Мужики хотели побить ее камнями и выгнать из села, но дед Семен отсоветовал:
— Нищего прибить — не спасенье нажить! Да и без умысла она сделала, с кем не могло случиться?! А главная беда — сушь да ветер. И барская бочка со двора не выехала!
Фекла накануне пожара ночевала у Гириных и осталась утром глядеть за внучкой; истопила печь, а горячие угли ссыпала в чугунок, накрыла сковородкой и выставила в сени.
И пришла беда: слетел петух с насеста, угодил лапками на чугунок. Закричал с перепугу на горячем, полетел прочь, да и повалил чугунок набок. А пока Фекла расчухалась, изба занялась под самую крышу.
Исправник потребовал Феклу.
Она пришла, упала на колени и хотела склониться седой головой к ногам грозного барина. Но исправник наотмашь ударил ее литым кулаком в изрытое оспой лицо. И затопал каблуками и заорал на стражника Гаврилу:
— Взашей ее, взашей гони! Выкинь за кладбище и поддай коленом! И чтоб никогда она по моему уезду не шлялась!
А земский начальник молча пощипывал отвислые усы и старался не видеть жалких глаз Феклы.
Два эти господина не сочли за благо говорить с погорельцами на сельском сходе. Они пошептались с генеральшей и отбыли — один шибче другого. А староста вышел к народу и сказал:
— Генеральша даст лесу со своих угодий в Брынском лесу. Но за деньги — в рассрочку на пять годов. Земство решило выдать по четвертному на двор, ну, как бы милостыню. А кому надо больше — так под проценты, в залог имущества. Вот и весь сказ! И сидеть тут нечего. Особливо скопом, и всякие турусы разводить. Идите по своим землянкам!
У мужиков перехватило в груди. Такая беда на все село, и — на ж тебе! — «милостыню». Загалдели.
Дед Семен кинул со зла картуз в землю.
— А чего вы ждали: манны небесной? Так не про вас она сварена! Галди не галди, а староста не раскошелится. И из наших горьких слов, глядишь, еще беда нагрянет! С паршивой овцы хоть шерсти клок, как умные люди гуторят. И четвертной — деньги! И неужто пропадем, коли миром возьмемся да артелью будем строить — от малых до старых?.. Ну, вы как хотите, а мне мешкать некогда!
Он пришел домой с какой-то суровой решимостью. Запряг Красавчика и с отцом и с дедом Лукьяном затрусил в Брынский лес, куда уже поскакал верхом Франт Франтыч — отводить делянки погорельцам.
Все, кто мог, потянулись следом.
Хлеб молотили по ночам. Под утро падали замертво тяжелой головой в подушку, в охапку травы, в мягкую ветошь. А чуть развиднялось — гнали порожняком в лес.
Отца с дедом Лукьяном пристроили возить бревна — три рейса в день от зари до зари — на Красавчике и на каурой кобыле кузнеца Потапа.
Дед Семен с Андреем, с Гришей и с Потапом заложили пять венцов — для себя и для Лукьяна. Здоровых баб и дюжих девок во главе со Стешкой приставили под станок — пилить тес.
Димка с Колькой, с Филькой и с древними дедами месили глину и жгли кирпич в Обмерике — генеральша пронюхала про это, но виду не подала.
Парни днем рубили лес, а темной ночью шли на большой риск — подобрали ключи к пустым лабазам, к новому дому шалопутного Вади и тащили в мирской котел, что было по силам: то оконную раму со стеклом, то тяжелую связку досок, то листья жести.
Андрей в первый же день заложил пять печей. А через три недели каждый на своей крыше тюкал молоточком, забивая в новую дранку тонкие длинные гвозди.
Но как ни спешили всем миром, богатеи далеко вырвались вперед. Митьке Казанцеву отвалила генеральша хороший кус, и его новую чайную строила нанятая плотницкая артель. Благочинному подкинул на погорелье архиерей Калужский и Боровский. И у него шибко старалась шустрая артель из чужой деревни. Староста поубавил свой счет в банке и где-то раздобыл хороший кредит: новая его лавка уже приглашала сельскую гольтепу за товаром. Даже Аниске, видать, что-то перепало в свое время на приданое от барина: ее старики взяли да и купили готовый домишко в соседнем селе.
Почту перевели в домик возле школы, рядом с маленьким флигельком, где проживали учителя — Анна Егоровна и Михаил Алексеевич. Один лишь старый псаломщик не помышлял о стройке: занедужил он в день пожара, и угораздило его отдать концы в самую мирскую страду. И пришлось всем потерять полдня: пока его отпевали да закапывали у алтаря, за церковной оградой.
Дядя Иван иногда приходил помогать, а чаще садился на новые бревна и читал вслух газету. Вести были тревожные, где-то сгущались тучи. Под самый петров день в далекой гористой Сербии прикончили австрийского наследного принца — Франца Фердинанда. А зачем убили такую персону — невдомек. И ровно через месяц — день в день, — когда дед Семен еще прибивал дранку на новую крышу, австрияки пошли на Сербию войной.
— Мало ли где воюют, — спокойно сказал дед Семен. — В последние-то годы кругом война: и у буров, в Африке была, и в Китае, и в Мексике. Сам же рассказывал. Воевали, кому надо, а нас не трогали.
— Не говори так, Семен Васильевич. Нынче совсем другая статья, — как-то угрюмо отвечал дядя Иван. — Обсказать подробно не берусь, сам не все вижу, только нынче все державы по рукам повязаны: тронь одну-другую, ну, и полыхнет пожарище. И не какой-нибудь, а на всю Европу! А верней сказать — мировой!
Но прошел день Агафона, когда притихают птицы в лугу, в лесах и в поле, перевалил июль за половину, а пожара не было, как ни глядел Димка ранним утром с крыши, подавая деду Семену последний пук сосновой дранки.
— Дедушка! Глянь-ка! Начальник, что ли? — указал Димка.
Дед Семен наставил ладонь козырьком:
— Становой пристав пылит. Его это бричка. И коней у него белых пара. Только чего ему в такую рань не спится? Видать, порося захотел!
— Это как?
— Песня такая есть: «Становому на ужин провиант новый нужен: тридцать два поросенка, сорок два индюшонка. А становихе на мыло — по полтиннику с рыла».
— Вот бы спеть! С ребятами, на улице!
— И не думай: мигом в кутузку бросят… Едет, едет становой, да вернется пустой. Чего ему у нас взять? — И дед Семен снова застучал молотком.
А становой вылез из брички возле новой лавки и, держа в руках форменный картуз, пошел со старостой к церкви.
Олимпий Саввич не нашел в сторожке подслеповатого пономаря Евсеича, сам ухватился за веревку набатного колокола, и — опять как ножом в сердце — гнусаво загремело над селом: бом-бом-бом!
Вскочил дед Семен, скинул фартук.
— Где?
— Где? Где? Где? — словно эхо раскатилось по улицам. Но, не видя пожара, мужики, бабы, дети — все кинулись на площадь.
Прибежал благочинный, на ходу застегивая подрясник. Прибежал регент Митрохин. Раскрыли церковь, и народ повалил густой толпой в широкие двери.
Димка оказался невдалеке от клироса. И на всю жизнь запомнил, как зловеще звучал царев манифест о войне.
«Божиею милостью, мы, Николай Вторый, император и самодержец Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский…» — в мертвой тишине читал становой. — «Объявляем всем верным нашим подданным. Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно…»
И не понял Димка всех высокопарных слов в царской бумаге, но вдруг открылась ему жуткая правда: вот и полыхнул пожар, о котором говорил дядя Иван. И пожар этот — война, смерть!
Из-за чьей-то спины вынырнул Колька, стал рядом и зашептал:
— Гриша говорит, всех мужиков берут, подчистую. И всех парней. А у них избы недостроены. И что же это будет?
И, словно в ответ ему, раздался истошный вопль. Все закричали и волной качнулись к летнему притвору, где жена Потапа — всегда степенная и рассудительная Ульяна — распростерлась на полу и мокрым лицом судорожно билась о каменную плиту.
А на клиросе уже тянули вразнобой: «Спаси, господи, люди твоя, и благослови достояние твое», и просили бога даровать императору скорую победу над врагом.
Благочинный, воздев руки к небу, призывал страшные проклятья на поганую голову супостата, посягнувшего на мирный труд землепашца.
Но никто его не слушал, да и никакие молитвы не доходили до возбужденной толпы: каждый был как в тумане, и сердце его грызла, как голодная собака, самая простая мирская нудга: пожар, долги, нищета, война.
Все ждали, что скажет становой после молитвы. И он выкрикнул:
— Завтра утром сбор на площади, с вещами! К воинскому начальнику поведет вас в Козельск стражник Гаврила Ломов! Я буду встречать в городе! Выше голову, братцы! За победу доблестного русского воинства над германцем ура! Ур-ра!
Но ответил ему только Митрохин. Да благочинный. Да пискливо крикнули по углам мальчишки. А мужики, словно торопясь на работу, молча повалили к выходу.
И только уехал становой пристав из села, кинулись они в монопольку: растащили всю водку, забыв заплатить деньги.
— Грабеж! Караул! — метался в толпе сиделец Ванька Заверткин. — Мужики, это же царева лавка! Станового верну, даст он вам каторгу!
Сиделец и бесновался, и просил, и хватал из рук призывников бутылки и четверти.
— Не печалься, Ванька! Царь заплатит! За него свою голову кладем! — далеко от мужиков отпихнул сидельца Андрей.
— Ваньк! Ваньк! А сложим голову за царя, бог тебе заплатит! Эх, последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья! — голосисто, заливисто затянул хмельной Гриша. И весь день и всю ночь не затихала на улице эта горестная песня о неминуемой разлуке.
Пили все, почти напропалую: даже Димке с Колькой перепало по горькой стопке.
А утром, перед самым сбором, Шумилины с дядей Иваном и со всей семьей деда Лукьяна Аршавского — с Колькой и с Антоном, который пришел домой ночью, сидели в маленьком новом доме деда Семена, где горница отделялась от кухни невысокой легкой переборкой, и молча пили чай.
— А вот у Аршави, дай бог память, в шестьдесят третьем годе впервой довелось мне пальнуть из берданы, — прошамкал дед Лукьян.
Отец тронул его за плечо.
— Не об этом сейчас речь, дядя Лукьян. Надо сыну хоть слово сказать!
Он обнял Димку и — долго, печально — глядел ему в глаза.
— Увидимся ли, Димушка, не знаю. Вырос ты без меня. А каким найду, если приведется, и думать не смею. Но хочу видеть тебя хорошим. Будь дедушке в помощь, ему ведь одному теперь придется тащить всю семью. Маму’ не огорчай, за Сереженькой приглядывай. Надеюсь я на тебя, сынок! Ну, будь здоров!
— Не распускай нюни, Алексей! Вернемся, это как пить дать! — сказал дядя Иван. — Да неужто мы дураки — голову свою зря под пулю ставить! А тебе, Димитрий, особый даю наказ: смелым будь, честным! Всегда держись с народом: на его стороне правда! И себя в обиду не давай! Время идет суровое, и во всех делах надо, брат, человеком быть!
Антон подтянул к себе на колени плачущего Кольку.
— Не реви, Никола! Не на погост батьку несешь! Ты лучше на ус мотай, что люди добрые говорят, и тебя эти слова касаемы. Да дружи с Димкой, слышишь, сынок? Ох, как тяжело человеку без дружбы!
Мать лежала в слезах, прижимая к груди Сережку, и не видала и не слыхала, как с бабьим воем, с криком ребят, с тяжелыми вздохами стариков двинулись новобранцы и призывники из села.
Не прошло и недели, а мужиков — здоровых, крепких — словно никогда и не было на селе. На штакетнике, на плетне и на веревках колыхались теперь от свежего ветра только бабьи поневы, рубашонки ребят да стариковские холщовые портки.
 ШКОЛА, ВОЙНА, ЦАРЬ
ШКОЛА, ВОЙНА, ЦАРЬ
СУНДУК ДЯДИ ИВАНА
Школа не давала ясного ответа: что такое война, к чему она, зачем?
Благочинный завершил свои рассказы из Ветхого завета и теперь напирал на удивительные деяния Иисуса Христа: про воскрешение бедного Лазаря и про чудо в Кане Галилейской.
— Дозвольте спросить, батюшка, а зачем нам война? — как-то на уроке закона божьего поднял руку Колька.
— Супостаты-австрияки напали на православных сербов, а германец хочет осквернить наши храмы. Война идет за веру православную! И русские воины, с богом в сердце, покажут себя врагу на поле брани!
Анна Егоровна через пень-колоду дотащила ребят до простых процентов. И все задавала задачки про то, чего ребята и не нюхали: про чугунку, где быстро мчатся встречные поезда, и про всякие дела торговых людей, которые шлют друг другу какие-то загадочные векселя.
Иногда на уроках она крутила глобус, и требовала сказать, какой вулкан действует в Италии, и мимо каких стран надо плыть морем-океаном от Санкт-Петербурга до Нью-Йорка.
— Только теперь закрыт для России этот путь! Война! И немец топит наши корабли!
И всякий раз она вспоминала про своего мужа, ушедшего с новобранцами:
— И мой Михайла Алексеич воюет против германца вместе с вашими отцами.
— А за што, Анна Егоровна, за што? — наперебой спрашивали ученики.
— Как это за что? За царя-батюшку! Пошел на него войной злой Вильгельм, хочет ему зло сделать.
По письму прошли почти все, что полагалось знать пареньку из села, чтобы прочитать вывеску на трактире и на любой лавке, не спеша расписаться на бумаге или составить прошение по начальству и правильно расставить точки и запятые в самых несложных фразах.
На дом задавали самые мирные стихи, будто война катилась по далекому, тридесятому царству: про стрекозу-попрыгунью и про деда Мазая с зайцами.
Только новая учительница — дочка благочинного — Клавдия Алексеевна, которая где-то училась годов шесть и приехала к папеньке после пожара, — поручила Кольке выучить басню про Наполеона — «Волк на псарне», а Димке — большой стих про Полтавский бой.
Конечно, бой есть бой, и про него читалось с большим интересом. Правда, бой этот со шведами, хлынувшими на нашу землю, был давненько, при том весьма строгом царе Петре с высокой залысиной, которая нарисована на самом крупном банковском билете — в пятьсот рублей. Такую ужасно дорогую бумагу видал однажды дед Семен в барской конторе, у Франта Франтыча, слегка полюбовался ею со стороны, а потом долго про это рассказывал.
Когда к новой учительнице попривыкли, спросил и у нее Димка про войну. Клавдия Алексеевна ответила по-своему:
— Война идет за спасение отечества. Отечество — в опасности. Враг хочет согнуть нас, всех сделать немцами.
— И за веру и за царя? — допытывался Димка.
— Да. За веру, царя и отечество! На все это и поднял руку немец!
Димка вспомнил про окрестных немцев — и про фон Шлиппе и про Бурмана — и сказал Кольке:
— Я не хочу быть немцем! А ты?
— Да чегой-то не хочется. Лучше русским быть! И по-своему гуторить! Только и русскому не сладко: дед Лукьян говорил надысь — совсем без хлеба будем сидеть с рождества. Надумал по миру идти. Глядишь, и насбирает каких ни на есть кусков.
Дед Лукьян и впрямь готовился в дальний путь: подлатал армячишко, пристроил к мешку длинные лямки. И на скорую руку плел запасную пару лаптей: ковырял да пристукивал кривым кочедычком, тянул из-под него длинное лыко.
И что-то ударило ему в голову — повело его на стихи. Хотел он песню придумать и с ней ходить под окнами с длинной суковатой клюкой.
Димка с Колькой не раз слыхали, как начинал он вполголоса свою песню:
Как в четырнадцатом году
Объявил Вильгельм войну.
А дальше никак не получалось, хоть и шел разговор про волосатую звезду и про зарево большого пожарища над убогой крестьянской нивой.
Мучился, мучился дед Аршавский, типун набил на языке, да в его лысую голову, совсем забитую всякой домашней докукой, никак не хотела идти хорошая точная рифма.
— А и пес с ней, с песней! — плюнул с досады дед Лукьян. — И так пойду!
Но пешком пойти не пришлось: пораскинул дед Семен мозгами и отдал ему на неделю Красавчика. И даже порядился ходить с колотушкой, пока Лукьян не вернется с промысла.
Пошептались деды и решили малость подпалить на костре оглобли.
— С ума сошли! — возмутилась мать. — И не стыдно?
— Для жалости, Анна Ивановна! — объяснил дед Аршавский. — Бабы очерствели сердцем, а на эти оглобли глянут — и вынесут, кто что сможет от малого достатка. Да и обману никакого нетути. Погорелец я и есть. И в долгах весь — по уши, аж голова вянет!
Чтобы не глядели на этот выезд досужие соседи, дед Лукьян на рассвете плюхнулся на сено в передок телеги, сунул за онучу старую деревянную ложку и сказал:
— Не беда, что во ржи лебеда, а беды — что ни ржи, ни лебеды! Ну, прощевайте пока! Трогай, Красавчик! — и отбыл из села за горьким счастьем.
По вечерам мать подсаживалась к деду Семену, подпирала руками осунувшееся лицо и говорила:
— Опять от Лешеньки давно письма нет. Что там про войну-то пишут? Совсем я извелась, батя. И скоро ли эта драка кончится? Наш-то царь-батюшка германскому царю свояк, так неужто не могут они по-родственному решить дело миром?
— Много ты понимаешь! Наши, вишь, как прут? Миром это не кончится. Надо победы ждать!
Дед Семен каждый вечер читал газету — она перешла к нему от дяди Ивана: большая, широкая газета «Русское слово», сложенная в дольки и обернутая бумажным пояском. Димка после уроков бегал за ней на почту, и было ему в диковинку, что на этой обертке печатали адрес дяди, его имя и отчество, словно о нем хорошо знали в Москве, откуда приходила эта газета на третий или на четвертый день.
— Страшенные идут бои! — Дед Семен тыкал пальцем в развернутый лист. — Шесть дивизий германских разбили наши в Восточной Пруссии. Генерал Жилинский старается. Видать, мозговой мужик! А генерал Самсонов-то, ай-ай-ай! Отступил до реки Нарев, наложил на себя руки! Ай-ай-ай! И Алешка наш где-то там: с полевой почты письмо было, а видать, с германской земли.
Кольку переселили на неделю к Шумилиным, и он ни на шаг не отходил от Димки.
Спать ложились вместе — на полу, на просторном матрасе из ряднины, туго набитом новой соломой, и перед сном долго шептались: все хотели представить, как идет война? Гадали и так и этак, а выходило, как на старой картинке: наши воины кучно стояли в рядах и ждали сигнал набить немцам морду, а против них стояли разъяренные немцы за широким лугом.
— Понимаешь: генерал на сером резвом скакуне, — шептал Димка.
— На белом! У генерала все белое, даже портки, — вставлял Колька.
— Ну и пускай! На белом так на белом! Генерал на белом резвом скакуне! Конь рвется в бой: он грызет удила и перебирает ногами, бьет копытом. И генералу невмочь: достает он круглые часики из кармана в белой жилетке, глядит на них, кричит: «Русски бравы ребятушки, послужите верой-правдой!» Да как махнет белой перчаткой!
— А горнист трубит атаку! Наши срываются с места и бегут на немцев! — шептал Колька.
— Ага! Ну, конечно, и постреляют сначала, чтоб дыму напустить побольше: из пушек, из ружей. И дым как из папкиной шомполки, только в тыщу раз больше: глазам больно, и першит в носу! И все заорут «ура», и пойдет бой врукопашную. Штыком коли! Прикладом бей!
Как только доходили ребята в мыслях до такой баталии, Димка поддавал Кольке под девятое ребро, тот отвечал хорошим ударом пяткой. Бой русских с немцами становился от этого ярче, картинней, и на полу поднималась такая страшная возня, что во сне начинал бормотать Сережка. Мать, усталая за день, долго ворочалась с боку на бок, просыпалась и говорила:
— Хватит, дети, этой войны! Дайте хоть ночью забыть о ней!
Возня прекращалась. Успокаивался Сережка, мать засыпала, и снова слышался шепоток на матрасе.
И опять выходило так, как на старой картинке. Бой к вечеру затихал. Санитары, все похожие на дядю Ивана — рослые, сильные, в белых халатах и в круглых шапочках с маленьким красным крестом, — клали на носилки раненых, подбирали мертвых и хоронили их в братской могиле. А солдаты садились ужинать, вдосталь наедались гречневой каши с салом и ложились спать вповалку у походного костра.
Но приходила новая заря, и бравы ребятушки опять шли в бой, как в страдную пору на сенокос, только не с вилами или с косами, а с ружьями, из которых валил сизый дым.
— Вот так и бьются кажин день. И пока не одолеют, ни за что не стронутся с места, — шептал Димка, позевывая.
— Сошли небось с места. Сбили германца. Дед Семен вчерась говорил про то, — смачно зевал Колька.
И шептуны прилипали головой к подушке и забывались тревожным сном.
От дяди Ивана остался на чердаке у Шумилиных большой сундук с книгами. Дед Семен не велел копаться в нем и ключ от замка хранил в жестяной коробочке за иконой.
Димка не раз подумывал и о ключе и о сундуке, да ничего не выходило: дед никуда не отлучался. И заветный сундук, так призывно манивший к себе, целый месяц оставался под запретом.
Во всей красе подвалило, наконец, бабье лето. В чистом небе ярко полыхало уже заметно остывшее солнце, полетела над избами серебристая паутина.
Легкий ветерок тянул от Долгого верха и доносил в село пряные запахи увядающей на корню листвы. Отблески ранней алой зари коснулись тяжелых кистей рябины. Поредели кудри у березки, в липовой кроне будто сбились кучкой желтогрудые пичуги — коноплянки. В другой раз зацвел шиповник за сараем: обманулся осенью. А на бугре, возле Лазинки, где прошлой весной выпускали ребята снегирей и щеглов, совсем уж некстати выклюнулся у пенька белоснежный цветок земляники.
Дед Семен сказал однажды:
— Надо в лес идти! Глядишь, и наберу рыжиков для засолу.
Он наточил бруском ножик, перекинул через плечо широкую лямку корзины. Димка подумал про сундук и лукаво подмигнул Кольке.
Вслед за дедом ушла на огород мать, а Сережку удалось отправить на площадь: ловить паутину. Путь на чердак был свободен!
Димка распахнул у сундука скрипящую крышку.
Сначала шли книжки про всякие болезни — про корь, скарлатину, оспу и дифтерит.
— «Ди-зен-те-рия», «А-ку-шер-ство», — Колька нараспев выговаривал незнакомые слова и складывал книги стопкой возле сундука. Книги были новые, кое-где заложенные узкой полоской бумаги.
Посмотрели в них картинки. Ничего. Иногда и любопытно, но внимание не задерживалось.
Забрались поглубже и набрели на затрепанную книжку с крупными буквами — правда, без заглавного листа и без первых страниц.
— Раз затрепана — значит, не зря, — высказал Димка догадку и стал листать.
Как называлась книжка, кто написал, так и не дознались! Да и не в этом дело! Только начиналась она лихо.
«Навстречу взбирался в гору целый отряд всадников, внешность которых поразила бура. Все они были в ярко-красных мундирах и с головы до ног вооружены. Головы их были покрыты касками с блестящими в лучах заходящего солнца козырьками. Лошади под всадниками были все, как на подбор, рослые, крепкие, глянцевитые, одинаковой вороной масти. Зоркие глаза Питера Марица насчитали в отряде двадцать четыре всадника. Впереди всех ехал совсем молодой их командир, а следом за ним бородатый солдат с золотыми нашивками на рукаве.
— Это английская разведка, драгуны, я их узнаю, — тихо произнес Октав.
— Это они, враги! — воскликнул Питер Мариц, побледнев и сверкая глазами. Он гневно сжимал рукоятку отцовского охотничьего ножа.
— Не глупи и не горячись! — ровным голосом сдержал его француз. — Война еще не объявлена, и своей неосторожностью ты можешь лишь повредить. Будем спокойно следовать своим путем и вооружимся хладнокровием, а там будет видно…»
Есть же такая книга на свете! — захватила она и стремительно повела Димку с Колькой по горам и равнинам Южной Африки. И, захлебываясь от быстрого чтения, помчались они по следам героя из далекой бурской общины.
И засиделись, пока дед Семен не крикнул матери что-то на огороде. Димка наспех запихнул в сундук книги про болезни, закрыл замок и ловко скатился с чердака — спрягать ключ в жестяной коробке за иконой. А Колька, как в тумане, сунул книжку под рубаху и убежал в свою избу. Там и находилось в тайнике не меньше недели чудесное описание жизни храброго Питера.
Было о чем подумать Димке с Колькой! Война вдруг стала не картинным парадом войск на поле брани. Питер бил англичан из-за камней и никогда не выдавал себя вспышкой дыма из винтовки. Под небесами карабкался он над пропастью, кидался вплавь через бурные реки, темной ночью крался к спящему врагу: бил кулаком, душил, колол ножом. Сила, воля, отвага, риск! Как они нужны воину!
А тут еще дед Семен подливал масла в огонь: читал про какие-то пулеметы, которые косят солдат, как траву на лугу, и горько сокрушался о печальной судьбе военного летчика Петра Николаевича Нестерова. Неделю назад в воздушном бою он нарочно ударил в небе своим самолетом во вражеский аэроплан. Враг погиб: туда ему и дорога! Но погиб и храбрый Нестеров!
— Не хочу быть немцем! — не раз твердил Димка своему другу. — Будем бить немцев!
Они сидели в Лазинке возле костра, готовили пики из длинных ореховых прутьев. Очищали их от коры и, пока они были влажными, держали над костром и протирали сырой травой.
Как ни горько, а Питера из них не получалось: в каждом деле мешал им страх.
Димка боялся ночного леса: там зловеще ухал лупоглазый, ушастый филин. Да и днем пугала его противная лягушка, когда прыгала из-под самых ног и фонтанчиком пускала ядовитую струю. А резать ножом спящего немца? От одной этой мысли холодела душа и громко, очень громко колотилось сердце.
Да и Колька не лучше. На копе, без седла, держался он, как девчонка, бестолково раскинув пятки; и на высокой ели, куда отправлял его Димка в разведку, кругом шла у него голова.
Но, к счастью, в книжке про Питера были два зулуса — Гумботи и Молигабанча — люди куда смелые, ловкие, с длинными ассагаями, похожими на пики.
И у Димки с Колькой были готовы пики — черные, блестящие, словно каменные; с острым концом, как клюв у старого ворона.
— Ну, мой верный друг Молигабанча, давай бить в цель! — Димка подкидывал в руке копье и поглядывал, куда его запустить.
Молигабанча готов был услужить Гумботи. И на большом пне над ручьем, где сиживал блаженный с приставной бородой, нарисовал он углем длинномордого немца в каске, с большими, как лопухи, ушами.
Зулусы отошли на десять шагов, деловито плюнули на руки и запустили по ассагаю. Колька попал немцу в глаз и очень этим гордился. Димка бросил хуже, но признать себя побежденным не мог.
Он подошел к муравьиной куче, где в теплый день бабьего лета хлопотливо работали муравьи, закрыл глаза от страха и сунул правую руку в самое пекло.
Муравьи густо облепили руку и кололи ее как иглами — нестерпимо больно. А Димка крепился: он воспитывал волю.
Потом он стряхнул муравьев и сказал:
— Понюхай, Молигабанча!
От руки остро пахло спиртом, кожа на ней горела, как от крапивы. Колька молчал, но глаза у него блестели — он гордился подвигом друга!
А на другой день, рано утром, когда за окном послышался голос вернувшегося домой Лукьяна, пришла пора удивиться Димке. Его верный друг Молигабанча лежал далеко от матраса, на голом полу, дрожал от холода и сучил ногами, как новорожденный.
— Ты это нарочно? — разбудил его Димка.
— А как же! Может, и на земле еще наспимся с этой войной! Надо привыкать! — Колька выбивал дробь зубами и прыгал на одной ноге, чтоб другой попасть в штанину.
ВЕСНА
Димка дергал за край фартука деда Семена.
— Ну, когда пойдем? Скажи!
— Успеется, — дед
размашисто водил рубанком по смолистой тесине. — Время… наше… не ушло. — И тонкие стружки, раскручиваясь и шурша, холмиком вырастали у его ног.
— Ну, скажи! Я вон сколь жду!
— Не видишь? Занят! Да и ты бы не крутился без дела. Тоже мне мужичонка, а гвоздя вбить не умеешь.
— Я?
— А кто же?
— Ну да! Гляди!
Димка взял молоток под верстаком, наставил гвоздь в полено, крепко прищурил левый глаз и — трахнул! Гвоздь загнулся, как червяк, и плашмя вдавился в отсыревший торец.
— Это тебе не грифелем по доске водить и не в зулусов играть! Вот как надо! — Дед Семен поставил наискосок тонкий драночный гвоздь, вдавил его на самую малость большим пальцем в полено и с двух сильных ударов вогнал по самую шляпку. — Не гляди, что просто, а надо с умом. Это, брат, не баловство, а работа!
— Да я еще почище твоего вгоню! — Димка нашел в ящике короткий и толстый лубочный гвоздь с широкой шляпкой. — Ну-тка!
— Хватит! Пройдись-ка лучше вдоль штакетника, проверь планки. Углядишь, где поотстали, гвоздиком и прихвати. Да береги пальцы, а то и в носу ковырять будет нечем!..
Димка вышел на улицу.
Вдоль барского забора, таясь от людей, тащилась в лохмотьях старая нищенка Фекла. Давно прогнали ее взашей из села, как случился тот страшный пожар. И слух о ней не проходил ни разу.
Она поравнялась с Димкой. На ее усталом худом лице, побитом оспой, засветилась улыбка.
— Молодец-то какой! Чини, чини забор, Дима! От работушки и человеком станешь — в отца либо в деда!
И потому, что была рядом эта старая нищенка и сказала она так сердечно, загорелась душа у Димки. Он крепко сжал молоток и хорошо ударил им по гвоздю.
— Ваши-то… как? Все ли здоровы?
— Ждоровы, ждоровы! — прошамкал Димка, держа во рту гвоздь.
И второй гвоздь вошел в планку, как в краюху хлеба. И это было интересно: слышать, как визжит шляпка под ударом тяжелой железной бородки, и видеть, как идет гвоздь в дерево — красиво и так послушно, словно он и не умеет гнуться.
— Маменьке привет перешли!
— Ладно!
— А Алексей-то Семеныч пишет?
— Замолчал, третий месяц письма ждем.
— Ах ты, горе какое! Маменька-то, поди, убивается? Ужо-тко зайду, как стемнеет, — сказала Фекла и поплелась под горку, опираясь на березовую клюку.
— Заходи! Мама будет рада! Только смотри: дед бы не обозлился!
Фекла скрылась, и гвозди перестали слушаться. И Димка спешно выколупывал гнутых железных червей, которые оставляли узорчатые вмятины на новых еловых планках, поседевших за долгую зиму.
Выручил Колька. Он выглянул из окна, прибежал с молотком, и снова пошла веселая работа.
Колька бил по шляпке и приговаривал:
— Не стучи, не стучи, лежит дедка на печи!
А Димка подхватывал:
— Дед Аршавский на печи, греет задом кирпичи! Бей!
— Димка! Это же немцы! — кричал Колька. — Бэй их!
— Бей.
И по всей площади разносился дробный перестук и озорной крик двух мальчишек.
Кончилась работа. Димка с Колькой побежали на Жиздру смотреть весну.
Лед прошел, отшумели вешние воды. По реке, наполненной до краев рыжей мутью, ходко шли длинные плоты, связанные гибкими вицами. На помосте, у костров, сидели плотогоны — старые деды и молодые бабы. Они грели чай, варили кашу. Только не пели песен, как в былые весны. И скучно было стоять на берегу и смотреть на такой невеселый сплав.
За кладбищем, в глубоком овраге, Колька увидал потемневший, ноздреватый сугроб. Завернули туда по узкой меже, побросались мокрыми тяжелыми снежками.
На голых ветвях высокой ольхи ожили поникшие сережки. И когда снежки задевали их, дерево обволакивалось облачком рыжеватой пыли. Прифасонился и орешник: весь он украсился длинными пурпурными кисточками. Ярко желтели барашки на старой кривобокой иве, и от них набегал на ребят сладкий медовый дух. Зима ушла — долгая и суровая, когда нельзя было лазить на чердак и копаться в заветном сундуке дяди Ивана.
И уже шумела в селе полная весна. От крика надрывались грачи на макушках берез. Как стадо баранов, блеяли в голубой вышине быстрокрылые бекасы, из лесу отзывались им булькающие тетерева. Голосистые девчонки бегали по площади и вырывали друг у друга лазоревые подснежники. Филька-свистун с гиком носился босой по пригорку с Димкиным ассагаем и, как храбрый Кузьма Крючков, крушил напиравших на него босоногих крикливых немцев.
А дед Семен не верил в весну. И все не шел на охоту.
Так думал Димка, но ошибался.
Поздно вечером дед достал свою заветную тетрадь и узловатыми толстыми пальцами записал в ней и про ольху, и про грачей, и про орешник с ивой. «Ноне прилетел кулик из заморья, принес весну из неволья», — еле-еле разбирал Димка кривые каракули деда.
— Вот так и запомни: весна начинается у нас с ольхи. Зацветет она в полную силу, значит пришел и зиме конец. — Дед Семен захлопнул тетрадь. — Завтра собирай до школы свою ораву. Выставим улей с пчелами, перекидаем навоз на огород. Ты теперь мой главный помощник, — дед вздохнул. — А в воскресенье подыму чуть свет. Пойдем да проверим, как резвятся наши тетеревишки. У них каждую весну веселье, и война им нипочем.
Поднялись до зари, когда голубые звезды еще гляделись во все льдинки на хрустящей черной дороге. И долго обтянутыми землистой кожей, манил деда Семена тонким черным пальцем.
— Папаня! — негромко сказал он осипшим голосом. — Оставь мальца, а сам подь сюда на минуту.
Дед Семен отдал Димке ружье и скрылся за кустами. Приглушенных слов разобрать было нельзя: их забивали тяжелые, долгие вздохи. И будто не один мужик, а двое или трое, на разные голоса, о чем-то просили деда. Он отвечал скороговоркой, и до Димки доносилось лишь какое-то бу-бу-бу, как из пустой бочки.
— На горушке, на горушке! — За кустом показалась шапка деда Семена. — Как останется с левой руки барская усадьба… дом справа, с палисадником… Ладно, ладно!
— Дед, кто это?
— Так… Прохожие… Идут далеко, просили хлеба на дорогу… Я сказал, чтоб зашли.
— Нынче?
— Да кто знает? Как выйдет, — нехотя ответил дед Семен и до самого дома не проронил больше ни слова.
К вечеру все мальчишки бегали по селу, хлопали по коленям и кричали, как лесные петухи. И казалось, что веселое токовище перекинулось с далекой опушки на весеннюю деревенскую улицу.
По-темному постучалась в окно Фекла.
Дед Семен оторвался на миг от газеты и глянул на нее грозно. Но старый заплатанный зипун, дырявый платок на голове, разбитые лапти и покорный взгляд черных глаз на оспинном лице словно приглушили его гнев. А может, отболело у него на душе, и он уже не так помнил зло. Да и не о Фекле хотел он думать в этот день.
А мать обрадовалась, усадила Феклу за стол и стала спрашивать: где была и какие новости на белом свете?
— Из Людинова иду и — прямо к вам. Зимой-то жила у одной работницы. Ребятишек куча, а сама-то на завод ходит: на место мужа ее взяли. А муж-то на позиции, и давно слуху нет, — вздохнула Фекла.
— Никого не подпалила? — с подковыркой спросил дед Семен.
— Свят, свят, свят! Да нешто могу я людям зло сделать? Да ты и сам знаешь, батюшка: петух проклятый, на нем и вина! Да нешто я… — Фекла заревела в голос и уткнулась лицом в платок.
— Ну, забудем про это! Жила-то как? — Дед Семен кинул газету на коник.
— Хорошо жила, Семен Васильевич, — всхлипнула Фекла, — в тепле. Только с харчами в обрез: картошка и картошка, и все — пустая. Маслица постного и то люди не кажин день видят.
— Ешь, ешь! — Мать налила Фекле полную миску утренних щей.
— Спасибо, Анна Ивановна! Знаю я твою ласку… Давно таких штей не кушала. Да, бог даст, не оставят люди. На дворе весна, опять пойду по деревням, кому где услужу. Не оставят меня, сироту горемычную!..
— Ну, а на Людиновом-то заводе как? — допытывался дед Семен. — Терпят люди, не гневаются?
— Гневаются, батюшка! Да и как не гневаться?! Товар в лавках есть, а не укупишь. Возьми хоть мучицу. Полтора целковых за пуд, а зимой была восемь гривен. И с крупой так. Вот тебе и сказ. А получка как была, так и есть. Видать, знали про это умные люди…
— Ты к чему это? — заерзал на конике дед Семен.
Фекла угнула голову к миске.
— В самый-то день, когда войну объявили, слышь, брожение в народе вышло. Забастовка, што ль? Будто так. На работу никто не вышел, как по уговору.
— Димка! Выдь во двор, чегой-то Красавчик заржал, — строго сказал дед.
— Ну-у, дедушка! — заныл Димка.
— Кому сказано! — Дед стукнул кулаком по столу.
И Димка вышел в сени, загремел ведром, но во двор не вышел, а припал ухом к двери: Фекла скребла ложкой по дну миски, мать гремела конфоркой.
— Ну, ну! — торопил дед Семен нищенку.
— Значится, вышло брожение. Собрались люди в поселке да и пошли к заводу с красными флагами. И про царя кричали: «Долой его! Не хотим войны!»
— Батюшки! — Мать всплеснула руками.
— Что деется, что деется! А мы тут как в норе сидим! — сказал дед Семен. — А полиция?
— Какая там полиция? Жандармы кинулись, казаки на лошадях, исправник. Только до драки не дошло: разбрелись люди по домам.
Димка опять зашумел в сенях и распахнул дверь.
— Красавчику сена подкинул, — соврал он.
Но никто не сказал ни слова: все сидели молча, мать наливала Фекле чай в чашку.
Скоро Фекла распрощалась и ушла ночевать к Лукьяну Аршавскому, который уже собирался в обход со своей колотушкой.
А ночью дед Семен вставал и с кем-то разговаривал вполголоса на ступеньках крыльца. А потом подсел к матери на кровать и долго шептался с ней:
— В лесу тех мужиков встретил, утром, как на охоте был. На Волхов идут, трое. И все по ночам, как волки. И какое-то страшное слово прилипло к ним: де-зер-ти-ры. Спрашивал про Алексея. Не слыхали. Говорят, не из той части. Эх, и хлебнут горя мужики. Царя ослушались, ружья покидали, с войны бегут. Попадутся бедолаги, мигом пойдут под пулю. Страх-то какой! Ты уж помалкивай, Анна. У нас и своей маяты не оберешься! И как нам Алексея искать? Где искать — ума не приложу. Придется как-нибудь сбиться да съездить тебе в Калугу: может, там начальники поспособствуют, да и с маманей повидаешься… А как Димка? Не пронюхал бы он про Феклины речи да про тех дезертиров, поганец! Спит он?
— Заснул.
— Боюсь, не слыхал ли он наш разговор в лесу? Сболтнет, где не надо, затаскают до смерти. Чуть заикнется, приструни его хорошенько. Эх-хе-хе! — закряхтел дед Семен, заскрипел порожком под полатями и развалился на печке.
А Димка от той страшной тайны, что подслушал он вечером, дрожал под ватным одеялом на ряднинном матрасе, туго набитом соломой, и все твердил, пока не сморил его беспокойный сон:
— Да не скажу я, дед! Никому! Никогда! Чем хошь побожусь, не скажу!..
ЧУГУНКА
Анна Егоровна давала последний урок. И заметно волновалась, совсем как девчонка. Зачем-то шаркала тряпкой по чистой доске, стояла у окна и комкала в руках маленький носовой платок, вышитый гладью.
И такой нарядной давно не видали ее в школе. Пожалуй, с того памятного первого дня, еще в старой церковной сторожке. В каштановых волосах черепаховый гребень, белая кофточка с кружевами и широкая — в сборках — черная юбка до пят.
Кончился урок, стали вспоминать и хорошее, и смешное, и горькое за все три года. И поджидали благочинного. А когда он пришел, Анна Егоровна подняла платок к глазам.
— Будем прощаться, друзья!
И у всех запершило в горле.
Любили ребята свою строгую учительницу. И ей, видно, не сладко было расставаться с маленькой кучкой смышленых, неоперившихся мужичков, не ведавших, как жить дальше, и с двумя девицами — с Настей и с Полей, — которым отроду было определено: вековать в селе до глубокой старости, нянчить чумазых ребятишек и считать в избе каждый кусок хлеба, каждую ложку масла.
Анна Егоровна всех поцеловала в голову и всем подарила по книжке — в память о школе. Димке достался хороший томик «Бывальщина и сказки» Павла Владимировича Засодимского, который умер в тот самый год, когда Шумилиных перепугала шаровая молния и родился у них Сережка.
Благочинный допустил всех поцеловать его пухлую руку. От руки остро пахло простым мылом, которым и мать стирала белье, и это было смешно. И что-то говорил благочинный. Кажется, любите друг друга, но не прощайте врагам своим. И напомнил, что надо ходить на исповедь.
Но его слова вошли в одно ухо, мигом вышли из другого. Со школой все было покончено! А на дворе цвела весна, и у каждого было вволю всяких своих забот.
Дед Лукьян Аршавский Колькину судьбу решил в два счета. И — то ли с радостью, то ли с горькой обидой на все — сказал твердо:
— Кончил ты свою науку, сдал экзамент в пастухи! Отродясь так было: и отец твой пастух, и тебе с кнутом поигрывать, думать думушку в ненастье, лапти сушить в вёдро, по чужим избам шти хлебать! Рожок с кнутом от Антона остались, вот их и унаследуешь!
А с Димкой было похитрей. Дед Семен сказал о нем матери:
— Плачь не плачь, Анна, а про гимназию надо забыть: я прикинул — не потянем. Да и время, леший его дери, совсем бестолковое: не хочу отпускать мальца к чужим людям. Конешно, учить будем, только повременим. По крайности, просидит одну зиму дома, буду его к рукомеслу приучать. Плотник — всегда человек… И в каждой хате он нужен… Да не реви ты, дурья голова! Сказал тебе ясно: поглядим!
— А с Колькой как? В подпаски? — Мать сидела на конике и, как впотьмах, перебирала на коленях складки у фартука. — Такой смышленый мальчик, и — сирота. Не чужой ведь?
— И он пущай с Димкой за рубанок берется: на па́ру-то веселей! Я кой-как свою жизнь прожил, под чужими окнами клюкой не гремел. Будет и ему кусок хлеба!..
Неделю после школы Димка с Колькой вволю наслаждались свободой: гоняли лапту, кидали черные зулусские ассагаи, шумно играли в войну.
А однажды вечером дед Семен сказал:
— Не время, Димитрий, баклуши бить. Ты свое отбегал. Завтра я тебя с Колькой буду к делу приучать. Вы про самострел гуторили? Вот с него и начнем.
Дед Семен выбрал подходящую еловую тесину, показал, как остругать ее рубанком, как сделать стамеской желобок для стрелы и прожечь старым шкворнем от телеги дырку для лука. А дверной крючок, чтоб держать тетиву перед выстрелом, сам укрепил на винте. И даже прошелся ножом по ложе, отделал ее, как у ружья, чтоб удобней было прижимать самострел к плечу.
Стрелы делал Димка из сосновой лучины. А Колька разбивал молотком шляпки у конских копытных гвоздей, загибал края на круглом железном клевце и помогал насаживать наконечники на тонкий конец стрелы.
Лук был из молодого дубка, а тетива из десяти суровых ниток, сплетенных в косу и натертых воском. Натянутая на крючок, она звенела, как басовитая гитарная струна.
На сорок шагов били из этого самострела в бегущего немца, нарисованного мелом на воротах сарая. Самострел вздрагивал, когда опускали крючок, тетива щелкала, как хлыст, и стрела так далеко уходила в дерево, что ее хоть клещами вынимай!
Потом немец приелся: он был убит сто раз. Рядом с ним нарисовали благочинного — в высокой камилавке, как ведро, и барина, схожего бородой на царя. И в них метко шли стрелы, да дед Семен осерчал не в меру и велел барина с благочинным заменить свиньей. И Колька нарисовал свинью, хотя Димка бился об заклад, что это не свинья, а бегемот.
Иногда стреляли без всякой цели: на дальность, и стрелу приходилось долго искать то в кустах, то в лопухах. Однажды сбили даже ворону, которая изловчилась под носом у наседки ухватить цыпленка.
Но самострел пришлось отдать Кольке.
С вечера, в пятницу, мать собрала вещи в корзинку и замкнула ее маленьким висячим замком. Потом истопила печь не ко времени, напекла пирогов с капустой. В старую Димкину тетрадь завернула кусок сала, насыпала соль в пустую спичечную коробку и все это увязала в белый платок.
Дед Семен повел Димку в баню, вымыл, как под праздник, пропарил на горячем полке и хорошо отстегал березовым веником.
— Завтра — в дорогу, — сказал дед.
Да Димка и сам видел, что Калуга теперь не за горами.
Рано утром въехали в обширный Брынский лес. И такой лесной красы Димка не видел еще ни разу: дерево к дереву, гущина, синяя еловая темень, бересклет в цвету, и высокими свечками — стройный можжевельник!
Белые колокольчики ландышей так и подступали к обочине. Лихо распевали соловьи, а на соловьиный лад — дрозды. Сидели они черными шишками на высоких маковках елей. Зяблики пролетали над дорогой и высвистывали: «Митю-Витю видел?»
— Вишь, какие пичуги, — усмехнулся дед Семен. — Все им надо. Про тебя, Димка, спрашивают!
Глухо, тоскливо ворковали горлинки. И наперебой перекликались кукушки. Одна еще не закончит свое ку-ку, а уже подает голос другая, третья.
Часа два ехали лесом, миновали Жиздру, деревушку Чернышино. И вдруг, заглушая согласный лесной хор птиц, заревел гудок и словно загудела земля.
— Чугунка, — сказала мать. — Скоро и станция! Билетик возьмем, сядем и поедем.
— Ты ему, Анна, полбилета бери, не промахнись. Не велик мужик, в угол забьется, и совсем его не видать промеж людей. А то накладно выйдет: полный-то билет, — сказал дед Семен.
— Возьму, батя. Я и сама так думала.
— Высадят с полбилетом! Куда я денусь? — забеспокоился Димка.
— Не бойся! Все так норовят ехать! — успокоил его дед Семен.
На станции не было людно, а шум стоял большой. По стальным ниткам путей бегали туда-сюда паровозики с широкой трубой, с номерком на боку и кричали, как кукушки, только куда громче. И земля под ногами тряслась.
Потом пронесся длинный красный поезд с большими дверями, а в дверях полным-полно солдат, и лошадей, и сена, сложенного тюками.
И откуда-то слева выскочил поезд на Калугу: загремел, запыхтел, лязгнул железом и встал как вкопанный.
Перед Димкой лезла в вагон старушка. У нее зябко дрожали ноги в новых лаптях и в чистых суконных онучах. И Димке передался страх, когда дед Семен подтолкнул его на высокую ступеньку и следом сунул корзину. И впрямь было страшно: дядька в красном картузе схватился за веревку и три раза ударил в набатный колокол. Кто-то свистнул так, что резануло по ушам. Поезд дернулся, как живой, и так шибко побежал от деда Семена, что Димка не успел ему крикнуть ни слова.
Пых-пых-пых! — мчался паровичок, дымя, как на пожаре и раскидывая искры. И Димка как раскрыл рот от удивления, так и стоял, пока мать не запихнула его в угол у окна. Все бежало за окном. А Димка сидел на месте. Здорово!
Сидели на месте и соседи. Им, видать, было не в диковинку. Они что-то жевали и переговаривались. Только старушка, у которой тряслись ноги, сидела, закрыв глаза, и придерживала рукой небольшой узелок.
Димка подумал, что если он теперь встанет, то оторвется от пола и полетит, как летят за окном перелески, овраги, деревушки, ручьи. И он крепко держался за лавку, хоть и хотелось ему пройти по вагону, поглядеть, что к чему: кто едет за стенкой, как держатся полки и зачем между окнами красная ручка, привязанная бечевкой к длинной тонкой трубе.
— Сколь ехать-то будем? — деловито спросил он у матери, когда немного освоился.
— Скоро Сухиничи. А часа через три Тихонова пустынь. Там пересядем на другой поезд, рано утром будем у бабушки.
— Ночью-то спать ляжем или как?
— Это, брат, богатеи спят. И не на голой лавке, а на матрасике: простынку берут с одеялом. А ты едешь в четвертом классе — и так хорош будешь! — засмеялся мужик, что сидел напротив и старательно обсасывал селедочный хвост.
— Понятно, — в тон мужику по-взрослому ответил Димка. — А у меня и вовсе полбилета! Просижу как-нибудь, как в ночном, у костра. Не кажин день езжу.
— Ну и помалкивай со своим полбилетом! Сиди, как мышка, вроде тебя и нет тут. Небось проголодался? В дороге всегда жрать охота. На вот голову от селедки, погрызи. Я досыта наелся. Теперь обопьюсь, — сказал мужик и вытер губы клочком бумаги.
Мать хотела достать сало, но селедка была интересней.
— Обойдусь! — Димка уже грыз соленую голову. — Харчи и дальше сгодятся, сама говоришь: всю ночь сидеть будем.
Но не успел Димка разобраться в селедочной голове, как на горушке справа промелькнули Сухиничи, и паровик подбежал к вокзалу.
Мужик опустил раму, и с перрона послышался шум, как на базаре: оживленные голоса разодетых женщин, прижимавших к груди букеты цветов, приглушенный смех и чья-то команда. И вдруг засуетились жандармы с медной бляхой на картузе: им дал приказ пожилой офицер в голубом мундире и блестящих лаковых сапогах.
По деревянному полу вагона загрохотал подковами на каблуках толстый жандарм с бакенбардами, как у деда Лукьяна Аршавского. Он бежал от двери к двери, расталкивая людей в проходе, придерживая левой рукой длинную саблю в чехле, и зычно кричал скороговоркой:
— Закрыть! Закрыть окна, господа!
— Душно ведь, — сказала мать, обмахиваясь платком.
— Не рассуждать! Приказ, господа, приказ! — И жандарм умчался в другой вагон.
На перроне оглушительно загремел духовой оркестр. Десять солдат дунули в медные трубы, перебирая пальцами круглые клапаны, а какой-то дядька стоял перед ними и красиво махал помелом на длинной медной ручке.
Сначала выдули какой-то веселый марш, и под него выстроилась на перроне шеренга солдат с винтовками на плече. А потом грянули без передышки российский гимн «Боже, царя храни!». И к вокзалу подошел на диво красивый поезд: вагоны деревянные, под ореховый цвет, окна широкие — как распахнутая дверь, занавески — как чистый снег по первопутку. И все кругом блестит, блестит — и ручки, и какие-то крючки, и зеркала.
Кто-то в том поезде раздвинул занавеску длинными тонкими пальцами с большим золотым перстнем, и показались какие-то сказочные господа, сплошь обвешанные золотыми бляхами: и на груди и на плечах. И замелькали широкие ленты на мундирах — красные, синие, голубые, и красивые бороды, холеные усы, и совсем удивительные лысины — во все темя и блестящие, как зрелый боб.
Вдруг все эти господа вытянулись в струнку, прижали руки к штанам. И к окну — прямо против Димки — подошел совсем знакомый мужчина — ростом с отца, с рыжеватой бородкой, как у Вади Булгакова, в зеленом мундире без всякого золота. Он курил длинную папиросу, улыбался и щурился, и под глазами у него висели большие мешки с морщинками. И лицо было не чистое: то ли в веснушках, то ли в следах оспы.
Не таким представлял себе Димка великого государя всея Руси: на портретах он всегда внушал ему какой-то безотчетный страх. Но Димка был почти уверен, что за окном стоит государь, и сказал матери, еще боясь своей догадки:
— Мама, уж не царь ли?
И эти его слова послужили сигналом. Кто-то крикнул «ура», и все навалились на Димку горячими потными телами и придавили куда крепче, чем в детской игре куча мала.
Он ничего не видел в своем углу, а видеть хотел, и крутил головой, кричал и отбивался ногами, и всем тыкал в нос селедочной головой.
Селедка мешала тянуться к окну, он сунул ее в карман и одним глазом все же успел еще глянуть на царя. Но царь уже отошел к окну напротив, и Димка увидел только спину, на которой складками морщилось сукно, когда государь махал кому-то рукой на перроне.
Да и это видение исчезло: паровичок дернул состав и быстро побежал к Тихоновой пустыни.
Димка выскочил из своего угла и заорал на пассажиров из соседних купе:
— Вот черти! И откуда вас нанесло! Не разглядел я толком царя!
Все схватились за животы. Давясь смехом, мать сказала:
— Да нельзя же так, Димушка!
— Можно, можно! Царь к моему окну подъехал. А они меня в угол зажали, дух не могу перевести!..
Так в разговорах о царе и доехали до Тихоновой пустыни. А когда стали выбираться из вагона, мужик, что угощал селедкой, помог вынести корзину и, прощаясь, сказал Димке:
— Эк тебя царь поддел: совсем про селедку забыл! Выкинь ее из кармана, а то штаны протухнут. Зачем из-за царя штаны грязнить?
Димка выкинул. Но пока жил в Калуге, от его новых штанов так и несло селедочным рассолом.
 СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
ЛИКА И МИНЬКА
Димка хорошо выспался на мягкой постели у бабушки, поднялся за полдень, никого не нашел дома и вышел на крыльцо.
Дом стоял на косогоре, в тихой улочке, круто сбегавшей к большой реке. А за широкой гладью реки, на пологом бугре, среди сосен, блестели от солнца стекла в деревенских избах.
Только эти избы и напоминали о родном селе, откуда Димка уехал вчера на рассвете. А на городской улице все было чужим и непривычным.
Напротив маленького дома бабушки и тоже на взгорке — словно для него не нашлось хорошей, ровной земли — кособочился ветхий домишко с пристройкой под самой крышей.
Окна в пристройке были раскрыты, и за верстаком стоял невысокий мужчина в полотняной белой рубахе, чем-то похожий на деда Семена, и клеил из бумаги больших белых голубей.
Видно, работал он не один день: голубей набралось у него с десяток. Он перенес их на подоконник и громко сказал:
— Молодежь! Сейчас буду пускать!
Из высоких лопухов выбежали двое — мальчишка и девочка. И мальчишка крикнул:
— Давайте, дядя Костя! Мы готовы!
Дядя Костя подкинул первого голубя. Он сунулся вверх, сделал петлю и зарылся носом в зеленую щетку густой травы. Подкинули второго. Этот полетел лучше: дольше держался на высоте и плавно опустился на брюхо. А третий голубь совсем как живой пролетел по кругу и приземлился далеко-далеко, под горой. И пока ребята бегали за ним, дядя Костя что-то записал в книжечку, а потом вдруг запел, запел и начал довольно потирать руки.
И все голуби стали улетать под гору, и ребята, бегая за ними, здорово взмокли.
— Есть еще? — крикнул мальчишка.
Дядя Костя приложил к уху маленькую граммофонную трубку:
— Ась?
— Все голуби?
— Все!
В доме звонко ударили в сковородку.
— Занесите голубей в сени, я пойду пить чай! — сказал дядя Костя.
Он уселся у распахнутого окна, и к нему слетели с крыши живые сизари и стали что-то клевать на подоконнике. А один уселся на плечо и чуть не запутался в бороде и в длинных волосах дяди Кости. И клевал у него крошки хлеба прямо с ладони.
Дядя Костя придвинул к себе стакан, где-то нажал пальцем на столе, и самовар — ну, прямо как паровичок! — сам подкатил к нему на рельсах. Вот чудно!
По улице прошла белая коза с бубенчиком на ошейнике. Она выбралась в горку, где иногда гремели на мостовой груженые подводы, уперлась передними ногами в высокую крутобокую тумбу, сплошь оклеенную картинками, и стала обрывать бумагу и есть ее. Опять чудно!
А мальчишка с девочкой отнесли в сени голубей, снова уселись в лопухах под забором и начали жевать какую-то травку. Ну, совсем чудно!
Димка не знал, что делать, потянулся и громко зевнул. Мальчишка пошептался с девочкой, вылез из лопухов и подошел к крыльцу. Он насупился, уставился на Димкины смазные сапоги, на ластиковую рубашку с крученым пояском и строго спросил:
— Тат кебя фшат?
— Чего, чего? — удивился Димка.
— Пе нопираев? Тат кебя фшат? — переспросил мальчишка.
— Да, отвяжись! Ты что, немец? Так я тебе мигом дам по сопатке! — Димка сжал кулаки.
— Тоже мне пехтерь деревенский! Вишь надулся, как индюк! Я же по-хорошему: спрашиваю, как звать, — мальчишка вдруг сказал ясно и понятно и протянул руку: — Минька!
— Чего?
— Минька, говорю! Зовут меня так. А тебя?
— Ну, Димка! Давай уж поздоровкаемся!
Подошла девочка, шаркнула по траве правой ногой, зачем-то присела:
— Лика!
— Чего?
— Вот чурбан! Да зовут ее так! Это тебе не деревня, где одни Маньки да Ваньки. Пойдем с нами. Только сапоги-то скинь, не на бульвар идешь! Босиком-то лучше!
Димка не знал, что и думать: Минька бормочет невесть что, заставил сапоги снять, Лика шаркает ножкой, дядя Костя гоняет самовар по рельсам, коза ест бумагу! Чудно все это!
Он сидел с новыми друзьями в лопухах, сдирал кожуру с дикой редьки — Минька сказал, что это свербигуз, — и отправлял в рот мягкие, сочные былинки. От свербигуза шел дух, как от той редьки, за которой Димка лазил однажды в барский огород за Омжеренкой.
— Ничего! — ел он и нахваливал.
Лика сбегала во двор, покопалась в траве и принесла на ладони кучку беленьких лепешек. Были они маленькие, как кнопки, на зубах хрустели, но без всякого вкуса: трава травой!
— И штой-то вы всякую дрянь в рот суете? — Димка попробовал лепешку и плюнул. — Дома еды, што ль, нет?
— Еда есть, — рассудительно сказала Лика, — да все картошка. Жарим, варим, печем! Папка — на войне, а мамка — плохая добытчица: на господ стирает от зари до зари, а денег все равно нет. Вот от того и картошка. И у Миньки не лучше!
— Нравится, потому и едим: и лепешки и свербигуз. От тебя вон селедкой пахнет, а я ее давно не ел. В лавке-то она почем?
— Не знаю. Мне в поезде мужик дал.
— То-то! Нечего и тебе задаваться! Сам-то что ж: только со стола ешь?
— Едим и не со стола. Ягоды берем, всякую кислицу в лесу — смородину, к примеру, или заячью капусту — она совсем как щавель. А то липовые почки, да по весне — молодые сосновые свечки. Поменьше был, так уголь я грыз и глину теплую на печке ковырял.
— Это правильно! А ты что, в гимназию поступать будешь? — спросил Минька.
— Дед говорит: не потянем, достатка нет. А приехал я с мамкой по делу — отца искать. Пропал он на войне.
— Человек не может пропасть! — Минька встал, одернул рубаху. — Похоронной не было, значит живой! Напропалую где-нибудь немца бьет! Днем и ночью идет война. Теснит немец наших солдат. И отступать нельзя, и домой написать недосуг! Вон у Лики отец семь недель писем не слал, а нашелся!
— Нашелся, только в лазарете, — вздохнула Лика. — Ногу ему перебили. Домой ждем.
— Приедет скоро! Ну, пошли на Оку. День жаркий, можно и искупнуться! — Минька помчался под откос, а за ним Лика и Димка.
Плавали и валялись на песке, пока Димка не спохватился, что давно ушел из дому и никому не сказался.
Попрощался с новыми друзьями до следующего раза и полез в гору. А с крыльца увидала его бабушка и всплеснула руками:
— Батюшки! Да где ж ты пропал, пострел?! Мы с ног сбились, тебя искавши, думали, совсем потерялся! Мамка убивается, а у нее и так горюшко лежит на душе! И не стыдно тебе?
— Человек не может пропасть, бабушка!
— Да где ж ты слов таких нахватался, мужичишка ты бестолковый?!
— А ребята сказали. — Димка шагнул в сени. — Мама, я тут! Я заигрался с ребятами! Не сердись на меня!..
Вечером — с мамой и с бабушкой — чинно прошлись по городскому саду. Над Окой, освещенной гирляндой огней, вовсю гремел духовой оркестр, и великое множество пар кружилось в вальсе на открытой веранде. За столиками, возле буфета, хохочущие дядьки, заткнув между колен тросточки, пили пиво, закусывали раками. Гимназистки — красивые девицы на выданье — то и дело прыскали со смеху, когда молодой офицер — в лакированных сапожках со шпорами — подкручивал черный ус и махал им белой перчаткой. Улыбаясь, шли по дорожкам не старые еще дамы — в широких и длинных юбках, как у Анны Егоровны, в шляпках с пером страуса или с цветной лентой.
Всем было удивительно весело. И никому не было дела, что грустная мать молча шла со своими горькими думами и тащила за руку Димку, а он упирался и все вертел головой по сторонам. А рядом шла строгая бабушка Лиза вся в черном и мела своим подолом песок под ногами.
На соборной колокольне пробило десять. Но никто и не думал уходить из веселого сада домой.
— Да когда ж они спят? — спросил Димка.
Бабушка махнула рукой:
— Спят, когда хотят. Одно слово — господа. И война им нипочем, и на работу не надо. Пойдем, Аннушка. Нам-то пора!
Но Димка не мог стронуться с места: по аллее, рядом с маленьким толстым господином, на котором был очень длинный пиджак и высокий стоячий воротничок, шел барин Булгаков. С рыжей бородкой, как у царя, в мягких сапогах со скрипом. И штаны на нем бутылочкой и зеленый мундир с погонами, а по ним волнистые ленточки.
— Мама, гляди: наш барин! Уй, какой важный! Ну, прямо полный генерал!
— Да, Димушка, вижу! — Мать проводила барина долгим взглядом. — Не знала я, матушка, что он тут. Надо бы к нему толкнуться: а вдруг он поможет нам найти Лешеньку?
— Жди, дочка, у моря погоды! Он теперь круто в гору полез. Первый на всю губернию земгусар: портянки поставляет на армию, сапоги, фураж. И такой про него звон по городу, что большую деньгу гребет; а по ночам в карты играет, и цыгане ему песни поют. В сильном загуле он сейчас, и ты к нему не лезь! А добрые-то люди говорят: шпекулянт ваш барин, ни дна ему, ни покрышки. Одна срамота! — Бабушка взяла Димку за руку и повела к выходу.
На другое утро Минька свистнул под окном, когда мать собиралась в губернское присутствие, к воинскому начальнику.
— Долго-то не бегай, я скоро вернусь, — сказала мать.
— Мам, а может, двугривенный дашь? Хочу я синематограф поглядеть. Говорят, люди там бегают и всякие номера показывают.
Двугривенный дала бабушка. И Димка выбежал на улицу и помчался с Минькой и с Ликой смотреть синематограф. Но по дороге вели пленных — это были австрияки.
Их вели в сторону Хлюстина — плотной кучей, без всякого равнения по шеренгам. Были они в грязи и в пыли, в разбитых ботинках и рваных обмотках. Некоторые жалко улыбались и что-то просили, другие шли угрюмо, молча.
И совсем ни к чему пересмеивались на обочине гимназисты, отпускали всякие злые шутки. А краснорожий мясник в окровавленном белом фартуке размахивал толстыми руками и кричал:
— К стенке их! На православную Русь сунулись, гады!
Старушка в старом плюшевом салопе строго глянула на мясника:
— И чего ты глотку дерешь? Сам как бык, а на фронте тебя не видно. Откупился? А у меня там двое. И не знают мои сыночки, как ты каждый день по пятаку да по лишнему гривеннику с меня тащишь! Сидишь, заелся, только цены набавляешь! Совести у тебя нет!
Старушка совсем расстроилась от своих горьких слов. Концом платка она вытерла глаза, достала из кармана кусок хлеба и протянула австрияку.
И старичок в синей ситцевой рубахе, словно обрадовался, что заткнули глотку крикливому мяснику, навалился на гимназиста, который нахально плевал под ноги пленным.
— Не позволительно, молодой человек, издеваться над чужой бедой! И чего вам надо от этих австрияков? Люди как люди. Вероятно, мужики. Им бы землю пахать на своем фольварке, а их погнали на фронт. И не боюсь сказать, против всякой воли. Да кому охота в окопах вшей кормить? Вы одно поймите: ждут этих фрицев дома, а они на калужской улице просят милостыню!..
Было о чем подумать Димке, когда он выбрался с друзьями на шумную Никитскую. Тут и не пахло войной: поодиночке и парами не спеша шли хорошо одетые люди, мягко катили по булыге пролетки на резиновых шинах, в лавках было вдоволь всякого товара. И здоровых, крепких мужчин — хоть пруд пруди! И почему они дома? А папки нет, и где-то на войне подбирает и лечит раненых дядя Иван.
Димка хотел понять это. И что значит — откупиться? Как откупился от войны тот краснорожий мясник, которого осадила старушка в старом плюшевом салопе?
Но Минька с Ликой уже тащили его к кассе и проталкивали в дверь большого сумрачного зала.
И Димка позабыл про войну и про австрияков, когда высокая пожилая дама в пенсне уселась в уголке за пианино, в зале погасли огни, в белую стенку перед глазами ударил яркий лучик и рядками, рядками побежали дрожащие слова.
И появился маленький человечек с черными усиками, в круглой шляпе — Чарли Чаплин, и начались с ним беды — одна горше другой. Он проваливался в бочку с водой: волнами катился хохот по рядам. Он падал на улице в круглый водосточный люк, садился на крашеную скамью: зрители визжали и охали. Он забирался к кому-то на кухню, наспех заглатывал горячую котлету с огненной плиты. Но к нему кралась со скалкой в руках кухарка. И он прыгал в окно, на клумбу и кланялся помятым цветам — снимал круглую шляпу и смешно шаркал ногой. И бросался от кухарки через высокий забор, а злая маленькая шавка хватала его за штаны.
Минька с Ликой совсем зашлись — даже икать стали от смеха. А Димка долго не мог взять в толк, почему так смеются люди над бедным Чарли? Ведь не везет парню! И шавка старается: ни за грош пропали у него еще хорошие суконные штаны.
Но и он смеялся, потому что смеялись все. И хлопал рукой по колену, когда бедному Чарли — шустрому, неугомонному — удавалось уйти от погони.
А потом показывали еще одну ленту: нагулялся голодный Чарли по улицам, заснул на скамье в городском саду. И привиделось ему, что он дикарь и ходит меж людей почти голый — в пятнистой шкуре леопарда. И все кругом такие. И какой-то злой царь сидит на троне, и стерегут его солдаты-дикари.
Приглянулась бедному Чарли красивая светлоокая девица, тоже почти голая, и захотел Чарли перекинуться с ней словом под могучим ветвистым дубом. А дикий солдат в страшной волчьей шкуре решил ему помешать и запустил ему в зад стрелу из лука.
Полетела звонкая стрела, застряла у Чарли под поясницей. И так он крутился и этак, да не мог ее вынуть, и повернулся задом к девице, и девица выдернула стрелу прямо с мясом. Ну и умора! Хоть вались на пол со смеху!
Но не успели отсмеяться, как по белой стенке прошелся царь Николай. Поцеловал он край широкого полотнища полкового штандарта, махнул солдатам рукой — проводил их на войну. И солдатики, видать, постарались: на стенке уже толпились кучей пленные немцы, а русский офицер пересчитывал их, как баранов.
После синематографа пошли втроем на свою тихую улицу — лакомиться свербигузом. А по дороге догнали Ликину маму.
Мама дала Лике журнал.
— Вот тебе, доченька, новый «Огонек». Нынче господа подарили. Погляди его, да не задерживайся: я сейчас картошку пожарю.
Сели в лопухах смотреть «Огонек». Полистали, полистали, и вдруг кровь ударила Димке в лицо: на маленькой фотографии, опершись на костыль, сидел и улыбался отец с георгиевским крестом на груди, а рядом стояли его раненые товарищи и пристально глядели на Димку.
— Папка! Мой папка нашелся! — Димка схватил журнал и побежал к бабушке. Но и мама была дома: она не добилась толку у воинского начальника и понуро сидела у окна, опустив руки на колени.
— Папка! Нашелся! Во! — Димка кинул журнал на стол.
И стало весело в доме у бабушки! И мама — в какой раз! — перечитывала вслух, как солдат Алексей Шумилин был окружен немцами, долго отсиживался в охотничьем тереме Вильгельма Второго в Восточной Пруссии, бежал оттуда в одних кальсонах, убил немца и переоделся в его форму, скитался ранней весной в Августовских лесах и умело вывел своих товарищей из окружения к городу Гродно.
Правда, отец был в лазарете, и что-то вскользь говорилось о его больной ноге. Но он был жив, и это радовало бабушку Лизу. Димка ходил петухом — так он гордился своим отцом-героем. А мать улыбалась на каждое слово и говорила-говорила без умолку:
— Как там Сереженька? Забыла я подарок ему купить! И как там наш дед Семен? Смешно небось глядеть, как садится он доить Зорьку. Ах, батюшки: домой, домой! Радость-то какая! Вот уж не думала, не гадала! Матушка, надо пироги печь!
Только сели обедать, в дверь постучал почтальон, принес телеграмму: «Леша прислал письмо тчк Семен Шумилин».
Мать поцеловала телеграмму, и никто тому не удивился. И попросила почтальона отбить ответ деду Семену: мол, так и этак, выезжаем нынче ночью, завтра утром будем в Думиничах.
Вечером, на пироги с грибами, пришли Минька с Ликой и пожаловал на минутку дядя Костя — в старом учительском мундире, с граммофонной трубой в руках.
Дядя Костя любил покойного дедушку Ивана. Дед служил на железной дороге, починял там всякие аппараты — жезловые и телеграфные — и по вечерам помогал дяде Косте вытачивать из дерева и клеить из бумаги затейливые фигуры. За работой они пели, только дядя Костя не всегда попадал в лад: он плохо слышал. И вместе пускали на воду большую лодку с гребным колесом, которая была диковинкой для калужан. Многие считали дядю Костю ученым чудаком, а дед Иван возмущался:
— Такие силы кладет человек для науки! На хлебе сидит, на квасе, а голова — светлейшая. И попомни, Лиза, добьется он большой славы! Только помощи нет ниоткуда. Всякие дипломы ему шлют, бумажки с печатью. А ему деньги нужны: тыща! Десять тыщ! Он бы и развернулся! А поди вот, не дают. Не верят, значит, побей их гром!
Дядя Костя обращался больше к бабушке и рассказывал, как он после смерти деда Ивана стал заниматься воздушным шаром. Бабушка поддакивала, а Димка глядел на нее во все глаза и не верил, что ей все понятно.
Потом выпили по стакану чая с пирогом, и дядя Костя стал прощаться:
— Извините, Лизавета Григорьевна, не привык я в гостях лясы точить: недосуг, недосуг! Да вы и сами это знаете, не осудите за такой быстрый мой уход. А за зятя вашего рад. Очень рад. Да и Аннушка теперь успокоится! Потерять мужа, друга, кормильца — это страшно! Я вон в двух местах при должности, а семья моя питается далеко не сытно. Далеко не сытно, Лизавета Григорьевна! Ну, прощайте и не забывайте соседа!
Минька научил Димку тарабарскому языку.
— Не сложно, вот увидишь! Возьми и проставь на бумаге буквы: б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н, а под ними напиши: щ, ш, ч, у, х, ф, т, с, р, п. И заменяй одной буквой другую. Снизу вверх и сверху вниз. Письмо пришлешь, никто не разберет, даже на почте. Там теперь все письма читают. Цензура! А я пойму и тебе отвечу!
Лика подарила маленький конверт со своим адресом. Внутри конверта лежал засушенный цветок мальвы.
— Это со значением, — сказала Лика. — Помни, что у тебя есть друг!
На другой день, к вечеру, Димка был дома. Колька кинулся к нему, будто не видел его целую вечность.
Димка отстранил его рукой и важно спросил:
— Тат кебя фшат?
Колька глянул на него с недоумением и рассмеялся так, словно его защекотали под мышками.
КАВАЛЕР НА КОСТЫЛЯХ
Дед Семен привез отца на рассвете.
Мать едва успела затопить печку, Димка нежился на своем матрасе и досматривал сон. Мохнатая золотая муха в короткой лиловой юбочке, как у Лики, шумно слетела с потолка, уселась к нему на нос и запела баском:
Кто пораньше встает,
Тот грибки себе берет.
А сонливый и ленивый
Идут после за крапивой!
«Эх, мать честная! Хотел на заре по грибки сбегать — для папки, да, видать, заспался», — пронеслось в голове у Димки, и он открыл глаза. Над матрасом стоял отец, опершись на костыль, и баловался хворостинкой из березового веника.
— Папка! Ура! — вскочил Димка и бросился отцу на шею.
Проснулся Сережка. И у него в этот день чудесным было пробуждение: отец сидел на кровати, гладил его рукой по русой голове, целовал в пунцовые от
сна, горячие щеки. И уже шумно было за перегородкой, на кухне: раскатисто смеялся дед Семен, подхихикивал дед Лукьян, охала и ахала Ульяна, что-то бормотал Колька. Мать — похорошевшая, с блестящими глазами, ловкая: все у нее так и горело в руках — быстро перебирала ухватами возле печки. Шальной от радости Димка фыркал и плескался у рукомойника и что-то мурлыкал. И папка был рядышком — родной и немного чужой: с костылем и с крестом на гимнастерке. И от гимнастерки шел непривычный запах больницы: карболки и йода.
Побывка у отца оказалась долгой: только перед масленой надлежало ему ехать к докторам на комиссию.
Два дня ходил он по гостям и принимал их дома, а потом решил проехаться на охоту: запряг в телегу Красавчика, положил под сено хлеб, соль, огурцы.
— И что мне с Димкой делать? — Отец подмигнул деду Семену. — Ты не помнишь, батя, сколько ему годов?
— Ну и смешной ты, папка! Одиннадцать! — твердо сказал Димка.
— У меня теперь берданка есть. А что нам делать со старой шомполкой? Придется ею дверь подпирать.
— Ладно уж тебе, Алексей! Не томи парню душу. Бишь, что с ним деется, аж руки трясутся. Он и во сне про охоту думает. Надысь пугач сделал, порохом забил, пенькой запыжил. Чуть сарай не поджег, поганец! Пора его к ружью приучать!
— Ну что ж, будь по-твоему! Третье поколение Шумилиных переживает эта верная пушка! — Отец снял со стены старую шомполку. — Береги ее, Дима. С ней по миру не пойдешь. Конечно, если есть в тебе наша природная жилка — охотничья, боевая, совсем неуемная!
— Да, я!.. — начал было Димка.
— Ладно, увидим!.. Собирайся, мигом! Время уходит.
Отец выбрался из хаты, оперся правой ногой о втулку, перекинул больную левую ногу через борт телеги, сел на сено, положил рядом костыль.
Вдоль села ехали молча: отец, то и знай, снимал фуражку и раскланивался со стариками и старухами, которые жались ближе к завалинкам.
Но когда выбрались за кладбище и Красавчик шагисто побежал по длинному и пологому косогору к Жиздре, Димке молчать не хотелось. И оттого, что под рукой лежала старая шомполка, и оттого, что ехал он на охоту, как взрослый, Димка казался себе старше, серьезней. И разговор он начал спокойно, по-мужски.
Отец догадался.
— Тебе небось важно, чтоб я героем был?
— Ага! — признался Димка.
— Так никакой я не герой! Я простой русский солдат! И живой остался, потому что охотник: пригодилась эта сноровка.
— Мы с дедом тоже по весне на охоту ходили, на моховое болото. Только по тетеревам не стреляли.
— Чего ж так?
— Кот лесников помешал, Филька! А потом завернули к нам в хату три дезертира: на Волхов шли, по ночам. Да еще Фекла зашла, наболтала: дескать, в Людинове кричали в первый день войны «Долой царя!». Дед Семен совсем расстроился и про охоту забыл.
— Ого-го! Значит, и вы про такое слыхали? Крепко! Да, простым людям война не в радость! Я бы и сам убежал, Димушка. И страшно, и кругом бестолочь. Генералы начисто голову потеряли и солдатскую жизнь ни в грош не ставят. Погиб солдат — и с пайка долой! А завтра пригонят нового Ваньку, и ждет его такая же участь.
— Но ты-то воевал, и «Георгия» тебе дали, значит не боялся? И знал, за что бьешься?
— Трудно объяснить это, сынок. Да и сам я еще не все понял. И воевать страшился, и бежать боялся. А за что воевал? Хоть убей — не знаю! За Россию, не иначе, раз на нее враг пошел! Но я этого врага не подковыривал. Понимаешь? Не трогал его, не задевал. И ничего с ним не делил. Давай вот рассудим: немец — учитель, и я — учитель. Он — в своей школе, я — в своей. Учим ребятишек уму-разуму. Из-за чего нам драться? А ведь кто-то столкнул нас лбами. И стали мы поврозь думать об одном: как бы скорей убить друг друга да домой воротиться… Приказ, дисциплина. Вот и сражались. А кому все это нужно? Умные-то люди говорят: царю нужно, генералам, буржуям. Им от войны какой-то толк. Так это или не так, а мы свою голову не раз под пулю ставили. Вот! И трудно это понять, сынок. Ой, как трудно!
— А в школе нам говорили: за веру, царя и отечество.
— Да ведь это как повернуть. От веры не отказались, надо и за нее воевать. Царя с трона не скинули — значит, и за него нужно драться. Но все это не то. Вот отечество — это да! Веры не будет, царя, бог даст, не будет, а отечество всегда останется. И за него надо биться до последнего!
— Так! — Димка задумался. — А на позицию ты сразу попал, как из дому уехал?
— Сразу. Тогда прорыв сделали, немца зажали здорово и далеко просунулись на его землю. Я уж собирался в Берлине чай пить! Потом вышла остановка. Потоптались мы на одном месте, да и побежали домой. И пошел среди солдат слух: генералы, мол, изменники, снарядов нет, патронов нет, а голыми руками немца не остановишь! А тут еще генерал наш Самсонов пулю себе в лоб пустил. И пошла катавасия!
— А что это?
— Бестолочь, повальное бегство! Я в ту пору в охотничий домик царя Вильгельма забрался: нашел там ружья, вино, шоколад. И белья теплого было вволю: только на меня великовато. Но вышел из положения: прихватил ремешком в поясе, ноговицы укоротил, товарищей в домик завел, легли спать. А немцы — вот они: рукой подать! Зажали они нас в кольцо. Ну, я в Вильгельмовом бельишке и в сапогах на босу ногу так нажал в лес, будто заяц. Попался по дороге немецкий вестовой, я его прикончил. Переоделся во все чужое, пошел искать товарищей. Они меня едва не подстрелили: думали, немец.
— И много вас было?
— Пятеро. Днем сидели в болоте, на островах, а ночью где шли, а где и ползли. С харчами так подбились, что стали мох жевать. И так обидно: козочку видели, попадались по пути тетерева, а стрельнуть не могли — кругом немецкая разведка.
— Этак и помереть можно! — рассудил Димка.
— Э, да что говорить! Попались два немца на двуколке в подходящем месте. Придушили их. Стали шуровать под брезентом: сапоги, одеяла, белье, гимнастерки, ящик махорки. Вот уж проклятая немчура: не догадалась положить хоть краюшку хлеба! Ну, переоделись во все свежее, набили карманы махоркой, пошли и увидели с опушки какую-то деревню. Замялись мои дружки: кому охота идти туда в одиночку, а податься всем отрядом — большой риск. Вызвался я. Не пустили. «Ты, — говорят, — один у нас охотник и человек грамотный, мы тебя за командира признали, от себя не отпустим». А весна шла в полную силу, и так не хотелось, брат, умирать весной!
— А как же вы обошлись?
— В самую ростепель наскочили на русского офицера с двумя солдатами. Они совсем одичали: бороды до пояса, в рваных шинелях, глаза красные, зубы шатаются. Так они нас перепугались, что чуть не прикончили. Ну, потом обзнакомились, стали гадать: куда двигаться? Долго спорили: я предлагал один план, офицер — другой, и приказывал мне подчиниться. Дружки мои долго не соглашались, только на другой день сказали: «Послухаем, Лексей, господина офицера, порядок того требует. А плохо с ним будет — уйдем. Вот и весь наш сказ!» Офицер повел нас через шоссе. Попались нам проволочные заграждения с бубенчиками. Мы подшумели, и началась такая канонада, что еле ноги унесли! А тут, на счастье, ударил ночью хороший мороз, и поползли мы по льду через большую реку: через Бобер. Ползли, с жизнью прощались, а немцы нас заметили, выпустили ракету и начали шпарить из пулемета. Двоих убило, так на льду и остались, а мне по ноге попало: колено разбило. Только я сгоряча пробежал еще по лесу шагов двадцать. Да в болото, в густой мох. Там и свалился. Перевязали меня дружки и говорят: «Потеряли мы двоих. Не пойдем дальше с офицером. Веди нас ты, Лексей!» Я и пополз ночью: перелесками, оврагами, где по рыхлому снегу, где водой либо сырыми мхами. И луна нам подсобила: схоронилась за облака.
— И долго так ползли?
— До рассвета. А чуть стало развидняться, слышим окрик: «Стой! Кто идет?» — «Свои», — говорим. И недосуг нам прохлаждаться с такими разговорами: немец над головой снарядами садит. А часовой никак не идет на попятную, знай свое болтает: как звать? какой части? где призывался? Послал его офицер к чертовой матери, только тогда и поверил, что мы свои. Перетащили нас через окоп: в баню, в санчасть. Три дня только сладким чаем поили, да по одному ломтику хлеба в день. А сами-то, конечно, ели да посмеивались. И крепко расположились мужички в окопах: уютно, тепло. И нам у них прямо как в раю после всей этой каторги в лесах да в болотах.
— А потом?
— Потом повезли нас на двуколках в Гродно. Солдат, конечно. А офицер подался вперед на автомобиле. Обогрелись с дороги, пришел к нам командир дивизии, генерал: ладный такой мужчина, не брюзглый. Расцеловал нас и — каждому — по «Георгию». А мне еще и берданку в придачу: мол, поедете домой на побывку, уточек постреляете… Да вот и наши утки: вишь, потянули! Тпру, Красавчик!
— А чего ж не писал-то долго? Мы совсем извелись по тебе!
— В лазарете был… В Вологде. Не знал, что с ногой будет, не хотел огорчать. А когда узнал, что ходить смогу, и послал вам письмо. Да вы в Калуге были.
— А что я бабушке с мамкой говорил? Человек не может пропасть! Похоронной не было — значит, живой!
— Гляди, какой герой! Ну, это все теперь по боку! Теперь про охоту думай! Места хорошие, тут Вадя Булгаков мальчишку на болоте держал замест подсадной утки. За двугривенный! Помнишь, я рассказывал? И без харчей. Как меня немец в Августовских лесах!.. Сейчас Красавчика стреножим. И, как говорится: ни пуха ни пера!..
Утка на болотах была. И никто ее не пугал: барин Булгаков прохлаждался в Калуге, мужики стреляли в немцев… А бабы к ружьям не подходили.
— Помнится, утка шла вот тут, на перешеек, — отец показал в сторону Жиздры. — План у нас будет такой: ты забегай вдоль старицы, по кругу; увидишь утку — подползи на животе, да не горячись — приклад покрепче к плечу, левый глаз прижмурь, наведи мушку чуть выше утиной головки и дай выстрел! Ну, шевелись! Утки на меня полетят, я их и встречу!
Димка помчался берегом старицы. Из-под ног вырвалась стайка чирков, но в лет бить он не решился: не хотел в первый раз промазать! Завернул, как шла старица, и на маленьком пятачке воды, у самой кромки камышей, подвидел уточку. Небольшая она была, с широким носом. И едва не спугнул он ее, когда подшумел в высокой траве: полз на брюхе, плотно прижимаясь к земле.
И дрожащими руками быстро навел мушку — ладную, круглую, маленькую, как гречишное зерно, и закрыл с перепугу оба глаза, и нажал на податливый спуск, и отвалился с отдачи в густую зелень травы.
Сизый дым рассеялся от ветерка: уточка, словно привязанная выстрелом к воде, била крыльями, раскидывая брызги. А изо всех потайных мест — из камышей, из телореза, из кустов — вылетали кряквы и устремлялись прямо на отца. И он гулко ударил из своей новой берданы.
От нетерпения, которое страстно завладело им, Димка даже штанов не снял и сейчас же вымок в болоте до пояса. Но в руках была еще вздрагивающая, теплая и тяжелая на руке уточка. Своя, первая! Какое счастье! И отец был рядом: скорей к нему, хоть и щелкают по ногам мокрые штанины, и бежать так неловко: то сапоги мешают, то ружье. И хочется не помять утку в сером, пестром убранстве, похвалиться ею перед отцом!
А отец уже поджидал его. Он услышал Димкин радостный крик и увидел уточку — молодую широконоску. И показал ему двух крякв, сбитых одним метким выстрелом.
На глазах у отца родился охотник!
И этому охотнику приятно было сказать:
— Как же ты вырос, пострел! Ну, молодчага ты, Димка! С полем тебя, товарищ!
ДЕД АРШАВСКИЙ СНИМАЕТ ШТАНЫ
Унизился дед Лукьян Аршавский!
Пришлось ему при народе снять посконные штаны в волостном правлении. И пьяный исправник велел Гавриле-стражнику всыпать ему пятнадцать горячих узким полицейским ремнем. И побежало по дворам новое слово, полное таинственного смысла:
политика!
Димка не мог взять в толк: что ж это такое? Он сидел по вечерам с Колькой на лавке, у ног избитого Лукьяна, подносил в ковше холодную воду, которую дед требовал поминутно, и мучительно думал.
Вольно говорил о боге и о барине дядя Иван, когда жил в селе. Дед Семен не раз называл его смутьяном. А дядя Иван никакой не смутьян: человек добрый, с чистым сердцем, и всем помогал, кому мог. Но на язык невоздержанный!
Судачила нищенка Фекла про рабочих в Людинове, будто кричали они против войны: «Долой царя!» Дед Семен велел тогда выйти во двор, не дал дослушать. А отец открыто сказал про царя: его, даст бог, не будет!.. Вишь, как получается? Что-то, где-то и вроде близко, а не ухватишь!
Вспомнил Димка и про смелого бура и про двух зулусов из старой книжки дяди Ивана. Но почему дядя держал ее под запретом? Неужели из-за Октава?
Был в книжке такой француз, и говорил он интересно: будто должны люди воевать друг против друга в одной стране. К примеру, француз против француза. Один из них гнет шею от зари до зари, ютится в собачьей конуре и всегда — впроголодь. А другой отстроил себе дворец, ест на золоте, катается на дорогих рысаках и только приказывает: подайте ему все готовое! Из-за такой-то поганой жизни и должен бедняк идти войной на тех, кто живет во дворце. «Мир — хижинам, война — дворцам!» Так кричал Октав на баррикадах в дни Парижской коммуны. И бедняки взяли верх, только богатеи скоро разбили их, надели кандалы на Октава, кинули его в подземелье.
Так то была война! А дед Лукьян не бегал по селу с винтовкой и не кричал: «Мир — хижинам, война — дворцам!» Он и не слыхал про такое и просто сболтнул новому псаломщику, что государыня — Александра Федоровна — забыла про семейную честь: спит по ночам с Распутиным. Царь, дескать, мается на позиции, а она — как наша Аниска — готова принять в кровать любого мужика.
А рассудить по-хорошему, так дед Лукьян и сболтнул правильно: не обнималась бы с Гришкой Распутиным, кто бы про царицу слово дурное молвил?..
Думал, думал Димка, а туманное слово «политика» не становилось яснее. Одно понятно: никто в селе ею не занимался. Все жили по закону. А закон блюл лысый староста Олимпий Саввич.
Это был крупный и грузный старик с седой бородой на две стороны. А над бородой и усами был прилеплен у него нос — толстый, длинный и дряблый, как соленый огурец. И глаза — карие, острые — так и бегали по сторонам. И если староста затевал ехиду, левый глаз его жмурился, и веко на нем дрожало. Для озорных ребят это было сигналом: разбегайся вовремя, и — кто куда!
Обычно староста сидел в лавке, пропахшей керосином, мылом и дегтем, и помаленьку вел свое дело; редко принимал за товар наличные деньги, больше брал натурой: маслом, яйцами, творогом, пенькой, корьем и даже сушеными грибами. И всякий кредит записывал в книгу: надевал очки, мусолил чернильный карандаш, и нижняя губа была у него всегда лиловая.
Писал за конторкой и говорил слащаво, елейно:
— Тут тебе, Дарьюшка, на сорок две копейки. Так бы и пометить надо, да нельзя: сама знаешь — любят денежки оборот, одна деньга другую приманывает. А на твоем кредите — мне сущий убыток. А с убытку я прогорю, прикрою лавочку, опять же и тебе худо станет. Так что не гневайся: припишу я тебе пятачок. Закон коммерции!.. — и жирно ставил в книге цифру сорок семь.
Иногда староста перевоплощался: надевал синюю запашную поддевку, городской картуз с лакированным козырьком, навешивал через шею на толстой цепке большую бляху с двуглавым царским орлом. И все знали, что шел он блюсти закон: вершил с понятыми обыск у какого-нибудь воришки, с Гаврилой-стражником тащил в каталажку пьяницу, мирил соседей, которые повздорили из-за курицы и так разошлись, что пустили в ход оглобли. А еще — при полном параде — Олимпий Саввич взимал штрафы за потраву господского овса или вел в барскую контору бедняка, когда просрочил он время отдать барину должок.
И строго, очень строго блюли законы самые грозные в округе господа — люди важные, в широких штанах с лампасами, при орденах: уездный исправник и становой пристав.
Про них-то и разговор был от случая к случаю: до бога высоко, до царя далеко и до исправника — шапкой не докинешь!
А заскакивал в село исправник либо становой, и начиналась шумная гульба: то у барина, то у благочинного — картишки, граммофон, танцы, дым коромыслом! Но только знали про этих господ, что дебелый, упитанный становой любил баловаться наливками, а поджарый исправник хлестко нажимал на водку и поутру похмелялся квасом.
И попутал же бес деда Лукьяна: угораздило его сболтнуть про царицу, когда гулял в селе исправник, и заместо барина пригласили четвертым к ломберному столику у благочинного молодого псаломщика Оболенского!..
Дед Лукьян не первый день, кряхтя, ворочался с боку на бок на лавке, стонал, и обливался потом, и говорил, что сгубил его натуральный китайский чай:
— Из-за него, проклятого, из-за него!
А Колька винил псаломщика: захотел тот выслужиться перед господами, которые допустили его к себе, нашептал, насмеялся, вот и врезали деду за всех, кто нехорошо думал про царицу. И, видать, Колька был прав! Он и рассчитался с этим злобным болтуном…
И ведь с чего началось?
Любил дед Лукьян пить водку. При случае, конечно, когда угощали: сам-то он всегда был не при деньгах. Но еще больше любил он пить чай. Даже дед Семен, который три раза на день прикладывался к самовару и досиживал до седьмого пота, говорил про своего соседа с завистью:
— Лукьян? Да в нем дырка есть! Пьет, пьет, куда только девается? Один может самовар опрокинуть!
Натуральный китайский чай резал деда Лукьяна под самый корень: никаких денег на него не напасешься! И приходилось ему с лета готовить свой чай: бесплатную самоделку.
Колька бегал брать липовый цвет, когда пахучие сережки только начинали золотеть. С Колькой ходил и Димка, и в хате у Лукьяна долго держался медвяный запах цветущей липы.
По межам собирали ребята ароматную мяту — кудрявую или квасную, какая попадалась. А еще охотились за лесной малиной. И дед Лукьян сушил ее на крыше и отгонял хворостиной настырных воробьев, когда они совершали дружный налет на вялые ягоды.
С осени дед Лукьян делал большой пал в Долгом верху: жег хворост и шишки на открытой поляне. А на другой год, летом, вымахивал там иван-чай, трава теплая — плакун, или кипрей. И ребята собирали на пожарище розовые, нарядные, стрельчатые цветы, а дед вялил их на солнце, сушил — не до крайности — и поджаривал в печке на железном листе.
И все было как надо. И дед Лукьян никак не бедовал с чаем. Он блаженно щурился за самоваром, опрокидывал в рот чашку за чашкой, пока не приходило время наклонять к себе кран пустой посудины, и приговаривал:
— Пей, Лукьян, пей! Вода дырочку найдет!
А сахар держал впрогляд: от себя поодаль, на блюдце. И прикрывал его чистым стаканом, чтоб мухи не обсидели: не сладко, конечно, да помогало воображение.
Но дед Лукьян потерял покой, когда объявился в селе молодой псаломщик — парень видный, цветущий, с русым чубом на кудлатой голове, с семиструнной русской гитарой и с пузатым медным самоварчиком.
Стешка сразу определила:
— Утешит этот бычок нашу Аниску: ядрен, здоров! И с такой-то рожей — к богу на службу? Не дурак! Видать, с умом подался: никому не любо в окопах сидеть!
Филька Свистун прибежал, когда Димка вернулся из Калуги.
— Ну и куряка этот псаломщик! Махру в гильзу кладет, папироску изо рта так и не вынимает. Пустили слух люди — совсем прокурился: аж сзади у него дым идет, под гашник! Бегал я к благочинному за нужник, такая была охота подвидеть! Да пустой номер: нужник-то справный, новый. Ничего не видать! Так и не задалась моя проверка!
А дед Лукьян дознался, что Оболенский трижды на день пьет натуральный китайский чай.
— Сядет, значит, за самоварчик и поглядывает себе на стенку: любуется. А на стенке у него — на белой-белой бумаге — всякие байки написаны. Ну, повисят они дён десять, он их сымет и другие навесит. Вот так человек и радуется…
— А тебе-то что? — не раз спрашивал его Колька.
— Надоть к нему доступ найти. Я ему этих баек наговорю: не успеет записывать. Ну, промежду прочим, и чайкём побалуюсь. С сахарком! И не вприглядку!
И нашел дед Лукьян доступ к молодому псаломщику. Как-то плелся он у него под окном с колотушкой да и крикнул:
Как на том на берегу
Ходит корова в армяку!
Рукава — бумажныи,
Дела наши не важныи!
С этого и закрутилось! А на другой день дед Лукьян сидел у псаломщика возле окна, пил с блюдца натуральный китайский чай, перегонял по языку обсосанный леденец и говорил:
— Ты запиши, Евген Иваныч: «Возьми у Савки в лавки». Это присказка, и поминают про нее, когда взять негде. И про нашего лавочника, про старосту. Сам-то он Олимпий Саввич, а уж так повелась кличка — по его батюшке. Или вот тебе про самого Олимпия сказ: «У нашего старосты три радости — дом сгорел, жена померла, а сына в солдаты взяли».
— Чепуха это, Лукьян! Это так: пустая присказка… А мне надо, чтоб мудрость была народная. Понимаешь?
— Как же, как же! «Аржаной хлебушка пшеничному дедушка». Не пойдет?
— Пойдет! А надо бы и похлестче!
— Тогда так: «Принялся за дело, как вошь за тело».
— Не то!
— А такая, Евген Иванович: «Где блины, тут и мы, а где оладьи — там и ладно».
— Эта пойдет!
Дед Лукьян говорил такие присказки с умыслом: он незаметно гнул либо к блинам, либо к караваю. А когда это не помогало и псаломщик не посылал его в Савкину лавку за ситным или за баранками, дед Лукьян вздыхал и начинал напирать на то, что наболело с давних пор: про вошь, блоху и таракана, про отрепья, недород и солдатчину. И, шутя и поохивая, все возвращался к пословице, которая издавна определяла крестьянскую долю: «Душа божья, голова — царская, а спина — барская». Только не мог догадаться он, как скоро отыграются на нем эти вещие слова!
День за днем, и к поздней осени совсем сдружился дед Лукьян с Евгеном Оболенским. И стал с ним нараспашку. И даже сказал как-то:
— Барин хоть и добр человек, а лучше повесить.
Псаломщик морщился, но взашей не гнал.
— Раньше-то говорили, — разошелся Лукьян: — «Дошли до глухого вести: украли черного петуха с насести». А нынче совсем другие вести. Не слыхал, Евген Иваныч, что поют ноне по деревням? «Александра и Распутин наслаждаются вдвоем».
— Не гни через край, старик! Не твоего ума дело! — нехорошо сказал псаломщик.
На этом и расстались — с обидой.
А тут прискакал в село исправник, остановился у благочинного. Стали составлять партию в картишки, послали за почтмейстером: он был третьим. А надо было посадить и четвертого за зеленый ломберный стол. Ну, тут и вспомнили про Оболенского.
Он пришел, и после второй рюмки развязался у него язык. Слово за слово — ненароком либо по умыслу — взял он да ляпнул при начальстве про Лукьяновы байки.
А чуть вошел в силу новый день, Гаврила-стражник взял за шиворот старого отставного солдата да и доставил его в волостное правление перед грозные очи исправника.
— Как звать? — загремел начальник.
— Лукьян Анисимов, от рождения Ладушкин, по кличке — Аршавский.
— Говорил про государыню непотребные речи? — властно спросил исправник.
— Дыть, скрозь так болтают, ваше благородие, ну и я туда же! — покорно ответил дед Лукьян.
— На каторгу тебя, мерзавец! В кандалы! Да благодари бога, что стар ты и по дороге в Сибирь выйдет из тебя дух!.. Гаврила! Всыпать ему пятнадцать горячих поясным ремнем. Распорядись!
И положили раба божьего Лукьяна на деревянную скамью под портретом государя императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского, и прочая, и прочая. И отстегали ремнем по дряблым ягодицам.
Деду Семену пришлось запрягать Красавчика: Лукьян был плох. Он судорожно глотал воздух, как рыба на берегу, весь покрылся багровыми пятнами и бормотал бессвязно:
— У Аршави было дело, в шестьдесят третьем году, на карауле… Сгубил проклятый чай китайский… Кольку мне! Где ты, сирота!.. Прими, господи, душу грешную!..
Отец приковылял из школы, когда исправник садился в пролетку, вырвал вожжи из рук кучера, глянул на начальника с отвращением, как на падаль, и сказал злобно:
— Да как ты смел, гад, пороть моего крестного? Без суда, без свидетелей?! Варвар ты! Собака!
Исправника так и передернуло. И он схватился за рукоятку сабли. Но увидал «Георгия» на груди у отца, сжатый в его руке костыль, окаменевшие, недобрые лица баб, стариков и подростков, вздернул воротник шинели, заскрипел зубами и крикнул кучеру:
— Развесил уши, болван! Трогай!..
А с молодым псаломщиком поступили так, что не пришлось ему утешать Аниску и подыгрывать на гитаре под девичьи песни.
Староста Олимпий Саввич и стражник Гаврила в полдень отбыли к становому. Димка для отвода глаз затеял с Филькой шумную лапту в восемь пар. А Колька залег в крапиве со старой щумилинской шомполкой и дождался под вечер, что зашел в новый нужник к благочинному молодой псаломщик. И над селом раскатисто прогремел выстрел.
Что было, как было: никто не дознался. Только на другой день молодой псаломщик — с семиструнной русской гитарой и с пузатым медным самоварчиком — быстро укатил из села на серой кобыле благочинного.
Отца стали таскать на допросы, грозились штрафной ротой. А нога у него болела, не гнулась в колене. И на время от него отвязались.
А в народе уже ползли слухи, что зашаталась, как дерево на ветру, могучая империя царей Романовых. И пошел при дворе кавардак: князь Юсупов завлек к себе во дворец Гришку Распутина, продырявил его из револьвера, как решето, а грузное мертвое тело пихнул в глубокую прорубь на Фонтанке.
 ГОД УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
ГОД УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
ШКОЛА ИЗ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО
Дед Лукьян провалялся на лавке две недели. А в тот вечер, когда снова взялся за колотушку, набежало к нему в хату баб полным-полно. Принесли они творог и сало, хлеб, огурцы и молоко. Дед Семен выставил непочатую четверть вишневой наливки. И без всякого Якова, просто в честь старика, до полусмерти запоротого исправником, началось веселое гульбище. Стешка пела, Аниска выбивала дробь каблуками, Ульяна хлопала в ладоши и приговаривала:
— Эх, скачет баба задом и пе́редом, дело идет своим че́редом!
А дед Семен, то и знай, подливал в стаканы наливку — красную как кровь, ароматную как вишневый цвет.
Бабы ушли темной ночью, горланя песни на все село. Лукьян даже прослезился от такой ласки. А потом накинул на покатые старые плечи рваный зипун, смахнул рукавом слезу.
— Ты не слыхал присказку, как собака собаку в гости звала? — спросил он Кольку.
— Нет.
— Одна, значится, позвала, а другая ей в ответ: «Не могу, — говорит, — недосуг». — «А что так?» — «Завтра хозяин поедет за сеном по первопутку, надо мне вперед забегать да лаять. А то без харчей останусь…» Так вот и мне: гуляй не гуляй, а надоть с колотушкой плестись.
Колька кинулся деду на шею: раз уж начал шутить Лукьян, значит встал он на ноги, и нечего за него бояться.
С этой мыслью и заснул Колька. А утром растормошил его Димка.
— Подымайся, лежебока, новость скажу! Барин благочинному телеграмму отстукал: так, мол, и так — вертайте свою школу в церковную сторожку, переводится к нам в село Коцкое высшее начальное училище. И едет с ним инспектор Кулаков.
— Что за скотское? Да еще высшее? — Колька свесил с лавки босые ноги и протирал спросонку глаза.
— Сам ты скотский! Учиться будем! Давай быстрей! Отец что-то на карте ищет!
Отец нашел в Царстве Польском маленький городок на реке Вепрь, давно захваченный немцами. И все стало ясно: коцкое училище, стронутое с места войной, где-то ютилось на задворках Западного фронта и, наконец, откатилось в глухие брынские места.
Через день приехал Федор Ваныч Кулаков — в длинной форменной шинели и в фуражке с синим околышем. А на ушах, чтобы не остыли от мороза, ловко держались черные бархатные наушники.
— Видать по всему: надворный советник, не больше, — заметил отец.
— Ты это что ж? Никак по ушам гадаешь? — догадался дед Семен.
— Точно. Генералам, батя, в такую пору полагается верблюжий башлык.
В трех чемоданах инспектора размещалось всякое его барахлишко. И больше всего крахмальных воротничков: Федор Ваныч менял их почти ежедневно. А в одном деревянном ящике помещалось все оборудование училища: теллурий, микроскоп, компас, рыба и ящерица в двух банках со спиртом и гремящий ворох жестянок — вырезные кокарды, похожие на брошки, и поясные бляхи с буквами «ВНУ». И всем, кто был принят в училище, инспектор выдавал за плату эти красивые игрушки. Только сельские мальчишки кокард не носили: не было у них фуражек. А поясные бляхи нацепили мигом. И когда дело доходило до драки, пояса с бляхами хорошо шли в дело.
С Кулаковым приехала и его экономка — дама миловидная и смешливая, вся в черном, округлая, как семенной огурец, с удивительно тонким девичьим голоском.
В первый же вечер у Шумилиных она крепко сдружилась с вишневой наливкой деда Семена: опрокидывала в маленький рот стопку за стопкой и говорила нараспев:
— Жи́тте наше кру́тке, выпиемо кели́шек вудке!
И горевала, что любовь к вину у нее от отца, который служил лесником у графа Тышкевича и утонул спьяну в моховом болоте на своем обходе. И поминала про какую-то книгу Эмиля Зо́ли, где, по всем статьям, определена и ее горькая судьбина.
Федор Ваныч ерзал на лавке, все хотел отнять у нее стопку, краснел и вздыхал:
— Полно, Зося! Как не стыдно? И не смейте говорить Зо́ля; его звали Золя́! — и дергал себя за нос: он был гугняв, словно в ноздрях у него застряла вата.
— Вши́стко е́дно! — колыхалась от смеха пани Зося, снова протягивала стопку деду Семену и мурлыкала: — Житте наше крутке! Не так ли, Сэмэн Васильевич?
— Так, истинно так, дорогая Софья Феликсовна! — отвечал хмельной дед Семен и услужливо наливал ей ароматную багряную жидкость вровень с краями.
На Зосю напал стих: она целую неделю ходила по гостям и возвращалась домой навеселе. А потом проспала два дня, попросила Стешку отхлестать ее веником в бане и пошла работать в больницу. Была она и акушерка, и фельдшерица, и зубы дергала не хуже дяди Ивана. Зимними вечерами обошла она все избы в селе и скоро так сдружилась с бабами, что они в ней души не чаяли.
А когда запивала вновь, принималась ругать Кулакова:
— И кофий ему подай, и воротнички настирай, и спать с ним ложись: он как дитя малое — одному-то ему в кровати страшно. А замуж не берет. «Дворянин и лесникова дочка, — говорит, — не пара». В генералы метит и хорошее приданое хочет взять. Вот так и живем…
Но такие разговоры только баламутили баб: они давно жили без мужиков и втайне завидовали Зосе, что у нее под боком такой видный барин, хоть и с ватой в носу.
Ватный барин, как прозвали его в селе, развернулся быстро, и скоро начались занятия в училище.
Он пригласил отца заниматься с ребятами гимнастикой и военным делом, пока бесплатно. Анну Егоровну одну оставили вести три класса в старой церковной сторожке. Благочинный читал послания апостолов и заставлял зубрить катехизис. Клавдия Алексеевна занялась литературой. Федор Ваныч вел все, кроме истории. И еще приехал Гаврила Силыч Воропаев — рыжий верзила в потрепанном сюртуке, с золотой ладанкой на шее. В ладанке был маленький портрет царя. На первом же уроке Гаврила Силыч поцеловал этот портретик, велел всем спеть «Боже, царя храни» и начал рассказывать про великого князя Ивана Калиту, который купил для Москвы не один город за пять тысяч рублей серебром.
Князья, цари, императоры — они так и не сходили с его уст. И рассказывал он о них смачно и с такой лаской, словно о самой близкой родне, про которую забывать никак нельзя.
— И чего это он так про царей? — Димка спросил у отца. — Уж таким соловьем разливается!
Колька сказал:
— Ну, прямо кум королю, а царю племянник.
— Начальство пообещало ему Анну на шею, — есть такой орден. Потому и старается. Да и монархист он в душе. Говорят, в девятьсот пятом году евреев громил в Киеве.
— А ты кто?
— Ну, брат, много будешь знать, скоро состаришься! — отшутился отец.
Барыня отдала из людской фисгармонию. И одноглазый регент Митрохин — в неизменной черной крылатке — стал вести пение: и божественное и мирское. Через месяц ребята знали почти все песнопения к рождеству и ладно исполняли хором «Во поле березонька стояла».
Класс был единственный, первый. И вместил он Димку с Колькой, Настю с Полей, Силу с Витькой и с Филькой и еще с десяток других ребят, которые съехались из соседних деревень и со всей округи.
Тут был и один барчук Фрейберг — из захудалых немцев, долговязый, холеный мальчишка с длинным ногтем на мизинце левой руки. Ребята болтали, что надевал он ночью на этот ноготь маленький серебряный наперсток, чтоб не сломать ненароком, а в классе поджимал его к ладони, особенно при встрече с инспектором. И баловался на переменах в меру: выдать, берег свой ноготь, как талисман.
Был тут и попович Малининский — сладкоежка и фискал, с рыжими кошачьими глазами и с толстыми ляжками, этакий дюндик-коротышка, раскормленный, как новогодний гусь.
Были тут и другие сытые парни — сыновья мельника и лавочника, и просто недозрелые мужички из зажиточных семей. И одна девочка — тихая краснощекая хохлушка Ася Басенко, дочка лесничего из имения фон Шлиппе, совсем дикая, как таежная коза. Училась она прилежно, только страшно зубрила по вечерам — в голос. А в классе пунцовое ее лицо вмиг покрывалось испариной, когда учитель называл ее фамилию. И Димка прозвал ее Басенко-Попотенко.
Пять богатых чужаков ходили в полной форме, радуя глаз инспектора: фуражки с кокардой, короткие тужурки мышиного цвета с блестящими пуговицами, лакированные пояса с бляхой, брюки навыпуск и черные башмаки со шнурками.
Они держались особняком, передавали друг другу интересные книги и спорили про Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. И издевались над Асей, которая приносила в класс детский журнал «Солнышко» и обещала Насте с Полей выпросить у пани Зоси слезную повесть Анастасии Вербицкой «Ключи счастья».
Учились чужаки не лучше Димки и Кольки. Но лишь им оказывал внимание Гаврила Силыч. А Фрейберга он ласково называл Гансом и приглашал к себе по вечерам пить чай и подробно рассказывал ему про какую-то гнусную киевскую историю, про нашумевшее дело еврея Бейлиса.
— Ну и подлизы! — сплевывал Витька, когда попович или барчук семенили по коридору за рыжим историком и услужливо несли за него до учительской потрепанный классный журнал.
— Мало что подлизы. Дерьмо! — подтверждал Колька.
По всем статьям выходило, что барчука и поповича надо отволтузить. Но все не было случая.
Правда, дюндик привязался однажды к Фильке:
— Почему тебя зовут Свистун? Во что свистишь?
— На дудке умею, на жалейке. Сам их делаю.
— А вот на этой штуке играть не умеешь? А? Как называется? — спросил дюндик и вынул из кармана маленький барабан — картонную игрушку с елки.
Доверчивый Филька уставился на красивую игрушку и выдавил в нос:
— Ба-ба-бан!
— Гундосый, гундосый! — заплясал на одной ноге попович и показал Фильке язык.
Витька сжал кулаки: он решил делать баню. Но про гундосого услыхал Федор Ваныч, который гугнявил почище Фильки. Коршуном подлетел он к поповичу, ловко, привычно схватил его за оттопыренное ухо и поволок в учительскую. И что-то там было: вышел оттуда дюндик в слезах и два последних урока громко шмыгал мокрым носом.
Только эта наука не пошла ему впрок. И он так зло подшутил над Витькой, что тот всю субботу провалялся на горячей печке, а мать с утра до вечера делала ему припарки и смазывала зад нутряным свиным салом.
Накануне, в пятницу, история была последним уроком. Гаврила Силыч потеребил пальцами ладанку, пристально оглядел класс: вызвал Витьку Кирюшкина отвечать про опричников. С неделю назад Димка дал ему полистать «Князя Серебряного», да и урок Витька затвердил крепко, и все сошло отлично.
А когда Витьке позволил учитель сесть на скамью, дюндик подставил ему карандаш. Витька и плюхнулся с маху на острый кончик. И потемнело у него в глазах, совсем как в те дни, когда болел он куриной слепотой. И приглушенно вскрикнул и вдруг свалился в проходе рядом с Димкой.
— Да что с тобой, Кирюшкин? — с тревогой и удивленно спросил Гаврила Силыч, и в напряженной тишине звякнул стаканом: плеснул в него голоток воды из графина, чтобы подать Витьке.
Димка вскочил, поднял Витьку и прислонил его к парте.
— Пустяки, Гаврила Силыч, обойдется. Нынче Кирюшкин спал плохо, готовился к вашему уроку. Дозвольте вывести его на волю: там ему легче будет.
Историк кивнул.
— Пошли, Витя! Вот так, вот так! — Димка перекинул Витькину руку через плечо. — Глядите, ему уже хорошо.
Но у дверей Витька застонал. Димка обернулся и громко сказал:
— А кому-то будет плохо! Очень плохо! — и так глянул на поповича, что тот пригнулся к парте.
На урок Димка не вернулся. Долго вел Витьку домой и кое-как уложил его на горячую печь. И сбегал за паней Зосей. А все воскресенье катался с Колькой на коньках возле лавки Олимпия Саввича, у которого дюндик снимал комнатку.
Но ничего не вышло: попович весь день крутился в хате — читал книгу в постели, ел кашу со шкварками, пил чай с вареньем и с пирогами. И изредка выглядывал из-за куста герани на двух дозорных, которые даже обедать бегали порознь, чтобы не прозевать, когда высунет нос на улицу чужак-обидчик.
В понедельник, на большой перемене, Витька шепнул Силе, поманил Фильку, и они спрятались в бывшем барском буфете, где пьяная озорная повариха гонялась с метлой за ребятами.
Димка с Колькой расшалились в коридоре, бегали с девчатами играть в снежки, потом дали по хорошему подзатыльнику и Фрейбергу и Малининскому и помчались в буфет. Барчук и попович кинулись за ними и попали в засаду.
Барчука отделывали двое: Димка с Колькой. И влетело ему за вечерний чай с историком; и за Бейлиса, который вовсе не резал православных мальчишек и не брал у них кровь для пасхальной мацы; и за книги, что не давал читать; и за насмешки над Асей, которая плакала в классе; и за длинный ноготь на левом мизинце. И Колька в азарте отгрыз этот ноготь и чуть им не подавился.
Барчук не плакал. Он только крутился на месте, размахивал длинными руками и стонал:
— О майн готт! О майн готт!
А с его наутюженных брюк и с тужурки летели на пол звенящие пуговицы.
Попович голосил, как баба. И пришлось заткнуть ему рот носовым платком. Но он вытолкнул языком платок и чуть не откусил Витьке большой палец, когда втроем сажали его на карандаш и разорвали сзади штаны на самом округлом месте.
Попович вопил, барахтался в углу. Фильке надоел этот противный крик, и он неумело отпечатал пятерню на левой щеке дюндика. И белые полосы от пальцев веером разбежались по пунцовой коже.
— Впятером бьете двоих! Какая низость! — крикнула Клавдия Алексеевна. Она стояла на лесенке, что вела в буфет. Лицо у нее так и передергивалось от возмущения.
Попович хотел было раскрыть рот и нажаловаться. Но Сила больно щипнул его за толстую ляжку, и он снова завизжал, как от ожога.
— Вон, вон отсюда! Пятерых — в карцер! — зашлась гневом учительница.
Витька шагнул вперед, одернул рубаху.
— Вы в наши дела не встревайте, Клавдия Алексеевна! — Он еще тяжело дышал от жаркого боя. — У нас не самосуд. Фрейберг и Малининский получили по заслугам, как ваш батюшка учит: око за око, зуб за зуб.
— Дюндик Витьку на карандаш посадил в классе. Витька на печке два дня промучился. Это как? Справедливо? — спросил Димка.
— Погодь, Шумилин, мог бы и помолчать, никто тебя за язык не тянет, — огрызнулся Витька. — А дюндик пускай еще спасибо скажет: били его по совести: и зубы целы, и глаза на месте. Вышло у нас под расчет. А теперь хоть куда пойдем, даже в карцер.
Клавдия Алексеевна отпустила барчука и поповича домой, а пятерых завела в пустой класс и замкнула дверь ключом.
Выпустил их Федор Ваныч поздно вечером. И когда они шли домой, по заснеженному селу бежал с телеграммой в руках почтмейстер Петр Васильевич Терентьев и стучал во все окна:
— Свобода, граждане! Свобода! Отрекся царь Николай от престола в пользу Михаила!..
КАКИЕ-ТО ВРЕМЕННЫЕ
Димка жил как во сне. И не успевал даже закрывать рот от удивления: все шло кувырком.
Гаврила-стражник скинул синий мундир, спрятал куда-то шапку, надел посконную рубаху до колен, широченные штаны с огузьем, и с утра до позднего вечера копошился по дому: чинил сбрую, колол дрова и кидал щепками в чужого кота, который повадился красть яйца из-под курицы. Только взлетит несушка и закричит на все село: «Кудах-так-так!», а кот уже под поветью: сидит да похрустывает скорлупой.
Староста Олимпий Саввич совсем опростился: лавку на время закрыл, напялил потрепанную поддевку и все прислушивался, что говорят люди, когда собираются возле церкви или на широком крыльце волостного правления. Повздорили две бабы из-за ребятишек, схватились за грудки. А он ни-ни, словно позабыл, что есть у него большая медная бляха с двуглавым орлом. А по вечерам и совсем не вылезал из дому, листал какую-то книжонку проантихриста или играл в поддавки с дюндиком: по копейке за партию. Дед Лукьян пронюхал про это, взял у Шумилиных Красавчика и ночью свалил с Колькой и с Димкой высокую сухую елку в Долгом верху. И — ничего! Только в хате у Ладушкиных теперь топилась печка по вечерам, и Колька мог готовить уроки, не кутаясь в дедов зипун.

Стан у пристава спалили ночью, в самый канун масленой. Выскочил становой в одном исподнем: сгорел у него и мундир с медалями, и широкие штаны с лампасами. А утром разжился он армяком с чужого плеча и ускакал. И говорят — далеко: куда и Макар телят не гонял.
Исправника связали, кинули в холодную на два дня, а потом дали ему взашей и прогнали, как он выгнал из села нищенку Феклу после пожара.
Фекла снова пришла из Людинова и весь вечер просидела за самоваром у Шумилиных.
— На заводах у Мальцева заварушка, — она чинно пила чашку за чашкой и обмахивалась дырявым черным платком. — Господа заседают кажин день и все спорят промеж себя: кем быть матушке России? И выходит по-ихнему, что нужна, мол, республика. И с таким правителем, как во Франции. Только забыла я его должность.
— С президентом, что ли? — спросил отец.
— Вот, вот. С ним! А рабочие на заводы не ходят. У них спор до драки. И многие кричат, что нужен какой-то совет и чтоб заседали в нем только бедные. А богатых, значится, по шее. И без них можно управиться.
— Ну что ж, это правильно! — Отец ковылял по кухне и курил папиросу за папиросой. — Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят. Именно так говорил мне
один умный человек в лазарете… Надо в Козельск ехать, батя. Там хоть узнаю, что к чему. А то сидим, как в колодце, и вся жизнь мимо нас мчится.
Дед Семен кряхтел и почесывался. «Русское слово» не поступало на почту всю неделю, и он просто не знал, что творится в Петрограде и на что ему решиться. И боялся поторопиться, как одиннадцать лет назад, когда отделывали его жандармы из-за барской сосны. И боялся отстать.
А на душе было неспокойно: мутили ее Андрей и Гриша, которые недавно прибыли домой. Гриша был ранен в лицо: багровый рубец разрезал его левую щеку от уха до подбородка. Стешка дождалась своего, вышла замуж за Гришу. Он теперь хотел строиться из барского леса, как говорят, за спасибо, и норовил урвать у экономии хороший кус землицы.
Андрей пришел по увечью: в самый разгар боя, под шрапнельным огнем, отстрелил себе указательный палец на правой руке. Да малость поспешил: тут же ему осколком повредило пятку. Был он теперь и хромой и культяпый и про войну не хотел думать.
— Гляди, Семен Васильевич, — бередил он душу деда Семена, — я, брат, давно мечту ношу про тот барский пустырь за Долгим верхом. Помнишь, говорил о нем, когда у генеральши луг торговали и ты полсотни у нее оттяпал? Так мы его с Гришкой распашем: голову кладу под топор! Воевали мы за что-то, а? А сунутся мешать нам, так я им винта сделаю! Заховал я свою рушницу — подругу фронтовую, только молчок про это. Достану, когда сгодится. Решай, голова, да не промахнись: пойдем с нами в долю. И черт с ними, с временными. Они таперича в Питере царский пирог жрут. Им совсем не до нас!
И дед Семен — с вздохом да с молитовкой — помаленьку оглядывал сошку: готовился к светлому дню. И опасался, что даст промашку, и серчал на каких-то временных, которые засели в столице вместо царя.
— Молчат господа насчет землицы. Верно Андрей говорит: временные! Что им делать? Вестимо, царский пирог жрут. Подавиться бы им суконной онучей!
Мать оторопело слушала Феклу, особенно про каких-то анархистов с черным знаменем, которые кричали на митингах в Людинове: «Бога нет! Царя нет! Анархия — мать порядка: твое — мое, мое — твое!»
— Скажи ты! Ну, просто юродивые! — говорила мать, и руки у нее дрожали, когда она наливала чай Фекле.
Димка молчал и слушал, но голова его никак не вмещала всей этой премудрости — и про барскую землю, и про мое-твое, и про временных.
Особенно досаждали временные. Они казались бойкими людьми с шумного базара. Прикатили на извозчиках — шуба на лисьем меху, шапка бобровая, как у благочинного, с плисовым верхом, сапоги со скрипом и новенькие калоши. А у калош, на каждой рубчатой подошве, кроваво-красное клеймо — «Треугольник».
Заскочили они в Питер, как на ярмарку, — продадут, купят, сожрут царский пирог из шоколада с кремом — и разбегутся. А что потом?
Один лишь Сережка ни о чем таком не думал. Он прятался за печку, хоронился под столом, выскакивал с надутыми щеками и, тараща глаза, гудел, как паровик:
— У-у-у! Коза-дереза! — и наставлял на Феклу вилы: указательный палец с мизинцем.
Фекла подпрыгивала на лавке, закрывала платком лицо, побитое оспой, и приговаривала:
— Ой, батюшки! От горшка два вершка, а и тот пужает! Эх ты, доля моя сиротская!..
И в училище все стронулось с места и закачалось, как на высокой волне. Портрет Николая Второго сбросили со стены, и старый Евсеич, бормоча молитву, дрожащими руками запихнул его в учительской за шкаф, в котором инспектор хранил банки с рыбой и с ящерицей.
А ночью портрет пропал.
Зашумело училище. Все стали гадать да думать, но случайно дозналась Ася. Бегала она вечерком к пане Зосе за «Ключами счастья» госпожи Вербицкой и услыхала голоса в кладовке у историка, где хранились его книги и стоптанные башмаки с резинкой у щиколотки. И не смогла пробежать мимо: подсмотрела!
В слуховом окошке, у самого стекла, еле теплился огарок восковой свечки. И при этом тусклом свете Гаврила Силыч и Фрейберг навешивали царский портрет над летней койкой.
Царь Николай в упор глянул на Асю, она испугалась и убежала. Но рассказала Насте, та шепнула Димке, и ребята стали ждать, как поведет себя историк: скажет ли про портрет и что будет с ладанкой?
Но про портрет историк не сказал: хитрил, таился. И Витька перекинул Димке записку: «Видал? Тут, брат, политика! На переменке надо поговорить: продумал я одну штучку».
И ладанку Гаврила Силыч не снял, а спрятал под сюртук: это все поняли, когда он провел рукой по груди и задержал на миг пальцы, где она висела. А спрятал потому, что не хотел дразнить инспектора.
Федор Ваныч ходил гоголем: он объявил себя кадетом и громко гугнявил за стеклянной дверью в учительской:
— Не поймите, господа, что я вообще против монарха. Что вы, что вы! Империя — идеальный правопорядок! Да мы в России со времен Рюрика и не знали иного правления. Но согласитесь, что Романовы давно выродились, и нам нужен царь из другого семейства. А чтоб правил он по совести, мы ограничим его власть парламентом.
— Дело ваше. Лично я — за равноправие женщин, — твердила свое Клавдия Алексеевна. — А какое же равноправие при царе? Республика, и только республика! А мужика к власти не допускать: не дорос еще наш Ванька болтать в Государственной думе!
Благочинный с усмешкой поглядывал на свою дочь, пухлыми пальцами перебирал на широкой груди цепочку от золоченого наперстного креста и считал, что более прав инспектор Кулаков. Но царя хотел он такого, который смог бы подчиниться церкви.
Ему поддакивал регент Митрохин:
— Да нешто можно без царя? Великолепия не будет! Все опростится, дорогая Клавдия Алексеевна. Даже мундира с золотым шитьем не увидим. А мундир — сила великая! Вон Гаврила-стражник скинул мундир, и что вышло? Рядовой мужик вышел — сутулый, в портах с огузьем. И ему — грош цена. Нельзя, господа, никак нельзя править Россией в цивильном пиджаке либо в косоворотке. Никто и не послушается. А как подумаю, что в Зимнем дворце рассядется такой дюндик во фраке, как Раймонд Пуанкаре или, к примеру, наш Родзянко, ну, извините, прямо смех давит!
Инспектор, благочинный, Митрохин и Гаврила Силыч заливались смехом. Клавдия Алексеевна хваталась за графин с водой. Отец, щуря глаза, теребил рыжие усы, пожелтевшие от табака.
Он прицепил к своему «георгию» красный бант и расхаживал по учительской, сильно припадая на левую ногу.
— А ведь не плохо придумали в Питере с этим Временным правительством! Значит, понимают господа министры, что сидеть им в золоченых креслах малый срок. Но какие ни есть они, а все пока лучше царя. И я вам скажу, что в словах Клавдии Алексеевны больше правды, чем у вас, господа. Ей-ей! К империи возврата нет. Царь со своей Федоровной, с девочками и с наследником укатил в Екатеринбург, под домашний арест. И никакой князь, граф или фон-барон не рискнет нынче сесть на вчерашний престол.
— Вот так так! Да почему же? — спросил Гаврила Силыч.
— В России народ проснулся. Солдат, рабочий, крестьянин! У солдата в руках винтовка. Он унесет ее домой и захочет сам решать свою судьбу. Вы, что же, забыли об этом? А солдат с винтовкой не только царя не хочет, ему и барин — хуже чумы. Даже у нас мужики поговаривают, как бы землю у Булгакова отнять.
— Это кто же? — насторожился благочинный.
— Пока секрет, отец Алексей! Да и негоже нам брать такие дела на заметку. Мы в училище, а не в сыскном отделении. Вот так! А если вникнуть поглубже, так мужики правы. У Булгакова в пять раз земли больше, чем у всей сельской общины. И половина пустует. А солдатские дети начинают пухнуть с голода. Федор Ваныч наверняка знает: небось говорила ему об этом Софья Феликсовна. Она к народу близко стоит.
— Говорила, говорила! Только до такого самоуправства никто не допустит. Землю можно и выкупить, — заметил директор.
— А на какие шиши? И разве за это солдат кровь проливал?
— Что это за речи, Алексей Семенович? Вы просто смутьян! И я, как погляжу, настало время оградить ребят от вашего тлетворного влияния. А то вы им такой чепухи наплетете, что и не расхлебаешь. Тут, батенька, училище, а не кабак! — нахмурился и строго сказал благочинный. Он вскинул выше головы широкий рукав рясы и размашисто провел тыльной стороной правой ладони под кустистой седеющей бородой.
Отец хорошо знал благочинного и догадался, что терять ему уже нечего.
— Многие придут к этому, дайте только срок. Я, конечно, не прорицатель, не пророк, отец Алексей, но кумекаю так, что и церкви придется потесниться, когда мужик побежит с фронта и станет справлять новоселье во всех глухих углах молодой, обновленной России! — Он взял костыль, накинул шинель на плечи и вышел, громко хлопнув стеклянной дверью.
На совете педагогов Коцкого высшего начального училища мигом отменили приказ инспектора Кулакова о приглашении отца на работу. И в тот самый день, когда дядя Иван стоял с винтовкой возле броневика на Финляндском вокзале в Питере и жадно ловил каждое слово Владимира Ленина, георгиевский кавалер, рядовой Алексей Шумилин увольнялся от занятий со школьниками по гимнастике и по военному делу.
Дед Семен в этот раз сдержался: не упрекнул отца. Но будто удивился:
— Поди ж ты! Вдругорядь гонят тебя, Леша, из школы. И все по каким-то семейным обстоятельствам. Хитро, мать честная!..
Витька собрал своих дружков на оттаявшем пригорке, возле наклоненной Кудеяровой липы, где Димка с Колькой когда-то выпускали птиц по весне и подглядели, как над ручьем снимал бороду юродивый.
Пробовали пускать бумажного змея, да вышла оплошка. Говорили Силантию: «Беги легче». А он помчался, как молодой жеребенок, и посадил змея на высокий вяз. И разорванная бумага, с длинным хвостом из мочала, затрепыхалась от ветра в густой кроне.
— Эх, Сила! Зря тебя мать на двор носила! — Витька развалился на зеленой траве и залюбовался пчелой: она легко присела на желтый венчик подорожника. — Ишь, как старается! А мы лясы точим! Про дело совсем забыли! За отца будешь мстить? — глянул он на Димку.
— Надо бы! А как? — Димке еще не приходила в голову такая простая, но дерзкая мысль.
— Историк воду мутит: все царь да царь у него в башке. Не дадим ему на царя молиться! Вот и весь сказ. Портрет тот изгадим! — загорелся Витька.
— А инспектору фискалить про историка не будем. Мы ведь не дюндики! — вставил Колька.
— Это само собой, — Витька махнул рукой. — Мы к этому не приучены. А благочинному другую каверзу удумаем.
— Ребята! Гаврила-стражник казнил намедни кота-ворюгу, что куриные яйца у него жрал. За огородом в крапиве валяется, я видел. Вот и подкинем его благочинному, — предложил Филька.
— Не плохо! Ей-богу, не плохо! Только с умом надо, чтоб крепче вышло. А как? — спросил Витька.
— Я читал где-то: дохляку записку надо нацепить! Эх, и разбушуется благочинный! — засмеялся Колька.
— Пойдет! А другим учителям чего? — Сила про что-то думал и старательно ковырял мизинцем в горбатом носу.
— Пока не будем трогать. Они тихие, — Витька встал, поддернул штаны. — Значит, план такой: Филька доставит дохляка ко мне. Кольк, тебе записку писать. Только думай, голова, как похлестче. Ты, Димка, достань у деда Семена дегтю; отлей в кружку, вечерком занесешь. А мы с Силой пойдем помело мастерить. Эх, и праздник будет! Самый майский!
Колька мучился, мучился, ничего не написал и прибежал к Димке. Вдвоем они и сидели на крыльце, мусоля карандаш. Но и Димке лезла в голову лишь одна фраза: «Привет благочинному от старого режима».
Вдруг со стороны Обмерики показалась телега. Из нее выпрыгнул и зашагал по площади высокий мужчина в шинели нараспашку.
— Солдат вернулся, — сказал Димка.
Он пригляделся, встрепенулся, кинул карандаш, стремглав слетел с крыльца. Дядя Иван раскинул руки, подхватил крестника и закружился с ним перед домом. А на телеге хлопал в ладоши калужский Минька. Он похудел и вытянулся, над верхней губой его появился темный пушок.
— Узнаешь приятеля? На недельку со мной приехал. Вы того: целуйтесь скорей, да пойдем в хату. Соскучился я, брат, по Аннушке, по Алексею, по деду Семену. Как они?
— Кто кряхтит, кто скрипит. С харчишками плохо. А соберутся вечером, уткнут нос в газету — и давай ругать временных.
— Не плохо! А Сережка?
— Такой пострел: вчера у деда Семена гривенник смахнул.
— Все правильно. Значит, в тебя пошел…
Ахи, охи, обед из картошки с селедкой, бабушкин пирог с грибами, долгое и шумное застолье за самоваром, Минькины байки про гимназию, — Димка с Колькой и о записке позабыли.
Спохватились в сумерках: под окном засвистел Витька.
— Что ж вы! Забыли? — крикнул он, но увидал Миньку. — А, у вас гости! — И, поддернув штаны, уставился на гимназиста.
А тот расправил плечи и, как петух, готовый к драке, вытянул шею.
— Ну, я пойду. Ребятам скажу. — Витька отвел взгляд от Миньки и уставился в окно: дед Семен что-то доказывал дяде Ивану и обмахивался рушником.
— А что у вас? Секрет? — Минька сошел с крыльца и протянул Витьке руку. Ему рассказали про дохляка.
— Есть у меня четыре строчки. Дядя Иван по дороге сказывал. И такие, что вам к месту. Давайте бумагу, я и напишу. Да так и лучше будет, с вас и спросу меньше.
Стало уже темнеть, когда Минька вынес записку из хаты. Витька притулился к освещенному окну и, прочитав, сказал:
— Крепко! А кто придумал?
— Пушкин, Александр Сергеевич.
— Ну, парень, не ври! Да нешто мы Пушкина не знаем? И про мальчишку, что отморозил палец, и про мертвеца, который попал в сети, и про Полтавский бой. И всякие сказки. Про Руслана, к примеру. И про старика со старухой у самого синего моря.
Минька расхохотался:
— Чудак ты, Витька!.. Я тоже про Пушкина так думал. А почему? Да в гимназии у нас иного и не проходили. А вот дядя Иван говорит: он и про другое писал. И про царя и про его сановников. Только все это под замком было, не про нас.
— Ну, раз Пушкин, крепче и не придумаешь. Каюк теперь благочинному! А историк? Тот совсем зайдется. Из штанов выпрыгнет!
Витька сбегал за помелом и привел ребят. Филька держал за ноги дохляка. Димка вынес деготь. И вшестером пошли творить зло рыжему Гавриле Силычу.
Четверо стали ходить вдоль барского сада: куражиться и орать частушки. Услыхали их Ася с Настей и, будто ненароком, прошлись мимо школы. Димка предложил побегать в горелки.
— Горю, горю пень! — кричал он задней паре — Насте и Силе. Ему вышло гореть. Он напружился и ждал, когда Настя закончит недолгий разговор с ним и побежит.
— А чего горишь? — Настя подбоченилась и притопнула ногой.
— Девку хочу.
— Ишь ты! А какую?
— Молодую.
— А любишь?
— Люблю!
— Полсапожки купишь?
— Куплю!
— Ну, прощай, дружок, не поймаешь!
Она кинулась в темень, стремительная в беге, как летящая стрела, и черная ее фигура едва маячила в густом мраке ночи. Димка почти не видел, как она мчалась, но слышал вблизи ее топот. И бежал, жадно хватая воздух, и очень хотел догнать ее. И схватил ее за ключицы на худых плечах — далеко от кона, на дороге к сельскому кладбищу.
Часто-часто билось у Насти сердце, словно оно выскочило из груди и трепыхалось прямо под суконным шушуном. И Настя не вырвалась из цепких пальцев Димки, обмякла и крепко прижалась к нему. И вдруг коснулась жаркими губами его пылающей щеки.
— Ты что? С ума спятила? — он увернулся от Настиной ласки и отскочил, толкнув ее в упругую грудь. Но на душе было смутно и почему-то радостно.
— Уж и пошутить нельзя, недотрога! — звонко засмеялась Настя и побежала к кону.
А там, где-то в черной темени ночного мрака, уже стояла другая пара — Колька с Асей — и Сила кричал хрипловатым голосом:
— Горю, горю пень!
— А чего горишь? — спрашивала Ася…
Один лишь Филька сидел на земле возле барской ограды, стерег дохляка с запиской и тихо-тихо насвистывал в дудочку старинную песню: «Дуня, Дуня! Дуня-тонкопряха!»
Подошел Минька, следом за ним Витька.
— Неплохо сработали: стекло в кладовке выставили, помелом сунули в царский портрет. Дегтем всю стенку помазали, это точно! А попали в царя либо нет, — впотьмах-то и не видать. Надо тикать! Рыжий Гаврила сейчас лампу запалил!
Быстро миновали больницу, завернули за угол барского сада и впятером повели девчонок на площадь. А Филька задержался и ловко запулил дохляка во двор к благочинному.
Утром благочинный увидал дохлого кота с запиской и схватился за сердце: на листе бумаги Минька хорошо вывел слова Пушкина:
Народ мы русский позабавим!
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим!..
ВЧЕРА, НЫНЧЕ И ЗАВТРА
Утром прошел слух, что бегал Гаврила Силыч к пане Зосе за скипидаром: значит, попало его царю дегтем по рыжим усам!
Учителя долго шептались за стеклянной дверью, вызывали к себе дюндика, потом Фрейберга.
— На фискалов нынче спрос! Вишь, как их пытают? — посмеивался Витька. — Только ничего у них не выйдет! А боюсь я за Аську: прижмут ей хвост, она и нюни распустит. Поговори-ка с ней, — сказал он Димке.
— Зачем же я? Это Колькина девчонка!
— Молчал бы! — Колька зарделся. — А если хочешь знать, так я не хоронюсь, как ты с Настей. Вот пойду и поговорю! — И он окликнул Асю.
— Да что же это делается? — удивился Витька. — Уже и девчонок порасхватали! А мне, выходит, Поля достанется? Так она на ходу спит… С ней и блоху не поймаешь!
Евсеич прозвонил на урок.
Благочинный ловко задрал подрясник, уселся на парту и начал рассказывать всякие байки. Про блудного сына можно было и послушать: как он удрал на чужбину, совсем забыл про своих стариков, шатался невесть где и запаршивел как пес. А потом шепнул ему бог: «Вернись, несчастный, прибейся к дому родителей твоих!» И он вернулся и в слезах облобызал стариковы ноги.
Эта байка еще так-сяк. А потом пошли притчи про смутьянов, которые не чтут своих духовных пастырей, и про каких-то дерзких мальчишек, которые не пекутся о душе своей и, как глупые караси, суют буйную головушку в тенета дьявола, расставленные им по всем весям грешной земли.
Голос у благочинного крепчал и крепчал, а острые карие глаза так и ощупывали ребят: вот уж хотелось ему дознаться, кто подсунул того дохляка!
Но ребята не подавали виду и старались глазеть в окна: на воле — шумно и смело — хлопотала ранняя весна.
Над озимью, почти синей в это солнечное утро, дрожал и переливался жаркий воздух. С далекой межи тяжело снялся скворушка и пролетел мимо окон с длинным червяком в клюве. Два воробья завели крикливую драку под березой, с которой свалился на землю сонный хрущ. На крыше стонал и булькал сизарь Евсеича. В класс заглядывали ласточки.
На кладбищенской черемухе уже другой день колыхался от ветра снежный полог пахучих цветов. А одинокий кряжистый дуб лишь задумался и побурел: подходила и ему пора выбрасывать первый лист, похожий на заячью лапку.
Хлопотливые пчелы уже обработали золотистые сережки ивы и желтые пятаки подорожника. И теперь была у них думка — про черемуху, про яблоню, про вишневый цвет.
В день Егория вешнего выгнали первый раз скот в поле, и бабы с прибаутками — азартно, но неумело — качали пастуха, чтобы не дремал все лето и поважно ходил за стадом.
Завтра начинается май, а через две недели — каникулы до осени. И какого дьявола этот благочинный все болтает про дьявола?
Димка уставился на кряжистый дуб, что виднелся обочь от кладбища, и вспомнил про деда Семена — он небось копается в огороде и думает тоже про этот старый дуб — все ждет, когда же он выкинет первые листья.
Чудной — одинокий и ветхий — дуб! Он просыпается позже всех деревьев, и обязательно в холодке, когда последние утренники укрывают хрустящим инеем молодую траву.
А пробегут майские утренники, и все Шумилины выйдут сажать огурцы — и отец, и мать, и даже Сережка: дед Семен давно говорит, что его надо приучать к земле. В ней вся надежда. Это и отец стал понимать: хлебушко давно вышел, мучицу не укупишь — дорожает день ото дня, а достатка нет. Дядя Иван, вишь, как глянул за обедом на каравай. И не то беда, что он мал, а — с овсянкой. Как только лошади овес едят: его усы так и застревают в зубах. Глянул дядя Иван и с грустью сказал свою любимую присказку:
— Да, краюха невелика! Вот уж истинно по нынешним дням: гостя черт принесет и последнюю унесет!
Хорошо, что бабушка догадалась пирог прислать, а то бы и Миньку угощать нечем!
А что поделаешь? Война! Да и временные совсем землицы не обещают. Им-то не кисло: жрут себе царский пирог и вопят: «Война! Даешь войну! До победного конца!..»
Благочинный ушел ни с чем. И не думали ребята, не гадали, что слушали его байки в последний раз.
Клавдия Алексеевна с умыслом дала письменную работу: «Как я провел вчерашний день».
Витьке с Димкой, Кольке с Филькой, Силе и даже Насте с Асей пришлось попыхтеть: всю-то правду не скажешь, а придумывать — да еще на бумаге — раньше не приходилось.
Колька начал писать про чугун картошки: как они с дедом разделали его поутру, без хлеба. Димка тоже повел помаленьку скрипучим пером: про черемуху — как она зацвела и как сломал он для Сережки большущую ветку. А потом про дядю Ивана, который приехал на побывку, и про деда Семена: как он высаживал капустную рассаду и все приговаривал: «Пойди, пойди в рост, милая! Дай бог, чтоб бог дал!» — и щедро поливал грядки из лейки.
Все шло хорошо: Димка писал о том, что хотел написать. А иногда ловил себя на мысли о том, про что писать не хотелось — про дохляка с запиской, и про царев портрет, и про Настю. Не то она сдурела, не то ей надо любовь крутить. Вот ерунда!
Учительница ходила по рядам и зорко вглядывалась в тетради: не терпелось ей скорей дознаться, кто подкинул ту записку ее батеньке.
Она остановилась возле Димки, когда он начал писать про отца. Отец весь вечер курил папиросу за папиросой и жадно слушал дядю Ивана, словно боялся пропустить мимо ушей хоть одно его слово: и про временных, и про Петроградский Совет, и про Ленина, который крикнул с броневика: «И да здравствует социалистическая революция!»
«Может, и про это не надо? — со страхом подумал Димка, чувствуя за спиной пристальный взгляд учительницы, споткнулся, поставил жирную кляксу. — А вдруг она у меня в мыслях все прочитает? Пропаду ни за грош!»
Но учительница ткнула острым мизинцем в тетрадь и сказала в сердцах:
— Какую чепуху ты плетешь, Шумилин! Это же про шпиона! Германский шпион твой Ленин, вот кто!
Димку это заело, и он дернул плечом, но сдержался: боялся сбиться. Он стер кляксу резинкой, на душе стало спокойней. Теперь он вел рассказ про Миньку, а думал, что никому, значит, не дано копаться в чужих мыслях. Учительница велела написать про вчерашний день. Вот и пускай судит по тому, что нацарапал он в тетради. А что в голове запрятано, так никому до этого дела нет. И как хорошо, что догадались люди выдумать буквы. Стал бы вслух рассказывать, беды не миновать, потому что врать совсем не обучен. А за буквы и схорониться можно: одну проставишь, к ней другую прилепишь, и выйдет слово. Подумаешь хорошенько, еще слово напишешь, вот и фраза готова. Слов-то много — океан. А букв всего тридцать четыре, даже с фитой, с ятем и с ижицей. И делай с этими буквами, что хочешь: так ставь и этак. Слов наберешь полный короб. Только не каждое лыко в строку, а — с умом, чтоб лишнего не наболтать. Так небось и сочинители делают: водят пером по бумаге, вяжут букву к букве, и такие слова вставляют, хоть плачь, хоть смейся. А иной так поддаст, что от страха мороз до пят прохватит. Здорово!
Видно, и ребята так думали: сумели они за буквами спрятаться. И никого не могла схватить за руку учительница — дочка благочинного.
Перед вечером дядя Иван пригласил Гришу с Андреем. И отец был с ними. Что-то они обговорили и пошли к старосте. Дед Семен — с матерью и с Сережкой — готовил грядки под огурцы. Димка потащил Миньку на Омжеренку — ловить пескарей.
Все собрались к ужину — на рассыпчатую картошку в мундире. Мать вынесла из кладовки шматок сала. Рыбаки выдали каждому по три жареных пескаря: маловато, конечно, а для запаха — в самый раз!
— Упал духом ваш староста. — Дядя Иван дунул на пальцы, обожженные картошкой, глянул на деда Семена.
— Это как же понимать надо? — Дед отрезал тонюсенький кусочек сала и запихнул его в рот.
— Мы к нему с разговором, а он поначалу хотел отмахнуться: власти, мол, в селе никакой, и кто будет править миром с этой весны — темна вода во облацех. Я, мол, ото всех дел отошел. Осталась одна отрада — убогая лавчонка. Да и в ней товара нет: одни крысы. С голодухи разбеглись повсюду, стали прилавок грызть.
— Ох, и живоглот этот Липка! Давно мы его лампадником прозвали: благочестивый, пес, а креста и на нем нет. И как, скажи, богатство разъедает нутро человека, прямо как ржа. Да у него масло и сельди в бочках, на заднем дворе, где кобель на цепку привязан. И муки с крупой полные закрома. Люди же знают. А он, пес, хоронится. Самую агромадную цену ждет. Вот тогда и сдерет с нас шкуру.
— Ну, Семен Васильевич, сейчас еще не время перетряхивать его запасы! Закона такого нет. И господа временные его не издадут. У них у самих — земля, заводы, капиталы. Сейчас я про другое. «Власть, — говорю, — сменилась, Олимпий Саввич, это верно. А староста остался: никто его с должности не снимал. Подойдут, значит, мужики с фронта. А ждать недолго, они сейчас вовсю с германцем братаются. Выберут нового старосту: без власти, конечно, негоже. А пока выхода нет. Завтра вам вести народ на демонстрацию».
— Так, так! А он что? — заерзал дед Семен.
— Ни в какую! Ну, я для страсти поиграл пистолетом у него под носом. Так, мол, велит губернский Совет солдатских депутатов. Надо в народе дух поднять.
— А про бляху не спросил? Он ее небось в сундук закинул?
— Гриша ему подсказал. Бляху, мол, не надевай, а красная розочка будет к месту.
— Что деется, что деется? И мне с вами идти?
— Ты, дед, плакат понесешь! — выпалил Димка.
— Смотри у меня! — Дед погрозил кулаком. — Найдем дело и поважнее! — Он выставил самовар на стол и стал разливать по чашкам ароматный китайский чай из последних запасов.
Димка выпросил у матери красный лоскут и уселся с Минькой возле лампы мастерить розочки.
— Дайте уж я сделаю, — сказала мать. — Не управиться вам с иголкой, а надо бы. Вон Филька Свистун даже вышивать умеет. — Она сложила ленту бантиком, в одном месте прихватила ниткой. — Пойдет так, Иван? А то не видала я ваших розочек.
— Отлично! — похвалил дядя.
Сережке нацепили первый бантик, и у него зажглись глаза, и он стал расхаживать вдоль стола, выпятив грудь, пока не попросили его в горницу: на горшок — и спать.
Деда Семена отправили на печку — греть старые кости на кирпичах. А отец с дядей Иваном сдвинули стол, веником подмели пол и раскинули во всю длину кухни узкое белое полотнище из старой простыни.
— Старайся, кавалер! — Дядя Иван достал с божницы дедову стеклянную неваляшку.
— Глянь-ка, Иван, мухи там нет? Давненько я в тетрадь ничего не записывал, — вздохнул на печи дед Семен.
— С мухой еще складней. И кисточки не надо, — отшутился дядя Иван.
Отец подогнул больную ногу, уселся на полу и стал выводить крупными буквами пламенные слова на плакате: «Конец войне! Вся власть Советам! Земля крестьянам!..»
Утром поднялись чуть свет. А деда Семена нигде не нашли — ни в огороде, ни во дворе. И Красавчик пропал и Полкан. И не было под навесом сохи с новыми оглоблями, а в кладовке — старой Димкиной шомполки.
— Эх, наломает дров батя! — Отец достал воды из колодца и вылил ее в деревянную колоду, где утром и вечером поили лошадь.
— Не бойся! Люблю я его. Старик решительный! — Дядя Иван плескался у колодца, фыркал и обтирался рушником. — Мы еще плакат из хаты не вынесли, а он уже действует. Ты погляди, что в селе будет! Все за ним кинутся!
Димка с Колькой нехотя побежали в училище. Правда, дядя Иван обещал завернуть туда с народом. А вдруг не получится? И прозевают они первую демонстрацию.
Возле хаты Шумилиных стали собираться люди: кто с опаской, кто с интересом — Андрей с женой, Гриша со Стешкой, Ульяна, Аниска, две-три старухи и дед Лукьян. Вышли трое из барской усадьбы: генеральшин кучер Борис Антоныч с черной цыганской бородой, долговязый повар и младшая дочка конюха — рыжая Танька. Увидали плакат, прислонились к воротам, потоптались возле флигеля, где еще нежилась в постели барыня, и несмело двинулись через площадь.
Гриша бренчал на балалайке, а Стешка с Аниской притопывали каблуками, но в пляс не шли и петь — не пели.
Дед Лукьян вышел в круг, распушил ладонью сивые бакенбарды:
— И штой-то вы, бабоньки, воды в рот набрали? Аль все песни за ночь забыли? Новых не знаете, так старые зачинайте. У вас про кажин день песня в запасе. И на радость, и на горе. И губа не дура, язык не лопатка — знает, что горько, знает, что сладко. А то я про Ваньку-ключника вдарю, право слово! Да, мабуть, не ко времени? А?
— Все сгодится, Лукьян Анисимович. Песня, ведь она первая сестра дружбе. Солдаты в бой под нее с одной думкой идут, по-братски. И какую хотите, такую и пойте. Только не «Боже, царя храни». Эта не подойдет, — дядя Иван шутливо толкнул локтем деда Лукьяна.
— Про старый прижим — крышка, Иван Иваныч. Вспомню, как о прошлом годе штаны с меня сняли, аж и досе зад болит! Эх, была не была! Ну, бабоньки, вы того… подпрягайтесь, а я, значится, заведу. Вместо кобедни, — дед Лукьян взмахнул рукой и дребезжащим старческим тенорком затянул песню про Стеньку Разина.
И никто не удивился. И все запели: ладно, серьезно, словно этой удалой песне про вольного казака суждено было сплотить их в одну боевую шеренгу.
Подошел староста — в синей распашной поддевке, в городском картузе с лакированным козырьком. Он оглядел певцов и стал поодаль, заложив руки за спину. На груди у него, слева, висел большой красный бант.
Песню спели: персидская книжка вылетела за борт корабля и захлебнулась в Волге, Стенька отгулял свое с веселыми дружками! Гриша и Андрей подняли плакат за древки, дядя Иван попросил всех встать в ряды и об руку с отцом и со старостой пошел во главе колонны.
Запели другую песню, сначала вчетвером: дядя Иван, Гриша, отец и Андрей. Запели не в лад и не смело, словно кто-то мешал им или было самим им страшно от призывных слов этой песни. Но никто не оборвал ее, и певцы — согласно и в ногу — повторили три раза первый куплет.
В хор включились помалу все молодые женщины, и с ними — дед Лукьян, повар, Минька и Борис Антоныч. И над селом, гулко отражаясь эхом то под крышей колокольни, то в барском белокаменном доме, то в высокой кроне вековых лип, первый раз зазвучала в глухих брынских местах радостная песня революции:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!
А чистый, звонкий и сильный голос Стешки уже вел другой куплет:
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!
Прошли вдоль первого порядка, до Анискиной хаты — на самый край села, к Обмерике. Завернули на другой порядок, где жили Андрей и Гриша. Из хат стали выбегать старики, старухи, дети. Бабки накрывались платком, деды накидывали на голову шапку или картуз, пятерней расчесывали бороду. И все, таща за собой малышей, густо вливались в ряды демонстрантов.
Завернули на третий порядок, к Потаповой кузне, мимо добротных домов Ваньки Заверткина, дьякона и Митьки Казанцева. Ванька выглянул из двери, скорчил рожу и спрятался от народа в сенях. Дьякон пощипал бороду, бестолково тараща глаза на плакат, потом помахал рукой старосте, почесался в левом боку и громко зевнул. Митька Казанцев с крыльца своей чайной с усмешкой подглядывал из-под руки, засунув другую руку под фартук. И что-то говорил заезжему купчику — его бричка с добрым вороным жеребцом стояла у крыльца. Купчик смотрел, крутил баранки на усах и посмеивался. Но прочитал слова на плакате, плюнул со злостью и повернулся спиной — ушел допивать чай.
Демонстранты вернулись на площадь, к дому Шумилиных. Вышла мать с Сережкой и сразу его потеряла в толпе: он убежал к ребятишкам хвастаться своим красным бантиком.
Еще раз спели песню, да так дружно, что напугали барыню: она захлопнула ставни. Анна Егоровна выбежала навстречу шествию — в белой кофточке, в черной широкой юбке до пят, пунцовая, радостная.
— Да подождите же, люди! Я сейчас ребят к вам выведу!
Отец пошел с ней в школу, построил ребятишек — по четыре в ряд, и они двинулись в голове колонны, озираясь на плакат и на своих родителей, которые ладно пели все ту же песню.
Благочинный, не раскрывая окна, лишь одним глазом глянул на своих прихожан из-за фикуса. Но Минька успел заметить, как он перекрестился: размашисто, тяжело, от плеча к плечу.
Софья Феликсовна закрыла больницу, поправила белую косынку с красным крестом и кинулась к Стешке. И хорошо пошла в ногу и запела, как девочка, и мягкий ее голосок ладно включился в хор.
Напялив до ушей потрепанную фуражку с кокардой, выбежал из своей конторы почтмейстер Петр Васильевич и засеменил рядом с отцом.
Демонстранты подошли к училищу, и Димка одним из первых показался на пороге. Ученики столпились кучей, напирая друг на друга. Отец махнул фуражкой и привычно крикнул:
— Ста-но-ви-тесь!
И мальчишки стали равняться в длинной шеренге, оттеснив трех девочек на левый фланг. Только Фрейберг и дюндик топтались у входа, дожидаясь инспектора.
— Что это? Не для вас команда? — подтолкнул их Федор Ваныч и подал руку Клавдии Алексеевне: она показалась в дверях, подняв край юбки над порожком.
Вылез к свету и подслеповатый старый Евсеич. Он не знал, куда пристроить звонок, и долго крутил его в руках, пока не догадался сунуть в широкий карман кафтана.
Один лишь рыжий историк не показал носа: остался в учительской. И Димка готов был биться об заклад, что сидит он сейчас, стиснув голову руками. А когда все уйдут, раскроет ладанку, поглядит на рыжую бородку царя и заплачет.
— А ведь голова у тебя на плечах, не пехтерь с соломой, — шепнул ему Витька, услыхав про историка.
Но о нем тотчас забыли: Андрей и Гриша подхватили под руки инспектора и повели его на почетное место — под плакат. А он упирался и жалобно гугнявил:
— Не могу я идти, господа, под таким знаменем. У меня совсем иной образ мыслей. И никто не должен думать, что я потерял голову и согласен поддержать этот лозунг. Увольте, господа, увольте!
Он вырывался, но его придерживали и помаленьку перемещали к первому ряду.
Дядя Иван развернул колонну и повел ее к волостному правлению.
— Мы никому не закрываем рта, гражданин Кулаков, — говорил он инспектору, который шагал невпопад и все обмахивался душистым носовым платком. — Сейчас начнем митинг, дадим вам слово, вот и объясняйте народу, что у вас на душе. А плакат — что же? Сделали, как сумели. Да и вы могли бы показать свой плакат. Запрета нет.
— Не успел я, взяли вы меня врасплох. Но уж поверьте, такую крамолу я бы не написал. Страна истекает кровью, немцы на Украине, под Питером, отечество в опасности, а вы кричите — «Мир!» Да кто вы такой, чтоб действовать на руку врагу? Впрочем, мне и так ясно. Ленин ваш — германский шпион, а отсюда и все эти штучки.
— Не болтайте вздора! — строго сказал дядя Иван.
Но инспектор не унимался, его словно с цепи спустили.
— «Советы» — твердите вы. А что это такое, когда есть законное Временное правительство? Младенцу ясно, что всякая иная власть — самая натуральная смута. А земля? Разве можно ее захватывать? Она же священная частная собственность. Все ваши разговоры о земле — анархия чистой воды! И я иду под знаменем этой анархии, боже ты милостивый!
— Приберегите пыл для народа, Федор Ваныч, — пробурчал староста. — И меня врасплошку взяли да еще велели красный бант нацепить. Видать, пока их верх…
Олимпий Саввич, держась за поручни, тяжело поднялся на высокое крыльцо волостного правления, снял городской картуз с лакированным козырьком, огляделся и крикнул притихшей толпе:
— Граждане! Начинаем митинг! Будем говорить по порядку, и чтоб безо всякого озорства. Вот так! А об чем речь пойдет, скажет Иван Давидов. Он от какого-то губернского Совета к нам прислан. Давай, Иван Иваныч!
— Сначала обговорим текущий момент, товарищи. Воевать с немцем либо нет? Доверять господам из Временного правительства либо гнать их в шею? Пухнуть всем миром с голоду либо пахать барскую землю и дать хлеб каждой семье? А между прочим, солнышко не ждет, весна вошла в силу. Самое время пройтись по барской земле с сошкой. Заскучала она по мужику. Вот и решим сейчас, как жить дальше. И что делать? А потом выберем делегата на губернский крестьянский съезд. Он откроется в Калуге девятого мая. Козельчан ждать не будем. У них драчка. Никак не сговорятся, каким господам править в уездном городе — то ли кадетам, то ли эсерам… Ну, кто просит слова? Гражданин Кулаков хочет вас просветить. Начинайте, Федор Ваныч.
И — пошло! И заварилась у Димки в голове такая каша — половником не расхлебать!
Инспектор бил ладонью по перекладине и кричал — гугняво, в нос:
— Воевать до победного конца! Немцу смерть! На чужую землю не зариться, а всякие Советы — по боку!
Андрей совал в лицо инспектору свою культяпку:
— А вот это видал, господин Кулаков?! Ты сам иди шуруй немца! Будя с бабой прохлаждаться. Нам тоже баба нужна. А еще нужней землица: ядреная, жирная, барская. Я ее по ночам вижу. И хоть голову под топор, а все равно распашу!
Почтмейстер замахал фуражкой над лысой головой:
— Временные правители царя скинули, за то их уважать надо. Люди ученые, не нам чета. Окажем им доверие, выведут они нас к свету. А про землю пока молчок. Тише едем, дальше будем и никакого зла не наживем.
Почтмейстера отпихнул Гриша:
— Ты безземельный бобыль, Петр Васильев, и нашей души не понимаешь! Тебе хоть от царя, хоть от временных — чистый доход. Подошло твое число — и получай жалованье. А нам, что ж, по миру идти? И знаешь что? Катись ты к черту со своими временными! Андрей надысь хорошо сказал про них — жрут они царский пирог, и нужны мы им, как собаке здравствуйте!
Что-то кричала Клавдия Алексеевна про заем Свободы:
— Покупайте его, граждане! Он нам даст деньги для победы над врагом! И не верьте вы смутьянам и подстрекателям. Они ведут вас к гибели. Триста лет ждали! Еще подождем три месяца. Все нам скажет Учредительное собрание — и о правах граждан и о земле.
Взял слово отец. Он стучал костылем в гулкий пол крыльца, а серебряный «георгий» с желто-черной ленточкой раскачивался, как маятник:
— Чего же ждать, товарищи? Упустим время, обведут нас начальники вокруг пальца. В других-то волостях не дураки сидят, помещиков своих трясут, до монастырских лугов добираются. Э, да что толочь воду в ступе! Мой старик уже поднял руку на барина. Мы тут кричим да охаем, а он спозаранку ходит за сохой по барской земле. С рассвета, товарищи! Вот это и есть рассвет нашей жизни. По коням — и с богом!
Гул поднялся такой, словно пошла повальная драка. И кто-то хотел бежать домой, не опоздать на барское поле. Но все остались на месте и затихли, когда стал говорить дядя Иван.
— Спокон веков были у нас три кита: вера, царь и отечество, — начал он глухо. — Царя скинули — туда ему и дорога! Еще в пятом году пели про него песню в калужской деревне:
Всероссийский император —
Царь жандармов и шпиков,
Царь — изменник, провокатор,
Созидатель кандалов,
Всероссийский кровопийца,
Для рабочих царь — убийца.
Будь же проклят, царь жестокий!
Люд, восставший за свободу,
Сокрушит твой подлый трон,
Долю лучшую народу
Завоюет в битве он.
— Кто скажет слово в защиту этой гадины? — закричал дядя Иван. — Никто?! Отлично! Одного кита нет. Как быть с верой? Пока ее не трогаем, есть дела поважней. Но духовных лиц потесним. Жирно едят, берут не по совести. Одним словом, глаза завидущие, руки загребущие. И правильно делают в соседних волостях, что подбираются к долгогривым. Осталось отечество. Это дело святое, товарищи! Только надо воевать за него, чтоб хозяином в отечестве были мы с вами, а не министры-капиталисты. Эти господа, столь угодные сердцу инспектора Кулакова.
— Все получше вашего Ленина! — прогугнявил Федор Ваныч и спрятался за широкую спину старосты.
— Сейчас разберемся, — сказал дядя Иван. — А у нас свои три кита: вчера, нынче и завтра. Вчера была монархия. Нынче — республика буржуазная, дорогие товарищи, потому и правят Россией десять министров-капиталистов. А в диктаторы рвется Александр Федорович Керенский. Что ж получается? Александру Федоровну с Николашкой и со всем выводком на Урал выслали, так приперся Александр Федорович. Как в народе говорят: те же портки, только наизнанку! Так дело обстоит нынче. А наше завтра — власть рабочих и крестьян, власть Советов. Сами мы создаем эту власть, по велению сердца. И она обеспечит нам все: и права, и свободу, и землю, и фабрики. Вот так и учит Ленин. Но вся буржуазная Россия хочет его опозорить. Он, мол, германский шпион. И кричат об этом продажные писаки на каждом углу. А он — Ленин — растрачивал свою жизнь для нас по царским тюрьмам, в сибирской ссылке, за рубежом. И готов отдать жизнь всю, до последнего вздоха, чтоб жили вы, как люди, не думая о куске хлеба! Так и знайте, товарищи: Ленин — сердце молодой России. И он призывает вас к тому, что написано на нашем плакате: «Конец войне! Вся власть Советам! Земля крестьянам!..» Я ваш старый фельдшер, верный ваш друг. И до войны я не ладил с барином, не просил милости у благочинного, не якшался с пьяным исправником. Вы это знаете, и у меня совесть чиста. Но и я знаю всю вашу жизнь: ведь всех ребятишек принимал в селе замест повивальной бабки. И помню я в любой хате и старую русскую печку, и дверной засов, и пустой рундук, и голодного кобеля. Я пошел против временных, пошел за тех, кому править Россией от века до века — за вас, дорогие товарищи! Так верите вы мне, что я зову вас к светлой жизни словами Ленина?
— Да! Да! Да! — загудела толпа.
СПОЛОХИ
Минька умаялся за неделю и отсыпался на печке: завтра ему ехать в Калугу. Дед Семен перебрался в сенцы, на летнюю койку, и храпел так, словно на душе у него было спокойно. Никто не мешал Димке на кухне, и он при свете маленькой лампы жадно листал книжку Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи».
Вчитывался в такой необычный текст и снова думал про
слова, про буквы. Что делается? Просто уму непостижимо! Крючки, закорючки, запятые, точки. А за ними чего только нет! И по этим следам своей придумки люди узнают чужие мысли, радуются и страдают. Любят и ненавидят. И — зовут в бой!
«Мир — хижинам, война — дворцам», — вспомнился вдруг добрый, старый Октав из книги дяди Ивана о юном буре. Видать, был он прав кругом: давно-давно воюют люди промеж себя в одной стране. И правильно. У одних густо, у других пусто. Бедняк просит у барина: «Скинь должок — ничего за душой нет. Дай клок земли — совсем подбился, дети сидят голодные! Дай покос — корова на ногах не стоит!» А тот ему: «На-ка, выкуси!» Значит, надо отнять у барина, вот и все. Не одному же ему пампушки с медом есть! И дядя Иван так говорит, и дед Семен так действует.
А книжка звала вперед и будила мысли. И слов-то новых сколько! Прямо как грибы из лукошка!
Ведь еще вчера думал Димка, что все слова стоят на своих местах от века, и не видал, чтоб они менялись: не было им резона.
Новый месяц был молодиком, деревянная ложка — шавырка, маленький горшок из глины — махотка, а долговязый мужик — мотовило. Про нынешний день говорили — седнича, а про свиное сало — затолока. Все знали, что у коня фост, ребятишек секут за провинность березовой форостиной.
Смехота! Сами говорили через пень-колоду и над мужиками из других волостей посмеивались. Приехал как-то в село пастух из-под Мосальска. Вот уж удивил, бедолага, когда рот раскрыл: «Яблок гнилой, яйцо тухлый!» А под Тихоновой пустынью еще чище: «Мы зовем его купацы, а он боицы».
Школа, а за ней училище пригладили Димкин язык. А Витька с Филькой и нынче говорили сгоряча: надысь, намедни.
Теперь пришли слова новые: революция, митинг, демонстрация, анархия, диктатор, двоевластие, трудовики, эсеры, кадеты, меньшевики, большевики. А есть и такие слова, что и не выговоришь: интернационал, конфискация, национализация, экспроприация.
И у Вильгельма Либкнехта они встречаются, и в селе они нынче в ходу: барскую землю надо национализировать — это как пить дать. А дед Семен завернул с своей сошкой такое, что название ему — экспроприация.
Здорово обломали язык. А ничего! Можно и с такими словами жить. Только жить-то опасно. Барыня послала своему рыжему Ваде депешу: приезжай, мол, немедленно. Шумилин Семен с мужиками самовольно сделал на нашей земле запашку, сельчане хотят делить луга, боюсь, как бы не подпустили красного петуха.
— Я вам говорил! Что я говорил! — поеживался за столом почтмейстер, когда принес вчера эту новость. — Каталажкой пахнет, Семен Васильевич! Власть, она какая ни есть, а на расправу больно шустрая!
— Бог не выдаст, свинья не съест, — ответил ему дядя Иван.
Со дня на день ждали в селе барина, а дядя Иван с отцом и с Минькой собрался в отъезд. И что-то будет, что-то будет?
В лампе догорел керосин, глаза у Димки слипались, и он улегся спать.
В воскресенье, в полдень, были проводы: дядя Иван отправлялся в свой губернский Совет, Миньке подоспело время готовиться к экзаменам, отец ехал делегатом на съезд крестьян. Поначалу хотели послать Андрея, но он отказался: «Не могу, товарищи, пахать буду. Семен Шумилин свою делянку кончит, возьму у него коня. Так что спасибо за уважение, но недосуг мне. Просто никак не с руки!..»
С Минькой прощались на пригорке возле Кудеяровой липы. Утро прошло, день входил в силу, но над зеленой Лазинкой, в ясном голубом небе, еще белела маленькая долька луны. Про нее и хотел сказать Минька, когда вспомнил о дяде Косте — глуховатом и добром старике из Калуги, который пускал по рельсам большой медный самовар.
— Мы с Ликой помогаем ему, как можем. Эх, и голова у него светлая! «Царя скинули. Это, — говорит, — в порядке вещей. Все течет, все изменяется, да и много кровушки выпили Романовы за свои триста лет». Про временных посмеивается. «Им бы воевать до победы да деньгу загребать! Когда им о народе думать? Но ведь все течет, все изменяется. Скоро, глядишь, и временным конец. А станет править Россией народ, и я подарю ему свою ракету».
— Игрушку, что ли? Огни в праздник пускать? — спросил Витька.
— Ученые в игрушки не играют. Летать будем на этой ракете.
— Мы еще и эроплана не видали, а уж ракета — совсем чудно. И куда летать?
— На Луну, к звездам!
Витька глянул на белую дольку месяца, затерявшуюся на голубом небе.
— А не чудной твой дядя Костя? Будто ему на земле плохо.
— Я не хочу туда, — сплюнул Филька.
— И я тут буду, — поддержал его Сила.
— Вот и я говорю, — оживился Витька. — Землю барскую распашем, пирогов напечем с грибами. Луга покосим, корова молоко даст. Разве это не житуха? А на Луне и картошки нет и девки песен не поют.
— Ты совсем как баран, Витька! Наелся, напился — и на боковую. А Минька про технику говорит. Посадим в ракету буржуя или нашего барина, и пускай летит к чертовой матери! — Колька даже подпрыгнул от удовольствия.
— Ладно вам! Заболтались, того и гляди дед Семен придет, — Димка нехотя поднялся с теплой земли. — Пошли! А как эта ракета, электричеством заводится или керосином?
Все, кроме Миньки, прыснули со смеху.
— Пожалуй, керосином, — сказал он. — Паяльную лампу видели?
— Нет.
— Ну, как вам объяснить? А как лягушка струю пускает, видели?
— Эка невидаль! Фильке надысь на руку брызнула, как крапивой обстрекала, — засмеялся Витька. — У него и досе волдыри.
— Бывает, — сказал Минька. — А вот вам и задачка: нашли мы, к примеру, лягушку. И она не такая, как все. Она в мильон раз сильней выпускает свою струю. Что бы с такой лягушкой было?
— Знаю, знаю! — догадался Колька. — Струю из-под хвоста пустит, а сама вперед, как из ружья, полетит. И с глаз мигом скроется!
— Верно. Только лягушки такой нет. Зато каракатица есть: даст она струю воды, а сама от толчка вперед летит. Так вот и ракета у дяди Кости. В хвосте у нее будет гореть керосин. Газы дадут вспышку и толкнут ракету. И помчится она далеко-далеко, хоть до Луны.
— Ну, если сзади, так это ловко придумано. Гриша вчерась чужому кобелю кипятком под хвост плеснул, так тот летел через все село пулей! — пошутил Витька. — А когда же такая ракета будет?
— Кто знает? Денег у дяди Кости нет, и с керосином туго. По карточкам на две лампы ему дают. А надо много — сто бочек. И куда он ни ходил: одни молчат, другие посмеиваются… Паши пока землю, Виктор, коси барский луг. А дядя Костя еще тыщу раз проверит ракету, но своего добьется. И полетим мы с тобой в небо. Не одним же стрижам там свистеть!
— Ну, в добрый час! Погляжу я, парень ты ничего, свойский. А что поначалу бить я тебя хотел, так это для порядка. «Вот, — думаю, — городской задавака прибыл. Надо его посадить на место». Ты еще-то к нам приедешь?
— Да мне что? Если Димушка пригласит.
— Минька, да когда хошь! Экзамены сдашь — и кати к нам на все лето. Как-нибудь пробьемся: картошка есть, молоко есть, грибов соберем, на рыбалку сбегаем. С порохом я подбился, а достанешь, так и поохотимся.
— Спасибо!
В доме уже ждали Миньку. И Красавчик стоял у крыльца в упряжке. Он едва отдохнул от тяжелой пахоты на старой барской залежи и жадно доедал перед дальней дорогой остатки овса в холщовой торбе.
В Калугу решили ехать на лошади, с одной ночевкой за Козельском, где-то под Перемышлем. А все потому, что дядя Иван оставил все деньги матери, а у отца и у Миньки не нашлось ни гроша. Да и бабушке Лизе надо было доставить хоть один мешок картошки.
Посидели, помолчали. Даже Сережка не проронил ни слова, хотя горазд был болтать без умолку. Без лишних слов вышли и на улицу. Отец сел справа, взял вожжи. Миньку усадили в задке на картошку. Дядя Иван уселся слева.
— Ну, крепись, Семен Васильевич, — сказал он на прощанье. — Накажи Грише с Андреем еще раз: не отступаться! И против барина стойте крепко! А то он в два счета обведет вас вокруг дырявого плетня. Лешу ждите через неделю: вернется домой, объяснит народу, что съезд решит. Ну, трогай, Алексей! Где шажком, где бежком, глядишь, завтра в ночь и к бабушке Лизе в окно постучимся!
Димка с Колькой проводили Миньку за Обмерику, до одинокой старой березы у овражка, где начинались земли соседней деревни. И словно потеряли что-то желанное и очень нужное, когда скрылась за бугром дуга на Красавчике и Минькина синяя фуражка.
— А вдруг и ты уедешь, — печально сказал Колька. — И буду я один стоять у этой березы.
— Да куда ж я денусь? Тут и буду с тобой! И какая обо мне речь? Ася твоя уезжает до осени, поскучаешь без нее, брат!
— А я Насте скажу: не люби Димку, люби меня. Я такой: на любовь согласный и дружить с девчонками как хошь могу!
Димка сделал страшное лицо, угнул голову в плечи и, как молодой бычок, ткнулся лбом в Колькину грудь. И покатились они по земле, и свалились в овражек, и, хохоча, сползли вниз по густой и сочной траве. А потом глянули друг другу в глаза, схватились за руки и побежали домой. И у обоих радостно было на сердце, что не грозит им разлука и что дружба их так крепка.
…Рыжий Вадя прискакал на другой день. Бородка у него осталась царская, погоны с зигзагами — земгусарские, но всякого шику поубавилось.
Прискакал он не на тройке и не с бубенцами, а на гнедой паре и в простом тарантасе без верха, как у благочинного. И появился в сумерках, когда над селом висела теплая пыль от стада и все были заняты встречей коров. И никто из ребятишек не распахнул для него скрипучие ворота околицы от древней вереи.
Утром Вадя дознался, что своему соседу Аршавскому запахал дед Семен тридцать соток на барской залежи. Разгневался Вадя, как бугай на красную тряпку, приказал дать старику расчет. И лишился дед Лукьян последнего пятака.
С медяками на ладони пришел он из конторы, сел на крыльце у Шумилиных. Заскорузлым пальцем перебрал монеты, раз-другой шмыгнул табачным носом.
— Вот дела, Семен. Нанес черт рыжего черта! Кумекал я, не прискочит он до новины, все бы мне лекши. А он на тебе — как гром в ясный день! И, значится, надудели ему в ухо. Варькина тут проказа. Кабы барынька не уськала, так бы и барин пока не лаял. Не зря Андрей сказывал: хвали рожь в стогу, а барина — в гробу. Ну и пес с ним! И што, разобраться, вот этот его пятак? Тьфу! Коробок спичек на него не укупишь. Отосплюсь хоть таперича, и то ладно. А колотушку — под подушку!
Но дед Семен решил иначе. Подговорил он Гришу, Андрея и других сельчан, кто пахал барскую залежь за Долгим верхом, подрядить деда Лукьяна глядеть за посевами.
— Пускай там сидит, — сказал он. — Мало ли чего стукнет в башку барину. Он сейчас на все готовый. А харчишек Лукьяну соберем. Старик-то на еду не больно дюжий.
И дед Лукьян поселился на опушке в еловом шалаше: слушал соловьев, сушил чай и плел лапти. Колька с Димкой носили ему молоко и картошку, а по праздникам — сухари.
С ними иногда бегала и Настя: увидит, что пошли, и привяжется. И деду Лукьяну была она в радость: носила ему раз в неделю пачку нюхательного табаку.
Димка дичился ее. Смех и шутки девчонки задевали его за живое. И он не хотел ее видеть. Но пускалась она с Колькой под гору, сверкая голыми пятками, тот хватал ее за длинную русую косу, и в сердце у Димки клокотал вулкан. Она была его, он это знал. Она была его дикой козочкой, его желанным цветком, его заветной игрушкой. «Не трожь!» — хотел он крикнуть Кольке. И кто-то добрый и ласковый шептал ему в ухо: «Так подойди к ней! Скажи, приласкай, и она пойдет за тобой на край света. Не обокради себя, Димушка! А то козочку уведут в дальнюю даль, в глухой Брынский лес, цветок сорвут и игрушку сломают. И будешь ты, как тот старый рыбак горевать у разбитого корыта на берегу морском!» А кто-то другой — грубый и сильный — будто хватал Димку за руку и говорил грозно: «Не слушай его! Посадит он тебе блошку за ушко! Вот вспомнишь мои слова!»
И Димка молчал, дулся, дерзил. Но уйти от горьких дум не мог. С Колькой ему так просто, а вот чего-то и не хватает: то ли ласки, то ли нежного взгляда. А у Насти всего такого хоть отбавляй! И Кольке просто с этой озорной кареокой задирой. А вот ему и радостно и тяжело, как на сладкой каторге.
«И почему это так? — думал Димка. — И что в этой Насте такого? В сарафане сидят репьи: значит, гоняла невесть где. Ноготь на левой руке сбит: метила по гвоздю, а саданула по пальцу. И на ногах цыпки — давние, с первых теплых дней. Вот уж невидаль — озорная, бедовая Золушка! А хорошо, что есть она на свете! И чужая и совсем, совсем своя. Возьми ее за руку, и зардеется, как маков цвет. Ругай ее — она хохочет. Поддай леща под левое ребро — в глазах у нее искры. И не хочешь ее обидеть, а обида тут как тут. И уже нет Насти. А с одним Колькой почему-то скучно».
— Да ты откройся, тюфяк! — стал однажды подзуживать Колька, когда Настя получила хорошего тумака от Димки, ловко дала ему сдачи и убежала. — Девчонка дружить хочет, а он — в драку. А она вовсе тебя не хуже. И с ней весело.
— Помолчи, «Ладушкин, сам вижу, — буркнул Димка. — Рад бы, да не могу.
— Начитался всяких книг про любовь, вот у тебя в голове и каша. А что ты в любви понимаешь? Рано тебе, Димушка!
Колька гнул через край. Конечно, были книги и про любовь, да не они завладели Димкой. Вчера днем прочитал он чье-то стихотворение в одной из книжек дяди Ивана. Называлось оно «Родина»:
Природа наша точно мерзость:
Смиренно плоские поля —
В России самая земля
Считает высоту за дерзость, —
Дрянные избы, кабаки,
Брюхатых баб босые ноги,
В лаптях дырявых мужики,
Непроходимые дороги
Да шпицы вечные церквей —
С клистирных трубок снимок верный,
С домов господских вид мизерный
Следов помещичьих затей,
Грязь, мерзость, вонь и тараканы
И надо всем хозяйский кнут —
И вот что многие болваны
«Священной родиной» зовут.
Димка не знал, что этим стихам почти сто лет. Но его потрясла такая картина родной земли, и он захотел ответить как-то в тон безвестному поэту.
До первых петухов сидел он над бумагой: все вымучивал рифмы. Но ничего хорошего не ложилось в строку, и он злился, что не может постичь, как надо писать стихи. И все возвращался в мыслях к тому, что подглядел утром.
А видел он, как барин отстегал арапником свою пегую суку и посадил ее на цепь. Она уронила голову на передние лапы и печально глядела на Димку. И он увидел в ее слезах что-то такое тоскливое и покорное, чего не смогла затуманить слеза. Он готов был поклясться, что собака плакала!
И захотелось ему написать про эту собаку и про барина. Но злой рыжий Вадя с арапником никак не лез в строчку. А с собакой — вышло. И когда пришло время спать, на листке из тетради стояли в порядках простые и точные слова:
Сидит барбос,
Поджавши хвост,
На цепи.
Ах, бедный пес,
Зачем ты рос:
Теперь — терпи!..
— Про любовь не болтай, Ладушкин. Я тебе сейчас стихи скажу. Вчера написал, ночью.
И прочитал. Но Колька не видел той печальной собаки у барского флигеля. Он и думал сейчас про другое и совсем не понял, что хотел сказать Димка.
— Стихи стихами. Вот так! А Настю больше не задирай!..
Дед Семен поселил Лукьяна Аршавского в шалаше и — не промахнулся: барин мигом придумал каверзу, как поддеть мужиков на крючок. И вечерком пригласил в людскую сельского пастуха Кондрата.
Этот мужичишка был продажный, и держали его из крайней нужды и из милости: все хорошие пастухи были еще на войне. Бабы не раз удивлялись, до чего же нечист он на руку. Придет ужинать, оставишь его одного в хате, на поверку нет то ложки, то рушника, то стакана. А замешкаешься во дворе, так он и в сусек заглянет. И поговаривали в селе, что придумал он какую-то печку: водку варить, самогонку. И будто стоит эта печка над ручьем в глубоком овраге, и есть котел там и всякие трубки. Ребята не раз хотели дознаться, да хмельной Кондрат гнал их длинным кнутом.
Случайно дознался Гриша. Шел он срубить пару орясин для оглобли и увидел, как мирской бугай шурует в овраге. Подошел ближе и чуть со смеху не окачурился. Кондрат не успел спрятать самогонку, а бык выпил ее и так захмелел, что поломал рогами всю Пастухову механику. И завалился спать на опушке. А Кондрат заметил в кустах Гришу с топором и с орясиной и подумал зло на него.
О чем говорил барин с пастухом, никто не знал, кроме повара. Настя бегала в тот вечер к конюховой дочке, к рыжей Таньке, за цветными нитками, и краем уха слыхала, как в людской шло веселое застолье. Хмельной Кондрат хлопал в ладоши и напевал старую песню:
А мы просо сеяли, сеяли!
А мы просо вытопчем, вытопчем!
А барин заливался смехом.
Да мало ли чего поют люди навеселе? И Димка ничего не сказал деду Семену, когда вернулся с улицы, где услыхал от Насти эту новость.
Тайком хотел шепнуть деду Семену барский повар. Он уже снял колпак и скинул фартук, да не вышло. К барину заявился рыжий Гаврила Силыч, следом за ним — благочинный и инспектор Кулаков. Сели они за карты, и повар не смог отлучиться. А разошлись гости далеко за полночь.
Дед Лукьян продрал глаза, когда солнце едва показалось над лесом. Он навесил чайник у костра и поплелся к Омжеренке драть лыко. Вернулся через час, и пришлось ему закричать в голос: по всей запашке на барской земле ходило стадо.

Дед Лукьян заметался. Но пока он согнал всех коров с поля, на Гришиной делянке просо было вытоптано почти вчистую.
Дед стал кликать пастуха, тот не отзывался. Пришлось спуститься в овраг, где Кондрат варил самогонку. Но и там его не оказалось. Ну, просто как в воду канул! Вернулся дед к шалашу, диву дался: коровы, словно кем-то испуганные в лесу, стремглав мчались на поле.
Кое-как отогнал стадо дед Лукьян и решил: видать, с пастухом неладно, надо в село бежать за подмогой.
Колька с Димкой последний день были в училище, пришлось идти деду Семену с Гришей. Они выбрались с Лукьяном на простор бывшей залежи и заметили, как Кондрат — воровато, с опаской — прогонял скот по посевам.
— Ты что же это делаешь, гад? — закричал Гриша, метнулся к пастуху и схватил его за грудки.
— Дыть, поля-то барские? — словно удивился Кондрат.
— А хоть бы и барские! Где это видано, чтоб скотину пускать? — подошел и дед Семен.
— Вам, што ли, одним барину вред делать? А я чем хуже?
— Да ведь всходы-то наши! — Гриша отнял руку от Пастуховой груди.
— Ах, беда! Каюсь! Не знал! Извиняйте, братцы, никак не знал!
Открутился в ту минуту продажный Кондрат. А часом позже дед Семен узнал правду. Вызвала его конюхова дочка в крапиву за барской баней. А там стоял повар, и шепнул он на скорую руку, как вчера было в людской.
Андрей приволок в село Кондрата за шиворот. И, видать, поговорил с ним крепко: на левой скуле пастуха синел подтек с разводами. Все сбежались глядеть на позор этой жалкой, продажной шкуры.
Картофельной ботвы еще не было, бабы навязали нитками венок из лопухов. Мужики сунули пастуху большой пук крапивы в портки и погнали за околицу. И поддавали ему, кто чем мог, и плевали в бесстыжую рожу, и кидали пылью в глаза.
Витька прямо со школьной скамьи отправился стеречь стадо. А в подпаски ему дали Силантия.
Было это не по правилам: пастуха спокон веков нанимали в чужом уезде. Да какие уж там правила! Хоть бы скот ходил не голодный да не бросался на посевы. И то ладно.
Барин не смеялся, как в то утро, когда вели вдоль села по его приказу Витьку, Силу и Фильку. Мужики озлобились, и Андрей даже в сердцах сказал:
— Учудит Вадя еще раз, схлопочет красного петуха. Как пить дать!
В Козельске помалу стал шевелиться Совет рабочих и солдатских депутатов. Но власть была у временных. И комиссар Ефим Ларин, эсер, прислал Ваде длинную депешу: «Ваше спокойствие обеспечим, направляем в село надежного человека с ружьем, голосовать в Учредительное собрание просим за наших людей — за крестьян с достатком».
Вадя не знал, на что решиться. Но Гаврила Силыч, благочинный и инспектор Кулаков подсказали ему — комиссару не доверяться.
И в тот самый день, когда вернулся отец из Калуги, было объявлено в экономии, что землю за Лазинкой, где когда-то шумел базар, чохом купил Олимпий Саввич. Просторная залежь вокруг ветряной мельницы отошла Ваньке Заверткину. А заливной луг с дубовым бугром, за Жиздрой, по какой-то дарственной записи закреплялся за Вадиным тестем Митькой Казанцевым. И этот тесть обещал сдать луг сельской общине исполу.
Отец разослал гонцов собирать людей на волостной сход. А пока они съезжались, провели собрание сельчан.
Про нового старосту и не спорили: выбор пал на Потапа. Этот кузнец силач хрипел теперь и кашлял — германская пуля пробила ему грудь навылет. Но рвался в бой и с барином и с благочинным, и ему доверили высокий пост. А сельским сторожем назначили деда Лукьяна. Хотели ему за труды положить деньгами, но он отказался:
— Деньги под гору катятся, как на санках. Нынче — пятак, завтра — шиш. Харчами дайте.
И определили ему натурой: сотню яиц до Нового года, полпуда сала, тридцать пачек махорки и два пуда пшена.
К полудню съехалось народу, как на троицу, когда со всего прихода гуляли люди на площади и поминали родителей на кладбище.
Потап открыл сход. И началась горячая свалка. Мужики и бабы из соседних деревень тоже зарились на господское добро и напропалую болтали вслух, что дед Семен, Андрей и Гриша с дружками просто разбойники. И кто-то даже выпалил над гудевшей толпой:
— Слышь, вы! Барина наперед не трожьте! Либо всем по совести, либо вас начнем трясти!
Отец совсем осип от крика:
— Калуга нас призывает сплачивать ряды, а вы как стадо баранов: и кто куда, и все вразброд! Выберем сейчас волостной Совет крестьянских депутатов, он и решит, как нам быть. И наказ ему дадим: запахали наши сельчане барскую землю — честь им и хвала! Зачем земле пустовать? Берите и вы, коль она вам с руки. Барина и благочинного обложим налогом. С нас налог брали, пускай и они попляшут. Туда же и лавочника с шинкарем: тоже помещики объявились, землицу скупают, от барина удар отводят. Только не выйдет это! А заливные луга разделить по дворам. Барин их тестюшке подарил, да просчитался. Мы и на этого тестя лапу наложим! Из барского леса каждому брать деревья для застройки в любой делянке. Временные говорят — не бери! Коли взял, так плати! А мы еще посмотрим. Вот и все, граждане! Ну как? Согласны?
Гул прокатился по площади: одобрили. И хоть кричал что-то Митька Казанцев и с чем-то вылез к народу Гаврила Силыч, но их освистали.
И отец в этот майский вечер стал волостным старостой.
ЗОЛОТАЯ ШЛЯПА КАМЕРГЕРА
Император Вильгельм на всех парах рвался к Парижу. Французский президент Раймонд Пуанкаре закричал в голос: «Караул!» И господин Керенский, спасая своего союзника, решил утопить немца в море русской крови. Войска готовились наступать по всему фронту, забрили в армию даже белобилетников.
Отец смог проработать в Совете только тридцать два дня. Его угнали в Козельск, и там задержал его в гарнизонной роте уездный Совет. Андрей и Гриша залетели под Могилев. Вершить все дела в волости остался один Потап.
Рыжий Вадя и обхаживал его и пугал, но Потап не поддался. И почти все вышло так, как говорил отец. Свободную барскую землю сдали сельчанам в аренду — за бесценок: по гривеннику за десятину пахоты, по двугривенному — на лугу, по пятаку, — на выгоне для скота. Старую залежь вокруг соседних деревень отдали солдаткам бесплатно. Вадю и благочинного обложили налогом.
Барин бегал по богатым мужикам: шептался с ними. И все искал отраду в вине и в картишках. А с благочинного — как с гуся вода: брал он за помин души пять яиц, стал брать дюжину.
Но в одном Потап уступил Булгакову: выделил ему пять десятин заливного луга — уж больно плакался барин, что скот останется без кормов.
Барин отбыл в Калугу. Кинулись бабы в экономию — взять лошадей на страдную пору. Но в село явился Петька Лифанов — молодой, дюжий милиционер с винтовкой. И пришлось про барских коней забыть до поздней осени.
Недели две все шло гладко, а после петрова дня вышла беда. Деды — Семен и Лукьян — на заливном лугу за Жиздрой пили в полночь чай у костра: стерегли мирское сено. Прошлись по одной кружке; забрехал в темноту Полкан. Дед Семен ухватил отцову берданку, да уже не ко времени: полыхнуло пламенем на самом большом стогу, и пошло трещать, дымить, раскидывать искры! Словно бы кто и мелькнул в стороне от огня, и дед Семен дал выстрел и закричал:
— Держи!
Полкан бросился по следу и долго лаял в кустах. А утром нашли его с пробитой головой. Рядом валялась серая кепка с пуговицей на макушке. Показали ее Петьке, тот не дознался. И старики потом судачили: не захотел, значит, укрыл подлюгу, чертов сват!
Димка с Колькой не один раз спрашивали ребятишек из соседних деревень: кепка была приметная. Но ее хозяина так и не нашли.
В разгар уборки пришла тяжелая весть из Питера: расстрелял господин Керенский рабочую демонстрацию на Невском проспекте. И слушок пополз: всюду ищут Ленина, хотят его заточить в тюрьму. И вспомнились Димке слова почтмейстера: «Власть, она какая ни есть, а на расправу больно шустрая!»
И Лифанов зашевелился, стал допрашивать кой-кого: нет ли в селе оружия с фронта? Но про Андрееву винтовку и про пистолет дяди Ивана никто не проболтался. А чтоб уйти от греха подале, велел дед Семен Димке тайком сделать яму за сараем. И в ту яму схоронил ночью дядин пистолет в масленой тряпке.
И пришла еще одна беда: кругом осиротел Колька. Прислали похоронную по Антону — остался он в братской могиле под городом Двинском.
С похоронной дослали деду Лукьяну карточку сына, это и была теперь память о Колькином отце: стоял Антон в хате по всей форме и в солдатских обмотках; глядел в упор, облокотись на высокую тумбочку, и, видать, опасался сбить левым локтем стеклянную вазу фотографа, в которую были воткнуты две поникшие розы.
Дед Лукьян хотел запить с горя, но не было ни денег, ни водки. Стешка достала у пани Зоси бутылку денатурата, дед Семен принес чашку меда. Старики выпили сладкой отравы и долго сидели в обнимку. А когда мать принесла на поминки пшенные блины и ржаную кутью, дед Семен лежал на лавке, весь в холодном поту, а Лукьян уронил голову на стол, закрыл ее руками и всхлипывал во сне, как Сережка.
Колька к столу не вышел: до ночи ревел он на сене под навесом. А Димка сидел рядом, не знал, как отвлечь друга от слез, молча травил себе душу, теребил сено и грыз былинку за былинкой. И спал вместе с Колькой не раздеваясь, едва прикрывшись сухой травой.
Утром он вскочил раньше Кольки: наколол щепок, согрел самовар. А прибраться в хате попросил Настю. Она помыла посуду, сварила картошку на тагане, покормила поросенка, напоила деда Лукьяна чаем. Потом взяла Димку за руку — смело, крепко — и повела на сеновал. Димка не вырывался и не дерзил.
Вдвоем они наткнулись на Кольку, сбились в кучу малу. И Колька, зарывшись головой в душистое сено, истошно орал:
— Не по правилам! Я еще не проснулся! Ой, не могу! Ой, задохнусь!
А когда отпустили его, он навалился на Димку, дернул Настю за русу косу и расхохотался.
Настя побежала в хату, Димка с Колькой — за ней. Поплескались у рукомойника холодной водой, захлопотали за столом. Наелись картошки с хрустящей на зубах солью, наспех выпили по стакану чаю и побежали в лес по грибы.
Но Колька собирал плохо. Он уселся над оврагом и сказал:
— И почему вот так? Почему? Барин и войны не нюхал — и живет в свое удовольствие. А у меня с дедом всегда горе.
— Откупился Вадя, вот и все! — Димка вспомнил про калужского мясника, которого поносила при всем честном народе старушка в древнем салопе, когда гнали по пыльной улице пленных австрияков.
— И я так думаю. А все равно мне не легче: мамку совсем не видал, и никакой памяти о ней у меня не осталось. Думаю иной раз, была она русая, как Настя, и добрая-добрая, как моя крестная. И отца почти не знал: то он в пастухах щи хлебал у чужих людей, то уголь жег лавочнику. Боюсь, забуду его. А на деда Лукьяна какая надежа? Больно он старый. И как мне жить? К кому прислониться?
— Да ведь, Коленька, не вернешь отца с матерью. Поминай их добром всякий раз, а сам-то живи! И Шумилины тебя не оставят, — большая и чистая слеза повисла на левой нижней реснице Насти.
— Правда, Кольк! Да я за тебя — хоть куда! — вставил Димка. — Училище кончишь, мало ли чего будет!
— Верю, Димушка. Верю. А ведь страшно! Сирота я, кругом сирота!
Настя и Димка захлюпали носами. Колька встал, вытер глаза.
— Ну, полно нюни распускать! Пошли. Грибов-то совсем не набрали.
И словно зорче стали глада у ребят: мимо грибов не проходили и скоро накидали их в корзину с верхом. Но Колька не мог забыть о своих горьких думах. И перед Лазинкой, когда стало видно село на высоком подогом бугре, погрозил кому-то кулаком.
— Вот попомни, Димка, будет и мой верх, дай только срок. Приедет дядя Иван, покажет он кой-кому кузькину мать!..
Дед Семен жадно читал по вечерам «Русское слово». В столице, в белокаменной Москве и по другим городам в народе бурлило. А в селе было тихо, как перед сильной грозой, когда на время затихает ветер, в жаркой истоме умолкают певчие птицы, а глупые куры копаются в теплой пыли под сараем.
Отец прислал письмо. Димка читал его вслух, а Сережку уложили и заперли в горнице, чтоб не мешал.
Письмо было длинное, на двух сторонках большого листа совсем необычной бумаги: сквозь нее просвечивали волнистые линии, а в верхнем левом углу была выдавлена чья-то печатка.
Писал отец просто и складно, словно сидел рядышком и глухим баском медленно рассказывал о своих делах.
Старый Козельск («воины Батыя брали его приступом семь недель и прозвали злым городом») кажется таким же сонным, как при царе. И в городской думе, рядом с портретом Керенского («а господин этот в зеленом френче, волосы бобриком, правая рука засунута за борт»), висит тот же древний городской герб. На красном кровавом его поле четыре траурных щита («это знак, что все защитники Козельска были вырезаны татарами») и четыре золотых креста («это символ верности родине и монарху»).
В семи церквах звон по утрам и вечерам, и попы наперебой поют: «Спаси, господи, люди твоя». Но просят даровать победу не царю Николашке, а господину Керенскому Александру Федоровичу.
За рекой Жиздрой, поодаль от города, целехонько стоит имение князя Оболенского. И рядом с ним — стекольный завод («старики, бабы и дети по десять часов в день выдувают бутылки, а из этих бутылок льются в карман князя червонцы и катеринки»). Чуть ближе имения — древняя Оптина пустынь («там, Димушка, живали такие славные люди, как Николай Гоголь, Федор Достоевский и Лев Толстой»). От монахов в этой пустыни черным-черно: ползают всюду, как тараканы.
И чиновники («акцизные, земские, банковские») спят на тех же пуховых перинах и привычно режутся в картишки то у директора гимназии Халкина, то у доктора Любимова. Но не сидят молча: спорят, и все о судьбах России. И крик идет такой, будто в них вся закавыка.
И в гарнизонной роте до петрова дня порядки были старые: два раза на дню молитва, а на плацу — муштровка: рубаху скинешь, а она мокрая. Только про мордобой господа офицеры начали забывать.
«Я тут кой-чего добился, — рассказывал отец в письме. — Руковожу ротным комитетом. Недавно крепко нажали на командира: отменил он молитвы на утренней и вечерней поверке, и строевые занятия стали по желанию. Всех белобилетников приодели, а то ходили по городу, как чумички. И комитет наш принял решение: отпускать солдат в страдную пору на неделю в деревню — кому косить, кому убирать хлеб. Так тот фельдфебель, что до меня был в комитете, кинулся на подлость: с одного солдата взял за отпуск сто рублей, четверть меду и гусака. Шепнули мне дружки, ну, и дали мы тому мародеру не хуже, чем вы пастуху Кондрату. Навесили ему бутыль с гусаком на шею, нацепили плакат: «Взяточник». И прогнали перед строем, да на губу кинули на семь дней. На коленях стоял, паскуда, каялся. А солдаты теперь за меня — горой!..»
От дяди Ивана приходили только открытки: «Недосуг, драка идет несусветная, временные пересажали наших агитаторов, мне грозятся тюрьмой, но пока жив-здоров, чего и вам желаю».
Даже дед Семен не мог понять, какая в Калуге заварушка и почему большевик Витолин выступил с призывом воевать против Советов?
И как понять-то? Вроде не теряют духа большевики в Калуге и состоят при важном деле: семь человек провели в городскую думу, выбрали свой губернский комитет. Плохо ли? А временные хотят у них на глазах разогнать солдатский Совет, бросить дядю Ивана в тюрьму.
— Да куда он глядит, Иван-то? Сказал бы солдатам горячее слово: а ну, ребятушки, давайте кому след по мозгам! Ан, нет! Не тянет. И што же нам-то делать? — Ни к кому не обращаясь, дед Семен напяливал картуз и бежал с открыткой к Потапу.
— Сидишь? — спрашивал он.
— Сижу. — Потап дымил цигаркой и натужно кашлял.
— И никто не гонит?
— Грозятся. Да бог миловал.
— А работаешь как?
— Да как тебе сказать? Терпеливо. И хоть бы кол на голове тесали, никуда не уйду.
— Так, так, — успокаивался дед Семен, показывая Потапу открытку дяди Ивана, а дома прятал ее на божнице и ложился спать.
Так прошло лето. И подвалила осень — с косыми дождями и с прощальными криками сбившихся в стаи грачей. Снова побежали ребята в училище. А благочинного Потап не допустил.
— Хватит всякие байки ребятам сказывать, отец Алексей. Наслушались они за четыре года. Церковь — твоя. Знай себе кадилом помахивай. А школа — наша. Мальчишкам счет надобен, письмо, и про политику им интересно — куда, значится, жизнь идет. Так что не гневайся. Вот бог, а вот и порог!
Инспектор написал жалобу. Но в Козельске долго отмалчивались, а потом отписались наспех: закон божий не считается предметом обязательным. Вот и вышло, как велел Потап. И в свободные часы занимались теперь чем придется: то читали стихи, то вольно излагали свои мысли. Колька что-то сочинил про ракету, но Клавдия Алексеевна не оценила его усердий. Про такую штуку она и не слыхала. Димка прочитал летом «Старого звонаря» Короленко и написал целый рассказ про Евсеича — как он жил и как умер. И всем было смешно: подслеповатый старик в эту самую минуту громко зазвонил на переменку — помирать он и не собирался.
С барской залежи давно убрали хлеб и посеяли озимые на новых землях. Только радость была не у всех: с семенами вышла оплошка, и пришлось кой-кому залезать в долги к Олимпию Саввичу, Ваньке Заверткину и к Митьке Казанцеву — на барской усадьбе в долги не верили. Дед Семен еле свел концы с концами, а Лукьян и вовсе не отсеялся. Он теперь ждал весны, хотел отыграться на картошке.
Дядя Иван прислал Потапу большую пачку бюллетеней: «Голосуйте в Учредительное собрание по списку номер семь, за социал-демократов большевиков». Потап велел Витьке расклеить их на самодельном крахмале. Витька крикнул дружкам. И со стены волостного Совета, с церковной ограды, с телеграфных столбов и почти со всех ворот шли теперь призывы: за народную власть, за мир, за землю, за хлеб, за свободу!
Но и временные не спали. Потапу велели навесить в Совете присланный из Козельска портрет Керенского в светлой дубовой раме. И господин в зеленом френче с утра до поздней ночи глядел Потапу в затылок с того места, где полгода назад красовался рыжебородый царь.
И господа в селе тронулись с насиженных мест: каждый клеил свои листовки. За благочинного старался его работник — придурковатый парень с длинными руками и коричневой бородавкой на носу; за инспектора Кулакова — дюндик и Фрейберг; за себя, за лавочника и за Митьку Казанцева клеил Ванька Заверткин. К ним примазался и Митрохин: Петька Лифанов дал ему совет переметнуться к эсерам.
— Они, брат, за крепкого мужика стоят, — говорил Петька одноглазому регенту. — А этот мужик — что дубовый корень: ни топором его не возьмешь, ни заступом. Жил он без нужды, и жить будет вечно. И до церкви весьма уважный. И пока он есть, будешь ты, Митрохин, на клиросе глотку драть, а в его хате водку жрать!
Ну, Митрохин и перекинулся.
Только Гаврила Силыч не метался по селу: про его царя давно песню спели. Да Клавдия Алексеевна с почтмейстером ничего не клеили, словно махнули на все рукой.
От дяди Ивана пришла открытка, когда всюду пестрели листовки: белые, красные, голубые, желтые — как флажки на елке. Открытка порадовала деда Семена: двадцать второго сентября Калужский гарнизон избрал большевистский Совет! Дядя Иван давал поручение Потапу: «Зорче гляди за всякими крикунами и не давай им воли». И обращался к Димке: «Крикуны небось всяких листовок понавесили, как у нас в Калуге: плюнуть некуда. Так пускай Димка малость пощиплет их. Думаю, справится с этим делом друг мой сердечный — таракан запечный».
Димку никто не удерживал, он и постарался. Начал он с Колькой по-темному, соскребал косарем чужие листовки до первых петухов. И — на чем свет стоит — ругал дюндика: угораздило же поповича клеить кадетские призывы инспектора Кулакова таким липким гуммиарабиком!..
Перед покровом зашевелились мужики в соседней деревне: кинулись отбирать землю у немца Бурмана. Самого-то его не было, а его жена, Вадина сестрица Марья Николаевна, — женщина крутая, вся в мамашу свою, в генеральшу, — направила на них свору овчарок.
Мужики стали запасаться дрекольем. За барыню встали кулаки.
— Чего заритесь на добро, какое вам без надобности? Семян нет? Нет! Так на кой ляд вам земля? Купим мы ее у Бурмана, сдадим вам в аренду. И семян подкинем.
Всыпали мужики самому горластому кулаку Онучину. Потап услыхал про это, запряг коняку и поскакал в Кудеярово. Бурманша его не допустила.
Собрали сход возле экономии, над обширным прудом, где когда-то ловили золотистых карасей на обед архиерею.
Трижды вызывали барыню, она не вышла. Передрались на сходке, как в троицын день, когда шли друг против друга — стенка на стенку. Но к полуночи все решилось в пользу бедноты: волостной Совет дал ей волю делить по дворам все барские залежи. А коли барыня опять собак спустит, так наложить лапу на все ее земли до самых жарковских хуторов.
Кулаки остались с носом. А на позерку вышло худо. И когда Потап погнал коняку домой, встретили его у оврага, возле ветряной мельницы. И шарахнули по нему из ружья.
Сам-то он лежал, облокотясь на сено, и ему достались три дробины — в плечо и в бок. А коняку задели крепко. И он понесся, храпя и взбрыкивая, по разбитой осенней дороге и вывалил Потапа возле околицы — головой о плетень.
Потап отлеживался в больнице у Софьи Феликсовны, харкал кровью и натужно стонал.
Дед Семен отправился к Петьке Лифанову.
— Ты что? И теперь не дознался?
— Посмотрим.
— Ну, гляди, гляди! За тобой еще должок с петрова дня. И про пожар на лугу помним. И про серую кепку не забыли.
— Ты меня не пужай, старик!
— А я и не пужаю! На кой черт ты мне сдался! Не забывай, говорю, ты в селе один, и власть твоя временная. А у Потапа кругом дружки, и за него голову потерять можно.
— Не пужай, старик! — совсем озлобился Петька.
— Дуролом ты, вот кто! Да нешто я пужаю? А кто стрелял, доставь нам того, как твоя должность велит!
Петька пропадал три дня и — доставил. Бородатого лысого кулака с сизым носом — Авдея Онучина — связали и отвезли в Козельск. Но комиссар Ефим Ларин продержал его в тюрьме две недели и отпустил домой.
Потап вышел из больницы, вызвал к себе Витьку.
— Вот что, парень, доучишься, когда время позволит. Сиди теперь за писаря, а мне недосуг. Мужики по всем деревням голову поднимают, надоть им помогать.
И Витька уселся под портретом Керенского, не зная, как подступиться к бумагам, которые так и сыпались из Козельска: то от Совета, то от комиссара, то от земской управы.
Первого ноября, поздно вечером, пришел к Шумилиным старый почтмейстер. Он положил потрепанную фуражку на подоконник, вытянул из кармана смятую длинную ленту депеши.
Дед Семен насторожился.
— Дружок из Калуги отстукал, — Петр Васильевич накинул на нос очки в железной оправе. — Разогнали временные солдатский гарнизонный Совет, — тыкал он пальцем в точки и тире на узкой полоске бумаги, — объявили в городе военное положение. Как бы с Иван Иванычем чего не вышло. Горяч он не в меру. Далеко ли до греха? А вдруг не схоронится, угодит под пулю? Я ведь по должности все открытки его читал. Правильный мужик, такому верить можно.
Дяде Ивану и впрямь было плохо. Взбунтовался его триста второй полк. Временные стали хватать зачинщиков и по темным улицам города гнались за дядей Иваном до самой Оки, гулко стреляя из винтовок.
Без шинели и без сапог кинулся он вплавь. Холодная октябрьская вода обожгла ему тело до костей. И почти без сил выполз он на левый берег. Но услыхал перебранку и скрип уключин на воде — погоня шла в лодке — и впритруску кинулся к ближайшей деревне. Там ему дали обогреться, нашли рваный пиджак и опорки. Он отсиделся в избе до другой ночи и двинулся мимо Перемышля к Козельску: хотел навестить отца.
И в то утро, когда из Зимнего дворца матросы вывели трясущихся от страха временных правителей, а Ленин уже был в Смольном, дядя Иван легким стуком в окошко разбудил деда Семена. А рядом с дядей стоял отец, опираясь, на суковатый, кривой дрючок.
К обеду дядя Иван дознался, что застрелить Потапа подбила кулаков Бурманша.
— Гражданская война началась! — сказал дядя Иван в Совете. — Неча ждать милости от господ. Рубить их надо под корень!
И ночью вспыхнул деревянный барский дом в Кудеярове — старые хоромы немца, крытые черепицей. Барыню не тронули: она выскочила к людям в нижней юбке, в мужнином егерском пиджаке, обратала серого жеребца и ускакала в Сухиничи.
Как и говорил дядя Иван: срубили немца под корень. И четыре дня делили его землю по едокам, вымеряя ее самодельной саженью, похожей на циркуль.
Дядя Иван с отцом и с Потапом оформляли в деревне документы на новые наделы, раздавали зерно на посев, выделяли скот бедноте. А в селе мужики и бабы сбивались по вечерам грозной толпой перед барским белокаменным домом. Но все не решались запустить кирпичом в бемские стекла генеральши и начать штурм: Петька Лифанов слонялся возле усадьбы с винтовкой.
Три вечера просидел на крыльце дед Семен после ужина: все прислушивался, как день ото дня нарастал гул в толпе. Подсаживалась к нему мать, зябко кутаясь в большой платок.
— Ты уж не ходи, батя. Не выйдет из тебя разбойник.
— Помолчи, Анна. Не трави душу!
— И Варьку мне жалко. Ну, пускай барыня, а ведь своя — сельская. Вы же ее по миру пустите.
— Жалка у пчелки! Меня пороли,
так Варька твоя не плакала.
— Давно это было, быльем поросло.
— Землю я стал пахать, кто рыжего Вадю вызвал?
— Так баба — она баба и есть! Ей ли мужнино добро не жалеть?
— Мужнино, мужнино! — передразнивал дед Семен. — Об себе небось хлопотала. И думать забыла, как в поневе бегала: цаца, других не лучше!
— И Петька вон с ружьем ходит. А ты сгоряча-то и на рожон кинешься.
— Да не в Петьке дело! Мы его мигом прижучим! Ты скажи, чего Варька сидит тут? Прямо по рукам вяжет!
— Ивана с Лешенькой нет и Потапа. С ними был куда смелей.
— Жди их, жди! А народ-то, вишь, совсем дозрел. Руки у него чешутся.
Видно, и дед Лукьян чего-то ждал, и другие мужики: в кучу сбивались, горланили, а рукам воли не давали. И Димка решил: берегли они Варьку, три ночи не спускали с нее глаз. Она успела снести какое-то барахлишко своему папаше — Митьке Казанцеву. А потом увезла в Козельск на подводе двух своих девчонок, белье и столовое серебришко.
Людей охватил хмельной угар. Дед Лукьян вышел из хаты с ломиком, крикнул деду Семену:
— Пошли, Сеня! Бери топор або вилы. Сам видишь — без нас и народ неполный, без нас и квас не квас!
И деды, загремев на крыльце железом, шаркнули подошвами по обмерзшей земле и ушли в темноту.
Димка проспал. Он накинул пиджак, когда мать запалила свет в кухне, тяжело опустилась на коник, уронила руки на стол.
— Не ходи! — сказала она Димке упавшим голосом. — Прошу тебя!
— Што ты, што ты! Да не могу я дома сидеть! — крикнул Димка с порога.
— И с чего вы, Шумилины, все такие разбойники! — послышалось ему вслед.
Димка догнал дедов. Они уже вышли на площадь и молча встали перед черной стенкой людей. Зашевелились бабы: стали напирать сзади и несмело подталкивать к высоким деревянным воротам деда Лукьяна, который знал все входы и выходы в белокаменном барском доме.
Дед Лукьян снял шапку, перекрестился, плюнул на руки и ловко сунул ломик в воротную щель. Заскрипела, затрещала подсохшая старая доска. Кто-то подмог плечом, еще навалились двое, и в широкий проем ворот, озираясь по сторонам и тесня друг друга, черной лавиной кинулись люди.
Петька Лифанов побежал на почту — отбивать телеграмму в Козельск.
Старый почтмейстер — Петр Васильевич — вышел на стук в подштанниках, засветил огонь в конторе, терпеливо выслушал Петьку и вдруг зашумел в голос:
— Я тебе дам депешу, сукин сын! Люди на праздник идут, а у него донос в башке! Шалишь, брат! Кончились твои временные! И катись ты отсюда, пока голова цела! Слышь, тебе говорю! Закрыта почта, закрыта! А то револьвер достану! — И, поддерживая рукой подштанники, грудью двинулся на оробевшего Петьку и мигом выставил его за дверь.
Мужики решили начать с веселых поминок по барину, по всей дворянской жизни и забрались в подвал, где за потайной железной дверью еще со времен покойного генерала хранилось всякое винишко из бессарабских подвалов князя Сангушко.
— Год семьдесят седьмой, — при свете огарка прочитал дед Семен на бутылке. Он стукнул длинным горлышком по обушку топора и осторожно приложился, чтобы не порезать губы. — Знал, что пить, его превосходительство: и портянкой пахнет, и клопом, и фиалкой!
И бутылка пошла по кругу. За ней — другая, третья.
Аниска со Стешкой и молодые солдатки кинулись на верхний этаж, в покои генеральши — брать бельишко, духи и пудру, платье и шушуны, одеяла и подушки. И подняли страшный крик из-за персидской шали, которую успела схватить Ульяна.
Мужики подобрались поначалу к стенному сейфу: поковыряли на нем краску, но без Потапа вскрыть не смогли. Разъярились, что не взять им генеральшино золотишко, бросились выставлять рамы — оглоблей, дрючком, топором, стулом, сапогом, валенком либо лаптем. И полетели в широкие окна столы и кресла, диваны, буфет и три шкафа, стулья, лампы, каминные ширмы, тумбочки и старинные часы в высоком и узком стеклянном ящике. И никто не подбирал обломков на мерзлой земле.
Деды — Семен и Лукьян — распалили себя в генеральском подвале, но головы не потеряли и повели стариков и старух шуровать на скотном дворе. Заржали кони в чужих руках, замычали коровы, оглашенно закудахтали куры.
Дед Семен докликался Витьку, подвел к нему меринка, велел стеречь склад с зерном’, чтоб разделить семена утром, когда рассеется туман в голове. А сам вывел из коровника молодую ярославку с белым боком и с большой салфеткой на лбу.
— Веди домой! — сказал он Димке. — А я Лукьяну корову подберу. Пущай хоть на старости лет попьет молочка вволю. Колька, не забоишься корову вести?
— Безрогую бы, дедушка! С рогами-то страшно.
— Не промахнись, парень. Бодливой корове бог рог не дает. Ну, бери безрогую, догоняй Димку!
Гомон стоял страшный, и земля тряслась: из окон выбрасывали барахло; гуртом гнали обеспокоенный скот; по задубелой мерзлой земле тарахтели брички, тарантасы, дрожки; грохотали сани, бочки; визгливо гремели тазы, кастрюли, ведра, лохани.
Ребят и девчонок долго держали при себе, и одних не пускали в дело: им пришлось лишь под утро зачищать кое-что после взрослых.
Настя ухватила фарфоровую куклу с отбитой левой рукой, в голубом платьице, с розовой ленточкой в русой косе. Кукла открывала карие глаза, и девчонки умирали от зависти: никто из них не видал такой удивительной игрушки. Сила сгреб в охапку крокет: с молотками, полосатыми шарами и железными воротцами. Колька выискал и надел меховую жилетку и унес на руках — от пояса до подбородка — большую стопку книг. Филька нашел колоду карт и тяжелое шомпольное ружье о двух граненых стволах. Димка доискался, где спрятаны охотничьи Вадины лыжи — широкие, с медными винтами и оленьей шкуркой, чтоб не ерзала подошва.
Сделали второй заход — на чердак флигеля, где взрослые лишь попинали ногами старые венские стулья, картонки и пустые ящики. При свете фонаря Димка разыскал под хламом круглую фанерную коробку. Расстегнул ремешок, поднял крышку и остолбенел: золотом сверкнула расшитая по черному шелку шляпа камергера. А под ней лежал большой желтый ключ: его носил старый генерал сзади, ниже поясницы, когда заходил в покои к императору.
Филька глянул на шляпу и засвистел.
— Давай на ружье сменяем! — несмело предложил Димка, боясь, что Филька откажется. — Золото отпорешь, всем на загляденье подушку вышьешь, ты ведь мастак. А из шляпы мамка картуз выкроит.
Филька подумал, посопел и прогундосил:
— А ключ?
— И ключ отдам! А ружье? На што оно тебе? Вся и радость — дверь подпирать, замест палки.
— Может, еще чего дашь? — не сдавался Филька.
— По рукам! Все, что ни найдем, — твое!
— Ну, по рукам! — И они побежали домой меняться.
Утром приехал дядя Иван с отцом и с Потапом: все село дрыхло после бессонной, угарной ночи. В пустых окнах деревянного флигеля и белокаменного дома генеральши свободно гулял предзимний свежий ветер, кружил на полу бумагу и тряпки, воронкой завивал пыль и сор, трепыхал не сорванные кое-где обрывки занавесей.
Дядя Иван прошел по флигелю, где каждый шаг отдавался гулким эхом, и сказал со вздохом:
— Перестарались мужички! И зачем-то все стекла выбили! Где их теперь достанем? Повредятся дома за долгую зиму.
— Окна надо забить, — предложил отец.
— Да, Потап, распорядись. Шелевкой, заподлицо. Семен Васильевич это сделает. Все от непогоды защита. А потом поглядим, что делать с этими хоромами.
— Народу надоть где-то собираться. Зимой ремонт сделаем.
На барском дворе к дяде Ивану подбежала пегая сука рыжего Вади, про которую Димка написал стихи прошедшим летом. Отец приласкал ее, и она увязалась за ним.
В одну ночь ушло в небытие богатое поместье господ Булгаковых. Но комиссар Ефим Ларин еще сидел на своем месте в Козельске: он представлял там временных. Временные держались и в Калуге и получили от своего козельского Ефима отчаянное письмо:
«Как я уже имел сообщить, анархия в уезде благодаря безнаказанности виновных лиц, а также агитации большевизма разрастается все шире и шире. В течение минувшей недели разгромлено имение Дубки, принадлежащее Лидии Александровне Фрейберг. На почве захвата этого имения произошло побоище, и при этом побоище зарублен шашкою сельский милиционер Савостьян Фролов. Разгромлены имения Михаила Федоровича Зотова и имение Булгаковой… Чины милиции отказываются нести службу в дальнейшем. Присылайте в подмогу внушительную воинскую силу из конских частей».
И в селе стали думать, как этой силе дать достойный отпор.
 ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
СЕЛЬСКИЕ НАРКОМЫ
— Ну, скажи ты! Сидят, как гнилой зуб, козьей ножкой их не подденешь! — сокрушался дед Семен, слушая рассказ почтмейстера про временных, которые еще не сдали свою власть в Калуге. — И газету читать не дозволяют?
— Цензурой по рукам связали: из Москвы, из Питера ничего не допускают. Какой-то орган губернской власти объявили, и заправляет им Фосс: ни Советов, ни Ленина признавать не хочет!
— Опасно играют, гады! — Дед Семен постучал костяшками пальцев по столу.
— И чего Иван-то Иванович воды в рот набрал? Хоть бы прояснил нам, как дела.
— Опять небось недосуг. Мужик он заводной. А в заварушке знаешь как? Зазевался, ан, гляди — пуля в рот залетела. Когда тут писать-то.
— Верно, верно. — Почтмейстер взялся за шапку и поглядел на улицу, где по первому снегу разыгралась поземка, наметая горбатые сугробы. — Пойду, пока дорогу не занесло, дружку депешу отстукаю. Заходи ужо вечерком. Может, какие новости узнаю в Калуге.
Почти до половины декабря новости не радовали. Дед Семен по вечерам болтал о них без умолку и мешал Димке готовить уроки. Мать или отец уводили деда в горницу, но и оттуда — через легкую переборку — доносился его басовитый голос.
Димка учил синтаксис, а думал про Калужскую городскую думу: она вдруг сбрендила и поклялась, что все силы, жизнь и имущество горожан отдает в распоряжение Временного правительства.
Брался Димка за географию, а дед за стенкой гудел: Ефим Ларин дал приказ Петьке Лифанову — всех переписать, кто взял скот и разное барахлишко на барском дворе.
И выходило так: только на Людиновском заводе укрепилась новая власть. А в Козельске, в Калуге, по всему краю сидели, как лягушки в трясине, какие-то фоссы: они грозились расправой и чинили зло.
Потап с отцом написали Ларину: пора убрать из училища рыжего царепоклонника Воропаева. Он заморочил ребятам голову всякими байками о милейших особах царской фамилии, а Степана Разина и Болотникова поносил, как хотел: душегубы, ворюги, разбойники!
Дюндику и еще кой-кому такие речи были по душе. И Фрейберг радовался, что Гаврила Силыч смело ляпает такую чушь. Да отсмеялся: только и видели этого щеголя с длинным ногтем на левом мизинце! На другой же день исчез, когда в село пришли вести, что погромили имение его маменьки в Дубках. А историка так и не спихнули: защитил его Ефим Ларин.
Минька написал, что дядя Иван все же угодил в блошницу. И просидел там две недели, пока не нагрянули боевые отряды из Минска и из Москвы. В тюрьме простыл, лежит сейчас в маленьком доме у бабушки Лизы с воспалением легких.
Но после этого письма новости стали лучше: калужане прогнали временных взашей. И отец с Потапом отправились в Козельск на уездный съезд крестьянских депутатов.
Вернулись они за неделю до Нового года. И дед Семен хохотал, когда слушал, как два большевика приканчивали земство и городскую думу.
— В земство пошел Щербаков, — рассказывал отец. — Явился. Пальтишко от времени рыжее, картузишка совсем затрепанный, и на шее какая-то тряпица вместо шарфа. Это он так из ссылки прибыл, где сидел за подпольную типографию. А за высоким столом, за зеленым сукном восседали разодетые господа из земства: Данебек — предводитель дворянства, отец Сергий — соборный протопоп, Любимов — земский врач и помещик Блохин — папаша козельских головорезов из черной сотни. И справа от этих господ, на возвышении, — ящик для тайного голосования, белые и черные шары. Господа выходили к трибуне и горько оплакивали своего разлюбезного Фосса.
— А Щербаков? — Дед Семен уже не мог сидеть на конике и шагал по кухне, гремя сапогами.
— Он попросил слова.
— Ну, ну?!
— «Не давать! — закричал Блохин. — Не член земства! Тут не митинг!»
— Ишь ты! Ну?
— В зале зашумели: «Пускай говорит! Может, дельное что скажет! А то завели панихиду по Фоссу, конца-краю нет».
— Вышел, значит, Щербаков к людям?
— На помост поднялся, скинул с шеи тряпицу, в карман сунул и — давай читать декрет ленинский о земле, объяснять, как помещичьи имения отбирать и как распорядиться государственным банком.
— Эх, и загалдели небось? — Дед Семен потер руки и засмеялся.
— Где там! Притаились, как клопы на свету! А потом Блохин поднялся, пробежал через весь зал и с досадой хлопнул дверью. На этом и кончили. Прикрылось земство. А Трошин тем часом шуровал в городской думе. Вошел, комната громадная, за длинным столом — гласные, и заседание ведет городской голова Еремеев.
— Видал я его однажды. Гладкий такой мужчина, пудов на семь, и все левым глазом моргал, как наш инспектор Кулаков, — сказал дед Семен.
— Он самый. Сделал голова доклад: так и так, в городской кассе всего на текущем счету… две копейки.
— Лихо, мать честная! Довели город до ручки, ну, мастера!
— Вот это самое и Трошин сказал. «Позаседали, пора и кончать. Снимайте, господа, ваши золоченые цепки, ваши бляхи, и — марш домой! А то ребят из ревкома кликну, они вам живо мозги вправят». Чистая работа, ничего не скажешь! А с Ефимом Лариным промахнулись.
— Что так?
— Пошли к нему вечерком, хотели взять, а он, видать, догадался и улизнул.
— Чего горевать-то? Пес с ним! Ты скажи лучше, как у нас будет?
— Создадим волостной совнарком.
— Как, как? — удивился дед Семен.
— Совет народных комиссаров.
— Не спеши, Алексей! В Питере, значится, Ленин, а у нас — Потап?
— А как же?
— Дела! — ухмыльнулся дед Семен, и нельзя было понять, одобряет ли он эту затею с наркомами.
Но одобрить пришлось, только на горькую беду. И никто не знал, как дорого заплатит дед Семен за свою беспокойную должность в Совете.
Сход собрали, покричали, но комиссаров выбрали. Потаи стал председателем, Витька — секретарем.
У наркома просвещения Алексея Шумилина сразу же начался кавардак. Учителям не платили ни гроша третий месяц, Федор Кулаков и Гаврила Воропаев объявили забастовку. Они заходили в училище каждое утро, в журнале ставили подпись, а в класс не шли. Отец хотел выдать им по мешку картошки и по две меры овса. Но Воропаев прибежал в Совет, хлопнул фуражкой об стол.
— Мы не лошади! Мы овес не жуем! Либо деньги, либо расчет! Вы давно под меня копаете, так я вам теперь подложу свинью!
Потап срочно подписал декрет номер один: о золоте и других драгоценных вещах. Кулаки, лавочники, попы, мельники и даже лесничий обязывались сдать в три дня золотые монеты, серьги, брелоки, ожерелья, медали и кресты.
Поползли по волости недобрые слухи. А монет набралось в обрез: кто сдал одну, кто — две. А про серьги и про брошки и не вспомнил никто.
Витька раскипятился:
— С обыском надо идти! У одного Ваньки Заверткина целая кубышка в подполье! Бабы не зря судачат. А прибедняется, чертов сват!
Отец намекнул, что золотишко есть в церквах.
— И совсем без надобности, товарищи комиссары! Нешто нельзя медный крест совать в рот прихожанам? Нешто нельзя причащаться из чугунной чаши? Ведь на наши деньги все это куплено! Великолепие, скажете вы. А на кой черт оно советской власти?
Спорили в Совете долго, но ограничились еще одной слезницей в Козельск. А ответ пришел невеселый: знаков денежных в банке нет, сами задолжали учителям сто сорок тысяч рублей. Трясите своих буржуев, иного выхода не предвидится.
— Тоже мне писаки! Да мы и сами с усами! — Потап спрятал бумагу в стол. — Решим так, товарищи: Алексей раздаст учителям из волости по пятерке: у нас их как раз тринадцать штук, по одной на брата. А там видно будет.
Кулаков и Воропаев получили по одной золотой монете и ушли в отставку.
Гаврила Силыч отбыл так срочно, что забыл портрет царя в кладовке. Дед Лукьян опечатывал с Витькой квартиру историка и взял портрет Николашки себе.
— Как ни говори, а все вещь. Сгодится бочку с кислой капустой накрыть. Будет у меня теперь царская квашенка. Приходи, Витька, пробовать!
Все ждали, как решит свою судьбу Софья Феликсовна. Федор Ваныч не один день подбивал ее бросить все дела в Совете и уехать с ним. Но она осталась.
— Улетел мой соколик. Что ж, туда ему и дорога! От всего господского отвыкать надо, даже от крахмальных стоячих воротничков, все это — в прошлом. Дождусь, когда мой городишко освободят, мой зеленый, тихий Коцк. А впрочем, мне и у вас хорошо. Люди везде люди. Дружи с ними крепко, они и тебя полюбят, — говорила она Стешке, которая по утрам и вечерам приходила мыть полы в больнице.
Анну Егоровну со всеми малышами переместили в здание училища, и теперь она разрывалась на части: с утра — в школе у маленьких, после обеда — у старших. Но дело шло. И она, волнуясь и поминутно заглядывая в тетрадку, живо рассказывала ученикам по истории, что успевала за ночь усвоить и вспомнить сама. Отец занял должность инспектора и по три часа в день вел математику и физику.
Гриша вернулся с фронта — в Бресте заключили мир с немцами — и ведал в Совете военными делами. А деда Семена кинули по продовольственной части. Он долго упрямился и согласился на время, пока не вернется Андрей из лазарета.
— Вот до пасхи и поработаю, до Андрея, — говорил дед Семен. — А там страда пойдет. Хозяином буду на новой земле. Всю жизнь про это думал!
Димка не один день провалялся в постели: сперва была простуда, потом пришла корь. С недоброй руки дюндика отлежалась вся школа: попович привез эту хворь, когда вернулся с каникул.
В доме было зловеще тихо, как на экзаменах. Сережку увела к себе пани Зося, отец с дедом от зари до зари пропадали по делам Совета, по горнице и по кухне бесшумно двигалась мать.
По ночам Димка метался в постели и бредил: все представлялась ему большая чайная кружка деда Семена с двуглавым царским орлом. Она летала на этом орле по горнице, и когда Димка хотел пить, послушно приближалась к его сухим губам. И мать плавала, как в тумане, потому что окна были задернуты мешковиной. А в горле чесалось, резало и саднило.
Когда же дело пошло на поправку, стал ему видеться длинноногий русак, с желтыми подпалинами на крупе и на боках: был взят этот первый зайчишка из Вадиной шомполки о двух граненых стволах. И чем больше думал Димка о зайце, тем скорей хотелось ему уйти с постели и вновь прокатиться на лыжах с горы.
В тот памятный день встал он на лыжи с рассвета, и зачастил, зачастил ногами по снежной целине. И крепко держался за веревку, что шла от двух лыжных носов через шею.
От Кудеяровой липы бросился он под уклон. Как веселил сердце этот скользящий, быстрый полет! Но попался на пути угловатый еловый сучок: Димка взмахнул руками, ткнулся носом в снег и заскользил на правом боку в журчащий ручей.
Захлюпала вода в валенках, растаяли снежинки в рукавах и за воротником. А день был погожий, и веселья не поубавилось. Да и на память пришли те давние стихи. Их выкрикивали они с Колькой, когда дурачились во дворе и готовили первые самокаты: «Кубарем качуся под гору в сугроб!»
В стволы набился снежный пыж, Димка ковырнул его шомполом. Ноги зябли, и он подумал: а не вернуться ли домой? Но вытер мокрые стволы рукавицей, сбегал за лыжами и полез через бугор на то поле, где когда-то был базар. И выбрался к заброшенным хоромам рыжего Вади.
Заячьи следы, как Филькины узоры из золотого шитья, разбегались вокруг дома и тянулись натоптанной дорожкой в широкий проем окна.
Димка прислонил лыжи к стене и с высокого сугроба прыгнул через подоконник. И спугнул русака, который спал в снежном намете возле печки.
Выстрел прогремел под крышей, когда заяц кинулся наружу. Но задело его дробью не крепко. И он понесся вдоль опушки, припадая на заднюю левую ногу и раскидывая капли крови.
Димка забыл о лыжах, о втором стволе и мчался за русаком до оврага, поскидав по пути и шапку и рукавицы и на ходу остуживая рассыпчатым снегом пересохший, горячий рот.
Раненый заяц замешкался на крутой стенке оврага и угодил под выстрел из другого ствола. С этим зайцем и примчался Димка домой: мокрый с головы до ног, а в глазах — радость.
Он успел отведать своего русака за ужином — с бурачком и с кислой капустой, — и отправился утром в училище, и принес в класс две задние лапки — вытирать мел со школьной доски. А к вечеру слег.
Дед Семен за эти дни развернулся вовсю. Барское зерно он разделил по едокам давно, но от него не осталось и следа: очень долго сидели в деревне без хлеба. Денег у бедноты не было, а многие и совсем позабыли, как выглядят большие царские кредитки, и маленькие марки военного времени, и керенки — двадцатки и сороковушки. Последние такие керенки Димка снес в лавку целой «простыней», как развернутая большая газета. Цена им была три полтинника в золотых деньгах, и разрезать их на отдельные купюры просто не было смысла.
Повело на теплынь, запахло весной: уже хлопотали на березах первые грачи. Унавоженная барская земля так и манила к себе: «Я — твоя! Пройдись, сердешный, по мягкой борозде с горбатой, легкой сошкой, кинь зерно, и я отплачу тебе щедро: сам-сём!»
Но ни денег, ни зерна не было.
Потап подписал декрет номер два: о яровом зерне. Кулаки оскалили зубы и совсем не торопились везти хлеб по обложению.
Дед Семен мотался по их амбарам, выгребал, что мог, из сусеков, каждый час слушал злую брань, тряс благочинного и дьякона. Потом сменял в соседней волости на гречку и просо вторую барскую молотилку, веялку и два сепаратора. И для порядка всегда состоял при нем Витька с винтовкой Петьки Лифанова, который вскоре после погрома так смазал пятки, что не оставил и следа.
Зерно свозили в большой амбар Митьки Казанцева. Этот амбар стоял неподалеку от больницы, лицом к барским липам, тылом — к лесистой Лазинке. И дед Лукьян по ночам сидел возле этого амбара, держа в коленях старую Димкину шомполку.
Дед Семен задумал открыть кооперацию: зерно раздавать на посевы бесплатно, а с новины получать его обратно — под самый малый процент натурой: по одной мере за три мешка.
— И, гляди, какой оборот получится, — говорил он отцу. — На кажин год будем держать в запасе и рожь, и овес, и просо, и гречку, и ячмень. И запас будет расти. Коммерция, брат, но никакого обмана. Я даже конопли припас пять мешков и отборным ленком разжился!
Бедноте такая штука пришлась по душе. И всяк ждал теперь того светлого дня, когда можно будет кинуть зерно в теплую, влажную землю, и помаленьку копался во дворе: ладил да правил соху с бороной.
Только не вышло так, как гадал дед Семен: пришла беда за бедой, и одна горше другой.
Отцу принес почтмейстер депешу от дяди Ивана: «Формирую отряд Красной Армии, призываю тебя с Гришей добровольно идти под наше знамя. Враг посягнул на все, что дала нам революция. Настало время вести войну до победного конца. Не мешкайте, уходим на фронт через неделю».
И отец с Гришей отправились в Калугу.
В школе, которую наспех отгрохал рыжий Вадя, появилась зловещая трещина: от потолка до пола сдвинулась стена наружу. И никто уже не осмелился влезть на крышу и сбросить с нее мокрый снег.
Каждое утро Клавдия Алексеевна измеряла щель: она росла и росла. Занимались теперь, как на вулкане: с испугом, ожидая обвала, и держали дверь в класс открытой настежь.
В полдень, когда пригрело солнце, с визгом скрипнуло и зашуршало под потолком. Гремя партами и не разбирая дороги, кинулись ребята к выходу. Клавдия Алексеевна еще стояла в дверях, а наружная каменная стена — во всю длину здания — словно с тяжелым вздохом рухнула в мягкий снег. Заклубилась пыль, в огромный проем, открытый ветру, пахнуло весенней прелью. В молчании стояли ученики, а в ясном небе весело пел свою песню первый жаворонок.
До позднего вечера перетаскивали ребята парты, доски и шкафы в тот деревянный домик, где еще недавно жили два забастовщика — Федор Кулаков и Гаврила Воропаев. Там и притулились кое-как школа с училищем.
Сельчане, позабыв о посевной, бросились ремонтировать белокаменный дом генеральши. Работали спешно — с утра до поздней ночи — и валились спать, как мертвые. Но успели сделать только почин.
Об эту пору и навалилась самая лютая беда.
Дед Лукьян сидел ночью возле амбара с зерном. В звездном небе, славя весну, перекликались дикие гуси. И под их негромкий гогот клонило ко сну. И то ли задремал дед Лукьян и в кратком, но беспокойном сне видел, что едут за ним гости, гремя колесами по комковатому проселку, чуть прихваченному морозом; то ли погрезилось ему, что гость уже подходит: с добром, и тянет руку в знак привета, легко шагая по ровной тропинке к амбару. Что было, дед Лукьян вспомнить так и не смог. Только навалились на него двое, как медведи. Заткнули ему кляпом беззубый рот, связали по рукам, накинули пыльное веретье, спеленали, как малое дитя, и оттащили за плечи к барскому частоколу.
Он лежал, как в гробу, но слыхал: загремели железом, сбивая большой замок, и кто-то крикнул знакомым голосом: «Давай!»
Затарахтели колеса, и словно бы не одна подвода подкатила к дверям. Натужно кряхтя, покидали мешки в телеги и, понукая коней, двинулись мимо Совета к ветряной мельнице.
А потом что-то загудело, будто огонь, и сквозь веретье полыхнуло заревом. Дед Лукьян завозился что было сил. Но подкатило к сердцу, и все полетело в тартарары, пока надсадно не загремел набат.
Дед Семен обгорел на пожаре: руки в волдырях, борода закручена жжеными кольцами. А амбар не спасли. И удушливый дым подпаленного зерна расплылся по всему селу.
Допросили деда Лукьяна: он заикался, плел невесть что, тряс головой и все порывался бежать за околицу, куда увезли зерно.
Едва стало брезжиться, дед Семен накинул на Красавчика войлочную попону и с Потапом, с Витькой и с Силой поскакал к Брынскому лесу.
Впопыхах он забыл ружье, а с одним пистолетом Потапа не с руки было брать злодеев, которых настигли на берегу Жиздры, ниже села Чернышена.
Навел на амбар Авдея Онучина и бабу-самогонщицу Петька Лифанов. Он и начал стрелять из обреза, когда Потап матюкнул его по всем статьям и приказал сдаться. Пришлось послать Силу за подмогой, а самим залечь за деревьями.
С двумя ружьями прискакали Димка с Колькой и Стешка с Аниской. Но дед Семен уже исходил кровью: пуля прошла под сердцем, и, едва дыша, чужим, хриплым голосом он успел лишь сказать Димке:
— Прощай, мой хороший! Не привел бог дожить до самого светлого дня. Теперь тебе хозяйновать на новой земле. Да мал ты, мал, на горе! Не убивайся с тоски, береги мать, Сережку. Отцу скажи: помер, как надо… — Кровь хлынула на опаленную бороду, он задохнулся. Дрогнули руки, глаза погасли.
Димка упал на колени и — несмело, стыдливо — смахнул рукавом пиджака алую каплю крови с седой и опаленной бороды деда. И долго глядел в серые глаза, подернутые туманом: в них отражалась кудрявая сосна и маленькой звездочкой горело яркое солнце. И думал о том, что в нем самом начисто умерла душа, и теперь он просто дикий зверь, и ему надо в чужой горячей крови утопить свое неизбывное горе.
И он встал, когда над головой просвистела Петькина пуля, прицелился по телеге, за которой схоронились злодеи, и выстрелил раз и еще раз. Кони рванули. Потап вскочил и побежал. Выстрелил Колька и на бегу вдел новый патрон в бердану. Кинулся вперед Витька с кнутом, следом за ним — Сила, Аниска. Стешка закрыла глаза деду Семену и, рыдая, упала к нему на грудь. Димка снова зарядил ружье и прицелился. Петька кинул обрез в кусты и поднял руки.
Первый раз в жизни Димка избивал человека — молча и с таким остервенением, словно в этих пинках сапогом в постылую Петькину рожу, в живот, в спину было заключено все, чем он жил в эти страшные минуты. Аниска клочьями рвала волосы на бабе, Витька, Колька и Сила волтузили на земле лысого Онучина прикладом, кнутом и палкой.
— Досыть! — крикнул Потаи, давясь слезой. — Связать эту сволочь!
И повели троих по размякшей весенней дороге. А Димка шел рядом с подводой, вел в поводу Красавчика и все боялся, что упадет на ухабах Стешкин платок, которым было закрыто от солнца восковое лицо деда Семена.
Дед Лукьян кое-как сколотил старому своему другу — плотнику Шумилину — домовину из шести неотесанных досок. И дед Семен лежал на кухне, головой к иконе, держа в застывших пальцах грошовую восковую свечку, а капли воска медленно стекали на его опаленные пожаром руки. Мать сидела молча, прижав к себе удивленного и перепуганного Сережку, Филька гундосо читал псалтырь, Стешка, Аниска, Ульяна и Настя в голос причитали по покойнику. И вереницей шли люди, и клали поклоны, и зажигали новые свечи, и толпились в дверях, украдкой смахивая слезы. Степенная Анна, мать Андрея, принесла пропуск — узенькую бумажную ленту с черной славянской вязью: «Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоем». И положила деду Семену на Широкий, открытый лоб. И хотела звать благочинного, но Потап не велел:
— Умер Семен Васильевич за советскую власть! И никаких попов ему не надо. Я хоронить буду! И по нему не церковный звон будет, а боевой солдатский залп!
Утром унесли гроб в большую комнату Совета, куда тянулся народ из села и соседних деревень на большой волостной сход.
Дед Семен лежал, словно прислушиваясь к гневным словам мужиков и баб, которые в один голос кричали:
— Казнить, казнить злодеев!
Димка с Колькой стояли у гроба. Мать — вся в черном — держала на коленях Сережку и причитала:
— Неужто ты хочешь их смерти, батя?
А с улицы ей отвечали:
— Казнить, казнить!
Пришел дед Лукьян, дрожащей рукой погладил по голове Сережку, сел рядом с матерью.
А весь народ кинулся к Лазинке. И в том месте, где ручей сливался с Омжеренкой, Потап приказал Петьке, бабе и Авдею Онучину рыть заступом яму.
На краю этой ямы и поставили трех злодеев, и Потап с Витькой и Силой встали против них с винтовками.
— Читай! — приказал Потап Витьке.
Баба заголосила, Петька попросил завязать ему глаза, Авдей мял шапку в руках и все оглядывался назад, словно не верил, что вырыл эту сырую глубокую яму для своих костей.
И грянул первый залп!
А потом все вернулись к Совету и понесли гроб на кладбище, а ребятишки бежали впереди и разбрасывали по дороге пахучие ветки можжевельника.
И грянул залп второй. И над свежей могилой говорили люди о новой жизни, за которую сложил свою голову дед Семен.
ЗАПАХИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
Кормильца уложили в сырую землю на сельском кладбище, под наклонной плакучей ивой, рядом с черемухой. Но Димке все напоминало о нем и особенно терпкий хвойный запах весеннего можжевельника.
Большая ветка можжевельника, по древнему обычаю, осталась с похорон на божнице. Можжевельником был закрыт гроб деда Семена, пахучие ветви под ногами указывали в тот траурный день дорогу к свежей могилке.
Можжевельником пахло по деду. Даже в лесу, на открытой, знойной поляне, не раз натыкался Димка на синий стрельчатый куст можжевельника. И сейчас же перед глазами вставал дед Семен.
Чаще он виделся живой: за самоваром, когда пил с блюдца обжигающий чай и обтирал волосатую грудь холстиным рушником; у колодца, где утром и вечером поил Красавчика студеной водой; в огороде над грядкой; возле дуплянки, где гудели потревоженные пчелы; на току — с озорным блеском серых глаз, когда обхаживал ржаной сноп, легко играя тяжелым цепом; темной ночью в час погрома и на пожаре — в расхристанной рубахе, с порыжевшей опаленной бородой.
А иногда виделся дед Семен в гробу — с восковой свечкой в застывших пальцах. И Димке становилось страшно: очень зримы были ему и седые волосы на висках, и глубокие морщины, и плотно сомкнутые губы. И непременно вспоминался тот миг, когда умер дед Семен в Брынском лесу: на губах его была алая-алая кровь, и она сбегала струйкой в сивую бороду и в ямочку над подбородком.
Димка пытался отогнать страх, и это ему удавалось, когда он вспоминал веселый и басовитый смех деда и всякие его шутки. И в эту минуту он уверял себя, что жив дед Семен, только он далеко-далеко, где-то с отцом и с дядей Иваном: за Волгой-рекой, в неоглядных ковыльных степях Восточного фронта. На хорошем скакуне, конечно. С гиком пришпоривает он горячего, верного коня и сплеча рубит острым стальным клинком белогвардейскую контру. И этому живому деду он хотел подражать во всем.
Мать быстро заметила, как переменился Димка. Стал он бережлив и по вечерам не кидал сапоги, где придется, а смазывал их дегтем и ставил в сенцах под лавку. С Красавчиком подружился, и старый халзаный конь — с бельмом в левом глазу и с большой салфеткой на лбу — послушно подставлял ему голову, чтобы надеть уздечку и завести удила. И перед тем как уехать в ночное, Димка отправлялся с Красавчиком на Омжеренку — купаться в большом, круглом бочаге.
С охотой копался Димка на огороде и, как дед Семен, что-то приговаривал, ставя подпорки для помидоров. И бесстрашно вырезал мед из улья, осторожно фукая на пчел синим дымком из носатого дымогара.
Косил, жал и пахал он, как положено, словно понимая, что теперь он главный мужик в семье. И Сережку не задевал понапрасну, а водил его в лес — учил брать грибы и ягоды. И в голосе у него что-то надломилось: по утрам, спросонья, говорил он неокрепшим баском, точь-в-точь как дед Семен, когда приходил из церкви, после говенья, и не куражился, не кричал, а сидел под божницей с блаженной улыбкой.
Мать прислушивалась к Димке и говорила вслух:
— Дед! Ну, сущий дед!
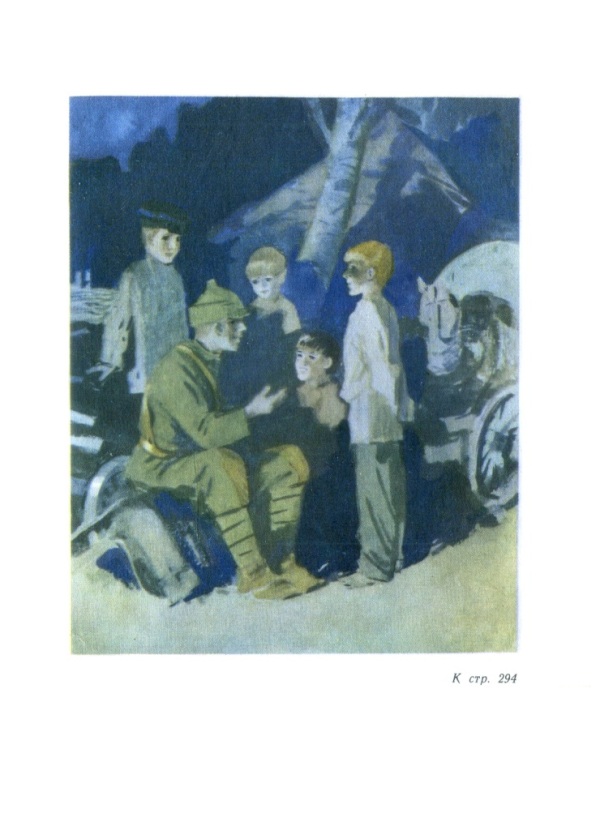
Только говорить она стала не сразу после похорон. Дня три Димка даже опасался, что повредится у нее голова. Совсем оцепенела мать: в горнице не прибиралась, к еде не притрагивалась. Печку протапливала Настя. Она же доила и Зорьку, а Димка ставил самовар. Заходила Софья Феликсовна с порошками и с каплями, забегали вечерком то Ульяна, то Стешка, заглядывал на часок дед Лукьян. А мать все сидела в черной шали на конике и горевала, что не заставила деда Семена съездить в Козельск к фотографу Сагаловичу.
— Хоть бы карточка осталась о тебе в память, — причитала она. — Хоть бы глянуть на тебя, сил набраться, батюшка!
Димка не знал, как расшевелить мать, и, конечно, не понимал, что ей надо выплакаться. На счастье, пришла Фекла.
Как узнала она, что убит дед Семен, да взялась причитать, сбежались на подмогу бабы со всего села. У Димки заскребло в горле, он схватил картуз и улизнул к Кольке. А мать словно ждала этих слез и, сидя обнявшись с Феклой, поручь со Стешкой и с Ульяной, так повела в голос и так растравила душу Сережке, что он заревел, как девчонка, заикал и стал подергиваться.
Женщины поняли, что хватили через край. Они отнесли мальчишку в постель, рядом уложили мать: прямо в одежде, и прикрыли черной шалью.
И забылась мать мертвым сном, и во сне отошла от нее тоска. И утром словно ворвался в хату игривый лучик солнца.
— Лежебоки, подымайтесь! Уже завтрак готов! — весело крикнула мать из кухни, хлопоча у самовара.
Она шагнула через порог, подхватила Сережку на руки. Понесла его к колодцу, окатила до пояса холодной водой и докрасна вытерла полотенцем. И побежала с Сережкой на огород — за укропом. А Фекла уже вынула из печки картошку на большой чугунной сковородке и разливала чай: с медом, с горячей ржаной лепешкой на широком капустном листе.
Первый раз за всю неделю пили чай весело: с разговором и с шутками. А потом мать с Феклой подоткнули подолы, вымыли горницу и отправились в стадо за Долгим верхом — доить Зорьку. И до позднего вечера все искали в хате дело, чтобы не сидеть сложа руки. И Фекла вдруг объявила, что никуда больше не уйдет из села, будет жить у Лукьяна Аршавского.
— Да што ты, што ты! — с тревогой и с удивлением сказала мать. — Нешто у нас места не хватит? Не пущу я тебя. А Лукьяну сообща помогать будем.
— Ладно, ладно, — согласилась Фекла. — Не хотела утеснять тебя. Ну, уж останусь, коли сама просишь.
И день прошел удивительно хорошо.
Поздним вечером уселись пить чай. Мать, по ошибке, выставила на стол большую белую чашку с двуглавым орлом — для деда Семена. Спохватилась и спрятала ее в горку, под ситцевую занавеску. Как-то робко присела на свою табуретку, откинула платок на плечи. И Димка вдруг увидал в ее каштановых волосах седую прядку: словно бы кто насыпал вдоль головы соли с перцем. Мать перехватила Димкин взгляд, накрылась платком и затараторила:
— Да чего же мы чай-то не пьем? Пейте, пейте! А Феклуша порасскажет, как кругом нас люди живут. Грехи наши тяжкие: со своим-то горем совсем мы про других и не думаем.
Фекла не обучалась грамоте, а рассказывала хорошо. И по ее словам выходило, что в селе еще не хуже, чем в иных местах: все-таки вот и лепешка свежая на столе, и до новины пробиться с хлебом можно, а зимой и на картошке с капустой ноги не протянешь. И молоко покупать не надо, и меду принесут пчелки фунтов восемь: все подмога. А у других, особливо по городам, совсем никуда: жалованье грошовое, хлеба — по осьмушке на день, богатеи товар прячут и всякую смуту сеют, и как еще люди с голоду не опухли — просто уму непостижимо!
В Людинове все подбились до крайности: последние шмутки меняют на харчи. Крест несут тяжкий, но не ропщут: надеются. А в Жиздре — совсем порядка нет. Под Новый год мясники так вздули цену — хоть в петлю. Рабочие попеняли одному из них — Петухову, так тот обложил всех последними словами, а двоих — отволтузил. Посадили его в блошницу. А другие-то мясники с ножами кинулись его выручать, погромили Совет, искалечили одного большевика. Чиновники объявили забастовку, оборвали все телефоны. Лавочники запрятали в подполье хлеб, крупу, сахар, расклеили по городу листовки: «К оружию! Коммунистов долой!»
— Пришлось, Аннушка, посылать рабочих из Людинова. Еле утихомирили они контру в Жиздре, — Фекла опрокидывала в рот блюдце за блюдцем, расстегнув шейный шнурок на расшитой крестом рубахе и вытирая краем платка лицо, побитое оспой. — И думаешь, кончилось? Где там! Опять надысь заваруха вышла, как мне к вам идти. Эсеры, што ли, леший их дери, слух пустили, что, дескать, у мужиков начнут новый хлеб отбирать — прямо на корню. Набат гремит, кулаки со всех деревень понаехали. И как расхватали ружья в военкомате, ну и пошла по городу несусветная стрельба. Наши-то, людиновские, одни не управились, слава богу, из Калуги отряд прискакал.
— Вот страхи-то! — Мать по привычке глянула на божницу. — А по другим местам как?
— Одна маета! Прямо как на дрожжах. Так и ходит, так и ходит.
Слыхала Фекла, что по всей округе зашевелились монахи. Игумен Троицко-Лютикова монастыря не пожелал сдать лошадей для Красной Армии, крепко распалился злом на советскую власть, закричал с амвона: «А-на-фе-ма!» И велел бить в набат. Кулаки слетелись, как воронье: шестерых большевиков отделали прикладом и — еле живых — бросили в Оку. Там они и скончались. А сами кинулись в Перемышль, начисто разгромили Совет.
И монашки из Лопатинского монастыря отличились не хуже того игумена: красноармейцам сена не выдали, коней обратали, бросились по деревням врассыпную — звать кулаков на подмогу.
— Ну, скажи ты, прямо конец свету, Аннушка! И где ж это видно: юбки позадирали, верхом поскакали, по своим кельям кулаков с ружьями попрятали. Вот тебе и Христовы невесты. Три дня с ними бой шел.
— Ай-ай-ай! — завздыхала мать. — Как бы и к нам эта беда не перекинулась. Ты бы, Димушка, к Потапу сходил. Расскажи ему, об чем речь шла. Он совсем голову опустил, как деда Семена не стало. А печалиться ему неколи. Такие дела кругом творятся…
Димка завернул в горницу — за пояском. Чиркнул спичкой и поглядел в зеркало: никакой седой прядки на голове у него не было.
— И что ж это такое? — сказал он себе. — Значит, мать горевала сильней? Да! Как ни говори, а пятнадцать годов, и день в день знала она деда Семена, без него — никуда и за столом против него сидела. Затоскуешь до крайности. И отца нет, и Сережка еще не при деле, да и я еще не кормилец. Вот такие у нее дела.
И впервые он пожалел мать.
— Ну, я пойду, — сказал он ей и неловко приложился жаркими губами к ее щеке.
В этот поздний час Потап сидел в Совете — под большой пустой рамой, где недавно красовался диктатор Керенский. И натужно кашлял. Он знал больше Димки и не удивился его словам. С самых похорон деда Семена неотлучно сидел он в своем кресле, а из Козельска и из Калуги шли ему донесения и приказы.
Только что шевельнулись контрики в Медыни и в Сухиничах, но поддержки не получили.
— Погляди вот, — подал он Димке бумагу. — Милятинские мужики решили разобрать линию железной дороги на своих новых землях. И знаешь почему? — он вскинул на Димку усталые, покрасневшие глаза. — Ночью шел под уклон товарный поезд. В табун врезался на перегоне, задавил шесть лошадей. Ну, мужички и осерчали… Только успокоили их живым манером: выдали хороших коней из имения барыни Нарышкиной… Э, да пес с ними, с бумагами! Ты скажи лучше, как Аннушка живет?
Димка стал рассказывать. Но Потап уронил голову на стол и захрапел.
Час от часу было Потапу не легче: и болезнь разъедала нутро, и во всей волости шли дела не по совести. Совнарком ликвидировали: так решили в Москве. Остался вместо него волостной Совет. А когда были перевыборы, кулаки протащили к власти Ваньку Заверткина и еще кой-кого из своих людей. И они во всем чинили зло.
Предложил Потап: обложить налогами богатеев, надо ведь на что-то отремонтировать барский белокаменный дом под школу. Не дозволили! Сказал, что надо излишки хлеба отнять: совсем обголодала беднота. Не поддержали! Про коммуну стал говорить: вот бы объединить бедняков, чтоб работали сообща на своей и на барской земле. Кулаки, провалили!
И Софья Феликсовна заволновалась: стала точить Потапа чахотка, надо было ему уйти от дел, отдохнуть и подлечиться.
— Невмочь, невмочь мне! — жаловался он своей Ульяне. — А покинуть пост не могу: гляди, как берет нас контра за глотку. Жизнь отдам, как Семен Шумилин, но посажу этим чертям блошку за ушко!
А главный в Совете черт — Ванька Заверткин — совсем обнаглел.
— Доведем мы этого Потапа до могилы. Совсем не долго осталось! И никакой власти, окромя нас, не будет. Станем править, как бог на душу положит. И уж никакого хлебушка лодырям не отдадим!
Ванька обрядился в новую синюю поддевку, надел шевровые сапоги, намазал русые волосы лампадным маслом и
громко покрикивал на трех стариков, которые прилаживали к его дому большой сосновый сруб для трактира.
И открыл трактир к ильину дню и с веселой улыбкой закричал из-за стойки:
— Пара чая, пара чая! Пейте, граждане!
Но все знали, что своим дружкам подносил он в пузатом чайнике не сушеную китайскую травку, а натуральный ячменный самогон. Гнал он его по ночам в бане у дьякона и густо подкрашивал настоем из зверобоя, чтоб ненароком не застукали чужие люди из города. И народ валил к нему, как в праздничный день к ранней обедне.
Олимпий Саввич увидал, как размахнулся Ванька, и созрел у него в голове грандиозный торговый план. На шестерке лошадей выволок он бывший Вадин корабль на берег Жиздры, загрузил его зерном. И как поднялась вода в реке после ильинских дождей, велел двум батракам и мотористу двигать в Козельск: там ему обещали перекупщики по две сотни рублей за пуд.
А ночью принес Петр Васильевич страшную депешу: Ленин при смерти, какая-то Каплан стрельнула в него ядовитой пулей.
И очнулся Потап в эту ночь и стряхнул с себя всю хандру. Застучал под окном у Софьи Феликсовны, спросил, что грозит Владимиру Ильичу? И как услыхал, что надо опасаться за жизнь его, горько разрыдался, давясь кашлем. И, не скрывая слез, кинулся за Витькой, велел ему писать депешу в Кремль:
«Прими, наш дорогой вождь, сердечный привет. Горько нам, что постигла тебя тяжелая беда. Одолей недуг, живи всей бедноте на счастье. И веди нас вперед, к светлой жизни. А врагам советской власти мы говорим: «Прочь с дороги! И забудьте думать, что мы спим. И не вернуть вам того, чем вы пользовались сотни лет!» К стенке всю ту сволочь, что осмелилась поднять руку на тебя! Доброго тебе здоровья, дорогой товарищ Ленин!»
Через час Потаи был с Витькой в соседней деревне. Там они взяли двух надежных стариков — членов Совета и поскакали с ними в Дретово — к переправе на Жиздре, где хотели перехватить корабль с зерном.
И все вышло так, как думал Потап: корабль уткнулся носом в железный канат над рекой и застопорил. Сонного лавочника вывели на паром под руки, мотористу велели чалить к берегу. Батраки не оказали сопротивления. Они даже обрадовались, что хлеб не попал в чужие руки, и побежали с Витькой в Дретово за подводами. И до позднего вечера возили хлеб в село. А Олимпия Саввича — в распашной поддевке и в городском картузике с лакированным козырьком — упрятали в козельскую каталажку — в холодную пристройку к собору, с тяжелой железной дверью. И все у него отобрали: и запас сельдей, и крупу, и сахар, и леденцы, и постное масло, и ситец, и керосин, и гвозди, и деготь.
И с Ваньки Заверткина сбили спесь: накрыли его ночью в Дьяконовой бане с новой самогонкой. Из Совета выкинули и пригрозили тюрьмой. Но он откупился: выдал сельской общине пять подвод с мукой.
На сходе решили открыть народную лавку. И Димка с Колькой написали клеевой краской на кумачовом конце красивую вывеску: «Народная лавка «Новая жизнь».
Торговать поставили Аниску. И строго наказали ей: продукты отпускать за деньги, по талонам, которые подписывал Потап — на месяц по пяти фунтов муки на едока, по одной селедке и по стакану сахарного песку и подсолнечного масла. Леденцы продавать только малым детям, по совести. А гвозди и все другое — менять на творог, яйца, топленое масло, конопляное семя, пеньку, липовое корье и сушеные грибы.
Пошла у Аниски голова кругом.
— Мамочка моя родная! — причитала она за прилавком. — Отдай меня лучше замуж, пропаду тут ни за грош! И где ж это видано, чтоб такое в лавке творилось! — И дрожащими пальцами еле-еле перебирала на счетах: кому, за что и сколько выдать товара.
Но держалась и скоро стала торговать бойко. И удачно сменяла в Плохине творог и яйца на звонкие подольские косы и на крутые бежицкие серпы.
А от отца и дяди Ивана — из письма в письмо, — приходили тревожные вести. И с газетных страниц кричали лозунги: «Социалистическое отечество в опасности! Все на защиту Отечества!»
Со всех концов земли напирали интервенты и белогвардейцы. Самара, Пенза, Уфа, Балашов, Царицын, Уральск, Новохоперск, Архангельск, Псков — Димка собирал по вечерам своих дружков и искал с ними на карте эти города — у голодной России все туже и туже затягивался пояс вокруг Москвы.
Как-то пошли ребята к Лазинке. Уселись возле наклонной Кудеяровой липы и стали искать, где в дивизии Киквидзе, на Южном фронте, храбро бьется Калужский отряд.
Лето увяло, желтизной тронуло первые листья. Ни одна пичуга не распевала в лесу, и только дятел прилежно выстукивал дубовым носом на сухой елке: «Тук-тук! Тук-тук!»
— А про школу-то мы и забыли! — вздохнул Колька.
— Может, и не забыли! Да чего про нее думать? Все равно учителей нет, — сказал Филька.
Он был прав: осталась одна Клавдия Алексеевна. Да и ей не больно доверял Потап: прошлой зимой не в меру распускала она язык, плела всякие злые байки про большевиков. Но когда убили деда Семена, вышла и с ней перемена: по доброй воле сама пришла в Совет и стала там работать. И поверил ей Потап — уж очень крепко подступала она к нему.
— Вас наделили властью, Потап Евграфович, сейчас же давайте деньги на ремонт! Барский дом стоит с забитыми окнами, ребятам учиться негде, а у вас и голова не болит. И учителей требуйте. Не могу я одна всю школу вести!
— Дыть, Анну Егоровну попросить можно. Женщина хорошая, уважительная, — хитро щурил глаза Потап.
— Ну, знаете что? Петушиным гребнем головы не расчешешь! — горячилась Клавдия Алексеевна. — Ей бы и со своими малышами управиться!
Потап кашлял и посмеивался: любил он людей горячих, к своему делу прилежных. Но денег пока не давал и — не отказывал. А про учителей послал бумагу в Козельск.
И только подумали ребята про школу, на той самой тропинке, где Димка с Колькой подглядели юродивого, показался возле ручья чужой старичок.
Шел он с котомкой за плечами, в низенькой черной скуфейке на седой голове, опирался на палку с набалдашником, а другой рукой оглаживал белую бороду, которой с лихвой бы хватило на троих. И рубаха была белая, посконная, почти до колен, вся в сборках, как понева, и перехвачена ниже бороды сыромятным ремешком. А шаровары были плисовые, под цвет прошлогодней еловой шишки, и уходили в сапоги — тяжелые, с раструбами, как у мушкетеров из веселой книги Александра Дюма или как у барина Булгакова, когда он хаживал весной на охоту.
— Дивно, братцы! — Сила привскочил и легонько свистнул.
— Пугнуть его, или как? — заерзал на месте Колька.
— Погоди! — Димка откинул в сторону карту и ладошкой прикрыл глаза козырьком. — Ну, прямо граф Лев Толстой! — Он не сводил глаз со старичка. А тот умылся в ручье, заметил ребят и стал подниматься к ним на бугор, держась левой рукой за мокрую бороду.
— А вот этот мальчик думает, что идет шпион, — старичок указал палкой на Кольку. — И у него в голове план: как этого шпиона доставить к Потапу Евграфовичу?
Колька покраснел, ребята засмеялись.
— Между прочим, жил-был однажды маленький мальчик, чем-то похожий на тебя, — старичок провел рукой по Филькиной голове, остриженной в лесенку. — Как звать-то?
— Свистун! — подмигнул Сила.
— Это прозвище. И пора бы от него отвыкать. А как по правде?
— В селе зовут Хвилип. А у благочинного в книге — Филипп.
— Вот и скажем; звали мальчика Филипок. Жил он за оврагом, на краю деревни, у самой реки. Мальчишек близко не было, бегал он все один да один. Скучал, конечно. И вышло так, что подружился он с гусем. Молодой был гусь, с толстым клювом, и звали его Краснонос. Куда Филипок, туда и гусь: и на луг, и по грибы, и на речку. И купались вместе. То-то весело. А однажды заплыл Филипок далеко-далеко, закружило его в омуте, и стал он тонуть. Закричал гусь, захлопал крыльями. Прибежали люди, вытащили мальчика из воды. Отец Филипка обрадовался, пригласил их в гости. Обед сделал и подал на стол… Красноноса с гречневой кашей. Справедливо это, а?
— Да я бы такому отцу — во! — Колька показал кулак.
И все закричали, что с Колькой согласны.
— Хорошие вы ребята, ничего не скажешь. — Старичок развалился на траве, скрутил цигарку. Достал из кармана кресало, наложил на кремень обгорелый кусочек трута, высек искру. И запахло едким самосадом, как в конторе у Потапа.
— Я вот все хожу и ищу: где-то тут Тургенев жил, Иван Сергеевич. Слыхали о нем? — Старичок глянул на Димку.
— Это не у нас, а близко. За Плохином, в сторону Волхова, — Димка махнул рукой. — И Касьян там жил, с Красивой Мечи.
— Очень хорошо. Это что ж, Клавдия Алексеевна говорила?
— Эге! А она вам знакома? — спросил Димка.
— Слыхал про нее. А про Льва Толстого разговора не было?
Ребята переглянулись и прыснули со смеху; старичок был вылитый граф из Ясной Поляны.
— Чего это вы? — удивился он.
— Да так! Наша тайна, — сказал Колька. — А Толстого читали! И как собака спасла девочку на пожаре, и про Жилина с Костылиным — как они в плену у татар были.
— Маловато. А ведь он почти ваш сосед: в Оптиной пустыни останавливался не раз, гостил в Березичах у князя Оболенского. Заезжал в Шамордин монастырь. Там сестра его находилась — Мария Николаевна. И в Козельске сел он на поезд в последний раз: хотел в Новочеркасск ехать, а добрался только до станции Астапово, в Рязанской губернии. Там через семь дней и скончался. Скоро восемь лет минет. Двадцатого ноября день памяти о нем.
Ребята слушали старичка и не знали, что подумать о нем, а спросить не решались.
Старичок бросил цигарку, покачал головой.
— Свой-то край надо знать лучше. А вы небось и не слыхали, кто у вас барский дом строил?
— Барин велел, а мужики построили. Вот и все, — сказал Сила.
— Так-то оно так. Да только приказал строить не господин Булгаков, а господин Брюс.
— Какой Брюс? — удивился Димка. — Тот, что бумажные рубли выпустил при царе, а потом сплел из них веревку да и удавился? — Про этого Брюса разговор был. У Колькиного деда есть брюсовский рубль, будто на счастье. Только и с этим рублем счастья нет.
— Тот Брюс другой, по финансовой части, и помер недавно. А у вас жил Брюс раньше, две сотни лет назад. Яков Вилимович. Человек ученый и достойный сподвижник Петра Великого. Он был и в потешных войсках царя Петра и командовал артиллерией в знаменитом бою под Полтавой. И приказал своему библиотекарю Василию Куприянову напечатать первый настольный календарь на шести листах. С той поры и пошли календари на Руси… Вот такие-то дела!
Старичок закряхтел и встал, развязал котомку.
— А Шумилиных среди вас нет? — глянул он через плечо на притихших ребят.
— Есть! Вот он, Димка! А деда его весной кулаки убили, — сказал Колька.
— Знаю, ребята, знаю! Бери, Димушка, друзей своих, сведи меня на кладбище. Хочу поклониться хорошему человеку. — Он вынул из котомки маленькую, примятую ветку можжевельника. — А потом доставь меня в Совет, к Потапу Евграфовичу: будем мы с ним новую школу открывать.
ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО
Прошел весной разговор, что есть на свете озорной и умный мужик — Демьян Бедный.
Откуда он взялся, никому невдомек. Но, видать, деревенский, только шибко грамотный, и знай себе пишет и пишет: от зари до зари, даже ночи прихватывает. И у Ленина он в почете, и стихи его кажин день и в каждой газете.
А открыл его Потап. Как-то листал он майский номер «Правды», улыбнулся вдруг в табачные усы, кулаком стукнул по столу и сказал Витьке:
— Эх, и Демьян! Какие стихи выдал! В самую точку! Дай-ка ребятам, пускай почитают.
Попала газета Кольке, от него — Димке. У Димки и дух захватило: вот это Демьян! Будто пришел он тайком в село, потолкался среди людей, поглядел, послушал и такое сказал, о чем у всех была самая горькая думка.
Год назад удивился Димка стихам про родину. И дерзнул тогда дать ответ безыменному поэту. Мучился, сидел до петухов, а вышли из-под пера такие слабые строчки про жалкого Барбоса на цепи.
Слов нет, написана «Родина» здорово, в полную силу. Только не все в ней ясно, и главную мысль ухватишь не вдруг. Словно бы и осуждает поэт порядки на Руси и намекает на что-то, а не зовет: бей, ломай, новое строй! Он смущает, а ты уж сам кумекай, что к чему. А Демьян рубит сплеча, и в простых его словах — сама жизнь.
Все лето не мог забыть Димка, что увидал весной в «Правде». И косил, и жал, и пахал, и было это в иной день невмочь. Но рядом стоял Демьян Бедный. И пояснял и звал:
Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас злые гады.
Товарищи, мы — в огненном кольце!
И ловко же придумал про этих гадов и про кольцо! Чего ни коснись, всему они виной!
Отрезали беляки Калугу от соли, за столом сидишь несолоно хлебавши. У матери голова идет кругом, не знает, что и придумать. Дает ко щам по ломтику сала — хлебнешь ложкой пресного варева, откусишь кусочек соленого, так и держишься. Про эту соль никогда допрежь и не думали, а теперь она и во сне снится: горы, белые горы! И на солнце они блестят — глаза больно. А ты подходишь, берешь искристую соль пригошнями, набиваешь карманы. И Колька рядом, и Настя. И от щедрого сердца даешь им по полной жмене.
И мыло пропало начисто. Постирать надо, так мать с Феклой варят в печи белье с золой. Рушники пожелтели, и бельишко словно чаем покрашено. А надо помалкивать: говорят, вошь грызет всех почем зря, и от нее страшная болезнь — сыпной тиф.
Сахар видали за лето два раза: выдавала Аниска по стаканчику. И про белый хлеб стали забывать. Демьян объяснил толково: родится пшеничка далеко-далеко, за тем злосчастным огненным кольцом. И жрут там гады сдобную булку. А ты подсыпай овса в хлеб. А у него усы такие, что Сережка плачет:
— Мамочка! В животе у меня иголкой колет!
И с керосином подбились так, что до самой черной темноты огня не запалишь. Мать зажигает лампу на полчаса: ложку мимо рта не пронести и раздеться на ночь по-доброму. А коли света надо поболе, жги моргасик с лампадным маслом. Для этого и стеклянный мерзавчик есть, а в нем — пробка с дыркой и железная трубочка с фитилем из ваты. Горит, горит огонек, а толку — самая малость. Почитать надо, так лепишься к фитилю впритык, того и гляди подпалишь волосы на лбу.
А у Кольки еще хуже. Снял дед Лукьян с чердака древний треногий светец: валялся он без дела годов тридцать и на пожаре не сгорел — покрылся окалиной. Поставил перед ним дед чугун с водой и стал палить сосновую лучину, когда по вечерам плел лапти.
Только одному со светцом не управиться: лучина горит быстро, надо менять ее да кидать огарки в чугун. И приставлен к этому делу Колька: от светца не отходит, а в хате все равно мрак, чад. И в носу — копоть, как у трубочиста. Горше и не придумаешь!
А поглядеть в корень, так и у Шумилиных не слаще. Огурцы не посолили, свежую капусту вилками сложили в погреб. Без соли стала болеть Зорька. Судили, рядили, а выхода не нашли. И дед Лукьян трясущимися руками ударил ее дубовой бельдюгой промеж рогов: сбил с ног, прирезал и снял шкуру.
Даже Фекла не скрывала слез в это осеннее утро. А про мать и про Сережку и говорить нечего — плакали они навзрыд. Барская телушка осталась яловой. Вся надежда теперь была на безрогую корову деда Лукьяна, которую Колька привел в ночь погрома. И Димка со страхом думал, что надвигается тяжелая, безрадостная зима.
Потап сказал на сельском сходе:
— Надо держаться, граждане! Надо всем сообща, надо в коммуне жить. Вся наша сила — это организованность, выдержка, порядок. И работа! А главней всего — борьба за хлеб и оборона. Пока из огненного кольца не вырвемся, про лучшую-то жизнь и помышлять не надо. Вот так, граждане! Точка!
В комитет бедноты главной выбрали Стешку. Зарделась она от такого людского доверия, заревела, кинулась к Анискиной матери гадать на картах: какая ей выйдет морока в новой должности?!
Хорошо вышло: и хлопоты и дальняя дорога. И, конечно, солдаткина сердечная тоска. Правда, выпали и какие-то козни от двух черных королей. Но смертей не было, не показали карты ни болезни, ни казенного дома.
И Стешка взялась. Посуровела и — развернулась. И от деда Семена что-то у нее объявилось и свое добавилось. За баб держалась крепко, а они-то все знали, как на духу: и кто что ест, и что из харчей в запасе держит, и в каком сусеке хранит зерно.
Стала она вдруг Степанидой Андреевной. Так ее благочинный назвал, когда она делала обыск в его амбаре и нашла всего два мешка с мукой.
— Зря стараетесь, Степанида Андреевна. Нешто стал бы я укрывать хлебушко от своих прихожан? Всем трудно, и мне туда же.
Но Стешка не отступилась: шепнула ей Аниска, что ночью бежала из гостей, от Софьи Феликсовны, а у благочинного за двором кто-то гремел заступом. И, видать, неспроста!
Взяла Стешка ломик, ковырнула раз, ударила раз и достукалась: прикрыта старыми воротами, притрушена слегка навозом глубокая ямина, а в ней почти тридцать мешков — с овсом, рожью и с ячменем.
— Ты меня, батюшка, Андреевной не величай. И молода я еще и зерно все равно отберу. Тяни мешок с рожью — на посев тебе. И как ты втроем — с попадьей да с дочкой — положено тебе двадцать два пуда с половиной до новины. Вот и все дела. Да спасибо скажи, что покамест не держим супротив тебя зла. Схитрил — поймали, ну и пес с тобой! А то угодил бы ты в блошницу: Олимпий Саввич таких, как ты, давненько поджидает в Козельске.
В тот день еще раз растрясли запасы у дьякона, взяли зерно у Ваньки Заверткина и у Митьки Казанцева. Шесть подвод увезли в Сухиничи для Красной Армии, шесть подвод сгрузили на бывший барский склад.
— Посевное для коммуны! — У Потапа даже загорелись глаза.
Закончила Стешка в своем селе, взяла Витьку с винтовкой и пошла шуровать по кулацким амбарам в других деревушках волости.
А Потап послал депешу в Козельск: «Хочу обучать народ военному делу, дозвольте выехать за винтовками».
Ему ответил военком Варганов: «Оружие даем только коммунистам, а у вас в селе партийной ячейки нет».
Поздним вечером Потап собрал людей, которым доверял, как самому себе. Пришла Стешка, следом за ней — Витька. Осторожно открыла дверь Софья Феликсовна, застучал каблуками раструбных сапог старичок, похожий на Льва Толстого, он же директор новой школы — Игнатий Петрович Голощапов. В осенних зипунах, в новых лаптях подъехали на телеге два старика из соседней деревни, что помогали Потапу перехватить корабль с зерном возле Дретова.
Пригласили и Клавдию Алексеевну и Петра Васильевича. А дед Лукьян приплелся сам: шел в обход с колотушкой да увидал огонек в Совете в этот поздний час.
Никто не знал, как создавать ячейку. И все сидели молча — чинно и совестливо. А в тишине потрескивал фитиль в настольной лампе и натужно дышал больной Потап.
Завозился у двери дед Лукьян, вынул берестяную табакерку, принял по большой щепоти в обе ноздри и вздохнул.
— И штой-то вы молчите, граждане? Аль уж помер кто?
Голощапов отодвинул табурет, встал, подошел к Потапову столу.
— Дело, по которому мы здесь собрались, товарищи, святое. И надо делать его по доброй воле, — сказал он. — Всем ли нам быть в партии, не знаю. Каждый должен решить, сколь он достоин и сколь в нем боевого огня, партийной стойкости и верной, чистой любви к тому, за что дерутся большевики.
Он волновался и левой рукой придерживал окладистую бороду, которая веником лежала на груди.
— Восемь лет назад это было. Вел я занятия с рабочими в вечерней школе. И оказали они мне доверие: позвали на свою маевку. Собрались у Черной речки, под Питером, где Дантес убил Александра Сергеевича Пушкина. Принимали в тот день трех молодых и двух стариков в партию, и меня записали. Да накрыли нас шпики, и загремел я в Нарым — на десять лет. Билет выправил, когда к вам в село собрался, — он достал из кожаного кисета маленькую книжечку и показал ее Потапу. — Не все в моей жизни ладно. В далекой ссылке была тоска, безлюдье. Революция пошла на убыль, зашатались даже такие люди, которым Ленин верил, как лучшим друзьям: Максим Горький стал доброго бога искать, а Луначарский — этого бога строить: хотел религию найти — новую, социалистическую, соединить бога с Марксом. Многие качнулись в ту пору, и я — туда же: нашел себе пророка в Ясной Поляне. Граф-то Лев Толстой помер, так я его дело стал вести в ссылке: себя совершенствовал, боролся со злом, прощал врагам по евангельским заповедям, мясного три года не ел и от женитьбы ушел… Все это в прошлом, товарищи. Осталась только толстовка да смазные сапоги с раструбами, потому что сменить одежду достатка нет. Вот это я и хотел сказать. Совесть моя перед вами чиста. Теперь и вы о себе скажите не таясь, как на духу. И все это надо в протокол записать. Давайте, я буду вести его, — Голощапов сел у края стола, пододвинул лампу и положил перед собой тетрадку.
Было ему радостно: старики, Потап и Витька становились у стола несмело. Но глаза у них горели, как в праздник, и говорили люди мало и просто. Все знали друг о друге, как о самом себе: и как всю долгую зиму сидели на жалкой тюре — на первое хлеб, на второе — вода, на третье — соль, иногда с луком, а еще реже — с постным маслом. И как обводили вокруг пальца непутевого Вадю Булгакова и не ломали шапки перед становым. И как клали все силы для борьбы с контрой.
И вспоминали, где у них слабина и когда не хватало смелости или доброй смекалки. Вот с коммуной пока бестолочь: мужики, что победней, те все рады, но мутят их бабы — как бы оплошки не вышло, ведь оно, как говорится, своя-то рубаха ближе к телу, хоть она и посконная и вся в дырах.
И пожар на лугу не раскрыли. Кто спалил сено? Доверились Петьке Лифанову, а он подлюга, каких и свет не видал. И Семена Шумилина не уберегли от пули. И барский дом, видать, порушили зря — погорячились через край. И школа еще не открыта: ребята днем слоняются по овинам, играют в бабки, в очко, а ночью горланят на посиделках, и девки визжат от них, как свинья под ножом.
И народ-то по другим селам проснулся лучше: где хор налажен, где всякие комедии показывают, где музыку завели. А у нас, как при царе Горохе — клуба нет, негде вечером душу отвести. Бабы грамоте хотят обучаться, а никто их к свету не ведет.
Игнатий Петрович писал и думал: «Люди эти как люди, только других стойче и по жизни идут не вслепую — горит перед ними немеркнущий огонек. Другим-то его не видать, а они его приметили и по нему держат путь. И огонек этот скоро обернется великим пожаром, и увидят его все! Шевельнулись уже в Берлине красные спартаковцы Карла Либкнехта, и усатый Вильгельм Второй — тупой и чванный — спешно отдал концы в Голландию. И веселые вести идут из Будапешта: тянется рабочий класс Европы за россиянами! И хоть невмочь нам сейчас — и война, и тиф, и голод, — но никому не под силу зазастить огня мировой коммуны!»
Писал Игнатий Петрович и про себя отмечал:
«Ловко поддевают друг друга, словно блин поворачивают, чтоб не залеживался на сковородке! А про неграмотность — это в мой огород. И про клуб меня касается: надо за барский флигель браться — одну переборку долой, да сцену сделать, — и будет хороший Народный дом. Вот так, Голощапов, засучивай рукава!..»
Говорила и Софья Феликсовна: и как сиротой жила, и как няней в больнице служила, а вечерами на курсы бегала, и как Кулаков обольстил ее сладкой речью, а замуж так и не взял. И как с горя винцом баловалась.
— Забыла теперь и про вино и про Кулакова. С вами дружбу свела, и, как видно, навеки. На виду я у вас, вот и судите. А коли слово взяла, так я и по главному делу скажу: дров давайте, не могу больных в палату класть — вода по ночам стынет.
Записали в партию Потапа, Стешку, Витьку, Софью Феликсовну и двух стариков.
Посудачили, как быть с почтмейстером и с Клавдией Алексеевной.
Петр Васильевич хвалил на митинге временных: это зачли ему в минус. Да молодцом показал он себя в ночь погрома, когда Петька Лифанов явился на телеграф с доносом. Сумел тогда Петр Васильевич посочувствовать народу: выгнал подлюгу за порог.
И Клавдия Алексеевна заметно отшатнулась от старого: листовок против большевиков не клеила, хоть и подбивали ее на это и Воропаев и Кулаков; отца своего при всех срамила: да как он смел зерно прятать! И хоть говорила когда-то в сердцах, что не дорос мужичишка до власти, да передумала. И Потапу помогала в Совете не за страх, за совесть. И то зерно, что получила от Стешки в день обыска у благочинного, свезла голодным учителям в Глинную и в Поляну.
И решили записать сочувствующими — ее и Петра Терентьева.
А потом Потап сказал:
— Трое наших дружков бьются с беляками на фронте: Шумилин Алексей, Варин Андрей и Гриша Гирин. Как там по-правильному — сказать не берусь. Только люди эти нас не хуже. И будет им горько, что не вспомнили мы про них в такой час. Надо и их принять.
Голощапов записал в протокол.
Дед Лукьян до сей поры сидел молча: принимал понюшку за понюшкой, громко шмыгал табачным носом и украдкой вытирал слезы рукавом зипуна. В каждой жизни, что прошла сейчас перед ним, искал он и находил себя. И горевал и печалился: исправником бит, сына с невесткой замест себя на земле не оставил, с пожара вышел почти без порток. И Колька у него на руках. И верного друга нет: Семена Шумилина. На кого положить надежду в безрадостной старости?
— Ты что, Лукьян Анисимович? — спросил Потап, когда дед зашептал что-то под нос, зашептал и — махнул рукой.
— Жалею, Потапушка, себя жалею. Совсем зря жизнь прошла, ни за грош. Сейчас бы плечи расправить, ан не гожусь я вам в товарищи. Вот мне и горько. И еще жаль берет! Такой у вас день, по всему видать главный, а мало кто Сеню Шумилина добрым словом помянул. Надо бы и его память почтить. Нешто он вам не пара?
— С языка ты у меня снял, Лукьян Анисимович. Я про то думал, да не знал, как подступиться. — Потап скрутил цигарку и огляделся.
Загадал дед Лукьян задачу. И так примеряли ответ к ней, и этак. И все сошлись на одном: принять Семена Шумилина посмертно. В ячейке числить, а билет на него не выправлять.
Список на девять живых партийцев и на одного усопшего послали в Козельск. И через неделю Потап получил десять трехлинейных винтовок Мосина, образца 1891 года.
Деду Лукьяну Потап сказал в тот день:
— Ну, старый солдат, и тебе от партии поручение: со мной нынче в лес пойдешь, будешь при стрелках за няньку. Я им покажу, что след, а в другие дни тебе за порядком глядеть: и винтовки береги пуще глаза, и озорства не дозволяй, и патроны зря не трать.
Ребятам поручили сбить из шелевки большие щиты. Колька созорничал: нарисовал на них углем не то барина Булгакова, не то Николашку Романова, Керенского, который сильно смахивал на Гаврилу Воропаева, попа в камилавке, чуть схожего с благочинным. На одном щите был кулак, будто списанный с Ваньки Заверткина. Но всех лучше вышел буржуй: как на рисунке художника Дени в «Правде» — и цилиндр до ушей, и жилет с цепочкой, и толстое, гладкое пузо, еще почище, чем у Олимпия Саввича.
Потапу затея понравилась. Посмеиваясь, построил он ребят по двое, Витьку со Стешкой вывел вперед, деда Лукьяна устроил позади и повел свой отряд в Лазинку, где под обрывом, вдоль ручья, хорошее место было для стрельбища.
Со свежего пенька стреляли в буржуя на сто шагов. И Витька отмечал карандашом, куда попадали пули.
Стешка пальнула, закрыв оба глаза, и с перепугу плюхнулась наземь и засмеялась, как девчонка. И — промахнулась: в обрывистом берегу взметнулась над щитом рыжеватая пыль. И Колька, и Сила, и Филька попали в деревянный квадрат, но буржуя только царапнули. Витька угодил в цепочку на круглом животе, а Димка пробил дыру в жирном подбородке.
— Сразу виден охотник, — сказал Потап. — Будешь у ребят наставником. Стрелять дозволяю два раза в неделю, по три патрона. Приловчитесь на сто шагов, отойдете от цели — на двести. Обучаться вам стоя, лежа и с колена. Другой глаз не жмурить, крючок спускать плавно. А Степаниде, Димушка, покажи-ка еще раз с упора: комитетом бедноты заправляет женщина, надо же ей в буржуя не промахнуться!
Стешка села позади пенька, скинула платок, примкнула ложу к плечу и чуть склонила голову вправо, чтоб найти мушку в прорези. Димка встал сзади, поправил винтовку и проверил, как Стешка прищурила левый глаз.
Он боялся испугать молодую женщину громкой командой «пли» и сказал тихо:
— Приготовься, Стеша. Палец согни, на себя крючок не дергай, нажми плавно, и все. Огонь!
Отрывисто прогремел выстрел, будто ранним туманным утром громко хлестнули кнутом. И сейчас же этому звуку отозвалась доска. Витька побежал: у левого края цилиндра белела дырка.
Потап обрадовался.
— Вот это денек, товарищи! Первая наша женщина смело пальнула из винтовки. И — ничего, подходяще! Глядишь, и другие девчата за ней потянутся, а ведь это сила! И вам пора зарубить на носу: досыть в бабки играть, самое время про врага думать. Он близко, ошалело прет на Москву, надо встретить его горячей, меткой пулей.
Кашель стал душить Потапа. Он зашелся, зашелся, держась за грудь, и махнул рукой.
— И что поделаешь? Кончилось ваше детство. Давайте шагать вровень с нами. А уж ты, Димушка, изо всех сил старайся. Доверяю тебе. И Лукьян Анисимович будет у вас для порядка… Вот так. Точка!..
Взрослые ушли в село. А Димка потащил Кольку, Силу и Фильку собирать пули в обрывистом берегу. И ребята постарались: подступала пора хорошей осенней охоты, а у Димки не было дроби. И собрали в песке и в глине все четырнадцать пуль. А потом на задворках у Шумилиных поставили таган, распалили огонь, выплавили свинец из стальных колпачков. И порубили его на дольки и обкатали между двумя сковородками. И Димка пообещал угостить дружков дичью: стало у него в запасе самодельной дроби на три заряда.
Вроде и кончили все, а домой не тянуло, словно после этой стрельбы в Лазинке еще более окрепла их старая дружба.
Колька сказал:
— Ну, охота охотой. А кто из вас думал, как дальше быть? По другим-то селам ребята организуются, что-то делают. А мы чем хуже? Помнишь, Димушка, давно это было: в зулусов играли, с ассагаями бегали, Филька немцев колол пикой. А теперь винтовки у нас в руках. И что ж? Без формы будем ходить, и никакого нам названия? Хоть бы красную ленту на рукав нацепить, все бы от других отличие!
Поддал Колька жару: размечтались ребята, заспорили. И долго не могли решить, да вспомнили стихи Демьяна:
Товарищи, мы — в огненном кольце!
На нас идет вся хищная порода.
Насильники стоят в родном краю.
Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою.
И все стало ясно: на стрельбище ходить с повязкой, а на ней написать: «Победа или смерть», чтоб всякий Ванька Заверткин понимал, что идут по селу юные большевики. И промеж себя — конечно, в полной тайне — называть друг друга бойцами из отряда имени Карла Либкнехта.
И скрепили этот союз клятвой. Колька выхватил из огня раскаленный уголек, подержал его на ладони, пока не запахло паленым, пустил по рукам друзей. А потом зарыл уголь в грядке, присыпал холмиком:
— Решено, мальчишки: победа или смерть!..
Не дремал и Голощапов.
Он уговорил Потапа и Стешку обменять одну барскую корову на оконное стекло. Корову свел на базар в Плохино и вернулся не пустой. И теперь он сам вставлял стекла в белокаменном доме генеральши. Мать снесла ему фартук деда Семена. Он прикрыл им свою толстовку и — со стремянкой — двигался от окна к окну, тюкал стамеской по тонким гвоздикам и ровным слоем выкладывал замазку. И в первый погожий день осени заиграло солнце в широкой балконной двери второго этажа.
Настя, Поля и Ася едва поспевали за Феклой: таскали мусор, мыли паркет. Краски никакой не было, натирали полы воском: Димка выдал его из своих запасов.
А когда пришла пора ладить парты, появился в селе новый учитель — Александр Николаевич Истратов. Он ходил боком, опустив левое плечо с худой рукой, наклонив налево длинную жилистую шею. И ребятам было в диковину, что станет их учить такой скособоченный дядя. Но скоро они узнали, что Истратов был в Ярославле, когда контра учинила там мятеж, и два дня строчил из пулемета с колокольни Николы Рубленого, пока бандиты не раздробили ему ключицу осколком снаряда. И словно магнитом их потянуло к человеку, который так недавно рисковал жизнью за советскую власть.
Старики и старухи жалели его: молодой да красивый, а как его свернуло, бедолагу! Аниска в нем души не чаяла: словно для нее одной прикатил из Заморья этот принц с голубыми глазами. И норовила снести ему из лавки то два-три леденца, то кулечек овсянки. А он отнекивался и ни на что не жаловался: спал на ряднине, прикрывался шинелькой, ел картошку без соли, молоком накачивался частенько без хлеба и все мурлыкал под нос протяжную песенку.
Послушать поодаль — куда знакомый мотив. Певала такую песню озорная, веселая Стешка — и в девках и в тот памятный день, когда было у нее шумное застолье на свадьбе. Гости уходились, отпустили кушаки, начали запивать мясо холодным квасом. Гриша забренчал на балалайке, а молодуха — бесстыдно счастливая, с алым румянцем в доброе блюдце, с зелеными каменьями в тяжелых серьгах — вдруг припала головой к мужнину плечу и повела вполголоса: «Слети к нам, тихий вечер, на мирные поля, тебе поем мы песню, вечерняя заря». И так было это к месту: и вечер спускался в зеленом мерцании звезд, и заря долго не угасала за барскими липами, и была еще вера, что тихо прошумят хлеба на новом поле, отбитом у барина.
А дядя Саша пел иначе: подойдешь поближе, и слов не понять: «Ля мико нио родно, а клану эль баталь, при стель дель эсперанто, траль мондо тра ля валь».
И пел он, пел и помаленьку копался в кабинете старой генеральши, где рядом с топчаном пристроил верстак деда Семена.
И на душу оказался он легкий: не кричал, зря слов не бросал, и все у него ладилось — и как смешную игрушку склеить из шишки с желудем и как одеть переплетом книжку. Настя голенастую цаплю сделала, Поля — колючего ежа, Ася — стройную козочку. А мальчишек стал наводить дядя Саша на рубанок, на ручную пилу, на долото. Скажет, будто сам покажет, и — все ясно: как первый слой снять у соснового кругляка, как пазы заводить в пазы и как натурально зачищать верх фуганком, чтоб отдавала доска родной светлой желтизной и могла идти под морилку, под краску, под лак. И словно все шуткой да с прибауткой, а глядишь — готова уже первая парта, и ночью снится, как завтра надо приступать к другой.
И у ребят все время заполнилось до краев: чуть свет — в мастерской, с обеда — на стрельбище, а по вечерам — так и тянет в каморку к этому дяде Саше. И бежишь от него в полночь, словно ворох добра несешь. А у кита-то глотка маленькая, и никак не мог быть в его чреве ветхозаветный Иов. Болтал благочинный напраслину. Оно и впрямь — язык без костей! А в Брынском лесу порхает королек — птичка малая, желто-серая, с золотистым темечком, ну, просто крохотуля: с медный пятак весит, на фунт — поболе полсотни набрать можно. А зайчонок в первые дни живет без матери: какая зайчиха пробежит мимо, та и накормит. А на Дальнем Востоке есть перепел, немой называется. И такой семьянин — всем на загляденье: сам на гнезде сидит, перепелку к этому делу никак не допускает.
Говорит дядя Саша, как фокусник из лукошка тянет. А ребята сидят, в рот ему глядят. И так — каждый вечер.
Потап и Голощапов увидали, какой клад запрятан в этом дяде Саше. И подсказали ему, что время сбить ребят в один коллектив: и пьеску можно поставить, и песни разучить, и какой-нибудь журнальчик выпустить.
— Вьются они вокруг вас, Александр Николаевич. Порадейте и вы для партии. Дело стоит хлопот. Счастье наших людей только в знании. Еще Антон Павлович Чехов говорил это, — сказал Игнатий Петрович.
И дядя Саша не позволил себя упрашивать. В просторную гостиную генеральши Булгаковой вечером понаставили лавок, Митрохин с Витькой притащили фисгармонию, на которой золотыми буквами написал про себя германский фабрикант: «Юлий Генрих Циммерман. Санкт-Петербург. Лейпциг». И все стали готовиться к вечеру: подступала первая годовщина Октября, коммунисты хотели отметить ее празднично.
И скоро отметили — в барском флигеле, где Голощапов успел оборудовать Народный дом.
Аниска и дядя Саша исполняли две главные роли в длинной трагической пьесе «Люди огня и железа». И когда мрачный тип в плисовом зипуне — а его играл Витька — увел за какие-то долги Аниску от дяди Саши, всех возмутила такая несправедливось: у бедняка, у больного, у доброго отнял богач красавицу жену. Фекла запричитала:
— Что деется? Вот гад, ни дна тебе, ни покрышки!
Но гордый дядя Саша не мог простить такой обиды. Он пырнул того мерзкого типа ножом в грудь и крикнул под занавес:
— Так умри же, вор чужого счастья!
Победила бедняцкая правда! И Аниска картинно упала на грудь дяди Саши и жарко его расцеловала.
В маленьком зале все вскочили. И те, что успели прежде других, кинулись на высокий помост, схватили дядю Сашу и бросили его под потолок. А он опасливо придерживал левую руку, чтоб ненароком не сломали ее благодарные зрители, и кряхтел:
— Ах, хорошо!
Аниска бегала вокруг и кричала:
— Досыть! Ой, батюшки!
И растолкала всех и подхватила на руки дядю Сашу, который летел от потолка, широко раскинув ноги в раструбных сапогах Голощапова. И унесла его за самодельную ширму из старых газет.
— Попал наш Николаич, как кур во щи! — ухмыльнулся Потап. — Не выпустит его Аниска.
— Любовь — кольцо, а у кольца нет конца, — вздохнула Софья Феликсовна.
Прибрали наспех сцену, вкатили фисгармонию. Митрохин вышел в крылатке, поклонился на две стороны, построил певцов полукругом. А потом уселся перед клавишами, задвигал ногами и взмахнул рукой. И полилась песня про бродягу, который глухой неведомой тайгою бежал звериной узкой тропкой с Сахалина.
Все в зале знали эту песню и стали подпевать. И очень хорошо — сердечно, с тоской — вышел последний куплет:
Умру, в чужой земле зароют,
Заплачет милая моя,
Жена найдет себе другого,
А мать… сыночка… никогда…
Затем пели только на сцене грозную польскую песню «Беснуйтесь, тираны!». Ее подсказала Митрохину Софья Феликсовна.
И уж так пришлась эта песня ко времени!
Спели последние слова:
От пролитой крови заря заалела,
Могучая всюду борьба закипела,
Пожаром восстанья объяты все страны, —
И смерть, и смерть, и смерть вам, тираны!
Но не успели зрители похлопать в ладоши певцам. В переполненный зал вбежал почтмейстер Терентьев, держа телеграмму над головой. Он спихнул кого-то с лавки, вскочил на нее, скинул фуражку и радостно крикнул:
— Слушайте все: советская власть в Берлине!..
НОВАЯ ПЕСНЯ
До звона в ушах наговорились на сельском сходе. И все — про коммуну. А голосовать боялись.
Хлеба нет, соли нет, в одиночку их и не добудешь. Вошь напирает не судом: народишко по деревням стал таять. Но хуже этой вши два царедворца: Колчак и Деникин. И дня не пройдет, чтоб о них не было слуху.
Все туже затягивается огненное кольцо. И Ленин бросил клич: «Нужна Красная Армия в три мильона штыков!»
А как помочь ей? И так крути и этак, а помогать надо сообща: один — за всех, и все — за одного. И без коммуны — хоть в могилу ложись!
Так-то оно так, да еще как обернется с ней дело? Вот сидит рядом губошлеп и дует в ухо: «Это же анархия, братцы! А где же это видано: твое — мое, мое — твое!» И кулаки оживились не в меру. Сидят тесной кучкой в стороне и нахально смеются в лицо:
— Доиграетесь, соколики! Придется вам девок и ребят делить промеж себя. Вернется Гриша с позиции, а Стешка общая: нынче с Голощаповым спит, завтра с Потапом либо с Истратовым. Эх, и гармидер пойдет: мигом глотки перегрызете!
И еще бередила душу такая думка. Аниска, к примеру, в поле из лавчонки не выйдет — жарко, тяжко, и не охота ей морду палить на солнце. И я, значится, за нее спину гни? А дураки-то кончились! Не старый режим, не господа Керенские!
— Досыть! — сказал осипший от крика Потап. — Голосуй, Игнатий Петрович!
Голощапов вышел к народу, придерживая левой рукой белую бороду.
— Ты не бойся, Степанида Андреевна, я к тебе не подвалюсь. Да и лучше Гриши тебе мужа не надо. И Анисья свое дело знает: пришелся ей по душе Александр Николаич — вот и добро! Молодые оба, в пару. Совет им да любовь!
По суровым лицам сельчан пробежала улыбка.
— А все дело в сознании, дорогие товарищи. Как это Анисья или, к примеру, Лукерья на работу не выйдут? Не верю, я в это. Без труда — и жизнь не в жизнь. И где это видано, чтоб беднячка чужие щи хлебала, на чужой счет жила? Бедняк, он оттого и гордый, что у товарища не украдет, товарищу на закорки не сядет!.. И про анархию молоть не надо. Будет, как всегда было: и хата — ваша, и в хате — не чье-нибудь, и в огороде — не для чужого дяди. А вот землица и всякие к ней орудия — этим надо владеть сообща. А почему? Да чтоб никакой мародер не сел вам на шею. Кулак-то с чего родится? Допрежь всего от земли. Заберет он ее в лапы, а вам сдаст в аренду без всякой совести. Вы поясок затянете, а у него пузо — хоть кадриль на нем танцуй! И — от зерна. Даст он вам ссуду и в кабалу затянет. И — от коней, и от плуга. Вам это на срок надо, а платить нечем. И знай себе работаете на кулака исполу. А ему что! Барыши на костяшках подбивает и посмеивается: не перевелись, мол, на Руси круглые дураки! Но не бывать этому! Коммуна — кулакам смерть!..
Хорошо сказал Голощапов. И все сладилось, точь-в-точь как решила ячейка.
На барский двор свели скот, что угнали в ночь погрома. Под одной крышей собрали и косилки, и сеялки, и молотилку. И всю барскую землю сбили в один клин. И луг стал общим.
Кулаки еще посмеивались, но язык прикусили. И те, кого считали середняком, хоть и не шли в коммуну, а болтать понапрасну перестали. Коммуна стала жить.
Стала жить и новая школа. И старый Евсеич прозвонил на первый урок. Все предметы распределили ладно. Голощапов взял историю. И в первый же день рассказал ребятам, почему деда Лукьяна кличут Аршавским.
Молодой солдат Ладушкин — из крепостных у господ Булгаковых — отбывал службу в Царстве Польском. А в те дни вышла заварушка против русского царя: задумали поляки отделиться. И руководил восстанием Ромуальд Траугутт — подполковник саперных войск и человек большой храбрости: вместе с графом Львом Толстым и с другими служивыми оборонял он героический Севастополь от французов и англичан. И в августовский день 1864 года расстреляли на глазах у деда Лукьяна этого смелого человека во дворе Варшавской цитадели.
Вот дед Лукьян и вспоминал о Варшаве. Чаще-то он говорил про чугунный Александровский мост, где в день
святого Иоанна проходило народное гуляние, а девушки бросали венки в широкую Вислу, гадали про жениха. Говаривал дед и про красивый саксонский сад, и про Уяздовские аллеи, куда солдат не допускали, и про памятник королю Сигизмунду Третьему. Король этот почти на тридцать аршин возвышается над землей на грузной мраморной колонне и держит в руках католический крест и огромную саблю.
— А мне дед Лукьян открылся на днях: «Жалко, — говорит, — того офицера, все его помню. В очках он, росту складного, и усики длинные, и принял он смерть храбро. Таким его и во сне вижу: стал к стенке — без мундира, в белой рубахе. И сказал тихо: «Умираю за родину, за свободную Польшу!» И дали по нему залп. Я даже заплакал с обиды. Такой человек! За лучшую долю бился, и — на-поди! А унтер услыхал и сунул мне кулаком в шею: «Не распускай нюни, дурак! Царева ворога прикончили, а он рассопливается!..» Вот вам и наука, товарищи: в каждом деле ищите исток, ищите причину. Чудеса канули в Лету. И история — это не описание жизни царей, а картина великой борьбы народов. И борьба эта жестокая, кровавая. И неизбежно приведет она всех людей земли к победе мировой коммуны!..
Ботаника, зоология, геометрия и алгебра отошли к дяде Саше. Он чаще других учителей бывал в классе, рассказывал живо, и это очень нравилось.
Литературу вела Клавдия Алексеевна. И словно занималась тем, что открывала у писателей всякие новые тексты. Так узнали ребята, что у Некрасова есть «Железная дорога», и без всякого понуждения выучили ее наизусть. И про Льва Толстого услыхали новость: отлучили его попы от церкви за роман «Воскресение».
По гигиене рассказывала Софья Феликсовна, и все напирала на чистоту и приглядывалась к ребячьим рубахам, боялась увидеть вошь.
Пение и всякие внешкольные кружки Голощапов поручил Митрохину. И вот уже притерлись друг к другу ученики единой трудовой школы и надумали выпускать рукописный журнал.
Дядя Саша носился со своим эсперанто и написал про этот язык статейку. Димка мечтал о весне — зима страшила все больше и больше — и при свете моргасика целый вечер сочинял, как волнует его душу приход тепла и света, когда веселые девчата бегут собирать подснежники. И среди них — кареокая девочка с русой косой.
Настя теперь сидела на парте с ним рядом. Она не сомневалась, что написал он про нее, и мигом заучила первую строфу:
Вот и весна! Над рекой полноводной
В воздухе мирно летят журавли.
Память о долгой зиме и холодной
Только в оврагах осталась вдали.
Колька намалевал, как дюндик Малининский, тайком от голодных учеников, наспех в уборной пожирает большой белый каравай.
Дюндик и сын мельника напирали, что надо назвать журнал «Юность». И, мол, красиво это и по существу. Не старики ведь! Им потакал Митрохин.
Девочки пошептались, и Настя сказала:
— Вот невидаль! Юность — это у всех, кто еще не взрослый. И у барина была такая пора в жизни и у благочинного. А дед Лукьян? Мы его стариком привыкли видеть, но и он был мальчишкой. Только жил совсем иначе, чем барин. И юность была, да не та. А у нас и совсем по-другому. Вы не смейтесь, а мы с Асей и с Полей договорились: назвать надо «Красная молодежь».
Так и решили.
Но не успела Ася переписать журнал набело, все в классе пошло прахом.
Кто занес эту проклятую испанку? Ни у кого и в голове не было. Вновь запахло можжевельником на размякшей предвесенней дороге, и на колокольне каждый день стал уныло звонить щербатый похоронный колокол: бом… бом… бом!
Раньше других слег Игнатий Петрович Голощапов. Ездил он в Сухиничи, получил для бесплатных школьных завтраков два мешка овсянки и бочонок повидла. А по пути сделал остановку в Колодезях: взял на бывшей бойне фон Шлиппе коровьи хвосты.
Хотел отведать, что за суп из этих тощих хвостов, да не успел: разморило его, раскинуло пластом. И стал он бороться со смертью.
Увела к себе больного дядю Сашу бесшабашная Аниска. Попоила три дня мятным отваром своего любезного и свалилась на лавку, неподалеку от него.
Почти без дыхания пролежала семь дней Клавдия Алексеевна и теперь двигалась по просторному дому с еловой палкой: что-то повредила у нее в ногах злая болезнь.
Софья Феликсовна забрызгала полы и парты карболкой и навесила на школьной двери большой замок. Видели ее то в селе, то в деревне по соседству. Появлялась она то в одной хате, то в другой и говорила с больным сквозь марлевую тряпку, которая закрывала ей рот и нос. И всем ребятам велела она жечь дома можжевельник, на улицу зря не выбегать, перед сном запихивать в нос ненадолго дольку лука или чеснока: лекарств в больнице не было.
Но Димке не пришлось сидеть дома: тяжело слег дед Лукьян. Вместе с Колькой отпаивал он деда липовым отваром, менял на нем мокрые рубахи.
Девять дней и ночей провели друзья у изголовья Лукьяна Ладушкина: жгли можжевельник, палили лучину. И когда затихал дед, напеременку читали романы слепого Жюля Верна и хоть на миг уносились мечтой к далеким планетам и совершали неближний рейс в подводное царство.
Но пришел на порог благочинный, начадил по всей хате кадилом, привычно сунул деду в иссохшие, почти неживые руки тонкую восковую свечку и забормотал молитву. С этим и отошел Лукьян Анисимович в тот страшный и загадочный мир, «где несть болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная».
Раскопали ребята заступом мерзлую землю рядом с могилой деда Семена, сколотили домовину из сосновых горбылей. И вырос на кладбище маленький холмик, едва прикрытый мокрым, грязным снежком.
— Не могу! Убегу! — Колька глядел на Димку стеклянными глазами, стиснув виски ладонями.
Через неделю слег Димка. Разломило ему руки и ноги, песком засыпало глаза, тисками сдавило лоб. А по ночам стали набегать кошмары: тянул к нему костлявые руки дед Семен из-под крышки гроба, что-то шептал в ухо дед Лукьян. Отцу оторвало голову снарядом. Мать почему-то прыгала по кухне на одной левой ноге. Колька сделался, как студень, лег на печку и — высох. А у Сережки раздуло живот, как у того буржуя на стрельбище. И ходил Сережка на тонких ножках и бахвалился:
— А я Димку съел. Все равно ему не жить!
Димка метался по койке и все хотел куда-то убежать.
— Пустите! Пустите! — скулил он. — Я хочу к звездам!.. Мамочка, ты здесь?.. Колька, где Колька?
Мать или Фекла держали его за потную руку и прикладывали к голове влажный рушник. Сознание возвращалось, и очень хотелось спать, спать. Но снова наваливались кошмары, и ему надо было бежать, бежать, лететь, ползти, плыть.
— Где Колька? — вскидывал он голову над подушкой.
Значит, думал он, что куда-то подевался Колька, когда похоронил деда. А Колька и впрямь пропал: закрыл хату и ночью ушел. Мать нашла утром записку под дверью: «Не судите меня, мама Анна. Хоть до весны не буду вам в тягость. Димушку поцелуйте: так мне без него тяжко. Ваш крестник
Колька».
Безрадостным было возвращение Димки к жизни: Колька сбежал, и след его затерялся. А два дня назад умер Потап.
Димка сидел дома один, на конике, у окна, где пивал чаи дед Семен, и глядел, как все село шло за красным гробом большевика.
Благочинного не позвали. Он стоял, стоял возле церковных ворот — в золоченой ризе, в камилавке — и провожал процессию долгим взглядом. А потом махнул рукой, подошел к длинной веревке похоронного колокола и зазвонил.
Потап не жаловал благочинного, но говаривал не раз:
— Коли не пришло еще время гнать попа в загривок, пускай этот сидит. Все других-то лучше: не ярыжка, не запивоха, не фискал, не трус. А коммуну развернем — и прикончим тот уклад, что дает жить церкви и ее служкам… Точка!
И благочинный не любил Потапа, а звонил оттого, что не хотел отстать от людей. Ведь им была отдана жизнь кузнеца — без всякой корысти, с пламенем сердца. И от всего-то старого режима и от новой должности осталась у его Ульяны только черная персидская шаль генеральши, взятая в ночь погрома. И в этой шали Ульяна шла в слезах за гробом, уронив голову на плечо Димкиной матери.
И люди не скрывали слез: с покойником словно отходила в дальнюю даль их большая мечта про коммуну — Потап ее создал, а от плодов ее не вкусил.
Димка не плакал: сердце его очерствело. Он глядел, как тянется след можжевельника за Обмерику, и молча горевал о Потапе. И вдруг со страхом подумал о Кольке: «Где ты? Куда унесли тебя ноги? Зачем без тебя такая тоска! И отчего бывает так дорог другой человек?»
Никогда раньше он не думал о дружбе: Колька был под рукой, им не грозила разлука, жизнь, как бы она ни шла, казалась полной.
Но ведь сейчас рядом Настя. Чем плохо? В любовь не крутит, на парте — обочь, видеть ее — всегда радость. И она будто знает об этом: нет-нет да и пройдет мимо окон и приветливо помашет рукой. И хорошо, что она есть, а — не то, не то! И Филька и Сила дружки с самых малых лет. Только шепни им, мигом прибегут под окно. Сила будет строить смешные рожи, а Филька сыграет на своей жалейке. Не плохо. А все же не то! С Колькой не ровня. Нет его, и словно руку отняли напрочь!
И что в нем такого? Выдумщик, это да: так повернет все, до чего другие-то ребята и не додумаются. Псаломщика в один день выжил — шарахнул по уборной из шомполки; щиты разрисовал для стрельбища, и Потапу это было в радость; и эту первую клятву над угольком придумал: «Победа или смерть»! И всегда с ним весело. И слушается, и доверяет, и ни в чем не отстает. А по алгебре и Димку зашибает, и Асю, не гляди, что та ночи не спит и все задачи решает. Ох, уж эта Басенко-Попотенко! И догадлив: едва рот раскроешь, а он уже понял. Здорово! И предан до гроба. И приветлив, и ласков.
«Значит, любит он меня, да и я так же, — размышлял Димка. — И мы с ним как две руки, как две ноги, как два глаза. И ничего, что по виду разные: он и похрупче, и почернявей, и телка ему волосы на лбу зализала. А на самом-то деле и разницы нет! О чем я ни подумаю — ему скажу, и он — так же. И все у нас едино. Может, в этом и есть наша дружба?.. Но где ты, друг?..»
А благочинный звонил и звонил. И в этом надсадном звоне было что-то в память о Кольке.
Димка кинулся на койку, закрыл уши ладонями и на мокрой от слез подушке не скоро забылся тревожным сном.
Колька вернулся весной, когда пролетали на север гуси и журавли, набухли почки у черемухи, заскрипели на все лады пестрые скворушки. Он пришел прямо к Шумилиным, в час уроков, и Димки не было дома, и положил на стол маленький сверток. Он похудел, заветрился. В глазах у него мать увидала и грусть, и суровость, и больной, лихорадочный блеск. И сидел перед ней не мальчишка, а человек бывалый, с людским горем близко знакомый, и не спеша отхлебывал кипяток с блюдца и как мышонок — дробно и громко — грыз сухарик.
Мать с Феклой и Сережка с большим трудом тянули из него слово за словом.
— И куда же ты закатился?
— На Украйну, под город Ромны. Харчей хотел разжиться. У кулака зимой волов стерег, а как весна пришла — пахать стал. Потом гайдамаки пришли: головорезы, все во хмелю, стреляют куда ни попало. Шаровары на них синие, в руках — нагайка, на бритой голове — оселедец. Думаю: «Не по мне это». Ночью насыпал пуд гречки в рубаху — не украл, за работу взял — и пошел: мимо двух станций, прямо до Бахмача.
Мать что-то вспомнила, покопалась под занавеской на горке, где стояла посуда, нашла в картонной коробке завалящий сахарный огрызок, подала его Кольке. Он откусил крошку, отодвинул сахар Сережке.
— Три дня шел. Ну, побирался. Где блин дадут, где молока с сухарем вынесут. У одной бабки спал ночью. А просыпаюсь перед рассветом — на соломе теленочек рядом, рыжий, с белым боком, ласковый такой, по щеке меня языком лижет. Добрался до Бахмача, на чугунку сел: на крышу в товарном вагоне. Пояском к трубе привязался, чтоб где не скинуло. А народу кругом — будто мухи на каравае: и на буферах, и на подножках, и на тормозах. Ничего люди не боятся. Виснут, только что зубами за крышу не держатся! И со мной рядом — один на одном — ногу протянуть негде. Тронулся народ с места. Знамо: подыхать-то с голоду неохота! Всяких баек понаслушался. И за советскую власть и против. Кто хвалит и вроде надежду держит, а кто клянет, как мы Петьку Лифанова. Понять ничего нельзя… На другой день стали подходить к городу Глухову. Разогнался наш паровик под уклон, спасу нет, а рельсы-то… и разошлись. Ну, и стал он прыгать по шпалам, передние вагоны на паровик полезли и повалились с ним под откос. А сзади вагоны сдавились, как гармошка. А мы в середке были, и нас с крыши — как блин с лопаты: через голову, за насыпь и — прямо в болото.
Сережка так и застыл на месте. У Феклы повлажнели глаза. Мать не скрывала слез. А Колька говорил и говорил.
— Крики, прямо сердце разрывается, кровь. А одну старушку буферами насквозь продавило: глаза у нее вылезли, язык повис на сторону. Как сейчас ее вижу. Собрал комендант живых мужиков и говорит: «Давайте могилу копать, братскую. Всех в нее захороним, навалом». А мне велел рядом с ними идти. И записали мы всех, у кого паспорта были или бумаги, какие ни есть. Сто сорок четыре человека вышло, да еще ребятишек пятеро, и одна девочка. Схоронили мы их. Разрешил комендант варить картошку в котлах. А она в крови, и я ее есть не стал. Сел в сторонку: сердце горит, людей жалко. И об себе думаю: зря ты старался, Ладушкин. Пропала твоя гречка. Окликнул меня комендант: «Что зажурился, аршинник калуцкий? Вез чего?» — «Гречку, — говорю. — С пудишко было». — «Не нашел?» — «Нет!» — «И дома не густо?» — «Ага!» — «Плохи твои дела. И рубахи нет?» — «В рубахе гречка была». — «Погодь, я свою дам». И снял рубашку. «Залезай под вагон, набери там проса, все равно воробьи поклюют». Ну я и набрал вот… Пойду домой, пожалуй, что-то знобит.
Но его отпустили не сразу Фекла снова согрела самовар, велела ему раздеваться. Он застеснялся: так и вымыли его в подштанниках.
После уроков побежал Димка к Ладушкиным и — ужаснулся: Колька — в жару и в поту — без памяти валялся на лавке.
Позвали Софью Феликсовну. Она увидала красные точки на Колькиной груди, подняла переполох:
— Сыпной тиф! Беда, люди, беда! Еще хуже испанки. Сжечь все его тряпки, в чем домой вернулся. Димку с ребятами в хату к больному не допускать!..
— Хоть бы рыбки наловил, Димушка. Все бы подмога, — сказала мать, когда Колька пошел на поправку.
Но думала она не только о крестнике. Димка совсем отощал. Сделался он, как легкий трухлявый пень, и каждую неделю колол шилом новую дырку в ремне — не держались штаны на бедрах. И Сережка стал плохой: длинная цыплячья шея торчит из ворота, и личико совсем усохло — у Феклы ладонь больше. Ремня он не носил, и мать, вытирая украдкой слезы, переставляла ему пуговицу на поясе, чтоб не потерял он штаны на улице. И все его одолевали сытые сны.
— А я нынче корочку в сметану макал, — говорил он утром, давясь за столом сухой картошкой без соли.
А крючков, чтоб рыбу добыть, давно не было. Придумал Димка ловить пескарей на погнутую булавку. Так это пустая затея: и клюнет пескарь, да сорвется. Из ряднины сделал наметку на обруче, кинул ее на длинном шесте в быстринку. Да нешто пескарь дурак? Обойдет стороной, вот и весь сказ. Сухарик бы привязать, это дело: набилась бы рыбы хорошая куча. А где он, сухарик-то? Димка и сам бы его съел, пескарям не стравил.
И опять надоумил Колька.
Вышел он в конце мая: погреться на солнце. Дедова посконная рубаха ниже колен и черные штаны прикрывали кожу и кости. На лице его, на руках и на босых ногах выпирали все тонкие синие прожилки. Глаза сделались большие-большие: они словно потемнели и ярко блестели.
Димке стало страшно.
— Чего зенки-то пялишь? Живой я. Только ты совсем про меня забыл, — с упреком сказал Колька. Он зябко повел плечами и сел на завалинке лицом к солнцу.
Димка вскипел.
— Так не пускали, дурья голова! А я кажин день под окном ходил.
Колька улыбнулся, протянул худую руку, облизнул сухие губы.
— Верю! А пошамать у тебя ничего нету?
— Яйцо хочешь? Снесла нынче курица. Сейчас сбегаю.
— Давай.
Димка сбегал в кладовку. Колька острым зубом пробил в скорлупе маленькую дырочку, долго тянул сквозь нее сырой желток, рукавом вытер мокрый рот.
— Страсть как рыбки хочется. Ловишь чего?
Димка рассказал о своих неудачах.
— А помнишь, как дед Лукьян советовал? «Вы, — говорит, — запруду сделайте. Из дерна». Ночью голавли на мель выходят: пескарей ловить, лягушат. Ворота в запруде закрыть щитком, вот тут-то и похватать голавлей руками.
После полудня Колька с Димкой взяли с собой Сережку, прихватили две лопаты и пошли луговой тропкой к дальним бочагам, где под кустами всегда видели в погожие дни лета маленькие стайки голавлей.
Работали на речке долго, почти весь день. Колька совсем обессилел и разлегся на траве, а Сережка действовал с огоньком: он еще верил, что возьмет его Димка ночью с собой.
Эх, и ревел же он вечером, когда Димка с Колькой ушли без него!
Ребята устроились на крутом берегу Омжеренки, на сухой хвое, где не было росы. Молча глядели на далекие звезды и слушали: не плескаются ли голавли на перекате?
Урчали и квакали лягушки, под берегом проносились летучие мыши, меж ветвей бесшумно пролетел козодой. Журчала вода ниже запруды, кто-то плескался в бочаге под кустами, глухо ухал в болоте «водяной бык». Было жутко, и весело, и жарко: а придет ли удача?
— Чу! Слышишь? — шепнул Колька. — Голавль сиганул!
— Лягушки! Их тут больше, чем голавлей. Ишь, распрыгались!
— Да нет! Голавль. Слышишь? Вот те крест!
Димка прислушался: а ведь и впрямь не лягушки! Он схватил щиток, толкнул Кольку с бугра и побежал к воротцам в запруде.
Теплая вода обдала его с ног до головы. Но он и не думал про то, что вымок, — торопился перехватить рыбу, пока она не юркнула в бочаг.
А Колька уже шуровал на мели среди мокрых камней.
— Вот он! Вот он! — кричал, и падал в лужу, и хватал голавля. — На, кидай на берег, да подальше, слышишь? Эх, по ноге чирканул! Беги сюда, не зевай!
И пошла веселая работа! Невзначай и лбами сшибались, и наступали друг другу на босые ноги, и хватались за пальцы. И уж так спешили! А успели поймать мало: запруда рухнула.
Колька стал собирать в сумку толстых, лобастых голавлей и перекладывал их влажной от росы травой.
— A-а, лобачи, догулялись! — нежно приговаривал он. — Дед правильно говорил: будем теперь с рыбой! Денька через два опять сюда придем. А завтра давай делать запруду в другом месте.
Но Димка не успел ответить: в селе что-то случилось — громко залаяли собаки, тревожно заржали кони, протяжно затрубил горнист. И далеко-далеко отозвалось ему эхо в ночном лесу.
— Побежали! — Колька отдал сумку, но с места не сдвинулся. Схватил Димку за руку. — Да не могу я бежать, — он задыхался от волнения. — А ты меня бросишь тут! Од-но-го!
— Что ты, что ты! — Димка успокоил друга и повел его к селу.
Впереди ребят на горе, справа от церкви, золотым и алым пологом раскинулось зарево. Но набатный колокол молчал. Кто-то властно подал команду, все стихло, и сейчас же над селом полилась песня.
Слов не было слышно, но песня была хорошая: спокойная, с длинным протяжным концом в каждой запевке, не военная, но призывная, смелая.
— Новая! — сказал Колька, медленно выбираясь в гору. — Эх, опоздали!
Возле дома встретил их Сережка — в Феклиной вязаной кофте до колен.
— Солдат полным-полно! — крикнул он. — Красноармейцы! С пушкой! Ужин варят у пожарного сарая. И сейчас про попа пели: «Ни поп, ни царь и не герой…» Ну как? Поймали?
Димка велел ему бросить сумку на крыльцо и позвал с собой на площадь.
Остро пахло там лошадьми, а еще сильней пшенной кашей. Вдоль всей ограды, один к одному, стояли кони и, уткнув морды в белые торбы, жевали и фыркали. А бойцы сидели группами, и рядом с ними поблескивали в козлах штыки на винтовках.
Филька, Сила и другие мальчишки уже кольцом сидели подле ночного костра. А старики курили с бойцами: по рукам ходил кисет с махоркой и пожелтевший газетный лист. И вели спокойную беседу с пожилым усатым командиром.
Колька одернул рубаху и подошел к нему.
— Мы вот с дружком опоздали. А вы тут новую песню пели. Про попа, что ли? Нам интересно, — сказал, смутился и покраснел.
— Про какого попа? — удивился командир.
— А я слыхал, — выскочил к огню Сережка. — «Ни поп, ни царь и не герой!»
Командир, а с ним и все красноармейцы так и прыснули со смеху.
— Плохо ты слушал, карапуз, — сказал командир сквозь смех. — Попу далеко и до царя и до героя, и не про него эта песня. Мы пели: «Ни бог, ни царь и не герой!» Понятно?
Но не дождался ответа Сережки и крикнул:
— Харитоныч!
— Я!
Из темноты вышел паренек лет семнадцати с высоким шишаком на просторной буденовке, которая спадала ему на глаза и закрывала уши. На ногах у него еле держались ветхие опорки, перехваченные у щиколоток зелеными обмотками. Был он коренаст, широк в плечах. Ремень, портупея, даже кожаные наколенники — все на нем так и скрипело.
Он остановился возле командира с деревянной ложкой в правой руке и в упор глядел на ребят добрыми веселыми глазами.
— Собери этих дружков, Харитоныч, объясни им нашу песню. Они ее не знают. Да и про комсомол скажи, а то хлопцы, видать, как в темном лесу живут. Глухари калуцкие! Позасели в брынских трущобах, а жизнь мимо них идет!..
Харитоныч нагнулся, снова так и заскрипели на нем все ремни. Спрятал ложку за обмотку.
— Пошли, герои! — хлопнул он по плечу Кольку. И увел ребят в сторонку, усадил в кружок и два раза повторил слова новой песни.
— Называется «Интернационал», — сказал Харитоныч, глядя на Димку.
— Понятно, — ответил тот за ребят, но повторить это слово пока не решился.
— И с этой песней мы идем к Орлу, громить беляков. Споем?
Попробовали спеть хором — получилось сначала плохо, потом складней. За песней и за беседой обо всем забыли, словно и ночи не было!
Бойцы уже спали вповалку, подложив седла под головы, а Харитоныч рассказывал: и про войну, и про Ленина, и про комсомол.
— А где ж твоя ячейка? Ну, твой комсомол? — спросил его Колька.
— Далеко, Николай. Эх, далеко! — вздохнул Харитоныч. — За Невской заставой, в Питере. Да никого там теперь не осталось. Все ребята на конях, с саблей в руках. Гонят беляков по степи, из седла вышибают, всякую контру в расход выводят.
— И не скоро воротятся?
— А пистолет у тебя есть?
Вопросы так и сыпались со всех сторон, и Харитоныч едва успевал отвечать.
— Тише вы! — крикнул Колька. — Надо про дело спрашивать. А со скольких лет принимают?
— С четырнадцати.
— А нам по пятнадцати. Ну, с половиной, конечно, — он показал на Димку, на Фильку, на Силу.
Харитоныч буденовку снял.
— Пойдет!
У ночного костра Харитоныч оформил ячейку и на листке из тетради размашисто написал: «Протокол № 1».
— А кого председателем? — спросил он.
— Димку! Кольку! — закричали ребята.
— Ладушкина Николая, — твердо сказал Димка. — Я так думаю: надо того писать, кому жить тяжелей. Вот Колька и подходит. Сирота, все горе на себя один принимает. Да и выдумка у него есть. Нам-то за ним и не угнаться.
И Колька стал председателем. А Сережка давно спал у Димки на коленях, ничего не знал и не плакал, что его не включили в ячейку.
Утром, после сытной ухи из голавлей, Колька посвежел и готов был шутить.
— Удерем, а? С Харитонычем! Эх, и здорово! Шашку в руки, на коня, и гнать буржуев до самого Черного моря! И отца-то бы встретили. И дядю Ивана!
— И чего ты душу травишь! Я бы не прочь. А как же ячейка?
— Ну ладно. Привязал нас Харитоныч к дому крепкой веревочкой. Сил наберу, в город пойдем, в Козельск, протокол сдадим, билеты получим. А сейчас надо с бойцами прощаться.
Харитоныча нашли возле штаба, уже готового двинуться в путь. И пошли провожать за село. Он лихо сидел на горячем буланом коне; большой пистолет в деревянной кобуре висел у него, как колотушка деда Лукьяна. С этого пистолета ни Колька, ни Димка не сводили глаз.
Расставаться с новым другом было тяжко: как-то сразу, в одну короткую и теплую летнюю ночь, навсегда вошел он в ребячью жизнь.
Колька, с трудом переставляя ноги, тащился по дороге, держась за стремя.
— А ты что-то слаб, председатель! Еле идешь, — сказал Харитоныч, придерживая коня. — Болеешь, что ли?
— Тиф был, только с лавки поднялся.
— И жрать, конечно, нечего?
Колька промолчал, отвел глаза в сторону.
Харитоныч остановил коня и подождал, пока не подтянутся подводы обоза. Взял с тачанки две черствые буханки хлеба.
— Это вам, хлопцы. Больше у самих ничего нету. Хлебушко, хлебушко! Из-за него и воюем. И за счастливую долю таких ребят, как вы, за большую радость в жизни. Ну, прощайте, друзья!
Он почему-то шмыгнул носом, провел по глазам тыльной стороной ладони, махнул рукой и пришпорил коня.
…А солдатские буханки мать подсушила. И, по сухарику в день, ели их почти целый месяц.
 ЮНОСТЬ НОВОГО ВЕКА
ЮНОСТЬ НОВОГО ВЕКА
ТРОИЦЫН ДЕНЬ
С зеленым шумом проходила весна: ранняя, дружная. Она была как невеста в брачном наряде и красовалась черемухой, ландышами, сиренью, жасмином.
У Шумилиных на столе стала появляться рыба. Фекла и Сережка собирали в Лазинке молодой щавель для свежих зеленых щей. И однажды мать устроила пир.
Каким-то чудом сохранилась в пустой кладовке на дне кадушки свиная шкурка — маленький засохший кусочек, с листок отрывного календаря. Давно были срезаны сало и мясо с этой шкурки. И напоминала она подметку, только с изнанки была золотистая, ржавая, в крупинках соли, а сверху — коричневая и вся в коротких жестких щетинках.
Мать обрадовалась находке. Она разделила шкурку на дольки, варила их в печке с утра до обеда. Потом заправила слегка соленый бульон картошкой и молодым щавелем, и получились такие щи, с которых Колька пошел на поправку.
Помалу он набирался сил. Ночью, как и Димка, видел сны про соль, про селедку. А днем горевал, что не с чем идти в Козельск за билетами.
— Так вот и сунемся туда с одним протоколом? Да засмеют нас люди?! Кругом-то все стараются, про што-то думают, а у нас башка совсем пустая. Ну, скажи, Димушка, как нам быть? Как нашей ячейке жить?
Гадали по-всякому, а придумать ничего не смогли: и примера не было и помощи со стороны никакой. А Кольке хотелось свершений. И чтоб дела были геройские, всем на диво: вишь, мол, как рвутся в бой комсомольцы.
Но скоро дело нашлось. Простое и маленькое. И указало оно, как в серых буднях, день за днем, надо с огоньком в душе помогать взрослым.
Откатилась испанка, унес в могилу родных и близких сыпной тиф. А кто живой остался, не упал духом.
Стешка — бритая наголо после тифа, в синем бабьем повойнике на голове — заправляла делами в Совете вместо Потапа. Кулаки кляли ее и украдкой грозили прикончить, но на расправу идти боялись. Был у нее правой рукой Витька и ходил он с пистолетом в кармане. Хотел в добровольцы податься — не пустил Голощапов: как-никак, а всего один парень на селе, и в понятие он вошел не плохо. Да и Степаниде Андреевне без него — ни в какую. Похудел он и — то ли с досады, то ли для форса — отпустил русые усы. Правда, росли они не дружно: где кустами, где плешинами. Но ребятам и такие усы были в зависть.
Голощапов ведал партийной ячейкой. И все напирал на то, чтоб народ в селе был грамотный.
Клавдия Алексеевна, Истратов и Анна Егоровна собирали по вечерам молодых солдаток, невест, старух и стариков. Перезрелые ученики, стыдливо усевшись за парты, поскидав платки и шали, с натугой, но прилежно водили заскорузлыми пальцами по букварю и хором складывали слова: «Мы не рабы. Рабы не мы». А когда они уставали, появлялся Митрохин, двигал ногами, сидя за фисгармонией, и для отдыха разучивал с ними революционные песни.
Димке Голощапов сказал однажды:
— Ваш председатель зимой был в бегах. А на другой год оставаться ему в классе нечего. Паренек головастый, к ученью прилежный. Покажите-ка, чего стоит ваша дружба. Готовьте сообща Кольку, будет ему осенью экзамен.
С этого и началась жизнь ячейки. Димка требовал от Кольки отчета по литературе и по истории, Настя — по математике и по физике, Сила — по ботанике, Филька — по зоологии. Колька старался как мог, и дело пошло неплохо.
Но самой большой заботой Голощапова была коммуна.
Ранней весной зашел он к Шумилиным, долго пил кипяток с сухарем, спрашивал про отца и про дядю Ивана, которые воевали за Волгой в дивизии Чапая. Вспомнил и про деда Семена — как раз по нему справили годовщину. Потом взял в руки свою скуфейку и вдруг предложил:
— Придется и вам стать большой хозяйкой, Анна Ивановна.
Мать насторожилась, вскинула от стола испуганные глаза.
— Муж, брат и свекор для народа старались, подошло и ваше время. Будете коммуной руководить. И не отказывайтесь. Точка! Ведь именно так говорил покойный Потап Евграфович.
— Нет! Что вы! Увольте, Игнатий Петрович! Да у меня же дети. Трое. И сад, и огород, и лошадь. Не успеваю за день по дому управляться. Да и какая из меня хозяйка? Всю-то жизнь стояла за спиной у свекра, царство ему небесное! Не смогу, Игнатий Петрович. Никак не смогу!
— Решено это, Анна Ивановна.
— Ой, лихо мне! И бабы-то пошли такие разбитные! А я и слова дерзкого сказать не умею.
— А к чему оно? Лаской-то куда лучше. За это вас народ и любит.
— Вот бы Аниску, — уже без всякой надежды сказала мать. — И помоложе она и на язык бойкая.
— Куда ей! Она сейчас вся в любви. Да и малыша ей надо ждать. Досидела девка до своего часу, пускай семью строит. Без этого тоже нельзя. А вам бояться нечего. Мы все рядом и без поддержки вас не оставим. Да и время пришло такое, что каждый хороший человек должен сверкать, как новая монета. Глядите, как Степанида Андреевна развернулась! А ведь за ней всего три класса приходской школы! И к гадалке она бегала, когда ее в комитет бедноты выбрали. У вас же и грамотность есть и понятие по хозяйству. И Алексей Семенович так мечтал о коммуне, надо ему радость сделать.
Голощапов встал, подал руку.
— Эк, я у вас засиделся!.. Ну, в добрый час! Так завтра и выходите. Коммунисты про то знают и в обиду вас не дадут…
Мать всплакнула на плече у Феклы. А потом раскрыла сундук, достала черное платье, в котором раньше ходила сдавать грехи благочинному, ситцевый белый платочек с цветами вдоль кромки, полсапожки — праздничные, не для каждого дня, повертелась перед зеркалом в горнице и пошла — суровая с виду, степенная — в барскую людскую. Там для нее поставили стол с чернильницей, положили с правой руки дубовые счеты бывшего управителя Франта Франтыча, на которых он подбивал в конторе генеральшины барыши, и три тетрадки для всяких записей.
Трижды бегал за ней Сережка — все звал ужинать. А она сидела, тесно окруженная бабами, и все отнекивалась. И вернулась по темному, уложила всех спать, а сама запалила моргасик и долго чертила на большом листе бумаги полевые делянки за Долгим верхом.
И утром не было ее за столом: до рассвета запрягла она Красавчика в тяжелый барский плуг, прозвонила в звонок на усадьбе. И потянулись за ней пахари — в поневах, ситцевых юбках, стариковских посконных рубахах, в штанах с широким огузьем. И повели за ней по борозде: под ячмень, под просо. И ходили все пять дней — без окрика и дерзкого слова, пока не засеяли клин, для которого хватило семян.
Как-то вечером мать собрала семейный совет.
— Мальчики, слушайте меня хорошенько! — строго сказала она.
И Димке почудилось, что разговор ведет совсем другой человек, только по облику схожий с матерью.
— Завтра уходит на работу и Фекла: для общества, для коммуны. Вы останетесь одни. Печь буду топить я, все другие дела — на ваших плечах. Димушка будет за старшего. Хату не спалите и Сереженьку не обижайте. Я надеюсь на вас.
На заре, по росе, снарядили Феклу в пастухи: дали в руки рожок и Антонов длинный кнут — старый добротный витень с черным волосяным концом. Это было не по правилам, как и в тот раз с Витькой, когда прогнали взашей продажного Кондрата: пастуха надлежало брать из чужой деревни.
Но обычай соблюли: в кучу сбили на площади стадо, сами хороводом окружили Феклу — она зарделась от доброго внимания веселой, говорливой толпы — и трижды качнули, чтоб не дремала при серьезном и важном мирском деле.
Мать навесила Фекле через плечо закапанную чернилами Димкину школьную торбу, сунула в нее горшочек с горячей картошкой, бутыль молока и последний сухарик от двух солдатских буханок.
Фекла поклонилась народу на все четыре стороны, сильно дунула в рожок. Коровы услыхали призывный звук и, сшибаясь боками, поддевая друг друга рогами, мыча и отфыркиваясь, привычно пошли мимо церкви под гору — к зеленому выпасу в Лазинке.
Мать ушла со своими подружками — сажать картошку на бугре возле ветряной мельницы.
Димка взялся домовничать.
Сережку приставил к легкому делу: кормить кур, стеречь цыплят, носить дрова, гонять грачей и воробьев с огорода. А сам колол поленья, таскал воду в ушат, сушил на заборе зимние вещи, драл лыко, рубил солому сечкой и мешал ее с сеном — для Красавчика. Кольку не задевал: тот сидел с утра до вечера зубрил и отвечал на вопросы своих учителей. И только в сумерках дозволялось ему покопаться в огороде на грядках или сбегать с Димкой к запруде за голавлями.
Но и этот порядок нарушила мать.
— Сказал мне Игнатий Петрович — объявились в селе комсомольцы, — она выставила на ужин дымящуюся картошку и с хитрецой поглядела на старших мальчишек. — А какая от них польза?
— Мы и сами не знаем, — чистосердечно признался Колька.
— Чего плетешь-то? Бороться будем! — вставил Димка.
— Промеж себя, что ли? — удивилась мать. — Это и без комсомола можно. Помнится, с самых пеленок, как только ходить стали, все у вас борьба да баловство. А я так скажу: надо с народом тесней жить. Пора! Вот мы и решили в коммуне: отдам я вам огород за речкой, где вы у генеральши редиску воровали. Бригадиром будет Истратов. И для вашей ячейки особая статья: поднять всю ребятню да и вырастить для школы овощей на всю зиму. Плохо ли? И сами все на деле постигнете и малышей сгуртуете. И нам всем в радость — с голодухи в зиму не опухнете.
— А как же Колька? — спросил Димка.
— Ума не приложу.
— Э, да я двужильный! Где не досплю, где побыстрей соображу, а уроки не брошу!
— Ну, давай, давай, председатель! — улыбнулась мать.
В герои комсомольцы не вышли! В долгие-то ночи чего не передумали: и к Буденному убежать хотели — на буланом коне скакать да в расход беляков пускать. И мерещились им степные дали: седой ковыль под копытами, могучий орел в чистом небе, белые курени под соломенной крышей и вишневые садочки над глубокой и длинной балкой, — здорово рассказывал о них Колька. И представлялись им города, опаленные солнцем юга; в ушах свистел ветер и победно звучал боевой сигнал. И беспокойно спали они у походного костра, придерживая рукой пистолет у пояса — в деревянной оправе, точь-в-точь как у Харитоныча. И в мечтах видели последний и решительный бой: ржут взмыленные красные кони у взморья, злобно грызут удила, бьют подковой в песок, в гальку. А всякая контра, которую не успели порубать советские бойцы, захлебывается, тонет на глазах в глубокой и страшной сини беспокойного Черного моря!
Думали, мечтали о подвигах, а пришлось взяться за плуг. Да привезли и раскидали по огороду сорок бестарок навоза, по шнуру навели грядки и стали бегать на речку с лейкой, полоть сорняки, давить гусениц.
И день сделался такой загрузный, не знали, где и уронить голову: то ли дома, то ли на соломенной подстилке в летнем домике огородных сторожей. Чаще спали на огороде: упадут, пошепчутся, только глаза заведут, ан уже утро. Истратов плещется над рукомойником и мурлычет свою любимую песенку: «Ля мико нио рондо, а клаву эль баталь». Значит, снова подъем, и снова день забот. И к ночи все в поту — в липком и в едком, — и никак не смоешь его в речке без мыла.
Кольку по пустякам не дергали. И скоро Истратов стал спрашивать его по своим предметам и остался доволен. Как-то пришел в сторожку Голощапов. И ему Колька ответил складно. А Клавдия Алексеевна велела написать сочинение на вольную тему, и он рассказал в нем, как Харитоныч создал ячейку.
Димка был рад за Кольку: перешел он, пошла ему впрок помощь друзей. А тут и страда кончилась — приставили к огороду Сережку и его приятелей. И они помалу обхаживали морковь и свеклу, капусту и огурцы, бобы и тыкву.
Одно дело на время отошло, другого еще не было. Надоумил Демьян Бедный: не гулял он, старался и написал веселые куплеты «Поповской камаринской».
Возвращались с огорода, не раз горланили ребята под окном у благочинного:
Срежу косу, сбрею бороду,
Молодцом пройдусь по городу,
Поступлю — лицо ведь светское! —
В учреждение советское.
Но особенно весело было кричать про то, как поп-расстрига ластится к попадье и сулит ей всякие мирские блага:
Будет вновь у нас и масло и крупа.
Поцелуй же, мать, в последний раз попа!
Дурачились во весь голос, а благочинный поглядывал из-за фикуса, посмеивался в седую бороду.
— Осмелели, стервецы! Ну, погоди еще! Чья возьмет!..
— Досыть! — как-то вечером сказал Колька. — Не проймем мы благочинного этой камаринской, надо что-то поумней придумать. Когда будет троица?
— Через десять дней, — сказал Димка.
— Сбегутся ребята из деревень, драки не миновать. Кажин год идет бой. Вот бы мозги им вправить, а у благочинного в этот день народ отбить.
— Эк, чего придумали! Ты еще доклад сделай! — ухмыльнулся Филька.
— Нет, не сдюжу. А вот пьеску поставим. Ударит благочинный к обедне, а мы — тут как тут!
Димка сбился с ног, пока не нашел у Митрохина затрепанный том комедий Мольера. Никогда раньше не читал он пьес вне уроков: было это в диковинку. А комедии старика Жана Батиста Поклена проглотил одним духом и смеялся над ними до слез. Все они как на подбор: и веселья в них полный короб и на каждой странице ядреный народный юмор. А пришлось взять ту, что покороче, — «Доктор поневоле». В ней и героев поменьше, и в декорациях можно обойтись всего одной переменкой.
Поначалу — лес. Это проще простого: березок нарубить, и — ладно. И к троице это — в самый раз. Ведь все хаты в селе будут приодеты молодой листвой берез.
В лесу все и развернется для начала: Сганарель-дровосек раскипится, как самовар, разругается со своей Мартиной и для порядка отвесит ей палкой. И Мартина своего не упустит: найдет конец, подстроит муженьку хорошую каверзу. Будут мимо идти слуги богача Жеронта в поисках лекаря; она им и шепнет: Сганарель — всем врачам врач, только такой притвора, каких и свет не видал. «Станет отпираться, кричать, что сроду лекарем не бывал. Ну, тут уж берите дубинки в руки и бейте, пока не признается. Мы всегда так делаем, когда кто-нибудь занедужит».
А Сганарелю и невдомек, что из него вот-вот сделают доктора. Порубит он сучья, захочет глотку промочить, хлебнет раз-другой, а в бутылке и нет ничего. И запоет он с тоской свою грустную песенку:
Бутылочка, моя душа,
Как ты мила и хороша!
Беда с тобою лишь одна,
Что высыхаешь ты до дна.
Каким счастливцем был бы я,
Когда бы ты, душа моя,
Меня поила бы всегда,
Не осушаясь никогда!
Только он закроет рот, тут-то и нагрянут слуги. И отдубасят за милую душу, и заставят признаться, какой он чудесный лекарь, и уведут с собой к Жеронту. А у того притворно онемела дочка Люсинда: хочет замуж за бедного Леандра, а папаша прочит ей нелюбимого богача. Вот Сганарель и доведет все дело до точки: и лекаря представит так, что за живот хватайся, особливо в тот час, когда шпарит он по-латыни в глаза Жеронту: «Дурачентиус! Болваниссимус! Номинативо хаес Муза, Муза бонус, бона, бонум». И все устроит так, что вновь заговорит Люсинда и удерет из дому с любезным женишком Леандром.
Правда, Жан Батист Поклен — Мольер намекал, что надо бы в третьей сцене показать местность по соседству с домом Жеронта. Но Димка не согласился с автором.
— Э, да не хватит у нас духу еще на одну обстановку. И почему нельзя распутать всю историю в доме у Жеронта? Мы ведь не в городе? С нас и спрос не тот!
Так он и решил и стал распределять роли. Сганареля взял себе, Мартину отдал Насте — бойкая она и сумеет подраться еще лучше, чем думал Мольер. Слуги Жеронта — Валер и Лука — отошли к Кольке и Фильке. Конечно, Филька гугняв, но это еще смешней. Немую Люсинду согласилась сыграть Поля, а ее жениха — Леандра — поручили Силантию. Витька пожелал представлять Жеронта. Две маленькие сценки с Робером, Тибо и Перреном — вычеркнули: комедия смотрится и без них. Но никого не было на роль бойкой кормилицы Жаклины.
— Асю бы можно, — робко предложил Колька и зарделся. Опасался, что станут болтать ребята про его любовь.
А обошлось хорошо: Димка послал Фильку звать Асю — за шесть верст, к лесничему, в глухой Брынский лес. И к вечеру Филька привел ее. А за суфлера — шептать из-за кулис — вызвался сам Александр Николаевич Истратов.
Через пять дней сшили костюмы — только для Сганареля и Жеронта: шаровары, как у запорожских казаков, и по широкой кофте — в желтом и зеленом цвете, как глазунья с молодым луком. И опять сгодились раструбные сапоги Голощапова: их надел Витька. А остальные играли в чем придется. Но не в лаптях и не в поневах, а возле колен, на локтях, на груди или на шее ловко пристроили кружева, бантики, оборочки и бумажные жабо.
И в троицын день, утром, когда народ удивленно и любопытно, но с опаской обходил щит, который оповещал о спектакле, и торопился в церковь, где благочинный облачился в белую парчовую ризу, Сганарель и Мартина начали потасовку в пустом зале.
Не совсем в пустом, конечно: на двух первых скамейках сидели впритык и жадно глазели на сцену ребятишек десять, не считая Сережки.
Димка отволтузил Настю и приказал дать занавес. Вышел к ребятишкам и сказал строго:
— А ну, марш на паперть! И без людей не возвращайтесь! Пошныряйте в церкви: такая, мол, идет комедия, что благочинный со своей службой и в подметки не годится! Живо!
И ребятишки постарались: привели человек сорок — и себе под пару и постарше. И снова началась на сцене несусветная потасовка.
После первого акта услали за народом всех зрителей. И второе действие — в доме у Жеронта — сыграли в переполненном зале. Люди гоготали. И веселый их смех летел в раскрытые окна, и кто-то еще торопился улизнуть с паперти.
— Человек двести, вот те крест! — успел шепнуть Колька, когда столкнулся с Димкой за сценой. — Скажи,
чтоб быстрей играли. Кончим пьесу, чайку попьем — и вдругорядь. Надо к нам драчунов затащить!
Не зря торопился Колька. После обедни верующие повалили из церкви на кладбище — поминать родителей блинами, кутьей, картошкой. И спокон веков об эту пору начиналось побоище.
Заводились с нудги мальчишки, как бесенята: где щипок, где подзатыльник, где подножка, где щелчок. Дальше — больше: деревенские — на сельских, те — на этих, и уже вокруг кладбища крики, плач и ошалелый визг.
За обиженных вступались ребята постарше. От троицы до успенья хороводы и всякие игрища под запретом, вот и была у них одна радость — дать кому-либо взашей, получить в ответ по сопатке. И пускали ребята в дело кулаки, пригоршни пыли, камни. И бой разгорался жарче.
А когда подростку из деревни или из села попадало за троих и он корчился от боли под ракитой или в крапиве, с могильных холмиков поднимались отцы и деды, забыв про блины и кутью. А если еще по семейному кругу успела пройти бутылка, драка превращалась в побоище. Мужики кидались по хатам за дрючком, за оглоблей.
Тогда-то и появлялась на поле боя местная власть: при царе — стражник Гаврила или староста Олимпий Саввич, при Керенском — подлюга Петька Лифанов, прошлым летом — Потап с Витькой. Кого-то волокли по пыльной дороге в каталажку — под замок, на старую, прелую солому, а кого-то отливали водой или несли в приемный покой.
А комсомольцы решили помешать этой исконной, варварской драке. И помешали.
Артисты разбежались по домам прямо в костюмах — перекусить на скорую руку. И сыграли комедию Мольера в другой раз — с обеда до вечера. И расходились с победой — усталые, счастливые. И горланили песенку Сганареля про несчастную бутылку, в которой давно нет вина.
А Софья Феликсовна сидела в пустом зале с Голощаповым, слушала песню и довольно посмеивалась:
— Какие ребята, Игнатий Петрович! Сила! Я уж приготовилась драчунов перевязывать, а их нет и нет. И на душе так легко. Вот тебе и опора, товарищ секретарь! Только наталкивай ребят на дело. Они и горы своротят!..
КЛЯТВА НА КУРГАНЕ
Красные части отбросили Колчака за Урал.
В селе был митинг, и Голощапов хорошо сказал, что старая квашня — госпожа Антанта — выкусила шиш.
Но и порадоваться не успели: совсем вблизи завозился Деникин. Ударил он по Воронежу, выбил красных конников из Курска, и война шла теперь в соседней Орловщине.
Отсидел свой срок бывший староста и хлебный спекулянт Олимпий Саввич Алферов. Явился он, как медведь из берлоги — борода в клочьях, седые и грязные волосы тронулись зеленью, пузо пропало, в глазах — звериная, лютая злоба. Жилую пристройку к магазину ему вернули, но за прилавком, где он долгонько был хозяином, заправляла Аниска.
Попарился в баньке у дьякона старый Алферов, примазал волосы лампадным маслом и стал ходить по избам, стращать стариков и старух.
— Напирает генерал Деникин. За крепких мужиков старается. Да нешто остановить его красным голоштанникам? Ни в какую! И скоро выйдет вам труба, господа коммунары. Эх, и жалкую я про вашу разнесчастную долю! Но и своего, прости бог, никак не упущу. И хлебушко отберу, и земельку возверну, и все долги вспомню. Так что несите за время, не ровен час поздно будет! — он размашисто крестился на образа и украдкой сучил волосатый кулак.
И кто-то отпраздновал труса: отнес ему и курицу, и лукошко яиц, и рушники, и потерявшие всякую цену большие хрустящие кредитки времен Николая Второго.
Стешка приструнила Алферова, и он до поры прикусил язык. Но теперь его видели всякий день с Ванькой Заверткиным. И, кажись, были у них нечистые, тайные дела. Но дознаться никто не смог, даже Колька. А он не раз по своей доброй воле лежал под окном у бывшего шинкаря, осторожно дышал в землю, таился, как кот над мышиной норой, вострил уши. И все впустую: Алферов и Ванька сидели при закрытых рамах и разговор вели нос к носу. И как на грех, ни в одну ночь не было тишины: то сверчок загремит, то лягушки заквакают, то брехнет пес, то петух кукарекнет.
— Опять не дознался? — спрашивал Димка спросонок, когда Колька валился на сеновал рядом с ним. — Может, зря ты по ночам шляешься? Ну, сидят мужики и языками чешут. А какой в том прок?
— Много ты понимаешь! Втихую сидят гады! А коли секрет у них, так это против нас. Чует мое сердце. У этих зверей на душе одно зло. Но погоди, все равно дознаюсь!
Однажды Колька вернулся раньше.
— Колготились нынче наши богачи, — шепнул он. — Што-то про военное положение болтали: оно-, мол, скоро у нас объявится, и им надо поспешать. Ванька под Волхов собрался на три дня. И Алферов прогудел ему с порога: «Так с богом, с богом! Надо бы давно решиться, а то сидим сложа руки, а голоштанники все свое гнут». Видать, хитрую штуку удумали! — Колька укрылся дерюжкой, закрыл глаза: — Давай спать быстрей! И пока Ваньки не будет, в Козельск наведаемся. А то сбегаем зря: явимся в город, ан комсомол на замке — не дождутся нас ребята, махнут на позицию.
В ранних сумерках зари Колька и Димка поплескались у колодца. И собирались в путь недолго: протокол ячейки Колька сунул в карман; ножик, вареную картошку и бутыль с молоком Димка уложил в холщовую заплечную сумку. Сапоги связали за ушки веревочкой и перекинули через плечо: обувку решили надеть только при входе в город.
С тем и тронулись в путь. И первые две деревни прошли, не встретив ни одного прохожего. А за Поляной углубились в лес. И как ни торопились к переправе через Жиздру в Дретове, а пять верст шли лесом часа два: и прохлада радовала в густом ельнике, и спелая земляника задерживала на порубках, и мимо первых грибов пройти не могли — набрали по картузу лисичек, сыроежек и подосиновиков.
Перевозчик — старый, кривой дед в гимнастерке без пояса, босой, в белых посконных штанах — не захотел перебросить их на другой берег одних.
— Шляются тут всякие, а ты их вози! — прошамкал он беззубым ртом. — Вот за эти грибочки еще так-сяк. А штоб ни за што, так и не выйдет ништо. Жалко небось? Ну, сидите, голуби, сидите. Подвода, может, к обеду будет: ноне народ-то по гостям не больно мотается.
Старик поскреб пятерней в правом боку и навесил над костром черный железный чайник.
— Отдадим? — шепнул Димка.
— Пускай выкусит! Тоже мне выжига. А грибы на дело сменяем, — насупился Колька. — Давай сами: не переплывем, што ли?
Он отошел в сторонку, скинул одежу, взял сумку в зубы, укрепил ее на голове и поплыл. Потом вернулся и лег на песке отдыхать. Димка кое-как переправил сапоги, догадался опростать на том берегу сумку и перетащил ее в зубах, как нес однажды убитых отцом уток возле мельницы.
Снова сошлись на правом берегу. Колька пересыпал в сумку грибы, Димка привязал ремнем к голове всю одежу. И поплыли рядом, смеясь и отфыркиваясь.
А на левом берегу заплясали от радости и показали кривому деду язык.
— Настырные, черти! — пробурчал дед. — И што за люди пошли? Все ни за што норовят! Нет штоб оплату сделать по совести. Вернетесь, голуби, я вас багорчиком по башке тресну! — Он погрозил кулаком и уселся пить чай.
А ребята с озорным блеском в глазах поднялись на горушку и сосновым редколесьем двинулись по песчаной дороге к селу Волконскому.
Брехали собаки из подворотни, мальчишки исподлобья глядели на путников, близко от околицы ветхая бабка в синем повойнике выкладывала из печки каравай хлеба на подоконник и прикрывала его рушником. И над дорогой струился почти забытый Колькой и Димкой дразнящий аромат печева.
— Дай-кось я про старое вспомню. Как на Украине, — подмигнул Колька и потащил Димку к бабке.
— Бабуля! Не оставь нас без внимания! — запричитал он. — Милостыню не просим, у тебя и у самой достатка нет. Вот тебе грибы на обед и на ужин, дай хоть корочку на двоих: почитай с пасхи сухаря во рту не было.
И распахнул сумку. Бабка клюнула. Вышла на крыльцо, поглядела, почесала нос.
— Дальние, што ли?
Колька назвал село.
— Шешнадцать верст отмахали. А в город-то пошто идете?
Димка хотел про комсомол сказать, но Колька перебил его:
— К свету тянемся, бабушка! Надоело лаптем щи хлебать, учиться надумали.
— А пошто налегке? — допытывалась бабка. — Мой-то внучонок пошел надысь, большую корзинку понес.
— Так спробовать надо, а вдруг не примут, — сочинял Колька.
— Вестимо, кормилец, — бабка вздохнула. — С хлебушком и мы подбились: каравай-то с овсом, с лебедой. И — горячий: тронь его, весь и развалится. Нет в ем державы, совсем как сырая труха. — Бабка глянула на грибы, ухватилась пальцами за кончик носа. — Из ума выжила, старая! Есть же у меня недельничный ломоть! Просите по-доброму, надо вас уважить.
Она пошла в хату, загремела там горшками, вынесла на ладони черствый ломоть — серый от овсянки, зеленый от лебеды, тяжелый, как кусок глины. Хотела так отдать, но вспомнила про что-то, взяла с блюдца щепотку соли и осторожно раскидала ее по хлебу:
— Солоненько небось давно не едали?
— С прошлой осени, — подавился слюной Колька.
— Ну, не поминайте бабку Анфису недобрым словом, — она протянула Кольке черствую краюшку, а грибы пересыпала в решето.
Ребята выбежали из села, кинулись под первую березу на широком катерининском большаке и, боясь обронить на землю и крошку хлеба и крупицу соли, мигом опорожнили сумку: подчистили картошку и выпили молоко.
Димка растянулся на теплой земле, заложил руки под голову.
— А зачем ты врал бабке? Хорошая она. И надо бы ей сказать правду. На душе чего-то горько.
— Да не врал я! Бестолковый ты, Димка, ей-богу! Я ей про то сказал, что в мыслях было: и к свету тянемся и учиться идем. А про комсомол не заикнулся, так это и к лучшему. Может, бабке Анфисе наш комсомол хуже черта. Тот — кривой — багорчиком грозился, а бабка, глядишь, и кочергой бы поддала на дорогу. Нет, бестолковый ты, Димка. Людей по чужим деревням не видал, лиха за хвост не держал. Пошли, мечтатель!
Солнце давно поднялось над дальним лесом и вовсю грело с правого бока. Но березы давали прохладу: и стройные, и высокие, и разлапистые, и даже корявые — где от костра, где от молнии, которая лет полтораста целилась в них огненными стрелами. Тропка была задубелая, в трещинах, будто натертая до блеска лаптями и босыми пятками прохожих. И шагать по ней было легко, но подошвы ног уже горели от долгой ходьбы. И хотелось скорей пройти от березы к березе и укрыться в тень, где земля была холодней.
Еще оставалось верст десять до Козельска, когда показался с левой руки высокий курган, похожий на врытую в землю зеленую тыкву.
Голощапов как-то вспомнил об этом кургане: татары захоронили тут своих конников, когда собрали мертвых за долгие семь недель осады «злого города». А побежденных козельчан вырезали, но под курган не сложили — бросили на съедение коршунам, бродячим псам, крысам, медведям и волкам.
За курганом помалу стал надвигаться город: слева крикнул паровик возле станции, прямо засветились позолотой и синью маковки семи церквей, чуть справа золотой луковицей загорелась на солнце высокая колокольня Оптиной пустыни. Еще правей тянулся обрез высокого берега Жиздры, и на нем лепилась деревушка Дешовки. И вот уже булыга первой городской улицы.
Димка сбросил сапоги с плеча, скинул и Колька. Вытерли травой запыленные ноги, сунули их в голенища. И застучали каблуками по деревянным тротуарам вдоль тенистых палисадников.
Димка думал, что город ошеломит — и суетней и бестолочью, как старая Калуга, где он познакомился с Минькой. А город был тих, словно давно заснули в нем с голодухи и старые и малые: лежат где-то по закоулкам и не кажут носа на улицу.
Но жизнь в нем не угасала: у керосиновой лавки стояли в ряд сотни две кастрюль и ведер, больших кружек и бидонов. И всю эту посуду стерег мальчишка лет десяти, похожий на Силу: русый, с рыжинкой, худой и долгоносый. Он сидел, прислонясь к двери, а над головой его висело объявление: «
Керосину нету. И не будит. Может подвизут опосля абеда».
Колька подошел к мальчишке:
— Не знаешь, друг, где тут у вас комсомол?
— Чего, чего?
— Комсомол. Ну, где молодежь собирается?
— Я не хожу: болею. Слыхал, где-то на бульваре. Это по вечерам. Возле собора, над Жиздрой, где музыка в праздник играет. Далеко еще, — мальчишка махнул рукой вдоль улицы. — А у вас хлебца нету?
Димка легко подкинул в руке пустую сумку. Мальчишка отвернулся, закрыл глаза и подставил солнцу бледное худое лицо.
Над дверями пивной была прибита забавная вывеска. Один мужик ржал во все горло и наливал пиво другому. А тот выкатил глаза, закинул голову и приготовился пить. Под первым стояла подпись: «Фала — Лей!» Под вторым: «Евлам — Пей!» А во всю ширину вывески значилась фамилия братьев Толстогузовых.
— Вишь, как Фалалей и Евлампий Толстогузовы народ к себе зазывают! — усмехнулся Колька.
Но пивная была на замке, и никакого народа возле нее не толкалось.
Поглазели на вывеску, вышли почти к берегу Жиздры, на длинную улицу, что вела от Дешовок к центру. Домики тут стали почище — и шире и выше. И рамы — нарядней и частоколы — добротней. И замелькали на дверях дощечки из меди: протодиакон Остолопов, доктор Любимов, надворный советник Доманский.
И вот уже глубокая выемка в городской горушке, гулкий деревянный помост, а под ним ослепительно убегающие рельсы. Они летят налево — к станционной красной башне, и направо — через высокий мост над Жиздрой, по широкой луговой пойме — в густой синий лес.
Возле дома военкомата показался ладный парень с винтовкой. Кинулись к нему, думали, что снова объявился Харитоныч: та же буденовка до глаз и скрипучие ремни портупеи. Обманулись. Но парень рассказал толково:
— Пройдите поперек всей центральной части, мимо собора, гимназии, театра и городской думы, спуститесь на мостик через Другуску. А там, рядом с аптекой, и комсомол ваш. Однако не мешкайте; там кого-то на фронт отправляют.
— Што я тебе говорил? — Колька дернул за рукав Димку и зачастил по булыге.
Димка быстро шел рядом, и ему некогда было глазеть на вывески фотографа Сагаловича, шляпного мастера Кулбасова и на афиши, которыми была заклеена сверху донизу круглая пузатая тумба. Но краем глаза он ухватил, что идет в театре его старый знакомый — веселый «доктор Сганарель», а скоро будут показывать драму Островского и Успенского «На пороге к делу».
Во дворе укома кипел и ширился ералаш. Со второго этажа, прыгая через две ступеньки, мчались парни с винтовками и кричали, что их мордуют: всех одели, а у них беда — штанов нет, сапоги рваные, шинель не выдали!
— Вы што? Забыли про нас? — напирал боец на коренастого дядьку, который стоял в углу двора, распахнув кожаную куртку, и пускал дым из короткой черной носогрейки.
Дядька молча показал трубкой в другой угол двора, и боец побежал туда сквозь плотную толпу, держа винтовку над головой.
Вдоль длинной стены дома уже строились повзводно, и долговязый парень в гимнастерке и галифе, но без фуражки — курчавый и горластый — выкликал бойцов по фамилии. Они громко отвечали и тесней смыкались в шеренге.
Дядьку с трубкой окружили девчата — в белых передниках, с красным крестом на косынках. Но он отмахнулся от них и крикнул:
— Костерев!
Курчавый парень без фуражки продрался в шумной толпе и подошел, поправляя красную повязку возле локтя:
— Что, товарищ Краснощеков?
— Не задерживай с провиантом. Орлов звонил со станции! Там все готово к погрузке.
— Толстогузов! — закричал над толпой Костерев. — Выдавай паек! Всем! По списку! Да поживей, голова! И про махорку, про махорку не забудь! Получили утром три ящика!
Толстогузов открыл сарай, выставил длинный стол против ворот.
— Без толкотни, первый взвод! Становись за довольствием!
И бойцы, не зная, куда пристроить винтовки, гогоча и толкаясь, кинулись к сараю, развязывая на бегу пустые заплечные сумки.
Колька и Димка были совсем лишними в этой суматохе и стояли, хлопая глазами.
Их заметил Краснощеков — главный в Козельском ревкоме.
— А вам чего, юные граждане? — Он подошел к смущенным ребятам и дыхнул на них горьким табачным дымом.
Колька объяснил, и довольно толково. Но ему пришлось кричать: возле сарая ни на миг не умолкал гомон.
Краснощеков распалил носогрейку и снова окликнул Костерева:
— Гляди, брат, какое у тебя пополнение!
— Откуда же вы, бедолаги? — спросил Костерев. Услыхал, удивился. — Да кто ж вам ячейку создал? Мы и слыхом не слыхали, что есть вы на белом свете!
— Голощапов у них, — заметил Краснощеков. — Старик серьезный, он кого хочешь организует.
— Не Голощапов, — вставил Димка. — У нас Харитоныч был.
— Кто такой?
— Весной на Волхов шел. В конной части. У нас ночевал с бойцами.
— Да ведь это питерцы! Помнишь, задержали мы их на один день: хлеба не было, — сказал Краснощеков.
— И все вы такие? Или постарше есть? — Костерев стал рядом с Димкой. Димкина макушка едва доходила ему до подмышки.
— Одногодки. Постарше-то Витька Кирюшкин. Так он секретарем в Совете. Хотел на фронт, да Голощапов не пускает.
— Был такой случай. Медведев про то знает. Писал Голощапов в укомпарт — один, мол, парень на селе, а делами там заправляют женщины.
— Ай-яй-яй! — покачал головой Костерев. — Молодо-зелено! И небось не евши?
— Сменяли по дороге у бабки грибы на сухари, — сказал Колька.
— С головой, значит! Эй, Толстогузов! Отвали этим брынским орлам чего-нибудь, а то они ноги протянут! Я записку дам! Как писать-то? — он глянул на Кольку.
— Шумилин. Ладушкин.
— Ладушки-бабушки! Молодо-зелено! — Костерев подал записку. — Вот и все пока. Бегите сейчас к фотографу! Он с вас карточки снимет. Скажите — я велел. А как отправим эшелон, приходите ко мне. Посудачим о делах, я вам и билеты выдам.
Колька с Димкой вышли на улицу, где уже толпились провожающие, выбрались к театру и разыскали фотографа Сагаловича. Был он черняв, с густой и курчавой тяжелой бородой от уха до уха, гладкий, как тюлень, но шевелился на диво легко и плавно, как в танце.
— Ох, уж этот Костерев! — Сагалович закрылся в маленькой темной комнатушке. — Заходит пятница, и невдомек ему, что всякий благоверный еврей торопится в этот час в синагогу. А тут приходят мальчишки за тридцать верст. Им, видите ли, надо играть в революцию, и я не могу закрыть свое заведение!
Щурясь, он вышел из клетушки: в окно, что занимало всю стену, заглядывало яркое солнце.
— Садись, дитя! — Сагалович усадил Димку на вертящийся стул. — И не строй рожи своему приятелю. Ай, Сагалович, Сагалович! Делал ты снимки с господина Блохина. Шишка! Всем дворянством руководил в уезде! И господин Еремеев изволили бывать в ателье — городской голова, и тоже шишка! Он даже в аппарат не умещался: семь пудов, и пузо, как мешок с сахаром. А теперь? Как меняются времена, боже ты праведный!
Наклонив голову, Сагалович поглядел на Димку со стороны. Потом подплыл к нему, легко коснулся мягкими коричневыми пальцами пылающих Димкиных щек и велел глядеть на большой деревянный ящик с треногой. А сам прикрылся черной тряпкой и далеко отставил жирный зад.
— Спокойно, господин комсомол! Не таращь глаза. Гляди привольно, как молодой конь. И — с интересом. Сагалович — старый кудесник, он сейчас выпустит птичку. Раз! — раздался щелчок, как досадная осечка на охоте. — Готово, дорогой товарищ! Следующий! — крикнул Сагалович и проплыл мимо Кольки в темную клетушку.
Потом он снял Кольку и дал ребятам полистать тяжелый альбом — в красном бархате, с медными застежками, как пасхальное евангелие у благочинного. Сытые лица, эполеты, ордена, легкие, тонкие кружева, блестящие лысины и затейливые прически мелькали, как на сцене в длинной пьесе про дворян, купцов и мещан. А на последней странице стоял во весь рост и улыбался курчавый Костерев. В военной форме, в фуражке, сбитой набекрень, он глядел вполоборота и молодцевато держал правую руку на ремне, где висел пистолет.
А фотограф что-то бубнил под нос про пятницу и про субботу, долго плескался водой в корытце и вынес на ладони четыре маленьких снимка с белыми уголками.
— Какая работа! А? — Он отставил руку, глянул на фотографии, бросил взгляд на притихших ребят. — Наше искусство, господа комсомольцы, ясное зеркало души. Вот этот мальчик дерзкий, — он ткнул пальцем в Колькино изображение. — И упрямый. Телушка старалась, зализала ему хохолок, а волосы никак не слушаются. Он пойдет далеко. Не надо только совать голову под пулю. А этот мальчик спокойный. И я нахожу в нем тот цимес, который ценят девчата. Ха-ха-ха! Но и он пойдет далеко. Теперь никто не ищет близких путей и не спит на перине после обеда. А ведь спали! И я любил пустить храпока. Только обед теперь бывает у меня не каждый день.
Сагалович вздохнул и велел расписаться в толстой книге. Ребята осторожно положили снимки на ладонь, попрощались и решили побежать на станцию.
Но эшелон уже двинулся с места в далекий путь, и комсомольская песня звенела над мостом через Жиздру. Уползали красные вагоны все дальше и дальше, к синему лесу за широкой поймой. Колька снял картуз и помахал им вслед.
— Болтун этот Сагалович. Пятница, искусство! Вот из-за него и опоздали!
— Не дури! Костерев ждет. Билеты возьмем — и домой. Завтра наши собираются рожь косить. Новина идет, Колька. День-то какой! — Димка повернул к укому.
Колька понуро поплелся рядом.
А Сагалович закрыл свое ателье, пощипал на пороге черную бороду и с маленьким свертком под мышкой побежал молиться своему богу: пятница пошла на убыль, солнце упало за высокую крышу гимназии.
Костерев приговаривал «молодо-зелено», а сам с интересом слушал и про троицын день, и про Мольера, и про школьный огород, и про то, как Колька хотел дознаться, что затеяли темной ночью два чужака: лавочник и шинкарь.
— Глаз с них не спускайте! Время трудное, и каждый гад ловчится ударить нам в спину. Вся страна сейчас — единый военный лагерь, а у вас и того хуже — прифронтовая полоса. Стрелять умеете?
— Обучились. Вот дружок крепко бьет, — кивнул Колька в сторону Димки. — Охотник! Ну и мы стараемся.
— От этого дела не отставайте. С огорода урожай сдайте в школу, а коммунарам надо подсказать: пусть везут больше хлеба для фронта! Деникина прикончим, без хлеба вас не оставим. А как у вас с учебой?
— Две школы прошли, в третьей учимся, — степенно ответил Колька. — Ничего, переходим, по два года не сидим.
— Эх, молодо-зелено! На фронт не успели, так в школе старайтесь. Землю очистим от всякой скверны, поеду и я учиться. Ремесленное не кончил, а душа горит — с металлом возиться, станки делать, точный инструмент ладить. Поставишь резец на стальной брус: серебрится стружка, станок журчит-поет, никакой музыки не надо!.. И про вас не забуду. Навернется случай, и двинете вы учиться хоть в Москву, хоть в Питер… Эк, размечтался я с вами! Винтовки-то у Голощапова в порядке?
— Хорошо, как и надо быть. Димушка глядит за ними.
— Дам я вам патронов. Полсотни. Только зря не пулять!
Костерев приклеил две фотографии к маленьким синим книжечкам, на которых вверху стоял девиз «
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А другие билеты остались без снимков. Расписался у нижней кромки, поставил печать, покопался в сейфе — вынул обоймы с патронами. Встал во весь рост, как в альбоме у Сагаловича.
— Эх, молодо-зелено! А поглядеть со стороны, так дела у вас идут, и ребята вы справные. Поздравляю вас, друзья! Пионерами идем мы с вами по советской земле, и тысячи ребят двинутся за нами! Билет носите под сердцем — это знак вашего счастья, это дорогой знак товарищества, которое укрепляет наш дух и в бою и в труде. А каждый патрон, когда Родина кликнет клич, метко пошлите в цель по врагу!
Костерев обнял Кольку, схватил Димку, сгреб их в охапку и закружился по комнате.
— Ох, из-за вас мальчишкой стал! — Тяжело дыша, он плюхнулся на стул. — Ну, шагайте к Толстогузову, получите на дорогу, что осталось на складе. И — в добрый час! А осенью, коли жив буду, закачусь к вам в гости…
Фунт сухарей и стакан соли, бутыль с водой да три пачки махорки для Голощапова Димка сложил в сумку. Билеты спрятали в картузы и зашагали домой.
Спустился вечер. Оранжевым стало остывшее солнце. Погасли яркие блики в листве берез на большаке. Все еще нагретая за день тропинка стала слишком твердой для натруженных ног, и Димка вывел Кольку на мягкий от пыли проселок.
От долгой дороги из села, от всяческой суеты и волнений в Козельске стало клонить ребят ко сну. И, не сговариваясь, задремали они на ходу. Качало вправо, качало влево, тяжелая голова падала на грудь, а ноги нащупывали колею и, шаг за шагом, тянули путников вперед.
Димка увидел страшный сон: кривая баба-яга, похожая на перевозчика, заманила его в болото, где на кустах бузины росли красные, зеленые и желтые ландринки. Толстый хитрый змей, с курчавой черной бородой Сагаловича, напустил на него клубок ужей, они спутали ему руки и ноги, и он увяз. И по горло опустился в трясину. И нет ему спасения: вот-вот уйдет в ряску вся голова, а с ней картуз и комсомольский билет. Димка хотел крикнуть, но выдавил только стон. Прилетел желтоглазый филин в раструбных сапогах Голощапова, сорвал с головы картуз кривым клювом и прохрипел: «Пропал ты, Димка, нет у тебя сердца! И не нужен тебе билет!» А билет упал, лежит рядом, но связанных рук не вынуть из вязкой тины. И только отлетел филин, затрясся Димка как в лихорадке, и трепетное его сердце, вынырнув из болотной жижи, улеглось рядом с билетом. И заплакал Димка. И испугался, что нет слез. И опустил усталые веки. А баба-яга все стояла на берегу, била себя костлявыми ладонями по тощим ляжкам. А потом прыгнула в деревянную бадью, с гиком понеслась в небо и заорала оттуда громовым мужичьим голосом:
— Гля-кося! Спить, поганец! Тпру!
Димка вздрогнул и несмело открыл глаза. Прямо перед ним устало кивала головой гнедая лошадь, а по бокам от нее, как жерла двух орудий, торчали кругляшки березовых оглобель. А над дугой, на высоком возу сена, лежал мужик, выставив рыжую бороду. Он толкал бабу в бок и удивлялся:
— Гля-кося! И другой спить! Вот умора!
Колька ударился головой о Димкину спину и отшатнулся в испуге.
— Чего ржешь-то? Не видишь, умаялись мы, вот и вся обедня. И, знаешь что, кати своей дорогой! — пробурчал он и потащил Димку к татарскому кургану, который в этот закатный час был прикрыт с запада большим багровым платком. — Не могу больше. Из сил вышел! — Колька развалился на кургане. — Хорошо бы у бабки Анфисы на ночлег попроситься. Да не ходок я, давай тут заночуем.
Димка достал по три сухарика. Посыпали их солью, съели, опорожнили бутылку с водой. И улеглись в обнимку на лысой макушке кургана, как не раз спали на сенокосе.
А утром, едва забрезжил рассвет, Колька растормошил Димку.
— Пусть будет так, как сказал Сагалович: никто не ищет близких путей и не спит на перине после обеда! Пусть будет так, как сказал Костерев: а каждый патрон, когда Родина кликнет клич, надо метко послать по врагу! Клянись, Сганарель! Нынче день-то какой? Идем штурмовать новину! Жизнь пахнет хлебом, солью, потом, пороховым дымом! И — махоркой Игната Петровича Голощапова!
Димка поднял руки и расхохотался. И побежал налегке за Колькой. А кругом пахло мятой, полынью, свежей соломой только что скошенных хлебов.
Но к кривому перевозчику не зашли. Ранним утром переправились ниже парома и ходко пошли лесом. И собирали только те грибы, что попадались под ногами.
ВАНЬКА-КАИН И КОМПАНИЯ
Отец и дядя Иван прислали письмо.
Калужский отряд распрощался с Чапаем, перекинулся на рысях в Орловщину и стал на дневку возле Мценска, в березовой роще на берегу Зуши.
Отец сделал приписку, что думает свидеться, коли выйдет такой добрый час, «только время для встречи не ладное: пишу вам на старом пеньке, конь стоит рядом, карабин за плечами, вот-вот ждем сигнала в поход. А куда двинемся? На юг, к Орлу, либо к вам — на север, даже дядя Иван не знает. А он у нас за главного».
Сережка сказал с опаской:
— Приедет папка, а я спать буду. Ты разбуди меня, Димка! А то я совсем изведусь — в кровать не лягу.
Могила деда Семена буйно укрылась седой полынью, а у Потапа Евграфовича умялся за лето и скособочился холмик.
Игнатий Петрович увидал непорядок на кладбище и рассердился:
— И что за народ! Словно турки! Давайте, братцы, приложим руки. Понимаю, понимаю: и про живых не все упомнишь — суета, маета, всякие дела, как бурьян, растут. С одним делом управишься, как три новых за плечами стоят. Но и про мертвых забывать не след. Храните светлую память о них, будьте душой богаче!
И как только Димка с Колькой вернулись из Козельска, всей ячейкой вышли на кладбище: нарубили дерна, поставили намогильники с красной звездой, обнесли участок деревянной оградой. И провели сбор у братской могилы и долго вспоминали, как жили два человека, которым не довелось быть сегодня в тесном кругу комсомольцев.
Потом подошла первая Неделя красной молодежи.
Отмечали ее в воскресный день и пригласили на праздник всех окрестных ребят. Колька придумал лапту и городки на скошенном лугу возле Омжеренки. Димка смастерил ходули на длинных жердях. Сила принес крокет, который с погрома лежал у него в сарае без всякого дела. Филька сыграл на жалейке «Барыню» и «Камаринскую». А когда затихала пляска, подыгрывал песням девчат.
Вечером натаскали сушняку из Лазинки и распалили большой веселый костер невдалеке от Кудеяровой липы. И прыгали через высокий огонь и валялись на траве с разгоряченными лицами.
Голощапов принес самовар. Сережку послали за картошкой. Испекли ее в золе, запили крутым кипятком с пахучим липовым отваром. Игнатий Петрович достал из кармана толстовки маленькую пухлую книжечку: ее напечатали на плотной рыжей бумаге, из которой еще при Керенском делали кульки в лавке.
Это была Программа партии.
— Приняли ее весной, после масленой, в те суровые дни, когда Колчак стоял на Волге, а Деникин захватил весь юг страны, — сказал Голощапов. — В Москве не было света, москвичи голодали. Только маленьким детям выдали по восьмушке хлеба на день. А Ленин орлиным взглядом окидывал просторы великой Родины. И он видел Россию в огне электрических ламп, Россию сытую, обутую, грамотную, Россию радостную, в которой люди труда создают самый правильный и счастливый уклад жизни — социализм.
Не все было понятно в Программе. И Димка подумал с тревогой: «Вот спросит сейчас Голощапов такое, что дух замрет. К примеру, о праве наций на самоопределение или про империализм, про его фазы, и придется плести всякую околесину».
Но Голощапов не спросил. Он хорошо понимал, как нелегко ребятам, и своими словами старался передать боевой дух Программы. И вселял веру, что каждому надо трудиться и тем завоевывать счастье для всех. И жизнь пойдет без кулака-мироеда, а барина и буржуя станут показывать детям только в музее. Но для этого нужно крепить коммуну и неустанно обучать людей грамоте.
— И многим из вас придется уйти из села. Ринетесь вы в большую жизнь — постигать науку, погружаться в великий океан культурных ценностей. Обострится пытливый ваш ум, зорче станут глаза. И поймете вы — и умом и сердцем, что Ленин — солнце новой России. И отдадите все нерастраченные силы молодости, чтоб помогать ему, помогать партии сплотить на всей земле людей труда под алым стягом коммунизма!..
Легкий ветерок тянул с юга, и громовым раскатом прогудел с Орловщины пушечный выстрел. Враг у ворот дома? И тревожно огляделись ребята и еще тесней прижались друг к другу.
— Шалит Деникин, — сказал Голощапов и скрутил цигарку. — А мы ему по-своему ответим. Кто не дрогнет? Кто из вас в комсомол хочет?
Настя встала, одернула ситцевую юбку, чтоб прикрыть колени. Горящими глазами обвела ребят у костра и сказала твердо:
— Я!
…Колька не оставил своей затеи и по вечерам, когда затихали в селе последние шорохи, осторожно ходил мимо дома шинкаря.
И однажды он услышал, как кто-то завозился во дворе у Ваньки Заверткина и легонько постучал в окно.
— Эй, хозяин, шевелись! Принимай товар!
Колька сбегал за Димкой. И услыхали они кряхтенье и топот возле задней двери. И Ванька запричитал вполголоса:
— Тише, черти! Нанесло вас в такую рань. Сюды, сюды тащите!
Резкий и дребезжащий звук насторожил Димку: грохнули чем-то о притолоку. Он слыхал уже где-то такой необычный звук, но вспомнить не мог, словно начисто отшибло память.
— Слышь? — спросил он Кольку.
— Молчи, Сганарель!
— Провалиться мне на этом месте: прикладом стукнули! Ей-богу! — шепнул Димка и весь покрылся испариной.
И Колька ясно услыхал, как кто-то снова задел ложей о притолоку и легкий гул отдался в стволе винтовки.
— А ну, к Голощапову!
Игнатий Петрович уже лег в постель, но у изголовья еще коптил моргасик, а на конике лежала раскрытая газета. И на ней — во всю страницу — бежали слова Ленина: «
Все на борьбу с Деникиным!»
Голощапов выслушал ребят и велел звать Степаниду с Витькой. Впятером и двинулись с ночным обыском к Ваньке Заверткину.
Но рассчитали плохо: пока ломились к нему с крыльца, он улизнул двором к Лазинке. А бежать за ним Голощапов не разрешил.
— Темень, братцы! Пулю схватите, вот и все! А мерзавца этого все равно выведем мы на чистую воду!
И вывели в эту же ночь: обо всем про него дознались — и как он под Волхов ездил и что привезли ему нынче два бандита.
Молчаливая и болезненная Матрена — жена шинкаря — не стала отпираться и сама указала, где схоронил Ванька в подполье два ящика с винтовками.
— Говорила я ему, говорила, Игнат Петрович, штоб с бандитами не вязался. Пригрозила, што к вам пойду жалиться, истинный бог! Так он, антихрист, по уху треснул. — Матрена заплакала.
— Хватит! — махнул рукой Голощапов.
Витька с лампой полез в подпол: в одном ящике не было шестой винтовки.
— Спросите Матрену: с оружием убежал или как? — крикнул он из ямы.
— Взял ружье, взял.
— А еще что! — спросил Голощапов.
— Не знаю, как сказать. На бутылку похоже або на ступку. За пазуху сунул.
— Три гранаты взял, Игнат Петрович. Вот глядите! — Витька подал из подполья раскрытый ящик: три места в нем пустовали. — До зубов вооружился, чертов сват!
— С таким гостинцем его невесело ждать, — сказал Голощапов. — Оформляйте протокол, Степанида Андреевна. И решайте, как с Матреной быть?
— Чего с Матреной? Пускай забирает свой сундук и катится к чертовой матери! А завтра придем с Шумилиной. Живность в коммуну заберем, а хату заколотим. Вот и весь сказ! — Степанида поместилась за столом и раскинула перед собой лист бумаги.
— Правильно! Прыгайте, братцы, в яму, помогите Виктору поднять ящики, — Игнатий Петрович подтолкнул Димку с Колькой, крикнул: — Давайте! — и потянул на себя длинный ящик.
Утром во двор к Заверткину пришла мать с Настей и двумя старухами. Повели они на бывший барский двор трех коров, двух лошадей и свинью, погнали хворостиной кур, гусей, уток и индюков. А четыре улья с пчелами ребята перевезли в генеральшин сад, куда выходил задними окнами белокаменный дом школы. И Истратов сказал:
— Это очень хорошо! Школьникам будет мед к чаю. Да и приобвыкнут они обращаться с пчелами.
Колька ждал, что придет Ванька-каин на пепелище. И вся ячейка — недели две, до самых успенских дождей — караулила его на задворках. С отцовой берданкой сидели ребята парами: Димка — с Силой, Колька — с Филькой. Но шинкарь так и не явился: видать, пронюхал, что Степанида объявила по нему розыск.
А потом пришла пора убирать школьный огород: горы капусты и тыквы свезли в барский подвал. Анискину старуху пристроили варить завтраки на генеральшиной кухне. И стали ребятишки бегать в школу, а в полдень завтракать от плодов своих рук.
Димка выпустил журнал «Красная молодежь» со своими стихами про весну. Колька написал, как комсомольцы выслеживали Ваньку Заверткина, Настя — как провели в селе праздник у костра. Голощапов дал статью о школьном самоуправлении, Клавдия Алексеевна — о ликбезе.
Александр Николаевич Истратов все носился со своим эсперанто и кое-чего добился: увлек Димку страстными разговорами о новом языке.
— Пойми, редактор! Идет по свету ми-ро-вая ре-во-лю-ция! Вот в чем суть! Прикатит к нам завтра товарищ из Парижа, а вы — ни бе, ни ме! Парле ву Франсе? — спросил он в нос. — А вам и крыть нечем! И пока вы французский язык постигнете, у заграничного гостя вырастет пять раз борода, как у нашего Игната Петровича. Ей-богу! А эсперанто — красиво, просто, здорово! Язык — вспомогательный и — никакого прононса, будто по-своему лопочешь. За три месяца я вас так обучу, что смело подваливайтесь хоть к любому французу. И испанец поймет и итальянец. Да и они сейчас учат новый язык, чтобы с нами общаться… Вот и я статейку написал, и на досуге «Интернационал» переложил на эсперанто. Смело помещай, редактор. Ребята спасибо скажут!
Димка поместил в журнал и статью Истратова и текст гимна. И недели через две все старшие ребята неплохо распевали хором первую строфу боевой песни:
Левиджу скляво эль мизеро,
Портанто сигнан дель мальбен,
Брулиджас бунто кри дель веро,
Аль воль баталь, аль вокас ен.
И согласно выводили слова припева:
Эн децида батале,
Глора венос финаль!
Л-ин-тер-на-цио-на-а-а-а-ле
Коммуна век сигналь!..
Помалу совсем забыли про Ваньку-каина. А зря. Зло и дерзко напомнил он о себе, когда появились в Брынском лесу первые летучие разъезды из казачьей сотни генерала Деникина.
В первых числах сентября был большой праздник у коммунаров: Степанида с матерью повидали в ревкоме Краснощекова, привезли из Козельска пять мешков соли.
Делили ее по едокам, как бесценные крупицы алмаза: и соринки не обронили за широким прилавком у Аниски. И в тот же день все кинулись солить огурцы, капусту, грибы.
С капустной кочерыжкой в кармане отправились по грибы и Димка с Колькой. И прихватили с собой Настю.
Как все изменилось с тех пор, когда ребята впервой повздорили в Долгом верху из-за этой девчонки и завели совсем пустой разговор про любовь. И Колька не захотел понять первые Димкины стихи о барской собаке. И Димка в сердцах назвал Кольку Ладушкиным — по фамилии.
Отошло это, поросло быльем, и, видать, уже отгорела шалопутная Настина любовь, навеянная на посиделках тайными вздохами сельских невест о горьком неразделенном чувстве: какой уж год все их женихи не возвращались с фронта.
А может, и теплилось что-то в Настином сердце? В карих глазах ее все та же доброта, но с задором и вызовом, а конопатый нос задран кверху. И хоть надеты на ней длинная ситцевая юбка и синий женский размахайчик с заплатами на локтях, а что она понимает в любви? В настоящей, конечно — и строгой, и ласковой, и с огнем в душе?.. Да и не время думать сейчас про то, в чем и взрослые-то разбираются кое-как, а что Настя рядом — так это хорошо. И она знает об этом: вот опять оглянулась и крикнула:
— Да не отставай ты! Будто рядом идти не можешь!
Но Димка не торопился: так чудесно было в лесу, привольно и радостно.
На короткий миг заскочило теплое и светлое бабье лето и никак не сдавалось наступавшей осенней стуже.
«Вишь, как чудно! — восхищался Димка: в одной руке он держал букетик оранжевых листьев рябины, в другой — белую звездочку цветущей земляники. Летом веяло от иван-чая и от цветущего чертополоха, который жадно тянул к солнцу свою пушистую рюмочку. Но по-осеннему были пунцовы ажурные сережки жимолости. — Забыл, забыл я про книгу деда Семена. А надо бы писать в ней все, что вижу вокруг: каждый год идет чередом, и все одинаково, и все по-разному».
И, размышляя, все глубже забирался Димка в таинственные дебри Брынской чащи, где уже Колька с Настей, перекликаясь на разные голоса, напали на грибы.
По большой корзине набрали самых отборных рыжиков и груздей — не тронутых червяком и улиткой, ладных, как пуговица, с росистым блеском на оранжевых и серовато-зеленых шляпках. И сели отдохнуть перед обратной дорогой. Но Настя унюхала запах костра, и Колька решил поглядеть, кто стоит табором так далеко от соседней деревни.
— Вестимо, мальчишки. Вам на пару. Кто же еще? — сказала Настя. — Да ну их! Привяжутся, далеко ли до драки?
— Можно и не показываться, а глянуть надо, — сказал Колька, приложил палец к губам и пошел вперед.
Вскоре послышались голоса, где-то поодаль фыркнула лошадь. Ребята осторожно выдвинулись к опушке на маленькой круглой поляне, и перехватило у них дух: в меховой безрукавке сидел у костра Ванька-каин и кидал сушняк под навешанный на жердочку закоптелый чайник. А рядом лежали два солдата — в кителях с погонами, в синих бескозырках с красным околышем и с широкими малиновыми лампасами на суконных штанах, как у последнего козельского исправника. И один из солдат выгребал ножом остатки консервов из круглой банки. К старой ели были приставлены три винтовки. А невдалеке, в частом мелколесье, паслись оседланные кони.
Разговаривали солдаты вполголоса, и слов не было слышно. Колька попятился, шепнул Димке:
— Беги! С дороги не сбейся! Настя навстречу тебе выйдет, а я тут посижу. Подымай людей в селе. Эх, схватить бы всю эту сволочь!
Шесть верст мчался Димка налегке: скинул картуз, разулся, хлебнул воды из лужи возле проселка. И собирались в селе недолго, и галопом доскакали до Насти — с Голощаповым, с Витькой, с Филькой и с Силой.
Спешились и цепочкой дошли до Кольки. А он стоял у костра, с досадой покусывая губы: полчаса назад снялись с бивака деникинцы с Ванькой и ходко ушли в сторону Медынцева.
— Что-то про Тычок болтали. Под Починком, где кузнец живет, — сказал Колька. — Будто там ночевать собираются. Гнать надо за ними!
— Горяч ты, Ладушкин! — Игнатий Петрович пощипал бороду. — Да нешто возьмем мы на марше этих бандитов? — обратился он к Витьке.
— И думать нечего! К ночи — дело иное. А штоб верней было, надо еще людей взять, — Витька стал заворачивать коня.
— Так и я решаю! Ну — к дому! — скомандовал Голощапов.
Настю подсадили к Димке, Колька сел позади Фильки, и маленький отряд двинулся к селу.
Долго ехали молча: только кони отстукивали копытами по корявым корням деревьев на заросшей травой дороге. Да чуть слышно мурлыкал себе под нос протяжную песенку Филька.
А когда выбрались из лесу, завозилась Настя на тощем крупе у лошади. Она перекинула корзину с грибами в левую руку, крепко уцепилась за Димкину рубаху правой рукой и громко вздохнула.
— Давай, давай! — пошутил Димка.
— Тебе смешно. А небось пойдешь ночью?
— А как же?!
— Боюсь я за
тебя.
— Не дури! От ребят не отстану. А ты бы и помолчать могла. Чего смущаешь?
— Чурбан ты, право слово! Какой год — и все чурбан. И не пойму никак: бестолковый ты али сердца у тебя нет?
— Сказал: не дури! Сама знаешь — друг ты мне, и никому в обиду тебя не дам.
— Ну и на том спасибо! А себя береги. Слышишь?
— Не глухой! — буркнул Димка и вдруг пожалел, что говорит с Настей так дерзко. Заденет его этой ночью шальная пуля, и понесут его на кладбище к Потапу и к деду Семену. А Настя будет горевать, что не слыхала от него доброго слова. И захотелось сделать ей радость.
Он остановил лошадь возле пригорка, спрыгнул:
— Садись в седло, Настенька! А я — позади. И грибы буду держать: твои и свои.
И Настя, счастливая от Димкиной ласки, ловко и быстро перебралась в седло, как кошка.
— Держись за меня крепче, Димушка, я погоняю! — Она гикнула и ударила пятками по лошадиным бокам.
И вынеслась к ручью и поднялась на горушку возле ветхого ветряка. И уже стали видны пожелтевшие барские липы, и к ним уносилась прямая и ровная дорога, хорошо накатанная коммунарами в жаркую неделю нового урожая. И лошадь шла рысью, и в душе зрела песня. И ветер свистел в ушах, совсем как в тот день масленой, когда дед Семен гнал по этой дороге Красавчика, счастливый, что так ловко утер нос чванливым американцам.
…Голощапов ушел в соседнюю деревню. И перед вечером вернулся с двумя стариками, которые прошлым летом помогли Потапу перехватить баржу с зерном возле парома, где дежурил злой кривой перевозчик. С ними пришел и красноармеец Астахов: он заскочил на неделю домой после госпиталя и решил помочь сельчанам.
Упросилась с мужчинами и Степанида. А комсомольцев решили не брать — и риск немалый, и уж больно горячи ребята в деле. Особенно Колька. Не ровен час, а беды не расхлебаешь.
Но Колька раскричался так, что дождем хлынули из его глаз слезы.
— Я этого Ваньку-каина с петрова дня стерег! Я ему за все хочу долг отдать! И за отца, и за двух дедов, и за Потапа, и за сиротскую долю! И какое вы право взяли — комсомольцев за борт кидать? Годами не вышли? Так стреляем мы лучше вас! Вот и все! Ставьте начальника, мы его приказ выполним! Не такие дураки, чтоб башку под пулю совать! А то на почту побегу, Костереву депешу дам!
Астахов хлопнул себя по бедрам:
— Вот это по-нашему! Крой, Николка! Да нешто таких ребят удержишь дома, Игнат Петрович?
Голощапов пощипал бороду, махнул рукой.
Ближе к полуночи оседлали девять коней и под командой Астахова длинной цепью перешли Омжеренку, выбрались по оврагу к плохинской дороге и трусцой потянулись к Тычку.
Когда-то там, у широкой развилки четырех дорог, над грязным прудом, долго стоял под ракитой веселый трактир «Плакучая ива».
Московский ресторатор — старик Анкудинов — вел дело широко. И проезжие купчики всегда заворачивали к нему на перепутье. Молодых манили гитара, шампанское и две черноглазые цыганки. Купцы — уже в годах — напирали на пироги, на пиво и на знаменитый драгомировский форшмак, печенный с мясом или с селедкой. А старики довольствовались парой чая и теплым сортиром.
При царе Александре Третьем загремел Анкудинов в Сибирь: плохо укрыл конокрадов, которые увели у фон Шлиппе двух породистых рысаков. И замест трактира стала на Тычке кузня. И заезжий двор для случайных людей, каким не с руки было ночевать в Плохине и ждать нежеланной встречи с урядником. И все судачили, что осталась на Тычке черная тень ссыльного старика: прятали тут ворованное, давали приют конокрадам и варили тайком самогон.
Ванька Заверткин не раз ночевал на Тычке. И Колька не сомневался, что именно сюда завалился он после дневки в Брынском лесу.
Степаниду оставили с лошадьми. И отряд охватил дом кузнеца с трех сторон. Не закрыли только одну стену, что выходила на пруд. Но Астахов залег так, что и она была под прицелом.
Димка лежал в сырой канаве. В кромешной осенней мгле дом уходил в небо черной громадой и казался мертвым дворцом. И окон в нем было так много, что при плохой атаке бандиты могли прыгнуть в любую сторону и сейчас же укрыться ночью после прыжка. А лежать до рассвета — сущая мука: гулко билось сердце, губы сохли, ухо жадно ловило каждый шорох, палец стыл на спусковом крючке.
Астахов не хуже Димки оценил обстановку. Он пробурчал что-то, подполз к Кольке и зашептал:
— Вот спички. Запали-ка, браток, вон тот стог с сеном. Да с умом старайся: как полыхнет, давай деру — змеей, змеей, браток, землю носом паши — и в темноту, штоб не заметили. А я разок пальну в окно. Станут прыгать, подлюги, тогда не зевайте. А ты, Димушка, передай по цепочке: бить поначалу над головой. А коли в понятие не взойдут, ну, куда попало! Не люди ведь, прости господи, а собачье дерьмо!
Астахов плюнул, распластался на земле, оперся на локти, прижал винтовку к плечу.
Колька пополз к стогу, Димка — к Голощапову. Потом передал приказ Витьке и старикам. А завернуть к Степаниде не успел: полыхнула солома перед окнами, мелькнула длинная Колькина тень над прудом, Астахов выбил пулей стекло, из окна ответили пачкой выстрелов. И застучало, застучало кругом, словно кто-то стал бросать с высоты каменья на большой железный лист.
Распахнулось окно против Голощапова, и бандит в бескозырке вылетел из него, как петух с насеста. Игнатий Петрович опешил: не доводилось ему стрелять в человека. И он никак не мог поймать дрожавшую мушку. Но далеко за цепью прогремел выстрел, и обмякший бандит упал, как куль. Степанида не знала приказа и угодила бандиту в грудь.
Астахов дико закричал:
— Конец вам, гады! А ну, вылазьте! Сейчас хату палить будем!
И, словно в ответ ему, ударил по окнам и Колька, и Димка, и старики, и Витька.
Заголосила Кузнецова баба, завизжали перепуганные ребятишки. Кузнец — дюжий бородатый мужик, в одном исподнем, зловеще красный от зарева — ударил ногой в дверь, вынес на руках Ваньку Заверткина и скинул его с крыльца.
— Берить ево! — крикнул он и бросился в дом за бандитом.
Загремели ведрами в сенцах, бандит заматерился, баба заорала:
— Да уходи ты, ирод! Нанесли тебя черти!
И бандит, растопырив руки над головой, несмело шагнул через порог.
— Кто еще есть? — крикнул Астахов.
— Никого, — прогудел кузнец. — Очистился.
— Винтовки подай!
Кузнец вынес две винтовки.
— Степанида Андреевна, принимай гадов! И амуницию ихнюю, — весело сказал Астахов. — Теперь и закурить можно, — и протянул Голощапову ситцевый кисет с махоркой.
Пока перерыли все в доме у кузнеца да привели в село Ваньку-каина с казаком, пришло утро. И Димка вдруг заметил, как побледнел и осунулся за ночь Колька.
— Чтой-то с тобой? — спросил он.
Колька показал левый сапог: чуть выше щиколотки была в нем дырка, и из нее сочилась кровь.
— И ты молчал? Мама, глянь-ка, что у него!
Мать всплеснула руками, усадила Кольку на коник, осторожно стащила сапог: вся портянка намокла, из круглой ямки алой струйкой бежала кровь. Пуля прошла насквозь, и другая ямка — на вылете — была еще больше и страшней.
— Скорей, Димушка, в больницу! Господи ты милостивый! Ложись, непоседа, ногу подыми!
Мать уложила смущенного Кольку, под ногу поместила подушку, прикрыла резиновой слюнявкой Сережки.
— Феклуша, скорей ставь самовар!
Софья Феликсовна прибежала в ночном домашнем халатике: не успела ни умыться, ни причесаться. Ополоснула руки под умывальником, обмыла рану, мягкими, ловкими пальцами прощупала кость: она была задета пулей.
— В Козельск! И сию же минуту! Надо операцию сделать и ногу положить в гипс. А я не берусь. — Она опустилась на коник и обмахнулась широким подолом халатика. — Доигрался, соколик! Ну, полежишь теперь! А впрочем, страха никакого нет. Только надо торопиться, Аннушка!
Софья Феликсовна обработала рану йодом, наложила тугой бинт. А Фекла с Димкой уже заводили в оглобли Красавчика и укладывали в телегу сено.
Напоили Кольку кипятком с куском хлеба. И все сели перед далекой дорогой. Но по пути к Голощапову завернул к Шумилиным взволнованный Петр Васильевич Терентьев.
— Опять беду несу! — показал он на телеграмму. — Вчера Деникин Орел захватил, завтра ждут его под Тулой. Объявлено у нас военное положение, комсомол мобилизует всех своих ребят подчистую. Велено нынче явиться в Козельск. С вещами! А у вас и своя беда. Ай-яй-яй! Ну, держись, Коля, молодцом! — и почтмейстер засеменил к Голощапову.
Пришел Игнатий Петрович, покачал головой, сел рядом с Колькой и долго глядел ему в глаза.
— Друг ты мой! — Он наклонился и в лоб поцеловал Кольку, закрыв ему все лицо широкой белой бородой. — Больно, а?
Колька кивнул, заморгал, и глаза его увлажнились.
Сережка не находил себе места в это утро. Он во все глаза глядел на Кольку и решил, что Голощапов сделал ему зло. И, насупившись, подошел к Игнатию Петровичу и ткнул его рукой в бороду:
— Нехороший ты, Игнат!
— Глядите-ка! Да ты что это? — удивился Игнатий Петрович. — Тоже мне стручок! Живо беги за комсомольцами, зови их сюда! А за Кольку не бойся, никто его не обидит…
Ребята пришли скоро и молча столпились у двери. Колька привстал на локте.
— Живой я, друзья! Собирайтесь в путь, зовут нас в Козельск. Контра жмет на Тулу, надо ей отпор дать. Харчи возьмите, и тронемся. Вы — где бежком, где шажком, а я покачу, как барин! Только мешкать нельзя: мне в больницу нужно.
Фекла подвела Красавчика к крыльцу. По старинному обычаю все посидели молча, занятые своими думами. Потом подхватили Кольку на руки, уложили на сено и укрыли пиджаком. Ребята кинули в телегу холщовые сумки, Фекла села в ногах у Кольки, тронула вожжи. И Красавчик широким шагом потащил возок мимо школы, где стояли притихшие ребята, мимо Обмерики и сараев по знакомой дороге в город.
ПРОЩАЙ, КУДЕЯРОВА ЛИПА!
Кольку положили в больницу к старому земскому доктору Николаю Ивановичу Любимову.
Николай Иванович был очень грузный человек. Слоновья болезнь до страшного разнесла ему лицо, губы, уши, руки и ноги. Он тяжело ходил и тяжело дышал. Но руки его — как большие ласты моржа — легко и ловко делали свое привычное дело.
Колька устрашился, когда увидел доктора. Но доктор словно не заметил этого: он набросил Кольке на лицо марлевую тряпку, от которой остро защекотало в носу, и глухо сказал сестре:
— Что творится, Глафира Антоновна? Даже дети подняли руку на генерала Деникина. Кисло, ой, кисло придется этому царедворцу!
А когда Колька очнулся, нога его — словно окостеневшая от гипса — была привязана полотенцем к спинке кровати. И пожилой дядька, с перевязанным правым плечом, стоял в ногах и по складам читал надпись на грифельной дощечке: «Ладушкин Николай, шестнадцатый год, пулевое ранение в область большой берцовой кости, температура тридцать семь и один».
— Ну, пойдешь на поправку, Николка, — сказал он. — У старика Любимова золотые руки. Да и пуля, она, брат, гладко проходит, как шило. И где же это тебя угораздило?
И Колька стал рассказывать, как он стерег Ваньку-каина и чем это кончилось.
…Всех комсомольцев старше шестнадцати лет разместили в казарме гарнизонной роты, где когда-то служил отец. На заре шли у них строевые занятия, а с обеда все копали окопы на оборонительной линии вдоль восточных и южных границ города.
— Запрягут и нас в казарму, — сказал Димка, когда шел с Настей, Филькой и Силой к Костереву.
— О, молодо-зелено! И с пополнением! — обрадовался Костерев. — А председатель? Что-то его не видно?
Димка рассказал.
Костерев снял трубку и позвонил Краснощекову:
— Доставят нынче бандита Ваньку-каина, по фамилии Заверткин. И с деникинским казаком. Допроси их сам. И судить, судить надо по всей строгости. Из-за этой контры мой комсомолец попал в больницу.
Костерев подошел к Насте.
— Очень рад, что пришла ты. Триста парней у нас в организации, а девушек — раз, и обчелся. Всего девять, и ни одна не явилась на сбор. Я тебя на городском собрании молодежи нынче выпущу, ты всем расскажешь, что в селе делаете. Не забоишься?
— Ой, страх-то какой! — зарделась Настя. — Пускай Димушка скажет.
— Про Димушку иной разговор. Его с ребятами на окопы бросим. А уж ты постарайся! Большой вес будет иметь твое слово.
— Ну, Настенька! — набычился Димка.
— Ладно уж! А где я ребят своих найду?
— Бегите в ремесленное. Там есть комната в общежитии. Вечерком зайдут за тобой наши ребята… Шумилин, ты Толстогузова знаешь? Возьми у него записку на столовую. И лопаты. После обеда пройдитесь на рубеж: там у нас Орлов заправляет. Нынче, с устатку, можете не работать, а завтра — в добрый час!
В столовой съели по миске перловой каши, выпили по стакану сладкого чая с сахарином. Потом заняли маленькую комнатку на четверых — с деревянными топчанами и соломенными матрасами — без подушек и одеял.
Настя осталась отдыхать. А Димка с Филькой и с Силой вышли на левый берег Другуски, завернули к кладбищу. Поперек дороги на Перемышль и на Лихвин и до самой береговой кромки у Жиздры копошились пареньки, накидывая холмики влажной земли перед окопами.
Димка нашел Орлова и получил участок — шагов двадцать в длину.
— Четыре дня, Шумилин, и чтоб все было готово! — сказал Орлов. — А сделаете раньше — и того лучше. Явитесь завтра чуть свет. Обед будет в поле. Ну, а ужин — это как бог даст или Костерев!
Димка обошел участок, покачал головой, свистнул:
— Четыре дня, ого-го! И за неделю не управишься! Про отдых надо забыть!
Он скинул пиджак, плюнул на руки и глубоко вогнал солдатскую лопату с короткой ручкой в податливый грунт. И Силантий пошел рядом и Филька. Лопата послушно уходила в верхний слой. Но скоро стали попадаться гранитные кругляши, и железо скрежетало так, что по коже пробегал холодок.
Соленый пот заструился со лба, по вискам, по спине, под мышками. И ребята кинулись на холодную землю — отдышаться и остыть. Филька полез в карман, достал дудочку-сопелочку. И завел старую песню про Дуню-тонкопряху. И она так живо напомнила о селе, о родных. И о Кольке с Настей.
Кончили копать, когда погасла багровая осенняя заря и пришли потемки. Землекопы уже строились в шеренгу. К ним повел своих дружков Димка. С лопатами на плече зашагали к городу. И услыхали свежую песню Демьяна Бедного, про которую еще не знали в селе:
Как родная меня мать
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала.
И особенно хорошо выкрикивали землекопы такие слога песни:
С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я проведу
С барским сбродом!
Что с попом, что с кулаком
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!..
Димка пришел с ребятами в театр, когда Настя, едва заметная за высокой кумачовой трибуной, говорила последние слова:
— Коля Ладушкин лежит в больнице. А Димка — да вот он Димка с дружками! Сюда идите! — крикнула она своим землякам, которые замешкались в проходе.
Растерялся Димка — и от яркого света четырех «молний» под потолком, и от пытливых глаз, и от шумных хлопков, волной пробежавших по залу. Подскочил Костерев, сгреб Димку в охапку. А тот пыхтел и неуклюже отбивался. И хотелось ему смеяться от радости, плакать от большой дружеской ласки.
Еле-еле уложились ребята в четыре дня, хотя помогала им Настя. Нижний грунт совсем вымотал силы: древний скандинавский ледник накидал непролазные россыпи валунов.
— Вот зловредный! — говорил о нем Димка. — Не хотел догадаться, что придется нам рыть тут окопы против Деникина!
Сдавали лопаты Толстогузову, пряча от чужих взглядов саднящие кровавые мозоли. А в спине и в ногах держалась такая тяжесть, что в общежитие упали на топчаны в одежде и уснули, как в мертвом сказочном царстве.
Рано утром пошли прощаться с Колькой. Он даже хотел вскочить навстречу, но Глафира Антоновна охладила его пыл:
— «Ладушкин, смотри у меня! Всему свой черед. А то друзей твоих выпровожу!
И Колька откинулся на спину. Он оброс за эти дни, еще похудел и вытянулся. И чуть потемнела у него щетинка под носом — робко стали пробиваться первые усики.
Поговорили, поговорили, показали Кольке натруженные ладони.
— А домой когда? — спросил он.
— Да вот с тобой посидим, к фотографу завернем к Костереву, и все наши дела, — сказал Димка.
— Заходил Костерев, — Колька вздохнул и отвел глаза к потолку. — Ты не обижайся, Димушка, и, товарищи не серчайте. Не вернусь я в село. Забирают меня на работу в уком…
— Не шути, Колька! — насупился Димка.
— Какие там шутки! Уходит завтра на позицию Орлов, меня хотят замест его секретарем поставить при Костереве. Я согласился.
— А про нас и не подумал? — спросила Настя.
— Об вас и речь шла. Димку председателем выбирайте — так ладно будет. А тебя, Настя, надо готовить на его место.
— Рехнулся ты, Колька! Да што же это такое? Уж и Димка плох? — вспылила Настя.
— Хорош, хорош! Но не сидеть же ему в селе целый век? Да и я не могу без него. Хоть режь на части!
— За меня не решай! — Димка встал и отошел от койки. — И дома дел много.
— Не бурчи! Скоро депешу дам. Из больницы выйду — и отстукаю. А Костерев вчера письмо послал матери. И Голощапову. Там знают…
Распрощались с Колькой так, словно не надеялись свидеться. И пошли к Сагаловичу делать карточки Насте, Фильке и Силантию.
И снова бегал по ателье гладкий тюлень с тяжелой и черной курчавой бородой от уха до уха, щелкал аппаратом и что-то бормотал в темной клетушке. Услыхал про Кольку, встал во весь рост, поднял к потолку коричневый палец:
— Сагалович — это голова! Говорил он, как в воду глядел: далеко пойдет тот упрямец! И что вы думаете? Пошел! — Сагалович подбежал к Димке, положил ему на плечо бородатое лицо: — А покажи-ка, дружок, где та девочка, что нашла в тебе цимес? — Он засмеялся и пытливо глянул на Настю. Она стала как маков цвет. — Голова, Сагалович, голова! — Фотограф закружился по ателье. — Ему бы звездочетом быть, гадалкой. А он делает снимки для господ комсомольцев! И откуда они растут, как грибы? И где их собирает товарищ Костерев? Четвертая сотня, и все впервые глядят в аппарат!
Он забежал в клетушку, вынес снимки.
— И сколько радости в этой первой карточке, сделанной руками Сагаловича, ай-яй-яй! И забыть эту карточку нельзя. Тетю забудете, племянника не вспомните. А Сагалович, бедный Сагалович всегда будет в вашем сердце!..
— Чудной какой-то! — усмехнулась Настя, когда ребята вышли из ателье и зашагали по главной улице в сторону укома. — Он что? С придурью?
— Нет. Мужик умный.
— Ну, а што? — допытывалась Настя.
— Не знаю. Еврей. По пятницам молится богу.
— Какой там еврей! Чудак, вот и все! — сказал Сила. — А евреи — это в Ветхом завете были.
Димка хотел заспорить, но не успел. На мосту встретился Костерев.
— Домой, значит? — спросил он.
— Ага!
— Ну, не забывайте дорогу в уком — это ваш дом родной. И — счастливого пути! — он протянул руку. — Да, забыл совсем! Казака отправили в штаб, а Ванька-каин: тю-тю, на небесах! Порешили его нынче утром. Шкура, каких поискать! Гранаты хотел кинуть в Голощапова, в Степаниду Гирину, в Анну Шумилину. Да не пришлось! Ну, прощевайте! А ты, Димушка, маменьке поклонись: я ей написал слова два!
Домой шли весело. На татарском кургане отдохнули, и Димка посмешил ребят своим рассказом: как он спал с Колькой на ходу и какой привиделся ему сон.
Кривой перевозчик перебросил их на правый берег Жиздры вместе с подводой: молодая солдатка везла в деревню мужа без правой ноги. Он глядел кругом — на луга, на пашни — и все сокрушался, что не ходить ему с сохой, с острой косой.
— Пошто так, Сеня! — приговаривала солдатка. — Вернулся, и слава богу. А ноженьку себе исделаешь — липовую, легонькую… Как у дяди была.
Доплелись до села поздней ночью — и в постель.
Димку выбрали председателем. И он уже хотел выпускать второй журнал. Но пришел приказ ревкома рыть окопы вдоль дороги на Плохино, делать завалы в Брынском лесу.
Все коммунары с неделю копались как кроты. А школа выехала в Брынский лес валить деревья на дорогах в Думиничи. И, к удивлению сельчан, прихватила с собой благочинного и Алферова, потому что Димка сказал Степаниде:
— Мы будем лес валить, а эти мироеды — в картишки играть? Не пойдет так, Степанида Андреевна. Комсомол не согласен!
Степанида насмеялась досыта.
— И как мне это раньше в башку не стукнуло? Поедут, Димушка, пузаны! Я сейчас поговорю с ними. Они теперь мой разговор хорошо понимают!
И пузаны работали за страх три дня и старались не отставать от Истратова, который ловко подпиливал деревья и точно клал их на цель.
— Трудовое воспитание! — посмеивался Александр Николаевич. — Это ведь всему основа! И попа с лавочником можно вывести в люди. Только стары они, и набита у них голова мякиной!
Кончилась эта страда, и заскучал Димка. Рядом была мать, и Сережка, и Фекла, и Настя с ребятами. Но присох Димка сердцем к своему Кольке и все ждал от него весточки.
И она пришла, когда красные части освободили Орел, а Буденный со своим конным корпусом выбросил Шкуро и Мамонтова из Воронежа. Голощапов показал телеграмму: «Дмитрию Шумилину явиться на работу в уком.
Костерев».
Был ясный осенний день — с первым заморозком и серебристой снежной крупой, совсем как в то далекое утро, с которого Димка стал себя помнить. Тогда была застывшая яма перед крыльцом, и маленький мальчик, в белой шапке из кролика, ввалился в нее, как в пропасть. И завизжал как поросенок, когда его бестолково схватят за заднюю ногу. А все обошлось: ведь рядышком были и дед Семен и мама. Натерли они шалунишку водкой, уложили греться на горячую печь. И когда ж это было? Ой, давно, ой, давно, словно в прошлом веке!
Димка глядел в окно и поджидал ребят. Они пришли, румяные от первого утренника, и уселись за стол. Пили кипяток из самовара — с мятой и с румяными сухарями. И ели с картошкой соленые грузди и рыжики: их собирал Димка с Колькой и с Настей в тот день, когда Ванька-каин сидел у костра в Брынском лесу с двумя казаками. Вчера это было? Нет, давно! Год назад, не меньше!
Просто удивительно, как все отодвинулось в прошлое! Будущее — вот оно, рядом! А все, что когда-то случилось, и померкло и отодвинулось далеко-далеко, стремительно унеслось к горизонту. Словно и не с тобой это было. А умом знаешь — с тобой, с тобой, и забыть его — значит обеднить свою душу!
Видно, и ребята так думали. Сила откинул назад русые волосы, потер горбатый нос. И вспомнил, как врезали ему в спину заряд пшена в саду у благочинного.
— Я-то выкрутился: спасибо дяде Ивану! А Кольку дед Лукьян высек — обронил он в саду мешок с меткой! Бывает же так, а?
У Фильки — на больших лопушистых ушах — были длинные мочки, как сережки у петуха. И он долго дергал себя за правую мочку, пока не открыл рот и не прогундосил:
— А ловко придумали — дохляка благочинному кинуть! Ух, и боялся я! Поймает поп, пропаду ни за грош! И с ружьем. Помнишь, Димка, как сменялись на генеральскую шапку? Да и ты с тем ружьем походил самую малость.
— Пороху нет, дроби. Совсем подбился, — вздохнул Димка.
А Настя подперла лицо ладонями и вспомнила, как она с Димкой тормошила на сеновале убитого горем Кольку:
— Плачь не плачь, а жить надо!
И Димка подумал, что сказала она эти слова со значением.
— Штой-то вы разохались? — спросила мать. — Сидят, как старики, пошли бы проветриться. День-то какой!
— И впрямь! Бежим, братцы, к нашей липе — костер жечь! — предложил Димка.
Но пока ребята собирали над ручьем сушняк, потянуло его к заветному дуплу, где когда-то хранился сказочный склад Кудеяра.
Он легко поднялся по обомшелому наклонному стволу старой липы. Все дорогие сокровища детских лет были на месте: и глазурованные черепки, и цветные стекляшки, и грузный — в медной зелени — екатерининский пятак, и весь набор игры в бабки — и битка, и литок, и гвоздарь, и шлюшки, и пробка из монопольки, и карандаш из лавки, и пуговица от мундира Петра Васильевича Терентьева.
Димка перебирал игрушки и думал:
«И как уйдешь от этого? Да что — безделушки! Тут и дед Семен, и дед Лукьян, и мама, и отец, и Сережка, и дядя Иван, и Фекла, и дружки. Хоть оторвись от земли и хоть лети к звездам, как говорил Минька, а дом есть дом. И держит, и тащит к себе, и скрипит порожком: «Останься! А не можешь, так уходи! Но обо мне всегда помни. Слышишь, человечище?..»
Разгорелся яркий костер.
Глядел на него Димка, а думал о своем: как провели здесь комсомольский праздник и приняли Настю в ячейку. А копнуть дальше, так сколько дел связано с этим бугром над Лазинкой: и как по грибы ходили, и как подсмотрели юродивого, и как старика Голощапова — с бородой Льва Толстого — ухитрились зачислить в шпионы.
Настя, Филька и Сила любовались жарким, трепещущим пламенем. А через костер прыгал Сережка и его сверстники дурачились, кричали, хотели показать себя героями.
— Подыграй, Филя, мою любимую — «Летят утки». Я спою. А то вы сидите нос повеся, — сказала Настя и завела песню про любовь, что пела когда-то для Димки на сенокосе. И чем-то стала похожа она на ту красивую и озорную Стешку, которая пела в барской людской печальную песню про травушку…
На рассвете Димка поцеловал мать, мокрую от слез, обнял Феклу, махнул на прощанье рукой спавшему Сережке, сунул за пояс пистолет дяди Ивана и зашагал — мимо старого барского гнезда, к Обмерике, по той самой дороге на север, где месяц назад провезли Кольку.
Оглянулся на тихие липы, недавно обронившие желтый лист, вздохнул и украдкой смахнул слезу. А у первой березы, где он когда-то дурачился с Колькой и в обнимку катился с ним в овраг по зеленой траве, стояла озябшая Настя. Она молча сунула Димке маленький сверток, обхватила холодными руками его лицо и — поцеловала.
И он ответил ей — просто, чисто, дорого, как родному, близкому человеку. И пошел вперед, унося с собой этот сладостный поцелуй первой юношеской любви.
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Брынские леса — старинное название; в настоящее время Брянские леса.
(обратно)
Оглавление
ОТ АВТОРА
ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!
СОЛНЦЕ В ЛУЖЕ
НЕМЦЫ
СТАРАЯ ШОМПОЛКА
ПОД ГОРУ, В СУГРОБ
ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ
РЫЖИЙ БАРИН
ДЕД СЕМЕН ГОВОРИТ ПРО ЛЮБОВЬ
НЕПОЙМАННАЯ МОЛНИЯ
ОГНЕННЫЙ ШАР
ВСЯКАЯ НЕЖИТЬ И РАЗБОЙНИК КУДЕЯР
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
НА МЕЛЬНИЦЕ
СТАРАЯ ЦЕРКОВНАЯ СТОРОЖКА
ПОД ФЛАГОМ КУДЕЯРА
РЕЗИНОВЫЙ МЯЧ
ОШЕЙНИК ИЗ КАРТОФЕЛЬНОЙ БОТВЫ
ДИМКА ВЫХОДИТ ИЗ РАЗБОЙНИКОВ
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
РАЗГОВОР ПРО ЧУДЕСА
СНЕГИРЬ НА ЕЛОВОЙ ВЕТКЕ
ЧУЖОЙ МУЖИК С ВЕРИГАМИ
ГОРЬКОЕ ЛЕТО
ВОЛОСАТАЯ ЗВЕЗДА
КРАСНЫЙ ПЕТУХ
«ПОСЛЕДНИЙ НОНЕШНИЙ ДЕНЕЧЕК…»
ШКОЛА, ВОЙНА, ЦАРЬ
СУНДУК ДЯДИ ИВАНА
ВЕСНА
ЧУГУНКА
СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
ЛИКА И МИНЬКА
КАВАЛЕР НА КОСТЫЛЯХ
ДЕД АРШАВСКИЙ СНИМАЕТ ШТАНЫ
ГОД УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
ШКОЛА ИЗ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО
КАКИЕ-ТО ВРЕМЕННЫЕ
ВЧЕРА, НЫНЧЕ И ЗАВТРА
СПОЛОХИ
ЗОЛОТАЯ ШЛЯПА КАМЕРГЕРА
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
СЕЛЬСКИЕ НАРКОМЫ
ЗАПАХИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО
НОВАЯ ПЕСНЯ
ЮНОСТЬ НОВОГО ВЕКА
ТРОИЦЫН ДЕНЬ
КЛЯТВА НА КУРГАНЕ
ВАНЬКА-КАИН И КОМПАНИЯ
ПРОЩАЙ, КУДЕЯРОВА ЛИПА!
*** Примечания ***


 ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!
ЗДРАВСТВУЙ, ЖИЗНЬ!
 ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ
ГОСПОДА БУЛГАКОВЫ
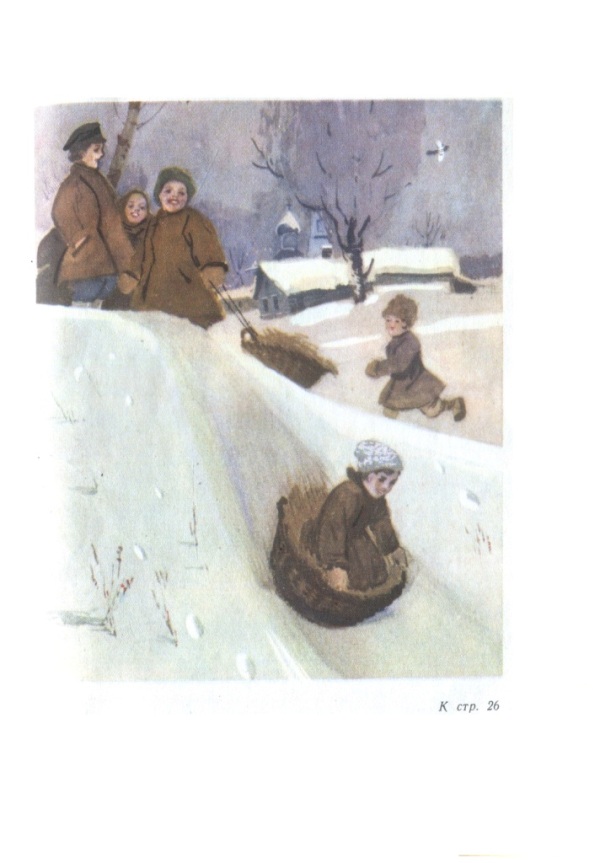
 НЕПОЙМАННАЯ МОЛНИЯ
НЕПОЙМАННАЯ МОЛНИЯ

 ПОД ФЛАГОМ КУДЕЯРА
ПОД ФЛАГОМ КУДЕЯРА
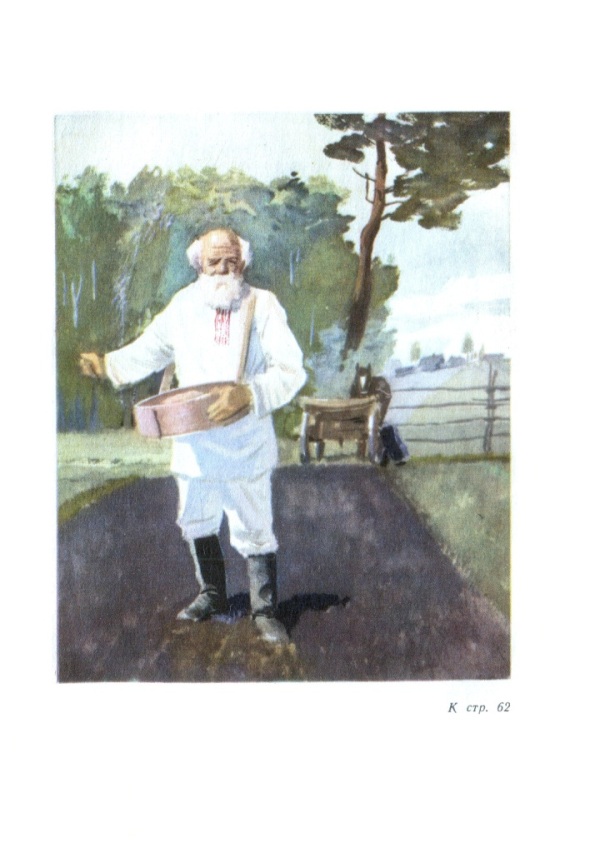
 НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
 ГОРЬКОЕ ЛЕТО
ГОРЬКОЕ ЛЕТО

 ШКОЛА, ВОЙНА, ЦАРЬ
ШКОЛА, ВОЙНА, ЦАРЬ
 СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
 ГОД УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ
ГОД УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ


 ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ!
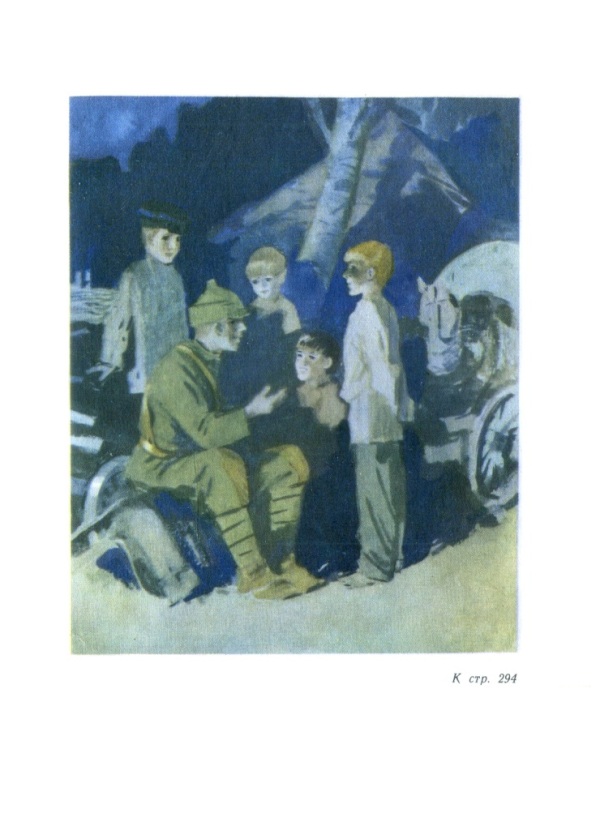
 ЮНОСТЬ НОВОГО ВЕКА
ЮНОСТЬ НОВОГО ВЕКА
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.