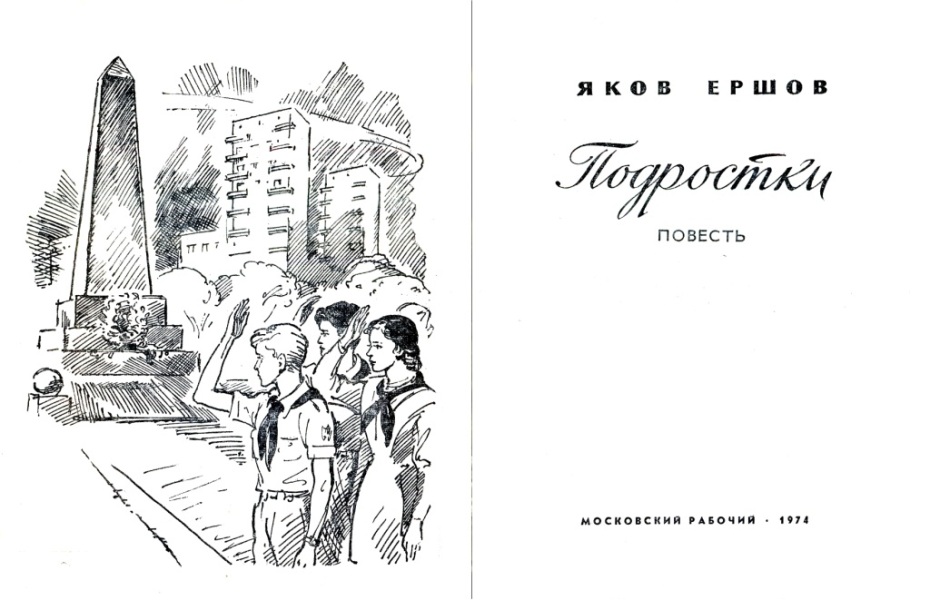
ЯКОВ ЕРШОВ
Подростки
ПОВЕСТЬ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
рассказанная Сережей Нартиковым
МАЛЬЧИШКИ и ДЕВЧОНКИ


В НОВОЙ ШКОЛЕ
Утро того осеннего дня я и сейчас вспоминаю то с радостью, то с грустью. Выдалось оно пасмурным. Небо затянуто низкими, темными тучами. Моросит мелкий, противный дождь. Серая мгла окутывает верхние этажи высоченных коробок-домов. Капли воды набухают на ветках деревьев, сиротливо выстроившихся вдоль тротуаров, и, переполняясь, струнками стекают по стволам. Настроение у меня под стать погоде. Я ругаю себя, сам не знаю за что, ругаю погоду, а больше всего достается родителям. И чего вздумалось им в начале учебного года переезжать на новую квартиру! В другой район Москвы. Подождали бы год, а еще лучше два-три года. Больше терпели. И ничего. А тут, видите ли, загорелось. Да что говорить! Разве они могут ждать. И разве могут понять интересы сына. Подумаешь, школьник! Ничего не случится. А я вот теперь переживай, волнуйся, думай и гадай, как-то все сложится.
Правда, квартира хорошая. Три комнаты. Одна из них для меня. Блаженство. Когда поставили новый диван (он заменил мою старую кровать), я плюхнулся на него и минут пять от радости болтал ногами. Но школа! Что-то ждет меня там? Говорят, девчонки в восьмом «А» классе зазнайки. А мальчишки по каждому поводу пускают в ход кулаки. Придется записаться в секцию бокса, чтобы не оставаться в долгу.
Я старался храбриться, но острое, жгучее чувство тревоги не покидало меня. Собственно, чего мне бояться? Правильно сказал отец, с которым мы вместе вышли из дому: «Три к носу, все пройдет. Стерпится — слюбится». А все же кошки скребут на душе. Стараюсь успокоить себя. Чего, мол, тут особенного? Не каменный же я. Волнуется и первоклассник, когда первый раз переступает порог школы. Но его заботы сродни всему неведомому, неиспытанному, чему идут навстречу не столько с тревогой, сколь и с нетерпением. Он мечтает увидеть что-то интересное, приоткрывающее дверь в другой, доселе неведомый мир. И все равно, какая будет учительница, лишь бы она поскорее вошла в класс, поскорее повела за собой. Совсем другое дело, когда позади семь классов, когда появились уже симпатии и антипатии и где-то остались друзья-приятели, которые сядут сегодня за парту без тебя. А впереди еще неясно, как встретят тебя на новом месте, какие будут учителя и сумеешь ли ты быстро к ним привыкнуть. И как примет тебя класс. Тут важна даже такая деталь, где и с кем тебя посадят.
Неторопливо шагая с толстым портфелем в руке по скользкому, мокрому тротуару, я в который раз стараюсь предугадать, как все сложится. Пожалуй, лучше всего, не привлекая ничье внимание, войти вместе со всеми в класс и стать у окна. Подождать, когда все усядутся. И тогда пройти на свободное место. Конечно, выбора уже не будет: тут как повезет. Лучше, понятно, сидеть с мальчишкой. Девчонки, они капризные. И ябеды. Как правило. Сама же задерется, а потом кричит, что к ней пристают. А с мальчишкой всегда можно посчитаться, если что не так. Верно, и среди мальчишек попадаются пакостники. Но реже.
Чем ближе к школе, тем теснее на тротуаре. Уже со всех сторон обступают меня мальчишки и девчонки с сумками, с портфелями, и просто с книгами в руках. И я вливаюсь в эту говорливую живую реку и вдруг решаю: зачем волноваться, предполагать, угадывать? Надо просто идти вместе со всеми мальчишками и девчонками так, как будто бы хожу сюда уже семь лет. Это моя родная школа. Такие же вихрастые, задиристые мальчишки. И такие же то насмешливые, то плаксивые девчонки. И ничего особенного не случилось.
Я пнул ногой палку, валявшуюся на тротуаре, взмахнул широко портфелем и решительно повернул в распахнутые настежь ворота школы.
Потом я часто вспоминал этот день. Связывал с ним многие и счастливые и грустные периоды в своей жизни. Сколько я тогда перебрал вариантов своего появления в классе! А ни один не совпал с действительностью. Началось с того, что у дверей класса меня встретила Ольга Федоровна Мясницкая. Еще молодая, низенькая, с очень строгим, как мне показалось, усталым выражением лица. Я уже разговаривал с ней, когда вместе с мамой приносил документы в школу.
— Новенький? — спросила она. — Вот и хорошо. Я сразу представлю тебя классу.
Пришлось идти вместе с учительницей, как первокласснику. Настроение и вовсе испортилось. Я пробурчал что-то, пытаясь выразить свое недовольство: Ольга Федоровна не обратила внимания. У нее тридцать пять учеников. Не подстроишься под настроение каждого. Она вошла в класс, пропуская меня вперед и чуть подталкивая рукой в спину. Поздоровалась с учениками и представила новенького, то есть меня.
— Прошу любить и жаловать, — сказала стандартную фразу.
Она окинула класс взглядом и увидела свободное место. Оно было единственным. Это я сразу заметил. Стол стоял недалеко от стола, отведенного для учителя, и за ним сидела тоненькая, с узкими плечиками и вздернутым носиком девчонка и бесцеремонно смотрела на меня. В глазах ее прыгали смешинки.
— Что ж, Сережа, тебе повезло, — сказала Ольга Федоровна, снова подталкивая меня в спину. — Садись с Ниной. Она у нас отличница. Очень серьезная девочка. Так что тебе будет спокойно.
А я, едва увидев и это единственное свободное место за столом, и эту капризно выпятившую губки, сразу вспыхнувшую ярким румянцем девчонку, растерялся и даже немного отступил назад, к Ольге Федоровне.
Та по-своему истолковала эту мою нерешительность и снова легонько подтолкнула в спину:
— Ты не бойся, Нина у нас не кусается.
В классе заулыбались.
— Ты что, недоволен? — спросила Ольга Федоровна.
— Почему же, — ответил я, поборов смущение, — очень даже доволен. Мы, кстати, знакомы. Живем в одном квартале, вчера виделись.
Нина передернула плечами и ответила нарочито громко:
— Что-то не помню.
В классе откровенно засмеялись.
— Тихо, ребята, — предупредила Ольга Федоровка. — Нина не сказала ничего смешного.
Я прошел вперед и, поставив сбоку свой тяжелый портфель, сказал не очень учтиво:
— Подвинься.
— Вот еще, — прошептала Нина. — Барин нашелся. Хватит тебе места.
На пререкание у меня не оставалось времени, и я, плюхнувшись на скамейку, легонько отодвинул соседку. И тут же получил сильный тумак в бок острым девичьим кулачком.
— Вот тебе!
— Начнем урок, — сказала Ольга Федоровна, доставая классный журнал.
Я посмотрел на Нину. В ее глазах еще яростнее прыгали смешинки. Мне ничего не оставалось, как признать свое поражение. Два — ноль в ее пользу. Но ничего. Еще посмотрим, чья возьмет.
Постепенно освоившись, я стал оглядываться по сторонам. И сразу же обнаружил знакомого. За столом у окна сидел худощавый, высокий, со спускающейся на глаза темной челкой волос Боря Мухин. Вместе с ним я учился до шестого класса. Мы даже дружили. Ходили друг к другу делать уроки. Потом Борина семья переехала в этот район, и нам пришлось расстаться. И вот новая встреча. Поймав полный любопытства взгляд Бори, я ответил ему улыбкой.
На первой же перемене меня обступили ребята. Через их плечи, становясь на цыпочки, заглядывали и девчонки. Фыркали и убегали.
Подошел, растолкав всех плечом, высокий, плотный парень, протянул руку:
— Родин. Подсказывать будешь?
— Взаимно.
— Тогда лады. Поборемся?
— Завтра, — машинально ответил я, чтобы отвязался.
— Правильно. Никогда не надо делать сегодня то, что можно сделать завтра.
Наконец мы остались с Борей вдвоем.
— Что это за балбес ко мне привязывался? — спросил я.
— Родин-то? А ничего. Он добродушный. Зря не лезет. Лодырь только.
— А я, знаешь, сразу обрадовался, как тебя увидел. Вот, думаю, повезло мне: друга встретил. Сначала, когда вошел в класс, даже оробел. Аж мурашки по спине пробежали. Кругом незнакомые лица. Смотрят настороженно. А как тебя увидел, отлегло на сердце. Все-таки свой.
Боря соглашался, кивал головой.
— Мне хуже было. Ни одного знакомого. А ничего, освоился. Народ здесь хороший. Преподаватели сильные. Ребята, понятно, всякие попадаются. Но в общем-то нормальные, в беде не оставят. И кляузничать не любят. А я терпеть не могу, когда кляузничают. Что мальчишки, что девчонки. В той школе у нас был один такой. Помнишь? Я, как ушел, с одной стороны, жалел, а с другой — и рад был, что от него избавился.
— А кто вот этот, ходит таким пижоном?
— Перепелкин. Стасик. Отличник. У Ольги Федоровны в любимчиках. Лично мне не очень нравится. Скользкий какой-то. Гладенький. Все у него в ажуре. И с ребятами вроде ладит. Без него ни одно общественное дело не обходится. А спроси, кто у него друг в классе, пожалуй, и не назовет.
— Придираешься ты к нему.
— Да нет. Мне-то что. Пусть живет. Благополучненький. А вот зависти к таким нет.
— А с ним что за девчонка сидит?
— Света Пажитнова. Веселая. Хохотушка. А к школе относится серьезно. Даже чересчур. Готова корпеть, зубрить, твердить, даже списывать, лишь бы пятерку получить. Вот неправильно у нас это! Пятерка! Да, может, в жизни-то она ничего не стоит, пятерка эта! Сочинения она пишет на пятерку. Про подвиги разные. А коснись до дела. В кусты.
— Что-то ты уж очень и к Свете…
— Да не про нее я. А вообще. Бывают же такие.
— Бывают.
— Значит, не в пятерках дело.
— Так ты и меня в корысти обвинишь. У меня тоже случается, пятерки в дневнике ночуют.
Боря не стал продолжать этот разговор.
— Ладно, — махнул он рукой. — Поживешь — увидишь.
— А соседка моя что за птица?
— Нина-то? Ничего, справедливая. Эта не будет кляузничать. Скорее на себя вину возьмет.
— А мне показалось, заноза порядочная.
— Да нет. Вообще в классе народ компанейский. Не унывай.
Час пролетел незаметно. Следующим был урок истории, и мы перетащили свои портфели в другой класс. В нем также стояли столы. Войдя после перемены в класс, я заметил, что наш стол разделен жирной белой чертой на две половинки. Нина чинно сидела на своей стороне, сложив бантиком пухлые губки.
— Твоя работа? — спросил я.
— Вот еще, — дернулась она. — Охота мне… связываться.
Историю вела, как мне успел сказать Боря, заместитель директора по внеклассной работе Надежда Михайловна Богданова. Она уже вошла в класс и открыла журнал, а я все еще стоял около своего стола.
— Новенький? — спросила Надежда Михайловна. — Что же ты стоишь? Не робей, садись на свое место.
В задних рядах захихикали. А я, повернувшись, пошел к доске.
— Куда же ты? — удивилась учительница. — Садись на место. Не мешай вести урок.
Но я упрямо шел вперед. И уже у самой доски, протянув руку за тряпкой, счел нужным объяснить:
— Тут кто-то мелком измазал наш стол. Я боюсь, что моя соседка испачкает платье и ей дома за это попадет.
Я взял тряпку, прошел к столу и стер проведенную мелом черту.
Надежда Михайловна спокойно ждала, пока я закончу эту операцию. Потом сказала:
— Послушай, Сережа (наверное, в классном журнале она вычитала мое имя), с первого дня ты нарушаешь порядок. Это не годится. Делаю тебе замечание. И запомни: еще одно такое замечание, и я попрошу тебя из класса.
Я молча опустился на свое место.
— Что, достукался? — сверкнула на меня темными, но вовсе не злыми глазами Нина.
Все-таки я решил выяснить после уроков, действительно ли у Нины такая плохая память, что она забыла о вчерашней нашей встрече. Отец мой оказался приятелем ее отца. Они столкнулись лицом к лицу у остановки автобуса. Разговорились. Один представил свою дочку, другой сына. Мой отец посетовал, что приходится отправлять сына в новую школу, когда учебный год уже начался. А Нина тут же вставила:
— У нас школа хорошая.
— Правда, хорошая? — не утерпел я.
— Приходи, сам убедишься.
А в классе сделала вид, будто не знает меня.
Теперь я хотел понять, что случилось. Но сколько ни вертелся во дворе школы, Нина не выходила. Присел на скамейку. Решил ждать хоть до ночи. Вывела меня из задумчивости Света. Подбежала, хохотнула, толкнула в бок портфелем:
— Новенький! Нину, что ль, ждешь? Не дождешься. Она сразу после уроков домой ушла. Вон с той стороны. Через двор. Там дырка в заборе есть. Ты новенький, не знаешь.
Я ничего не ответил. Встал, поднял с земли свой портфель и медленно побрел домой.
ПЕРВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Мне хотелось побыть одному. Подумать. А может, просто немного успокоиться, поостыть. Но и отец и мать оба оказались дома. Только, наверное, и ждали моего возвращения из школы. И сразу — с расспросами: как да что? Понравилось ли? Хорошо ли встретили? Словно я в гости ездил. Хотел промолчать. Да разве от них скроешь! К тому же у меня на лице, видно, было написано все мое неудовольствие. Пришлось рассказать и про соседку, и про замечание, полученное от учительницы.
— Не повезло мне, — угрюмо подытожил я.
Отец тут же принялся доказывать обратное:
— Да что ты! Помню, когда я учился, все мальчишки только и мечтали сидеть с девчонками. Я, например, у своей соседки всегда задачки списывал.
— Ну вот еще! — запротестовала мать. — Чему ребенка учишь?
— А что поделаешь, — развел руками отец. — Что было — то было. Каюсь, допускал ошибку. Вот и не вышло из меня инженера.
Папа у меня чудак. Чуть что — так кается. А ведь все знают, что он лучший токарь на заводе. Инструментальщик. Инженеры к нему за советом идут. Про это молчит.
Но мне-то от всего этого не легче. Сделал бравый вид, после обеда засел готовить уроки. Наутро в школу шел с неохотой. И словно предчувствовал: кто-то опять наш стол разделил пополам мелом. Я не обратил внимания. Думаю, ладно, посмотрим, что дальше будет. На большой перемене подходит ко мне Стасик Перепелкин:
— Хотел тебя предупредить, да вижу, сам понял: линию эту не стирай. Пускай между вами водораздел будет. Так надо.
— Кому надо?
— Нам надо. Мне.
— Я у тебя в подчинении не состою.
Но Стасик твердит свое:
— Не будь дураком, прислушайся к умному совету.
— И не подумаю.
Повернулся и ушел. А едва начался урок, взял тряпку и стер этот противный водораздел к черту. Минут пять тер, аж руки заныли. Получил замечание теперь уже от Ольги Федоровны, нашей классной руководительницы. Соседка по столу всю эту мою операцию будто и не видела. Так, глазами скосит и отвернется. Сидит, как истукан, словно ее не касается. Но я тоже выдержал марку. Молча отнес тряпку и сел на место.
После занятий за мной увязался Стасик. Что ж, думаю, отступать не буду. Сердце, конечно, немножко постукивает, но ничего, терпимо. Стасик догнал меня в сквере.
— Погоди, поговорить надо. Чего удираешь?
Голос у него скрипучий, дребезжащий.
— Почему не внял разумному совету? Я ж тебя предупреждал.
— А кто ты такой?
— Мы — общественность.
Я усмехнулся:
— Мычать и корова может.
Стасик побагровел:
— Брось самовольничать! И к Нине не лезь. Без тебя есть у нее друзья.
— Не нужна мне ваша Нина, а насмехаться над собой не позволю. И водораздел твой, если еще раз проведешь, сотру.
— Сотрешь?
— Сотру.
— Ну, сейчас ты у меня получишь.
Он выставил вперед кулаки. Я приготовился дать сдачи. Но тут из-за поворота вышли четверо наших одноклассников. Почему-то в школе их называли «братьями Федоровыми». Почему? Я так и не понял. Фамилии у них разные. Никакой ассоциации. Есть сестры Федоровы, но братья? Знаменские, еще куда ни шло. А тут… В общем, Федоровы. Маленькие, тоненькие, каждый по отдельности они ничего не стоили. Но они всегда ходили вместе, и попробуй их тронь. Четверо. Любому надают тумаков и убегут.
Поэтому с «братьями» никто не хотел связываться.
— Стасик! — окликнули они еще издали. — Мы тебя как раз ищем.
— Чего? — недовольно отозвался Стасик. Появление «братьев» расстраивало все его планы.
«Братья» подошли, замкнули нас в кольцо.
— Новенького не тронь, — сказал один из них. — Он у нас под защитой.
— Да я ничего, — отступил Стасик. — Поговорить только хотел.
— Поговорил, и хватит. Он правильно сделал. Класс одобряет.
Они увели Стасика. Чудаки. Все равно ж я бы не отступил. А теперь получалось, вроде бы я струсил.
На другой день я спросил Нину:
— Этот долговязый Стасик, кто он тебе?
— Никто.
— А чего он за тебя заступается?
— За меня все заступаются. Не запретишь же!
— Мелом-то на нашем столе он упражнялся, — сказал я.
— Чудак.
— Чего ему надо?
— А я знаю? Ненормальный.
Но мне захотелось узнать, как Нина относится к Стасику, к «братьям Федоровым», к другим мальчишкам. Я все чаще стал поглядывать на нее. Меня удивляли ее глаза. Лицо ее редко меняло выражение. А вот глаза! В них можно было увидеть все. То гнев, то радость, то доброту, то осуждение. И когда она смотрела на меня (хотя это случалось редко), в глазах уже не было злорадства, как прежде. А вот поступки ее не вязались с тем, о чем говорили ее глаза.
Прошло уже две недели, как я определился в новой школе. Все, кажется, успокоилось. И вдруг сегодня снова разразилась буря. Началось с того, что Нина получила по физике двойку. Вот тебе и отличница! Вся пунцовая прошла она от доски к столу, села на краешек скамейки, отвернулась от меня к окну. Она всегда так делала, когда была не в духе. В классе установилась гнетущая тишина. Наш физик Федор Лукич спокойно довел урок, и все вышли из класса тихо-тихо, словно чувствовали себя виновными за эту двойку. На следующий час мы перешли в географический кабинет. Нина немного успокоилась. Я все поглядывал на нее, стараясь выбрать подходящий момент, чтобы отвлечь от грустных мыслей. А она вдруг бросила ручку, повернулась ко мне и громко, на весь класс сказала:
— Не смей на меня глаза пялить! — И пристукнула маленьким беленьким кулачком по столу. — Что я тебе, новые ворота, что ты на меня, как баран, уставился?
Это было уже слишком. Я сидел красный, как вареный рак, и не знаю, сказал ли что-нибудь, потому что не помню, как вскочил и выбежал из класса.
Слух о Нининой двойке между тем дошел до учительской, и говорили, что Ольгу Федоровну вызывала завуч. О чем они толковали, не знаю, только Ольга Федоровна, придя в класс на свой урок, тотчас же решила уточнить у Нины, как все произошло. Нина отделалась общими фразами. А когда прозвенел звонок, возвещающий о конце урока, подошла к Ольге Федоровне и попросила:
— Пересадите меня, пожалуйста, на другое место. Хоть на самое, на самое плохое. Я на все согласна.
У Ольги Федоровны вытянулось от удивления и без того худощавое, длинное лицо, а глаза округлились, как теннисные шарики.
— Что за каприз, Нина? — спросила она. — Ты меня удивляешь.
Но Нина не отходила и стояла на своем, хотя ее обращение к классному руководителю привлекло внимание любопытных, а их в каждом классе хватает, и около стола собралось с десяток учеников.
— Вовсе не каприз, — покраснев, ответила Нина. — Просто я не хочу сидеть с Сережей Нартиковым. Он мне все время в глаза смотрит.
— Глупости, — отмахнулась Ольга Федоровна. — Что это с вами происходит? То Тамара Белова с Борей Мухиным капризничали, то теперь ты с Сережей.
— Я не капризничаю! — крикнул я с места, торопясь поскорее собрать портфель. — По мне пусть сидит. Могу даже не обращать внимания.
Света Пажитнова прыснула в ладонь и выбежала из класса. Ольга Федоровна сочла за благо выпроводить в коридор и остальных ребят.
— Идите, идите! — подталкивала она наиболее неторопливых. — Дайте нам поговорить с Ниной.
Я вышел вместе с Борей Мухиным. Хотел спросить, чего они с Тамарой капризничали, но решил, что вопрос будет некстати. Не о них, обо мне сейчас разговор. И побежал вперед, будто бы спешу в буфет.
— Не переживай, — догнал меня и зашептал на самое ухо Боря. — Это она по глупости сболтнула. Все уладится.
Но ничего не уладилось. Уже на следующем уроке Нина пересела к Славику Перепелкину. А место рядом со мной заняла круглая, как мячик, Светка Пажитнова.
— На меня можешь смотреть сколько угодно, — смеясь, заявила она. — Не убегу. Мне даже нравится, когда на меня мальчишки смотрят.
Я отвернулся.
НАЕДИНЕ С СОБОЙ
Все-таки я выведал, о каких капризах Тамары и Бори говорила Ольга Федоровна. Действительно, пустяк. Взрослые всегда готовы из мухи слона изобразить. Просто они хотели на уроках сидеть вместе. Потому что Боря помогает Тамаре. Он сильный. И по математике и по физике. А у нее как раз тут пробел. Понятно, когда вместе сидишь на уроках, помогать легче. Тут же можно объяснить, если что неясно. Но Ольга Федоровна их не поняла. Посчитала просьбу за каприз. Конечно, я ее не осуждаю. Ей тоже с нами не легко. Сделаешь поблажку одним, и другие запросятся. И получится, как сейчас, после этого Нининого фокуса. Все вдруг захотели меняться местами. Директор приходил, уговаривал.
А Тамара и Боря иначе поступили. Стали оставаться после уроков. Конечно, им хорошо. У них дружба. А у нас с Ниной вражда. Хотя я против нее абсолютно ничего не имею. Настроение у меня все же испортилось. Боря сразу это подметил. И когда мы вышли из школы, сказал:
— Не печалься о своей Нине. Пойдем лучше с нами. Мы с Тамарой в кино собрались.
А я тогда еще и не печалился. Тем более о Нине. Просто скверно было на душе. И я согласился. Пошел с ними в кино. С тех пор и повелось. Куда они, туда и я. Дружба — водой не разольешь. Тамара — девчонка общительная, веселая. В художественной самодеятельности участвует. Два года в музыкальной школе училась. Еще до смерти отца. А Боря тоже на баяне пробует. Ну и я с ними за компанию: на гитаре стал играть. Нас так и прозвали — «музыкальное трио».
Все, кажется, наладилось. Только, с тех пор как Нина пересела от меня на другое место, порою после уроков или по вечерам, выполнив домашние задания, уходил я в старый парк, на берег озера. Там, в тишине, мне было лучше. Я понимал, что у Бори и Тамары свои разговоры, свои интересы, и старался не докучать им. В парке из ребят меня редко кто мог увидеть. Лишь отец знал об этом моем убежище. Закинув удочку, сидел я на одном месте, наблюдал и мечтал.
Осень стряхивала пожелтевшие листья с деревьев. По-разному расставались они со своим потускневшим, когда-то зеленым нарядом. Одни сбрасывали листья легко и свободно, словно те все лето были им в тягость, и теперь легкого ветерка достаточно, чтобы маленькие парашютики, как желтые мохнатые снежинки, посыпались на землю, устилая ее пушистым и шуршащим ковром. Такие деревья я относил к числу капризуль и недотрог, модниц, которые то и дело меняют наряды, и, чуть задержались в одном платьице, им уже и не по себе, они уже и печалятся и плачутся на свою судьбу. Ведь и люди встречаются такие. Вон взять хотя бы Светку Пажитнову. Каждый вечер вылетает на улицу в другом платьице, с новой косынкой на голове или с новой лентой в косах. И когда только успевает переодеваться да причесываться!
Но есть деревья, для которых их зеленый наряд настолько дорог, что и поздней осенью они не хотят с ним прощаться. И солнце иссушит их листья, и мороз отнимет зеленый цвет — цвет молодости, и высветлит, выжелтит их. И ветер нещадно рвет их и треплет. А деревья все держат их, берегут, не пускают. Так и стоят они до весны, играя сережками созревших уже семян и шурша пожелтевшими сухими листьями. И только тогда, когда пригреет солнце, набухнут почки и проклюнутся новые листочки, только тогда разрешают они уставшему за зиму и уже смирившемуся с неудачами ветру испытать наконец радость победы и один за одним унести золотистые пластинки и сережки в чернеющее первыми проталинами поле.
Под стать таким деревьям у нас в классе Борька Мухин. Как упрется в чем, вовек его не собьешь. Не отступит, пока не настоит на своем.
А есть деревья с другим характером. Такие мне особенно нравятся. Они отличаются завидным постоянством. Они, как вот эта елочка, никогда не меняют свой наряд. Осенью какой бы ни бушевал ветер, как бы ни налетал, — запутает, закружит елочка его в своих иголках. И утихомирится суровый великан и уже не рычит, а только вздыхает удовлетворенно: ух, ух! Зимой бережет елочка свою зелень от чужого глаза, прикрыв ее белым снегом.
А ранней весной елочка лишь отряхнет берегшие ее снежинки, умоется свежим майским дождем и словно обновится, помолодеет. За лето прибавит она свежих зеленых иголочек, вытянется вверх и еще стройнее, еще красивее станет.
Такой хотелось бы видеть мне Нину Звягинцеву. Очень она похожа на елочку по всему облику своему. Всегда после уроков в зеленой шапочке, так понравившейся мне, и в неизменном сереньком с белыми полосками платьице. И выросла она уже из него и вытянулась. Сколько раз любовался я ею тайком от всех и от себя! Стоит она с кем-нибудь из подружек у окошка в школьном коридоре, как цапля на своих голенастых ногах. Поднимет ногу, носком одной туфельки каблука другой туфельки коснется. И совсем уж тогда на цаплю похожа. Шейку вытянет, глазки так и сверкают. Радости в них и счастья на весь мир хватит.
Такой виделась она мне в моих мечтах. И знаю ведь, что другая она, взбалмошная и вздорная, никогда не угадаешь, что вдруг выкинет, а вот размечтаюсь и бог весть что себе воображу. С тех пор как Нина опозорила меня, заявив при всем честном народе, что я ей в глаза заглядываю, старался обходить я ее стороной. Зато появилась у меня другая привычка: в воскресные дни мог я часами сидеть на берегу озера с удочкой и глядеть, как отражается мир в его чуть зеленоватой глубокой воде. Иногда мне казалось, что я вижу в бездонной глубине то, что искрилось в Нининых глазах, когда они были добрыми.
Это сравнение особенно поражает меня вот в такие, как этот, тихие часы. Вода в озере светлеет, и видно глубоко-глубоко, и если дать волю воображению, то можно проследить не только за тем, что делается сейчас в школе, но даже узнать, как сложится жизнь нашего класса. Вон там, в глубине, кто-то скромно шагает, опираясь на тросточку. Время клонит его к земле. Да это же Виталий Витальевич, математик из моей первой школы. Он доведет свой класс и уйдет на пенсию. Жаль Виталия Витальевича. Я любил его, наверное, больше всех на свете. Конечно, после папы и мамы, братика Ефимки и… и… еще кое-кого. Я даже не знаю, что полюбил прежде: математику, а потом Виталия Витальевича или, наоборот, Виталия Витальевича, а потом математику. Но, наверное, не будь Виталия Витальевича, не было бы и Сережи Нартикова — участника всех школьных, районных и городских математических олимпиад.
А вот что-то сверкнуло на поверхности, такое яркое, серебристое. Ах, это моя теперешняя соседка по классу Светка Пажитнова. Эта сразу же по окончании школы выскочит замуж. Тут и гадать нечего. Уже сейчас тайком губы подкрашивает. И сразу пойдет к закату ее звезда. Все, к чему в жизни стремилась, уже достигнуто.
«Уж не жду от жизни ничего я», — усмехаюсь я грустно. Но почему-то нисколечко не пожалел о Светке. С этой все ясно.
«А что ждет меня впереди? — подумал и посмотрел в голубеющую под лучами неяркого солнца темень воды. — Как-то сложится моя судьба?»
И захотелось мне увидеть себя рядом с Ниной, мчащимся на сверкающем звездолете. Я в командирском кресле управляю полетом, а Нина у пульта счетно-вычислительной машины определяет маршрут корабля. Мы одни во всем космическом мире. Совсем одни.
— Сколько еще осталось до Венеры, Ниночка? — спрашиваю я.
— Две недели полета, — чуть повернув голову и скосив глаза, чтобы лучше видеть командира, отвечает Нина.
— Может, мы заглянем сначала на Марс? — предлагаю я.
— Заглянем, — соглашается Нина и быстрыми мягкими пальцами нажимает на клавиши машины, чтобы рассчитать изменение маршрута…
Вот какая блажь стала приходить мне в голову. Надо же! Казалось бы, все ясно. С Ниной мы в ссоре. Ну и выбрось ее из головы. Ан, нет. Наоборот, так все мысли и крутятся вокруг нее.
Тишина. Не шелохнутся деревья, не всплеснет волна на песчаном берегу озера.
— Хо-ро-шо! — блаженно потягиваясь, шепчу я.
Чок! — словно в ответ плеснулась рыбина в зарослях камыша.
— Вот дуреха! — рассердился я. — Такую тишину испортила.
Удар щуки словно послужил сигналом к общему пробуждению. Совсем рядом захлопала крыльями и защелкала сорока. Стайка дроздов налетела на красневшую от обилия ягод рябину, и по парку разнесся их дробный посвист: цок-цок-цок. Легкий ветерок слегка зарябил озеро и качнул застывший было намертво поплавок.
Посидеть бы еще, повезет — и возьмет крупная рыба. Но знаю: дома будут беспокоиться. Пора уходить. Смотав удочку, тихо бреду по тропинке к главной аллее парка.
Путь мой лежит мимо высоковольтной линии. И хотя он длиннее, чем людная дорога, ведущая к центральному входу, он кажется мне значительно удобнее, так как после первого же поворота видна сквозь просветы между деревьями красная крыша Нининого дома. А перейдя через шоссе, я сразу выхожу к огороженному высоким забором научно-исследовательскому институту и могу еще целых десять минут идти вдоль забора и надеяться, что, может быть, мать пошлет Нину за молоком или в булочную. И тогда мы до самого магазина будем шагать вдвоем. И никто не подумает, что я специально поджидал Нину, потому что магазин стоит у самого моего дома. А разве нельзя на улице повстречать человека, с которым учишься в одном классе, и пройти с ним до магазина, если нам по пути?
Мне очень хочется повстречать Нину. Потому что с тех пор как я перешел в эту школу и как я ее увидел, мы еще ни разу не говорили с глазу на глаз. А мне хотелось бы спросить, чего она на меня так взъелась, чем я ей не угодил.
Я медленно прошел весь путь до своего дома. Но Нины не встретил. А попалась мне у магазина Светка Пажитнова.
— Пойдем сегодня на танцы, — предложила она.
— С чего бы это?
— Просто так.
Я отказался. Из нашего класса никто из ребят на танцы не ходил, хотя и устраивались они в соседнем со школой клубе. А девчонки бегали. Постоят у стен, поглазеют. Потом, осмелев, начнут друг дружку приглашать. А там, глядишь, и посолиднее партнеры найдутся. И родительский совет, и учителя были против подобных посещений клуба. «Рановато», — говорили они. Но разве за девчонками уследишь!
Вечером я не утерпел и все же пошел к клубу. Сначала смотрел в окно. Потом пробрался в зал. Увидел Свету Пажитнову, Нину. Они тоже заметили меня. Светка, склонившись, зашептала Нине на ухо, кивая в мою сторону.
В коридоре клуба болтался Стасик Перепелкин. Видно, поджидал Нину. Я повернулся и пошел к выходу. Вскоре выскочила и Нина. К ней подлетел Стасик. Я слышал, как она ему сказала:
— Нет, нет, я сама дойду.
Видно, Стасик набивался ее проводить. Нина ушла. Я шел вслед за ней до самого ее дома.
ОТЕЦ
В прорезь почтового ящика ясно вижу опущенную туда газету. Пытаюсь дотянуться до нее кончиками пальцев. Газета чуть приподымается вверх, но в самый последний момент выскальзывает, и все приходится начинать сначала. Промучившись минут пять, нащупываю в кармане куртки карандаш и, поддев им газетный лист снизу, все-таки вытаскиваю его наружу.
Прежде всего смотрю на четвертую полосу. Футбол, хоккей. Опять наши выиграли! Машинально перевернув газету, вижу на первой странице большущий портрет отца. Читаю над портретом: «Передовики предоктябрьского соревнования» И внизу: «Лучший токарь-инструментальщик Назар Павлович Нартиков». Размахивая газетой, перепрыгивая через две ступеньки, несусь вверх, в свою квартиру.
Отец уже дома. Молча кладу перед ним газету, сам деловито достаю хлеб из сумки.
— Что ж ты одну только газету предъявил? — усмехаясь в черные усы, проговорил отец. — Доставай и свой дневник. Посчитаем, кто как выполняет договор о социалистическом соревновании.
Я продолжаю копаться в сумке, словно булки там застряли или зацепились одна за другую и никак их не отцепить.
— Правда, сынок, — подхватывает предложение отца мать. — Ты нам так редко о своих успехах рассказываешь. Поделился бы, как там у тебя в школе.
Я прекрасно понимаю, что мне очень невыгоден сейчас весь этот разговор, и пытаюсь отойти на заранее подготовленные позиции.
— Мама, ты же папку нашего хорошо знаешь. Он хитер. И, конечно, опытнее меня, поэтому всегда выбирает такой момент для подведения итогов, когда его, можно сказать, крыть нечем. Посмотри, какой портретище в газете поместили. Да еще слов разных высоких печатными буквами наставили. И лучший, и передовик, и все такое прочее. А у меня — вы сейчас же про родительское собрание вспоминать будете. Хотя того не знаете, что уважаемая Ольга Федоровна на родительских собраниях старается больше про промашки говорить. Хорошее-то от нас не уйдет, скажет, а вот послушайте, что наши сорванцы натворили. Какое ж тут соревнование? Я у папы на производственном собрании ни разу не был. Может, там тоже про недостатки высказываются.
Отец неожиданно взял мою сторону.
— Гляди-ко, — усмехнулся он. — Несмышленышем прикидывается, а дело говорит. Верно, на производственных совещаниях с нас крепко стружку снимают. Без этого нельзя. Друг дружку сами с наждачком протираем. Чтоб чище были. Иначе какие же мы инструментальщики, если ржавчину друг с друга вовремя не очистим? Оттого, между прочим, и первое место по заводу держим. Не даем никому застояться.
Он поднялся из-за стола, большой, сильный, и вдруг сказал такое, чего я вовсе и не ожидал:
— Давно надо было тебя на завод сводить. Да все откладывал: думал, пусть подрастет. А теперь вот, гляжу, не опоздал ли?
Я не помнил, с каких пор установились у меня с отцом такие добрые, сердечные отношения. Скорее всего, они такими были всегда. А может быть, с того памятного вечера, когда, придя с работы, отец посадил меня на широкое колено и стал рассказывать про завод, про мастерство токарей-инструментальщиков. И выходило, что нет на свете лучше и краше профессии токаря.
Мать налила нам по тарелке наваристых щей, и, склонившись над столом, отец хлебал деревянной ложкой щи и спрашивал:
— Куда же теперь твои ноги поворачиваются? Кем же ты решил стать? Или все еще раздумываешь?
Меньшой братишка Ефимка заерзал на стуле и, прожевывая кусок мяса, выпалил:
— Я уже решил. И с учительницей договорился. Она меня на космонавта учить будет.
Отец строго посмотрел на Ефимку из-под густых бровей и постукал ложкой по краю тарелки.
— Не вмешивайся, Ефимка, когда тебя не спрашивают. Поимей в виду: твой черед отвечать на этот вопрос еще впереди.
— Правда, Ефимушка, — вмешалась мать. — Ты никогда не дашь папе с Сережей как полагается поговорить. А Сереже ведь уже пятнадцать лет. Пора задуматься, куда себя определить. А у него, я вижу, все ветер в голове. Конечно, и побегать надо, и поиграть, разве мы против. Да ведь и путь себе выбирать надо. Разве трудно решить-то, Сережа? Мать у тебя слесарь-монтажник по приборам телефонной связи. Отец, опять же, токарь первой руки. Тебе уж другого пути нет.
Я чуть было не поперхнулся щами.
— А мне Виталий Витальевич говорил, что у меня склонность к математике.
— Все помешались на этой математике, — вздохнула мать.
Ефимка прыснул в ладонь, а отец сказал с некоторой даже обидой за свою профессию:
— И хорошо, что склонность к математике. Сейчас токарю или слесарю, скажем, разметчику да и лекальщику без математики не обойтись. Я вот в кружке по повышению квалификации занимаюсь, так мы там цельный вечер одни цифры пишем.
Чтоб не рассмеяться, я прикрыл рот ладонью. Потом проглотил ложку щей и сказал уже спокойно:
— Папа, так это же совсем другая математика. Наверное, даже не математика, а просто арифметика. А мы уже скоро за логарифмы возьмемся. Они вам и не снились.
Мать только руками всплеснула на такие речи.
— Что же ты отца-то обижаешь? — попыталась урезонить она меня. — Да к нему сам академик приходил. Просил точный прибор смастерить. У нас, говорит, специалисты, сколько ни бились, не могли такой прибор сделать. А твой батька с заданием справился. Да еще благодарность от начальства получил.
Отец довольно усмехнулся в усы, но все же остановил мать:
— Ты погоди, Никитична, хвастаться-то. И не враз все у меня вышло. А тоже пришлось недели две помучиться.
— А все-таки сделал! — стояла на своем мать.
— Сделать-то сделал, да вот, вижу, безбожно отстаем мы в науке от сыновей. И Ефимка такие задачки решает, о каких мы и не слыхивали в детские-то годы. А Сережка и вовсе скоро отца забьет ученостью своей. Нет, Сережа, — подытожил он, поднимаясь из-за стола. — Поведу я тебя все же на завод. Слово, оно, конечно, убеждает, а живое дело сильнее за сердце берет. Спасибо, мать, за хлеб-соль. Пойду отдохну немного, да и мне за свою математику надо садиться. Начальник цеха дал задание один расчет проверить.
— Папа, я с тобой, — тотчас же выскочил я из-за стола.
— Не мешал бы ты отцу, — вмешалась мать.
Но отец снова стал на мою сторону:
— Ничего, ничего, идем, Сережа. — И, обхватив меня рукой за плечи, повел в комнату.
Так уже очень давно у нас установилось. В те дни, когда отец приходил с работы пораньше, послеобеденные часы мы проводили вместе. Усаживались поудобнее на диване. Отец брал газету, а я книгу. Но через минуту то и другое уже откладывалось в сторону и начинался разговор на вольную тему. В такие минуты мне разрешалось задавать любые вопросы.
Иногда отец просил:
— Вижу, книжка тебе шибко интересная попалась. Никак не можешь оторваться. Почитай вслух. Может, и я на старости лет ума-разума наберусь.
И я читал ему. У нас в классе увлекались Хемингуэем. И мы прочли с отцом целиком два тома. Он не все одобрял, и мы жутко спорили. Но на «Старике и море» мнения сошлись. Прекрасно.
Порой отец говорил:
— Что это мы все твои книжки читаем, которые ты выбираешь. Это несправедливо. Достань-ка томик Чехова, мой любимый.
И мы читали Чехова. Как-то незаметно я полюбил этого писателя. И уже сам предлагал отцу:
— Давай Чехова.
На этот раз, когда я закрыл книгу, разговор начал отец. Отложив в сторону газету, он спросил:
— Замечаю, что-то ты сегодня не в настроении. Случилось что-нибудь?
Я даже вздрогнул от этого вопроса. Удивляюсь, как это отец умеет угадывать мое настроение. Вроде и виду не показываешь, что расстроен чем, скрываешь-скрываешь свое самочувствие, а он все равно догадывается. А что, собственно, сегодня случилось? Ровным счетом ничего. После большой перемены нашел у себя в столе записку:
«Когда пойдешь домой, подожди меня у магазина. Надо поговорить.
Нина».
Написано печатными буквами, не разберешь, кто писал. Да я и не усомнился в том, что это Нинина записка. Давно хотелось поговорить с ней, выяснить, какие у нее ко мне претензии. После школы битый час вертелся у магазина. Никого. Потом прибегает Светка. Сияет вся от удовольствия.
— Что, Нину ждешь? — спрашивает.
— Да нет, — говорю, — так прогуливаюсь. Что-то голова разболелась.
А она свое:
— Не дождешься. Лучше проводи меня домой.
Вскипел я тут. Отвечаю:
— Мне в другую сторону. — И ушел.
Конечно, с запиской это Светкина проделка. Но знала ли об этом Нина?
Коротко я рассказал отцу эту историю.
— Да-а! — протянул он. — Что-то у тебя не ладится в классе.
— Почему не ладится? — запротестовал я. — Все ладится. У меня уже много друзей. А пересмешники всегда найдутся.
— Конечно, — согласился отец. — Хорошо, что ты спокойно к этому относишься. А что, и сочинение недавно писали?
И об этом наслышан! На заводе, наверное, отцы о школьниках говорили.
— Да, контрольное. Я, кажется, немного напутал про Печорина, но ведь как на это еще посмотреть.
Отец понимающе покачал головой:
— Удивляюсь я, на вас, молодых, глядя. Как быстро вы взрослеете! Вот уж и Печорина на обе лопатки раскладываете. В суждениях определенны и беспощадны.
— Так нас учат, папа.
— Да, учат, — отвечая каким-то своим думам, машинально повторил отец. — Учат. Вы и сами многое на лету хватаете. Что надо и что не надо.
Я подивился таким отцовским словам, пристально посмотрел на него, прикидывая, к чему он клонит. Но ничего опасного для себя не увидел в его карих ласковых глазах и сказал только:
— Да ведь не всегда знаешь, что надо и что не надо. Вот вырасту, специально для ребят счетно-вычислительную машину построю, чтобы подсказывала, что надо, а что не надо.
— Так они же у тебя на подсказках жить будут, — усмехнулся отец. — А сломается машина — и все, и погибли твои мальчишки.
Я сокрушенно развел руками:
— Видишь, опять нехорошо.
— Да ты не увиливай в сторону, — прижимал меня словами к стенке отец. — Что-то не верится мне, чтобы из-за записки так расстроился. Скажи, в школе-то как? Ничего не натворил?
— Кажется, ничего не натворил, — осторожно ответил я.
— Все там же сидишь, в среднем ряду?
— Все там же.
— И девочка эта с тобой сидит? Такая приветливая. Моего товарища Звягинцева дочка.
Второй раз за сегодняшний вечер я похолодел от неожиданного предчувствия опасности. Почему все привязались ко мне с этой Ниной? Неужели отец что-нибудь знает? Или догадывается? А что он может знать? Мои мысли? Что же ему ответить? Я никогда не скрывал от отца правды.
— Да нет, папа, — немного успокоившись, сказал я. — Девочка та пересела на другое место.
— Это почему же? — удивился отец.
— Да так уж получилось. Она сама захотела. Так ей удобнее.
— А! — воскликнул отец. — Тогда другое дело.
Мы еще поговорили немного о разных пустяках и разошлись. Каждый уселся за свой стол: отец рассчитывать новую деталь, а я делать уроки.
ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
Предчувствия меня не обманули. Дождался-таки новых неприятностей от этой занозы Нинки Звягинцевой. Все началось с того, что Ольга Федоровна решила силами класса поставить пьесу. А во всем, что касается художественной самодеятельности, Звягинцева первая заводила. Она хорошо играет на музыкальных инструментах, поет и прочее. В общем, без нее ни шагу. Для меня тоже выбрали какую-то роль. И вдруг Нинка заартачилась:
— Не хочу, чтоб Нартиков участвовал. Ему медведь на ухо наступил.
Откуда она это взяла? Но я не вмешивался. Стоял в сторонке и молчал. Ольга Федоровна начала уговаривать Нинку: мол, у меня небольшая роль и совсем немузыкальная.
— Все равно. Или я — или он.
Ах так, думаю. Повернулся и ушел. А Нинка тоже фыркнула и вслед за мной убежала. В общем, все расстроилось. После мне Борька рассказывал, что Надежда Михайловна, которую, как руководителя внеклассной работы, Ольга Федоровна попросила быть главным режиссером,
предупредила:
— Пока не научите их уважать искусство, ни о каком спектакле не может быть и речи.
Интересно, если это и обо мне сказано, то совсем даже напрасно. Искусство я уважаю и вовсе ничего такого не сделал. А за Нинку Звягинцеву отвечать не собираюсь.
Ольга Федоровна очень расстроилась и несколько дней с нами не разговаривала. Уроки она вела, а о классных делах — ни слова. Мне было жаль нашу классную руководительницу. Человек она, кажется, хороший, и нам желает добра. А получается одно расстройство. И дело было вовсе не в моей роли, а в том, что всю декорацию к спектаклю должен был рисовать я. Мне и роль-то предложили только для того, чтобы как-то заинтересовать.
И вот теперь Ольге Федоровне надо было искать какой-то другой выход. В классе ее многие называли сокращенно Ольгф. Даже в глаза. Получалось естественно, будто человек торопится и некоторые буквы недоговаривает. А после этого случая даже самые заядлые шалуны стали произносить полностью и четко: Ольга Федоровна.
Прошла неделя. Во вторник, я точно помню, разыскивает меня на перемене Родин и во все горло кричит:
— Нарт, тебя Ольгф ищет. Беги скорей.
Классную я встретил у дверей учительской. Она была очень серьезна. Я специально посмотрел на ее лицо. И за время нашего разговора она ни разу не улыбнулась.
— Сережа, — сказала она. — Ты знаешь, где я живу?
— Знаю, Ольгф… е… о… а…
Я проглотил последние буквы. Получились какие-то пузыри.
— Будь добр, приди ко мне сразу после уроков.
— Хорошо, Ольгф…
— И возьми с собой краски, кисточки, а также картон и бумагу для декораций.
— Хорошо, Ольгф…
Ольга Федоровна жила с мужем и двумя ребятишками в большом многоэтажном доме. Дом был очень благоустроенным, с двумя лифтами в каждом подъезде, с широкими и просторными лоджиями. А во дворе — тенистые деревья, две или три клумбы с цветами. И так чистенько кругом, уютно. Девчонки, провожая после уроков учительницу, каждый раз завидовали, что она живет в таком красивом, ухоженном доме.
Поднявшись на лифте на пятый этаж, я позвонил. Дверь мне открыли два рыженьких курносеньких мальчугана и, перебивая и оттирая друг друга, стали интересоваться, кто я и откуда.
— А, Сережа Нартиков, — сказал наконец тот, что был постарше. — Мама говорила. Проходи.
Я сложил в коридоре свои свертки и коробки, и мы познакомились.
— Кадя, — сказал старший из мальчиков, протягивая руку.
— Кодя, — повторил второй и тоже протянул руку.
Но вскоре выяснилось, что имена у них были разные и они, знакомясь со мной, вовсе не повторяли друг друга. Одного звали Аркашей, а другого Костей. А по-домашнему выходило: Кадя и Кодя.
Ребята быстро поняли, зачем я пришел к ним, и вскоре свертки были развязаны, коробки раскрыты, по коридору разложены листы бумаги и краски. Кадя побежал на кухню за водой. А Кодя уже малевал что-то, поплевывая на кисточку и спрашивая у меня, какого цвета грива у льва.
От полного хаоса спасла свою квартиру сама Ольга Федоровна. По щелчку дверного замка мальчишки догадались, кто идет, и бросились к матери навстречу, каждый стараясь поспеть первым. Их радостное настроение быстро сменилось на минорное. Видимо, они уже по опыту знали, что сейчас мама станет упрекать их за то, что они поленились и не приготовили себе обед, хотя не такое уж трудное дело разогреть готовые блюда. Но Ольга Федоровна ничего такого не сказала, а быстро прошла в кухню и поставила на газовую плиту кастрюлю с супом и сковородку с картофелем и котлетами.
— Сейчас, озорники, я вас накормлю.
Она спросила, обедал ли я. Я ответил, что перекусил в буфете.
— Тогда, — сказала Ольга Федоровна, — вот тебе комната. Располагайся поудобнее и рисуй декорации.
— Ольга Федоровна! — взмолился я.
— Ну что? Что Ольга Федоровна? Тридцать пять лет Ольга Федоровна. У меня нет другого выхода. С матерью твоей я договорилась. Не срывать же спектакль? Или посоветуешь ждать, пока вы закончите в любовь играть?
Она была утомлена. Это я понимал. Но только зачем она так: про любовь? Какая любовь? У нас с Ниной пока только ненависть. А если это про Борю с Тамарой, так они просто дружат. Я точно знаю. Боря мне говорил. Они и не поцеловались ни разу.
Правда, Светка что-то мне говорила такое про Нину. Мол, ты ей нравишься, вот она и показывает характер. Но я не придал ее словам значения. Поэтому и сейчас спорить с классной руководительницей не стал. Разложил краски, бумагу и не спеша принялся за работу.
Кадя и Кодя сперва заглядывали ко мне в дверь. Но потом Ольга Федоровна увела их в другую комнату и усадила за уроки. В квартире наступила блаженная тишина. Дверь во вторую комнату оставалась приоткрытой, и я видел, когда бегал в кухню за водой, всех троих. Кадя и Кодя сидели за письменным столом напротив друг друга. Ольга Федоровна примостилась сбоку. С одной стороны у нее лежала пачка наших непроверенных тетрадок. На другую сторону она клала уже просмотренные тетради. Эта пачка была совсем маленькая. Проверяя наши работы, Ольга Федоровна успевала следить за мальчишками, чтобы они не отвлекались и не шалили.
Когда пачечки тетрадей, лежавшие на столе, сравнялись, пришел Николай Ильич — муж Ольги Федоровны. Мальчишки, конечно, тотчас же бросили свое занятие. Ушла на кухню и Ольга Федоровна. Вскоре она пригласила меня чай пить.
Мы сидели за большим кухонным столом, пили горячий чай с вареньем, и Ольга Федоровна рассказывала мужу о своих школьных неурядицах.
— Прямо ума не приложу, — говорила она, — что случилось с классом? Взять Нину. Ты ее знаешь, Звягинцева. Спокойная, уравновешенная девочка. А тут словно ее динамитом начинили. Взрывается, едва к ней подойдет вот наш сегодняшний гость, Сережа Нартиков, — и она показала на меня.
Пришлось возразить:
— Я же ее пальцем не тронул.
— Да, не тронул, — согласилась Ольга Федоровна. — Знаю. А тебе известно, что наши девчата мальчишек из нашего же класса колотят? А те молчат. И сдачи не дают. Терпят.
Это она говорила правду. Я сам видел. Светка ударила одного из «братьев Федоровых». Ну, думаем, конец света. Их же вся школа боится. А тут ничего. Сел на подоконник, чуть не плачет, щека красная. Увидела его завуч, подошла. Спрашивает: «Что случилось?» Молчит. Улыбается. А губы дрожат. Вот-вот из глаз слезы брызнут. Мальчишки подсказали, что Света его ударила. «За что?» — «А чтоб не обзывался». — «Нельзя ли яснее?» Что ответила Светка, я не слышал. Завуч нас прогнала. Потом уж молва дошла, что мальчишка ее невестой назвал за то, что она позволяет десятиклассникам провожать себя до дому. А Светка сразу в ход кулаки пустила. И пообещала: «Еще вдарю, если кто такое позволит».
Девчонок в нашем классе большинство — вот они и командуют. Недавно Светка еще номер отколола. Схватила Родина за волосы, тянет вверх и командует: «Встать, сесть! Встать, сесть!» Это до начала урока. Учительница увидела: «Еще что такое?» А она отвечает: «Пусть он на уроке не вертится. Я староста, за него отвечать обязана. А он учителей не слушает, а задачки у нас списывает. Должна я к нему меры принять?»
Ольга Федоровна рассказывает все это мужу, а я тут же сижу, слушаю. И получается, что она и мне на наш класс жалуется. А я ж новенький, ребят плохо знаю, кто чем дышит, помочь не могу.
Николай Ильич советует занять чем-нибудь девчат. Кружок кройки и шитья, например. Да и ребятам найти дополнительное дело.
— Есть у нас кружки, — отвечает Ольга Федоровна. — Да видишь, что с драматическим получилось. Прямо комедия какая-то.
Я решаюсь высказать свое предложение, родившееся тут же, за столом:
— Надо из мальчишек отдельные звенья создать. Тогда девчата над ними меньше власти иметь будут.
Ольга Федоровна с сочувствием посмотрела на меня:
— Заработался ты, Сережа. Беги домой.
Я собираю краски, бумагу. Обещаю:
— Я завтра после уроков все дома доделаю. Обязательно доделаю.
Ольга Федоровна согласно кивает головой. Ее ждут еще полстопки наших тетрадей.
Через неделю в нашей школе объявили запись в кружок по изучению автомобиля. Я подумал: не Николай ли Ильич постарался? И потащил Борьку записываться.
РАБОЧАЯ ЩЕДРОСТЬ
От заводских корпусов солнце отбрасывало длинные тени, и они, искривляясь, ложились на газоны и тротуары, придавая улицам и площадям какую-то особую строгость и собранность. Директор завода без лишних слов пошел навстречу моему отцу Назару Павловичу, когда тот попросил разрешения привести на завод сына, показать, где батька работает и чем занимается.
— Хорошее дело задумал, Назар, — похвалил отца директор. — Я ведь, по правде сказать, давно на ваших сынков да дочек заглядываюсь. Думка такая есть: побольше их на завод взять. Ведь вперед заглядывать надо, смену себе готовить. Так нас партия учит: смотреть вперед, видеть дальше своего носа. Да и сами, если голову на плечах имеем, соображать обязаны, что придет время, когда в другие руки придется передать свое рабочее место. В чьи? Об этом заранее думать надо. Так что сейчас же распоряжусь, чтоб пропуск вам оформили.
И вот мы шагаем по заводскому двору. Отец, я и Боря Мухин с Тамарой. Когда отец перевел свою давнюю мысль о посещении завода на конкретные рельсы, я сразу же ему заявил: без Бори и Тамары не пойду.
— Пойми, папа, мы же неразлучная троица. Не хочу обижать ни Бориса, ни Тамару. Как я им потом в глаза смотреть буду! Нет, только вместе.
Отец согласился.
Горят алым светом в лучах солнца красные стяги на корпусах. Завод готовится к празднику Октября. Перешептываются между собой оголенные ветки лип. Мы шагаем нога в ногу. Высокий, широкоплечий отец, рядом стараюсь вытянуться в струнку я, справа — тоненький и длинный Борис. За ним, уступом, — Тамара.
Отец не может скрыть своей радости. Как же! Дождался. Сына привел в свой рабочий дом, в святая святых их рабочей семьи. Я знаю: этого счастливого момента в своей жизни он ждал давно. Не раз говорил мне, что мечтал об этом, еще когда я лежал в колыбели, когда произносил первые слова, делал первые в своей жизни шаги. Ради этого момента он, мой отец, трудился щедро, с огоньком, стараясь не запятнать своей рабочей чести, чтоб было что передать сыну и не совестно глянуть ему в глаза.
И вот этот момент настал. Отец шагал по асфальтированному, гладкому, словно вылизанному языком, заводскому двору гордо, с достоинством. Мягкие льняные волосы падали на его высокий лоб, и он не отбрасывал их, стараясь ни одним движением не выдать своего волнения и своего переливающегося через край счастья. За свои долгие трудовые годы он привык сдерживать себя и в радости, и в горе. А горя ему довелось хлебнуть немало. Особенно в войну. И свою рабочую специальность получил он не просто так, за здорово живешь, а выстрадал. Тому и свидетельство есть: мозоли на жилистых руках отца. Я никогда не высказывал своих чувств (мальчишке вроде это ни к чему), но отцовские руки были для меня чем-то святым. Бывало, провинюсь в чем-нибудь, ну двойку ненароком схвачу или в баловстве каком перегну. Случается же. Приду домой сам не свой. Отец не ругается, не кричит. Только тень ляжет на его лицо. Сядет молча за стол, низко опустит голову над тарелкой и хлебает щи. А я не могу оторвать взгляда от его рук. И никаких слов мне не надо. И так ясно, что кругом я перед отцом с матерью виноват.
У нас в семье гордились тем, что отец пришел на этот завод еще мальчишкой. Вот так же, как со мной сейчас, прошагал он по тогда захламленному и неуютному заводскому двору вместе со своим отцом — Павлом Нартиковым, моим дедом. Дед поставил его у своих тисков и сказал:
— Доверяю, сын, тебе самое дорогое — мое рабочее место и мою рабочую честь. Береги и то и другое.
На другой день дед уехал с эшелоном на фронт, а мой отец остался у старого верстака осваивать новую для себя профессию. Товарищи деда учили его мастерству. Война на учебу отвела слишком мало времени. Фронту требовались снаряды. Отец освоил производство самой тонкой и самой совершенной детали для них. Именно тогда впервые появился его юношеский портрет в заводской газете. И именно он был особенно дорог отцу как признание его заслуг и свидетельство верности сыновнему долгу. Отец послал газету на фронт. Он так и не узнал, получил дед письмо и видел ли портрет. Вскоре пришло известие о гибели деда на фронте. Не скажу, плакал ли отец по нем. Скорее всего, что плакал. Где-нибудь в укромном уголке цеха, чтоб никто не видел. Но только ожесточился он и стал с особым старанием перенимать у стариков секреты дедовой специальности.
Об этом в нашей семье говорилось частенько. Вообще-то, отец не любил многословия, но на эту тему мог толковать часами.
Может быть, поэтому и я сейчас с особым чувством приподнятости и гордости шагал рядом с отцом. Ни разу еще не взваливала судьба на мои плечи тех испытаний, какие выпали на долю отца. И не прошел я его рабочей закалки. Но то ли сам заводской воздух был особенным или трудовая закваска передалась по наследству, только захотелось мне встать сейчас в один ряд с рабочими людьми, чтобы жить их заботами и радостями, ранним утром подниматься по стремительному звонку будильника и, торопливо позавтракав, шагать к проходной, все ближе чувствуя плечи товарищей.
Заводские корпуса, казалось, дышали. И мне подумалось, что все эти серые, неприметные с виду здания на самом деле живые существа. В них бьется неугомонный пульс жизни. Зародившись однажды, этот пульс не замирает ни на минуту.
Со двора мы прошли в инструментальный цех. Все, кто попадался нам на пути, встречаясь с отцом, приветливо здоровались с ним, а некоторые даже останавливались, чтобы переброситься одним-двумя словами.
— Со сменой пришел, Назар Павлович? Одобряю. Мечтаешь передать рабочую эстафету. Так, что ли?
Мне было приятно смотреть на товарищей отца. К сердцу приливало теплое чувство, и я проникался все большим уважением к этим людям в рабочих блузах, своим искусством создающих тонкие и умные машины. Обернувшись, я посмотрел на Бориса. Он тоже был взволнован. Мы подошли к старому верстаку с укрепленными на нем изношенными и выщербленными во многих местах тисками. Отец положил руку на старые тиски.
— Эти тиски, — с особой торжественностью сказал он, — передал мне по наследству отец. Теперь они навечно оставлены здесь. Как памятник. Из уважения к труду рабочего, к труду моего отца, а твоего деда. Вот и табличка об этом есть.
Я наклонился и прочитал: «На этом рабочем месте двадцать лет трудился лучший слесарь нашего завода Павел Николаевич Нартиков, павший в годы Великой Отечественной войны в бою с фашистами смертью героя».
Старые тиски заинтересовали нас. Не оторвешься. А мне не терпелось поскорее увидеть станок, на котором теперь работал отец. Я даже пытался угадать, где он расположен. Но по всему цеху в несколько линий тянулись вереницы сверкающих отделкой станков, и я только успевал поворачиваться, чтобы разглядеть хотя бы некоторые из них. Умоляющим взглядом смотрел на отца: «Где же? Покажи». Наконец мы остановились. И отец сказал:
— Вот полюбуйтесь. Мой станок. Неразлучный товарищ. Без него я какой же токарь? Потому и ласкаю, как дитя малое.
Отцовский станок, наверное, ничем не отличался от других таких же станков. Но мне он показался и чище, и мощнее, и разные кнопочки и рукоятки блестели на нем ярче.
Мы обошли станок со всех сторон. Потрогали станину, рукоятки.
— Не включать! — предостерег отец.
Я заметил, что часть рабочих мест отделена от общего помещения перегородками из прозрачных пластмассовых плит, а некоторые станки полностью герметически изолированы.
— Для особо точных работ, — пояснил отец.
В обеденный перерыв отец познакомил нас со своими друзьями, с основными специалистами цеха. Совсем уже пожилой человек подошел к нам, опираясь на тросточку.
— Это мой первый учитель — Павел Трофимыч, — с особым почтением здороваясь со старичком, отрекомендовал его отец. — В первые дни войны я пришел к нему вот таким же, как ты, пацаном. И он учил меня премудрости рабочего человека. А теперь он у нас профессор.
— Ну, ты уж захвалил меня, Назар, — запротестовал Павел Трофимыч.
— Не прибедняйся, Трофимыч, — ответил на это отец, — как ни крути, а ты у нас преподаватель, а значит, профессор нашего заводского института.
— Заводского института? — удивился Борис.
— Да, института.
— Кого же он готовит, этот институт?
— Рабочих.
Я скептически скривил губы. И с них готова была сорваться усмешка.
— Ты шутишь, папа. Институты готовят инженеров.
Но тут на выручку отцу пришел Павел Трофимыч.
— Голубчики мои, — сказал он, обращаясь ко всей троице. — Да вы прикиньте что к чему. Рабочие-то у нас теперь почти все с десятилеткой. Кто в свое время не дотянул, в вечерней школе наверстывает. Ясно, свой институт заводу потребовался. Институт повышения квалификации. Так он и называется. И готовит наш институт рабочих своих же цехов. Это тебе отец правильно сказал. Рабочих высшего класса. Станки-то у нас, видите, какие? Да и заказы не прежним чета. Тут со старыми знаниями да с прежним запасом мастерства далеко не уедешь. Мараковать надо. Погодите минуту.
Парень в спецовке давно порывался врезаться в наш разговор. Павел Трофимыч подошел к нему:
— Что у тебя?
— Выручайте, Трофимыч. Не получается.
— Что так?
— Да вот так. Принесли заготовку — черт ногу сломит. С какого краю к ней подступиться, не ведаю. Мастер послал к вам за консультацией.
Трофимыч взял заготовку, повертел ее в руках, заглянул в чертеж.
— Да-а! — протянул. — Поколдовать треба. — И пошел к станку.
Отец подмигнул нам: дескать, не зевайте. Мы осторожно приблизились, стали в сторонке. Трофимыч и глазом не повел. Будто не видел. Он ощупывал заготовку, как врач больного ребенка. Крутил ее и так и этак. Потом вынул из станка резец, поднес к глазам.
— Негоже, — повернулся к парню. — Не так резец заточил. Он у тебя грызть и долбить металл станет. И выйдет деталь вся в пупырышках, как после оспы. А надо, чтоб как по маслу шло, играючи.
Взял резец, отошел к наждачному кругу. Долго затачивал, примеряясь то с одной, то с другой стороны. А когда новым резцом прикоснулся к заготовке, стружка пошла ровная, завилась синей змейкой. И поверхность после резца шла гладкая, блестящая, без задиринок. Внутренний венчик Трофимыч выбирал осторожно, едва касаясь руками рукояток.
— Как на гитаре играет, — не утерпел Боря.
— Мастер первой руки, — с гордостью сказал отец.
Трофимыч вынул готовую деталь, передал парню.
— Неси мастеру. Да осторожно. Не стукни случаем. Дай-ка лучше я сам.
Они ушли. А мы остались, удивленные виденным.
— А можно попробовать? — спросил я.
— Чего? — не понял отец.
— Поработать на станке. Чтобы самому почувствовать.
— А… Тут нельзя. Но есть у нас при цехе учебное отделение. Для практикантов. Там, я думаю, начальник цеха разрешит.
В учебном отделении нам показали принцип работы станка. Потом разрешили самим взяться за ручки управления. С помощью отца я закрепил заготовку, зажал резец и нажал на кнопку пуска. Станок ожил. Я почувствовал, что умная машина подчиняется мне, взглянул на отца и улыбнулся.
Борис стоял за спиной. Я подвинулся.
— На, пробуй.
Он взялся за рукоятку суппера куда увереннее, чем я. Снял несколько разноцветных стружек. Отец сменил его у станка и быстро закончил обработку детали. Потом повернулся ко мне:
— Возьми на память.
Когда стали отходить от станка, послышался обиженный голос:
— А мне?
Конечно, мы забыли о Тамаре. Но зато ей повезло больше, чем нам: самостоятельно закрепляла заготовку и дольше крутила ручками суппера.
Выходил я из цеха зачарованный, Меня поразил не сам завод и не этот инструментальный цех. Меня поразило то, до чего же наивными и допотопными были мои представления о заводе, о жизни и труде рабочих.
А отец повел нас в механический цех. В огромном зале рядами стояли автоматические линии. Людей вовсе не видно. Царство станков. И все делалось само собой. Подавались заготовки, переключались скорости, сменялись, поворачиваясь, резцы, сходились и расходились супперы. И падали в металлические ящики готовые болты, гайки, шайбы. Наполняясь, тара двигалась в сборочный цех или на склад готовой продукции.
— Наладчик идет, — заметил отец.
Наладчик — совсем молодой паренек. Вытер руки паклей, поздоровался. Мы с Борей перемигнулись. Да это ж Виктор Горянов! Учился с нами в одной школе в старших классах. Был пионерским вожаком, потом комсоргом школы.
— Виктор! — осмелел я. — Не узнаешь, что ли? Вместе в ансамбле участвовали. Я еще на барабане играл.
Виктор поскреб в затылке:
— Вспомнил. Тебя потом попросили. Тебе медведь на ухо наступил.
Я не обиделся. Я просто завидовал Виктору, который этаким волшебником ходил среди станков. И к каждому прислушивался, как врач.
Мы побывали еще в литейном цехе, долго пробыли в сборочном, где ознакомились с работой конвейера, а оттуда прошли в заводоуправление.
Завод пленил меня, очаровал, предвосхитил все, что я мог себе вообразить.
— Какая красота! — только и сумел я сказать. Почему же была скрыта она от меня? Красота рабочего труда.
Я порывался задать отцу этот вопрос. Но вовремя удержался. Конечно, никто от меня ничего не скрывал. Просто мы, мальчишки, сами мало интересовались тем, где работают наши отцы и что они делают. А отцам и матерям не до нас. Устанут, намотаются за день, где уж тут разговоры разговаривать. Раньше я видел только одну сторону отцовского труда: знал, что отец приходил домой озабоченный и что по утрам вставал раньше всех и снова торопился на свой завод. Теперь я еще больше гордился отцом, его работой.
Отец, наверное, тоже расчувствовался. Всю дорогу от проходной до остановки автобуса он поглядывал на нас, порываясь что-то сказать. Наконец не вытерпел:
— Ну что, ребята, понравился вам наш завод? Приглянулся?
— Приглянулся, — перехватил ответ Боря. — Так и потянуло к станку. И воздух у вас какой-то особый. Все солидно, по-взрослому.
— Верно говоришь, — похвалил отец. — А к станку не торопись, сперва школу окончи. Нам неучи не нужны.
— Это ясно.
Средних лет мужчина догнал нас, потянул Борю за рукав:
— Ты что здесь делаешь?
Получив ответ, удовлетворенно крякнул:
— Ага, ну иди домой, а я с приятелями заверну в магазинчик. Премию отметить.
И посеменил вслед за дружками.
— Кто это? — спросил я.
— Отец. Теперь он надолго тут застрянет, — сказал Борис и потупился.
Вечером дома только и разговору было что о заводе. Я, может быть, и промолчал бы, уединился бы в своей комнате, чтобы все обдумать, взвесить, помечтать. Но отец сразу же сказал матери о своем впечатлении, а она, понятно, ко мне с расспросами. С отцом-то они не раз толковали и про завод, и про цех. А меня ей хотелось послушать. Слово за слово, разговорился я, не удержать. Рассказал и о Трофимыче, о его искусстве, и о старшем своем школьном товарище, что наладчиком стал и умными машинами командует. И о кузнечном цехе, где молот здоровенную заготовку, как пластилин, мнет. Под конец прихвастнул:
— А знаешь, мама, на конвейере я запросто могу работать. Там и знаний особых не требуется.
Матери эти мои слова не понравились. Она ведь сама на сборке трудится. Замахала на меня полотенцем (она в это время посуду вытирала):
— Ладно, ладно, расхвастался. Иди-ка уроки готовь.
Я ушел в свою комнату. А к отцу пришел сосед, старый рабочий, пенсионер. И они долго еще толковали, видать, все про тот же завод.
— Правильно, Назар. Верно говоришь, — долетали до меня слова. — Нужна нам не только рабочая гордость, но и рабочая щедрость. Щедрее надо быть с молодыми. Ведь кому мы наше дело передадим? Им, молодым. То-то же. Это на ус мотать нужно. Мало еще в парткоме нас, стариков, ругают. Ремнем стегать надо. За молодежь. За то, чтоб не упускали ее, а растили достойную смену.
Отец слушал упреки старого рабочего и согласно кивал головой.
ЧУДАК ОСЬКИН
Мой злой демон — Нинка Звягинцева продолжает преследовать меня. Она первой назвала мою кандидатуру при выборе старосты класса. Понятно, хотела досадить мне. До этого старостой была Света. В действиях ее приливы чередовались с отливами. То она набрасывалась на шалунов с угрозами, даже кулаки в ход пускала, а то вдруг забывала о своих обязанностях, предоставляя нам возможность поступать, как заблагорассудится. В классе нередко стоял ералаш. Появлялась Ольга Федоровна и прежде всего спрашивала со старосты:
— Кто сегодня дежурный? Почему не подготовились к уроку?
Света устремляла на учительницу такой добродушный, невинный взгляд, словно она в первый раз ее видела:
— Это все Оськин. Разве с ним справишься?
Вызванный к доске, Оськин упрямился:
— А я что? Я ничего. Это староста не может навести порядок в классе. При чем же тут я? Был бы я староста, у меня все б шелковые ходили.
— Ты еще не дорос до старосты, — замечала Ольга Федоровна. — Сначала надо научиться себя вести.
Оськин вытягивал тонкую, длинную шею, соглашался:
— А я что говорю! Ясно, не дорос. — И направлялся на свое место в последнем ряду.
Оськин — второгодник, и он как бельмо на глазу у нашего класса. Помню, в начале четверти он впервые явился на урок, когда учительница заканчивала перекличку.
— Оськин! — назвала Ольга Федоровна. — Где Оськин? Итак, Оськина нет.
В этот миг дверь класса отворилась, и на пороге появился мальчишка с круглой улыбающейся физиономией, острым, как у птенчика, носиком и узкими хитрыми глазами.
— Я здесь — произнес он, раскланиваясь, и, отбросив со лба рукой темную прядь волос, шурша большим замызганным портфелем, прошел к последнему столу, хотя места за ним были заняты.
С краю за столом сидел, вытянувшись, чтобы лучше видеть, что происходит в классе, низенький и щупленький Шурик Воробьев. Шурупик, как звали его все.
— Эй ты, мелюзга, — дернув Шурика за рукав, сказал ему Оськин. — Тебе тут плохо видно. А мне место это приглянулось. А посему пересядь-ка за первый стол. Видишь, там девчонке не хватает напарника. — И, чтоб Шурик не медлил, подтолкнул его: — Не задерживайся, брат. Не срывай урока.
Шурик торопливо собрал книжки и побрел на новое место. А Оськин степенно сел, поставил к ножке стола портфель и покровительственно сказал:
— Все в порядке. Прошу продолжать урок.
Ольга Федоровна едва сдержала себя. Щеки ее зарумянились, в глазах появился недобрый огонек. Но все же она нашла силы, чтобы спокойно сесть за стол и продолжать урок. Оськин просидел весь час спокойно, уставившись в передний угол класса. Казалось, мысли его витают в облаках и нет ему никакого дела ни до того, о чем толкует учительница, ни до тридцати пяти учеников, сидящих в классе и усиленно скрипящих ручками.
Когда прозвенел звонок, Оськин в коридоре решил представиться своим одноклассникам. Девчонок он не признавал. К мальчишкам же подходил, протягивал руку и говорил басовито:
— Оськин.
Если мальчишка ничего ему не отвечал, Оськин степенно отходил к другому пареньку и опять протягивал руку:
— Оськин.
Кто-нибудь, растерявшись, говорил:
— Очень приятно.
Тогда Оськин улыбался узким ртом и произносил:
— И мне весьма приятно. Будем знакомы.
Так же, как ко всем, он подошел к Шурику, протянул руку и сказал:
— Оськин.
Неожиданно Шурик напустился на него с упреками:
— Ты чего меня с места прогнал? Думаешь, если этаким дылдой вымахал, так тебе все позволено? Смотри, я ведь не потерплю. Даром что Шурупик, а так ввинчусь, не обрадуешься.
Оськин пристально осмотрел его, коротко мотнув головой. Потом, приблизившись, толкнул боком. Шурик отлетел к противоположной стенке коридора. Ударившись о стенку и остановившись, он тотчас же, озлясь, побежал с кулаками на Оськина. Оськин подождал, когда Шурик приблизится, и опять легонько толкнул его плечом. Шурик полетел по коридору до самой двери. Оськину, видно, понравилось наблюдать, как отлетает от него Воробушек, и он упражнялся так до конца перемены.
Шурик пришел на урок с красными от слез глазами. А Оськин устроился на своем месте за столом и вновь уставился в передний угол класса.
В середине урока он вдруг встал, зевнул и, сказав: «Скучно!» — направился к двери.
— Оськин, куда вы? — поднял от классного журнала взгляд Федор Лукич, наш учитель физики, прозванный еще первыми поколениями школьников Вечным Двигателем.
— Скучно! — с убийственным равнодушием ответил Оськин. — Пойду отдохну.
В оставшиеся полчаса Федор Лукич читал нам нотацию о том, что ему не понятно, как это в атомный век ученику может быть скучно на уроке физики и о чем думают такие вот лоботрясы: ведь жизнь потребует от них прежде всего знаний, и не всякому удастся отсидеться за папенькиной спиной. Если эти слова как-то относились к Оськину, то, видимо, учитель сказал их впопыхах, по ошибке. Потому что Оськин за папиной спиной никак не мог отсидеться. Многие в классе уже знали, что отец у него инвалид, а заработка матери едва хватает на то, чтобы как-то сводить концы с концами.
Как бы то ни было, но уже на следующей перемене разразился скандал. Бегала по коридорам взволнованная Ольга Федоровна, то в один, то в другой класс заглядывала старшая пионервожатая. Искали Оськина. Когда его наконец нашли, оказалось, что он сидел в пустом спортивном зале и, уткнувшись носом в оконное стекло, смотрел на шоссе, по которому один за другим проносились спешившие на ближайшую стройку самосвалы.
— Оськин! — в сердцах крикнула Ольга Федоровна. — Горе мое, что ты тут делаешь?
Оськин оторвался от окна и спокойно ответил:
— За полчаса двадцать самосвалов с цементом прошло. А обратно идут все пустые. Непроизводительный труд!
— Оськин! — всплеснула руками Ольга Федоровна. — Разве ты затем в школу пришел, чтоб самосвалы считать? Ведь этим можно заняться и на улице! А в школе…
Но Оськин не дал ей договорить. Он медленно побрел к двери со словами:
— На улице! Если вы хотите, я могу и на улице. Я как-то сразу и не догадался.
Ольга Федоровна схватила его за рукав и потащила в учительскую. Оськин не сопротивлялся. На вопрос директора, почему он ушел из класса, невозмутимо ответил:
— Скучно.
— Разве ты все знаешь, что рассказывал учитель? Или ты считаешь науку для себя бесполезной? Тогда зачем ты пришел в школу?
Из всей этой речи Оськин запомнил только первую фразу и ответил:
— Знаю.
Федор Лукич, услышав этот ответ, так и подпрыгнул на стуле:
— Знаешь? Ты знаешь, что я рассказывал на уроке?
— Знаю, — упорствовал Оськин.
— А ну повтори!
Оськин, глядя в потолок, слово в слово повторил всю первую часть урока.
— А дальше?
— Дальше я ушел. Скучно стало.
Федора Лукича трудно было удивить, но тут он удивился.
— Послушай, Оськин, — сказал он. — У тебя же хорошая память. Что же ты дурака валяешь? Ведь с твоей памятью прямая дорога в академики.
— Скучно, — протянул Оськин.
Так от него ничего и не добились.
Зато на мне чудачества Оськина отразились самым непосредственным образом. В учительской было принято решение переизбрать старосту класса. Ольга Федоровна утверждала, что она ничего не может поделать, когда староста не поддерживает ее, когда ей не на кого опереться в классе. И когда речь зашла о кандидатуре нового старосты, тут Нинка и сыграла коварную роль. Она назвала меня.
Кандидатуру дружно поддержали. Даже Света сказала, жеманно поводя плечами:
— Конечно, я не гожусь в старосты. Никто меня не хочет слушать. Каждый кричит свое. И получается, как в басне, не помню уж чьей, когда лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука лезет еще куда-то. А у Сережи авторитет. Он и ударить может в случае чего.
Против меня выступил только один Оськин.
— Ударить… — проворчал он. — Это еще поглядим.
В общем, меня избрали почти единогласно. Оськин не голосовал ни за, ни против. И на другой же день начались мои злоключения. На уроке географии Оськин уснул. Как он потом уверял, он сам не заметил этого. Положив голову в ладони, слушал, слушал, и показалось ему, что он путешествует по дальним странам. Когда очнулся, ошалело смотрел по сторонам и никак не мог понять, что случилось и над чем класс хохочет.
— Ты, Оськин, со всеми удобствами устроился, — строго посмотрела на него учительница.
— Да не спал я вовсе, — крикнул Оськин. — Заслушался. То ругают, что не слушаешь, а то…
Он обиженно отвернулся, но повторять, о чем шла речь на уроке, отказался. И вдруг вскочил со скамьи, с вызовом в голосе сказал:
— Разрешите выйти.
— Куда тебе?
Оськин упрямо крутит головой:
— Ну, надо.
Учительница решила перехитрить его.
— Посиди, Оськин, — сказала она. — Может, что-нибудь да запомнишь.
Я со своего места погрозил Оськину кулаком: гляди, мол, утихомирься, сорвешь урок, перед классом ответишь. Но Оськин твердил свое:
— Разрешите выйти. Живот схватило.
Я напряженно смотрел на учительницу: какое примет она решение? А она смотрела на нас, на своих учеников. И принесла в жертву Оськина: зачем отнимать время у тех, кто хочет учиться? Отворачиваясь к доске, она бросает через плечо Оськину:
— Иди.
Я негодую. Кому пришло в голову выбрать меня старостой? Жил я в свое удовольствие. И отвечал только за себя. А теперь вот возись с этим Оськиным.
Вечером собрался актив класса. Комсомольцы, председатель совета отряда судили, рядили. Предложения самые различные. Одни советуют прикрепить к Оськину отличника учебы. Пусть подтянет. Но тут же слышатся возражения:
— Чего его тянуть, если он учиться не хочет?
— А что, рукой на него махнуть, пусть тонет?
— И махнуть. Что у нас, детский сад, что ли?
Были и такие предложения:
— Вздуть его как следует, чтоб не дурачился. Ведь видно: нарочно кривляется. А походит день-другой в синяках, одумается.
Я не знал, какому предложению отдать предпочтение. У Оськина отличные способности. Можно только позавидовать. Но он лодырничает, заниматься не хочет. И помощи не приемлет. Отвечает:
— Вот еще, я не хуже вас знаю.
Расшевелить бы его самолюбие. А как? И все же решили: прикрепить к Оськину отличника учебы. А кого? Предложили Тамару. Но тут же отказались. Вспомнили, что Оськин не переносит девчонок. К тому же Тамара сама запустила занятия. Не всегда даже домашние задания как следует выполняет. И тогда Боря предложил:
— Поручите нам.
— Кому нам?
— Нам с Тамарой.
Ребята посмеялись: мол, Боря без Тамары не может. И согласились.
Когда мы вместе возвращались домой, я не утерпел, упрекнул Бориса:
— Зачем ты связался с этим Оськиным?
Он разозлился:
— А что, по-твоему, плюнуть на него?
— Конечно. Всем отвернуться. Не разговаривать. Бойкотировать. Тогда он поймет и перестанет откровенно издеваться над всем классом.
— И уйдет к Ваньке Косолапому.
— К какому еще Ваньке? — не понял я.
— Есть у нас во дворе. Забулдыга. А себе на уме. Ребят приманивает. К воровству приучает. Нет, Оськина нельзя отталкивать! Его понять надо.
Странный все-таки Борис. Он всех готов спасать. А, по-моему, таких, как Оськин, пусть учителя спасают. Да и он о себе тоже ведь должен думать.
Когда я рассказал об этом отцу, он вдруг вспомнил, как года два назад я болел и метался в бреду. Отец с матерью дежурили у моей постели поочередно.
— При чем же тут Оськин? — недоуменно спросил я. — Что-то ты, папа, уклонился в сторону.
Но отец сказал, что он вовсе не уклонился. Напротив, он подошел к самой сути разговора. Ведь Оськин тоже, наверное, страдает каким-нибудь недугом. Что-то влияет на него, есть какие-то причины, в силу которых он уклоняется в сторону. Ему, видать, нелегко, хотя он и храбрится.
Выходило, что отец брал сторону Бориса в нашем споре.
ХОЧУ ПОНЯТЬ
На уроке получил от Бори записку: «Есть предложение пойти после уроков в кино. Я, Тамара, ты и еще один наш хороший друг». Вернул ему ту же бумажку с резолюцией: «Согласен». Если б я знал, какой они мне готовят подвох! Сперва все шло хорошо. Первым к кинотеатру пришел Боря. Я увидел его издали. Он прохаживался возле касс, по обыкновению размахивая портфелем. Я присоединился к нему. Меня разбирало любопытство, и я спросил:
— Кто же такой «ваш хороший друг»?
— Поживешь — увидишь, — неопределенно ответил Боря.
Вскоре подошла Тамара. Она была возмущена поведением Светки. Оказывается, Светка пустила слух, что Тамара с Борькой влюблены. Иначе, мол, зачем им все время вместе ходить.
— Не знаю, что за люди, — негодовала Тамара. — Дружить с мальчишкой для них прямо какое-то преступление. Сразу мерещится бог знает что. А если мне просто с ним интересно? Нет, Борька, в кино я с тобой больше не пойду. Ходите с Сережкой. А я вообще телевизором обойдусь.
Боря поморщился:
— Нашла тему для разговора! И зачем ты только слушаешь эти сплетни?
— Попробуй не послушай, — обиделась Тамара. — Все на тебя пальцем показывают. Нет, это надо Сережу заставить, чтоб он на свою соседку повлиял. Усовестил ее.
— Ничего не выйдет, — тут же нашелся я. — Меня соседки не слушаются. Они от меня удирают.
На той стороне улицы как раз показалась Нина. Она остановилась у перехода, поджидая, когда проедут машины.
Нина перешла улицу и направилась к нам. Подошла, легонько кивнула (ведь только в классе все виделись), спросила у Бори:
— Где же «один ваш хороший друг»?
Боря показал рукой на меня:
— А вот он.
Я думал, что Нина, фыркнув, убежит. Но она только протянула неопределенно: «А-а-а…» — и осталась стоять. Оказалось (это мне уже потом Борис рассказал), он написал и мне и Нине записки примерно одного содержания и в обеих упомянул про хорошего друга.
— Вот ваши билеты, — буркнул Боря и сунул мне в руку два билета. — Потом рассчитаешься.
Наши места с Ниной оказались рядом. А Боря с Тамарой сели в стороне, на другом ряду. Весь сеанс я боялся взглянуть на Нину. Не забыл полученный от нее урок в школе. Когда выходили из зала, она сказала:
— Что ты сидел, как истукан?
— Главное же кино, — ответил я.
Она попросила проводить ее до дому. Я пошел.
— Между прочим, ты всегда такой молчаливый? Вроде в классе разговорчивей был.
— Меня девчонки затюкали, — ответил. — Одна сидеть не захотела, другая требует, чтоб задачки за нее решал.
— Я уж теперь пожалела, что ушла с твоей парты. Этот Стасик страшный индивидуалист.
— А что ж ты тогда не захотела, чтобы я в драмкружке участвовал?
— А это ты сам виноват. Уж больно быстро спасовал. Я думала, ты отстаивать будешь свое право на роль.
В общем, выходило, что вся причина во мне. Такая у нее девчачья логика.
— Послушай, — сказала Нина, — давай к реке спустимся. Я очень люблю по набережной гулять. И так, чтоб никто-никто не отвлекал. С тобой это можно. А то я с одним мальчишкой ходила, так он болтливый оказался. Все говорит и говорит. Про всякую чушь. Сосредоточиться не дает. А еще я люблю вокруг парка, по тропке, в тишине. Один раз весь парк кругом обошла. Хочешь, со мной пойдем?
— Хочу.
— Мой папа называет это общением с природой. Он меня и приучил так гулять.
С того вечера я стал чаще получать от Бориса записки. Но иногда писал вовсе не он. Внизу стояло: «Нинель». Так Нина сама себя окрестила. Но это было очень похоже на ее имя, можно догадаться, если записка попадет в чужие руки. И она выдумала себе очень мягкое, нежное прозвище — «Аист». Мне понравилось. И я все чаще стал называть ее так. Не только в записках. Нина сердилась.
Я старался понять ее. И не мог. Кто она, друг или недруг? На днях Ольга Федоровна сказала: нужно бы навестить нашего физика, Федора Лукича. Все знали, что он болен.
— Хорошо, — согласился я. — После уроков мы с Ниной сходим.
— Нет! — вскочила Нина. — Лучше я со Светой пойду.
На перемене я спросил: чего она так вскипятилась? Она стояла у окна. Даже не повернулась, ответила:
— А ты хочешь, чтоб меня, как Светку, дразнили? Нет уж! Не дождешься.
В коридоре, как раз напротив нас, висела картина «Грачи прилетели». Она посмотрела на картину, на меня. И тихо так:
— Грачи… хорошие птицы… Ты будешь Грач. Согласен?
А через два дня в классе состоялась дискуссия: «В чем красота человека?» Мне показалось, что я выступил очень толково. А Нина встала и разбила меня по всем статьям. Хоть плачь, до того обидно. Классная руководительница осталась довольна дискуссией. А мне Боря на перемене сунул записку: «Многоуважаемый Грач! Не сердись. Так надо.
Аист». Скажи, пожалуйста! Надо. Ей хорошо писать. Ее авторитет растет. А мой падает. А тут еще классная руководительница перехватила одну из моих записок. Хорошо, что я не подписался, а то пришлось бы распрощаться с Грачом.
И все же Ольга Федоровна вынесла вопрос о записках на классное собрание. Дескать, что же это такое, даже староста записочками на уроках перебрасывается, какой-то Аист появился. А тут Нина руку тянет. Говорить хочет. Ну, думаю, все: сейчас признается. А она набросилась на тех, кто сочиняет записочки: мол, отвлекают внимание, не дают сосредоточиться.
После уроков, когда шли домой, Боря сунул мне в руку бумажку: «Возьми, Грач!» Нет, она не лицемерила. И на уроках больше никогда не передавала записок. Только на перемене или после уроков. Через Борю. И все Грач да Аист. Стычки наши прекратились. Но ненадолго.
УЛИЦА ИМЕНИ УЧИТЕЛЯ
Все-таки как быстро летит время! Вот уже и легкий морозец покрыл инеем крыши домов, разукрасил косыми линиями зеркала луж. Мама послала меня в магазин за сметаной к обеду. Но в нашем гастрономе сметаны не оказалось. Пришлось идти дальше квартала на два. Я знал, что там есть еще «Бакалея». Новые дома стояли тут густо, вперемежку со старыми, деревянными строениями. Улицы были мне незнакомы, и я глазел по сторонам, вчитываясь в названия. Выскочив на узкую, чуть припорошенную снегом улочку, я вдруг застыл на месте, словно остолбенев. Как же я не знал и не видел этого раньше? На угловом доме висела продолговатая металлическая табличка, и на ней черным по белому было выведено: «Улица Учителя Богданова». И сразу вспомнилась Надежда Михайловна Богданова — наша учительница истории. Не родственник ли ее?
С Надеждой Михайловной у нас вышло, конечно, нехорошо. В классе ее любили. И не только потому, что обращалась она с учениками, как с равными, а уроки вела интересно. Она была заместителем директора по внеклассной работе. Готовила с нами спектакли, концерты художественной самодеятельности, устраивала туристические походы,
собирала экспонаты для школьного музея. С ней мы даже не чувствовали себя школьниками. Маленькая, тоненькая, с очень живыми, острыми глазами на молодом, совсем девичьем лице, она вполне могла сойти за ученицу, если не нашего, то девятого класса. Ванька Родин был почти на голову выше ее. И когда он выходил к доске, то смотрел сверху вниз на молоденькую, неуютно чувствовавшую себя под нашими пытливыми взглядами учительницу.
Конечно, Ванька вчера не выучил урока и стоял теперь у доски с совершенно глупым видом, пытаясь за всяческими гримасами скрыть свое смущение. Этого ощущения какой-то робости и стыда, когда стоишь перед классом и не знаешь, что ответить на вопрос учителя, не удавалось, наверное, избежать ни одному ученику. Собственно, боялись мы даже не учителя. Страшно было показать себя неучем перед сверстниками, особенно перед девчатами, и тот, кто проваливался на уроке, пытался потом доказать свои способности и сообразительность, проделывая всякие фокусы во время перемены: пробовал ходить на руках или с первого раза попасть теннисным мячиком в открытое окно директорского кабинета.
Ванька в этих негласных соревнованиях тоже не преуспевал, а мнение девчат ему за последнее время стало особенно дорого, так как он одновременно ухаживал почти за всеми из них. Поэтому, вызванный к доске Надеждой Михайловной, он усиленно мигал своими темными навыкате глазами, подавал знаки висевшими, как плети, вдоль туловища руками и даже плечами, подергивая ими попеременно и так артистически, что в классе поднялся хохот. Надежда Михайловна строго глянула на класс, но в это время Ванька что-то промямлил, пытаясь сформулировать ответ, и она с любопытством повернулась к нему и даже постаралась напомнить, с чего бы можно было начать ответ.
— Так в каком же году произошло столь знаменательное событие? — спросила она, стараясь не обращать внимания на кривляние Ваньки и сдерживая себя.
Шут меня дернул в этот момент перебросить записку своему дружку Борьке. «Со второго урока сбежим в кино», — предлагал я. Собственно, это была шутка. Ни в какое кино мы не собирались, и я просто хотел немного позабавиться и пощекотать Борьке нервы. Записка не долетела до адресата и упала в проходе между столами на самой середке. Надежда Михайловна, конечно, увидела ее.
— Что это у вас там? — спросила она. — Опять записочка? Дайте-ка ее сюда. Я слышала, что в вашем классе особенно любят переписываться во время урока. Пора с этим кончать.
Она встала из-за стола и пошла между рядами столов, чтобы взять записку. Но я, наклонившись, сделал это быстрее.
— Дай сюда записку, — потребовала Надежда Михайловна, подойдя ко мне.
— У меня ничего нет.
— Как нет? Ты же поднял ее на виду у всего класса.
— Ничего я не поднимал.
— Вот же она в руке. Разожми кулак.
Пришлось отдать записку.
— Зачем же врешь? — Надежда Михайловна развернула записку. — И еще делаешь такие предложения. Если тебе неинтересен урок, можешь выйти из класса.
Про такие случаи говорят: нашла коса на камень. Наверное, так оно и было. Потому что я поднялся и сказал:
— Пожалуйста.
Я помедлил. Но Надежда Михайловна поторопила:
— Выходи, выходи. Что ж ты медлишь? Не мешай нам учиться.
Отступать было некуда, и я опрометью вылетел за дверь.
Далее события в классе развернулись вовсе не в мою пользу. Пока я пререкался с Надеждой Михайловной, Родин успел вооружиться достаточным количеством шпаргалок, чтобы без запинки ответить на первый вопрос. Надежда Михайловна осталась довольна, но попросила кое-что уточнить. Родин снова начал «плавать», требуя подсказки. Здесь я должен отвлечься и рассказать о том способе подсказки, который был разработан в нашем классе и которым часто пользовался Родин. Собственно, способ этот разработал не сам Ванька, а его «вассал», как мы все его называли, Саша Вычегнов. Странная дружба длинного Ваньки Родина и самого маленького ученика в классе — Саши Вычегнова началась, казалось бы, с пустяка. Ванька, как обычно, стоял у доски и моргал глазами, не в силах решить в общем-то пустяшный пример с десятичными дробями.
— Сколько же у нас получилось? — уже в который раз, теряя терпение, спрашивала математичка.
Ванька угрюмо молчал. Только глаза его бросали в класс стрелы-молнии. Дескать, подскажите же! Но математичка давно отучила нас подсказывать. У нее был изумительный слух, и, заметив, что кто-то пытается глухим шепотом вмешаться в ее разговор с вызванным к доске учеником, она тотчас же приглашала к доске шептуна, и редко кто возвращался на место без двойки в журнале. Потому-то так безнадежно угрюмо и стоял Ванька у доски. И неожиданно увидел, что Саша показывает ему два пальца.
— Сколько же у нас получилось? — уже насмешливо прозвучал вопрос учительницы. Все в классе знали, что эти насмешливые нотки в голосе не предвещали ничего хорошего, а означали лишь, что ученик сейчас будет отправлен на свое место, а в журнале против его фамилии появится жирная двойка.
— Два! — в отчаянии почти прокричал Ванька.
— Правильно! — тут же отозвалась математичка. — И зря ты так долго думал. За правильный ответ тебе полагалась бы пятерка. Но ты понимаешь, почему я не могу тебе ее поставить?
— Понимаю, — пролепетал в ответ раскрасневшийся Ванька.
— Почему же?
— Я долго думал.
— Правильно, — удовлетворенно сказала учительница. — Класс не понял бы этого моего решения. Поэтому я поставлю тебе четыре. Иди на место.
Так впервые в дневнике у Ваньки появилась четверка по математике. И она удивительным образом повлияла на его отношения с Сашей Вычегновым. До этого Ванька редко проходил мимо Саши, чтобы не дать ему подзатыльника. А тут на следующей же перемене, когда Перепелкин подставил Саше ножку и тот растянулся посреди коридора, Ванька ухватил Стасика за ухо. Перепелкин взвыл от боли. А Родин тут же объявил на весь коридор:
— Кто тронет Сашку, будет иметь дело со мной.
С тех пор Ванька и Саша стали неразлучными друзьями. Дружба эта проявлялась своеобразным образом. Оберегая Сашу от обидчиков, Ванька нещадно эксплуатировал его, заставляя делать за себя уроки, изобретать шпаргалки, выдумывать способы подсказки во время урока незаметно для учителя.
Способ подсказки, который был применен на уроке истории, тоже разработал Саша Вычегнов. Он смастерил маленький проекционный фонарик. Когда включался ток от батарейки, на край доски или на противоположную стену класса проектировался ответ: даты, цифры. Оставалось только не зевать, так как долго держать фонарь включенным Саша боялся.
Надежда Михайловка задала Ваньке наводящий вопрос и отошла к окну, дожидаясь ответа. Саша включил фонарик. Ванька начал сбивчиво отвечать, перескакивая с пятого на десятое. Получив еще вопрос, Ванька «поплыл» дальше. Так «плыл» он от одного наводящего вопроса к другому и, казалось, уже благополучно приближался к берегу, где маячила спасительная тройка. Но именно в этот момент случилось непредвиденное, то, чего удавалось избегать до сих пор. Надежде Михайловне показалась подозрительной Сашина возня.
— Саша, перестань вертеться, — попросила она. — Что там у тебя такое интересное?
Саше пришлось спешно убирать свой аппарат, а потом передавать его по цепочке от одного ученика к другому, чтобы укрыть от зоркого глаза учительницы. Возможно, Надежда Михайловна так ничего бы и не увидела, если бы ребят не подвела спешка. Фонарик дошел уже до Тамары. Она очень переживала за Сашу и сильно волновалась и потому, передавая аппаратик соседу, поспешила выпустить его из рук. Гремя, он полетел на пол.
— Что еще случилось? — подошла Надежда Михайловна. Она с интересом рассматривала диковинное устройство.
— Так вот, Ваня, где фокусируются все твои знания, — вымолвила наконец она. — Чудесно! Чья это выдумка?
Класс молчал.
Не получив ответа, Надежда Михайловна сказала:
— Вы зря боитесь и скрываете от меня правду. Я отлично знаю, что придумал это кто-то из вас. И это очень способный мальчик.
Все поразились, как она угадала, что придумал это один человек и именно мальчик. Девчонки стали переглядываться и с завистью поглядывать на мальчишек. А Надежда Михайловна продолжала:
— Тот, кто это придумал, наверняка отлично выучил не только историю, но и физику и математику. Поэтому я сразу же ставлю ему пятерку. Итак, чей дневник мне взять, чтобы занести в него отличную отметку?
Получить пятерку по истории, конечно, было лестно. Но класс угрюмо молчал. Никто не посмел назвать претендента на отличную оценку. И тогда Надежда Михайловна обратилась к Родину:
— Ваня, ты хотя и не совсем самостоятельно, но все же ответил на мои вопросы. И вполне заслужил тройку. Но это несправедливо, если товарищ, который тебе помог, не получит заработанную им честно пятерку. Скажи, кто все это придумал?
И Ваня не устоял перед этой апелляцией к правде и справедливости.
— Сашка Вычегнов, — буркнул он, отворачиваясь к доске, чтобы класс не видел его смущенных глаз.
Надежда Михайловна взяла Сашин дневник и четко вывела в нем пятерку.
— Я думаю, что справедливость восторжествовала, — сказала она. — Но это еще не все. Разговор с вами мы продолжим на следующем уроке. Я приглашу директора.
Класс притих. Только звонок вывел ребят из шокового состояния. Крича, перебивая друг друга, усиленно жестикулируя, устремились они в коридор.
В конце перемены ко мне подошел Мухин.
— Ты мне друг? — жестко спросил он.
— Конечно! — не понял я вопроса.
— Тогда идем сейчас в кино. Весь класс идет.
— Но сейчас же второй урок истории. Надежда Михайловна будет излагать новый материал.
— Тогда ты мне не друг, — резко бросил Борис и зашагал в сторону.
— Да погоди ты, — остановил я его. — В чем хоть дело-то? Объясни.
— Какой-то ты стал бестолковый, — подбежала к нам Светка. — Ах да, ты не был на уроке и ничего не знаешь!
В общем, они меня уговорили. Тем более, что если б явился директор, не обошлось бы без упреков и в мой адрес. А так подальше от беды. В общем, после перемены в класс пришло лишь несколько человек. Родин, Перепелкин, Оськин, «братья Федоровы» и Нина. Если не считать Нины и Перепелкина, одни сорванцы и двоечники.
Хотя кино оказалось интересным и многие в зале смеялись, настроение у меня испортилось. Урок истории был в тот день последним, и, конечно, в школу мы не вернулись. Разошлись по домам. Наскоро пообедав, я уединился в своей комнате. Впервые за много лет обрадовался, что отца не было дома. Я бы не сумел солгать ему, а правду говорить не хотелось. Обрадовался, когда мать нашла мне поручение.
Покупки я сделал быстро и, отнеся их матери, опять выскочил из дому. Решил еще раз пройти по этой необычной улице. «Улица Учителя Богданова». Что бы это могло означать? Не связано ли это название с нашей учительницей Надеждой Михайловной? От одного этого предположения меня бросило в жар, и я расстегнул пальто. Шут меня дернул удрать с ребятами в кино! Теперь стыдно будет посмотреть в глаза Надежде Михайловне.
— Сережа, ты оглох, что ли? — Передо мной стояла Тамара. — Ты куда направился?
— Да так. Гуляю вот.
— Ну тогда пойдем со мной.
— А ты куда?
— К Надежде Михайловне. По-свински мы все-таки поступили.
— Неудобно вроде.
— Чего неудобно? Неудобно штаны через голову надевать. Это мой папа всегда так говорил. Ты не пробовал?
Я не ответил.
— Ну, пойдешь, что ли? — тормошила меня Тамара.
Я подумал: сами с Борькой заварили кашу, а теперь… Но все же пошел.
К моему удивлению, у Надежды Михайловны собралось уже больше половины класса. И ребята все подходили и подходили.
— Вы извините меня, — улыбаясь, говорила Надежда Михайловна. — За беспорядок, за хаос. Вот взялась разбирать старые отцовские письма. Захотелось с ним посоветоваться. В трудную минуту у меня всегда так бывает. Тянет с кем-нибудь посоветоваться. А ближе отца у меня никого не было. К тому же он тоже учителем был.
«Вот она откуда, улица-то, — мелькнула догадка. — Улица Учителя Богданова. Отца Надежды Михайловны». Я хотел спросить, как ее отца звали. Но вовремя остановил себя: «Чудак! Михайловна. Ясно: Михаил».
— Да вы садитесь, садитесь, кто где устроится, — говорила между тем Надежда Михайловна. — Уж и не знаю, чем вас и угостить. Так неожиданно… Пришли вдруг. Значит, обиды не помните.
— Уж вы нас простите, Надежда Михайловна, — сказала за всех Тамара. — По глупости мы с урока-то…
— Ладно, ладно, — замахала руками Надежда Михайловна. — Вот ведь пришли, почти все… Значит, поняли. Добрые чувства вас привели. Мне отец часто толковал про добрые чувства. Говорил: между учителем и учениками обязательно должны установиться такие отношения, когда они не могут жить друг без друга.
Мы бесцеремонно разглядывали комнату. Всюду: на столе, на диване, на кровати — лежали письма.
— Это от отца, — пояснила Надежда Михайловна. — Вот тут маме с фронта. Меня тогда еще не было. А тут уже мне, когда я в Ленинграде в институте училась. А это копии. Это он своим бывшим ученикам писал. Я уже разыскала их и копии сняла. Вот теперь читаю и набираюсь мужества. Ведь с вами без этого нельзя. Отец меня предупреждал. Но, видно, по наследству передалась мне любовь к школе. Мама у меня рано умерла. А отец часто меня маленькую в школу водил. Как пойдем вечером гулять, так и зайдем. Я, бывало, сяду за парту и не видать меня. А все время твердила: учительницей буду. А когда пришла пора в институт поступать, струсила. Я ведь сначала в архитектурный поступила. А потом со второго курса ушла. В педагогический. Поняла: не смогу без школы.
Ребята сидели примолкшие, слушали внимательно, так и ловили каждое слово. И Надежда Михайловна вслух подумала:
— Вот бы на уроке так: А то ведь вроде интересно рассказываешь, а вертятся, друг с другом переговариваются.
— Будем на уроках слушать, Надежда Михайловна, — не утерпела, выпалила Тамара. — Честное комсомольское.
— А другие так же думают? — спросила Надежда Михайловна. — Вот ты, Боря? Не будешь вертеться, о постороннем разговаривать, записочками перекидываться?
Боря встал, как на уроке:
— Трудно, Надежда Михайловна. Но буду стараться. Пусть ребята меня одергивают. Или кулак под столом показывают. Я пойму.
— Спасибо, что не солгал. Откровенно лучше.
В комнате установилась тишина. Все примолкли, пригорюнились. Как же, слово давали расстаться с самым интересным на уроке: перекинуться запиской с товарищем, пошептаться с соседом. Разве утерпишь?
Надежда Михайловна и сама понимала, что слишком многого она хотела от ребят. Не переборщить бы. Поэтому она даже обрадовалась, когда Тамара, потрогав лежавшие на столе письма, спросила:
— А можно мы их почитаем? Или вы нам почитайте.
И опять все сидели тихо, не вертелись, не переговаривались. Надежда Михайловна читала письма отца, старого заслуженного учителя, именем которого названа теперь одна из улиц города, та, на которой она живет.
«8 сентября 1939 года.
Я часто думаю, каково призвание педагога? И отвечаю сам себе: он строитель. Мы ведем строительство в душах людей. Возводим такие крепости, как честь, благородство, любовь к труду, понимание долга перед Родиной. Каждый день мы отдаем своим ученикам — будущим строителям нового мира — часть своих знаний, здоровья, нервов. И парадокс: чем больше отдаешь, тем сам становишься богаче. Я говорю о душевном богатстве».
— А это письмо уже с фронта, — взяла Надежда Михайловна новый конверт. — Фашисты приближались тогда к Москве.
«21 сентября 1941 года.
Мне самому было трудно представить себя не у классной доски, а в окопе за пулеметом. И вот два месяца без крыши над головой. В дыму, в песке, в пожарищах. Мы цепляемся за свою землю изо всех сил. Иной раз кажется: все, не выстоять. Но кончается бомбежка, и мы опять ведем бой.
За меня не беспокойтесь. Как учил других, так и сам буду жить. Даже в этих неимоверно трудных условиях стремиться только к победе. Ни семьи, ни друзей не подведу».
— Это письмо к Екатерине Павловне Катюшкиной. Его бывшей ученице, — пояснила Надежда Михайловна. — Теперь она доктор медицинских наук, профессор.
«27 октября 1941 года.
Вы вправе у нас спросить: Как вы там? Храбры ли? Мужественны ли? Почему враг все ползет и ползет на нашу землю? А я задаю себе вопрос: что такое храбрость? Это, наверное, наивысшая ответственность перед Родиной, перед семьей, перед товарищами. Умение заставить себя не думать об опасности. Я встретился тут с очень смелым человеком. Мы с ним и днем и ночью в одном окопе. Холод, песок. И огонь. Куда ни сунься — огонь. Вчера он гранатой подбил фашистский танк. Я спросил: страшно было? Он ответил: «Страшно сейчас, когда подумаю, как я полз к нему под огнем». И добавил: «Надо будет, опять поползу».
Что слышно о твоих одноклассниках? Убежден, что ни один из них не дрогнет в смертельной схватке с фашистским зверьем».
Для нас да и для Надежды Михайловны эти письма были уже историей. Но история воспринималась теперь как часть нашей жизни. Она слилась с нашими думами, с нашими мечтами, с судьбами наших семей, а значит, и с нашими собственными судьбами. И мне думалось, что, читая нам, шаловливым своим ученикам, письма своего отца, Надежда Михайловна как бы успокаивалась и по-новому смотрела на нас, на наши шалости и проказы. Этот поворот к лучшему в отношениях друг к другу, наверное, происходил в сознании каждого из ее учеников. Я, например, не мог дать зарок, что перестану шалить на уроках, буду сидеть, как пай-мальчик. Уже не раз обещания давал и все равно срывался. Но чтобы врать, изворачиваться, сваливать вину на других, — этого никогда не будет.
«18 октября 1942 года.
Сегодня самый тяжелый и самый радостный день. Фашисты предприняли отчаянную атаку, чтобы сбросить нас в Волгу. За нами всего сто пятьдесят метров земли. Сто пятьдесят метров волжского песка с огрызками зданий. И мы выстояли. Победа еще далека. Но она придет. И я думаю о том, сумею ли за урок-два рассказать ученикам о пережитом, о людях, для которых мужество было повседневным бытием. Надо рассказать. Я готовлюсь к этому».
Надежда Михайловна читала, и каждый из нас по-своему воспринимал строчки писем, дошедших до нас через десятилетия.
— Ой, значит, он тоже был историком? — спросила Света, и никто не удивился этому вопросу, все поняли, о ком идет речь.
— Да, — ответила Надежда Михайловна. — Вернее, я тоже стала историком, как и мой отец. Он ведь недавно умер. Пять лет прошло.
Она вдруг отложила пачку с письмами в сторону и посмотрела на нас такими ласковыми, такими счастливыми глазами, что я невольно отвернулся… Мне стало неловко и за наши порой такие нелепые шалости, и особенно за сегодняшний «побег» в кино.
А Надежда Михайловна, оказалось, думала совсем о другом.
— Эх, ребята, милые вы мои, — сказала она. — Как вы мне помогли! Ведь мне давно надо было все эти письма принести в класс, на урок. А если поискать, такие письма хранятся, наверное, в каждом доме как драгоценная реликвия. Да стоит только поговорить с вашими мамами и папами, как они сами и найдут такие письма и снимут с них копии, если в той или иной семье не пожелают с ними расстаться. Надо сделать лишь первый шаг. Пройдет какое-то время, и можно будет уже говорить о создании истории нашего микрорайона. Вы, наверное, уже поняли, что история — это люди, их судьбы. Стоит проследить жизнь хотя бы одной семьи, и откроется целая страница истории Родины. А если взять несколько семей, если судьбы людей проследить на большом отрезке времени? О, этим можно увлечься!
В тот вечер я поздно пришел домой. Торопливо поужинал и сел за уроки. Долго ждал отца. Едва щелкнула входная дверь, выскочил в коридор.
— Папа, ты знаешь, мы, наверное, будем писать историю района. Это придумала наша учительница. Надежда Михайловна. Именем ее отца у нас тут названа улица. Вот и начнем с этой улицы.
Мама, скорее всего, не поняла, о чем я толкую. Она отозвалась из кухни:
— Опять какое-нибудь баловство. Увлечетесь своими историями, а уроки забросите. И запрыгают двойки в дневниках. Красней тогда на родительских собраниях.
Но папа не разделил этих сомнений:
— А что, по-моему, славное дело. Проследите связь времен и поколений.
И он стал рассказывать про своего заводского товарища — кузнеца Кондрата Нефедова. Оказывается, прапрадед его служил на Урале у заводчика Демидова. Его цепью приковывали к рабочему месту, чтоб не убежал. А отец Кондрата воевал в полку красных орлов за Советскую власть. Дети же кузнеца Нефедова уже инженеры. Один даже в космос готовится полететь.
После ужина отец достал из комода старую шкатулку и вытряхнул на стол все ее содержимое:
— Вот. Первый отдаю для вашего школьного музея свою фронтовую переписку.
Вы думаете, вся эта история с «коллективным посещением» кино прошла для нас бесследно? Ошибаетесь. Был разговор и у директора, и на педсовете. Всем участникам «похода» снизили четвертную отметку за поведение. Склоняли нас и на заседании комсомольского комитета. Мы не обиделись. Справедливо. Только вот с Ниной я опять поссорился.
Вышло все довольно глупо. На уроке физики вызвали ее к доске. И она очень задумалась над задачкой. Ну, думаю, не знает, выручать надо. И шепчу ей ход решения. А она положила мел у доски, повернулась к классу и говорит:
— Федор Лукич, простите, я могла бы решить эту задачку самостоятельно, но Сережа мне подсказал, и теперь вы подумаете, что решила по подсказке. Лучше уж я в другой раз отвечу.
Федор Лукич вскинул на нее удивленные глаза и велел садиться на место.
— Что ж, — сказал он. — Я пока не выставлю вам оценки. Думаю, так будет справедливо.
Это его любимое слово — «справедливо». А Нина на меня дуется. Вот и живи тут. Хочешь сделать как лучше, а оно получается хуже.
ВЕЧЕРНИЕ БЕСЕДЫ
В средине второй четверти Ольга Федоровна придумала для нас еще одно занятие. Вечерние беседы. Один раз в месяц она приглашала в класс кого-нибудь из знаменитых людей: поэтов, артистов, рабочих, ученых. Сначала сама обо всем заботилась, а потом сказала: «Зачем же у нас комсомольцы? Возьмите хоть это дело на себя». И вечерние беседы перешли в ведение Нины Звягинцевой — нашего комсорга. Но Ольга Федоровна все равно сама всем управляла: кого и когда пригласить, с кем договориться. Сначала на беседы из класса не все оставались. Но кто пропускал, на другой день все равно интересовался:
— Как там? О чем балакали? Поди, скукота?
Слухом, говорят, земля полнится. Так и у нас. Те, кто присутствовал на очередной беседе, не упускали случая похвастаться: что узнали да как занятно было. Порой и от себя кое-что присочиняли. Ведь и в самом деле приятно, например, послушать про жизнь животных. Это когда к нам из зоопарка приезжали. Получилось не хуже, чем по телевидению показывают. Вскоре на вечерние беседы стал являться весь класс. Иногда, правда, наиболее ленивые ученики ворчали: ну, что это, милиционера пригласили! Про правила движения. Кому надо? Что мы, ходить не умеем? Ворчать ворчали, а оставались. И довольны были. Особенно мальчишки. Ведь каждый мечтал когда-нибудь за руль машины сесть.
А тут новость: на следующую беседу следователь придет. По-разному в классе встретили эту весть. Мальчишки ехидничали: к следователю попали, преступники мы, что ли? Девчонки молчали. Я спросил Нину, чья это выдумка.
— Ольга Федоровна посоветовала, — ответила она. — Правовая пропаганда. В общем, кто не хочет, может не ходить.
Это в мою сторону шпилька. Пришли все. Признаться, я никогда не думал, что следователь может быть таким симпатичным, культурным. Все-таки с преступниками дело имеет. И огрубеть можно. А Кирилл Петрович Скороходов (так он назвал себя, когда вошел в класс) и на вид оказался человеком добрым. Мягкие черты лица. Глаза светлые, с голубизной. Волосы на висках почти совсем седые, будто отбеленные.
Говорил он интересно. Как закон защищает подростка. Это если кто, например, на работу пойдет до совершеннолетия. И как наказывают виновных. Ребята слушали разинув рты. Ведь мы о многом и понятия не имели. Скажем, что такое презумпция невиновности? Интересно же! Или степень необходимой обороны. Если, скажем, на тебя напали, то можно обратно стукнуть или нет? У всего класса так глаза и засверкали, когда об этом разговор зашел. Даже у девчонок.
А Оськин, надо же, посреди беседы вдруг зевнул, нарочно, конечно, встал из-за стола, смял в руке свою кепку и спокойно направился к выходу. Ольга Федоровна остановила его:
— Оськин! Куда же ты? Мы еще не кончили.
— Устал! — через плечо бросил Оськин. — Я всю эту премудрость назубок знаю. Сведущие люди сказывали.
Так и ушел. Следователю, ясно, неприятна такая выходка Оськина. Но особенно переживала Ольга Федоровна. Надо же: перед чужими людьми себя показал. Она даже извинилась перед Скороходовым. После беседы ребята облепили следователя. Боже мой, каких только вопросов не задавали! Я тоже хотел пробиться к столу, где сидел Скороходов, но Боря Мухин оттащил меня за рукав.
— Послушай, — сказал он каким-то таинственным голосом. — Ты мне нужен.
— Что такое?
— Очень нужен.
— Ну, погоди, я хочу спросить…
— Потом спросишь. Или ребята расскажут, чем тут кончится. А сейчас спешить надо. Оськина выручать.
Я проворчал что-то насчет постоянного Борькиного желания кого-нибудь спасать, но пошел. Во дворе дома, где жили Мухины, мы спустились в полуподвал. У обитой клеенкой двери Боря остановился.
— Тут один тип живет, — брезгливо сказал он. — Да я тебе говорил о нем. Ванька Косолапый. Прозвище у него такое. А занятие подлое. Ребят приучает в трамваях по карманам шарить. Ты подожди здесь. Я сейчас. Только Оськина вытащу.
Он скрылся за противно скрипнувшей дверью. Она неплотно закрылась, и я рассмотрел квадратный стол посреди комнаты. За столом сидел Оськин, а напротив него круглолицый мужчина с рыжей ленточкой усов на мясистой губе. Они играли в карты.
Появление Мухина не смутило Косолапого. Он усмехнулся и, бросая карту на стол, спросил:
— Зачем пожаловал?
Боря не ответил. Подошел, молча взял Оськина за руку:
— Олег, идем отсюда.
— Погоди! — оттолкнул Бориса Ванька. — Он еще не отыгрался.
Мухин решительно встал между Косолапым и Оськиным.
— А если я сейчас милицию позову? — пригрозил он.
— О-о! — ухмыльнулся Косолапый. — Будь ласков, зови! Чего же мешкаешь? Только зряшная твоя затея. С милицией у меня отношения добрые: ни я их, ни они меня. Зато не терплю тех, кто вмешивается в мою личную жизнь и не дает мне отдыхать после трудового дня. Слышишь? — взревел Ванька. — Мотай отселева. А не то выкину! — Он поднялся из-за стола и схватил Борю за плечи.
Тут в комнату влетел я:
— Пустите его! Вы не смеете так…
Косолапый отступил.
— Э! — зло сверкнул он глазами. — Да вас тут целая орава. Свидетели мне не нужны.
Боря, воспользовавшись замешательством Косолапого, потащил Оськина к двери.
— Пошли, пошли, — торопил он.
Мы выскочили во двор.
— Ты чего это? — стал упрекать Оськина Мухин. — Ведь обещал не ходить больше к нему. Слово давал.
Оськин стоял потупившись.
— Не утерпел, — наконец протянул он. — Спытать себя хотел. Попадусь на новом деле или нет. — Приподнял голову и прихвастнул: — Еще ни разу не попадался. Видать, наука у него точная. Да и у меня сноровка есть.
— Брось ты болтать! — осадил его Боря. — Мелешь чушь какую-то! Идем уроки учить.
— Я есть хочу! — простонал Оськин.
— У меня поедим.
Они ушли. А у меня на душе остался какой-то неприятный осадок. Будто прикоснулся к чему-то гадкому и скользкому.
ГОРЕ ТАМАРЫ БЕЛОВОЙ
В последнее время все начали замечать — и учителя и ученики, — что с Тамарой творится что-то неладное. Всегда веселая, смеющаяся, общительная, она стала уединяться, бежать от подруг, и все чаще замечали ее одиноко стоящей в коридоре у стенки с грустным выражением на лице. Еще недавно Боря говорил мне о Тамаре: «Она такая уродилась смешливая и озорная». А Светка добавляла: «Смешинка в рот попала». С кем бы Тамара ни встретилась, о чем бы ни разговаривала, нигде не обходилось без ее очаровательной, нежной улыбки. Она словно одаривала всех весельем и счастьем.
Но с некоторых пор улыбка сменилась на ее лице озабоченностью и сосредоточенностью. Ольга Федоровна даже радовалась этому, говоря, что Тома наконец-то взялась за ум и стала серьезнее относиться к занятиям.
И только мы с Борей знали подлинную причину того, почему все реже и реже улыбка задерживалась на миловидном личике Тамары Беловой. Но мы старались не распространяться об этом.
— У нее отец умер, — говорил Боря, если кто-либо приставал к нему с расспросами.
— Но ведь прошло уже два года.
— Все равно. Она его очень любила.
Тамара и правда часто вспоминала об отце. Вдруг скажет: «Это папа меня научил». Или: «Любимая папина поговорка…» Нет, она, конечно, любила и маму. С Борей я не раз заходил к Тамаре. И если Мария Сергеевна была дома, Тома бросалась ей на шею с искренней дочерней нежностью. На какое-то время она оставляла нас, убегала к маме на кухню. Мы все понимали. Им нужно было наговориться.
Как-то я попросил у Томы очень редкую книгу.
— Возьми, пожалуйста, — сказала она.
— А мама тебя не заругает?
— Что ты! Я о таких пустяках у мамы и не спрашиваю. Ей не до меня.
Мария Сергеевна действительно выглядела уставшей, была недовольна собой. Она стала усиленно пудриться и краситься, и в доме постоянно пахло какими-то очень стойкими духами. Тамара видела, что маме тяжело, что ей не до нее, и старалась не надоедать ей своими просьбами и вопросами. Постепенно у нее создавался мир своих мечтаний и представлений. Она научилась обходиться без посторонних советов и самостоятельно решать многие житейские вопросы.
Иногда, зайдя вместе с Тамарой к ней домой, мы заставали у Марии Сергеевны гостей. В таком случае Тамара долго не задерживалась. Она делала вид, что забежала на минутку, хватала какой-нибудь учебник, и мы быстро уходили. Потом долго бродили по парку, и учебник нам очень мешал.
В тот день мы с Борькой отправились на озеро. Решили разведать, нельзя ли там соорудить каток. Каким чудом Тамара нас нашла, никто не ведает. Она прибежала запыхавшаяся и, если б Боря ее не поддержал, наверно, свалилась бы на снег.
— Мама выходит замуж, — сказала она и заплакала.
Я отошел в сторонку. Но Тамара сама меня позвала:
— Что ты, чудак, иди сюда.
Она уже справилась со своей слабостью. И пересказала нам свой разговор с мамой.
«Тамара, ты уже взрослая девушка, — сказала Мария Сергеевна. — Ты должна меня понять. Я не могу жить одна. И ты тоже не можешь без папы. Поэтому я выхожу замуж. Ты знаешь Василия Степановича. Он часто заходил к нам. Мы с ним давние друзья. Сегодня он придет снова и останется у нас. Я хочу, чтобы ты называла его папой. Он милый и добрый человек. И я буду счастлива, если вы подружитесь».
Тамара запомнила эту длинную речь слово в слово.
— Что ж ты ответила? — спросил Боря.
Тамара пожала плечами:
— Что я могла ответить? Сказала: хорошо, мама.
— Может, это и к лучшему, — попытался успокоить ее Боря. — Нормальная семья.
— Не знаю, — ответила Тамара. — Только мне очень жаль маму.
Так началась у Тамары новая жизнь. Василий Степанович был лысоватым, грузным, довольно уже пожилым человеком. Он любил, чтоб в доме была тишина, чтоб никто не тревожил его послеобеденный сон, и Тамара стала реже приглашать к себе подружек, которые прежде частенько забегали к ней, чтобы вместе выучить уроки или просто поболтать часок-другой.
С первого же дня Василий Степанович заявил, что будет поддерживать во всем порядок. Мария Сергеевна и так пережила слишком много, поэтому он не будет ее утруждать и все заботы по воспитанию их дочери (то есть Тамары) берет на себя. Он сам будет ежедневно проверять Тамарин дневник, ходить, когда следует, на родительские собрания и вообще поддерживать связь со школой.
— Сейчас, — сказал он, поясняя свою программу, — у нас в воспитании слишком много либерализма. Помню, меня отец пребольно лупил ремнем за каждую двойку. Теперь это считается не педагогичным. А зря. Строгость и еще раз строгость — вот что главное в правильном воспитании ребенка.
— Это же вандализм! — воскликнул Боря, когда Тамара изложила нам кредо ее отчима. — Надо протестовать.
— Чудак, — грустно усмехнулась Тамара. — Кто же будет вмешиваться в семейную жизнь? Нет уж, придется терпеть.
Домой мы шли с Борей вместе, и он все возмущался, говорил, что Тамара рано сдалась, что надо бороться.
Я не возражал ему, но в душе соглашался с Тамарой. Легко сказать — бороться! Но надо же соразмерить силы! У Бори тоже в семье какие-то нелады.
Вскоре я стал свидетелем нового конфликта. Тамара с подружками со смехом ввалилась в коридор. Побросала на тумбочку портфели, пригласила:
— Раздевайтесь, девочки. Я сейчас вас чаем угощу. Проходи и ты, Боря, и ты, Сережа.
Василий Степанович вышел в коридор в новой отутюженной пижаме.
— Тамара, — вкрадчиво сказал он, — прежде чем приглашать подружек, а тем более дружков, — покосился он на Борю и на меня, — следовало спросить разрешения у отца с матерью. Так делают во всех приличных семьях. А я думаю, что наша семья имеет все основания считаться вполне приличной.
Тамара попыталась сдержать себя и обратить все в шутку:
— Девочки, познакомьтесь: это Василий Степанович, мамин муж.
Эти слова так поразили Василия Степановича, что он побагровел от злости.
— Во-первых, — едва выговорил он, — надо уметь называть вещи (он так и сказал: вещи) своими именами. Тебе приличнее было сказать, уж если ты меня решила познакомить со своими подружками, что я твой папа. А во-вторых, следовало бы пожалеть мать. Она и так устает, а вы наследили по коридору.
Девочки смущенно попятились к двери.
— Я, пожалуй, пойду, Тамара, — сказала Света.
— Мы лучше в другой раз зайдем.
Коридор мгновенно опустел, и дверь за девчатами захлопнулась.
— Вот видишь, — с нотками слащавости в голосе сказал Василий Степанович. — Твои подружки оказались гораздо воспитаннее тебя. Они сразу поняли, что поступили бестактно, придя без приглашения.
— Но я же их приглашала! — крикнула Тамара, пробегая прямо в грязных туфлях и в пальто в свою комнату. — Ребята, погодите, я сейчас, — предупредила она Борю и меня.
Прикрыв за собой дверь, она вдруг бросилась на кушетку и зарыдала горько, безнадежно, стараясь приглушить всхлипывания. А в коридоре с растерянными лицами и беспомощно разведенными руками стояли Мария Сергеевна и Василий Степанович и, как мне показалось, не понимали, что же произошло.
Боря на правах друга Тамары ждал, чем все это кончится. Я счел необходимым не оставлять товарища одного.
— Иди успокой ее, — произнес наконец Василий Степанович. — Я уж не знаю, как к ней подступиться. Совсем избаловалась девчонка. Слова не скажи.
Он уже преодолел испуг и обрел свою постоянную рассудительность. Мария Сергеевна с мольбой взглянула на мужа, словно ожидая, что он придет к ней на выручку и избавит от неприятного разговора с дочерью. Но Василий Степанович только рукой махнул: распутывай, мол, сама этот клубочек. Мария Сергеевна тяжело вздохнула и, робко приоткрыв дверь, неслышно проскользнула в комнату дочери.
Тамара все еще лежала на кушетке, уткнувшись лицом в подушку. Она уже немного успокоилась, и рыданий не было слышно. Только плечи ее судорожно вздрагивали. Мария Сергеевна подошла, подняла руки вверх, поправляя свою прическу, потом заметила стоящий у стенки стул, взяла с него брошенные дочерью перчатки и присела. Осторожно, одними пальчиками руки дотронулась до Тамариного плеча:
— Доченька!
Тамара замерла, насторожилась. У нее еще не прошла обида на мать, которая не заступилась за нее.
— Доченька! — повторила Мария Сергеевна. — Успокойся. Ты погорячилась. Василий Степанович прав.
Тамара рывком вскочила на ноги.
— Ах, прав! — крикнула она. — Прав! Моих подруг выгоняют из дому, со мной не считаются, и ты говоришь: прав.
Она вырвала перчатки из рук матери и, шагнув к двери, сказала как можно тише, но вложив в эти слова все пережитое за последние месяцы:
— Между прочим, раньше ты этого не говорила. Раньше я была тебе дороже.
Тамара рванула на себя дверь и лишь на какой-то момент обернулась, чтобы бросить еще один взгляд на мать. И то, что она увидела, перевернуло все в ее сердце. Мария Сергеевна стояла, опустив голову, сгорбившись и будто став меньше под тяжестью обрушившегося на нее горя. И такое беспокойство, такое смятение было написано на ее лице, что Тамара бросилась к ней и повисла у нее на груди, обхватив за шею руками.
— Мамочка, милая! Одна ты у меня осталась! Совсем одна.
Они присели на кушетку. Мария Сергеевна легонько гладила склоненную к ней на колени голову дочери, едва дотрагиваясь до ее нежных льняных волос.
— Доченька, доченька! — повторяла она.
Боря щелкнул дверным замком.
— Пошли, — сказал он.
Мы тихо вышли и закрыли за собой дверь. Боря прислушался. В квартире стояла тишина.
— Пошли, — снова сказал он.
Мы затопали по лестнице вниз.
В очередную среду Тамара не явилась на репетицию драмкружка. Боря позвонил ей:
— Тома, ты почему не пришла?
— Не могла. Я не умею прыгать с пятого этажа.
— А зачем прыгать?
— Ох какой ты бестолковый! Меня закрыли в комнате. Чтобы уроки делала. А я не умею прыгать с пятого этажа.
На другой день Тамара рассказала нам о своем разговоре с матерью. И я понял, каким верным союзником и другом была раньше для Томы ее мать. Но между ними словно черная кошка пробежала. Мария Сергеевна, конечно, понимала, что в чем-то она виновата перед дочерью и в чем-то обманула ее надежды и ее веру в справедливую и всегда безупречную мамочку. Но что она могла поделать, если так неудачно сложилась на каком-то этапе ее жизнь! Ведь она хотела сохранить семью, хотела, чтобы у Томочки был заботливый, нежный и строгий папа. И она надеялась (и желала этого), что Василий Степанович будет именно таким человеком. Он казался ей и мудрым, и верным в своих суждениях, и твердым. И эта твердость особенно покоряла ее и нравилась ей, потому что она давно привыкла опираться на чьи-либо суждения, особенно если они высказаны в категорической форме. И поскольку она сама безропотно покорилась судьбе, а свою судьбу она видела в Василии Степановиче, то она хотела, чтобы и дочка, Томочка, была послушна своему новому папочке, который конечно же хочет ей только добра и желает, чтобы она выросла полезным и деятельным человеком. И Мария Сергеевна очень болезненно переживала этот первый разлад между ее мужем и ее дочерью и в душе все металась между ними, то становясь на сторону дочери, которую жалела, то оправдывая Василия Степановича, которого считала справедливым и заботливым. И, поскольку примирить их ей не удавалось, она все же считала, что прав в этом споре Василий Степанович, как человек более опытный, чем ее дочка Тамарочка, которая сама-то толком не знает, чего она хочет.
Я подумал, что стоит с глазу на глаз поговорить с Марией Сергеевной, попытаться убедить ее в том, что она поступает неправильно, отталкивает от себя дочь. Я сказал об этом Боре. Он согласился:
— Попробуй.
Мы встретились с Марией Сергеевной у булочной. Я дождался, когда она пошла за хлебом. Она сразу узнала меня и спросила, как дела в школе. Я ответил, что хорошо, и, в свою очередь, спросил, почему они (она и Василий Степанович) не пускают Тамару на репетиции.
— Так ей лучше, — потупясь, сказала Мария Сергеевна. — Василий Степанович говорит, что будет меньше дурных влияний. Он такой заботливый, такой внимательный! Не жалеет своего времени. И тетрадки у Томочки проверяет, и дневник просматривает. Чуть что не так — замечание. А ведь лучше от отца замечание-то получить, чем от учителя.
Я все понял. Она повторяла слова Василия Степановича.
И все же мы с Борей еще раз побывали в доме у Тамары и говорили с Василием Степановичем. Сказали, что пришли от имени общественности. По дороге встретили Оськина. Боря позвал его с собой. Нечего, мол, без дела болтаться.
Василий Степанович принял нас любезно и от разговора не отказался.
— Почему не пускаете Тамару вечером в школу? — спросил Боря.
— Ей надо учить уроки.
— Мы после репетиций остаемся и учим уроки вместе.
— Ей это удобнее делать одной. Раньше, когда у нее не было отца, может быть, она и нуждалась в вашей помощи. А теперь нет. Она не сирота. Есть кому дать ей совет и решить, какие у нее должны быть друзья. А то, посмотрите, с кем вы ко мне пришли? Вы, кого Тамара считала своим другом! Кого я здесь вижу! Вот этот ваш рыжий, — он указал на Оськина. — Он же вор. Я сам наводил справки в детской комнате милиции. Он там на учете.
Боря не успел прореагировать на эти слова. И, главное, не успел остановить Оськина. Круто повернувшись, Олег выскочил на лестничную площадку.
Продолжать разговор дальше не имело смысла. И мы распрощались. Закрывая за собой дверь, Боря сказал в самую щелочку:
— Мы будем жаловаться!
— Пожалуйста, — также через щелочку ответил Василий Степанович.
Но спускались мы по лестнице угрюмые. Жаловаться нам было некуда. Да и на что? На строгость родителей?
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
Неожиданно наше «музыкальное трио» дало трещину. Началось с того, что Тамара стала все реже и реже откликаться на наши приглашения. Отказывалась пойти в кино или побродить по парку. Ссылалась на занятость. Потом мы стали замечать, что она вообще нас избегает. Как правило, два раза в неделю она исчезала сразу же после уроков, и, сколько ни искал ее Боря, все усилия его были тщетны. Всюду, где Боря справлялся о Тамаре, только руками разводили: никто не знал, где она пропадает. Дома ее тоже не было. Боря попытался проследить за Тамарой. Но пока он одевался в гардеробе, Тамара успевала выскользнуть на улицу и исчезнуть бесследно. Тогда Боря решил подежурить у ее дома. Но, простояв два часа, он так ничего и не выяснил. И тогда он пришел ко мне.
На другой день мы не спускали с Тамары глаз. Вдвоем легко увидели, как она вышла из школы, торопливо прошла по переулкам и скрылась в подъезде старого кирпичного дома. Спрятавшись за углом, мы долго наблюдали за этим подъездом. Наконец дождались, когда двери его распахнулись и из них выплеснулась шумливая стайка девчат. В сумерках мы, наверное, не увидели бы Тамару, если б кто-то не крикнул:
— Тамарка, не забудь: завтра практические занятия. Наложение шины. Советую попрактиковаться дома.
Боря узнал Тамару и пошел за ней следом. Он дождался, когда группка девчат поредела. Тамара долго шла с какой-то своей подругой. Наконец и та свернула в переулок, и Тамара зашагала по слабо освещенной улице одна. Боря догнал ее. Я тихо присоединился к ним сзади.
— Тамара, погоди!
— Борька? — удивилась она. — Ты что тут делаешь?
— А ты что делаешь? Я давно собирался тебя спросить. Да ты все скрытничаешь. И бегаешь от меня.
— Я? — переспросила Тамара. — Я занимаюсь на курсах медсестер.
— Зачем это тебе? Не окончила школу и уже какие-то курсы. Откуда у тебя такая блажь?
— Блажь? — Тамара резко повернулась к нему. — Ничего-то ты не понимаешь. — И она быстро зашагала, почти побежала по пустынной улице.
Боря едва поспевал за ней.
— Как же тебя из дому-то отпускают?
— А что? — обернулась Тома. — Я справку принесла. Все по закону. Потом они надеются, что я забуду своих друзей-мальчишек.
— Так. И ты забудешь?
— Никогда!
— Ну, будет, не сердись, — стараясь говорить не так громко, но и не очень тихо, чтобы она все же слышала, убеждал он. — Почему же ты мне сразу не сказала? Может, я тоже…
— Что? — опять резко остановилась Тамара. — На курсы! Вот еще медсестра появилась. Нет. Медбрат. Смехота. — Тут она заметила меня. — А, и ты здесь. Вся троица собралась.
— Смешного ничего, между прочим, нет, — будто не слыша ее последних слов, сказал Боря. — В войну многие мужчины были санитарами. И не одна это ваша монополия — раненых таскать. А тебе совестно должно быть, что сама исподтишка делаешь, а от меня скрываешь.
— Отвяжись, — сердито бросила Тамара. — И без тебя тошно. Заладил одно и то же. Вот что. Завтра у нас практические занятия, завтра я не могу. А в среду приходи ко мне… Ах да, — спохватилась она. — Ко мне нельзя.
— Давай ко мне. Или к Сереже.
— К тебе тоже нельзя. Дразнить будут. А к Сереже и вовсе. С какой стати? Вот что. Останемся после уроков в школе. Всей троицей, как прежде. Будто бы на тренировку. Найдем укромное место?
— Найдем, — кивнул Боря.
— Вот и поговорим. Мне самой с кем-нибудь посоветоваться хочется. А не с кем.
Тамара прибавила шагу и бросила через плечо:
— Не ходи за мной больше.
Боря замедлил шаг и отстал. Я пристроился к нему.
Когда в среду мы уселись за стол в опустевшем после занятий классе, Тамара вынула из портфеля изрядно помятую газету и положила ее перед Борей:
— Вот. Читай.
Я посмотрел на название газеты. Это была «Красная звезда». Борис удивленно вскинул вверх густые белесые брови:
— Что такое?
— Сейчас узнаешь. Читай!
Он положил газету на стол, начал читать несколько монотонно, равнодушно:
«— Опять мертвого притащила! — пожилой санитар склонился над человеком в летном комбинезоне…»
— Что за страсти-мордасти? — возмутился Борис, откладывая газету. — Зачем ты заставила меня это читать?
Тамара схватила газету со стола, сердито выговорила:
— Эх, ничего-то вы, мальчишки, не понимаете. Слушай: «…А девушка-санитарка заплакала навзрыд». Понимаешь? Заплакала! А от чего? Слушай дальше: «Выходит, зря она ползла под пулями, тащила летчика на себе, рисковала жизнью. Ну как тут не поползешь, когда на твоих глазах падает самолет с красными звездами на крыльях! От удара о землю летчика выбросило из кабины, и он недвижимо остался лежать недалеко от гитлеровских окопов на «ничейной» земле. А вдруг жив? И Анна поползла под бешеным огнем».
— Понимаешь? — Тамара заглянула Борису в глаза, стараясь узнать, взволновал ли его этот самозабвенный порыв санитарки.
— Понимаю, — чуть слышно прошептал Борис.
— А я как прочитала, — склонилась к нему Тамара, — так аж в груди все зашлось. Думаю: сейчас бы вслед за ней кинулась.
Тамаре стало приятно оттого, что она нашла сочувствие своим мыслям, что наконец-то она может, не таясь, поделиться обуревавшими ее чувствами, своими взглядами на жизнь, своими симпатиями.
— Ты понял что-нибудь? — донимала она Бориса. — Вот это героиня, вот это девушка! Не чета нашим модницам, умеющим только наряжаться и не видящим, не представляющим себе настоящего смысла жизни. А она? Бросилась очертя голову в огонь, лишь бы спасти человека. Представляешь? Человека!
Борису, давно замечавшему какие-то неясные ему странности в поведении своей школьной подруги, показалось, что она слишком возбуждена и несколько преувеличивает значение поступка санитарки. Поэтому он попытался сгладить впечатление от прочитанного:
— Что ж, спасти человека! Это, конечно, верно. Но не надо забывать, что девушка выполняла свой долг. Это ее работа.
— Эх ты! — зло сверкнула на него глазами Тамара. — Долг, работа! По-разному можно исполнять долг и работу. Кто заставлял ее ползти под огнем на «ничейную» землю? А потом, ведь если человек не подает признаков жизни, могла она не надрываться, не тащить его на себе опять же ползком и под огнем. Ведь это не прогулка в парке.
Борю увлек этот казавшийся ему поначалу беспочвенным спор о поступке санитарки. И вовсе не из желания противоречить своему противнику, а скорее исходя из внутреннего убеждения, он сказал:
— И что же? Ведь она напрасно рисковала. Летчик был мертв.
Тамара, казалось, только и ждала этих слов. Тотчас же бросилась она в атаку на своего оппонента:
— Мертв? Ты говоришь, мертв? Она зря рисковала? Эх ты! Читай! Читай, говорю! — И она перед самым его носом трясла газетой, повторяя: — Эх ты! Читай дальше, читай!
Борис вырвал у нее из рук газету, раздражаясь, спросил:
— Где, где читать?
— Вот, вот отсюда: «На другой день…»
— «На другой день, — прочитал Борис, — тот же самый санитар встретил ее обрадованно:
— Ожил! Ожил твой летчик! Зайди хоть посмотри на него!»
Тамара торжествующе бегала вокруг стола.
— Ну что! Взял? «Зря рисковала»! — передразнила она. — А вот и не зря! Вот и спасла человека. Читай дальше!
Кажется, впервые я задумывался над тем, почему Боря всякий раз безропотно подчиняется Тамаре. Она подавляла его своей энергией, напористостью, безапелляционностью суждений. Когда мы оставались одни, он вдруг находил аргументы в споре с ней, пытался задним числом возражать, не соглашаться. Но стоило им встретиться и Тамаре высказать свои суждения, как он капитулировал. Вот и сейчас он безропотно подчинился ее требованию. Читать так читать. Это даже интересно.
— «Так и на этот раз миновала Алексея Решетова смерть.
Героического в судьбе этого человека хватило бы на несколько жизней. Но, чтобы понять Решетова сердцем, нужно вернуться в то горячее время, когда все ребячьи мечты были в небе. «Комсомолец — на самолет!» — так звал комсомол. «Трудовой народ — строй воздушный флот!» — так звала партия. «Все выше, все выше и выше стремим мы полет наших птиц!» — так пела вся страна.
И все мальчишечьи мечты были в небе».
— Послушай! — остановился на этой фразе Борис. — Чего ты так расходилась, расхвасталась? Ведь это вовсе не про вас, девчонок, написано. Тут все про мальчишек. Про нас! Вот послушай: «И все мальчишечьи мечты были в небе». Ну что? Съела?
Тамара с презрением отвернулась от него:
— Болтун ты. Тебя просишь, как человека, почитать, а ты антимонию разводишь. Мне лучше знать, про мальчишек или про девчонок. Я уж десять раз все прочла.
— Зачем же еще читать?
— Чудак! Для тебя! — убежденно произнесла Тамара. — Разве неясно? Ну, не томи меня, читай.
— «И все мальчишечьи мечты были в небе, — повторил Борис фразу, на которой он остановился. — Поэтому сцена, разыгравшаяся в кабинете начальника одного из летных училищ, была довольно обычной по тем временам. Хозяин кабинета с ромбами на петлицах устало убеждал насупившегося, переминавшегося с ноги на ногу паренька:
— Да пойми же ты, Решетов, пойми! Не могу я нарушать порядок. Через год — пожалуйста. Приходи — примем… Что молчишь? Ну объясни ты ему, комиссар, — обернулся он к человеку, который рядом с ним склонился над какими-то бумагами.
Тот поднял голову:
— А знаешь, здесь действительно случай особенный, — комиссар легонько постучал ладонью по папке с документами, — я уж не говорю про рекомендации с работы, из вечернего техникума. Но он ведь по комсомольской путевке… А вот разгадка, что возраста не хватает, — он потряс в воздухе какой-то справкой. — Аэроклуб за несколько месяцев окончил. Не-е-т, тут дело серьезное.
— У них у всех дела серьезные… — генерал заходил по кабинету из угла в угол. Молча. Потом снова комиссару: — Характер у тебя, брат, мягкий… В общем, смотри: отвечать вместе придется. — И тут же засмеялся вдруг облегченно, будто от ненужной тяжести избавился. Обнял Алексея за худенькие плечи и слегка подтолкнул к двери: — Летай, комсомол!..»
Борис читал уже с увлечением. Он забыл и о санитарке, и о раненом летчике, и о споре с Тамарой. Его волновала судьба Алеши Решетова. И Тамара успокоилась, поставила стул поближе и заглядывала в текст из-за Бориного плеча.
— «Диплом об окончании училища через несколько лет вручил Решетову тот же генерал.
— Рад, что не ошибся в тебе, — сказал он и снова, как и в первый день, по-отцовски обнял за плечи. — Хорошо должен летать. И назначение тебе — особое…
Алексей попал в группу летчиков, впервые в стране осваивавших ночные полеты. Летал он на истребителе И-153, который в народе любовно называли «Чайкой».
Утром 22 июня 1941 года Алексей одним из первых взлетел по тревоге. Он вел машину с одной неотвязной мыслью: «Что это? Война или провокация?»
Вот они, самолеты фашистов. С длинными, широко расставленными шасси. С непривычными еще для глаза черными крестами на фюзеляжах.
…Трудно пришлось Алексею в первом бою. Это был яростный бой. В нем Решетов ощутил святые чувства: презрение к смерти и ненависть к врагу. Но и торжество победителя испытал он в эти минуты, когда задымился первый сбитый им Ю-87. Задымился и свалился в беспорядочный штопор.
Было это 22 июня сорок первого года в первые минуты войны.
Так началась боевая жизнь Алексея Решетова. А дальше — вылет за вылетом. И горечь отступления. И, словно бритвой по сердцу, скупые сводки Совинформбюро.
Особенно запомнились воздушные сражения под Валуйками, где он потерял своего боевого побратима Женю Жердия.
Бой шел над самым передним краем. Жердия сбил одного фашиста. Второго. Он бросался, словно заговоренный, в самое пекло. Его не брали снаряды врага. Однако и свой боезапас был на исходе.
Третью машину Евгений Жердия таранил…
Начальник политотдела танковой дивизии, над которой шел бой, потрясенный мужеством летчика, немедленно связался с авиационным командованием. Он кричал в трубку:
— Если вы его на Героя не представите, мы сами представим!
Лейтенант Евгений Жердия стал Героем Советского Союза. Посмертно».
Борис читал, и перед ним словно оживали эти люди, насмерть схватившиеся с врагом. Совсем еще молодые, только вступавшие в жизнь.
— «Тяжело пришлось под Валуйками и Решетову. Возвращаясь с задания, он попал под сильный зенитный огонь.
Не помогли противозенитные маневры. Алексей почувствовал, как теплая кровь, своя кровь, заливает лицо. Рулевое управление почти не действует. Плохо дело.
Невероятными, нечеловеческими усилиями он выравнивает машину у самой земли. На счастье, она падает уже у своих.
Солдаты вытащили его из кабины без сознания…»
— Уф! — перевел дыхание Борис. — Не могу больше. Скажи: остался он жив или нет? Ты ведь все читала. Сама говорила.
Тамара посмотрела на него жалостливо. Успокоила:
— Ну что ты разволновался? Все в порядке. Его еще не раз сбивали.
— Но жив-то он остался? — сердился Борис. — Остался или нет?
— Остался, остался. Вот тут читай.
— «…Мы с Алексеем Михайловичем Решетовым, — читает Борис, понемногу успокаиваясь, — инженером-конструктором одного из московских заводов, смотрим семейный альбом.
На фотографиях юные лица. Они оживают передо мной. Решетов рассказывает о каждом. Ведь десять летчиков его эскадрильи стали Героями Советского Союза. Десять!
Переворачивается еще одна страница альбома, и вот перед моими глазами скромный паренек. Таким, наверное, он стоял, переминаясь с ноги на ногу перед начальником училища в тот далекий и памятный день. Московский комсомолец Алеша Решетов, ставший Героем Советского Союза, полковником, почетным гражданином села Шотовки, что на Херсонщине. Жители этого села в годы войны купили самолет на свои трудовые деньги. На нем и летал Решетов. Да. Поистине героическая жизнь. Поистине его подвигов хватило бы на несколько славных жизней! Ведь человек сделал восемьсот двадцать один вылет, провел двести воздушных боев, сбил тридцать пять самолетов врага!
…А в альбоме — юные лица с Золотыми Звездами Героев, боевые друзья Решетова.
— Вот Фотий Морозов, а это Чистяков, а вот Нестеров, — это уже поясняет мне Анна Дмитриевна, жена Алексея Михайловича.
— Аня всех их знает, — улыбается Решетов.
Еще бы! Ей ли не знать их всех! Ведь Анна Дмитриевна — та самая санитарка (помните?), что вынесла его под пулями полуживого с «ничейной» земли».
Борис отложил в сторону газету, и мы долго сидели молча, боясь потревожить те мысли, которые вызвала эта статья. Потом Борис сказал:
— Ну и что? Что ты восхищалась! Санитарка, санитарка! Ну, вынесла из огня. И других выносила. Это ее долг. А вот он действительно герой.
— Дурак! — шлепнула его по коленке Тамара. — Эта и статья-то вовсе не про летчика, а про санитарку. Что летчик? Ведь если бы она его тогда с «ничейной» земли не вытащила, что бы он? Летал? Да? Как же! Помер бы, и все. Суть-то вся в санитарке. Понял?
Они еще помолчали, глядя, как сгущаются сумерки за окном. Потом Тамара призналась:
— Эта статья всю мою судьбу перевернула. Прочитав ее, я и на курсы пошла. Медсестрой решила стать.
— Ну и чудачка. Сейчас же мирное время. Санитарка сейчас самая пустяшная профессия. Ничего героического.
Тамара упрямо тряхнула головой:
— Не собьешь!
— Понятно, что не собью. Ты упрямая.
— И пусть упрямая. А чего плохого? Потом мне все равно специальность нужна. Не могу я, — потупясь, тихо сказала она. — Уйду из дому. Все равно уйду! А на хлеб зарабатывать как буду? Об этом ты подумал?
— Не подумал, — машинально ответил Борис.
— Вот видишь! А еще другом называешься.
Она встала, откинула за ухо упрямо торчащие завитки волос.
— Пойдемте. И так засиделись. А еще уроки надо делать.
Боря взял ее за руку. Тамара протянула мне другую руку. На цыпочках мы вышли из класса. Нас объединила новая тайна. Надолго ли? Мы оба чувствовали, что Тамара за эти несколько месяцев стала серьезнее, взрослее нас. У нее появилась своя цель в жизни.
ЦВЕТЫ НА КЛУМБЕ
Наши отношения с Ниной к весне, кажется, окончательно наладились. Она уже давно смирилась с тем, что я на равных участвую в репетициях драматического кружка. Иногда, как и прежде, мы вчетвером ходим в кино. Однако девчата опять втянули меня в неприятную историю. На этот раз виновницей оказалась Света Пажитнова.
Ольга Федоровна любила цветы. И с грустью каждый день посматривала на пустынный школьный двор, на покрытую сорняками площадку перед окнами нашего класса. Наконец она не утерпела и, посовещавшись с девчатами, решила, что класс преподнесет школе к окончанию учебного года неожиданный и приятный подарок. Каждой из девочек она поручила принести, кто сколько сможет, цветочной рассады. А мы, мальчишки, взялись вскопать на пустыре землю под клумбу.
Девчата бросились выполнять поручение. У кого были деньги, побежали в цветочные магазины. Света, когда шла из школы, залюбовалась на клумбу во дворе своего дома. Цветы на ней были отменные, некоторые уже готовились выпустить цветоножки. Света повертелась, покрутилась вокруг клумбы и обрадовалась вдруг возникшей у нее мысли. Она счастливо улыбнулась, про себя подумав, что, пожалуй, перещеголяет всех своих подруг и угодит Ольге Федоровне. Беспечно напевая, легкой пташкой впорхнула она в квартиру и, наскоро пообедав, сразу же уселась за уроки. А сама нет-нет да и выглянет в окно, полюбуется на клумбу во дворе.
Едва стемнело, Света выскочила во двор. Она подбежала к клумбе и наклонилась над ней. Запустив глубоко в землю пальцы обеих рук, решила сразу вместе с корнями вынуть цветок. Но тут послышались чьи-то шаги и кто-то многозначительно кашлянул. Света в испуге присела пониже, стараясь скрыться за кустом акации. Все стихло. Но вдруг совсем рядом отчаянно заорала кошка. Света приткнулась к кусту акации, дрожа от страха. Два зеленых мечущихся огонька скользнули в сторону. Кошка, перепрыгнув через ограду, исчезла за углом дома. Света вскочила вслед за ней и сиганула в другую сторону, к своему подъезду.
Уже подымаясь в лифте на свой шестой этаж, Света вспомнила про поручение Ольги Федоровны и нажала на кнопку. Лифт остановился на четвертом этаже. Света выскочила из кабины, хлопнула дверью и побежала по лестнице вниз, к выходу.
Выйдя из подъезда, она остановилась. Идти к клумбе одной было боязно. Кого же взять себе в напарники? Света вспомнила про свою подружку Клаву Семенцову. И побежала в соседний дом.
Клава — самая тихая в классе. Ничем она не выделяется: ни ростом, ни голосом. Даже волосы у нее какие-то серые, неприметные. Она будто и мнения своего никогда не имеет. Что другие скажут, с тем и соглашается. Учится она старательно, и чаще всего у нее мальчишки списывают домашние задания. Знают: Клава добрая, выручит.
Они быстро сговорились. Правда, Клава немного колебалась. Говорила, что стыдно выкапывать цветочную рассаду с клумбы. Но тут же сдалась на уговоры Светы. В конце концов не ее это выдумка, а Светы. Она зачинщица, ей и отвечать в случае чего.
Вдвоем было уже не страшно. Света энергичными движениями выковыривала из рыхлой земли цветы и складывала в картонную коробку, которую предусмотрительно захватила из дому Клава. Выкопанные цветы они уже в подъезде дома разделили поровну.
— Спрячь до утра дома, — горячо шептала подруге Света. — Да смотри, чтобы никто не увидел. Завтра мы с тобой удивим весь класс. Таких роскошных цветов ни у кого не будет.
Клава согласно кивала головой. Но, едва она осталась одна, ей стало страшно. Прижимая коробку с цветами к груди, она побежала домой. Она мечтала об одном: лишь бы суметь проскользнуть из коридора в ванную, чтобы не увидела мама. Ей это удалось. Она завернула принесенные цветы в газету и спрятала под ванной. И тут же шмыгнула в свою комнату, разделась и легла в кровать.
Через полчаса ее разбудила мама.
— Клава, что это такое? — спрашивала она. — Что это за цветочная рассада под ванной? Откуда взялась?
Клава попыталась удивиться. Какая рассада? Она ничего не знает. Но смущенное, растерянное лицо и неуверенный взгляд глаз выдали ее. Плача и раскаиваясь, она все рассказала.
— Вот что, Клава, — сказала мама. — Это очень хорошо, что ты смущаешься и понимаешь, что поступили вы не лучшим образом. А если без обиняков говорить, то поступок ваш скверный. И, чтобы снять с себя это пятно, ты сейчас же пойдешь и посадишь все эти цветы на прежнее место, и точно так, как они росли. Чтобы утром никто и не заметил пропажи. Будто бы ее и не было. Понятно? Посади все на место. Да не забудь: полей.
— Понятно, — еле слышно пролепетала Клава и начала одеваться.
Выйдя во двор и глянув в темноту сквера, она прижалась спиной к холодной кирпичной стене дома и, сколько ни заставляла себя, не смогла сделать вперед ни шага. Идти к клумбе она не решалась. Нужно позвать кого-нибудь. И обязательно мальчишку. С ним не так боязно. Выбор ее почему-то пал на меня. Может быть, потому, что мы жили в одном подъезде. Одним словом, поздно вечером в квартире раздался звонок. Клава вызвала меня на лестничную клетку и, сдерживая слезы, торопливо рассказала все, что с ней произошло. Она просила об одном: проводить ее до клумбы и побыть с ней, пока она будет рассаживать цветы.
— Ну, чего ты дрожишь-то вся, — успокаивал я ее. — Ведь все можно еще поправить. Подожди меня здесь. Я сейчас. Только предупрежу маму.
Вскоре Клава уже рассаживала цветы на клумбе, а я подсвечивал ей фонарем.
На следующий день Клава старалась не попадаться на глаза Свете. Но та сама разыскала ее во время перемены.
— Где же твои цветы?
Клаве пришлось все рассказать.
— А-а!.. — протянула разочарованно Света. — Не завидую я тебе. Твои родители не очень современные люди. Они воспитывались, наверное, еще на идеях частной собственности. Цветы ж общие. Что во дворе на клумбе, что у нас в школе. Общие. Ничьи, значит. Поняла?
Клава ничего не поняла, но спорить не стала. Просто отошла в сторону. Но после уроков, когда они шли из школы, Света снова завела этот разговор. Похвасталась, что получила за цветы от учительницы благодарность. И рассказала, что дома отец тоже обнаружил принесенные ею украдкой цветы и, догадавшись, откуда они, стал увещевать:
— Неправильно ты поступила. Сказала бы нам, купили бы тебе цветы. А так…
Но мама вступилась за дочку.
— Не обеднеет дворовая клумба, — сказала она. — Захотят, еще подсадят. А Света ни при чем. Как ей поступить, если учительница дала такое задание? Я считаю, что она с честью вышла из трудного положения.
Света из школы убежала домой счастливая. А на другой день разразился скандал. Обнаружилась цветочная пропажа на клумбе. Кто-то связал это с поручением, которое девчата выполняли накануне. Ведь все искали цветочную рассаду, у родных спрашивали. Из домоуправления пришла делегация к директору школы. Стали расспрашивать ребят. Никто ничего не говорил. Тогда директор пообещал вызвать всех родителей. И чтобы выручить класс, Клава призналась, что выкопала цветы, но все до одного посадила на место и полила, чтобы не завяли.
Боясь разоблачения, Света заявила сама, что ходили за цветами они с Клавой вдвоем.
— Только ничего я не вижу в этом особенного, — сказала она. — Зря общественники такой шум подняли. Цветы-то не частные. Правда? А какая разница, где они растут, во дворе или около школы? У школы даже лучше.
Больше всех случай этот возмутил Ольгу Федоровну. Получалось, будто она своим заданием толкнула девчат на воровство. Поэтому она негодовала особенно бурно:
— Как же тебе не стыдно, Света? Да еще и идеологическую платформу пытаешься подвести под свой скверный поступок. Нет, нет! Староста! — отыскала она меня глазами. — Осудите поведение Светы на классном собрании. Этого так оставлять нельзя. К тому же она заблуждается и не понимает, что поступила дурно. Я сама буду присутствовать на собрании и все ей разъясню.
Я был немало смущен случившимся. Тем более, что знал о поступке девочек и не придал ему значения.
Боря предложил:
— Вытащить ее на комсомольский комитет.
И мне хотелось, чтобы ребята разобрались во всем сами, без нажима со стороны классного руководителя, поспорили, поругались, но чтоб запомнили этот разговор на всю жизнь.
— Разрешите, мы соберемся одни, без вас, — сказал я.
Но Ольга Федоровна усмотрела в этом моем желании ущемление своих прав.
— Это почему же одни? — сердито вскинула она голову. — Сами вы еще и не разберетесь в этом как следует. Нет, уж будьте добры меня пригласить.
Пришлось согласиться. Но ребята выдали Светке все, что ей полагалось, еще до прихода Ольги Федоровны. Ведь из-за нее пришлось задержаться после уроков.
— Тоже мне чемпион по цветоводству, — фыркнул Перепелкин. — Только класс позоришь.
— Изобретатель! Новатор! — иронизировали «братья Федоровы». — Сама додумалась, или помогал кто?
И даже Оськин высказал свое неудовольствие:
— Эх, раззява! Куда ж ты полезла?
Когда появилась Ольга Федоровна, большинство уже высказалось. Повторяться не стали. Легко согласились с тем, что говорила учительница. Поступок Светки осудили. И только Нина, считаю, выступила совсем неправильно. Против меня. Дескать, знал и не сказал, не остановил девчонок. Хорошо еще, что ребята устали и не захотели вдаваться в подробности.
КАРАУЛ НА РАССВЕТЕ
В июньскую пору, когда ночь короче воробьиного носа, сладко спится поутру ребятам. Любила поспать и Тамара. Сама не раз говорила об этом. Бывало, чтоб проснуться вовремя, заводила она будильник. Но и звонок протрещит так, что соседям слышно, а Тамара только улыбнется во сне, перевернется на другой бок, натянув на голову одеяло, и опять спит, как младенец. Помня об этой Тамаркиной привычке, я заранее попросил Борю, чтоб в назначенное время он позвонил подруге по телефону…
Звонок раздался ровно в половине четвертого. Трубку взяла Мария Сергеевна. Услышав, что просят Тамару, она поглядела на разрумянившееся во сне лицо дочери, на ее чутко подрагивающие веки и строго спросила:
— Я не ослышалась? Вам нужна Тамара?
— Да.
Мария Сергеевна совсем уже вышла из себя:
— А вы знаете, молодой человек, который час?
— Знаю, — ответила трубка. — В этот час тридцать лет назад началась война.
— Что за шутки! — вскипятилась Мария Сергеевна. — Кто вам позволил так шутить? Вы не смеете…
— Позовите Тамару! — настойчиво требовал голос в трубке.
— Отстаньте, молодой человек, и больше не звоните! — Мария Сергеевна резко положила трубку и испугалась: не разбудила ли она Тамару.
Дочь глядела на нее еще не отошедшими ото сна, удивленными глазами.
— Мама, меня? — легким движением откинула она одеяло. — Что же ты не разбудила!
Мария Сергеевна замахала на нее руками:
— Спи ты, спи! Какой-то сумасшедший вздумал пошутить ни свет ни заря.
Но Тамара уже спустила ноги на пол.
— Ой, неужели опять проспала! Девчата мне не простят.
— Да куда ты? — удивилась мать. — Еще и трамваи не ходят.
— У нас сбор, мама. Помоги мне собраться.
Мария Сергеевна, казалось уже привыкшая к самым неожиданным решениям дочери, на этот раз совершенно растерялась:
— Какой сбор? Ты, верно, приняла утро за вечер. Да знаешь ли, который сейчас час? Еще солнце не поднималось. Ложись в постель.
Но Тамара не хотела ничего слушать. Она торопливо одевалась, приговаривая:
— Не забыть бы, захватить бы…
Вышел из спальни Василий Степанович, осуждающе посмотрел на жену, на Тамару, пробасил недовольно:
— Это еще что за переполох? Подняли на ноги весь дом.
— У нас сбор, папочка, — умоляюще посмотрела на него Тамара и осеклась. Впервые она назвала его так, причем не просто папой, а ласкательно — папочка. Но никто, кроме нее самой, этого, кажется, не заметил. Василий Степанович продолжал все так же напыщенно:
— Какой сбор? Среди ночи? О чем только ваши учителя думают? В постель, в постель!
— При чем тут учителя! — воскликнула Тамара. — Мы сами проводим сбор, без всяких учителей, сами по себе.
Теперь уже удивился Василий Степанович:
— Ах, без учителей, сами по себе. Тогда тем более в постель. И никаких разговоров. Хватит нам с матерью твоих чудачеств. И, чтоб ты спала спокойно, я и дверь закрою, и ключ уберу. — Он прошел к входной двери и, щелкнув замком, вытащил и положил в карман пижамы ключ.
Тамара не ожидала, что так все обернется. Она надеялась уйти после Бориного звонка тихо, не разбудив никого в квартире. И теперь она не знала, как ей поступить. Не драться же с Василием Степановичем! И не отбирать у него силой ключ! Она метнулась было к двери, подергала ее за ручку, словно пробуя, надежен ли запор, потом отскочила к окну и выглянула на пустынную, едва очистившуюся от темноты улицу. И в это время снова зазвонил телефон. Мария Сергеевна приподняла трубку и резко бросила ее на рычажки.
— Ах так! — вскипела Тамара. — Я уже никто в доме. Я уже невольница. Хорошо же! Я поступлю так, как подобает поступать тому, кого лишают свободы!
В тумбочке у нее лежал старый пионерский горн, купленный когда-то ей в подарок отцом. Тамара схватила его и выскочила на балкон.
Мать в ужасе бросилась за ней, не представляя еще, на что решилась ее вышедшая из повиновения дочь. Она обхватила ее за плечи и, вся дрожа от пережитого волнения и от недоброго предчувствия, умоляла:
— Тома, Томочка! Ну, вернись же, дурочка!
А Тамара, поднеся горн к губам, заиграла в полную силу.
Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту! — неслось по сонной улице.
— Дурочка! Весь район взбаламутишь! — упрекала мать.
— Ну и пусть! — твердила Тамара и дула в трубу: ту-ту, ту-ту!
Всю эту историю я восстановил потом по рассказу Тамары, а также Марии Сергеевны и Василия Степановича, которые приходили в школу с жалобой. И я подумал, что ведь то же самое могло произойти и у нас в семье. Начало было точно таким же. С вечера я поставил будильник на три тридцать. И тоже никому ничего не сказал. Боялся лишних вздохов и ахов. Когда задребезжал звонок, первым проснулся отец. Стал одеваться. Потом, глянув на часы, недоуменно произнес:
— Что такое? На завод вроде рановато.
Я, вскочив вслед за отцом, уже натягивал штаны.
— А ты чего?
— У нас сбор, папа!
— Какой сбор? Темень еще. Ранища. Что случилось?
Я посмотрел на отца с упреком:
— Уж ты-то, папа, должен понимать, что случилось.
Отец потянул меня за рукав:
— Что-то не припомню. Может, пояснишь?
Не знаю, откуда у меня набралось смелости, но я продолжал упрекать отца:
— Не верю, что не помнишь, папа. Такое не забывается. В этот час тридцать лет назад началась война.
— Правда, правда, сынок, — смутившись, как мне показалось, соглашался отец.
А я продолжал говорить взволнованно и убежденно. О том, как в советском небе появились самолеты со свастикой. По деревенским хатам и по городским кварталам ударили орудия. И, лязгая гусеницами, тысячи фашистских танков поползли по нашей земле.
— И вот мы, школьники, пионеры и комсомольцы, — торжественно закончил я, — в этот час в память о тех, кто отдал жизнь за советскую Родину, за нас с вами, заступаем в почетный караул.
Отец не сразу нашелся, что сказать. Мне показалось, что он смотрел на меня полными удивления глазами, словно не узнавал меня, и недоумевал: я ли это, я ли такое говорю?
— Кто же вас надоумил? — только и спросил он.
— Никто, — ответил я. — Мы сами. Никто не знает. Тебе говорю об этом первому. Понимаешь, папа, мы подумали, если кому сказать, начнут согласовывать, выяснять, можно ли. Найдутся такие, которые скажут: надо пожалеть детей, зачем их поднимать в такой ранний час? Пусть поспят. А ведь те, что проснулись от гула фашистских орудий, от грома взорвавшихся бомб, ведь они тоже недоспали. Правда, папа?
— Правда, сынок, — глухо ответил отец.
— Так я пойду, папа.
— Иди, сынок.
И я, схватив со стула заранее приготовленную и отутюженную школьную куртку, выскочил за дверь и побежал вниз по каменным ступенькам лестницы.
Над кварталом неслись тревожные звуки пионерского горна. И вдруг горн умолк. Я с испугом глянул на поднимающийся над городом красный диск солнца (не опоздать бы!) и во всю прыть понесся к месту сбора.
А горн умолк потому, что Марии Сергеевне наконец удалось затащить Тамару в комнату.
— Томочка, Тома, — чуть не плача умоляла она. — Что с тобой? Ты же весь дом взбаламутила. Успокойся. Послушай мать с отцом.
Тамара глядела на нее широко открытыми глазами, но словно ничего не видела перед собой. Она вспоминала что-то очень важное. И наконец вспомнила.
— Да поймите же вы! — крикнула она. — В школе и так ребят мало. А вы еще меня здесь держите. — И бросилась к телефону.
Она достала блокнот со списком учеников класса и быстро нашла нужный номер. Торопливо набрала его. В трубке уже отвечали, а она, разволновавшись, не могла вспомнить имя того, кому звонила. Хоть опять в блокнот заглядывай. В голове все крутилось: как же его зовут? Как зовут?
— Вам кого? Вы куда звоните? — доносилось из трубки. И Тамара сказала:
— Оськин. Позовите, пожалуйста, Оськина.
— Какого Оськина?
И тут Тамара вспомнила, что Оськина зовут Олегом.
— Олега! — радостно закричала она. — Олега Оськина.
Оськин подошел очень быстро.
— Послушай, Олег, — кричала в трубку Тамара. — У меня тут такое случилось… Не могу из дому выйти. А ребята заступают в караул. Понимаешь? Сегодня война началась.
— Какая война? — гудел в ответ Олег. — Поспать не дают. Где она началась?
— Да у нас, ну какой непонятливый! Не сейчас, а тридцать лет назад. Великая Отечественная. Беги скорее к памятнику героям. Там тебя ребята встретят. Скажи, что вместо меня ты. Автомат возьмешь у Бориса. Для меня у него приготовлен. Да забеги к Шурупику, он тоже в запасе оставлен. Разбуди — и с собой. Для него автомата нет, так ты свой, то есть мой, ему отдашь. Когда отстоишь свою очередь. Понял? На тебя вся надежда. Выручай. Может, один раз в жизни случай такой представился: человеком стать.
Олег не отвечал.
— Ну, что ты молчишь-то? — переминалась с ноги на ногу Тамара. — Побежишь, что ли? Отвечай.
— А что сразу не сказали? — спросил Оськин.
— Боялись. Вдруг ты что-нибудь выкинешь.
— Безбожники! — ворчал Олег. — Как настоящее дело, так Оськина в сторону. А как комедию ломать, так все на меня смотрят. Дескать, давай посмеши публику. Тебе не привыкать кривляться. А может, мне надоело посмешищем быть? Может, мне тоже хочется доброе слово о себе услышать?
— Ой, Оськин, — взмолилась Тамара. — Тебя что, прорвало, что ли? Что ты вдруг в сентиментальность ударился? Ведь каждая минута дорога! Ты скажи: побежишь или нет? А то я другому звонить буду.
Угроза подействовала. Услышав короткое: «Бегу», Тамара бросила трубку. И тут только словно впервые увидела стоявших возле нее мать и Василия Степановича. И вспомнила все. Больно резануло в сердце. Она шагнула к входной двери, схватилась за ручку, дернула на себя. Дверь не поддалась.
— Не пустите? — повернувшись, спросила Тамара.
— Нет, — покачал головой Василий Степанович. — Не чуди.
— Ну и ладно! — крикнула она. Вбежала в комнату, бросившись на постель, укрылась с головой.
Остаток ночи мать просидела у ее изголовья. А Тамара, лежа с закрытыми глазами, думала о том, что происходит сейчас у памятника героям.
А происходило вот что. Отряд выстроился на песчаной дорожке, и звеньевые отдали рапорты. Меня взволновало отсутствие Тамары. Как назло, и Бориса не было. Наконец появились двое: Борис и Оськин.
— А где же Тамара? — набросился я на них.
— За нее вот Оськин, — сказал, переводя дух, Боря.
— Это еще почему? Оськина нет в расчете.
— Тамара не придет, ее не пустили.
Я посмотрел на запыхавшегося Оськина:
— А Олег сможет?
— Постарается.
Я приказал Оськину встать в строй, произвел расчет караула. И первые четыре счастливца, вскинув на руке деревянные автоматы, застыли в торжественном молчании у памятника.
Вскоре мимо памятника потянулись рабочие на завод. Они замедляли шаг и дивились, что за часовые выставлены в карауле. Я представлял себе, как убеленные сединами ветераны сразу вспоминали, какой сегодня день. И уже с надеждой глядели они на этих мальчишек и девчонок, безмолвно стоящих в почетном карауле, как на свою смену, как на будущий надежный щит Родины. А эти белобрысые или рыжие и чернявые бесенята, еще вчера выводившие из равновесия учителей своими причудами, что думали они, в трепетном волнении, боясь шелохнуться, стоя у подножия народной святыни?
А Оськин? Я смотрел на него. Скоро подойдет его очередь заступить в караул. О чем он сейчас думает? Может, вспоминает своего деда-артиллериста, не вернувшегося с войны. Деда, которого он ни разу не видел и знает только по хранящейся в домашнем альбоме фотографии. А может быть, он поступит сейчас так же, как не раз поступал на уроках — пробурчит: «Мне скучно» — и уйдет. Уйдет? Ан нет! Оськин знает, что можно, а что нельзя делать. Сейчас он на виду у всего района, как посланец нового поколения. Он уже не может поступить по своему личному усмотрению. Он как бы принимает эстафету от тех, кто погиб в бою, и на его лицо уже ложится первая забота за судьбу Родины. О как он подтянулся, как плотно сжаты его всегда подвижные губы!
Ласковое утреннее солнце все выше и выше взбиралось по небосклону, наполняя теплом серый мрамор обелиска, согревая ребячьи спины, а наш необычный караул все стоял, и редким уже прохожим могло показаться, что четверо застывших в торжественном молчании молодых бойцов бессменно несут свою почетную вахту. И очень немногие видели, что через каждые полчаса по точно рассчитанному графику я приводил из глубины парка очередную смену, и мальчишки, чеканя шаг, подходили, чтобы заступить на пост вместо своих товарищей. И тогда неискушенные наблюдатели дивились, откуда у ребят эта четкость и размеренность движений, эта точность в выполнении воинских ритуалов. Никто из взрослых не знал, что, прежде чем заступить в караул, мы месяц тренировались в Серебряном бору, урывая для этого немногие свободные от занятий часы. А потом, когда тренировки подошли к концу, группа специально избранных командиров ездила на Красную площадь и полдня наблюдала, как сменяются часовые у Мавзолея В. И. Ленина. Вот почему и безукоризненная выправка, и четкая размеренность движений не были для ребят неожиданностью. Все отрабатывалось и изучалось заранее.
Наш штаб был уверен в каждом назначенном в караул. Меня смущали лишь Оськин и Шурупик, и я прикидывал, сумеют ли они заменить уже прошедших тренировку ребят. Чтобы проверить их к заступлению на пост, я отвел обоих в сторонку и предложил пройтись строевым шагом. Признаться, я очень опасался, не выкинет ли при этом Оськин какой-нибудь свой очередной номер. Но все обошлось благополучно. Более того, Оськин так усердно тянул ногу и держал равнение, что я сразу успокоился и уже со следующей сменой разрешил новичкам заступить на пост.
Толпа вокруг памятника все нарастала. Слышались возгласы одобрения:
— Молодцы ребята! Помнят о павших. Чтят героев.
Никому из нас не хотелось в этот момент уходить домой. Но наше время истекло. Я построил ребят, и колонна зашагала по улице. По дороге распустил отряд, приказав:
— Позавтракать и быстренько в школу!
В тот день мне поручили рисовать плакаты для школьного пионерского лагеря. Я зашел в учительскую за красками. Директор был занят, и я решил подождать в сторонке.
Инспектор районного отдела народного образования хвалил директора за хорошую инициативу, за умение приобщить школьников к пониманию совершенного их отцами подвига. Я прислушался.
— Очень удачно найдена форма военно-патриотического воспитания, — говорил инспектор. — Признаться, даже немного обидно, что мы, прошедшие войну, сами до этого не додумались. Мне уже звонили с завода. Рабочие одобряют ваше начинание.
Директор поддакивал и делал вид, что полностью осведомлен о том, о чем говорит инспектор. Но разговор продолжался, и стало уже неудобно просто кивать головой, и тогда директор спросил:
— А о чем все-таки речь?
— Как о чем? О вашем начинании. О карауле у памятника героям.
— О каком карауле?
Тут уж удивился инспектор районо:
— Да вы что, не знаете, что происходит в вашей школе? Мы выясняли, ребята ваши.
Инспектор сидел в полном недоумении. И тут взгляд его упал на меня.
— Странно, — прошептал он.
Я поспешил выйти. Инспектор шагнул вслед за мной.
— Мальчик, погоди, — произнес он. — Это я с тобой сегодня разговаривал у братской могилы?
— Со мной, — подтвердил я.
— А что вы там делали?
— Стояли в карауле в честь героев, павших в боях за нашу советскую Родину.
— Значит, все-таки стояли? — обрадовался инспектор. — В карауле?
— Стояли. В карауле. Сменялись через каждые полчаса.
— Так что же мне тут голову морочат? — вскипел инспектор. — Кто вас послал?
— Никто!
— Как никто? — инспектор опять начал сомневаться. — Идем к директору, — схватил он меня за рукав куртки.
У директора разговор принял еще более строгий оборот.
— Полюбуйтесь, — сказал инспектор. — Ни директор, ни старшая пионервожатая не знают, что происходит у них в школе, чем занимаются их подопечные. Это ваш парень?
— Наш, — помрачнел директор в предчувствии какой-то неприятности.
— Они сегодня утром стояли в почетном карауле у обелиска! А вы ничего не знаете.
— Это правда? — спросил директор.
— Правда, — ответил я.
— Что же вы так? Никому ничего не сказали…
— А мы сами… Можем мы что-нибудь решить сами?
Директор всеми силами старался сдержать свое возмущение, остаться спокойным.
— Конечно, можете, — ответил он. — Но почему бы не посоветоваться?
— Запретили бы.
— Что?
— Запретили бы, — повторил я. — Сказали бы, зачем вставать в четыре часа, поднимать переполох, тревожить родителей. Потом начали бы советоваться с райкомом, с районо, с родительским комитетом. В лучшем случае решили бы провести в полдень линейку у обелиска. Или прием в пионеры. А это уже было. Пришли бы учителя, родители и стали бы нами командовать, будто им это очень интересно. А ребята стояли б и ждали, скоро ли все кончится. Самим интереснее.
— Да разве так можно? — воскликнул директор. — Это ж хаос, анархия!
— Нет, — упрямо тряхнул я головой. — У нас полный порядок соблюдался. Вот товарищ подтвердит, — повернулся я к инспектору.
Установилось тягостное молчание.
— Значит, никто из руководства ничего не знал? — уточнил еще раз инспектор.
Ему не ответили.
Когда я дома рассказал отцу о высказанных нам претензиях, он неожиданно для меня взял сторону директора.
— Представь себе, — рассуждал он, — у нас на заводе каждый стал бы делать, что ему заблагорассудится…
— Хватил! То на заводе.
— А какая разница? Сейчас все так взаимосвязано. В этот момент у памятника могло состояться возложение венков. А тут вы пришли. Накладка!
— Так рано. Какие венки!
— Все равно. Возьмем другой пример. Я отдал приятелю твою книгу. А она тебе позарез нужна… Заинтересованные лица должны знать, что мы делаем.
Ночь я спал тревожно. А наутро пошел к директору извиняться. Боря увязался было со мной, но я сказал:
— Сам заварил кашу, сам буду и расхлебывать.
В школе в то утро оказался и знакомый уже инспектор районо. Меня поругали, но и поддержали. Попросили продумать идею о пионерских караулах у памятника героям. Инспектор районо рекомендовал обсудить вопрос на совете дружины, в комсомольском комитете и выводы доложить директору. Между прочим, попало и Тамаре. Ее осудили за непочтение к родителям и за игру на горне на заре. Узнав об этом, Тамара плакала.
ПИСЬМО
Признаться, я и не заметил, как пролетели каникулы. Месяц просидел в городе. Потом с отцом уехали к родственникам в деревню. Рыбачили, ходили за грибами. Только разохотились, глянь, уже покатила осень. И вот девятый класс. Учителя с первого же дня наставляют нас: смотрите, не запускайте уроков, программа сложная. Ну что ж, поживем — увидим, сложная так сложная, не привыкать.
Присматриваюсь к ребятам. Чудно: за лето все повзрослели, вытянулись. У Стасика Перепелкина и усики пробиваются. Девчонки называют его теперь «Стива». Солиднее. Даже Света Пажитнова стала потоньше и повыше ростом. К Нине — не подступись. Ходит, как пава. Будто не идет, а плывет по коридору. Боря Мухин, на удивление всем, похудел, осунулся. Спрашиваю:
— Что с тобой?
— Ничего, — отвечает. — Все в норме.
И опять потекли школьные деньки. Уроки, домашние задания, всякие кружки и прочее. Вскоре восстановилась и наша компания. А тут случилось и первое происшествие.
Боря больше всего не любил дежурить по классу. И вовсе не оттого, что это налагало на него какие-то дополнительные обязанности, утомляло. Он умел ладить с ребятами, и, когда дежурил, в классе поддерживался строгий порядок. Даже мусора после уроков оставалось меньше, чем в другие дни. Ребята не только любили Борю (за его самостоятельность, за простоту в отношениях), но и побаивались его, дорожили его мнением. Поэтому старались держать себя в норме, поменьше шалить и поменьше сорить. Но мусор, конечно, все равно был. Набирался целый ворох скомканных бумажек, записочек, обрывков газет, вырванных из тетрадок, заляпанных чернилами листочков. И это не смущало Бориса.
Чаще он беспокоился о другом. Боялся, что, пока возится в классе, приводя его в порядок, Тамара не дождется и уйдет.
Но нравится тебе или не нравится, а дежурить надо. Все дежурят, по очереди. Единственно, к чему стремился Боря и что во многом зависело от его расторопности, — это поскорее убрать класс. И на этот раз он поторапливал ребят и сам старался за пятерых. И он очень рассердился на Шурика, который выхватил из кучи мусора свернутый вдвое листок, пытался что-то прочесть.
— Слушай, Шурупик, — налетел на сверстника Боря. — Кинь ты эту гадость. Нашел время заниматься внеклассным чтением.
Но Шурик и не думал подчиниться. Жадно впился он глазами в диковинный листок, исписанный мелким прыгающим почерком, и только водил головой, пробегая глазами по строчкам.
— Ой, Борька! — закричал он. — Тут что-то про наш класс написано. И про тебя, и про Тамару.
— Дай сюда! — потребовал Боря. — Что раскричался?
Он сунул бумажку в карман и еще усерднее стал метаться по классу, завершая уборку.
— Закройте окна. Все. Марш по домам.
К его радости, Тамара задержалась с преподавательницей английского языка. Домой они пошли вместе. Накрапывал дождь, и торопливые, как всегда, прохожие на этот раз спешили еще больше. Но они оба — и Боря и Тамара — люби ли ходить под дождем, поэтому шли медленно, позволяя всем обгонять себя и охотно уступая дорогу. Я догнал их у булочной. Хотел проскочить мимо. Боря окликнул:
— Куда торопишься?
— Дождь же!
— Не сахарный, не растаешь. Пойдем вместе.
Перебирая события дня, он вдруг вспомнил о злополучной бумажке, лежавшей у него в кармане. Вынул ее и, расправив, прочитал первые строки:
«Привет, Катюша!»
Это было письмо. И Шурик не ошибся: писал кто-то из нашего класса и про наш класс. Но писал до того бессовестно и нахально, что невольно охватывало возмущение. Присев на скамейке в сквере, мы дважды прочитали это неоконченное письмо и первое время не могли вымолвить ни слова от охватившего нас волнения.
Разве можно так не только писать, думать!
Вот оно, это письмо:
«Привет, Катюша! Давно получила твое письмо, но только сейчас собралась ответить. Все дела, запарилась. Пришлось записаться в художественную самодеятельность. Носятся все с праздничным концертом, как с писаной торбой. Мне все это до лампочки. Дотяпать бы в отличницах до выпускного бала, а там: «Прощай весна в начале мая…» Заживу вольной птицей. Тогда все высокие материи побоку. Главное, как говорит моя тетя Клава, прилично устроиться. А для этого пока надо делать вид, что грызешь гранит науки. Аж зубы искрятся.
Катюша! Ты представляешь, какая скука меня заедает. Не с кем по душам поговорить. Ведь пока приходится скрывать свои подлинные мечты и планы. Завтра суббота, а твоя Света весь вечер будет корпеть над домашним сочинением.
В школе у нас последнее время творится бог знает что. Даже остолопа Оськина какая-то муха укусила. Начал проявлять сознательность. Вообще-то, мне его даже жаль, Оськина. Отец у него инвалид. У матери еще четверо на руках. Дома-то он затюканный. В школе и проявляет характер.
Еще у нас два блаженненьких есть. Тамарка и Борька. Одно Борькино сочинение перед всем классом читали. А Тамарка — его подружка неразлучная — тоже дура. На какие-то курсы подалась. Медсестрой захотелось быть. Не пойму, что за идеалы у людей!
Ты не пугайся. Ничего предосудительного я не делаю. В школе я паинька. И сочинения пишу «правильные». Мне нужна медаль. Мне нужно образование. Чтобы потом блистать. Как тетя Клава… Ой, Катюша, опаздываю. Надо бежать. В школе на уроке допишу…»
Когда Боря дочитал письмо, нам с Тамарой стало как-то зябко. Откуда берутся такие мысли? И так отозваться о товарищах, об их общих усилиях!
— У меня такое чувство, словно мне плюнули в душу, — сказала Тамара. — Нет, это не наша писала, не из нашего класса.
— Из нашего, — устало ответил Боря. — Просто мы слишком доверчивы.
— Что будем делать?
— Не знаю. Надо с кем-нибудь посоветоваться. Может, сходить к Лукичу?
— Да. Это мысль. Только, знаешь что, — попросила Тамара. — Сходи ты с Сережей. А то получится… Вроде я, девчонка, ябедничать побежала.
— Ты, пожалуй, права. Пойдем мы с Сережей. Удобнее так.
Боря проводил ее до подъезда. Слышал, как она вошла в лифт, как нажала кнопку, и кабина, щелкнув, поползла вверх.
Подождав, когда в знакомом окошке на пятом этаже зажжется свет, Боря повернулся, и мы пошли к Федору Лукичу. В каждом классе свой классный руководитель. Но как-то так повелось с незапамятных времен, что, когда необходимо посоветоваться по очень важному делу или разрешить каверзный вопрос, каких немало ставила школьная жизнь, и ребята и девчонки шли к преподавателю физики Федору Лукичу Панову. Хотя все знали, что у него есть, кроме всего прочего, свой класс и свои заботы.
Я не знал близко Федора Лукича. Но был наслышан о нем немало. Злые языки дали ему кличку Вечный Двигатель. Она долго держалась за ним, а потом вдруг стала забываться, уступая сердечному и мягкому обращению — «Лукич». Его нельзя было назвать очень уж общительным или снисходительным человеком. Напротив, он отличался несколько замкнутым и угрюмым характером, был нередко прямолинеен и резковат в обращении как со своими коллегами, так и с нами, ребятами. Но все знали, что к нему можно запросто обратиться с любым вопросом, и он не оттолкнет, не скажет, что ему некогда или что ваш вопрос пустячный и не следует с ним лезть к занятым людям. Доброжелательно выслушает, даст совет, растолкует, успокоит или скажет открыто и прямо, что ты не прав. И еще: к нему можно было зайти в любое время домой, и, как бы он ни был занят, он находил возможность поговорить с каждым, иногда похвалить, а иногда поругать и посоветовать не распускать нюни. Слух об этой его особой отзывчивости передавался из поколения в поколение школьников, и давно стало уже само собой разумеющимся, что если у вас такой вопрос, который не каждому доверишь, то надо идти к Лукичу.
Частенько к Лукичу заходили и просто так, на огонек. Посидеть, послушать. И нередко в его скромной квартире встречались за одним столом и опытные педагоги, и новички, и их ученики. Все находили эти встречи полезными, и каждый уходил духовно обогащенный, впитав в себя какую-то частицу доброй мудрости.
Мы с Борисом поднялись на четвертый этаж и позвонили. Открыл сам Федор Лукич.
— Ба, знакомые все лица! — пропел он себе в усы, пропуская нас в коридор. — Вы сегодня первые.
— Вот и хорошо, — пробормотал Боря, здороваясь. — У нас к вам очень важное дело.
— Ну, что же, проходите, проходите, — пригласил Лукич. — А знаете, я заметил, что в вашем возрасте неважных дел не бывает.
Боря подосадовал, что Лукич начал разговор с нами в несколько шутливом тоне. А ему не хотелось терять время на обмен любезностями и колкостями.
— Нет, я серьезно, — сказал он, доставая из кармана письмо. — Вот посмотрите. Это мы нашли сегодня после уроков, когда убирали класс.
Федор Лукич читал письмо, а мы следили, как меняется выражение его лица. От добродушного и участливого, каким оно было в первый момент, оно стало сосредоточенным и удивленным, потом удрученным и печальным и, наконец, гневным и раздраженным.
— А вы уверены, — спросил Лукич, откладывая письмо в сторону, — что это писала девочка из вашего класса?
— Конечно, — незамедлительно ответил Боря. — Мы его нашли после нашего урока.
— Но оно же могло залежаться в столе. Его могли забыть там еще вчера. Не все же такие дотошные дежурные, как вы.
— Об этом мы не подумали.
— Вот видите, — сказал Лукич, и мелкие, грустные морщинки собрались вокруг его прищуренных глаз. — Тут легко ошибиться.
— Мы пытались узнать по почерку, — сказал Боря. — А потом бросили. Побоялись ошибиться.
— А по-моему, и гадать не надо, — вставил я. — Легко догадаться, кто писал.
— Кто же? — строго спросил Лукич.
— Светка Пажитнова! — выпалил я. — Во-первых, я ее почерк знаю. А во-вторых, тут же ясно сказано, вот читайте, «а твоя Света весь вечер…» У нас в классе только две Светы — Пажитнова и Галкина.
— Все-таки две, — с упреком сказал Лукич. — И потом, разве в этом самое главное, чтобы узнать, кто это написал. Кто бы ни написал, за этого человека мы в ответе. Все мы. Даже если он не из нашей школы.
Лукич замолчал и долго думал о чем-то своем, а я глядел в его затуманенные тревогой глаза и удивлялся, как это он сумел так просто поставить все на свое место и решить, что вовсе не надо гадать, кому принадлежит это дрянное письмецо, чтобы, как считали мы, припереть этого человека к стенке, обрушить на него гнев всего класса.
— Эта девочка на нашей совести, — сказал, отрываясь от своих дум, Лукич. — Как часто мы видим только то, что лежит на поверхности. У нее, наверное, незаурядные способности. И она какое-то время будет «светить», но, боюсь, что этот свет никого не согреет.
— Что же делать, Федор Лукич? — спросил Боря. — По-моему, класс не может тут оставаться в стороне.
— Надо подумать, — ответил Лукич. — В таком деле нельзя рубить сплеча.
Я сидел как на иголках. Чего думать, казалось мне. Эта девчонка с мыслями, вывернутыми наизнанку, заслуживает резкого осуждения. А может быть, и исключения из школы. Чтоб подумала и чтоб не вредила добрым всходам. Я готов был спорить со старым учителем, отстаивать свое решение. Но Лукич заговорил и сразу же обезоружил меня.
— Вот я думаю, — начал он, — откуда появилась эта девушка, способная так мыслить и так лицемерить? Видно, какое-то звено в нашей работе дало осечку. И есть опасность, что общество получит морально неполноценного человека. Надо бить тревогу. Вот и Боря спрашивает: «Что делать?» В оправдание своих промахов можно, конечно, сказать: «Таких у нас немного». Но это слабое утешение. Важнее разобраться, в чем же корень зла.
— Как же поступить, Федор Лукич? — твердил свое Боря. — Может, мы прочитаем это письмо в классе? Выскажем к нему отношение. И если его написал кто-нибудь из наших, пусть почувствует, что думают о нем товарищи. Как вы считаете?
Лукич не сразу ответил.
— Это, конечно, мысль, — наконец сказал он. — Может, стоит и так поступить, как ты предлагаешь. Да, да, конечно, так. Только вот что, ребята. С письма снимите копию. И это имя — Света вычеркните. И не упоминайте его. Не будем допытываться, кто написал это письмо. Не в этом главное. Мы ведем борьбу за человека. А если открыто на него ополчимся, только обозлим. Вы меня поняли?
— Кажется, — ответил Боря.
— Вот и придите с этим предложением к Ольге Федоровне. А я, со своей стороны, тоже с ней поговорю. Поскольку уж так получилось, что вы пришли сначала ко мне, а не к ней.
О как загудел класс, едва Нина прочитала вслух письмо! Негодующие возгласы, недоуменные взгляды: «Что это? Кто это?» А потом все примолкли, словно удрученные тем, что кто-то из наших смог такое написать. Первым поднялся Боря Мухин.
— Это письмо для меня, — сказал он, — целое открытие.
Коркин со своего места хихикнул.
— Нет, правда, — продолжал Боря, и тишина, установившаяся в классе, оттеняла его слова. — Раньше я считал: как человек говорит, что пишет в сочинениях, отвечает учителю, так он и думает. А тут, оказывается, все наоборот! Вот в чем открытие! Да как же такому человеку верить? Как жить с ним рядом? И не мне страшно, а тому, кто это писал, должно быть страшно. Он же чужой среди людей.
И пошло. Говорили уже не только о письме. Впервые всерьез говорили о жизни, о ее смысле, о том, что значит быть человеком на земле. Я наблюдал за Светкой. Щеки ее горели, как закат после знойного дня. Губы поджаты. Все, видно, ждала, когда ее имя назовут. И трусила. Но мы ж сразу предупредили: чье письмо, не знаем.
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
За зиму я раза два-три виделся с Марией Сергеевной. Однажды мы вместе с ней стояли в очереди в булочной. Увидев меня, она обрадовалась, улыбнулась. Только улыбка показалась мне грустной.
— A-а, Сережа, — кивнула она. — Что не зайдешь никогда? Тома говорила, что в шахматный клуб бегаешь.
Я тогда увлекался шахматами.
— Бегаю.
— Вот и Томочка у меня все ходит на какие-то санитарные курсы. Зачем ей это?
— Пригодится.
— Не знаю, — ответила Мария Сергеевна.
Она пожаловалась, что Тамара очень переменилась. Нервная стала, нетерпеливая. Слова поперек не скажи, так и ощетинится вся. Уж она ль ее не любила, не лелеяла. Из-за нее больше и второй раз замуж вышла, думала, доченьке нужен отец. А вишь, как получилось: не наладились у них отношения с Василием Степановичем. Думалось, мужчина в доме поавторитетнее для девчонки, построже. Потому и не перечила мужу, когда он упрекал Тамару, требовал быть поразборчивей в выборе подружек и дружков, самой побольше за уроками сидеть, и подружки чтоб не бегали, не сплетничали, а посерьезнее домашние задания выполняли. И жалела она дочь, тайком от мужа баловала ее сладостями да девичьими погремушками, платьями новыми хотела сгладить мужнину суровость.
— Беда нынче с ребятами, — сетовала Мария Сергеевна. — Все стали такими учеными, понимающими. И все норовят поучать родителей.
Я не нашелся, что ответить ей, и лишь кивал головой. А Мария Сергеевна вспомнила о Боре: мол, в дом не заходит, а провожает Тамару до подъезда каждый день. Не хочет Василий Степанович, чтоб они дружили, и все тут. Говорит: не пара он ей. Дурное влияние оказывает. Дружки-то у него подмоченные. Оськин и прочие.
Я сказал, что Оськин очень переменился.
— Все равно, — не согласилась Мария Сергеевна. — Горбатого, говорят, только могила исправит.
Она, конечно, не права. Но я не стал спорить. Попрощался и вышел из магазина.
В другой раз мы виделись, когда Тамара пригласила меня на свой день рождения. Оказалось, что отчим уехал в командировку, и Мария Сергеевна сама предложила дочери отметить праздник. Мария Сергеевна была очень оживлена в тот вечер. Накануне она вместе с дочерью бегала по магазинам, закупая угощение, сама приготовила пирожные с кремом и пирожки с мясом, поджаренные на постном масле. И весь тот вечер была весела и подвижна, каждому из нас спешила угодить, предупредить любое желание, то есть сделать так, чтобы всем было приятно и радостно. Но эта ее излишняя услужливость, казалось, только стесняла ребят и саму виновницу торжества. Тамара, все время настороженно поглядывавшая на мать, сказала наконец, поймав Марию Сергеевну на пути из комнаты в кухню:
— Мамочка! Ты совсем уже притомилась. Посиди немного. Разреши, мы сами за собой поухаживаем.
И Мария Сергеевна устало опустилась на табуретку за кухонным столом и, едва сдерживая навернувшиеся на глазах слезы и поджимая нервно вздрагивающие губы, слушала, как беззаботно тарахтели Тамарины подружки.
Боря в тот вечер был грустен и ушел рано. За ним прибежала стеснительная девчушка, очень похожая на Борю, поманила его пальцем и что-то шепнула на ухо. Боря извинился перед Марией Сергеевной, перед Тамарой и, распрощавшись с гостями, исчез вслед за сестренкой.
В тот вечер Тамара была очень ласкова с Марией Сергеевной. Она все время твердила, что никогда еще не было у нее такого веселого праздника. И как это маме пришла мысль все так чудесно устроить! И только ее мама могла так сделать, потому что она милая, хорошая.
— Доченька! — вздыхала Мария Сергеевна.
И только один раз нахмурилась Тамара, когда Мария Сергеевна вспомнила о Василии Степановиче и сказала, что его надо жалеть, потому что он совсем, совсем один.
— Нет, мама, — возразила Тамара. — Это мы с тобой одни во всем свете. Это о нас некому позаботиться. У меня еще есть подружки, с которыми можно отвести душу, а ты совсем одна, совсем одна.
Тамара сказала это таким грустным, проникновенным голосом, что Мария Сергеевна сразу помрачнела и, наверное, на самом деле почувствовала себя совершенно одинокой. Она хотела продолжить разговор о Василии Степановиче, но Тамара прервала ее:
— Будет о нем, мама. Ты же знаешь, с ним нам хуже. Обеим.
Мария Сергеевна вся вспыхнула от этих слов, но сдержалась, только сказала с упреком:
— О тебе заботилась.
Тамара повернулась к подружкам.
— Удивляюсь! — весело бросила она. — Почему это так получается? Все заботятся обо мне. Мама выходит замуж — это, оказывается, она заботится обо мне. Ольга Федоровна читает перед всем классом мою записку, адресованную подружке и не предназначенную для общего сведения. Это, видите ли, она заботится обо мне. Светка нашептывает каждому встречному-поперечному, будто видела, как какой-то мальчишка провожал меня до дому, — она, поди ж ты, заботится обо мне. Всем нечем больше заняться. У всех повышенный интерес ко мне. И никому не приходит в голову спросить: а нуждаюсь ли я в такой заботе? На пользу ли она мне или во вред?
Я видел, как побледнела Мария Сергеевна, и понял, что Тамара переборщила, что она не имела права причинять такую боль матери. Но что я мог сделать? Я подошел к магнитофону и включил веселую музыку.
В коридоре Нина переговаривалась с одним из «братьев Федоровых». Я пригласил ее на танец. Она охотно положила руку мне на плечо, и мы закружились. Когда мы проходили по кругу, я видел Марию Сергеевну и Тамару. Они улыбались, смеялись. Музыка смолкла, и я услышал заключительные слова, сказанные Тамарой:
— Мамочка, милая, никому я тебя не дам в обиду. Ты моя самая дорогая, самая любимая.
Гости начали расходиться.
И еще раз я разговаривал с Марией Сергеевной, когда она пришла в школу. Ее, видимо, беспокоили успехи Тамары, потому что она пришла без вызова. Я это точно знаю. Тамара, правда, стала учиться хуже. Но это со многими случается в девятом классе. Не стоило бить тревогу. И все же Мария Сергеевна пришла. И по ее лицу я видел, что она готовится к нелегкому разговору с учителями.
Она тяжело поднялась по ступенькам лестницы на второй этаж и долго ходила по коридорам, разыскивая Ольгу Федоровну. Меня в это время послали в учительскую, и я в коридоре встретился с Марией Сергеевной. Я, узнав ее, сказал:
— Здравствуйте, Мария Сергеевна!
Она тоже узнала меня и поздоровалась.
— Сереженька, — остановила она меня, — будь добр, что-то я никак не могу разобраться, где мне найти вашего классного руководителя?
Я вызвался проводить ее. И тут нам на пути повстречался Федор Лукич Панов. Он, понятно, не мог пройти мимо растерянно шагавшей по коридору женщины. Поинтересовавшись, кто она и к кому пришла, Федор Лукич сказал, что он прекрасно знает Тамару. Очень способная ученица. Она еще, кажется, дружит с Борей Мухиным. Это упоминание о Мухине оказалось очень некстати, потому что Мария Сергеевна, поначалу улыбнувшись, опять напустила на себя грусть-тоску. Но Лукич этого не заметил, а отвел Марию Сергеевну в учительскую и велел мне поискать Мясницкую. Через пять минут я вернулся вместе с несколько обеспокоенной нежданым визитом Ольгой Федоровной. Она сказала, чтобы я не уходил, поскольку являюсь старостой класса.
И как-то так получилось, что Федор Лукич, который помог их встрече, начал разговор Первым, а потом так и не ушел до конца его.
— Очень рад был познакомиться, — сказал Федор Лукич, — с мамой нашей Тамары. Тамара у вас рассудительная, самостоятельная девушка. Такие, как она, формируют душу школьного коллектива.
Мария Сергеевна недоверчиво глянула на учителя и сказала свое, наболевшее:
— Самостоятельная, говорите. Вот этого-то я и боюсь. Самостоятельности-то ее. Не рановато ли ей самой все решать, отца-матери не слушаться?
— В чем же она вас ослушалась? — заинтересовался Федор Лукич.
— Да вот хотя бы с этими курсами. И так школьными делами перегружена, а тут еще по вечерам на курсы бегать.
— На какие курсы? — вмешалась Ольга Федоровна.
— Как на какие? — Мария Сергеевна удивленно перевела на учительницу печальный взгляд. — А вы разве не знаете? Вот видите, какая она скрытная, умница-то наша. Нам-то она, правда, сразу сказала, что поступила на курсы медсестер. При клубе. Как уж ей удалось договориться, не знаю, только она ведь частенько туда бегает. И книжек медицинских натащила. Вся комната завалена. Конечно, если это без разрешения школы, то, я думаю, можно было бы запретить. Или сообщить туда, на курсы, чтобы отчислили ее. Потому как незаконно.
Ольга Федоровна стукнула ребром ладони по столу:
— Без всяких разговоров. Запретить, и все. Я с ней сегодня же поговорю. Это что же будет? Анархия. Если каждый ученик начнет… что ему вздумается…
Федор Лукич жестом руки остановил разгоряченного коллегу:
— Погодите, Ольга Федоровна. Тут стоит разобраться что к чему. Ведь что-то толкнуло девочку на этот шаг. Что именно? Вы не знаете, Мария Сергеевна?
— Теряюсь в догадках.
— Вот видите. А вы сразу: запретить. И можно оставить навеки рану в душе человека.
Мы все знали, что Ольга Федоровна уважала Федора Лукича как старого заслуженного учителя. Но она не раз говорила, что не намерена поступаться своими принципами. А принципы ее (в этом мы тоже успели убедиться) не всегда совпадали с тем, во что верил ее старший коллега. Ольга Федоровна считала, что потакать ребятам нельзя. Раз им посочувствуешь, другой, а на третий они тебе на шею сядут и такое устроят, что тридцать три комиссии не разберут. Поэтому прежде всего строгость и никаких поблажек и уступок. Конечно, иной раз можно и ошибиться, и перегнуть палку, возможно, от строгих правил и зачерствеет душа у какого-то потенциального шалуна, но в таком серьезном деле, как воспитание, не без издержек. Вырастет — поймет что к чему и оттает. Да еще спасибо скажет за то, что вовремя одернули, уберегли от баловства. Поэтому Ольга Федоровна решила и в данном случае действовать исходя из своего убеждения.
— Я, конечно, прислушиваюсь к вашим советам, Федор Лукич, — сказала она. — Но речь идет о девушке, и лучше нам, женщинам, решить, как следует поступить. Девчонки, они хотя и впечатлительнее мальчишек, но к соблюдению порядка больше склонны. И у меня еще не было случая, чтобы девушка, если ей строго внушить, не послушалась. А тут блажь какая-то. Отстанет в учебе — позор для всего класса. Я с ней сама поговорю, — повернулась Ольга Федоровна к Марии Сергеевне. — И, конечно, запрещу. Не послушается, вызовем на педсовет. Но не беспокойтесь: она девушка серьезная, рассудительная, уверена — до этого не дойдет.
Федор Лукич глянул на сидевших против него женщин поверх узких, в черной оправе очков, будто оценивая, стоит ли с ними вступать в спор, и ничего не сказал. У него тоже были свои испытанные принципы. И заключались они в том, чтобы никогда и никому не навязывать свое мнение, а лишь подводить человека к правильному решению, заставить его поразмыслить. Это он нам на уроках часто втолковывал. И с нами так же поступал. В споре с ним мы часто убеждались, что были не правы. Федор Лукич никогда не упрекал нас за ошибку и ничем не показывал, что восторжествовала его, Лукича, точка зрения. И на этот раз он только кивнул головой, согласившись:
— Вам, конечно, легче найти с Тамарой общий язык. Единственный мой совет, если вы пожелаете к нему прислушаться: будьте осторожны. Детские души легко ранимы. Конечно, гордиев узел можно разрубить, но ведь из обрубков потом ничего не свяжешь.
Мария Сергеевна посмотрела на него с благодарностью. Она сама боялась неосторожным решением окончательно оттолкнуть от себя дочь. И по всему было видно, что в Федоре Лукиче она увидела человека положительного и серьезного, с которым можно посоветоваться.
— Федор Лукич, — начала она, глядя ему в добрые, усталые глаза. — А вот вы вспомнили об ученике вашем, о Боре. Уж вы извините, скажу попросту, по-женски: очень он за моей Томочкой… ну, как бы это сказать поудобнее, ухаживает, что ли.
— Ну, что вы, Мария Сергеевна, — улыбнулся Федор Лукич, и глаза его из-под очков лукаво сверкнули. — Какое в их возрасте ухаживание! Дружат мальчик с девочкой, что ж тут плохого. Наоборот, это облагораживает, к лучшему влияет на обоих.
Мария Сергеевна с сомнением покачала головой:
— Так ведь до дому каждый день провожает. А то под окном во дворе станет и стоит как истукан.
— Я поговорю с Борей, — вмешалась опять Ольга Федоровна. — Мальчик он хороший, положительный. И учится успешно, и поведения прилежного. А все-таки не мешает предупредить.
— Поговорите, — не стал перечить Федор Лукич. — Только о чем же говорить-то? Не наломать бы дров. У меня такое мнение, что сами они во всем отлично разберутся. На них влияет сама жизнь. Отношения взрослых между собой. Вот на что они смотрят. Зорко смотрят и чутко реагируют.
Федор Лукич помолчал, словно припоминая что-то, потом заговорил опять, мягко растягивая слова, как бы предварительно тщательно взвешивая их. Я никогда не думал, что он умеет так говорить:
— Вообще-то я прекрасного мнения о Борисе. Он ведь заходил ко мне. Да, Сережа, — повернулся он ко мне, — вы тогда пришли вместе. Помните, Ольга Федоровна, тот случай с письмом? Как резко они реагировали! И правильно поступили. Не прошли мимо, как часто сейчас говорят. Нет, нет. За Бориса я ручаюсь. Ученик он хороший.
Мария Сергеевна, несколько успокоенная, собралась уходить, но тут прозвенел звонок, и ей пришлось задержаться в учительской до конца перемены, чтобы в коридоре случайно не встретиться с Тамарой. Она не хотела, чтобы дочь знала о ее визите в школу. Учительская быстро наполнилась народом. Я хотел уйти, но Ольга Федоровна задержала меня и попросила, чтобы я рассказал Марии Сергеевне о том, как Тамара участвует в общественной работе.
За разговором мы не заметили, что за дверью учительской давно уже нарастает шум, и обратили внимание на происходящее лишь тогда, когда дверь резко отворилась и в комнату ввели паренька, растрепанного и пытающегося освободиться от крепко держащих его РУК.
— Вот полюбуйтесь, — сказала державшая паренька за рукав рубашки учительница. — Ваш хваленый отличник. Ни за что ни про что избил ребенка.
Все повернулись на этот голос, а Мария Сергеевна даже замерла в удивлении. У порога комнаты стоял Боря Мухин.
У Ольги Федоровны покраснело от гнева и возмущения лицо.
— Боря! — подступила она к Мухину. — Это как же понимать? Ведь я только что здесь вот тебя хвалила. Ручалась за тебя. Вот и Федор Лукич ручался, — обернулась она за поддержкой к старому учителю. — А ты нас подвел, не оправдал нашего доверия. Как же так? Ну, чем ты можешь объяснить свой дурной поступок?
Боря поднял на Ольгу Федоровну сердитые, еще не успевшие подобреть после драки глаза и тихо произнес:
— Так ведь я же не знал, Ольга Федоровна!
— Чего не знал?
— Не знал, что вы с Федором Лукичом за меня ручались и меня хвалили. Спасибо, конечно, вам. Если б я знал, — и он развел руками, — да я бы ни вовек…
Он замолк и отвернулся. И только Мария Сергеевна, наверное, слышала, как он одними губами прошептал:
— Все равно бы не стерпел, отлупил бы его.
— Что, что? Что ты там бормочешь? — не утерпела Ольга Федоровна. — Скажи нам всем, мы тебя слушаем.
Боря уткнулся взглядом в пол и молчал.
— За что же ты ударил ребенка? — спрашивала Ольга Федоровна. — И положил пятно на наш класс. Хорош ученик, нечего сказать!
Не выдержав этих, как я понимал, незаслуженных упреков, Боря поднял глаза, с укором посмотрел на Ольгу Федоровну и, вздохнув тяжело, сказал:
— Да какой же он ребенок, Ольга Федоровна! Чудно, право. Этот верзила Коркин — ребенок. И не бил я его вовсе, а так, постращал немного. Ну, — замялся он, — дал два раза по шее. Для него это и нечувствительно вовсе. У него шея жирная.
— Ну, вот видишь, — пыталась усовестить его Ольга Федоровна. — Ударил, а говоришь, не бил. И когда же я вас, мальчишки, врать отучу?
— Да ни в жизнь я не врал! — вскипел Боря. — И сейчас не вру. Ведь если по правде бить, так разве так его лупить надо? Его так бить надо, чтобы месяц в болячках ходил. А эти две оплеухи он к вечеру забудет.
Ольга Федоровна только сокрушалась, слушая эти речи.
— Ну, что мне с вами, баловниками, делать? Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему. Ведь я тебя о чем спрашивала? За что ты его побил? А ты мне что говоришь?
Боря словно только сейчас понял, чего от него хотят.
— Что я говорю? — переспросил он. — Чистую правду говорю. Ведь он, Коркин этот, до чего додумался? Мы синичек подкармливаем, к школьному саду приучаем. А он? Он их ловит и потом на птичьем рынке продает. На мороженое себе зарабатывает.
Собравшиеся в учительской переглянулись. По напряженным и протестующим взглядам можно было догадаться, что им не хотелось верить тому, что говорил Боря. А он продолжал:
— Я ему один раз сказал, другой раз сказал: «Брось этим свинством заниматься». А сегодня вижу: чуть свет к школе прибежал и из ловушки своей синицу вынул. В портфель спрятал. У него там клетка малюсенькая. Как раз для одной птички. Ну, я ему пообещал башку свернуть. А для убедительности легонько стукнул, чтоб почувствовал, для чего ему голова дана. Ведь с ним иначе нельзя, с Коркиным-то. Не поймет.
В учительской наступило молчание. Учителя старались не глядеть в глаза друг другу. И только Ольга Федоровна чувствовала, что ей что-то надо сказать.
— Все равно, — упорствовала она. — Так нельзя. Надо было мне сообщить. Обсудили бы его на классном собрании.
— Да он не поймет, Коркин-то, — твердил свое Боря. — Он только силу признает.
Я и не заметил, когда Мария Сергеевна вышла из учительской, тихонько прикрыв за собой дверь.
КОМНАТА ДЛЯ «СЕСТРЫ»
Меня занимало, почему при обсуждении письма, найденного в классе, не выступила Тамара. Я спросил об этом у Бори.
— Наверное, боялась, что не выдержит и назовет автора письма, — сказал он.
— Глупо, — ответил я.
Борис уклонился от спора. Тогда я поинтересовался:
— А как у вас с Тамарой?
— Неважно. Знаешь, она до сих пор носит в портфеле фотографию своего отца. А три года после смерти его прошло. Я спросил: «Зачем? Только расстраиваешь себя». А она в ответ: «Нет. Наоборот. Я набираюсь сил. Посмотрю на него, и легче становится». Мне стало жаль ее, и я шепнул: «Помни, Тома, у тебя есть настоящий друг, который никогда не подведет».
— А она?
— Сказала: «Спасибо». Тихонько так сказала. Но я расслышал.
Вообще Борис очень изменился. Странный стал какой-то. Рассеянный и нервный. И разговор у него несвязный. Перескакивает с одного на другое. Мы сидели на скамейке в парке, и я рассказывал ему о только что прочитанной очень интересной книге — «Червонные сабли». Он глядел на меня, вроде бы слушал внимательно. И вдруг спросил:
— А может твой отец достать еще раз пропуск на завод?
— Зачем тебе?
— Да знаешь, Оськина надо сводить.
Выходит, все это время он совсем о другом думал. А мои слова мимо ушей пропускал.
Виделись мы с ним только в школе. По-моему, он избегал встреч с товарищами. Едва заканчивались уроки в школе, как он бесследно исчезал, и его невозможно было найти ни дома, ни на пустыре за оврагом, где обычно в свободное время гоняли шайбу ребята.
Март выдался слякотный. Всем — старым и малым — надоели оттепели. Теплый циклон со Средиземноморья окончательно согнал снег с бульваров, и на проталинах уже выступили зеленые лепестки травы. В тот день я не пошел на стадион. Там теперь так извозишься, что мама родная не признает. Решив как-то скоротать время, забрел в лабиринт узеньких тупичков и переулков, оставшихся от старой городской окраины. Домики тут стояли деревянные, покосившиеся, с палисадничками. Во дворах — яблони, махавшие сейчас на ветру голыми ветками.
Прохожих здесь было мало, и я решил догнать паренька, шагавшего от дома к дому уже в конце переулка. Что-то знакомое показалось мне в его высокой фигуре, неуклюжей, угловатой походке. Но едва я приблизился, как он исчез за калиткой. Прошло, наверное, полчаса. Я устал и промерз, притоптывая на одном месте. Но паренек все не появлялся. Тогда я открыл калитку и пошел по дорожке к крыльцу. И тут же мне навстречу вышел Борис. Да, это Борис Мухин.
— Вот уж не надеялся тебя здесь встретить, — сказал я.
Я был удивлен, а Борис, по-моему, совсем растерялся. Он зарделся и уставился на меня выпученными глазами.
— Ты что здесь делаешь? — не отставал я. — Тебя ж на пустыре ребята ждут.
Он взял меня под руку и потащил к выходу на улицу.
— Слушай, друг ты мне или не друг? — таинственно спросил он.
— Ну, друг, — ответил я, пораженный таким вопросом. — А что?
— А если друг, тогда помоги.
— В чем?
— Давай отойдем в сторонку.
И тут я окончательно убедился — у Бориса мозга за мозгу заскакивает. В том, что он мне сказал, не было ничего особенного, ничего таинственного. А он мне все это говорил шепотом, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не услышал. Оказывается, к Мухиным приезжает из Калуги двоюродная сестра Бориса. Чтобы поступить на курсы для подготовки в Московский университет. Приезжает тайком от родителей, которые и думать не хотят о том, чтоб дочка жила вдали от дома. Конечно, она не может остановиться у Мухиных, у них и так тесно, и просила Борю подыскать для нее недорогую комнату. Что поделаешь, нельзя отказать двоюродной сестренке! Тем более, что она не может никому довериться, кроме него.
— И ты ищешь комнату? — спросил я.
— Да, — произнес Борис и сказал наигранно: — Комнату для милой, скромной девушки, мечтающей поступить в университет.
— Нашел что-нибудь подходящее?
— Нет. Это очень трудно. Хотя я обошел уже половину домов нашего района. Остался на примете еще один домик. Может быть, зайдем вместе? — с надеждой посмотрел на меня Борис. — Двоим больше доверия. А то ко мне относятся как к мальчишке, вздумавшему пошутить. И гонят прочь.
Я согласился помочь другу, и мы быстро зашагали по переулку.
— Здесь я уже все разведал, — пояснил Боря. — Недоверчивый народ. Смотрят как на воришку. И на порог не пускают.
Мы свернули к двухэтажному каменному домику и поднялись на второй этаж.
— Куда ты меня привел? — запротестовал я. — В таком доме квартир мало и людей, конечно, живет немного. Развернуться нам негде. Разве тут найдешь отдельную комнатку для твоей сестренки?
— Тсс! — остановил меня Боря. — Здесь одна тетка живет. В пионерском лагере она у нас уборщицей была. А я по малолетству все рвался ей помогать. С тех пор и знакомы. Живет одна. И комната у нее свободная есть. Да вот что-то недоверчивая стала в последнее время. Как завел я с ней разговор о комнате, так словно между нами черная кошка пробежала. То все зазывала: заходи да посиди, скучно, мол, мне одной, не с кем слово молвить. А тут как ножом отрезала: и глядит сердито, и не приглашает больше. Раньше и чаем угощала с вареньем. А теперь ни-ни. Но я надеюсь все же ее уговорить. Это последний шанс.
Он подошел к обитой войлоком двери и нажал на кнопку звонка. Долго не открывали. И Борису дважды еще пришлось нетерпеливо жать на черную кнопку. Звонок был явственно слышен, но за дверью молчали.
— Дома нет, — решил я. — Давай в другой раз зайдем.
— Она всегда дома, — ответил уверенно Борис. — Только так, для форсу не сразу открывает. Если без особой надобности пришли, так постоят-постоят и уйдут.
За дверью послышались шаркающие шаги, и глухой старческий голос спросил:
— Кто там?
— Это я, — ответил Борис. — В пионерском лагере мы вместе с вами были. Я пионером, а вы уборщицей. Помните, тетя Груня.
Щелкнул дверной замок, и в открывшуюся щель просунулся узкий длинный нос.
— Чего тебе опять?
— Да вот друга своего привел, — поспешил ответить Борис, наполовину просовываясь в приоткрывшуюся дверь. — С дружком познакомить хочу.
— А друг твой не из тех, что по улицам безобразничают?
— Нет, нет, — уверил Борис. — Хороший друг. Да вы его знаете. Сережа. Вместе со мной в пионерском лагере жил.
Как это ни удивительно, но меня бабка сразу признала:
— Помню, помню. Как же! Очень послушный мальчик. Входите. Спасибо, что не забываете старую нянечку. — И дверь широко распахнулась.
Мы вошли в узкий коридор, и, пока раздевались, старушка хлопотала на кухне.
— Сейчас чайничек вскипячу, — доносилось оттуда. — Чайку горяченького попьем с пирожками. И я с вами за компанию.
Старушка оказалась очень подвижной и разговорчивой. Пока она накрывала на стол в небольшой, но уютной квадратной комнате, мы успели узнать, что она четвертый год на пенсии, а раньше жила вдвоем с внучкой, оставшейся от рано умерших родителей. Но внучка закончила инженерный институт и уехала на стройку. Зовет теперь и ее к себе, да квартиру бросать жаль.
Борис все порывался завести разговор о комнате, но я одергивал его: не время, мол. Мы пили чай с вишневым вареньем и сочными яблочными пирогами, а чувства испытывали совершенно различные. Я мог безошибочно предположить, что тетя Груня, которая поначалу испугалась вечерних незваных посетителей, теперь отошла и была уже рада, что гости помогли ей скоротать зимний вечер. Я, конечно, беспокоился за друга, но все же терпеливо ждал, когда закончится чаепитие и мы отправимся по домам. И только Борис все еще был охвачен тревогой. Его главная задача, ради решения которой он потерял уже столько времени и теперь вот уже второй раз пришел в этот дом, все еще не была выполнена. Он знал неровный характер бабки Груни, которая иногда, как говорят, мягко стелет да жестко спать. Она и первый раз вот так же хлебом-солью встретила его, а как дошло до серьезного разговора, сразу переменилась, словно и знать его никогда не знала. И Борис украдкой поглядывал то на тетю Груню, то на меня, прикидывая, не напрасны ли будут его усилия и на этот раз.
Первой подошла к делу тетя Груня. Отправив в рот лежавший у нее на блюдечке кусочек сахару и запив его чаем, она перевернула на блюдце чашку и повернулась к Боре:
— Ну-с, молодой человек, а теперь выкладывай, зачем пожаловал. Денег будешь просить или комнату торговать?
Боря, не ожидавший от бабки такой прыти, даже опешил.
— Комнату, комнату торговать, — пролепетал он. — Я ведь в тот еще раз толковал вам, что сестренка моя двоюродная приезжает из Калуги и просила снять для нее комнату. Девушка она серьезная, положительная.
— Положительная, — подхватила последнее слово тетя Груня. — Это главное, чтобы положительная. Не люблю нынешних вертихвосток. Платье обкорнают… Срамота одна.
Видя, что сговор идет успешно, Боря решил для верности сослаться на меня.
— Чтобы у вас не было никаких сомнений, тетя Груня, — сказал он, — я сегодня зашел вдвоем с Сережей. Все-таки он официальное лицо — староста нашего класса. И он может заверить вас, что сестренка моя девушка славная и прилежная. И за порядком она следить умеет, и к чистоте приучена. Так что будет вам надежной помощницей. За молоком ли в магазин сбегать, за хлебом ли сходить, на это у нее ноги бойкие.
Я дивился, откуда взялось у молчаливого и сдержанного всегда Бориса столько красноречия, и только кивал головой:
— Так, так.
Тем временем бабка перевела разговор на деловую почву.
— Что ж, коли так, — пропела она, — пойдите осмотреть комнату. Я люблю товар лицом предъявить.
Комната оказалась поуже той, в которой мы чаевничали. В ней было много света, проникавшего через широкое с двумя створками окно.
— Очень мило, — похвасталась тетя Груня, — если б парень, ни за что не поселила б. А девушка, надеюсь, сохранит здесь уют.
Для приличия я тоже похвалил комнату. Сказал, что в ней сухо, светло, чего же еще надо. Боря и тетя Груня быстро сговорились.
— Может завтра и переезжать квартирантка. Мы уже с ней сами решим, как жить в ладу и согласии.
Но Боря сказал, что завтра сестренка переехать не может. Она пока еще в Калуге. А вот он сообщит ей, что подыскал комнату, тогда она и пожалует.
— Ну, как вам угодно, — недовольно проворчала тетя Груня. — Только в таком разе попрошу оставить задаточек. А то у меня тут многие ходят, на квартиру просятся. Могу и сдать им комнату.
Все мог предположить Борис: и что ему откажут, и на порог не пустят, а вот что с него потребуют задаток, этого он предугадать не сумел. И из-за этого чуть все дело не расстроилось. Старушка стояла на своем и уверяла, что завтра же сдаст комнату первому попавшемуся жильцу, если не получит задатка. Пришлось нам вывернуть все карманы. И насчитали мы в общей сложности полтора рубля.
— Деньги у меня есть, — шепнул мне Боря. — На днях старенький фотоаппарат продал одному любителю. Да все деньги дома остались.
— Вот, — сказал Боря, выкладывая на стол всю наличность. — Обобрала ты нас, тетя Груня, до нитки. Домой придется пешком идти.
Тетя Груня узкой шершавой ладонью смахнула деньги со стола в карман.
— Уж как вы до дому будете добираться, это не моя забота, — сказала она. — А все должно быть по закону. Сняли комнату — оставьте задаток. Я тоже убытку терпеть из-за вас не желаю.
Она вновь подобрела и хотела даже оставить Боре ключи от квартиры на случай, если квартирантка явится, когда ее, тети Груни, не будет дома. Но Боря сказал, что
ключей он пока не возьмет. О своем приезде сестренка даст ему телеграмму, и тогда уж он специально зайдет и предупредит хозяйку.
Уже стемнело, когда мы выбрались на улицу. С севера потянул ветерок, и растаявшие за день лужи начали подмерзать. На самой середине тротуара сидела черная кошка. Боря осторожно обошел ее сторонкой. Я посмеялся над этим и пошел прямо. Кошка не сдвинулась с места, и я слегка задел ее ногой.
Домой мы оба возвращались в хорошем расположении духа. Я был рад, что помог в трудную минуту другу и что наше «путешествие» окончилось удачно. У Бори тоже не было основания быть недовольным сегодняшним вечером. Он заметно повеселел и тихонько насвистывал модный мотивчик. Но иногда сумрачная тень набегала на его лицо. Он сдвигал густые белые брови, сжимал губы и шагал, не разбирая дороги. Модный мотивчик надолго исчезал. Что-то беспокоило его. А что, я понять не мог. И чтобы отогнать от него грусть, я болтал обо всем, что в голову придет: о Светке, о Нине, о том, что мне все равно, как она ко мне относится. Учеба — вот это главное.
Борис не возражал, но, кажется, и не слушал. Крупные хлопья снега падали на тротуар, заметая наши следы.
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Новость: Тамара съезжает со старой квартиры. Боря в панике. Боится, что Тамара перейдет в другую школу. Хотя она и заверяет его, что квартира в том же районе и свой класс она не бросит.
В общем, предстоит новоселье. И, как ни странно, Боря узнал об этом чуть ли не последним. Все эти дни после уроков мы с ним мотались по городу. Закупали для класса бумагу, краски, кисточки.
В начале апреля в природе творилось что-то несуразное. После нескольких теплых, по-настоящему весенних дней с севера подул свирепый холодный ветер. Ртутный столбик по ночам стал опускаться на несколько делений ниже нуля. Днем же лил дождь. Окна автобусов и троллейбусов отпотевали, и пассажирам приходилось, остужая пальцы, протирать стекла, чтобы проделать глазок «на волю» и разглядеть, где же они находятся. Движение пешеходов по тротуарам убыстрилось по крайней мере вдвое против обычного. Все бежали, подняв воротники пальто, и спешили укрыться в подъездах домов, в магазинах, чтобы немного передохнуть, оглядеться и бежать дальше.
В суматохе, столкнувшись с Тамарой на остановке автобуса, мы не сразу и узнали ее.
— Тамарка, ты? — стискивая ее руку, удивился Боря. — Куда тебя несет?
— На новую квартиру. Мама просила помочь ей вымыть пол. После ремонта.
— Что, что? На какую квартиру? — переспросил Боря.
— А разве я тебе не говорила? Мы получаем новую квартиру. Попросторнее. Мама так рада. У нас и сейчас две комнаты, но ты же видел: они очень тесные.
— Погоди, Томка, — дернул ее за рукав Борис. — Отойдем-ка в сторонку. Ты что же это мне ничего не сказала? Уже переезжаете, и мне ни слова. И в школу, наверное, другую ходить будешь? — он даже похолодел от ужаса, проговорив эти слова. — Это надо же, и мне ни словечка…
— Да я хотела сразу сказать, а мама упросила: погоди, мол, вот переедем, тогда и скажешь. Зачем парня — тебя, значит, — раньше времени тревожить? Ну, я и пожалела тебя…
— Меня пожалела… А о себе ты подумала? Томочка! — он весь так и съежился от счастливой мысли. — Не езди ты с ними!
— Как это так? — не поняла Тамара.
— А так, оставайся здесь, на этой квартире.
— Нельзя. Уже другой семье ордер выписали. Приходили они, квартиру смотрели.
— Тогда совсем уходи, — горячо шептал Боря. — Собиралась же. И комната есть. — Он глянул на меня и добавил: — Я для сестренки подыскал.
Тамара с благодарностью посмотрела на него, отрицательно покачала головой:
— Не могу. Маму жалко. Нельзя сейчас. Не дадут им эту квартиру на двоих, если я уйду.
— Ну, тогда поехали. Должен же я знать, где ты будешь жить! Должен! На этом, что ли, ехать? — и он решительно прыгнул на подножку подошедшего автобуса, увлекая за собой Тамару. Успел крикнуть: — Сережа, не отставай!
Мы сошли на третьей остановке, и, пока добирались до дома, около которого еще валялись омываемые дождем кучи строительного мусора, Тамара все пыталась успокоить разволновавшегося Бориса:
— В школу я ходить буду в ту же самую. Так что никаких перемен. А дом этот даже лучше. Квартира у нас на третьем этаже. Мама очень довольна. И он тоже. Ходит, как победитель. Только и командует.
Боря молчал. Он понимал, что Тамара говорит о Василии Степановиче, но все слова, осуждающие его, уже были сказаны, и просто не хотелось повторяться.
— Слушай, Тома, у тебя очень удобный случай, — опять начал он, видимо, не раз возникавший между ними разговор.
— Что? — не поняла Тамара.
— Скажи, что ты не поедешь с ним.
— Нельзя.
— Почему?
— Знаешь, как маме трудно? Она будто между двух огней. Нет, не двух. Потому что я не огонь. А отчим жжет нас каждый день. То ее, то меня. И, когда нам очень больно, мы прильнем друг к другу, посидим, поболтаем, и легче станет. Раньше она этого не понимала. Думала, что Василий Степанович добрый, что около него можно согреться. А он жжет.
Боря молчал. Он думал. Он искал выхода из этого безвыходного положения.
— Ты собери свои вещи.
— Они в одном чемодане. Да еще положу в сумку.
— Скажи мне, когда будете переезжать.
— Зачем?
— Я хочу помочь вам. Носить вещи, грузить в машину. Караулить, наконец. Лишний человек не помешает. Вот и Сережа поможет, — кивок в мою сторону.
— Он не согласится.
— Согласится. Вот увидишь. Ты скажи маме.
И на этот раз Боря оказался прав. Я даже удивился, с какой легкостью Василий Степанович согласился, чтобы мы с Борей помогали им при переезде. Даже обрадовался.
— Тогда я и грузчиков не буду нанимать, — поспешно сказал он. — Трое мужиков. Сами все перетаскаем.
День переезда выдался теплым, по-настоящему весенним. Яркое солнце слепило глаза. Вдоль улиц с крыш позвякивала весенняя капель. Со стороны парка доносился птичий гомон, и я подумал: грачи, наверное, прилетели. Но, приглядевшись, увидел стайку зябликов. Они сидели на черных голых ветках ясеня, выделяясь своей необыкновенно яркой окраской. Как игрушечные. Грудки свежебордовые, словно птички только что выпачкались в краске. Перескакивая с ветки на ветку, они тихонько посвистывали: «Фить, фить». А галдели в середине парка неугомонные воробьи. Им в пору было радоваться весне. Позади осталась холодная и голодная зима. Уж лето-то они проведут в блаженстве. «Если не подкараулит и не сцапает кошка», — усмехнулся я.
Тамару мы застали в слезах. Оказывается, Мария Сергеевна купила ей к весне светленькое, легкое платье. Хотела порадовать дочку. Но покупка не понравилась Василию Степановичу.
— Деньгами разбрасываешься, — ворчал он. — А они мне нелегко достаются.
— Но у дочки нет ни одного нового платьица, — оправдывалась Мария Сергеевна. — И погулять пойти не в чем. Из старых она выросла уже.
— Гулять ей еще рано. Пусть подрастет. А для учебы достаточно и школьной формы.
Мария Сергеевна попыталась сослаться на то, как живут в других семьях.
— Девочки любят принарядиться. Школьная форма надоедает. Посмотри, девчонки выйдут вечером, как куколки разодеты. Зачем же нам свою дочь обижать?
Но Василий Степанович еще больше разобиделся.
— Ты только со своей дочкой и возишься, — с досадой упрекнул он. — Обо мне не подумаешь. Я тоже вот старую рубаху который месяц таскаю. Балуешь девчонку, а она на меня косо смотрит. Чтоб впредь без разрешения не смела ей ничего покупать. Слышишь?
Я как раз раздевался в коридоре и слышал весь этот разговор. Слышал, как мать покорно ответила:
— Не серчай. Если хочешь, продам я это платье соседкиной дочке. Пусть носит.
— Вот и отдай, — буркнул Василий Степанович и, косо глянув на притихшую Тамару, прошел на кухню.
А Тамара присела в своей комнате на кушетку и, сдерживая рыдания, бормотала что-то о своем горе и о том, что нет у нее на свете никого, кто бы пожалел ее, позаботился о ней. Даже дома нет ей покоя. Хуже, чем у чужих людей. Там хоть не попрекают куском хлеба, нет этих настороженных, нелюдимых взглядов, которыми Василий Степанович встречает и провожает ее. Нет, нет, надо пойти и сказать: «Мама, довольно. Если ты не оставишь его, то я одна уйду. Уйду куда глаза глядят. Я больше не могу, не могу».
Но к тому времени, когда пришел Боря, Тамара уже успокоилась, слезы высохли на ее щеках, и ее первоначальное решение показалось ей слишком поспешным. Может, все еще уладится. Не стоит расстраивать маму. В конце концов ей виднее, как лучше поступить. А она, Тамара, все стерпит, ради мамы стерпит.
— Надо что-то решать, — сказал Боря. — Ты посоветуйся с матерью. Заяви ей прямо…
— Нет, нет, — остановила его Тамара. — Не надо сейчас. Потом как-нибудь. У мамы очень плохое сердце. Не стоит ее из-за меня расстраивать.
— Но и так продолжаться не может. Вы обе таете на глазах, а он…
— Все равно, — отмахнулась Тамара. — Потом, потом… А сейчас надо укладывать вещи.
Боря не стал настаивать. Но сказал:
— Хорошо, я сам позабочусь о тебе. Только собери свои вещи отдельно. В отдельный чемодан.
— Конечно, — согласилась Тамара. — Вот в этот чемодан. Ты иди, помоги ему. А то он опять рассвирепеет.
За окном послышался шум подъехавшего автомобиля. Дверь резко захлопнулась, и Василий Степанович, веселый, улыбающийся, словно ничего не произошло, сказал с порога:
— Ну-с, молодые люди, довольно любезничать. Машина подошла, будем грузить мебель.
Тамара поднялась с кушетки и принялась укладывать свои вещи. Неожиданно оказалось, что вещей у нее значительно больше, чем можно было предположить. Из каких-то потайных уголков она доставала вдруг давно забытые игрушки и никак не могла решить, что же с ними делать. Старую, потрепанную куклу она долго держала перед собой в руках, все глядела на нее, вспоминая, сколько же лет прошло с тех пор, как папа привез ее из своей последней командировки. Тут же начала рассказывать мне, что это был за счастливый, незабываемый день. Она проснулась утром от назойливого солнечного зайчика, прыгавшего у нее на щеке. И не сразу поняла, что это лежит рядом с ней на подушке. Кукла была новенькая, в ярко-красном платьице, с длинной черной косой. Тамара схватила ее, закружилась от радости. Это было самое теплое воспоминание об отце, и ей стало приятно оттого, что оно ожило сейчас с такой силой, что, казалось, будто и не случалось того страшного, после чего она уже ни разу не видела отца. Она вздрогнула, испугавшись, как бы не вошел в комнату Василий Степанович. Ей было бы сейчас это особенно неприятно. Прижав куклу обеими руками к груди, она поцеловала ее и аккуратно положила в уголок чемодана, прикрыв сверху стареньким своим платьицем, чтобы никто не увидел и не запретил ей взять с собой эту единственную вещь, связывающую ее с незабываемым и безмятежным прошлым.
Осторожно выглянув в коридор, она сбегала в чулан и принесла большую черную сумку, с которой когда-то они с мамой ходили за продуктами. Поставив ее на пол, она сложила в нее все свои игрушки, которые были свидетелями ее счастливого и приятного детства, а сверху положила свой лыжный костюм, который мама купила уже без папы, но еще тогда, когда в их доме не было Василия Степановича.
Оттащив сумку в угол комнаты, Тамара опустилась на кушетку с таким чувством, будто совершила что-то очень важное, не сделав чего, она осталась бы в долгу перед памятью прожитых ею лет. Она радовалась, что закончила все эти свои сборы прежде, чем Василий Степанович зашел в комнату. Он мог бы помешать ей думать о прожитом, особенно об отце.
Теперь ее ни капельки не напугали по-хозяйски тяжелые шаги в коридоре, хотя минуту назад она не хотела и боялась их услышать. Распахнув дверь, в комнату вошел запыхавшийся Василий Степанович с чемоданом в руке.
— Пусть постоит здесь пока, — произнес он, ставя чемодан у стены, напротив кушетки. — Надеюсь, не помешает? — И пояснил: — А то там посторонние люди: шофер и прочие… Подальше от соблазна.
Тамара ничего не сказала, и Василий Степанович ушел, скрипнув рассохшимися паркетинами. Только тогда Тамара перевела взгляд на принесенный им чемодан. Он был как две капли воды похож на тот, в который она укладывала свои вещи. И она вспомнила, что мама купила их в один день и в одном магазине. Один — для Томы, собиравшейся в пионерский лагерь, другой — для себя и для папы, для его командировок. Теперь они оба сошлись в ее комнате.
Боря влетел в комнату разгоряченный и сразу же заторопил:
— Как у вас тут? Поторапливайтесь. Две машины уже отвезли. Сейчас последний рейс. Тебе помочь?
Тамара отвела его руку:
— Не надо. Уже все. Вот последняя кофточка. — И усмехнулась: — Отказалась от помощи, а напрасно. Вещей столько, что, пожалуй, не закроется крышка. Поднажми коленкой.
Они вдвоем налегли на крышку чемодана, и Тамара щелкнула застежками.
— Все.
— А это что за чемодан? — спросил Боря. — Тоже твой?
Тамара лукаво подмигнула. Кивнула на дверь:
— Он принес. На сохранение. Хочешь посмотреть? — Она отстегнула замки и подняла крышку.
— О, да тут золото! — удивился Боря.
— Да нет, — поправила его Тамара. — Просто ценные вещи. Он дрожит над ними, как курица над цыплятами.
— Откуда это у вас?
— Мамино. Еще с папой покупали. В подарок друг другу. Вот и набралось. Хрусталь, броши, бусы. Правда, много? Целый чемодан!
— Закрывай! — строго, каким-то чужим голосом сказал Боря.
Тамара щелкнула замком и присела на кушетку.
— Присядь перед дорогой, — пригласила она.
— Мальчики, кто-нибудь — на помощь! — крикнул из коридора Василий Степанович.
Я бросился на зов и в дверях столкнулся с Марией Сергеевной. Нагруженная сумками, она поторопила:
— Все, все. Спускайтесь скорее.
Василий Степанович заскочил в комнату, схватил чемодан и унес к машине. Тамара заспешила. Она подняла чемодан, стоявший у стенки. Но он показался ей тяжелым, и она передала его Боре, оставив у себя сумку с игрушками. Я взвалил на плечи тяжелый узел, и все начали спускаться вниз.
Василий Степанович в кузове машины принимал вещи, бережно укладывал их, чтобы не побились во время движения. Боря подал в кузов принесенную Тамарой сумку, огляделся. Кажется, все. Он помог Марии Сергеевне и Тамаре залезть в машину. Я забрался в кузов сам. Василий Степанович с коричневым чемоданом устроился в кабине.
— А ты как же, Боря? — крикнула Мария Сергеевна. Она оглянулась: места в грузовике больше не было.
— Не беспокойтесь, — махнул рукой Боря. — Я на автобусе быстрее вас доеду.
Машина тронулась. Боря помахал нам рукой и пошел к подъезду.
ПЕРЕПОЛОХ
Все, что будет рассказано ниже, я узнал от Тамары. Я просил ее изложить события того вечера и следующего утра поподробнее, так как они очень близко касались меня. Я до сих пор не понимаю, почему подозрения, которые пали на Борю, не коснулись меня. Ведь мы были с ним все время вместе. И таскали вещи, и грузили их в машину. Только с последним рейсом я отправился один, без Бори. Он обещал приехать следом на автобусе. Но не приехал. Подождав его немного, я помог Василию Степановичу выгрузить вещи из машины, и он отправил меня домой. Но почему же теперь Василий Степанович обвинил в пропаже одного Борю? Только Борю.
В тот вечер в новой квартире Беловых суетились допоздна. Расставляли мебель, укладывали на свои места вещи. Все трое бегали из комнаты в комнату, спрашивали совета, соглашались или спорили. И каждый про себя думал о Боре. Василий Степанович вслух возмущался, что вот вызвался помогать и до конца слово не сдержал. Теперь приходится двигать тяжелые шкафы одному или утруждать и без того намаявшуюся Марию Сергеевну. Тамара считала, что Боря не пришел из-за Василия Степановича и сердилась на отчима за это, старалась пореже выходить из своей комнаты. В стенном шкафу она отвела специальную полочку для своих старых игрушек и теперь расставляла там их, вынимая из сумки и припоминая, когда какая была куплена и сколько доставила ей радости. Мария Сергеевна высказала мысль, что Боря просто устал. А потом парень он воспитанный, стеснительный. Не захотел мешать им при устройстве на новом месте. Ведь помог же! И на том спасибо. У него и своя семья, и свои дела есть.
Только поздней ночью вспомнил Василий Степанович про коричневый чемодан и про сложенные в нем вещи. Увидел его в коридоре, подхватил на руку и внес в комнату. Хотел было тут же открыть и убрать по своим местам вещи, но Мария Сергеевна отговорила:
— Поздно уже. Никуда не денется он до завтра.
Василий Степанович подумал, что разных предметов в чемодане много, с ними провозишься всю ночь. И, сунув чемодан под кровать, начал готовиться ко сну.
Ночь прошла спокойно. С утра Василий Степанович ушел на работу, наказав Марии Сергеевне глаз с чемодана не спускать и без него не открывать. Только вечером, после ужина, он достал из-под кровати чемодан, открыл его и аж ахнул от изумления. Потом в сердцах стал выбрасывать из него вещи. Полетели на пол Тамарины платья, старая кукла, тетрадки и книжки.
— Что это такое? — кричал Василий Степанович. — Что вы мне подсунули? Где драгоценности? Кольца, брошки, хрусталь?
Мария Сергеевна, обомлев, смотрела на мужа, не в силах вымолвить ни слова.
Василий Степанович бросился в комнату к Тамаре.
— Где чемодан? — вопил он. — Я оставлял его под твоей охраной. Где он?
Тамара только растерянно повела плечами. Придя в себя, она сказала отчиму, что он сам снес чемодан в машину и всю дорогу держал при себе в кабине. Куда же он мог деться? Где-нибудь здесь.
— Да, да, — твердил Василий Степанович, припоминая.
В ярости он перерыл весь дом. Летели на пол простыни, наволочки, платья, чулки и носки. Чемодан не находился. Тамара стояла, прислонившись к косяку комнаты, наблюдая, как беснуется отчим. В таком озлоблении она его еще никогда не видела.
Наконец, перевернув все в квартире, Василий Степанович в бессилии опустился на стул.
— Где твой ухажер? — бросил он яростный взгляд на Тамару. — Его работа.
— Да что ты, Вася! — вступилась за ребят Мария Сергеевна. — Такие подозрения…
— Молчи, Мария! — вскипел Василий Степанович. — Вечно ты им потакаешь. И твоя вина тут есть.
Сколько ни старалась его успокоить Мария Сергеевна, все напрасно.
— К прокурору! — грозился он. — Немедля. Я этого так не оставлю.
Он стал звонить в милицию, в прокуратуру. Но повсюду ему отвечали только дежурные и советовали завтра с утра написать заявление… Одевшись, Василий Степанович выскочил из дому. Мария Сергеевна с дочкой опять остались одни, удрученные не столько странной пропажей, сколько проявлением дикой ярости мужа и отчима. Молча, боясь взглянуть друг на друга, стали они собирать разбросанные по квартире вещи.
ГРОМ С ЯСНОГО НЕБА
Нина по-прежнему не упускает случая, чтобы насолить мне. Теперь я убежден, что это она по вечерам, изменив голос, звонит мне по телефону. Назвавшись «одной хорошей знакомой», она приглашает меня выйти на улицу, поговорить. И каждый раз я выхожу. Интересно же! Стою как неприкаянный, переминаюсь с ноги на ногу. Никого. Зябко. А меня уже зло разбирает. Думаю: все равно узнаю, что это за недостойный человек так товарища разыгрывает. Так ничего и не узнал. Игра продолжается.
И вот вчера поздно уже вечером опять звонок. Папа взял трубку. И передает мне:
— Тебя. Ты теперь самый популярный у нас в семье. Только девчонки и звонят.
А в трубку:
— Нартик! Выйди на минутку. Очень важно.
Голос все тот же. Спрашиваю, кто это. Смеется. Богатый, мол, будешь, своих не узнаешь. И тут же серьезно, строго: не до шуток, дескать, выходи.
Пошел. В скверик за домом. На скамейке сидит Нина. Грустная такая. Уставилась в одну точку, глаз не оторвет. Сел я рядом, спрашиваю:
— Что у тебя?
А она:
— Нартик! С Борей плохо. Мне Клава сказала. Строго по секрету. Ты знаешь, отец у нее в милиции служит. Сегодня пришел, говорит: «Ваш парень на воровстве попался». «Кто такой?» — она спрашивает. «Мухин Борис. Только что заявление поступило».
Для меня эта весть как удар обухом по голове.
— Не может быть! — говорю. — С Борей мы весь вечер вчера у Беловых провели. Помогали переезжать. Я за Борю ручаюсь. Он никуда не отлучался. Потом, ты знаешь, не способен он на воровство.
— Способен не способен! — сердится Нина. — Клавкин отец тоже выдумывать не будет. Помни: я тебе первому сказала. Не болтай. Спасать надо Борю.
Легко сказать спасать, когда толком ничего не ясно. Всю ночь решал эту задачу со многими неизвестными. Утром с больной головой пришел в школу. Удивительная эта вещь — школа. Что бы у тебя ни случилось, каким бы ни было твое настроение, она не желала считаться с этим. Каждое утро повелевала являться на уроки и в течение нескольких часов добросовестно трудиться. Это правило одинаково касалось всех: и учеников и учителей. Я подумал об этом, когда в класс вошла Ольга Федоровна. Недавно она сказала нам, что преподает уже пятнадцать лет. И я тут же подсчитал, что за это время она провела более десяти тысяч уроков. Ну и ей хочется, чтобы все мальчишки и девчонки прошли весь путь до своего первого вальса без сучка и задоринки. Недаром она постоянно внушала нам: чем ближе выпускной вечер, тем собраннее, сосредоточеннее, памятуя только об учебе, обязан быть каждый из нас. А у нас что ни день, то новое огорчение.
Войдя в класс, Ольга Федоровна сразу же посмотрела на Борю. А может быть, это мне только показалось. Потому что я тоже все время смотрел на Борю. Видно, учительницу беспокоили появившиеся недавно рассеянность и равнодушие в поведении Бори. Она даже со мной, как со старостой класса, пыталась говорить об этом. Она, мол, понимает, что в таком возрасте бывают и неожиданные увлечения, к грустные разочарования, и резкое изменение мнения о товарищах. Но ничего этого за Борей не замечалось. Как и прежде, он был постоянен в своих симпатиях и антипатиях, дружил с одними и теми же ребятами, а из девчонок не хотел никого признавать, кроме Тамары. И все же он стал каким-то раздражительным за последнее время. Вдруг мог не ответить урок и на настойчивые вопросы учителя твердил одно:
— Не знаю. Не помню.
Он успел схватить двойку по математике. По своему любимому предмету. Ольга Федоровна склонна была думать, что виной всему мальчишеское упрямство: не понравится что-нибудь, не захочет отвечать, тогда хоть кол на голове теши. Не раз она нам же говорила, что впервые попался ей такой трудный класс. До этого два были полегче. А может быть, просто тогда она меньше вдавалась в детали, меньше переживала за каждого ученика? Вот опять Боря сидит и витает мыслями в облаках. Конечно, не слушает.
— Боря! — остановилась она в проходе между столами. — Ты почему не слушаешь?
Он встрепенулся, и взгляд его словно только что вернулся на землю: стал сосредоточенным, напряженным.
— Я слушаю, Ольга Федоровна! Все слушаю.
— Тогда повтори, о чем я говорила.
— Не помню. Что-то об этом… Как его…
Ольга Федоровна сдержала себя, медленно пошла к классной доске.
— Повторяю специально для тебя. И пойми: ты мешаешь работать всему классу.
Она повторяет урок, а я наблюдаю за Борей и убеждаюсь, что мысли его снова где-то далеко от класса, от того, что мы сейчас изучаем. Он опять отключился. Но Ольга Федоровна не решилась еще раз упрекнуть его.
Я тоже не слушаю урок. Не спускаю глаз с Бориса. Нет, нет, не может быть! Что-то несусветное сказала мне о нем Нина. Конечно, его взволновал весь этот переезд. Он волнуется за Тамару. Рядом с ее новым домом строится школа. Не перейдет ли она туда? Вот и все. Отсюда и его рассеянность на уроке.
Тамара тоже поглядывает на Борю. Что-то показывает рукой. Боря качает головой: мол, не понимаю. Тамара отворачивается. Тогда Боря вырывает из тетрадки листок и торопливо, размашисто пишет на нем. Оглянулся, чтобы прикинуть, через кого незаметно передать записку. Увидел меня и бросил. Показал губами: «Передай Тамаре». Я подхватил записку, но Ольга Федоровна уже заметила ее.
— Боря, — сказала она, подходя, — ты опять отвлекаешься. Дайте сюда записку! Вот так. Получишь ее после урока в учительской.
Ольга Федоровна взяла записку и машинально развернула ее. Лицо ее побледнело. Она положила записку на край стола и несколько минут не могла продолжать урок. Только я знал причину этого волнения, так как тоже успел прочитать записку. Боря писал: «Не беспокойся, чемодан у меня».
После урока Ольга Федоровна оставила Борю в классе и долго с ним разговаривала. Любопытствующих мальчишек и девчонок, заглядывавших в дверь, она бесцеремонно выпроваживала.
В коридоре я поджидал Борю. Он вылетел из класса раскрасневшийся, взлохмаченный.
— Боря!
Кажется, он не узнал меня.
— Тамару кто видел?
— Боря!
Только тут глянул он на меня осмысленным взглядом.
— Сережа, ты? Тамару не видел?
Не стал ждать ответа, побежал, расталкивая снующих по коридору учеников, разыскивая как сквозь землю провалившуюся Тамару. Он нашел ее на втором этаже в окружении крикливых мальчишек и девчонок — третьеклассников, над которыми Тамара шефствовала.
— Тамара!
Уже дребезжал звонок, возвещавший о конце перемены, когда Тамара избавилась наконец от своих подопечных, гуськом потянувшихся в класс. Боря подошел к ней.
— Тамара, — взволнованно начал он. — Ты извини, я забыл тебе сказать…
Тамара посмотрела на него взглядом, полным растерянности и недоумения.
— Ой, Боря! — прошептала она и взяла его за руку. — Хорошо, что ты меня отыскал. А то я мучаюсь, не знаю, сказать тебе или нет.
Боря побледнел, брови его дрогнули, сдвигаясь.
— Что случилось? — сдержанно спросил он.
Тамара потащила его к окну, подальше от суетливой ребятни.
— Понимаешь, — глухим шепотом сообщила она. — Чемодан пропал. Тот, с драгоценностями. Мама плачет.
Боря слушал рассеянно. Только на мгновение злая искра сверкнула в его глазах.
— С драгоценностями? — переспросил он. — Не может быть!
— Точно! — уверяла Тамара. — Отчим весь дом перевернул. Не нашел. В милицию звонил. А сегодня с утра туда убежал.
— Ну и пусть, — нахмурился Боря.
— Пусть-то пусть, — еще больше понизила голос Тамара. — Да ведь он на тебя думает. Ой, бежим, — спохватилась она. — На урок опоздаем.
Боря некоторое время торопливо шагал с ней. Потом резко повернулся и побежал по коридору к выходу из школы. В вестибюле он чуть не сшиб с ног пожилого человека в темном костюме и с серой шляпой в руке, поднимавшегося по ступенькам лестницы в сопровождении директора. Расслышал лишь обрывок фразы:
— Действительно у вас мальчишки — дерзкий народ…
Потом я проследил весь путь, по которому прошел Боря, уйдя с урока.
Он бежал изо всех сил. Только перед дверями квартиры тети Груни, к которой мы на днях с ним заходили, позволил себе немного отдышаться. Вошел в комнату внешне спокойным, сосредоточенным. И сразу же бросился к чемодану. Открыл и обомлел: драгоценности…
Первой его мыслью было: отнести сейчас же все обратно. Но потом он подумал: ведь здесь только малая доля того, что должно принадлежать Тамаре. И когда она уйдет из дому (а она уйдет, должна уйти, доколе же терпеть такое унижение!), то отчим ей ничего не даст. А надо ведь хотя бы первое время на что-то существовать. Он долго решал, куда перенести чемодан. Перебрал в памяти всех учеников своего класса. И наконец решил: к Оськину. Только к Оськину.
Он шел медленно, так как ноша была тяжелой. По дороге дважды менял свое решение. Когда под вечер все же зашел к Оськину, то чемодана с ним уже не было. Он держал в руке только портфель.
— Слушай, куда ты исчез? — встретил его вопросом невозмутимый Оськин. — Директор и следователь в класс приходили. Тебя по всей школе искали. Что ты такое натворил?
— Ничего, — сухо сказал Боря и выскочил на лестничную клетку, резко захлопнув за собой дверь.
Он не знал, куда теперь пойти. Долго слонялся по улицам. Дома, сославшись на головную боль, сразу же лег спать. На другой день, как обычно, собрал портфель и вышел из дому. Но в школу не пошел, а сел в парке на скамейку.
Видел, как прошла на урок Ольга Федоровна. Она показалась ему необычно грустной, задумчивой. Он представлял, как ей тяжело, но поправить уже ничего не мог.
А в классе стоял ералаш. Девчонки перешептывались друг с другом, перебрасывались записочками. Учителя приставали ко мне:
— Староста, в чем дело? Почему возбужден класс?
Ольга Федоровна в тот весенний день ходила грустная. Выслушав рассказ директора о необычном происшествии, она долго не могла успокоиться: «Надо же, как гром с ясного неба! Лучший ученик, ее надежда, и такое обвинение: чемодан украл». Никто из нас даже не задумался над тем, что обвинение еще не доказано. Просто все были ошарашены случившимся, не могли понять, что же все-таки произошло и почему беда обрушилась именно на Борю. И почти все чувствовали боль, нанесенную классу.
Я все порывался узнать, где Боря и что с ним. После уроков сразу же побежал к нему домой, но, сколько ни звонил, никто не ответил. Уже под вечер я нашел его сидящим на скамейке в сквере. Он поднялся, чтобы уйти, когда я подошел:
— Погоди.
Он снова опустился на скамейку. Присев рядом, я рассказал о переполохе в школе, о том, что приходили Василий Степанович и следователь из милиции.
— Он обвиняет тебя в краже чемодана, — сказал я.
— Знаю, — тихо ответил Боря.
Я попытался успокоить его:
— Уверен, что все это ерунда. Ты брось переживать. И приходи завтра в школу. Я же знаю, и Тамара знает: все, что говорит ее отчим, неправда.
— Нет, правда, — глухо сказал Боря.
— Что? — переспросил я.
— Все правда, — повторил Боря и, встав со скамейки, побрел по аллее парка.
Я недоуменно посмотрел на друга и пошел следом.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ,
рассказанная Ниной Звягинцевой
ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ


ПРЯМЫЕ УЛИКИ
Нет, я окончательно разочаровалась в мальчишках! Где их хваленое рыцарство, их бесшабашность, их благородство наконец! Взять хотя бы этот случай с Борей Мухиным. Я за Бориса головой поручиться готова. Оськина кто спас, помог за ум взяться? Он. А тут сам, что ли, свихнулся? Не может быть! Руку даю на отсечение!
Девчонки в классе все единодушно за Бориса (кроме разве Светки Пажитновой). А мальчишки? Сразу разнобой у них пошел. Разделились на группки. Кто за, кто против. Стасик Перепелкин готов все свалить на Борьку. Не знаю, как я могла дружить со Стасиком! Никогда себе этого не прощу. «Братья Федоровы» — за Борю: наговор, мол, на Него. А вот Сережа Нартиков совсем растерялся. Как пришибленный ходит. И не поймешь, за он или против. Верит он этому чудовищному обвинению или нет? Хороший он парень. Сережа. Из всех мальчишек нашего класса самый порядочный и справедливый. Жалею теперь, что плохо к нему отнеслась при первом нашем знакомстве в школе. Хочу свою вину загладить и не могу. Эх, Грач, Грач!
Ольгу Федоровну жалко. Здорово она переживает. Ведь удар по авторитету всего класса. Молчаливая ходит она. Ждет, что-то будет? А по-моему, зачем ждать? Уверен — борись, отстаивай свое мнение, не сдавайся. Я, например, от своего не отступлю, докажу, что Боря не виновен. Мне бы только хорошего мальчишку в помощники. Ну, скажем, Сережу Нартикова. А он, как назло, куда-то запропастился. Звонила — говорят, дома нет.
А мне грустно. После уроков брожу по улицам города и думаю, думаю. Главное, составить разумный план действий. Но что я могу предпринять? Ничего! Только твердить, что Боря честный, что он не мог…
А кругом — весна. На проталинах в скверах, на газонах, возле окон домов и витрин магазинов настойчиво и дерзко сквозь старую посеревшую листву пробивается молодая трава. Ее свежезеленые, острые стерженьки ярко пламенеют на солнце, заявляя не только о своем появлении на свет, но и о приходе нового времени года — о весне. С крыш на мокрые тротуары звонко падает капель, а намерзшие за ночь, как сталактиты в пещерах, прозрачные сосульки, подтаяв, отрываются от нагретых солнцем карнизов, стремительно летят вниз и со звоном разбиваются об асфальт, разбрасывая в стороны сотни искрящихся ледяных брызг.
На солнечной стороне тротуары уже просохли и все испещрены мелом, расчерчены на большие и малые квадратики, и девчонки с азартом играют на них в классы. Мальчишки умудряются где-нибудь на задворках отыскать ровную и сухую площадку и гоняют набухший, тяжелый мяч, стараясь забить его в ворота, обозначенные двумя кирпичами.
Возле одной такой площадки, где играла дворовая команда, я остановилась. Позавидовала ребятам. Очень захотелось погонять мяч. И почему это не принято, чтоб девчонки играли в футбол? Несправедливость. Присев на лежавшие в стороне бревна, я стала следить за игрой. Тут уже немало собралось зрителей. И каждый — со своим советом.
— Эх, мазила! С левой надо бить! С левой!
— Куда ведешь? Куда ведешь! Направо пасуй, направо! Эх! Опять отобрали.
Я не люблю, когда все комментируют. Хотела уже перейти на другую сторону. Но из-за угла дома вышел Боря с чемоданом и портфелем в руке. Он остановился у угла площади и поставил чемодан. Я сразу узнала его и даже вздрогнула от неожиданности. Вот уж не надеялась встретить в этот день Борю Мухина. Хотя все время думала о нем. А он сердито, со злостью глянул на потрепанный свой портфель и кинул его рядом с чемоданом на затоптанную мальчишками, не успевшую пробиться молодую траву. Стайка ребятишек, увивающихся за мячом, стремительно приближалась к нему, словно чемодан, как магнит, притягивал их. Боря попытался уклониться. Натужно гудя, мяч снарядом просвистел мимо него, ударившись в чемодан, взвизгнул, изменил направление. Противоборствующая команда подхватила его и, улюлюкая и торжествуя, погнала к противоположным воротам. Низенький юркий парнишка со сбившимися на лоб рыжими прядями волос, хитро поглядывая на костлявого, перегнувшегося пополам вратаря, с азартом летел вперед, размеренными толчками вел перед собой мяч. Вратарь, предугадывая его полет, плашмя бросился на изрытую носками ребячьих ботинок землю. Но парнишка в последний момент перекинул мяч на левую ногу и резко послал его в ворота мимо растерявшегося вратаря.
И тотчас же все, кто находился на площадке, — и игроки и зрители — смешались в один вертящийся и звенящий мальчишескими голосами клубок. На месте остались только мы с Борей, и я боялась, что он меня заметит.
— Ура! — кричали одни. — Наша победа. Счет в нашу пользу.
— Нечестно! — неслось из других глоток. — Штанга. Где судья, что скажет судья? Мяч не засчитывается!
— Это чемодан помешал! — кричали третьи. — Я сам видел: мяч неотразимо летел в ворота, и Гришка вовек не взял бы его. Это был верный гол. А тут чемодан. Надо штрафной в нашу пользу. Штрафной, штрафной.
И галдящий мальчишеский клубок стал быстро смещаться в сторону Бори и его чемодана.
— Чего ты здесь стоишь? — подлетел к нему тот самый долговязый парень, что недавно стоял в воротах и пропустил мяч. — Это все из-за тебя. Им вовек не догнать наших нападающих, они коротышки.
— Неправда! — старался перекричать длинного юркий мальчишка, забивший гол. — Зря, Сенька, задаешься. Я не хуже других бегаю. Попробуй догони, а ну попробуй!
— А где же у вас судья, ребята? — спросил Боря, выслушав ту и другую сторону и устояв под натиском наседавших на него парней.
— Судьи нет, — сразу как-то сник вратарь. — Потому и игра не идет, что судьи нет. Больше спорим, чем играем. Сперва мы им — коротышкам — гол забили, так полчаса спорили. Они не хотели признавать. Теперь вот нам забили…
— А почему ж судьи нет? — перебил Боря.
— Да свистка у нас нету. У Митьки Цыгана есть свисток. Так он чего-то не пришел. А без свистка никто не соглашается судьей быть, потому ребята не слушают, а чуть что, спорят и судью ругают. Вчера Пашку Косоротого так обидели, что он теперь дома сидит и играть не выходит.
Боря глянул на притихших мальчишек, и, наверное, ему стало их жаль. И он предложил:
— Давайте я посужу.
— Так свистка же нет.
Вместо ответа Боря сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул.
— А это что? — подмигнул он. — Годится?
— Годится! — подхватили со всех сторон.
— По местам! — скомандовал Боря.
И опять я подивилась, как он сразу преобразился. Вроде был грустный, задумчивый, с отсутствующим взглядом. А тут и улыбка на лице появилась, и голос звонкий. Взяв у Сеньки мяч, он поставил его посреди поля. Раздался свисток, и игра началась. На этот раз нападающие очень старались. А нарушения правил строго пресекались судьей. Над полем то и дело слышались его резкие свистки. Действия защиты тоже приобрели осмысленный характер. Самозабвенно бросались на мяч вратари. Никому не хотелось осрамиться перед новичком. Тем более, что судья был старше, а значит, и опытнее их всех.
Но вот мячом опять завладел тот же приземистый паренек с вихрастым рыжим чубом на лбу. Как колобок, катился он по полю, ведя перед собой мяч. Долговязый вратарь забеспокоился, засуетился перед воротами. Отчаянно кинулся он навстречу мячу, но тот, как и в первый раз, вдруг переменил направление, перекинутый с правой ноги на левую и посланный сильным ударом, просвистел мимо вратаря и пулей пересек линию ворот, обозначенную двумя красными кирпичами.
— Ура! Победа! — закричал вихрастый мальчишка, утопая в объятиях товарищей по команде, таких же коротышек, как и он.
Резким свистком Боря остановил игру, навел порядок на поле и заставил команды выстроиться друг против друга и прокричать: «Физкультпривет!» Капитаны и вратари пожали друг другу руки. Капитаном команды коротышек, как и следовало ожидать, оказался тот самый рыжий мальчишка, который дважды поразил ворота противника. Товарищи опять обступили его.
— Молодец, Генка! — кричали они. — Пусть долговязые не хвастают. Сбил им спесь. Не в росте дело. Играть уметь надо.
Противоборствующая команда молча уселась на бревнах, заменявших скамейки для зрителей.
— Ну, что приуныли? — пытались раззадорить их победители. — Давайте еще сыграем. Проверим, кто сильнее.
— А правда, — повернулся к Боре Генка. — Посуди нас еще. С тобой так хорошо получается.
Боря отрицательно покачал головой:
— Не могу, ребята. И так с вами задержался. А мне чемодан отнести надо. Дело очень важное и спешное.
Ребята не стали спорить. Они как-то сразу после столь удачного матча прониклись доверием к своему справедливому и строгому судье, сумевшему внести порядок в их до тех пор безалаберную игру.
— Тогда мы тебя проводим. Мы поможем! — И Генка первым подбежал и схватился за чемодан. — О, да он тяжелый. Что там, камни, наверное, или золото?
— Я сам, — отстранил паренька Боря.
Он вскинул на одну руку чемодан, другой подхватил портфель и через двор направился на гудевшую автомашинами улицу. Стайка ребятишек сопровождала его.
Они прошли мимо меня. Я опять подумала, что Боря узнает меня. Но он ничего не замечал в тот день. Разгладившаяся было во время игры грустная морщинка опять легла у переносицы. Может быть, это просто девичье любопытство, но мне захотелось узнать, что его тревожит. Узнать и помочь ему, отвести от него беду. Ведь только что, носясь вместе с мальчишками по футбольному полю, он был тем веселым и общительным парнем, каким в школе привыкли видеть его всегда. И вдруг такая резкая перемена. Я встала и тихо побрела вслед за Борей.
Он шел медленно, как идут, если никуда не спешат или когда все равно, куда идти, — лишь бы время провести. Такое у меня создалось впечатление. Чемодан здорово мешал ему, и он все перекидывал его с руки на руку, при этом ему приходилось ставить на землю портфель. Я никак не могла понять, зачем ему портфель, зачем он взял его из дому. Потом уж я догадалась, что он, видно, не заходил домой. И это тот портфель, набитый книгами, с которым он был утром в школе. Что же он делал после? Так и ходил по московским улицам?
Мальчишки-футболисты все еще увивались за ним. А он рассказывал им что-то веселое, потому что они смеялись, и он смеялся вместе с ними. Постепенно нагоняя их, я теперь понимала, что Боря, если даже увидит меня и узнает, не подаст виду. Для него сейчас самое тяжелое встретиться с одноклассниками. Как он посмотрит в глаза ребятам, что скажет в свое оправдание? Правду он постарается скрыть, а полуправде никто не поверит. И придется ему изворачиваться и лгать, то есть делать то, что он всегда считал самым противным в человеке и чего не мог терпеть даже у верных друзей. Да, да, нас он будет сторониться. Но ведь Ольга Федоровна от него не отступится. А директор школы! Как же тяжело будет стоять перед ними и, потупясь, молчать, потому что нет возможности ответить ни на один из их справедливо негодующих вопросов и хоть как-то оправдаться.
Думая об этом, я старалась угадать, куда же он сейчас идет. Он ни разу не оглянулся. Знал, куда ему нужно. И все же, когда он остановился возле большого восьмиэтажного дома, я поняла, что он пришел не туда. В этом доме еще несколько дней назад жила Тамара. Выходит, он шел инстинктивно, по наитию, и ноги сами привели его к дому, который ему не нужен. Он посмотрел на занавешенное шторами знакомое окно и медленно побрел вдоль улицы. Куда же он несет чемодан? Если к Тамаре, то до нового ее дома три автобусных остановки.
Подошел автобус, но Боря не сел на него. Только обернулся и посмотрел на мальчишек, сопровождавших его. Посмотрел, улыбнулся и пошел дальше. Мальчишки за ним. Эта ребячья преданность, видно, прибавила ему сил, и он теперь шагал быстрее.
Вот и новая Тамарина квартира. Сейчас я узнаю, верны ли мои предположения. Боря остановился. О чем-то переговаривается с ребятами. Не хочет ли послать их в разведку, чтоб узнать, дома или нет Тамара? Да, да. Один из мальчишек побежал в подъезд. Боря поставил на асфальт чемодан. И тут чужая рука легла на его плечо:
— Ага, попался!
Ой, как я не увидела этого раньше, как не предупредила! Перед Борей стоял Василий Степанович.
Вокруг них сразу же начала собираться толпа. Я подошла поближе, теперь уже не боясь быть узнанной.
— Где же ты этому научился, голубчик! — со слащавой вежливостью говорил Василий Степанович. — Стащил чужой чемодан и носишься с ним теперь по городу, не знаешь, куда пристроить.
Ой что творилось с Борей! Он покраснел, потом побледнел, попытался отмести обвинения, но понял, что его никто не поймет, и замолчал.
— Вот полюбуйтесь, товарищ милиционер, — повернулся
между тем Василий Степанович к шедшему за ним старшине милиции, которого я сразу и не заметила. — Мой чемодан-то. Как не узнать, вещь приметная. А мы уж и в школе и дома у тебя, голубчик, были. Мать слезами заливается. Сестренка сычом из угла смотрит. Ну, семейка. Посмотрел я на них, вся надежда пропала. Думаю: удрал парень с моим чемоданом. А ты вон где гуляешь. А ну-ка дай сюда! — И он потянулся за чемоданом.
Боря инстинктивно отстранился. За ним полукольцом стояли мальчишки.
— Товарищ старшина! — взмолился Василий Степанович. — Это что же такое? Прошу власть употребить.
Старшина приблизился к Боре и взял из его руки чемодан.
— Ого! — не удержался он от восклицания. — Тяжеловат. — И жестко сказал, повернувшись к Боре: — Нехорошо получается.
Боря ошалело посмотрел на него и ничего не ответил.
— Пошли! — сказал старшина, трогая Борю за рукав куртки.
Мальчишки некоторое время шли за ними, потом отстали. Но я решила не оставлять товарища в беде. Будь, думаю, что будет, зато узнаю до конца, в чем его вина. А может, и помогу.
В милиции старшина спросил, здесь ли старший лейтенант Морозова Анастасия Ивановна. К нему вышла высокая, молодая женщина. Мягко сказала:
— А, старшина! Проходите.
Борю и Василия Степановича она пропустила в комнату, а меня остановила:
— Тебе чего, девочка?
Я попыталась объяснить свое появление:
— Он из нашей школы. Он ни в чем не виноват.
— Ну, посиди, — улыбнулась женщина. — Выясним.
Она усадила меня в коридоре на лавочку. Дверь в комнату осталась приоткрытой, и было слышно, о чем там говорят.
На вопрос, чей чемодан он нес и куда направлялся, Боря ответил:
— Мой. Домой шел.
— А где ты его взял?
— У Беловых.
— Так чей же он: твой или Беловых?
Анастасия Ивановна открыла чемодан.
— А откуда у тебя такие вещи? Может, все-таки не твой чемодан?
— Ну, не мой.
— А чей?
— Я же сказал: Беловых.
— Ты этого не говорил.
— Значит, забыл.
— Зачем же ты его взял?
Боря молчал.
— Зачем, спрашиваю, взял?
— Надо было, и взял, — потупясь, ответил он.
— Так же не делают: надо — взял.
— А как делают? — в голосе его слышалась обида. — Многое делают не так, как надо.
— Ты не преувеличивай. И не обобщай. Сейчас речь идет о тебе, о твоем поступке. И важно дать ему верное объяснение. От этого зависит многое. Может быть, и твоя судьба.
Анастасия Ивановна помедлила. И я представила, как она пристально вглядывается в стоявшего перед нею паренька, словно оценивая, что из себя он представляет, и решая, чем вызвать его на откровенный разговор. Вот она поймала на себе его сердитый, полный негодования взгляд и поняла, что ни слова правды от него сейчас не добьешься. Он переступил рубеж того мальчишеского упорства, когда, уверовав во что-то, парень будет стоять на своем, хоть грози ему всеми бедами мира, хоть умоляй. Трудный подросток. А я подумала: «Вот и Боря попал в трудные. Кто бы мог предугадать? Боря, который всегда возился с трудными, и не без успеха».
Анастасия Ивановна все еще пыталась добраться до истины:
— Вот ты сказал: чужой. Взял. Украл, что ли?
— Нет, зачем же так?
— Взял. С какой целью?
— Надо было — и взял, — снова повторил Боря.
В этом духе они проговорили еще с полчаса. Поняв, что у парня ничего не выяснишь, кроме этих общих, ничего не значащих, с готовностью произносимых признаний, Анастасия Ивановна решила отпустить его. Она протянула ему протокол.
— Распишись вот здесь, — попросила она.
— Вот здесь? — переспросил Боря и, взяв карандаш, вывел свою фамилию.
— Можешь идти.
— Что? — не понял он.
— Иди, — повторила Анастасия Ивановна.
— Куда? — впервые с искренним удивлением спросил Боря.
— Как куда? — не поняла его вопроса Анастасия Ивановна. — Куда тебе надо. Домой.
— А разве вы меня не арестуете?
— Нет, — сухо ответила Анастасия Ивановна. — Иди. Если нужно будет, я дам тебе знать.
Боря постоял еще немного в нерешительности, окинул взглядом комнату, посмотрел на продолжавшую что-то писать Анастасию Ивановну, повернулся и вышел. Протяжно скрипнула за ним дверь.
Он даже не взглянул на меня, хотя, конечно, давно заметил, что я шла за ним. Видно, в душе у него творилось такое, что было не до меня. Вскоре из комнаты вышел и Василий Степанович. Он нес свой чемодан.
Меня Анастасия Ивановна отпустила очень быстро. Я ведь и вовсе ничего не знала. Только твердила, что Боря хороший парень и не мог сделать ничего дурного. К тому же я и сама торопилась. Мне хотелось догнать Борю.
На улице все так же ярко светило солнце, звенела весенняя капель и падали с крыш последние сосульки, разбиваясь на кусочки. Боря с портфелем медленно шел по тротуару и не сталкивался с прохожими только потому, что все предусмотрительно обходили его. В руке уже не было чемодана, но он горбился, будто тяжесть давила на плечи и клонила к земле.
Куда он сейчас пойдет? Я пыталась ответить на этот вопрос за него. Где его ждут? И где ему обрадуются? В школе? Там уже никого нет. Но и завтра многие там только удивятся его появлению и будут обходить его стороной. К Беловым он сам не пойдет. Василий Степанович и на порог не пустит. Мария Сергеевна замахает в испуге руками: дескать, не время, не до тебя. Тамару он не захочет видеть. Ему стыдно перед ней. Дома, конечно, ждет мать. Но сможет ли она его понять? Она не станет его упрекать или ругать. Но будет тайно вздыхать. А это еще хуже.
Вскоре я заметила, что он идет по кругу. Улочками, переулочками — и опять выходит к тому же месту, откуда начал свой путь. Один круг, другой, и снова — около отделения милиции.
— Ты к кому, мальчик? — спросил дежурный.
— К вам.
— Чем могу быть полезен?
Боря приблизился к нему.
— Я так не могу, — сказал он.
— Чего, чего? — не понял дежурный.
— Вы мне ясно скажите, виноват я или нет, — уже громче сказал Боря. — А если что, если я не прав, арестуйте в конце концов.
Дежурный с минуту недоуменно смотрел на него, видимо прикидывая, разыгрывает его мальчишка или говорит всерьез. Потом отворил дверь в соседнюю комнату, крикнул:
— Анастасия Ивановна! Это не ваш ли подопечный пришел? Чудной какой-то.
Морозова вышла уставшая, сердитая.
— Чего еще?
— Да вот, — показал дежурный на Борю. — Пришел. Просил, чтоб арестовали. Впервые в моей практике.
Анастасия Ивановна через силу улыбнулась:
— Боря, что ты, милый? Зачем же нам тебя арестовывать? Ты иди домой. Иди. В школу иди, учись. Мы разберемся. Может, ты и не виноват вовсе. А виноват — накажем. Это я тебе обещаю. А сейчас иди.
Она выпроводила его за дверь и стояла на пороге, приговаривая:
— Беда с ребятами. Никогда не поймешь, чего от них ожидать можно.
— И девчонка за ним ходит, — сказал дежурный. — Тоже какая-то чокнутая.
Слова эти обидели меня. Но раздумывать над ними было некогда. Боря, спустившись с крыльца, размашисто зашагал в сторону парка. Мне не хотелось его упускать из виду.
Свежая зелень парка, запах набухающих почек не обрадовали меня. Рядом назойливо горланили грачи. Шум раздражал меня, и я охотно вслед за Борей свернула в сторону. Мы шли по узкой аллее. На повороте ее показалась одинокая, чуть сутуловатая фигура. Ее школьники всегда узнавали издали. Лукич! Боря тоже заметил старого учителя и торопливо сошел с тропинки. Нет, нет, он не хотел видеть сейчас никого из своих знакомых. Особенно Лукича. Что можно сказать ему? Чем ответить на укор, который будет стоять в его добрых глазах? Мне бояться было нечего, и я пошла прямо, не теряя, однако, Борю из виду. Лукич шел медленно, и я удивилась: как же постарел учитель! В школе это было почти незаметно. Перед учениками Лукич держался всегда прямо, входил в класс бодро. А тут, или потому, что устал, или надеялся, что его никто не видит, он шел пригнувшись, вобрав шею в плечи, припадая на левую ногу, раненную на войне.
Мне захотелось пойти за ним, догнать, сказать доброе слово. Отыскав взглядом Борю, замечаю, что и он остановился, смотрит из-за кустов на Лукича. Увидев меня, он повернулся и скрылся за деревьями.
И все же он пошел за Лукичом. Следуя на некотором отдалении друг от друга, они дважды пересекли парк. Потом вышли на проспект и свернули на пустырь, где мальчишки гоняли мяч, а Боря был их добровольным судьей. На этот раз Боря не пошел через пустырь.
Он дождался, когда Лукич, пройдя мимо бревен, на которых обычно сидели зрители, обогнул футбольное поле и вышел между домами в сквер. Через проходной двор Боря подошел к скверу с противоположной стороны. Лукич сидел на скамейке, положив обе руки на трость и низко опустив голову. Я видела, что Боря подошел слишком близко.
Лукич поднял глаза и, казалось не видя ничего перед собой, долго смотрел в пространство. Неожиданно он оторвал руку от трости и поманил Борю пальцем. Он ничего не говорил, не поднимался со скамейки, а только манил его. И Боря пошел к нему.
Мне неловко было и дальше здесь оставаться, и я решила уйти. Но едва я высунулась из-за куста, как Федор Лукич окликнул меня:
— И ты, Нина, иди сюда. Не помешаешь. Чего ты, пугливый заяц, по кустам прячешься?
Пришлось мне выйти из своего убежища.
— Садись, — сказал Лукич, когда Боря приблизился. И, видя, что парень колеблется, добавил более решительно: — Садись, садись. Надо уважать старика. Ведь я с утра тебя ищу.
Боря присел на краешек скамейки. Лукич изучающе окинул его взглядом.
— Понимаю, что от вопросов ты устал. Но я спрошу тебя только об одном: почему не идешь домой?
Боря и робко и доверчиво посмотрел на учителя:
— Не могу, Федор Лукич. И мать жалко и сестренку. Что я им скажу?
— А отец?
— Отцу не до меня. У него свой интерес.
Очень, наверное, подмывало Лукича спросить, почему же так с отцом получается, но какая-то интуитивная сила удержала его от готового сорваться с губ вопроса. Не только меня, всех старшеклассников удивляла эта способность Лукича сдерживать себя. Годами вырабатывались у него правила взаимоотношений с учащимися, позволяющие учителю не быть слишком назойливым, но и не оставаться в полном неведении. И на этот раз Лукич остался верен своему обещанию: больше ничего не спрашивать. Они заговорили о постороннем.
— Ранняя сегодня весна, — сказал Лукич, беря в руку склонившуюся над скамейкой веточку тополя. — Вот и почки уже набухают. Еще неделя-две — и лопнут, зазеленеет наш сквер.
— Да, зазеленеет, — ответил Боря и не удержался, поделился новостью: — А на пустыре, что вы, сейчас проходили, с краешка у забора, я еще с утра приметил, верба цветет. Диковинно, правда: в городе среди камней верба цветет. Пчелы — откуда они-то тут берутся? — так и вьются вокруг нее, так и вьются. Я постоял, постоял, позавидовал им, пчелам, и пошел.
— Ты что же, за мной сейчас шел? — спросил Лукич.
— Ага, за вами. Я уже здесь, в сквере, дал промашку. Загляделся на вас: грустный вы такой сидели и задумались сильно. Я и не успел спрятаться.
Стайка воробьев пронеслась над нами, весело галдя и радуясь весне. Один воробушек задержался, присел на скамейку напротив, покрутил головкой, словно принюхиваясь. Покосился одним глазом на Лукича с Борей и слетел к поблескивавшей на солнце луже. И Боря и Лукич, словно на диковинку, засмотрелись на этого воробья. А он глянет пугливо на них, торопливо наклонит головку, схватит каплю воды и, подняв клюв вверх, глотает ее, смакует, словно чай с булкой пьет. Когда Боря сказал об этом учителю, я подумала, что это сравнение пришло ему на ум неожиданно, но оно вызвало воспоминание из недавнего детства. Боря поделился им.
— А я однажды, — тихо, чтобы не спугнуть птаху, начал он, — видел, как воробей чай с малиной пил.
— Да ну! — удивился Лукич.
— Правда, правда, — уверял Боря. — Давно это было. Когда еще отец добрым был. Отправились мы с ним по грибы. Рассвет едва пробивался. Роса на траве обильная выпала. Ходили мы, ходили, грибов не нашли. Присели в малиннике на пенек отдохнуть. Тихо кругом. Вдруг ветка одна колыхнулась. Отец меня за руку цап: не спугни, дескать. Смотрим, воробей уцепился лапками за веточку, качается. Потом глазом повел (большущий глаз, мне показался), увидел ягодку, клюнул ее. Нацелился на листик, по которому росинка катилась, клюв раскрыл, чуть-чуть до листка дотронулся, росинка и упала ему в рот. Он ее проглотил и опять ягодку клюнул. И снова клюв раскрывает, листик теребит, ждет, когда росинка ему в рот скатится. Мы потом с отцом долго смеялись, вспоминали, как воробьишка чай с малиной пил. Вот и этот, — кивнул Боря на воробья у лужи. — Смакует, словно из хрустального ключа пьет.
— Да нет, — вступился за птичку Лукич. — Он не дурак, воробей. В луже вода снеговая. Говорят, очень полезная.
— Говорят, — согласился Боря. — Я тоже об этом читал.
Воробей наклонился над лужей последний раз, проглотил еще каплю снеговой воды и, вспорхнув, улетел.
— А ведь и нам пора, — проводив воробья взглядом, сказал Лукич.
— Пора, — отозвался Боря.
— Пойдем-ка, брат, ко мне, — предложил Лукич. — Давно ты у меня не был. И Нина нам компанию составит. А?
— Мне все равно, — ответил Боря.
— Вот и хорошо. Чайку вскипятим, погреемся, — продолжал Лукич. — Полегчает. А хотите, в книгах у меня пороетесь. Много новых пришло: и по математике, и по литературоведению, и по физике. Не успеваю я с ними разбираться. Недавно вышла новая работа по физике частиц. Я ее только полистал. Могу уступить тебе очередь.
— Я с удовольствием, — с благодарностью отозвался Боря.
— А вообще-то, — поднимаясь, посетовал Лукич, — столько в мире интересного происходит, что порой ругаешь себя: не так живем, не на то, не на главное время тратим. И такое пролетает мимо… Спохватился, ан уже прозевал…
Мы зашагали по тропинке сквера, старательно обходя наполненные прозрачной водой лужи.
— Федор Лукич, — поднял глаза на учителя Боря, — я вот все удивляюсь, почему вы не стали ученым? Ну, физиком или математиком.
Лукич строго посмотрел на него, но ответил просто:
— Каждому, брат, свое. Да и время наше такое было. Не успевали учиться. А потом полюбил я вас, сорванцов. Оторваться не мог. Считал предательством.
— Вот и я так, — быстро подхватил эту фразу Боря. — Считаю предательством.
— Что считаешь? — не понял Лукич.
— Это я так, — поправился Боря. — Вообще о жизни, о смысле жизни.
Свернули в переулок и по узенькой лесенке поднялись на третий этаж старого дома. Федор Лукич жил один. Я однажды заходила к нему с ребятами и подивилась тому порядку, который поддерживался и на кухне, и в спальне, служившей одновременно и библиотекой. Стеллажи с книгами занимали не только все стены, но и небольшой простенок между окнами. Сейчас свободного места тоже не было, и я подумала, где же учитель размещает новые книги, которых за месяц ему поступает немало.
— Постепенно переселяюсь в коридор, — сказал Лукич, словно угадав мои мысли. — Стеллажи я делаю сам. Зато уж знаю, где какая книга лежит.
— Разрешите, Федор Лукич? — подошел Боря к полке. — Я вижу здесь много нового.
— Ройся, ройся, — улыбнулся Лукич, — а я пока займусь чаем.
Мы пили душистый свежий чай и говорили о жизни. О ее неисчерпаемых возможностях и о счастье быть полезным людям.
— Завидую я бортпроводнице Наде Кучеренко, — сказал Боря. — Как смело она вступила в схватку с бандитами, пытавшимися угнать самолет! И никаких сомнений. Все ясно с самого начала.
— Да, — согласился Лукич. — Жизнь у нее короткая, но яркая, как факел.
— Я так понимаю, — продолжал Боря. — У каждого человека — своя идея в жизни, свой луч света. У Нади все ясно. А у меня? Один раз решил доброе дело сделать, и то не вышло.
— Параллели рискованны, — заметил Лукич.
— А я без параллелей. Пусть не Надя Кучеренко, пусть кто-нибудь другой. Вот я читал: шофер не камень подложил — камня не было, а сам лег под колесо, чтобы машина с пассажирами не сползла в овраг. «Что сделаю я для людей?» Данко. Помните?
Боря подул в стакан, отхлебнул глоток чаю, заговорил, кажется, совсем о другом:
— Теперь меня все клеймить будут. А за что?
— Я сам не нахожу твоему поступку объяснения, — сказал Федор Лукич. — Но, думаю, что намного облегчил бы ты свое положение, если б рассказал всю правду.
— Ни за что! — крикнул Боря. И тут же повторил, снизив голос до шепота: — Ни за что! Пусть меня режут, пытают, судят! Ни за что! Только один человек может меня заставить, нет, не заставить, это не то слово… Ну, в общем, если б я знал, что мои слова ему не повредят, я бы сказал. Но он молчит.
(Ой как мне хотелось узнать, кто этот человек!)
— Я так и думал, — кивнул Лукич. — Ты правильно сказал о луче света.
Боря отодвинул стакан, поднялся, подошел к окну.
— Мы все правильно говорим, — слишком серьезно произнес он. — Нас этому учат с детства. А вот живем… живем правильно далеко не все. Я иногда думаю, мучительно думаю, что кое-кому вообще не следовало бы жить.
— Ты очень резок, — заметил Лукич, подходя и становясь за его спиной.
— Ничуть! Вот у нас во дворе живет один гражданин, нигде не работает. Иногда у мебельного магазина. Кому что поднести. Там рубль, тут полтинник. А больше по другой части промышляет. Паразит. А ребята к нему льнут. Он их не одергивает, все разрешает. Зовут они его запросто Ваней. Вроде свой человек. Одно время он нашего Оськина обхаживал. Уж чем только он его не заманивал! Хотел в подручного превратить. Поломалось дело. Не дали. Так это с одним. А сколько ребят во дворе без всякого толку шляются! Гляди, этот Ваня кого и подберет. Чего от такого ждать?
Он отошел от окна, опять сел на свое место у стола.
— Э, не терплю я равнодушных! Ну почему, почему никто не вмешивается?! Ведь все видят этого Ваню. Видят, как он пьяный заманивает к себе мальчишек. А только каждый своего бережет: «Смотри, к Ване не ходи». Вот и все. Почему так?
Боря поднял на учителя жаждущие ответа глаза. Лукич только пожал плечами:
— Не все же сразу…
— Вот так! — зло бросил Боря. — Чего же с нас, с мальчишек, спрашивать!
— Спрашивать со всех надо, — ответил Лукич. — Жизнь спрашивает. И с этого Вани твоего спросит. Сам же говорил.
— Да, спросит, — с упреком сказал Боря. — А пока он не одного парня искалечит.
Наступило томительное молчание. Боря, словно поняв, что не от одного Лукича зависит решение всех мучающих его вопросов, замолчал, пригорюнился. Он морщил брови и гнал прочь невеселые, назойливо одолевающие его мысли. Я, конечно, тоже понимала, что учителю трудно вот так в лоб, прямолинейно ответить Боре. Почему не вмешиваются? Вмешиваются. Но Боре нужны не просто правильные слова. А чтобы убедиться, каковы дела, нужно иметь пошире взгляд, богаче запас наблюдений. И нужно, чтоб еще не была травмирована психика, как сейчас у Бори. Чтобы у него не было раздражения, обиды, пусть не на людей, на себя, но все равно возбуждения и недовольства.
Федор Лукич подошел к книжной полке, снял новенькую книжку в твердом переплете, повернулся к Боре:
— Так как? Возьмешь почитать?
— С удовольствием, — оживился Боря.
— Мы с тобой еще не договорились, — переходя к главному, сказал Лукич. — Как же со школой? Пойдешь?
Боря болезненно поморщился, отвернулся:
— Не могу. Сил моих нет. Будут приставать, расспрашивать. Что я им скажу? Да и сами посудите: подвел класс, не оправдал надежд ни учителей, ни товарищей. Нет, нет. Стыдно. Буду оформляться в вечернюю.
Лукич подошел к нему:
— Тогда у меня другое предложение. В этом году у нас большая практика в колхозе. Поезжай с разведывательной группой. Всего на две недели.
— А кто еще поедет? — спросил Боря.
— Все твои друзья — Сережа, Оськин, Света. И ты четвертый. Поедешь? С кем надо, я договорюсь.
Боря молчал, решая. А у меня аж мурашки по коже забегали: неужели откажется?
— Хорошо, поеду, — выдавил он наконец. — Там мне, пожалуй, легче будет.
Домой Боря пришел поздно, когда все спали. На цыпочках подошел к своей кровати, тихо разделся и лег. Он уже был рад тому, что все так устраивалось. Все-таки молодец Федор Лукич.
За день Боря впервые искренне улыбнулся.
КОЛХОЗНАЯ ПРАКТИКА
Когда узнала, что Сережа отправляется в колхоз с разведывательной группой, а меня в ее составе нет, страшно разобиделась. Светка Пажитнова едет. Тоже мне колхозница! Бросилась с мольбой к Ольге Федоровне. А она, как всегда: ничего не ведаю, распоряжаются директор, и Федор Лукич как старший педагог. До сих пор не пойму, как мне пришло в голову рассказать Лукичу все, что мне было известно о Боре, о его путешествии по Москве с тем злосчастным чемоданом. Но думаю, что именно этот разговор решил все. Еду!
Но Федор Лукич взял с меня слово к Боре не приставать, никаких вопросов, касающихся недавнего происшествия у Беловых, не задавать. Дать, как он сказал, парню успокоиться. Я, ясное дело, на все согласилась.
Задание у нашей группы сложное: договориться о предстоящей практике, подыскать жилье и даже немного поработать. Показать, на что мы способны. Сережа у нас за начальника, а Лукич вроде советника. Грач страшно воображает. Бегает серьезный. Распоряжается, командует. Но мной не больно покомандуешь. Любого сумею поставить на место. Прежде всего заявила, что буду работать с Борей. Куда он, туда и я. Как нитка за иголкой. Предлог простой: он в технике разбирается, а я — ни бум-бум. Поэтому хочу подучиться. Сережка поморщился, но согласился.
В колхоз мы прибыли ранним утром. Долго слонялись по поселку как неприкаянные. Было не до нас. Уже начинался сев, а часть техники по-прежнему стояла в мастерских и не могла выйти на поля. Член правления колхоза Артем Павлович Першин, которого председатель выделил для переговоров с нами о размещении и использовании практикантов, имел, кроме того, массу более важных обязанностей. Он нервничал еще и потому, что отвечал за ремонт сельскохозяйственной техники, который запаздывал. Ежедневно звонили из райсельхозуправления, из райкома партии. Артем Павлович старался реже бывать возле телефона.
Нашу группу Першин встретил без восторга. Он рассчитывал минут за пять покончить все разговоры с нами и заранее прикинул, что направит практикантов туда, где они не так сильно будут мешать производству. На стройку — очищать помещения от мусора, подбирать битый кирпич. На молочную ферму — подметать двор. Он надеялся быстро договориться с сопровождавшим ребят учителем. Но Федор Лукич сразу же уклонился от переговоров.
— Я ведь только помогаю ребятам, — говорит он. — В основном они действуют вполне самостоятельно. Вот Сережа Нартиков — их полномочный представитель.
— Что же вы хотите? — нахмурившись, повернулся Першин к Сереже. — Я могу предложить вам подсобные работы, где меньше хлопот, легче освоиться.
Молодец все-таки Сережка. Еще недавно злилась на него, а сейчас радуюсь: так твердо он стоит на своем. Знает, где можно уступить, а где нет.
— Нам бы дело посерьезней, — настаивал он. — Чтоб ребята ответственность почувствовали. От своего труда сразу пользу увидели. Тогда интерес будет.
— А что с них взять, с ребят-то? — парирует Першин.
— Как что? — удивляется Сережа. — У каждого есть совесть.
Першин не спорит, но и от своего мнения не отступается.
— Не могу доверить вам производство, — твердит он. — Чего вы упрямитесь? Прикрепим по нескольку человек к фермам, к теплицам…
— Они и будут слоняться без дела, — вставляет Сережа. — Нет, такая практика нам не подходит.
Першин побагровел, видно было, что он еле себя сдерживает.
— Знаете, — повысил он голос, — мне некогда с вами торговаться. У нас не хватает рабочих рук. Позарез нужны квалифицированные механизаторы, слесари. А ваши мальчишки испугаются первой мозоли на руках, будут проситься в учетчики. Не лучше ли сразу так и решить, чтобы под ногами не болтались?
Сережа отрицательно качает головой:
— Не лучше.
— Ладно, — поднялся со стула Першин. — Мне тут балясы точить некогда. Что вы, дадите мне слесаря? Нет же у вас таких.
— Найдется, — вмешался в разговор Лукич. — Я могу слесарить.
— Вы? — переспросил Першин. — Что ж, один. А ребята?
И тут вперед выступил Боря:
— Давайте я попробую. В школьных мастерских слесарил. Кое-что кумекаю.
Мне очень хотелось последовать его примеру. Но я сдержалась. Побоялась испортить все дело. И тут Першин смягчился. Знал: механическим мастерским любая помощь позарез нужна.
— Согласен, — сказал, как отрубил, он. — Двое в мастерские на пробу. Остальные пройдите по фермам. Прикиньте, что сможете на себя взять. Только без запроса. По силам. Вечером еще встретимся.
Сказал и тотчас же вышел, решительно хлопнув дверью. В окно было видно, как размашисто зашагал он вдоль села к колхозной кузнице.
В механические мастерские Боря пошел с Лукичом. Я увязалась за ними. Сережа промолчал. Была же договоренность: куда Боря, туда и я. Мастерские нашли сразу. По лязгу металла, по шуму старенького токарного станка. Лукич надел фартук и сразу же стал к тискам. Взялся подогнать деталь к требующей срочного ремонта сеялке. Боре посоветовали пока присмотреться к работе, вникнуть в суть дела. Бригадир, сказавший это, тут же исчез под трактором, и только ноги его виднелись между колесами. На меня никто не обратил внимания. Будто меня и не было вовсе. Мало сказать, что я разозлилась. Во мне все кипело от негодования. Но Боря уже пошел по мастерской, и я поспешила за ним. Боялась остаться одна: еще выгонят. Свободных верстаков оказалось много, и я прикинула, что под руководством Лукича мы могли бы здесь потрудиться на славу.
— Эй, Ванька! — крикнул бригадир, вылезая из-под трактора. — Достань коническую шестеренку.
— Где ж я ее возьму?
— А сними с машины, что за стенкой стоит.
Парень побежал выполнять приказание. А я, схватив Борю за рукав, предложила:
— Пойдем посмотрим, что у них там.
За стенкой стоял старый комбайн. Боря спросил у слесаря: почему, мол, машина тут в запустении стоит.
— Э, — устало щуря глаза, протянул тот. — Этот свое отработал.
— Вот бы восстановить! — шепнул мне на ухо Боря.
Разыскав Лукича, он поделился с ним своей мыслью. Сказал, что готов сколотить из надежных ребят бригаду для ремонта комбайна.
— Ведь если мы его пустим, — горячился он, — да сами в поле выведем, это ведь, Федор Лукич, победа, наша победа!
Я боялась, что Лукич назовет Борину затею бредовой. Мол, мастера не смогли совладать с машиной, а тут мальчишка берется. Но учитель идею одобрил, посоветовал переговорить с мастером.
Мы долго бродили по цеху, разыскивая мастера. У стоявшего без гусениц трактора Борю перехватил бригадир.
— Послушай, паренек, выручи, — попросил он. — Тут такое дело. Запчастей у нас не хватает. Вот сейчас отряжаю слесаря на склад Сельхозтехники. С болью от ремонта человека отрываю. Но одному там не справиться. Беготни много. А двоих я не могу отпустить. Ну, никак. Может, ты, а?
— Поехать с ним? — спросил Боря.
— Догадливый, — улыбнулся бригадир. — Правильно, поехать. И пособить, если надо. Ты парень, я вижу, шустрый.
— Я готов, — отозвался Боря.
— Вот и хорошо, — облегченно вздохнул бригадир, словно свалил с себя тяжелую ношу. — Перекусите немного, и в путь.
Когда мы пошли искать попутную машину, Николай, что ехал от колхоза на склад, спросил меня:
— А ты чего?
— К нему прикомандирована, — кивнула я на Борю.
— Следить, что ли?
Получилось неловко. Я с испугом глянула на Борю. Но он вроде не слышал последних слов. Ответила:
— Да нет. Он меня слесарить учит.
— А-а!
На складе Сельхозтехники народу тьма-тьмущая. Все требуют запасных частей к машинам, а нужных деталей нет. Наш старшой сколько ни бился, ничего раздобыть не сумел. Возвратясь из очередного захода к начальству, присел на скамейку, подозвал Борю.
— Вот что, друг, — сказал, отдышавшись. — Иди-ка ты на разведку. Пристраивайся с кем-нибудь, кому наряд выписан, и по складским помещениям. Я тебе сейчас покажу, какие детали искать.
До полдня мы с Борей бродили от склада к складу, успели даже подружиться с кладовщиками, оказывая им мелкие услуги. Зато к обеду у нас имелась точная справка о наличии дефицитных деталей. С этим перечнем посланник колхоза и пристал к заведующему складом, вынь да положь ему запчасти.
— Да нет у меня ничего! Хоть шаром покати. Все выдал, до винтика, — уверял заведующий.
Но Николай называл точное место, где лежит нужная ему вещь.
— Не веришь? — сокрушался заведующий.
— Не верю! — твердил свое Николай.
— Тогда пошли.
Они нашли и ряд, и полку, и стоящий на ней ящик.
— Погляди, убедись, — подзадоривал заведующий. — Видишь: пуст.
Николай потянул ящик на себя.
— Не совсем пуст.
— А что там? Пара деталей. Да через меня их тысячи проходят!
— Мне тысячи не надо, — сказал Николай. — А эти две пригодятся. Подпиши накладную.
За полчаса они вычеркнули половину наименований в длинном списке.
— А эта, брат, тебе не подходит, — сказал, торжествуя, заведующий, когда они подошли к ящику, доверху наполненному новенькими, в масле, деталями. — Они к другой машине. Неходовая вещь. Третий год лежат.
Николай повертел деталь в руке, прикинул размеры штангенциркулем.
— Погоди, друг, — повернулся он к заведующему. — Да тут же вся разница, что диаметр отверстия поменьше. Всего на один миллиметр. Эти детали запросто расточить. И из залежи выйдет позарез нужная вещь.
Заведующий повертел деталь в руке.
— Верно говоришь, — подтвердил он. — Ишь какой башковитый! Сегодня же попробуем расточить. Ведь это, если дело пойдет, ты меня во как выручишь. Меня из-за этой самой детали по сто раз в день за горло берут.
Николай хотел забрать деталь так, без расточки. Но заведующий не соглашался. Говорил, что не тот сервис будет, что он не допустит, чтобы не доведенная до кондиции вещь со склада уходила. Ему, дескать, дорога честь фирмы. Но Николай все-таки упросил его, и Боря сунул деталь в свой рюкзак.
Еще в машине меня все подмывало спросить Борю о том злосчастном чемодане. Куда и зачем он его нес? Но я сдержала себя. Помнила строгий наказ Лукича: о происшествии — ни слова.
В колхоз мы вернулись победителями. Шутка ли, самые ходовые запчасти достали. Першин, узнав об удачной экспедиции на склад Сельхозтехники и о расторопности, проявленной не только Борей, но и мной — девчонкой, изменил свое отношение к ребятам. При переговорах в правлении перед заключением договора на проведение производственной практики он быстро пошел на уступки и принял почти все условия, выдвинутые Сережей. Для девчат выделили отделение в птичнике и в телятнике. Ребята обязались сами построить теплицу, выехать на медосбор с пасекой, вдвое увеличить крольчатник.
Я все толкала в бок Борю, чтоб он сказал насчет комбайна. Он отмахивался, но под конец все же набрался смелости.
— О чем разговор! — охотно согласился Першин. — Комбайн этот нам давно глаза мозолит. В утиль его надо сдать, да все времени не хватает. Так что берите и делайте с ним все, что угодно. Только поторопитесь заявить о своей власти над ним. А то слесари-ремонтники совсем его «раскулачат».
Боря торжествующе посмотрел на Федора Лукича. Тот ободряюще подмигнул, вслух сказал:
— Эту бригаду возглавлю я. Борю и Нину беру в помощники. Не смейтесь. Старичок комбайн еще побегает по колхозным полям. В уборочную страду сам Артем Павлович в ножки нам поклонится: дескать, выручайте, ребята, не справляемся с молотьбой, выводите свой агрегат.
Этой шуткой и закончился наш первый колхозный день.
А с утра начались новые хлопоты. Федор Лукич поднял нас с первыми лучами солнца. Сказал:
— Будем сразу же привыкать к ритму колхозного дня.
Сережа принес из водопроводной колонки ведро студеной воды. Едва я вышла на крыльцо, он — ко мне:
— Будешь умываться? Давай полью.
Не отказалась. Он с удивлением посмотрел на меня. Дескать, что это с Нинкой случилось. А я, едва плеснула в лицо водой, сразу почувствовала, как по всему телу разлилась приятная бодрость. Зашла к ребятам в дом. Хозяйка поставила на стол крынку парного молока. Федор Лукич разлил его по стаканам, пригласил:
— А ну, работнички, к столу. Да не зевайте. Такого молочка вы в городе не найдете.
Боря взял стакан, поднес к губам и остановился. Я поняла: он боялся выпить, боялся нарушить, спугнуть тот несравненный запах, который исходил от еще теплого молока. Наконец он отхлебнул глоточек, прошептал: «Шедевр!» Ребята потянулись за своими стаканами.
Мы пили свежее, парное молоко, тоже со свежим, мягким хлебом, и казалось, что лучше этой еды и этого струившегося в открытое окно, напоенного запахами весны воздуха нет ничего на свете.
Хозяйка посмотрела на наши восхищенные лица, заглянула в сияющие глаза и, выйдя в сени, принесла и поставила на стол еще крынку свежего молока.
— Кушайте на здоровье. У нас свое, не привозное.
Хлопнув дверью, забежала Света. И с порога:
— Ой, ребята, какое здесь молоко! Ты что же, Нинка, удрала? Я сейчас попробовала… — глянула на полные стаканы в наших руках и замолкла: — У вас тоже…
Федор Лукич пригласил ее к столу:
— За компанию, Света.
— Нет, что вы! — замахала она руками. — Я такую крынку почти всю одна… Не отдышусь никак.
Света присела на скамейку у окна и не удержалась, затараторила:
— Боялась, что просплю сегодня. А меня чуть свет скворец разбудил. Вот, скажу я вам, птаха занятная. Я раньше все удивлялась, как это люди часами птиц слушают. У Тургенева, у Аксакова читала. А тут сама, как выскочила в одной рубашке, так, не шелохнувшись, и простояла на крыльце, пока хозяйка не хватилась: думала, пропала девчонка. А я спугнуть песню боялась. Продрогла вся, а стою, слушаю. Как на концерте в Зале Чайковского.
— А я и не понял, что это скворец, — прихлебывая из стакана молоко, вставил Оськин. — Слышу: посвистывает кто-то. Думал, мальчишки деревенские балуются. Натянул на голову одеяло и опять уснул. Федор Лукич уже за ногу стащил, когда все поднялись.
— Эх ты! — упрекнула Света. — Такую красотищу проспал!
— Успею еще, наслушаюсь, — усмехнулся Оськин.
Позавтракав, разошлись по своим местам. Света вместе с хозяйкой ушла в телятник. Сережа с Олегом Оськиным решили выбрать участок для будущей теплицы и крольчатника. А я вместе с Федором Лукичом и Борей теперь уже на законных основаниях направилась в механические мастерские.
Першин встретил нас у входа в цех с распростертыми объятиями.
— Милости просим, дорогие гости. Хотя, — спохватился он, — какие же вы теперь гости. Свои, свои вы для нас, всегда желанные. Выручил вчера парнишка ваш меня, словно из петли вынул. И девчонка молодец. Уже я сообщил и председателю и в район: ремонт теперь скоро заканчиваем, и всю технику — в поле.
— Ну, ремонта у вас на все лето хватит, — охладил его пыл Федор Лукич. — Сезонная работа.
— Конечно, конечно, — согласился Першин. — Комбайны пойдут, картофелеуборочные машины. Без дела мы не стоим. И зимой на полную мощь работаем.
— Одну машину мы берем на себя, — предупредил Федор Лукич. — Как договорились.
— Это бросовую-то? — переспросил Першин. — Пожалуйста. Со всеми потрохами. Только, чур, условие, — предупредил он. — Ни одного из наших слесарей я вам не дам. Обходитесь своими силами. Как у нас говорят, ремонт хозяйственным способом.
— У нас тоже так говорят, — согласился Лукич. — Будем обходиться своими силами.
— Тогда желаю вам успеха, — раскланялся Першин. — Дерзайте.
Он исчез. Федор Лукич, как и намечал с утра, пошел к слесарям. Они дорожили каждой парой рабочих рук.
Боря заглянул в конторку. Я слышала, как он спрашивал у мастера, что бы почитать о комбайнах.
Мастер, выслушав его, сказал без обиняков:
— Иди-ка ты, парень, к Афанасьеву. Наш почетный механизатор. Работать он уже не может, все-таки немалый десяток старику пошел. А голову имеет светлую. Он все тебе честь по чести расскажет. Да и то пойми: здесь ты каждому, к кому ни обратишься, помехой будешь. Спешат люди, не до экспериментов им. А Петру Григорьевичу лестно, что молодежь за советом к нему идет. Так что шагай. Как пройдешь школу, четвертый дом направо.
Боря вышел на улицу, а я нарочно задержалась у ворот. Думаю, позовет или нет. Ведь раньше часто вместе ходили: он, Тамара и я. В кино, на концерт. Смотрю, остановился, кричит:
— А ты чего? Шагай, шагай! Вместе, так все пополам. Сама напросилась, а теперь улизнуть хочешь.
Афанасьев встретил нас недоверчиво. Он сидел во дворе в плетеном кресле-качалке и с интересом наблюдал, как хозяйственная семейка скворцов устраивала себе в новом скворечнике гнездышко.
Я остановилась в сторонке. Боря подошел поближе, сказал, зачем его прислали. Петр Григорьевич, не проявив к нему интереса, моргая подслеповатыми глазами, все смотрел на скворцов, время от времени высказывая свое восхищение:
— Глядишь ты, я считаю, самая трудовая птица — скворец. С зари за ними наблюдаю: хоть бы с час передохнули. Вот все таскают и таскают. Все в гнездо и в гнездо.
Он вынул из кармана пиджака очки, долго и старательно пристраивал их на изъеденном оспинками носу. Потом вдруг, словно и не было никакого у них разговора, тихо спросил:
— Так какой же у тебя, малец, ко мне интерес?
Боря повторил свою просьбу сначала. Петр Григорьевич помолчал, поглядел по сторонам, потом стал расспрашивать Борю, откуда он да кто его прислал. И все на меня посматривает. Дескать, зачем еще девчонка курносая явилась. Мне аж совестно стало. Отвернулась. А Боря не утерпел, похвастал:
— Я машины люблю. Хотим восстановить заброшенный комбайн. Да знаний маловато. Одна надежда — на вас.
А Петр Григорьевич опять будто и не слушал его. Все его внимание отдано птицам. Проводив восторженным взглядом скворца, улетевшего за огороды, он, наконец, повернулся к Боре.
— Баловство это одно, — сказал и махнул рукой для убедительности. — И ни к чему тебе знания такие. Не здешний ты. Уедешь в город и все забудешь. Я, малец, от молодежи настоящего интереса жду. Вот сижу здесь в качалке и жду. Должны же они интерес ко мне проявить! К моему опыту. Раньше мастера сыновьям опыт передавали. По наследству, значит. Сын у меня, вишь, в математику ударился. В Московский университет поступил. Я не ропщу. Такая теперь мода. Но должен я кому-то свои секреты передать? Неужто к мастерству теперь интерес пропал?
Боря сказал, что в мастерских как раз о его, Петре Григорьевиче, искусстве с уважением отзывались. И мастер рекомендовал к нему обратиться.
— Э, пустое, — отмахнулся Афанасьев. — Я этого Пашку, что за мастера теперь в мастерских подвизается, когда он еще мальцом, как ты был, изрядно гонял за лень и неповоротливость. Да, видно, злости во мне не хватило. Не всю дурь из него выбил. Вот они теперь и маются каждый год с ремонтом.
Он опять отвернулся, посмотрел на огороды, поджидая, когда с лугов появится его любимец скворец. И все же не утерпел, спросил про мастерские, как там с ремонтом. И пока говорил, все хмурился, сердито поводя густыми, лохматыми бровями.
Боря рассказал, как добывали запчасти к посевным машинам, как закипело дело в мастерских, где стоял у тисков наш наставник Федор Лукич Панов. Афанасьев подобрел, медленно поднялся с кресла, опираясь на тросточку, побрел в дом. Предупредил:
— Ты погоди здесь. Не уходи.
Вернулся он минут через пятнадцать с потрепанной книжкой в руке. Усевшись поудобнее в кресле, сказал:
— Вот тебе учебник. Про комбайн. Знаю: грамотный. Прочитаешь. А как одолеешь, опять ко мне придешь. Я тебе экзамен устрою. Если выдержишь, поверю, что не баклуши бить сюда приехал. Тогда и все секреты свои открою. А так, зазря, толковать с тобой у меня сил нету. Вся вышла сила-то, о-хо-хо!
С афанасьевской книжкой мы ушли за деревню. На опушке только еще начинающей зеленеть березовой рощи отыскали подходящий пенечек. Рядом в поле гудели тракторы. Мощные лемеха плугов выворачивали тяжелые пласты земли. Серьезные, сосредоточенные грачи деловито вышагивали по свежей борозде, косили зоркими глазами, высматривая добычу. Колония их расположилась неподалеку, заняв массивными, грубо сработанными гнездами вершины самых высоких берез. Они галдели, словно торговки на базаре, не поделившие место за прилавком. Порой этот птичий гомон сливался с клекотом приближающихся тракторов в один сплошной гул.
Я подтолкнула Борю в бок:
— Слышь, я сюда ехала, думала, сбегу от шума городского. А здесь?
Он не ответил. Листал книжку.
Высоко в небе широкими кругами летал ястреб. Его гортанный, то торжествующий, то тоскующий крик временами долетал до нас. Боря даже не взглянул на него.
Солнце уже разогрело землю, и она парила, и светлое марево поднималось над полями, дымкой заволакивая дальний лес. В низине у реки паслось стадо коров. Порывистый ветер доносил оттуда приятный запах парного молока. А совсем рядом, на опушке, доцветали подснежники. Истосковавшаяся за зиму по цветам, я все порывалась подбежать к ним, нарвать букетик. Но сдерживала себя. Понимала: сейчас нельзя отвлекаться.
Боря поудобнее устроился на пеньке и углубился в чтение. Для него уже не существовало ни щедро отдающего земле свое тепло солнца, ни крикливых, неугомонных грачей, ни неумолчного рокота тракторов. Ему держать ответ перед старым мастером. И надо постоять не только за себя, а и за честь всего класса.
Кричали грачи, гудели тракторы, ветер свистел в вершинах высоких и стройных берез. Боря уже ничего не слышал.
Тогда я не выдержала. Вырвала у него книжку.
— Ты что, один, что ли, с комбайном возиться будешь? Подвинься. Я читать буду, а ты слушай. И не вздумай отвлекаться. Прочту главу, вопросами донимать стану. Схватишь двойку — оставлю без обеда.
Боря подчинился.
СЛЕДОВАТЕЛЬ
Я думала, Боря забыл про Тамару. Даже досадовала: вот мальчишки — с глаз долой, и из головы вон. А он каждый день писал ей письма. Каждый день. А вернее, каждую ночь. И с утра бегал к почтовому ящику отправлять. Потом я у Тамары спрашивала, о чем он писал. О самом обыкновенном: как живем, что делаем. Жалел, что она не поехала. А в конце обязательно: не беспокойся, не подведу.
Вскоре в колхоз приехал следователь. Борю он не застал. Провозившись день с комбайном и разобрав некоторые его узлы, он оставил все на мое попечение и с новым своим приятелем Николаем уехал в соседнюю деревню. Они повезли туда связки книг, которые школа прислала в подарок колхозным ребятам. Следователь погоревал сначала, но потом, пожалуй, решил, что это даже лучше, если он поговорит с ребятами без Бори.
Они, мол, будут откровеннее. Я так поняла.
Конечно, никого из нас следователь не знал. Но он сам был для нас человеком знакомым. Как-то с полгода назад Ольга Федоровна, увлеченная новыми веяниями о правовой пропаганде, пригласила его в класс, чтобы провести беседу. Беседа всем понравилась. Следователь сообщил тогда много интересного. А главное — нового, необычного, о чем с нами не говорили ни на уроках, ни в кружках.
О приезде следователя я узнала от вездесущей Светы. А потом и сама увидела его, столкнувшись с ним в тесной комнатке парткома колхоза. В полдень на дверях клуба появилось объявление, извещавшее о предстоящей встрече с ветераном Великой Отечественной войны К. П. Скороходовым. К началу я опоздала. Выполняла Борино задание — промывала керосином детали комбайна. Когда вошла в зал, на трибуне стоял пожилой уже человек с поседевшими висками — наш следователь. Это и был К. П. Скороходов. Второй раз слушала я его, и опять с интересом.
Он вспоминал о войне. Она застала его совсем еще молодым, студентом первого курса юридического факультета. С одним из эшелонов уехал на фронт. Попал в роту разведчиков. Всяких людей повидал он. Не раз сам был на краю гибели. Он видел, как оступившиеся кровью и жизнью своей искупали старые преступления, как малодушные побеждали страх и становились героями. Под Минском, сброшенный на парашюте в тыл противника, три часа уходил от преследователей, с каждой минутой ощущая, как ближе и ближе слышится лай идущих за ним по следу овчарок. На берегу петлявшей по мелколесью речушки он запутал след, сбил с толку собак. А на рассвете неожиданно столкнулся лицом к лицу с другой группой фашистских солдат, не подозревавших о его присутствии.
Он отстреливался до последнего патрона и, наверное, ушел бы опять, если б гитлеровцы не догадались вызвать подкрепление. Прибывшие на мотоциклах солдаты обложили его со всех сторон, и, когда, израненный, обессиленный, он скатился в овраг, гитлеровцы еще с полчаса не осмеливались подойти к нему, опасаясь, что «рус» опять оживет и начнет кидать гранаты и поливать их свинцовым дождем из их же, трофейного, автомата.
Его отправили в село и там весь день пытали, спрашивая, кто он и откуда. Ничего не узнав, фашисты расстреляли его на вечерней заре за околицей села вместе с группой неизвестных ему, мужественно перенесших гитлеровские пытки людей — молодых парней, женщин и стариков.
Ночью два мальца (они разыскивали своего деда) нашли его, на дне глубокого, заросшего бурьяном оврага и, обнаружив, что парашютист еще дышит, спрятали на своем дворе в подвале за пустыми бочками из-под квашеной капусты.
Назло врагу расстрелянный солдат выжил и через два месяца вместе с ребятами, у которых после гибели их деда не осталось никого на свете, ушел к партизанам.
Из партизанского отряда его вывезли на Большую землю. Подлатали, и опять в тыл врага, теперь как опытного и видавшего виды разведчика. На этот раз он сам искал встречи с мальчишками. И опять другие уже ребята выручали его, проникая в такие места, куда не отважился бы пройти и самый храбрый солдат, и уходя от преследования даже в тех случаях, когда, казалось, спасения нет. Вот когда он полюбил мальчишек. Их неподкупную честность и безрассудную храбрость. Их беспредельную верность и бесшабашную удаль. Качества, которые не раз спасали его от неминуемой смерти и помогали успешно выполнять задания командования.
Однажды замухрышка-девчушка, припадающая на одну ногу, принесла из города к партизанам в специально наращенном каблуке ботинка важные оперативные донесения. Трижды ее останавливали гитлеровцы и трижды отпускали, уверовав, что бедняжка заблудилась, собирая ягоды в лесу, и теперь боится, что мама ее прибьет. А в туеске под вторым дном у нее лежала граната. На случай, если ей все-таки не поверят и придется бежать, а может быть, и отбиваться от врага.
Она беспрепятственно прошла все вражеские заслоны, но настолько привыкла к своей роли, что, уже переобувшись, долго еще прихрамывала на одну ногу.
Я ждала, что же еще Кирилл Петрович расскажет о себе, о том, как он воевал, от чего поседели его волосы. А он вспоминал своих фронтовых товарищей. В Сталинграде их поредевший взвод две недели оборонял стены разбитого и обгоревшего дома. Гитлеровские генералы доносили в Берлин, что дом защищает отборный коммунистический полк. А их было всего двенадцать. Вместе с пятнадцатилетним пареньком, жильцом этого дома, комсомольцем Ваней Козыревым. Ваня не успел переправиться на левый берег Волги. Да и некуда ему было переправляться. Здесь, в сталинградской земле, остались лежать его мать, отец, рабочий тракторного завода, и сестренка. Ваня надел красноармейскую гимнастерку, научился бросать гранаты прямо под гусеницы фашистских танков, стал заправским защитником родного города.
Накануне бойцы отпраздновали его день рождения. Открыли последнюю баночку свиной тушенки и согрели в старом котелке чай. А наутро фашистские танки снова пошли на штурм их крепости. Первую атаку они отбили гранатами. Когда фашисты, пополнив поредевшие ряды, опять пошли в бой, лейтенант предупредил, чтобы берегли гранаты: до вечера пополнения не ожидается. Как на грех, у Вани осталась только одна противотанковая. О, он не хотел потратить ее впустую! За гранату не меньше танка. И когда фашисты ринулись на наши позиции, Ваня пополз вперед, навстречу врагу, и с гранатой в руке бросился под головной фашистский танк.
Взрыв на некоторое время скрыл вражеский танк в облаке дыма и пыли. А когда дым рассеялся, все увидели фашистскую громадину, замершую на месте и подставившую свой бок под снаряды наших орудий. Из подбитой машины спешили выбраться гитлеровские вояки. А колонна танков, только что браво шедшая в атаку, медленно повернула назад, пытаясь уйти из зоны противотанкового огня.
…Беседа понравилась и взрослым, и нам, подросткам. Весь вечер только и разговору было что о войне. Хозяйка дома, где мы ночевали со Светой, достала последнее письмо мужа с фронта и читала его нам, украдкой смахивая слезы.
Наутро Света сказала, что следователь будет вызывать нас по одному и снимать допрос. Но получилось, что я сама напросилась к нему на разговор. И виной всему мое любопытство. Захотелось узнать, остался ли жив тот парнишка, что с гранатой на танк пошел. Я подкараулила Скороходова, когда он вечером возвращался в гостиницу. Спросила.
— Ваня, к сожалению, погиб, — ответил он. — А в памяти моей так и остался пятнадцатилетним.
— А девчонка? Та санитарка, замухрышка?
— Девочка жива. Теперь у нее у самой два сына. Два богатыря.
— А о себе вы мало рассказали. Так интересно!
— Милая моя, — сказал Кирилл Петрович, — о себе и о других можно рассказывать бесконечно. Были бы слушатели.
— А вы очень торопитесь?
— Не так чтоб очень…
Мы присели на завалинку. И вот что я узнала еще о Кирилле Петровиче.
В Сталинграде фашистский снайпер чуть не оборвал его жизнь. С тяжелым ранением в голову Кирилла пытались переправить на левый берег Волги. Никто не знал, удалось ли сделать это. В дивизионной газете появилась заметка о подвиге защитников дома и о гибели Кирилла.
Но Кирилл и на этот раз выжил. В самый последний момент один из оставшихся в живых защитников дома перенес его на приставшую к берегу лодку. Кирилла переправили на левый берег, а затем и в госпиталь. Когда в госпитале он пришел в себя, врачи решили, что он воскрес из мертвых. Молодость взяла свое. Кирилл снова возвратился в строй и подоспел к решающим боям на Курской дуге. Он испытал себя в сражении с новейшими немецкими танками — «тиграми». И ничему уже не удивлялся. Знал: человеческая воля крепче любой стальной брони.
Это были чудовищно тяжелые дни. Он мог сравнить их разве что с днями и ночами Сталинградской битвы. Иногда казалось, что они не выдержат. Фашистские танки прорвались через заградительный огонь нашей артиллерии. Устрашающей лавиной они ползли на окопы, уже вышли на ротный укрепленный пункт. Кирилл высунулся из окопа, бросил гранату под гусеницы «тигра». Не попал. Через секунду тяжелая машина уже навалилась на его окоп, стиснула податливую землю, заслонила свет. Но едва танк перевалился через окоп, засыпая его песком, Кирилл усилием воли заставил себя подняться и метнул вторую гранату. Грохот взрыва заглушил рев машины. А когда дым рассеялся, Кирилл увидел мертвенно застывшую громаду танка и выскакивающих из него гитлеровцев. Взметнув автомат, он стал поливать их горячим свинцом. Поразил ли он врагов или нет, разглядывать было некогда. На позиции надвигалась новая лавина танков. Но бойцы уже видели, как расправился с «тигром» Кирилл. Они стали подражать ему.
И все же один из «тигров» засыпал Кирилла в окопе. И когда рота, преследуя отступающую пехоту противника, ушла вперед, он остался лежать бездыханный, придавленный слоем земли.
Его нашла санитарка, которой показалась подозрительной выступавшая из земли каска. Под каской она обнаружила чернявую, обрызганную кровью и измазанную глиной голову и, больно раздирая о твердую землю руки, откопала бойца по плечи, а потом выкопала и всего.
Врачи не решились его транспортировать, и он лежал в хате, занятой полковым медсанбатом. За ним ухаживал мальчишка, единственный оставшийся в живых наследник этой изрешеченной пулями и осколками избы. Мальчишку он и увидел, когда очнулся первый раз и попросил пить. И этот испуганно-сосредоточенный взгляд, и рыжие, нечесаные космы волос, склонившиеся над ним, он запомнил на всю жизнь. И потом, под Варшавой и под Берлином, когда, случалось, ложился отдохнуть и прикрывал веки, все видел эти полные надежды глаза и пахнущие степью ржаные пряди волос.
— Вот, пожалуй, и все, — сказал Кирилл Петрович. — Сколько я вам порассказал! На десяток школьных сочинений хватит.
Он задумался. Вздохнул:
— Мальчишки, девчонки… Что-то разучился я их понимать. Совсем другими они стали.
— Такие же! — горячо вступилась я. — Вон Борис как за работу взялся! Ни себе, ни мне покоя не дает.
— О Боре особый разговор, — заметил Кирилл Петрович. — Его-то как раз очень трудно понять.
— Да не виноват он ни в чем! — горячо вступилась я.
— Это еще надо доказать.
— И виновность надо доказать.
— Конечно. Но прямые улики… Его задержали…
— Что значит, задержали! Он же сам шел.
— Куда? — заинтересовался Скороходов.
— Не знаю, — вымолвила я.
— Вот то-то и оно.
«Все-таки на войне было проще, — подумала я. — Ясно, где друг, а где враг. А тут? Выходит…»
— Скажите, — обратилась я к следователю, — что надо сделать, чтобы спасти Борю?
— Надо, чтобы он сказал правду.
Я замотала головой:
— Это невозможно. Мальчишка, если упрется, ничего из него не выбьешь.
— Но вы же его друзья! Убедите.
— Что вы! Если я об этом заикнусь, он прогонит меня. Я ведь видела, как его с чемоданом задержали. Он очень все это переживает.
— Видели? — заволновался Скороходов. — Видели и молчите?
— Вы же сами сказали: тут все ясно. Прямые улики.
— Ну, знаете!
Пришлось мне рассказать ему все. И о футболе, и о Борином хождении по улицам. И о мальчишках. Мальчишки его страшно заинтересовали.
— Надо их найти! Обязательно. Вы сможете?
Я пожала плечами:
— Не знаю.
— Нет, нет, — настаивал он. — Это ваш долг перед товарищем.
Я сказала, что за Борю готова в огонь и воду, лишь бы помочь ему.
— Значит, договорились, — уточнил Скороходов. — Мальчишек вы найдете и приведете ко мне.
Расстались мы, в общем-то, друзьями. Вечером того же дня узнала, что следователь вызывал Сережу. И Лукич с Сережей ходил. Конечно, Нартик больше всех нас переживал за Бориса. И мне не терпелось узнать, о чем спрашивал его Скороходов. Вызвала Грача в садик. Сели мы на скамейку. Молчим. Он злой, набычившийся. Того и гляди взорвется. Все же сам заговорил:
— Неприятный разговор. Лучше б его не было. Он все нажимал на то, что мы друзья, что я лучше всех Борю знаю.
— Правильно! — не утерпела я.
— Что правильно? — Сережа сердито глянул на меня. — Оказалось, как раз я, да и все мы очень мало друг о друге знаем. Почему он так поступил? Ведь факт! Никуда от него не уйдешь. Я так и сказал Кириллу Петровичу: не нахожу объяснения.
— А дальше что?
— Дальше он о семье его расспрашивал. А я тоже мало знаю. Домой к себе он редко нас приглашал. Сказал я, что отец у него, по-моему, здорово выпивает. Это всегда Борьку удручало. Ты же знаешь, после школы он никогда не спешил домой. Если позовут, охотно пойдет к Оськину и особенно к Тамаре.
— Да, да, — согласилась я. — Он избегал разговора о своих домашних. Изредка упоминал сестренку. И все. О матери, случалось, хорошо отзывался. Но больше как? Мимоходом. Мол, все же пора идти домой, маме надо помочь, измучилась она с нами. А об отце никогда не говорил. Словно и не было его.
Сережа молчал. Я не торопила его.
— Вот когда о школьных делах зашла речь, — припомнил наконец он, — тут я полную характеристику Борису дал. Сказал, что он душа любого начинания. Да вот и здесь, в колхозе. Он уже всем нужен. Без него не могут обойтись. Меня или вон Оськина никто за целый день не хватится, если мы сами не заявим о себе. Хотя я старший. А его только и ищут. Где Боря? Не видали ли Борю? Популярная личность. Даже завидки берут. Конечно, он на подхвате, но все же в центре событий. Я так и заявил. Порекомендовал спросить других ребят. Уверен — то же скажут. Только насчет Светки предупредил: мол, она на Борю сердита. Вывел он ее однажды на чистую воду. За двоедушие.
Все же я осталась недовольна Сережей. Какой-то он вареный. Нет, чтоб биться за товарища до конца. Набросилась я на него.
— Слушай, — говорю. — Что ты, на самом деле! Потолкуй с ним наедине. Пусть скажет все откровенно.
— Да говорил я, — ответил Сережа. — Думаешь, не говорил.
— Ну и что?
— А ничего. Грустный он такой стал. «Не могу, — отвечает, — ничего сказать. Ну, нельзя, понимаешь. Другой человек может пострадать. Понимаешь?»
На другой день меня удивила Света. Явилась домой возбужденная. Мечет гром и молнии. Спрашиваю:
— Что стряслось?
А она:
— Не дам Бориса в обиду, не дам!
Я подзадориваю:
— Ты же его все время ругала.
— Ну и что? — набросилась она на меня. — Ругала. Я и следователю так сказала: «Нет, мол, у меня оснований быть довольной Мухиным. Много он принес мне неприятностей. Заставил горькие слезы лить». А теперь изменила о нем мнение. Ясное дело, обидно и стыдно было, а подумаешь, ведь прав он, и ребята правы, когда меня отчитывали. Спасибо им за науку. Как после дождя, чище я стала, на душе чище.
Я присела на скамью, приготовилась слушать.
— Помнишь то письмо, что в классе обсуждали? — с грустью сказала Света. — Ведь я его писала. Теперь дело прошлое, можно признаться. И правильно на меня набросились тогда ребята. Особенно этот Борька, курносый дьявол. У, глаза б мои на него не глядели! Зла я на него тогда была. Считала: хоть и не говорят, чье письмо, а наверняка на меня думают. По глазам видать, по косым взглядам. Потом мы помирились. Даже друзьями стали. Правда, он ни на йоту от своих принципов не отступил. И настоял, чтоб записали осуждение той, которая такое письмо накатала. То есть мне. Я-то знала. За мещанство. Жуть!
Теперь Светка заявила, что она горой стояла за Борьку. Мировой парень! А что до разных слухов, которые ходят, и тому подобное, то она, Света, этому не верит и верить не собирается. Не такой он человек, Борька, чтобы на что-то недостойное позариться. Да он, знаете, какой идейный! Он за идею голову свернет, за принцип свой. Опять же и в учебе первый. Ее же дуру, Светку, после того комсомольского собрания, кажется, возненавидеть должен за мещанское мышление, так нет, всегда по-доброму относился. И еще. После уроков оставался со слабыми, чтобы им мякину из головы вытряхнуть, а вместо нее формулы вдолбить. Так что, чтоб там ни говорили и какую б напраслину на него ни возводили, она вовек ничему такому не поверит.
Я попыталась представить себе, как Скороходов разговаривал со Светкой. Ведь она никому слова не дает сказать. Не проходит и минуты, как оказывается, что не ты ей задаешь вопросы, а она тебе. Я спросила об этом у Светки.
— Правда, правда, — затараторила она. — Я ему слова вымолвить не давала. Он — фразу, я — десять. Наверное, подумал: вот взбалмошная девчонка. Ничего. Зато на Борьку нападать меньше будет. Я его мнение в лучшую сторону повернула.
Светка уморила бы меня своей болтовней. Но я догадалась: накинула пальтишко и вышла на улицу. Сказала, что Сережу хочу повидать. Иначе она за мной бы увязалась.
Когда вышла за калитку, и правда мне очень захотелось встретиться с Сережей. Стала ходить мимо их дома. Думаю, увидит, выбежит. Но вместо Сережи выбежал Оськин. Ему тоже дома не сиделось. Хотелось с кем-нибудь переброситься словечком. Оськин умный и догадливый. Сразу же сказал, что Сережа уехал в город. Вернется только завтра. А он, Оськин, вышел немного мозги проветрить. Но я поняла, зачем он выбежал. Все мы в те дни думали лишь об одном — о Боре. И Оськин тут же перевел на него разговор. Он будто продолжал свой диалог со следователем. Ворчал, что понапрасну люди время тратят и лучше бы занялись Ванькой Косолапым, который живет у них во дворе и промышляет невесть чем, а больше всего довольствуется нечестными доходами.
Я прервала поток его красноречия:
— Погоди, Оськин. Что ж ты мне это рассказываешь? Ты бы Скороходову все сказал.
Он остановился, глаза на меня выпучил:
— Я и сказал! А как же. Всю правду-матку выложил. Он ко мне: откуда Ваньку знаешь? А я: его каждая собака во дворе знает. Он никому прохода не дает, а с нами, пацанами, всегда за панибрата. Меня следователь спрашивает: «А ты бывал у него, у Ваньки?» — «Сколько раз, — отвечаю. — С ним ведь просто. Заходи, садись. Никаких формальностей. Что хочешь, то и делай. Мне это попервоначалу нравилось. Хошь, лежи в потолок плюй, хошь, табак кури. Кисет тут же рядом лежит. И никто тебе ни слова супротив не скажет. Не то что дома: это нельзя, а это не положено. Сиди, как зверь в клетке, и двинуться не моги, а то еще грязными ботинками, не дай бог, на ковре наследишь. А у Ваньки — свобода. К нему ребята льнут».
Скороходов в свою сторону разговор клонит. «И Боря Мухин у него бывал?» — спрашивает. А мне скрывать нечего. «Как же, — говорю. — Бывал. Нас, дурошлепов, от него выкидывал. Придет, разгонит да еще Ваньке Косолапому милицией пригрозит. Только это мало помогало». — Оськин будто уже не со следователем, а со мной толкует, жалуется. — Скучно во дворе. Болтаются, болтаются мальчишки, и, глядишь — кого-нибудь опять к Ваньке Косолапому потянуло. Он тут же у подъезда сидит, побасенки рассказывает. Меня Косолапый совсем было заарканил. Пристал: выручи, говорит, будь другом. Сосед на курорт уехал, а я у него в квартире серебряный портсигар оставил да еще кой-какие вещички. Квартира на замке. Сосед невесть когда приедет, а вещички до зарезу нужны. Помоги. И всего-то вечерком в форточку нырнуть.
Я по дурости своей согласился. Чего, думаю, мне стоит. Тем более, он ко мне всей душой. Все было на мази. Косолапый гоголем ходил, улыбался в прокуренные усы. Друзьям своим, собутыльникам, хвастал: дверь закрыта с парадного подъезда, а мы с тыла все вещички уведем. А я по глупости и не соображал что к чему.
И не разговаривать бы мне с тобой сейчас честь по чести, если бы не Борька Мухин, который еще в ту пору отличался тем, что беспрестанно совал свой нос туда, куда его и не просят. Я одно время подозревал, что Ольга Федоровна его на меня натравливала. Все может быть.
Оськин приметил у забора бревна сложенные. Предложил:
— Присядем. А то в ногах правды нет.
Сели мы. Я уж загорелась, хочется знать, что дальше было.
— Что дальше? — отвечает Оськин. — Привязался Борька ко мне в тот субботний вечер: поедем да поедем в какой-то особый туристический поход. И рыбалка там, и уха у костра. А меня за главного кашевара агитирует. Не утерпел я, потому кашеварить люблю. Думаю, вещички в квартире полежат одну ночь, их не убудет, тем более, квартира на замке. Ну и поехал. А ночью, на привале, все честь по чести Борьке Мухину и рассказал. Расположил он меня чем-то. Или уху, мной сваренную, похвалил, или еще что, только никому я раньше про свои дела ни слова не проронил, а тут как на духу все поведал.
Взбеленился Борька страшно, когда узнал про все мои похождения. Ругал меня последними словами: и балбесом, и псом шелудивым. В общем, слово взял: чтоб к Ваньке Косолапому больше ни ногой. Как отрезало. Я согласился, но с него тоже клятву взял: никому о нашем разговоре не сообщать, словно его и не было. На этих условиях и союз заключили.
К Ваньке Косолапому я больше не пошел. Все. Отучил меня Борька. Правда, Косолапый в покое меня не оставил. Все пугал да стращал. А раз затащил в подвал и угрозой хотел на свою сторону повернуть. Устоял я, не сдался. Слово, данное Борьке, помнил.
— Ну и как же? — поторопила я.
— А никак, — ответил Оськин. — На этом все и кончилось. А я к тому говорю, что зря на Борьку напраслина такая возводится. Он скорее на грабителя бросится или хулигана остановит, чем на нечестный поступок решится. Я век ему благодарен буду, что от Косолапого отучил. Только теперь понял: засосало бы меня в трясину, не выбраться.
— Ты бы следователю это сказал, — опять упрекнула я.
Оськин обиделся. Поджал губы. Встал с бревен. Медленно побрел по тропке. Я за ним.
— Чудачка, — заговорил, наконец, он. — А я тебе о чем толкую? Все, как тебе, так и ему рассказал. Да еще постращал: Борьку, мол, в обиду не дам. Зубами за него драться буду.
Долго мы бродили за околицей села в тот вечер. Увидел бы кто из наших, наверняка на другой день на классной доске крупно вывели б мелом: «Олег + Нина = любовь». Но никто нас не видел. Уже темнело. Над деревьями небо стало синим-синим. А с низины от реки сильно повеяло прохладой. Потом взошла луна. Залила все бледным, матовым светом. И мы с Оськиным оказались будто в другом мире. Где все игрушечное: избы, деревья, тракторы на машинном дворе. Только люди — настоящие.
Наговорившись, мы шли молча. Оськин впереди. Я сзади. Старалась наступить на его бледную тень.
Вдруг из переулка вышел Мухин. Хорошо еще, что я по голосу заранее узнала его, и мы с Оськиным отпрянули к забору. Боря шел с Першиным. И опять они говорили о завершении ремонта техники.
— Ребята помогут, — горячо убеждал Боря. — У нас мастера есть. В прошлом году в школе модель управляемого по радио трактора соорудили.
Першин не спорил.
— Посмотрим, посмотрим, — соглашался он.
Они прошли совсем близко от нас. Оськин ругнулся вслед:
— Фу ты, черт. Мы гуляем, а он все о деле, все о деле…
У МУХИНЫХ
Зря мы с Оськиным думали, что у Борьки нервы железные, что ему все нипочем. Недавно взглянула на него: осунулся, побледнел. Переживает. Подозвал меня, попросил:
— Ты в город едешь. Передай матери записку. Чтоб не беспокоилась. Я тут еще задержусь.
Я, конечно, пообещала, что обязательно зайду, передам все, как положено. А про себя подумала: о Тамаре — ни слова. Но я все равно ее повидаю. И упрекну: что это такое, забросила парня в самый тяжелый момент. Разве так друзья поступают?
На следующий же день, едва приехав в город, побежала к Мухиным. Открыла мне Борина мама, Анна Прокофьевна.
— А, Нина, — сказала она. — Проходи. — Сказала нерешительно, будто остерегалась чего.
Я сразу поняла, что у нее посторонние, и она не знает, можно ли меня пустить, не помешаю ли я. И точно: из комнаты вышел Кирилл Петрович. Он тоже сказал: «А, Нина!» — и тоже пригласил проходить. Пояснил:
— Разговор у нас житейский. Втроем даже легче беседу поддерживать. Ты же со свежими новостями. Кстати, как там Боря?
Я поморщилась. Не понравилось мне, что Кирилл Петрович опередил и меня, и Анну Прокофьевну — о Боре раньше спросил. Но сдержалась, сказала:
— Боря ничего. Все хорошо. Письмо вот прислал. И приветы всем передавал.
Анна Прокофьевна взяла письмо. Мы все трое прошли в комнату. Сели у круглого, накрытого цветной скатертью стола. Я подала ножницы. Анна Прокофьевна отрезала бочок конверта, вынула письмо, начала торопливо читать. Я смотрела на ее лицо и видела, как око меняется. Щеки вдруг зарумянились. Глаза, доселе тусклые, погасшие, засветились добрым огоньком. Она отложила в сторону письмо и заговорила робко, тихо, словно рассуждая сама с собой:
— Слава богу, жив, здоров. А уж я беспокоилась. Тамара, правда, позванивала, приветы передавала. А письмо получить приятнее. Спасибо тебе, касаточка, — повернулась она ко мне.
Помолчала, потом обратилась уже к Кириллу Петровичу, словно продолжая начатый разговор:
— Надежда моя, Боренька-то. Опора в старости. И нежный такой, внимательный. Я только еще подумаю, а он уже предлагает: мамочка, давай я тебе помогу. К труду сызмальства привычный. И по дому что, и в школе. Он ведь на общественных этих работах завсегда допоздна пропадает. Доля у него нелегкая выдалась. Детства, можно сказать, и не видел. Мой-то изрядно зашибает. Придет, буянит. Меня с малыми ребятами за дверь выставит. А он, Боря-то, сестренку на ручонки и — к соседям. Там иной раз и заночует. Я уж во дворе время коротаю, пока одумается. К соседям стыдно мне идти. Отец у нас, когда протрезвеет, хороший, ласковый. Придет, извиняется. А потом, гляди, все сначала.
Она опять помолчала, собираясь с мыслями, думала, видно, как перейти к самому главному. Кончиком фартука смахнула со щеки светлую, прозрачную слезинку.
— Слыхала я, будто напраслину какую-то на Борю моего возвели. Так вы не верьте. Не способен он ни на что дурное. Дома я, конечно, все прячу от мужа. А Борису доверяю. Всегда ему известно, где у меня получка лежит. Он без спросу никогда ничего не возьмет. Каждую копейку сберегает. Да ведь и знает он, как эта копейка мне достается.
Опять поднесла уголок, фартука к глазам. Посмотрела на меня, застеснялась.
— Ниночка, — попросила, — сбегай в кухню. На стуле кофточка шерстяная висит. Принеси. Зябко мне что-то.
Анна Прокофьевна накинула на плечи принесенную мною кофточку. А я увидела сбоку медаль и уставилась, глаз не спускаю. Медаль новая, лучистая. Как звезда горит. Кирилл Петрович тоже посмотрел на нее.
— Не подумайте, что специально надела, похвастать, — перехватила его взгляд Анна Прокофьевна. — Правда, зазнобило меня. А медаль мне в военкомате выдали. Вспомнили все-таки. Не забыли.
— На фронте вы кем были? — спросил Кирилл Петрович.
— Санитаркой в роте. Семнадцати лет пошла. Девушкой еще. Страшно. А перед парнями робость свою показать еще пуще боялась. Всегда в самое пекло лезла. Там, на фронте, и с мужем познакомилась. Да как познакомилась: вытащила его, искромсанного осколками, из ада кромешного. Фашисты тогда потеснили нас, а он на «ничейной» земле остался. Не нашей роты был. Из разведбатальона. Тяжеленный. Думала, не дотащу. Пуще всего этого боялась. Самое два раза, пока с ним ползла, ранило. Враг минами, не переставая, долбил. Лежу с ним, с раненым, в какой-нибудь воронке и плачу от страха и от бессилия. Ан, думаю, не вытащу. А как доползла к своим, подхватили меня бойцы за руки, на ноги поставили, — заулыбалась. У меня всегда так было. Тащу, надрываюсь — плачу, а вытащу — смеюсь, радуюсь. Так и с этим. В нашем дивизионном медсанбате лежал. Все навещать бегала. Потом переписывались. А уж после войны опять встретились, поженились.
Анна Прокофьевна замолчала. А я смотрела на ее морщинистое лицо, в ее уставшие, но еще умеющие загораться живым огоньком глаза и думала: «Она или не она?» Мне вспомнилось, как Скороходов в колхозе рассказывал про санитарку, которая его с поля боя вытащила. И полезли в голову разные мысли. И, пожалуй, не одной мне. Потому что Кирилл Петрович тоже на нее очень внимательно смотрел. Вглядывался. Потом спросил:
— Вы на каком фронте сражались?
— На 3-м Украинском.
Они разговаривали, а я сидела и никак не могла вспомнить, на каком же фронте находился Скороходов, когда его спасла девчонка-санитарка. Наконец припомнила: на 1-м Белорусском. И успокоилась. Не она.
Скороходов поднялся со стула, пожал Анне Прокофьевне руку:
— Спасибо вам от всех фронтовиков за ваши подвиги.
— Ну, что вы! — отстранилась она. — Какие подвиги! Долг свой несли, кто как мог. — Спросила, смущаясь: — А вы тоже фронт прошли? По годам-то похоже. — И, не дождавшись ответа, начала о другом, о том, что больше всего наболело: — Вы не подумайте чего плохого. Я ведь счастливая. Что тружусь, что силы есть для этого, — счастливая. Ребятишками своими счастливая. Славные они у меня. Что сын, что дочка. Вы заходите. Поближе познакомитесь, сами полюбите их. Сын у меня смекалистый. — Она опять начала хвалить Борю. — Вот посмотрите. На кухне подставочки для посуды, в коридоре — полочки под книги. Это все он сам мастерил. А дочка вышиванием увлеклась. Подушечки, коврики. Берет себе шерстяной связала.
Мы вышли в коридор. Кирилл Петрович посмотрел ребячьи поделки. А спросил о другом:
— Вы что ж награды не носите? Наверное, есть они у вас.
— А как же, — отозвалась она, — есть. Как не быть! Только на кухне у плиты мне с ними вроде несподручно. Опять же на работе… Уборщица я. И тут они ни к чему. А на праздники мы редко куда ходим. Мой как закатится, хорошо если к понедельнику очухается. Некогда их, награды-то, носить. Лежат вот в коробочке. Иногда вспомнишь фронтовые годы, поглядишь, поплачешь. Сколько я с поля боя бойцов вынесла, а сколько там осталось!
Она вдруг заторопилась, засобиралась:
— Вы уж извините. Мне на завод пора.
Я хотела уйти, но Кирилл Петрович остановил меня:
— Погоди, Нина. Вместе выйдем. Покажешь мне двор. Ты ведь в этом доме живешь?
— Напротив.
— Все равно. Все знаешь.
Мы вышли во двор. На лавочках бабки-пенсионерки судили-рядили, каждому прохожему давали характеристику. Мужики за столиками стучали костяшками домино.
Двор был уютный, ухоженный, приятно посидеть. Большие круглые клумбы чернели свежей, только что перекопанной землей. Дальний уголок двора недавно занимала волейбольная площадка. Сохранились две ее стороны, обнесенные железной сеткой. Четверо пожилых мужчин, вооружившись ломами, выворачивали из земли добротно заделанные столбы. Как бы соревнуясь с ними, женщины яростно вгоняли лопаты в жесткую, притоптанную ребячьими ногами землю.
Мне стало больно. Сколько мы, мальчишки и девчонки, потрудились, сооружая эту площадку! И вот теперь все гибло. Я отвернулась.
— Что это они площадку копают? — спросил Кирилл Петрович сидевшую на скамейке бабку, показавшуюся ему самой осведомленной в дворовых делах.
— Копают? — переспросила та. — А оттого и копают, что один беспорядок от нее. Шум, гвалт всегда. Спокою нет. К тому же мальчишки озорничают. Вон, гляди, вчера окно высадили. Через это окно наше терпение и кончилось. Домовый комитет решил площадку засадить пионами. Чтоб, значит, земля даром не пропадала. А заодно и окна целее будут.
— Цветов, кажется, у вас хватает, — заметил Кирилл Петрович.
Бабка подозрительно посмотрела на него:
— А ты, мил человек, откелева будешь? Чево тебе за охота наши цветы считать? Цветы, они никому еще не мешали. И от них хулиганства нет. Я вчера лекцию слушала, так говорят, цветы дают это самое… эвстетическое воспитание. А нам его как раз и не хватает. А если по-нашему, по-простому сказать, цветок глаз ласкает и хорошему учит.
— Так-то оно так, — согласился Кирилл Петрович. — Только чем же подростки у вас во дворе займутся?
— А этим самым подрастающим во дворе делать нечего, — отрезала бабка. — Им уроки учить надо, а не баклуши бить и не мяч пинать. Уж сколько жалоб от мамаш на эту площадку несчастную было! Отвлекает от уроков. Сидит какой ни на есть Коля, ему задачку решать, а он в окошко поглядывает. Манит его эта самая площадка. Да еще какой-нибудь обормот в это время во двор выбежит да свистнет, созывая своих бесенят, — тут уж этого Коленьку за учебником никакой веревкой не удержишь. А потом учителя из школы ходят, жалуются: домашние задания ученики не выполняют. Нет уж, — решительно заявила она. — Вскопаем эту площадку, так хоть соблазна не будет. Пусть цветы растут, воспитывают.
Кирилл Петрович повернулся ко мне:
— Давайте выслушаем другую сторону. Как ты, Нина, смотришь?
Мне не хотелось связываться с бабкой. Я ж ее знала. Потом от нее проходу не будет. И я промолчала.
— А что ей смотреть? — ответила за меня бабка. — Им слово не дадено. Малы еще смотреть-то.
Скороходов спросил меня, знаю ли я Мухина-старшего. Я кивнула: «Конечно».
— Покажешь.
Он присел на скамейку рядом с бабкой. Ждать пришлось долго. Менялись мужчины за столиками, менялись бабки на скамье. Я сбегала домой пообедать, а он все сидел, все ждал.
Прошел вихляющей походкой небрежно одетый мужчина.
— Ванька Косолапый, — проворчала очередная соседка Кирилла Петровича. — Не берет его лихоманка.
— А что ж домовый комитет не приструнил его? — вставил Скороходов.
— Не дело это домового комитета, — отпарировала бабка. — На то милиция есть. Чего она смотрит?
Держась за стенку, появился пожилой, но крепкий еще мужчина.
— Вот он, Мухин, явился, — прокомментировала все та же бабка. — Под мухой.
Разговор с Мухиным не получился. Узнав, что интересуются его сыном Борисом, он начал шуметь, стучал кулаком по скамейке, грозил:
— Что он еще натворил? Не потерплю, прибью. Мало я их учил. Это все жена, распустила, разнежила. А их надо в руках держать, не позволять.
Скороходов пытался объяснить, что его интересуют отношения отца с сыном и, в частности, влияние отца на сына.
— Отношения! — гремел Мухин. — Я им покажу отношения. Выгоню к чертям собачьим. Голодом заморю. У меня — порядок. Я… не гляди, что я… У меня…
Кирилл Петрович оставил для Мухина повестку с приглашением явиться в следственный отдел. Попрощался со мной и ушел.
НА ЗАВОДЕ
Весь наш микрорайон тесно связан с заводом. Что на заводе произойдет, почти в каждой семье откликнется. И наоборот. Частенько семейные события на заводские влияют. Забежала я к Светке. А она:
— Слыхала? Следователь-то наш, Кирилл Петрович, на заводе был. И такой трам-тарарам устроил! Из-за Мухина-старшего. Требовал, чтоб меры приняли, и тому подобное. Это мне отец рассказывал. Он там где-то близко возле парткома.
Я приготовилась слушать. Знаю: Светка не успокоится, пока все, что знает, не выпалит. А она вдруг перескочила на другое:
— Слушай! Еще одна новость. Борька на заводе был. Просился, чтоб взяли в цех. Тоже от отца узнала. Напустился на меня: что, мол, у вас творится? Мальчишка еще школу не окончил, а бежит на завод. У него, видите ли, неприятность получилась, так он хочет из класса улизнуть, чтоб не отвечать перед товарищами.
Кажется, впервые Светка искренне возмущалась.
— Понимаешь, — твердила она, — как они все перевернули! Я с батькой поругалась. Из-за Борьки. А секретарь парткома ихний Борьку прогнал. Нам, говорит, недоучки не нужны. Ты представляешь?..
Я, конечно, представляла. Но и удивлялась. Отчего Светка всегда будто начинена новостями? Только собралась поподробнее расспросить о Борисе, а она уже на другое перескочила. Вот уж верно говорят: переходный возраст. Так и переходит с пятого на десятое.
— Нинка! А ведь я на днях Кирилла Петровича видела.
Ох ты, господи. И выдает, как государственную тайну. И я ж его видела. Что из того? А она свое:
— Понимаешь, идет по бульвару, грустный такой. Меня, понятно, не заметил. Ну и ладно. Я не к тому. На бульваре теснота. Мальчишки и девчонки бегают в легких костюмчиках. Где мяч пинают, где в классики играют. И не пройдешь. А пацан один, лет тринадцати, поставил мяч прямо на тротуар и гонит его перед собой, ногой подталкивает. Не рассчитал. Ударил посильнее. Кирилл Петрович едва успел руками лицо закрыть от подскочившего мяча.
«Что ж это ты?» — упрекнул он паренька.
«Извините, нечаянно».
«Нашел место, где играть».
А мальчишка в ответ:
«Нам места не отводятся. Где выберем».
«В милицию его. Ишь взяли волю!» — это уже возмутилась тетка с авоськой.
А Кирилл Петрович, представляешь, махнул рукой и пошел дальше.
Я ждала, какую еще новость выдаст Светка. Но она уже иссякла и начала повторяться:
— Представляешь, Нинка, все-таки нам, девчонкам, легче. Скакалочки да классики. Места немного надо. А мальчишкам куда с мячами да шайбами податься? Ух! Только стекла в окнах звенят.
Светка раззадорилась. Но и я набралась терпения. Должна же она когда-нибудь остановиться! Нет, трещит:
— Послушай, Нинка, как завидую я другим ребятам! Из других школ. Читаешь в газетах: всякие у них там «Каравеллы», «Авроры», «Звездочки», дворовые клубы. А у нас? Была одна волейбольная площадка и ту проворонили.
Правильно, все правильно говорит Света. А толку? Мне важнее было узнать, о чем говорил Скороходов на заводе. И поможет это Боре или, наоборот, повредит. Поэтому я сказала Свете, что спешу.
— Мне еще с Сережей надо повидаться.
Света подмигнула и сказала:
— Иди. От меня привет передавай.
Сережа у меня теперь как палочка-выручалочка. Чуть что, на него ссылаюсь. Света тут же отступается. А он, бедняжка, об этом и не знает.
Дома я пристала к отцу: зачем Скороходов на завод приходил да о чем говорил. Сначала он от меня отмахивался. Пришлось рассказать про Бориса. Отец поругал меня (а за что?), но смилостивился. Они как раз на заседание парткома собирались, когда Кирилл Петрович пришел. Так что разговор этот многие слышали. Скороходов сказал, что он по поводу подростков. И ему кажется, что завод, заводской коллектив обязан влиять на них больше, значительнее.
— Не смею возражать, — отпарировал секретарь парткома. — Но обязанностей у нас хватает. Целый день только и слышишь: обязан да должен. Никак не пойму, когда мы так сильно задолжали.
— Я, собственно, по конкретному делу, — не стал обострять отношений Скороходов. — Работает у вас на заводе Мухин. Мне попало дело его сына-подростка. Кто-нибудь у вас интересовался этой семьей?
Секретарь парткома попросил сесть, пододвинул к себе папку с бумагами. Начал не торопясь:
— С семьями мы систематически работаем. По плану. И на собрания приглашаем. Торжественные там и другие. На массовки выезжаем за город. Всегда с семьями. Конечно, всех охватить не удается. Народ живет разбросанно. По всему городу. А есть даже и загородники. Тут нам трудно.
— А вот Мухин пьет, — жестко сказал Скороходов. — И, думаю, дурно влияет на сына.
— Пьет? — переспросил секретарь парткома. — Мухин? Пьет? Что-то не замечалось. Конечно, завод большой, народу много, может, и просмотрели.
Комната наполнялась народом. Скороходов понял, что пришел не вовремя.
— Собственно, это не мое дело, — сказал он. — Я только выясняю обстоятельства, связанные с порученным мне расследованием. Но все же нельзя ли как-то повлиять на Мухина? По-моему, просто распустился человек. И губит семью. Отличную семью.
Я не выдержала, вскочила с дивана.
— Что-нибудь не так? — забеспокоился отец.
— Да все так, все так, — волнуясь, сказала я. — Правильно Скороходов говорит. Я недавно была у Мухиных. Письмо от Бори заносила. Все так!
— Вот ты была у Мухиных, — сказал отец, — а секретарь нашего парткома ни разу не был. И из нас, коммунистов, никого не послал. И пришлось ему вилять: дескать, стараемся, влияем, а сдвигов пока мало.
Секретаря больше волновала трудовая дисциплина, план. Очень нужное и важное дело для каждой рабочей семьи, для всего народа. Так что упрекнуть его не в чем. Но Скороходов думал о своем и спросил без всякой видимой связи с предыдущим:
— Скажите, на фронте вы бывали?
— На фронте? — переспросил секретарь и усмехнулся: — Нет, тогда я еще под стол пешком ходил.
— А ведь Мухин фронтовик. Всю войну прошел. От Волги до Шпрее.
— Иные, я вам скажу, под эту фронтовую дружбу и пьют. «Вспомним, браток, как бывало…» И пошло, и поехало.
— Ну, это кощунственно.
— Но именно так бывает. От жизни не уйдешь.
— Есть же у вас фронтовики! — вскипел Скороходов. — Куда они смотрят? Ведь гибнет их фронтовой товарищ! Не от пули гибнет, от водки. От пули они грудью друг друга защищали. А тут?
— Есть фронтовики, — в раздумье сказал секретарь. — Но ведь пуля-то она враз разила. Цок — и наповал. А тут не видать, гибнет он или так качается. Я фронтовиков не виню. Они народ крепкий. Но ведь и свои заботы есть.
Такой у них шел разговор.
— Мне ваш Скороходов понравился, — сказал отец. — Видать, не привык сдаваться без боя. Ему захотелось встретиться со своими боевыми побратимами, поговорить с ними с глазу на глаз.
«Послушайте, — предложил он. — Я понимаю, что вам не до исследований. Но все-таки. Попробуем собрать бывших фронтовиков хотя бы в одном цехе. Я хочу из их уст услышать, неужели они бросят своего боевого товарища, не вынесут его на своих спинах на нашу сторону? Такой разговор и вам полезен будет».
Секретарь поморщился, полистал календарь, выбирая более или менее свободный день, и согласился.
— Только, пожалуйста, поменьше патетики, — попросил он.
— Я им просто скажу, — все еще волновался Скороходов. — Если они махнули рукой на Мухина-отца, то пусть подумают о будущем сына.
Секретарь не стал спорить. Они условились о встрече.
Больше отец и сам ничего не знал. Я же поняла: за Бориса Скороходов пока не заступился. Не просил взять его на завод. Что же, обвиняет он его или защищает?
ИДУ В ГОСТИ
Странно: то Сережку гнала от себя, а теперь ищу встречи с ним. Одно оправдание, что нужен он мне по делу. Хочу, чтобы помог задание Кирилла Петровича выполнить: мальчишек-футболистов найти.
С утра звоню ему по телефону. Все нет и нет. Не вернулся из колхоза. Наконец сам взял трубку. Говорю:
— Выйди на минутку.
В ответ.
— Не могу.
Я обиделась, хотела бросить трубку, но сдержалась, попросила:
— Выйди, поговорить надо.
Он ни в какую.
— Не могу, — говорит. — Только приехал, еще с родителями как следует не виделся.
И тут трубку у него из рук отбирают. Мне слышно: возня идет. И голос совсем другой:
— Послушай, девушка, звать как тебя?
— Нина, — отвечаю.
— Так вот, Нина, я тебе вполне сочувствую. До зарезу тебе с Сережей поговорить надо. Но и ты нам посочувствуй: неделю его не видели. Новостей накопилось. И нельзя сказать, что все дюже пригожие. Есть о чем потолковать. Понимаешь?
— Понимаю, — шепчу, а сама ни жива ни мертва.
— А если понимаешь, тогда у меня к тебе встречное предложение: заходи к нам. Тут вволю и
наговоритесь. Зайдешь?
— Зайду.
Сказала я это, а как трубку положила, испугалась. На попятную готова. А уж нельзя: слово дала. Долго в подъезде толкалась. Но все же пошла. Встретили меня ласково.
— А, Звягинцева дочка!
Это сказал Сережин папа — Назар Павлович. Он меня, конечно, хорошо знал. Не раз к моему отцу заходил.
— Что ж ты, — продолжал Назар Павлович, — по телефону бренчишь, а в гости не идешь? Проходи, проходи. Чайком побалуемся. И все ваши каверзные вопросы постараемся решить. У меня вот как раз с сыном спор вышел. Интересно, чью сторону ты возьмешь. — Усмехнулся: — Ну, ясно, Сережкину.
Мы сидели в кухне, пили чай с вишневым вареньем и разговаривали. С Назаром Павловичем я встречалась редко. Но у меня такое чувство, словно всю жизнь его знала. Так с ним было легко. Через минуту исчезли все мои волнения и тревоги. Говорит он просто, откровенно, по-рабочему. С нами советуется. А все-таки его слово весомее. Почему? Я и сейчас объяснить не могу. А слушать его приятно.
— Вот рассуди ты нас, Нина, с сыном, — говорит Назар Павлович, прихлебывая чай из блюдца. — Ругал я его сейчас. За скрытность. Ходит, дружит вроде с Борисом Мухиным, водой не разольешь, а мне ни гу-гу.
Сережа спешит оправдаться:
— Не пойму я, что произошло с Борей. Вот и молчу. Про себя переживаю. Что-то у нас не ладится. Он ходит как сыч надутый. Бывает вроде ничего, отойдет, а скажешь что не по нему, фыркнет — и в сторону. Потом целый день бычится.
— Да я не о том, — остановил его отец. — Это своим чередом. А вот насчет батьки его что ж ты молчал? Говорят, зашибает батька, над детьми издевается. А я слухом не слыхивал.
Сережа наконец понял, к чему клонит отец. Про старшего Мухина, конечно, он знал. И я знала. Жалели мы Бориса. Старались отвлечь, чем могли. А говорить? Как об этом скажешь? Не ребячье дело.
А Назар Павлович опять ко мне обращается:
— Изрядно сын меня подвел. Послушай-ка и ты, Нина. Вызывает сегодня секретарь парткома. Так и так, говорит, ты там по соседству с Мухиным живешь, всего несколько кварталов вас отделяют, на одном заводе работаете. А как он себя в семье ведет, знаешь?
Я туда-сюда, не знаю, признаюсь. Да как, защищаюсь, мне и знать, когда Мухин за оврагом живет? Хоть и несколько кварталов, а ходить мне через овраг несподручно. А он мне спокойно так отвечает: и другого ты не знаешь, что сын твой, Серега, с Мухиным Борькой друзья-приятели. Тут я его споймал: вот, говорю, это как раз досконально знаю. А он меня прямо к стенке припирает: коль это знаешь, то почему не ведаешь, что Мухин частенько домой пьяный является и над детьми с женой издевается?
Назар Павлович отхлебнул теперь уже прямо из чашки, поморщился, поднявшись, выплеснул холодные остатки в раковину и налил себе горячего чая.
— Вот, друзья мои, — продолжал он, — какая штука вышла.
Я помалкиваю. А Сережа совсем пригорюнился. Совестно ли ему, что при мне такой доверительный разговор идет, или просто обида взяла, что отца подвел, только сидит он, голову опустил, грустный. Еле сдерживается. Назар Павлович это заметил.
— Ты, Серега, не кручинься, — успокаивает. — Я больше для себя говорю. Себя ругаю. Ведь еще не все. На этом позор твоего батьки не кончился.
Назар Павлович хватил из чашки, обжегся и закашлялся.
— Ишь, сатана ее задери, невпопад у меня получается. Потому — волнуюсь. — Он посмотрел на меня, на сына. — Рассказывать, что ль, до конца?
— Рассказывай, — согласился Сережа.
Назар Павлович сердито махнул рукой:
— Ладно, хоть перед вами исповедуюсь.
Вечером секретарь парткома собрал людей. Приглядываюсь, понять не могу, что за народ. Вроде не партком, не завком. Вовсе беспартийные есть. Все мужики пожилые. И у каждого медаль на груди — за двадцатипятилетие Победы. Недавно вручали. Все носят. Тут я сообразил: участников войны пригласили, огнем крещенных.
Секретарь парткома сразу это объяснил. И такую речь закатил! Не по писаному, от души. Вот, говорит, если у вас боец ранен, а противник наседает, вы что, этого бойца бросите?
«Как можно, Андрей Архипович! — все в один голос. — Ты что нас обижаешь?»
«А как же тогда, — он в ответ, — вы Мухина бросили, своего фронтового товарища? Он с пути сбился, можно сказать, на той стороне остается».
Ну, постепенно все разъяснилось. Гудел народ, как пчелы в потревоженном улье. Разные мнения высказывались. И что пусть сам думает, что с ним возиться, каждый должен за себя отвечать.
Там еще один товарищ присутствовал, не наш, не заводской, видно, сверху. Он так нас отчитал за это «пусть каждый за себя отвечает», аж в жар бросило. Про фронт тоже вспомнил. Там, мол, друг на дружку не кивали; один за всех, все за одного — этим побеждали. А у вас, говорит, таких, как Мухин, на весь завод с десяток если найдется, не больше. Вы что, с ними справиться не можете?
Когда Назар Павлович про товарища «сверху» упомянул, я сразу поняла, что это Кирилл Петрович был у них на заводе. Но перебивать его не стала. А Назар Павлович заметил мое смущение.
— Может, неинтересно? — спрашивает. — Я не в обиде. Знаю: каждому свое.
— Нет, нет, — встрепенулся Сережа. — Рассказывай. Я давно хотел Боре помочь. Да не знал как.
— Круто в парткоме поговорили, — продолжал Назар Павлович. — Промеж себя, думал я, пообсудим и разойдемся. На том кончится. Раньше так бывало. Ан нет. Секретарь и тот, что «сверху», к одному ведут: давайте, дескать, конкретное решение. Выделили нас — чрезвычайную пятерку. Чтоб за Мухина взяться и спуску ему не давать. И я в ту пятерку попал.
Назар Павлович залпом выпил остывший чай, поставил на блюдце чашку.
— Вот так! — глянул он на нас. — Теперь я лицо ответственное. А в школе у вас порядок?
— Какой порядок! — отмахнулся Сережа. — Разбился класс на группки. Кто за Бориса, кто против. И на Тамару косые взгляды бросают.
— Тамара-то при чем? — удивился Назар Павлович.
— С нее все началось. Если б не переезд на новую квартиру…
— Сорняк найдет где прорасти.
— Боря не сорняк, — обиделся Сережа.
— Ладно, не серчай, — мягко сказал ему отец. — Разберутся. Если не виноват — оправдают, виноват — накажут.
— А нам в стороне стоять? — совсем уж вспылил Сережа.
Вообще я заметила, что он злой стал. Чуть что — в бутылку лезет. Назар Павлович правильно его охладил.
— Да не бычись ты! — сказал он. — В стороне и мы, заводские, не намерены стоять. Коль так, знай, что разговор у нас в парткоме не закончился на Мухине, а перекинулся на вас, подростков. И вышло, что мы вас в самый ответственный, решающий момент без внимания оставляем. Вот посмотри, посчитай, как мы считали. С пеленок, значит, ясли, потом детский сад. После пионеры и всякие там отряды. А вот дальше. От пионеров вроде уже отстал, к комсомолу еще не пристал. И получается тут парень или девчушка один на один с самим собой. И с улицей. А по улице хорошие люди быстро пробегают, плохие же там надолго задерживаются. Улица, голубь мой, как мы ни толковали, выходит, работает пока против нас. И двор, примыкающий к улице, частенько тоже не в нашу пользу баланс дает. Прав я или не прав?
— В общем-то прав, — пожал плечами Сережа.
— А ты, дивчина, как думаешь? — не забыл про меня Назар Павлович.
— Двор у нас пенсионеры оккупировали, — бухнула я.
— Во-во! — упрекнул Назар Павлович. — Она уже военными терминами заговорила.
— Нина права, — пришел мне на выручку Сережа. — ЖЭК не дает мяча бросить. Того и гляди цветок повредишь. А его какая-нибудь бабка под колпаком выращивала. Он уникальный. Сломаешь ненароком — в милицию поведут. У нас во дворе разговор с мальчишками короткий.
Отец удивленно посмотрел на сына:
— Вот как ты заговорил! На старших с таким гневом.
— Ты же просил откровенно.
Прасковья Никитична — Сережина мама — до сих пор в разговор не вмешивалась. А тут не выдержала, упрекнула мужа:
— И чего завелся? Измучил ребят. Пригласил в гости, а потчуешь чем? Заводскими побасенками?
Назар Павлович поднялся из-за стола.
— Ты, как всегда, права, мать, — сказал он. — Идите, ребята. У вас свои дела. Да, забыл сказать. Заводская комсомолия спорторганизатора в наш двор выделяет. Смотрите. От вас многое будет зависеть. Ждем перемен.
И вот мы остались одни. Уселись на диване и уставились друг на друга. Молчим. Говорить будто и не о чем.
— Строгий у тебя отец, — первой начала я.
— Нет. Он хороший, — отозвался Сережа. — Сегодня, правда, разволновался. Ему тоже нелегко.
Тут я вспомнила, зачем шла к Сереже. Заторопилась, чтоб опять не забыть.
— Грач, послушай, я ведь к тебе по делу.
Он улыбнулся. Понравилось, видно, что я старое его прозвище вспомнила.
— А ко мне и так можно. Я не гордый.
— Нет, правда. Не веришь? Помоги мне ребят отыскать. Одна я не справлюсь. Это задание Кирилла Петровича.
— Каких ребят? — не понял Сережа.
Ох, мамочка! Он же ничего не знает. Пришлось рассказать, как я увидала Борю, как он судил матч дворовой команды. Одним словом, все, все. И добавить, что Кирилл Петрович во что бы то ни стало велел найти мальчишек. Сказал: «Это очень важно».
Сережа не пришел в восторг от моей просьбы. Начал увиливать:
— Где ж я их найду? Уравнение со всеми неизвестными.
— Ну, как хочешь, — я не стала упрашивать. — Обойдусь без тебя. Думала, если ты Борису друг…
— Да я не против, — тут же согласился Сережа. — Только давай вместе. Я ведь не знаю даже, где их искать.
— Конечно, вместе, — подтвердила я.
Мне показалось, что он обрадовался. Стал прикидывать, с чего начать поиски. Договорились встретиться в ближайшее воскресенье.
Сережа повеселел. Мне бы собраться да уйти, а я вздумала задать ему еще один вопрос.
— Сережа, — спросила я. — Вы ведь вместе были с Борей в тот день.
— В какой день? — помрачнел он.
По-моему, он отлично понял, в какой. Спросил, чтоб оттянуть время.
— Когда Тамара переезжала.
— Ну и что?
— Неужели ты не помнишь, как все получилось?
К моему удивлению, он встретил этот вопрос спокойно.
— Не помню, — сказал. — Сначала я испугался: вдруг на меня подумают. Срамота же. А потом… Как груз с плеч. И апатия. Ни до чего нет дела.
— Эгоист ты.
Мы чуть было не поссорились. В последний момент меня отвлекли рыбки в круглом аквариуме, стоявшем на высокой подставке.
— Ой какая прелесть! Я и не заметила.
Сережа вызвался рассказать повадки каждой из рыбок. Он долго объяснял мне, какие из них живородящие, а какие готовят гнезда для детенышей. Было интересно. Из кухни до нас время от времени долетали голоса. Там спорили Назар Павлович с Прасковьей Никитичной. Я иногда прислушивалась.
— Твоя правда, виноват, — отбивался Назар Павлович. — Понимаю, что завод еще мало сделал для наших ребят.
— Отцы и в школу редко заходят, — твердила свое Прасковья Никитична. — На родительском собрании одни женщины.
И опять голос Назара Павловича:
— А я о чем толкую? На заводе мы дрожим за каждый грамм металла. И правильно, что дрожим, экономим. А сбился с пути парнишка — все проходим мимо. Пусть отец с матерью отвечают. А уберечь парня от ржавчины, вырастить твердым в убеждениях — не общее ли дело. Ведь все они наши сыновья. Шутка ли сказать: сыновья Москвы!
Мне понравилось, как сказал Назар Павлович, и я выглянула в коридор.
— Уже уходишь? — спросил Сережа. В голосе его мне послышалось сожаление.
— Да, пора.
Пока я одевалась в коридоре, к Нартиковым заглянул еще один гость — старый рабочий Петр Прохорович Моисеев. Я знала: он уже на пенсии, а все не бросает цех. Должность ему специальную придумали: инструктор по прогрессивным методам труда.
— Э-э! — увидел нас с Сережей Петр Прохорович. — Молодежь слетается.
— Наоборот, улетаем, — уточнила я.
А у Назара Павловича в тот день, верно, одна думка была.
— Послушай, Петр Прохорович, — обратился он к старому другу. — У тебя ведь пять сыновей, пять сорванцов росло. Как ты с ними управлялся?
— А никак, — ответил старик. — Никак. Росли себе, и все. Мы с матерью трудимся, и они с детства к труду льнули. Я их не оговаривал. Боже упаси! Это сейчас иные бабки как барчуков своих внучат от всего оберегают. А я не говорил: «Не тронь, ты еще мал, тебе еще не под силу». Хочешь — помогай. Хоть щепку тащи, хоть гайку завинчивай. По дому они у меня всегда сами справлялись: утюг починить, пробки сменить, водопроводный кран исправить. Тут моей заботы не было. Зато все в мастеровые потянулись. Гляди-ко: обскакали отца, а от завода никуда не ушли. Говорят, сыновья да дочки образованные пошли, куда им наша черная работа. Ан, все институты пооканчивали, а каждому место на заводе нашлось. Про меньшого я сильно сомневался: математик, на счетных машинах цифирь считает. Думал: все, этот уплывет в какую-нибудь отвлеченную науку. Так нет же: наука на завод пришла, и он теперь тут же этими счетными машинами заведует.
Я попрощалась с Назаром Павловичем и Прасковьей Никитичной. Поблагодарила за чай, за варенье. А Сережку оттащила в сторонку.
— Ты теперь у меня в долгу, — шепнула на ухо. — У нас ведь ни разу не был. Приходи. Посмотришь, как я живу.
А он старое вспомнил:
— Ты же меня терпеть не можешь.
Вот ведь зловредный. Что с ним было делать?
— У-у, злюка! — сказала я. Шлепнула ласково его ладонью по щеке и выскочила за дверь.
В ПОИСКАХ ВЫХОДА
А Борька не показывается. Не хочет видеть никого из старых друзей. Чудак. Вернувшись из колхоза, когда подготовительная работа к летней практике была закончена, Боря дважды беседовал со Скороходовым. Чем закончился их разговор, не знаю, но Боре, кажется, не стало легче.
Решила его найти. Три дня после уроков бродила по улицам нашего микрорайона. Нет нигде. Но я упрямая. Куда, думаю, он мог деться: в одном городе живем, по одним тротуарам ходим. Встретила его неожиданно. Смотрю: впереди маячит знакомая фигура. Еле догнала. Кричу:
— Боря!
Услышал, остановился. А я подбежала и слова вымолвить не могу. Все подходящие, заранее продуманные слова из головы выскочили.
— Боря, — говорю наконец, — ты не думай, что мы к тебе плохо относимся. Мы, наоборот, хотим понять тебя. И без тебя очень плохо.
— Что ты, Нина, — отвечает он. — Я ничего такого не думаю. И какое я имею право так думать? Просто я уже отстал от класса.
— Боря, — говорю я. — Мы все тебе хотим помочь.
А он смотрит смущенно в сторону и отвечает:
— Спасибо, Нина. Ты очень хороший друг. И в классе у вас (он так и сказал: «У вас», — и меня это больно резануло по сердцу) много хороших товарищей. Я вас часто вспоминаю. Только никакой помощи мне не надо. У меня все налаживается. Вот на завод собираюсь поступить.
— Не поступил еще?
— Собираюсь.
Выходит, все правильно, разговоры-то эти: не вернется он в класс. Так мне жалко его стало, что я (откуда смелости набралась!) приподнялась на цыпочки и чмокнула его в щеку:
— Боря, милый, возвращайся в класс!
Он вздрогнул весь, но сдержался.
— Не могу, — говорит. — Не от меня это зависит. — И заторопился: — Прости, я спешу. Встречу назначил с одним человеком.
И ушел. А я долго стояла и смотрела ему вслед. Сил не было с места сдвинуться. Мне показалось, что во все время нашего разговора он о чем-то другом думал, будто спорил сам с собой. И взгляд такой тревожный, виноватый. Нет, слукавил он, когда сказал, что все у него налаживается! Плохо ему, очень плохо. А я ничем не могла ему помочь. Правда, нам с Сережей после долгих поисков удалось разыскать рыжего паренька, капитана дворовой команды. И тот обещал привести в школу всех своих друзей-футболистов. Сказал, что у них к Боре свои претензии есть. Какие еще претензии?
Думала: поговорю с Борей, и полегчает на душе. А стало еще тревожнее. Не раз я порывалась зайти к Боре на квартиру, поговорить с его мамой — Анной Прокофьевной, разузнать все поподробнее. Обрадовалась, когда встретила Анну Прокофьевну в коридоре школы. Зачем-то приходила она. Я не стала расспрашивать. Вышли из школы вместе. Разговор, конечно, о Боре. Что он, и как у него?
— Вроде бы он не изменился, — говорит Анна Прокофьевна. — И ласковый такой же, и предупредительный. Посерьезней разве стал, поугрюмей. Так и раньше ведь мы трудно жили. Со мной он делится, все рассказывает. Кроме самого главного. Никак не добьюсь, что там произошло с ним у Беловых. Уж я просила и молила его. «Пожалей, — говорю, — хоть ты меня. Меня и Катю, сестренку». «Мама, — отвечает. — Потерпи. Все тебе скажу. Лет через десять. А сейчас нельзя». — Она вздохнула.
— Честный он у вас, — сказала я.
— Чего?
— Честный, говорю, он у вас. Врать не станет. Значит, в самом деле сказать не может.
— Да. И страдает через это.
От Анны Прокофьевны я узнала, что в доме у них большие перемены. Муж ее, Борин отец, от выпивок стал воздерживаться.
— Недавно пришел трезвый. Борис на кухне ужинал. Кивнул отцу головой. Но молчит. А тот ходит из кухни в комнату и обратно, делает вид, что занят чем-то. Ходит, покрякивает. Только и слышно: «Кхе, кхе».
Потом все же не утерпел, подошел, сел напротив сына.
«Как же нам быть-то, сынок?»
Борис молчит. Отвернулся. Больно ему смотреть в заискивающие, виноватые глаза отца.
«Мне ж объяснить надо, — толкует ему отец. — На заводе спрашивают, что с сыном? Меня винят. Я, понятно, виноват. Недосмотрел. За собой недосмотрел».
Борис резко поднялся, но сказал просто, без нажима:
«Ты тут ни при чем, папа».
И все. И ушел. Предупредил только:
«Можно, я завтра на завод вместе с тобой пойду?»
«Конечно, конечно», — закивал головой отец.
Анна Прокофьевна радовалась, что Борю приняли на завод. Все же к делу парень льнет.
— Сначала его ни в какую не хотели брать, — рассказывала она. — Пришел домой расстроенный, только что разве не плачет. А через недельку другой коленкор пошел. Прибежал, сияет, как медный котелок. Оказалось, старый мастер за него заступился. Моисеев Петр Прохорович. Может, слыхала? Случился он в парткоме, когда Боря туда вторично явился. И сразу взял сторону парня. «Не на улицу же его гнать, Архипыч! — это он секретарю парткома. — Ты что, сам не бывал в переплетах? Видать ведь, парнишка в затруднении. Ищет, куда податься. И пришел к нам. Радоваться надо. Не к чужим людям пошел, а к своим, к рабочим. Пиши его без разговоров ко мне в ученики. Беру на полную ответственность. Ни ты, ни он не пожалеете. Верь моему твердому слову».
Петра Прохоровича я знала. Встречалась с ним у Нартиковых. Сказала об этом Анне Прокофьевне. Вместе мы порадовались за Борю. Хорошего он приобрел учителя и защитника.
И еще одна новость: Тамара подружилась с Анной Прокофьевной. На какой, думаете, основе? Узнала, что Анна Прокофьевна на фронте была санинструктором. Это ей Боря сказал. А вернее, она у него все выспросила. И теперь Тамара часто заходит к Мухиным.
Я давно не говорила с Тамарой. В школе не до разговоров: перекинешься двумя словами, и все. А вечером… Вечером она вон где, оказывается, пропадает. Поговорить им есть о чем. Тамара ж медициной увлекается. Она-то, наверное, знает все о Борисе, знает, чем ему помочь. И я решила встретиться с Тамарой.
ОШИБКИ И ВЫВОДЫ
В школе ходят слухи о педсовете, на котором ругали нашу классную руководительницу Ольгу Федоровну. А ругать-то ее не за что. Ни в чем она не виновата. Спросили бы у нас, мы бы сказали. Я даже удивляюсь, откуда у нее силы берутся. Все свободное время отдает нам. И не по обязанности, а с душой. Ходит с нами в туристические походы, организовала коллектив художественной самодеятельности, да такой, что на смотре первое место заняли. Потом появилась идея создать школьный музей, собрать материалы о воспитанниках школы, ушедших на фронт. И опять она заставила нас первыми ринуться в бой. Писала письма, завязывала связи, приглашала фронтовиков в школу. Теперь уже экспонаты музея едва умещаются в двух обширных комнатах.
Ученики в классе разные. Есть шаловливые и спокойные. Борю мы все считали спокойным, уравновешенным. Больше класс беспокоили Оськин, Света, неистощимый на выдумки Саша Вычегнов. С этими повозились. Никогда не забуду, как Сашка принес в класс мышонка. И выпустил на уроке. Девчонки визжали — на улице слышно. Директор прибежал. Выручила всех Тома: схватила мышонка за хвост и выбросила в форточку. Сашкиных родителей в школу вызывали. А он вскоре лягушку в портфеле притащил. И еще оправдывался: мол, на уроке биологии изучать хотел. И ведь способный парнишка. А все же неприятность пришла совсем с другой стороны, с какой и не ожидали.
Говорят, что на педсовете Ольгу Федоровну упрекали в незнании детской психологии. Дескать, увлекается общими формами работы с детьми, слабо изучает индивидуальные особенности ребят. Ольга Федоровна защищалась, как могла. Но ее доводы как бы повисали в воздухе, не воспринимались присутствующими. Да разве все, что она делала, весь ее труд мог пропасть только потому, что с одним ее учеником случилось несчастье? Да, да, конечно, несчастье, она в этом уверена. Боря был ее лучшим учеником, ее первым помощником. И едва она произнесла эти слова, как опять посыпались упреки:
— Лучший, а подвел всю школу.
— Носимся с этими лучшими, как с писаной торбой. Построже с ними надо.
Только Федор Лукич молчал. Сосредоточенно слушал и молчал. Нервно барабанил пальцами о переплет какой-то книжки. Когда его попросили высказаться, ответил:
— Я еще не составил своего мнения. Одно могу сказать: Ольга Федоровна работала самозабвенно, как и подобает педагогу, и класс у нее отличный во всех отношениях. Я с ее ребятами только что провел неделю в колхозе. Все вели себя безупречно, в том числе и Борис.
Когда после педсовета они вышли из душной комнаты в коридор, Ольга Федоровна с благодарностью пожала старому учителю руку.
— Благодарю вас, — сказала она прерывающимся от волнения голосом. — Вы один поддержали едва тлеющую во мне надежду.
— Я сказал то, что думаю, — сухо ответил Федор Лукич.
После всего того, что произошло на педсовете, я еще больше полюбила и Ольгу Федоровну, и Федора Лукича. Хотя в тот же день наша классная руководительница доставила мне кучу неприятностей. Еще неделю назад она задала нам сочинение на тему: «С кого бы ты хотел брать пример в жизни?» А теперь раздавала. Чистая пятерка досталась Клаве. Вот примерно о чем она писала:
«Прошлым летом я ездила с папой в деревню, на его родину. Мы жили на квартире у колхозного механизатора Федора Афанасьевича Кротова. Его все очень уважают. Чуть свет, он уже на ногах. Папа спросит: «Куда же вы так рано уходите?» «Э, милый, — ответит, — наша рабочая смекалка везде нужна. Сейчас трактористы в поле поедут, надо каждую машину осмотреть, каждую выслушать, не шалит ли где, не болит ли что? Ведь я при машинах заместо доктора. А если точнее говорить, то настоящий доктор и есть».
Очень он отзывчивый человек. Никому помочь не откажется. Дверь в избу их, кажется, никогда и не закрывается. То и дело идут к нему люди. Одному совет нужен, у другого дело не ладится, за выручкой пришел. Жена его иной раз не выдержит, скажет: «Чего вы льнете к нему, как пчелы на мед. Аль других мастеров в деревне нет?» А он только улыбнется: «Не кручинься, мать, не обижай гостей. В этом счастье надо видеть, коль ты людям нужен».
Отец его на Путиловском заводе работал. По призыву партии, еще когда колхозов не было, уехал в деревню. Да так и остался. И свою рабочую закалку передал сыну. Так мне папа потом объяснял. И я с ним согласна.
Вот с такого человека, как Федор Афанасьевич Кротов, я хотела бы брать пример в жизни».
Что ж, сочинение хорошее. Я не спорю. А чем у меня хуже? Я писала о летчиках. Фамилий, правда, не назвала. Ольга Федоровна поставила мне три с минусом. Сказала, что я затеоретизировала тему. А Стасик Перепелкин что сделал? Сочинение у него получилось гладкое, и придраться вроде не к чему. А все же зачем он в конце съязвил. Поставил «P. S.» и добавил: «Если бы меня спросили, с кого я не хочу брать пример в жизни, я бы ответил: с Борьки Мухина. Таким не место в школе. Опозорил весь класс». Ольга Федоровна зачеркнула красной линией постскриптум и поставила Стасику пять с минусом. А я не согласна. Ему стоило двойку за этот постскриптум закатить.
В тот день состоялось у нас классное собрание. Ольге Федоровне давно хотелось его провести. Но староста отсутствовал. Класс будоражило, возникали споры, высказывались не всегда верные предположения и суждения. Все это мешало нормальной учебе, и Ольга Федоровна решила поговорить с нами.
— Надо правильно отнестись к случившемуся, — сказала она, когда удалось установить тишину в классе. — Нашего товарища обвиняют в неблаговидном поступке. Но обвинение — еще не доказательство вины. По-моему, надо внимательно во всем разобраться и помочь Боре защитить себя.
— Чего защищать? Он сознался! — это крикнул Перепелкин.
Ольга Федоровна снова постаралась восстановить тишину.
— Стасик, — обратилась она к Перепелкину. — Ты хочешь что-то сказать? Пожалуйста.
Перепелкин заговорил задористо, с обидой в голосе:
— Мы должны решительно от него отмежеваться. Сначала я не знал всего и дал положительную характеристику Мухину. Но, оказывается, он сам сознался. В какое же положение он меня поставил? Выходит, я врал, когда положительно о нем отзывался? Он подвел не только меня, он подвел весь класс, который всегда был о нем хорошего мнения. Я тоже был о нем хорошего мнения. Но я ошибался. Теперь, когда мне известно все, что натворил Мухин, я меняю свою точку зрения и выражаю свое возмущение. К этому призываю и всех остальных.
Перепелкин с независимым видом сел на место, а в классе поднялся такой тарарам, что Ольга Федоровна в течение нескольких минут стучала указкой по столу, пытаясь успокоить ребят. Наконец у нее устала рука, и она прибегла к своему испытанному средству: села на стул и, уставившись глазами в одну точку, стала ждать. Первыми заметили это девчонки и начали махать руками на ребят, призывая их к порядку. Вскоре все замолчали, успокоились, и опять установилась тишина.
Ольга Федоровна поднялась со стула, взяла в руки указку и, постучав ею для верности по столу, предоставила слово Сереже Нартикову.
Я видела, что Сережа очень волновался. Это чувствовалось и по резким движениям рук, и по тому, как, торопясь, он глотал слова.
— Я совершенно не согласен с Перепелкиным, — заявил он. — Это просто предательство. Сначала говорить о товарище одно, а потом вдруг из каких-то чисто личных соображений менять свое мнение. По-моему, Борис как был, так и остался честным парнем. Что-то с ним случилось непонятное. Но беда может прийти к каждому из нас.
— Какая же беда! Он — вор! — это опять крикнул Перепелкин.
Ольга Федоровна вынуждена была вновь пустить в ход свою указку.
— Перепелкин, — предупредила она, — если ты будешь мешать товарищам выступать, я вынуждена буду попросить тебя из класса.
— Не имеете права. Это собрание, — пробурчал Перепелкин, но успокоился.
Сережа окинул взглядом класс и, почувствовав поддержку, продолжал:
— Если Боря от нас ушел (вот тут впервые многие из нас узнали, что Мухин решил покинуть школу), то это вовсе не значит, что его надо бросить на произвол судьбы. Я лично, например, не верю в те обвинения, которые ему предъявляют. Хотя Перепелкин и заявил тут, что, дескать, Боря сам сознался. А я все равно не верю! Но если даже это правда, то что-то же толкнуло его на такой странный поступок. Может, он попал под чье-то влияние. Наш долг ему помочь.
— Между прочим, ты за него больше всех отвечаешь! — снова в третий уже раз крикнул Перепелкин. — И не вмешивай других. Он не мой друг, а твой. Надо, между прочим, уметь выбирать друзей.
Ольга Федоровна ударила указкой по столу и сама испугалась: не сломалась ли?
— Перепелкин, выйди из класса!
Перепелкин, конечно, не ушел. Но Ольгу Федоровну обрадовало уже и то, что никто, ни один человек не поддержал его. Все горой стояли за Борю, не хаяли его. Молчала только Тамара. Ольга Федоровна ее понимала и ни о чем не спрашивала. Ведь из ее семьи исходило это чудовищное обвинение.
Наверное, Ольгу Федоровну поругали за это собрание, потому что мы не сделали никаких выводов. Просто все, как один (кроме Перепелкина, правда), поднялись на защиту своего товарища. И даже те, кого Боря не однажды ругал и за лень, и за шпаргалки, кого критиковал в стенгазете, и кто, казалось бы, должен затаить на него неприязнь. Может быть, Ольга Федоровна поступила непедагогично, но, я видела, ее обрадовало это единодушие. Никто, конечно, не одобрял самого поступка. Но большинство считало, что Мухин не мог его совершить, если только какие-то особые, неизвестные нам обстоятельства не толкнули его на это.
Я потом долго думала об этом собрании. Временами, особенно когда была зла на Бориса, мне казалось, что Перепелкин в чем-то прав. Осудить! Заклеймить! Отвернуться! И дело с концом. Но успокоившись, я всякий раз решала, что в этом-то и состоит предательство. Ведь вина еще не доказана!
В этот день, как всегда, после уроков я поджидала Ольгу Федоровну, чтобы вместе пойти домой. Какой-то шум в коридоре привлек мое внимание. Оказалось, в школу заглянул профессор, что проводил у нас зимой математическую олимпиаду. Теперь он шумно разговаривал со своими воспитанниками.
Ольга Федоровна, усталая, раздосадованная, шла в учительскую, лавируя между группками учеников, когда профессор догнал и остановил ее.
— Послушайте, — сказал он. — Где я могу найти Бориса Мухина? Мне только что напомнили, что он в вашем классе, то есть в группе, которую вы ведете, как классный руководитель.
Ольга Федоровна ответила, что Боря уже несколько дней не посещает школу и вообще он уходит из класса, поступает работать, кажется, на завод.
— Как на завод? Почему уходит? — разволновался профессор. — Послушайте, я это так не оставлю. Это преступное отношение к отбору талантливой молодежи. Мы ищем таланты, мы хотим дать стимул для их полного созревания. А вы? Что делаете вы? Вы разбрасываетесь способными учениками. Вы их не цените. Нет, я этого так не оставлю. Я найду его. На заводе, под заводом, у черта на куличках. У него же отличные способности! Математический склад ума. Нет, вы мне еще за это ответите.
Сославшись на занятость, Ольга Федоровна ушла. А профессор долго еще шумел в коридоре, забегал к директору, грозил и обещал устроить неприятность. Оказывается, он договорился о специальной встрече с проявляющими способность к математике ребятами. И вот, приехав, обнаружил, что самого любимого ученика нет, того, на кого он возлагал особые надежды и прочил в будущем в победители олимпиады. Было от чего разгневаться!
Все-таки я дождалась Ольгу Федоровну, и мы вышли из школы вместе. Мы не говорили об уроках, об отметках. Так уж повелось: после школы — на посторонние темы. И все же Ольга Федоровна не удержалась и посетовала, что классу будет недоставать Бори. С его неиссякаемой активностью, готовностью прийти на помощь товарищу, умением повести за собой ребят. Видно, она об этом все время думала.
Мы свернули за угол, чтобы вместе пройти последние сто метров и разойтись по своим домам. И тут из переулка навстречу нам вышел Мухин. Он шел торопливо, видимо боясь, как бы не появился еще кто-либо из учеников и не помешал ему.
— Здравствуйте, Ольга Федоровна, — сказал он, приближаясь. — А я вас поджидал.
— Вижу, — ответила Ольга Федоровна. — Что же ты без портфеля?
Она ждала и боялась его ответа. Знала, что Боря уже не вернется в класс, и все же надеялась, что, может быть, он переменит свое решение. Но Мухин отнял у нее и эту последнюю надежду.
— Я ведь ухожу из школы, Ольга Федоровна, — ответил он. — Разве вам не сказали? Вот пришел проститься с вами. Со школой я простился еще вчера. Зашел поздно вечером, когда она уже опустела, и упросил тетю Машу, сторожиху, пустить меня на полчасика.
— Куда же ты теперь?
— На завод. Там, где отец работает, в тот же цех. Но это временно. Потом обещают работу по специальности.
Ольга Федоровна грустно усмехнулась:
— Чудак… Какая же у тебя специальность?
Боря даже обиделся на этот ее вопрос.
— Не верите? — упрекнул он. — Математику я не брошу. Буду учиться в вечерней школе. А потом в институт. Заочно. Думаю, именно так. Без отрыва от производства. А на заводе меня в ученики по ремонту счетно-вычислительных машин обещают перевести. Новая рабочая специальность. С математическим уклоном.
Ольга Федоровна вспомнила о визите профессора. Сказала об этом Боре.
— Жаль, конечно, — ответил он. — Но так получилось. В жизни, говорят, никогда нельзя вперед загадывать. У профессора мне бы по душе было.
— Он обещал найти тебя, — попыталась успокоить его Ольга Федоровна. — Вернуть.
— Куда уж теперь! — с грустью произнес Боря. — Вопрос решен. Еще не знаю, чем дело кончится.
Мы сделали вместе еще несколько шагов.
— Ребята о тебе очень тепло говорили, — сказала Ольга Федоровна. — Защищали.
— Спасибо им. И вам спасибо. Никогда вас не забуду, — Боря стал торопливо прощаться.
— Может, зайдешь в школу? — спросила Ольга Федоровна, пожимая протянутую руку.
— Пока нет. Трудно встречаться. Как я ребятам в глаза посмотрю?
— Мы так и не поняли, что же все-таки произошло? — попыталась вызвать его на откровение Ольга Федоровна.
— Не будем об этом, — попросил Боря. — Я сам еще толком не разобрался. Ребятам привет передайте. Скажите, чтоб за меня не волновались. Я выдержу. И их не подведу. Ни за что!
Попрощавшись, мы все трое разошлись в разные стороны. Я шла медленно, стараясь успокоиться. У перекрестка остановилась. Увидела Борю. Он шел по улице, низко опустив голову. На повороте оглянулся, помахал рукой и скрылся в переулке.
ПЕРЕМЕНЫ ВО ДВОРЕ
У Сережи новость. Во двор их большущего дома приходил представитель с завода. Спортивный организатор. Пришел он веселый, а ушел грустный. Не удивительно. У нас в микрорайоне многие на спорте неудачи потерпели.
Я увидела его издали. Он шел, размахивая туго набитым портфелем и насвистывая песенку про вратаря. Я еще подумала: вот счастливый человек, легко у него на душе.
Нам было по пути, и я прошла за ним в просторный двор Клавиного дома. Мне интересно было, к кому же он пришел, и я остановилась посмотреть. А он пересек площадку двора вдоль и поперек размашистым шагом, словно измеряя длину и ширину. Потом покрутился на середке, прочитал надписи на фанерках: «По газонам не ходить!» «Цветы не рвать! За нарушение штраф 10 рублей».
На скамейке, как всегда, сидели пенсионеры. Они тихо и мирно о чем-то беседовали. Парень подошел к скамейке, присел на свободное место. Портфель поставил рядом на землю. Был он коренаст, широк в плечах. Густая прядь льняных волос выбивалась из-под кепки.
Заметив на балконе Клаву Семенцову, я крикнула, чтоб спускалась вниз. (Мы условились во дворе встретиться.) А он все сидел, поглядывая по сторонам. Кругом одни старики. Словно уехала куда вся молодежь. Мальчишек совсем нет во дворе. Парень начал нервничать. Вскочил, взял портфель, пересек двор теперь уже по диагонали. Опять сел на скамейку, небрежно бросил портфель.
— Вы к кому же будете? — обратилась к нему старушка — Светки Пажитновой бабушка, что на скамейке сидела. — Мы ведь тут всех знаем.
— С завода я, — сердито буркнул парень. И встал, представился: — Ойвегов Степан Львович. Прикреплен к вашему двору.
— Гляди-ко ты, — удивилась бабушка. — И про нас вспомнили. Это что же, вроде дружинника будешь?
— Вроде.
— За порядком, выходит, следить, — не унималась бабуся. — Хулиганов уму-разуму учить. Да у нас сейчас поспокойнее стало. Никто не бегает, не прыгает. Это раньше страсть господняя была: так мимо тебя мальчишки с мячами и шныряли. Того и гляди с ног собьют. А теперь тишь да благодать. Я уж и то соседке своей говорю: как в раю, Марфуша, житье нам настало. Спасибо домкому, позаботился. Старикам, говорят, почет. Вот и правильно.
Парень отвернулся, потом опять схватил портфель, закружил по двору. Не выдержал, сел на ту же скамейку.
— А что, бабуся, — спросил, — мальчишек у вас не видно? Мор, что ли, на них напал?
— Мальчишек? — с готовностью отозвалась старушка. — Как не быть мальчишкам! Есть. Только их со двора потеснили, и они в овраг подались. У нас тут за железной дорогой овраг большущий, — пояснила она. — Раньше мусор туда сваливали, а теперь так, запустение. Ну, все сорванцы там и гуртуются. Там свободнее.
Парень подбросил на руке портфель. Скуластое лицо его приняло унылое, скорбное выражение.
— Что же я у вас тут делать буду? — не выдержал он. — Со скуки помрешь.
— Ничего, — успокоила его Светкина бабушка. — Раз тебе такое поручение дадено — за порядком следить, исполняй его. Вот погоди, потемнеет, мальчишки твои изо всех углов вылезать зачнут. С ними ж сладу нет. Одно слово: хулиганье. И газон помять могут, и нарцисс сорвать.
— Да мне ждать некогда! — возмутился парень. — Я заочно в институте учусь. Заданий пропасть. Мне б с мальчишками поговорить, и домой.
— А-а! — протянула бабка. — Я думала, ты поручение свое справно справлять будешь. Вот ведь молодежь пошла: все кой-как, для виду, как у меня внучка Светка говорит. Да вот и она, легка на помине. Света, Светочка! — крикнула бабка. — Будь добра, сбегай в овраг, покличь кого-нибудь из ребят. Вот товарищу с ними повидаться хочется.
Тотчас же на шестом этаже с треском распахнулось окно, и сердитый, грудной голос предупредил:
— Светка! Я тебе что наказывала? В овраг не смей ходить. Там одно хулиганье собирается. Бабка совсем уж из ума выжила. Посылает тоже девчонку!
Бабка сверкнула на окно глазами:
— Сноха. Лютая женщина. Вот ведь один раз хотела я угодить хорошему человеку, и то помешали. Ты уж, мил друг, сам пройдись до оврага. Тут рядышком. И не сумлевайся. Увидишь сорванцов, что носятся, как угорелые, все в поту, — точно с нашего двора.
Степан подхватил портфель, нехотя побрел, ориентируясь по стуку рельсов от проходящего поезда. На его счастье, из подъезда выскочил Сережа Нартиков с кошелкой в руке.
— Послушай, друг, — остановил его Степан, — куда тут у вас мальчишки подевались? Говорят, в овраге каком-то.
— А, это рядом, — отозвался Сережа. — А вы кто будете? Не следователь?
— Да нет, — поморщился Степан. — С завода я. Понимаешь, выделил нас комсомол для работы с подростками. Троим достался вот этот двор. Ну, дружки говорят: сходи, Степан, познакомься. У меня как раз сегодня свободный вечер.
— Очень приятно. Давайте знакомиться: Сережа. Я с этого двора. За хлебом мать послала. Но ничего, я вас провожу.
Я подошла поближе. Обрадовалась, что Сережу увидела. Очень он мне нужен был.
— Сережка! — крикнула. — Погоди. Я с тобой. Клава подождет.
Мы прошли по железнодорожной насыпи, спустились в овраг. Никто здесь не бегал и мяча, как предполагала бабка, не гонял. Притулившись у забора, скучали три паренька. У самой насыпи группа мальчишек играла в карты. Их обступили ребята поменьше. С интересом заглядывают в круг. Глазенки блестят. Азарт. Еще группка сидит на бревне. Украдкой курят, пряча папиросы в ладонях и со смаком сплевывая в сторону.
Степан подошел именно к этой группе. Расстегнул ремни у портфеля, достал две ракетки, а затем высыпал на землю и все его содержимое. Под горку покатились теннисные мячики, а на земле остались лежать еще две искусно сделанные складные ракетки. Ребята заинтересовались, подошли поближе.
— Ладно сделано.
— Соображал кто-то.
Ойвегову похвала пришлась по душе. Он предложил:
— Ну что, ребята, может, сыграем?
Огонек в глазах пареньков потух. По одному, незаметно отходили они в сторону.
— Где играть-то? Ни одной ровной площадки нет.
— Раньше мы с мячом сюда приходили. Да что толку: пинай не пинай, он все в одно место скатывается.
— Нам уж домой скоро, еще уроки не учены.
Степан с мольбой смотрел на уплывающие в разные стороны спины.
— Ребята, чего же вы? Ведь это я для вас принес. Сам делал. После смены оставался.
Ответил только один:
— В другой раз как-нибудь.
Вдоль железнодорожного полотна парами прогуливались девчонки. Из нашего же двора. Степан, обескураженный такой встречей, повернулся было ко мне, потом махнул рукой, сказал Сереже:
— Странный у вас народ. В теннис играть не хотят. Это ж мировая игра.
— Злые они, — ответил Сережа. — Этой весной у нас во дворе волейбольную площадку домкомовцы перекопали. Цветами засадили. Говорят, эстетики больше, красоты. А это воспитывает. Я ребят этих знаю, из нашей школы. Все заядлые волейболисты. Скучают. Не найдут, куда себя деть.
Степан, наклонившись, складывал мячи в портфель.
— Я пойду, что ли, — сказал Сережа. — Назад дорогу найдете?
— Погоди, — остановил его Степан. — Вместе пойдем. Мне с тобой потолковать надо.
Когда проходили мимо старушек, сидящих на скамейке, Степан так тряхнул портфелем, что один мяч вылетел и покатился по асфальту.
— Эй, молодой человек, — крикнула знакомая уже ему Светкина бабушка. — Чтой-то, кажись, потерял. Подбери. А то наши сорванцы вмиг уведут.
Степан наклонился, поднял мячик и сунул в карман куртки. Заторопился, чтобы скорее пересечь двор. Ему стало не по себе.
Остановившись у ворот, Степан спросил Сережу, как же они так сдали без боя все свои позиции и отступили аж за железную дорогу.
— Был бой, — угрюмо ответил Сережа. — Две недели. Они днем столбы выкопают, а мы ночью опять закопаем. Так потом милицию привели. Кому ж хочется связываться? Вот и отступили.
— Да, — задумался Степан. — Робкие у вас ребята. С такими каши не сваришь.
— Не очень-то уж и робкие, — не согласился Сережа. — Недавно двое незнакомых парней, не с нашего двора, привязались к девочке, сумку вырывают, денег требуют. Так наши заступились. Не посмотрели на то, что те сильнее и нахальнее. А в другой раз наши же ребята помогли хулигана задержать.
Степан ушел со двора расстроенный. Песенку не насвистывал и портфелем не махал. Сразу серьезным стал человеком.
Меня спорт мало волновал. Отчаялась уже. Остановив Сережку, стала его тормошить, спрашивать, когда пойдем мальчишек-футболистов искать.
— Знаешь что? — сказал он. — Давай завтра. Здесь во дворе и встретимся.
Первый раз в жизни он меня подвел. На другой день я не могла его найти нигде: ни во дворе, ни дома (телефон, наверное, оборвала).
А он с ребятами укрылся на пустыре. И виной всему этот спортивный организатор — Ойвегов Степан. Его, видать, пристыдили в комитете комсомола: не сумел, мол, найти подход к ребятам, сразу же спасовал. В общем, что-то в этом роде.
Посоветовали:
— Сорганизуй ребят. Пусть привыкают к самостоятельности.
А он, естественно, к Сергею. За помощью. Разыскал его телефон. Попросил подобрать тройку-четверку ребят — временный штаб, что ли.
Когда я появилась на пустыре, штаб уже заседал. Сережка сразу поднялся, подбежал ко мне. Извини, мол, обстоятельства изменились. «Я звонил тебе, но никто не ответил». И тут же сообщает, что включил меня в созданный штабом организационный комитет.
Я хотела обидеться и уйти. Но из любопытства осталась. Вскоре появился Ойвегов. Заставил ребят притащить скамейку, поставил посреди пустыря. Пошутил:
— Здесь разместится наш штаб, призванный возглавить работу среди подростков. Помещение временное, пока не отвоюем настоящее.
Подобранный Сережей оргкомитет он утвердил. И объявил о рождении дворового клуба юных космонавтов. Тут же по предложению Светки клубу дали звучное имя: «Юпитер».
— Будете вы космонавтами или нет, — сказал Степан, — дело десятое, а пока боевое задание: официально зарегистрировать клуб в райисполкоме, райкоме комсомола, в ЖЭК, где угодно. Но чтобы нас признавали. Добиться разрешения иметь свой печатный штамп. Без штампа ребята и родители в клуб не поверят. И третье, самое главное: добыть для клуба хотя бы одну комнату. Согласитесь, размещать штаб на улице — это не солидно. И запомните, я буду только руководить. От слов «руками водить», — усмехнулся он. — Всю черновую работу делаете вы сами. Мастерите макеты, учебные плакаты, достаете инвентарь и прочее. Согласны?
— Согласны, — выступил вперед Оськин.
— Тогда изберите себе председателя.
Председателем единодушно избрали Сережу. Не откладывая дела в долгий ящик, Степан предложил составить перспективный план клуба.
— Что такое космонавтика? — спросил он таинственно.
— Наука, — робко ответила Света.
— Молодец! Правильно! — похвалил ее Степан. — Следовательно, прежде всего создадим научный кружок. Математика, физика, биология. Пригласим профессора. Рефераты будете писать сами.
— Ха, — заныл Оськин. — Так это то же самое, что и в школе.
— Ошибаешься! — посадил его на скамью Степан. — В школе тебе дают задание. А здесь задания ты будешь выдумывать сам. Пойдем дальше. Кружок ТН — технических новинок. Думаю, без него нам не обойтись.
Сережа старательно записывал в блокнот все предложения.
— Не забудь пометить сверху, — напомнил ему Степан, — «Протокол № 1 заседания организационного комитета дворового клуба «Юпитер». Потом перепишешь в отдельную тетрадь.
Оськин заглянул сбоку в Сережин блокнот.
— Надо б кружок по изучению автомобиля, — сказал он. — Ребята многие интересуются. В школе был да распался.
Мне показалось, что они слишком уж размахнулись. Но Степан одобрил и это предложение.
— Правильно! — сказал он. — Записал? Потом лишнее отсеем. Пошли дальше. Теперь насчет физической подготовки. Видели, как космонавты занимаются? Значит, нужен свой стадион. Но это дело будущего, а сейчас, как программа минимум: отвоевать обратно волейбольную площадку. Я поговорю об этом в ЖЭК.
— Верно! — подхватило сразу несколько голосов.
— Кажется, хватит, — заторопился Степан. — Сейчас я вас покидаю. У меня непредвиденное «заседание». Встреча у кино «Художественный», под часами. Вы тут пока все продумайте, перепишите план начисто и приступайте к действию. Если будут какие затруднения, звоните мне. Вот телефон. Утром до семи, вечером после десяти.
Он сунул записку с телефоном Сереже в руки и ушел.
Через два дня во дворе у входа в агитпункт появилось объявление:
«Организационный комитет клуба юных космонавтов «Юпитер» объявляет прием в члены клуба. Принимаются ученики восьмых и девятых классов. Запись свободная. За справками обращаться к председателю комитета С. Нартикову».
Не только я, многие ребята отнеслись к идее, выдвинутой Ойвеговым, скептически. Клубов и кружков во дворе и до сих пор возникало множество. Но ни один не просуществовал больше месяца. Главное — ни у одного из них не было помещения. Если стояла сносная погода, заседание проводили на скамейке в сквере. В дождь ребята сразу же разбегались по своим подъездам. И начиналась, как утверждали остряки, «работа в секциях». В итоге кому-нибудь ставили синяк под глазом или разбивали стекло на лестничной клетке. Вмешивался домовый комитет. Обычно не выдерживал руководитель клуба. Исчезал.
На этот раз начало оказалось удачным. Всех это очень обрадовало. Степан достал в завкоме бумажку с просьбой выделить для клуба комнату. К управдому мы с Сережей пошли вместе. Он без лишней волокиты написал соответствующую резолюцию. Комендант привел нас в чистенькое, недавно отремонтированное полуподвальное помещение. Комнатка оказалась просторной, уже обставленной мебелью.
— Вот, — широким жестом приглашая нас войти, сказал он. — Будьте хозяевами. Ключ сдавайте в соседнюю комнату председателю домового комитета.
И вот первое заседание оргкомитета в новом помещении. Ойвегов был в хорошем настроении, шутил, хвалил нас за расторопность.
— Ну что? А вы сомневались, — говорил он. — Да при желании всего можно добиться.
Мне нравилось, что Ойвегов не докучал наставлениями. С самого начала предоставил ребятам право самим решать, что и как делать. И мы не удивились, когда в следующий четверг (мы собирались один раз в неделю) он в клуб не пришел. Сказал Сереже по телефону:
— Вы уж как-нибудь без меня. Прием новых членов, оформление кружков — дело простое. Записывай всех желающих. Потом разберемся.
Сережа согласился. Все складывалось удачно. Желающих записаться в клуб нашлось много. Ребята все свои, знакомые. Меня утвердили секретарем. Заставили писать протоколы, вести списки. Склонившись над тетрадкой, я все же поглядывала по сторонам: не появится ли Боря среди ребят, заполнивших комнату. Накануне Сережа с ним говорил. Он обещал зайти. И вот или опаздывает, или раздумал. Если где-нибудь задержался — это ничего. Время терпит. А вот если раздумал, вторично уговорить его будет нелегко.
Когда стали распределять ребят по кружкам, возник спор. Оськин захотел участвовать сразу в двух кружках. Сережа сказал, что ему это не под силу.
— А твое какое дело! — горячился Оськин. — Ты моей силы не меряй.
Тут выступил вперед Перепелкин, поддержал Оськина.
— Давайте примем правило, — предложила я. — Каждый состоит только в одном кружке.
— Давайте такого правила не принимать! — закричал Оськин.
Поднялся шум. Все кричали, размахивали руками, доказывали свое. В сутолоке Сережа и не заметил, как кто-то задел цветочную тумбу, она покачнулась, и горшок с цветком полетел на пол.
Сразу все смолкло. Десятки рук потянулись, чтобы собрать землю, соединить разлетевшиеся в стороны черепки. А дальше произошло то, чего я больше всего опасалась. Дверь отворилась, и на пороге появилась председатель домового комитета Дарья Тихоновна Лемешко — женщина крупная и решительная.
— Что у вас здесь происходит? — сразу перекрыла она голоса ребят, высказывавших робкие предложения, что же теперь делать. — Я давно прислушиваюсь: гвалт стоит кромешный, и вдруг, словно атомная бомба взорвалась.
Она прошла к столу между расступившимися ребятами.
— Так и знала: опять подрались и погубили наш лучший цветок. Это же олеандр! Вы понимаете? Ему цены нет.
— Мы сейчас все подберем, — попытался успокоить ее Сережа. — Кто-то из ребят неосторожно повернулся…
— Нет уж, хватит с меня этих экспериментов, — решительно сказала Дарья Тихоновна и прошла за стол. — Кто у вас здесь ответственное лицо?
— Я! — выступил вперед Сережа. — Председатель организационного комитета.
Если бы в комнату вдруг вошел сбежавший из зоопарка лев, председатель домкома, наверное, меньше бы удивилась, чем изумилась она сейчас, увидев, кто же командует здесь ребятами.
— Что ты мне очки втираешь! — грозно накинулась она на Сережу. — Я же тебя знаю. Ты в школе в девятом классе учишься. А тут, говорят, заводские к вам для порядка приставлены. Где же они?
Ребята продолжали уверять, что всю работу возглавляет оргкомитет, состоящий из школьников старших классов. Заводские осуществляют лишь общее руководство.
— Та-а-к! — протянула Дарья Тихоновна, и мне показалось, что она посмотрела на нас таким взглядом, каким удав смотрит на свою жертву. — Все ясно! У вас нет руководителя. Хорошо! — решительно взмахнула она полной рукой. — Мы вам его дадим! — Она энергично пододвинула стул и села за стол. — Что тут у вас? — кивнула на разбросанные листки из школьных тетрадок.
Сережа пояснил, что это списки ребят, пожелавших посещать кружки.
— Все бумажки соберите в папочку, — распорядилась Дарья Тихоновна. — Я люблю порядок. Ты, мальчик, останься, — обратилась она к Сереже. — Остальных попрошу очистить помещение.
Ребята стали в смущении расходиться. И тут я увидела Борю. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и, наверное, наблюдал всю картину крушения Сережкиного авторитета. Комната постепенно пустела, а Боря все продолжал стоять, исподлобья следя за происходящим. Председатель домкома обвела взглядом оставшихся и тоже обратила внимание на Борю.
— А вам, молодой человек, что здесь нужно? — спросила она, не скрывая раздражения. — Вы, собственно, к кому?
Боря оттолкнулся от косяка и сделал шаг вперед.
— Зашел на огонек, — сказал он. — Посмотреть, что здесь делается. К тому же ребята приглашали в математический кружок. Это мне подходит.
В этот момент я посмотрела на Сережу. Он стоял бледный, и только его взгляд менялся: умоляющий — на Дарью Тихоновну и тут же извиняющийся — на Борю. А председатель домкома даже и не пыталась сдержать гнев. Круглое лицо ее побагровело.
— Что? — даже не произнесла, а как-то выдавила она из себя, грузно поднимаясь со стула и опираясь обеими руками о край стола. — А ну вон отсюда! Мы подсудных не принимаем. Мало, что горшки бьют, цветы ломают, еще не хватало, чтоб их у нас таскали! Чтоб и духу твоего тут воровского не было! Ишь, распустились!
Боря побледнел, открыл рот, что-то, видно, намереваясь сказать, но только скривил губы и, резко повернувшись, выскочил из комнаты.
Сережа неимоверным усилием воли сдержал себя.
— Вот так! — торжествующе повернулась к нему председатель домкома. — И чтоб полный порядок! Завтра я сама займусь проверкой ваших списков. Объяви, чтоб все ребята явились. И пусть предъявят справку из школы об успеваемости. А то наберете тут шалопаев. Балясы точить будут, бегать, а об уроках забудут.
Она убрала в ящик стола собранные Сережей списки, по-хозяйски оглядела комнату и, пропустив меня с Сережей вперед, повесила на дверь амбарный замок.
— Так будет надежнее, — подмигнула она и, положив ключ в карман жакетки, добавила: — Завтра приходи ровно к шести. Не опаздывай. Я ждать не люблю.
Сережа, с того времени как он увидел Борю, не проронивший ни слова, едва слышно прошептал стандартное: «До свидания» — и, сразу взяв разгон, пробкой вылетел из подвала. Я едва поспевала за ним. Во дворе стояла блаженная тишина. Только в беседке за столом стучали костяшками домино пенсионеры да старушки на скамье у подъезда тихо беседовали про жизнь.
АКТИВНАЯ ОБОРОНА
На другой день председатель домкома битых два часа в одиночестве просидела в полуподвальной комнате, отведенной для нашего клуба, за покрытым красной материей и оттого принявшим праздничный вид столом. По правую руку от нее на столе стояла ваза со свежими нарциссами. Она смотрела со злостью то на эти лично ею купленные для торжественного момента цветы, то на узкий просвет окна, за которым мелькали изящные женские туфельки или грубые на гуттаперчевой подошве мужские башмаки. Мальчишеских ботинок не было видно.
Она уже вешала на дверь все тот же тяжелый амбарный замок, когда в подвал влетел запыхавшийся Ойвегов.
— А где ребята? — с лёта спросил он.
Дарья Тихоновна повернулась к нему всей своей полной фигурой и окинула уничтожающим взглядом.
— А кто вы, собственно, будете? — спросила она.
— Как кто? — растерялся Степан. — Я направлен от завода. Мне выделили ваш двор, чтобы организовать тут ребят.
Председатель домкома локтем отстранила его с дороги.
— Так вот, милостивый сударь, — бросила она, направляясь к выходу. — Пока вы пропадали неизвестно где, вместо того чтобы заниматься порученным вам делом, ваши мальчишки устроили здесь забастовку. Да, да! — подтвердила она. — Настоящую забастовку. Ни один не явился в помещение клуба.
— Но вы, при чем здесь вы? — пытался хоть что-то понять Степан.
— А при том, — строго заявила Дарья Тихоновна, — что руководство клубом я взяла на себя. Нельзя же ребят оставлять без присмотра? А теперь и комнату мы у них заберем. — И она решительно направилась к выходу, оставив Степана в полном недоумении.
Если б не я, оставленная Сережей дежурной во дворе, Степан вряд ли нашел бы членов оргкомитета. Укрывшись в овраге за железнодорожной насыпью, они обсуждали сложившееся положение. Вовлеченные ими в клуб мальчишки и девчонки слонялись вдоль длинного, низкого забора. Заметив Ойвегова, Сережа поднялся ему навстречу.
— Полное фиаско, Степан Львович! — с грустью сообщил он. — И из комнаты выгнали, и ключ отобрали.
— А что же вы не явились на регистрацию? Там преддомкома вас ждала. Сердитая женщина!
— Э! — махнул рукой Сережа. — Из-за нее-то весь сыр-бор и разгорелся. Ребята с ней давно конфликтуют. Я уже вел с ними переговоры. Думал, как-нибудь обойдется. В крайнем случае, пошли б на уступки. Но они ни в какую. Боятся, что наставлениями замучает.
Степан устало опустился на траву.
— Да, — пробормотал он. — Положение осложнилось. А я собрался в райкоме докладывать о полном успехе. Вот те и успех! Отошли на заранее подготовленные позиции.
Все мы — члены оргкомитета — сидели с поникшими головами. Не знали, как перед товарищами оправдаться. Нахвастались, растрезвонили на весь квартал о новой затее, а теперь ребятам в глаза смотреть стыдно. И не видно никаких перспектив. Преддомкома, конечно, ни на какой компромисс не пойдет. Значит, считай, все пропало.
— Надо бы списки выручить, — предложила Света.
— А как их выручишь? — устало спросил Сережа. — Они ж под замком.
— Остается одно, — заметила, усмехаясь, Света. — Оськина послать, пусть попытается через форточку.
Оськин, развернувшись, стукнул ее по затылку.
— Оставим шутки, — вмешался в их перебранку Степан. — Давайте все-таки решать, что делать. Ведь я и не обещал вам легких успехов. За место под солнцем надо бороться, друзья. Но вы не отчаивайтесь. Я постараюсь все уладить. А пока стоит подумать об использовании оврага под стадион.
— Да там одни ямы, — сказал Оськин. — Ноги поломаешь.
— Да, ям хватает, — согласился Степан. — Но можно заровнять. Вон нас какая орава. По лопате бросить, сразу кубометр земли перевернем. А? По амфитеатру беговую дорожку. Как думаете?
— Можно, конечно, — помялся Сережа. — Только ж опять могут отобрать.
Степан сказал, что в овраге надо закрепиться. Пусть он будет нашими исходными позициями, плацдармом для наступления. Пока никто на него не покушается. Но могут найтись охотники. Отсюда вырисовывается первая боевая задача — убедить районного архитектора отдать овраг клубу. Делегация мальчишек должна отправиться к нему завтра же.
— Кто пойдет? — оглядел он ребят.
— Сережку пошлем, — предложил Родин. — Он кашу заварил, пусть и расхлебывает.
Ойвегов не возражал. Утвердили всю четверку, входившую в оргкомитет. Степан пообещал нам к утру достать ходатайство от завкома.
— Я договорюсь, — наставлял он Сережу. — Зайдете прямо в завком и возьмете бумагу. А с ней тотчас же в райисполком к архитектору. Вечером по телефону доложите об итогах.
К районному архитектору мы явились всем квартетом в полдень перед обеденным перерывом. Пришлось долго ждать. Сначала в кабинете шло заседание. Потом архитектор, чернявый, показавшийся мне очень моложавым, куда-то убежал. Вернулся он не один, а с пожилым, полным гражданином, на ходу что-то торопливо доказывающим. Они прошли в кабинет, и оттуда долго слышались раздраженные голоса. Наконец пожилой посетитель, хлопнув дверью, ушел. Тотчас же архитектор выскочил в коридор и с недоумением уставился на нас, тихо стоявших у двери.
— Вы к кому, ребята? Если ко мне, то давайте скорее, а то я спешу на обед.
Сережа протянул архитектору бумажку, и, пока тот читал ее, я думала: как хорошо, что утром мы зашли в завком. Без этой бумажки нас, пожалуй, никто не стал бы и слушать.
— Отдать вам овраг? — поднял на нас глаза архитектор. — А вы не испортите землю?
— Ну что вы! — усмехнулся Сережа.
— Признаться сказать, — задумался архитектор, — этот овраг мне самому не очень нравится. Отдать его, что ли, вам?
— Конечно, — не утерпел, вставил Оськин. — Не пожалеете.
— А ну-ка заходите, — широко распахнул двери в кабинет архитектор.
Он усадил нас за длинный, заваленный чертежами стол, размашисто сел сам и широко положил руки на стол, словно прижимая все лежащие на нем проекты.
— Значит, так, — в упор глядя на нас, резюмировал он. — Овраг я вам отдам. Только временно. А?
— Что ж, очень хорошо, — тут же согласился Сережа. — Вы скоро убедитесь, что нам можно доверять.
— И еще одно условие, — сказал архитектор. — Вы, — он с сомнением посмотрел на нас и продолжил, — через ваших официальных представителей подпишите с нашим управлением официальный договор. Возьмите на себя кое-какие обязательства. Согласны?
Мы дружно закивали головами. Условились, что подписание договора состоится на месте, то есть в районе оврага.
— Завтра я приду посмотреть, что вы там затеваете, — пообещал архитектор.
Тут же на крыльце райисполкома мы распределили роли. Мы с Сережей бежали звонить Ойвегову. Оськин — в домоуправление, добывать лопаты и кирки для субботника. Света — по домам, оповещать ребят, чтоб по списку, кто в субботу, кто в воскресенье, выходили вечером разравнивать овраг.
Встретились, когда уже стемнело, уместились все четверо на скамейке возле клумбы. На западе последние лучи закатившегося солнца догорали на кромке перистых облаков. А с востока из-за домов уже вставала круглая, улыбчивая луна. Недавно прошел дождь, и из оврага тянуло холодом.
— Выслушаем, кто что успел сделать, — предложил Сережа. — Докладывай, Нина.
Собственно, докладывала я не за себя, а за Сережу. Сказала, что Степан Львович страшно обрадовался, узнав, что архитектор согласился отдать нам овраг. Сказал, что сам придет подписывать договор. Одобрил наш план: и насчет субботника, и насчет лопат.
— Вот и все. Теперь других послушаем, — закончила я.
— У меня… — высунулся Оськин.
Но Света его перебила:
— Погоди, не лезь вперед. Поимей совесть. Моя очередь.
Она поправила на висках завитушки волос, приосанилась, будто на трибуну выходит, и начала:
— Прежде всего, как мне велел Сережа, я обежала девочек. Побывала у Клавы, Наташи, Гали. С Симой и Тоней говорила по телефону, — затараторила она. — Дала им задание, чтоб сказали Ире, второй Гале, Лене и Тамаре. С ребятами хуже. Кости не было дома, Аркаша на тренировке. Гриша убежал к своей Маше, чтоб вместе готовить уроки. Но я ей тут же позвонила и наказала, чтобы явились оба, вместе. Эти придут. Она за него передо мной отвечает. Ваню, Петю и двух Федей предупредила. Сказали, что будут.
Выслушав Свету, Сережа предложил, чтобы к тем, кого Света не застала дома, она сходила еще раз. Ребята могут обидеться, что их не известили.
— А у тебя как? — повернулся он к Оськину.
У Олега, оказывается, едва не произошла осечка. Управдом заупрямился, не хотел выделять инструменты.
— Вы растащите лопаты, а кто за них отвечать будет? — твердил он.
Оськин клялся, что все будет в целости, обещал дать расписку. Управдом только руками махал и усмехался.
— Какая цена вашей расписке? С мальчишек хоть с распиской, хоть без расписки все равно взятки гладки. Замотаете лопаты, а потом мучайся с вами, ищи виноватого, как ветра в поле.
— Да нам председатель завкома поручение дал, — уверял Оськин. — На заводе серьезные люди.
— Вот и беги на завод, пусть они гарантии дают.
Вышел Олег в коридор, чуть не плачет. Куда теперь податься? Хоть ломай склад, да сам бери лопаты. С горя решил бежать на завод: ведь стыдно будет ребятам на глаза показаться. Первое серьезное задание — и не выполнил. На его счастье, председатель завкома оказался на месте и сразу его узнал: запомнил, что утром мы четверо к нему за бумажкой приходили. Рассказал ему Оськин о своей беде, разжалобил. Председатель снял трубку и позвонил управдому. И что бы вы думали? Бывают же такие люди! Тот от своих слов отказался. Говорит, не могу я по телефонному звонку невесть кому материальные ценности вручать. Спасибо опять же председателю завкома. Душевный человек. С понятием. Не стал он с управдомом пререкаться, а бросил трубку, взял листок форменной бумаги со штампом и написал отношение с просьбой выдать под его ответственность двадцать лопат и пять кирок.
— Ну и как, получил? — не утерпел Сережа.
— Все в ажуре, — похвастал Оськин. — Договорился с комендантом: по одному моему сигналу инструмент можно забирать.
Я облегченно вздохнула и посмотрела на Сережу. Он улыбнулся: «Порядок!»
— Теперь так, ребята, — сказал он. — У кого уроки не сделаны, как придете домой, сейчас же садитесь. За нами теперь строгий контроль будет. Чуть где споткнемся, сразу в укор этот овраг поставят.
Едва мы поднялись, как из темноты вынырнул Ойвегов.
— Вот они где! — весело крикнул он. — Я уже отчаялся вас найти.
Он присел на скамью.
— Ну, ребята, погубите вы меня. Завтра контрольная в институте, а я еще и за книгу не брался. Придется всю ночь сидеть.
Выплыла луна из-за тучи, и я заметила, что наставник наш не очень-то грустит по поводу контрольной.
— Нет худа без добра, — сказал он. — Сегодня я успел вдоль и поперек обмерить весь овраг и составил принципиальную схему работ первой очереди. Прежде всего, конечно, беговая дорожка. Завтра я все перенесу на местность. Придется создать несколько бригад. И каждой бригаде — свое задание. Так лучше. Меньше окажется лодырей. Списки бригад и подбор бригадиров за тобой, Сережа.
Степан распрощался и так же внезапно исчез в темноте, как и появился.
В субботу вечером, я думаю, председатель домкома с недоумением наблюдала, как деловито сновали по двору мальчишки с лопатами и кирками, исчезали за железнодорожной насыпью, в овраге. Эта подозрительная беготня подхлестнула ее и заставила принять экстренные меры для наведения порядка. Припомнив старое, она обратилась с жалобой в ЖЭК, позвонила в райисполком. Ей посоветовали не торопиться с выводами, ведь для того, чтобы бить тревогу, у нее нет достаточных оснований. Она не успокоилась, сказала, что будет жаловаться дальше. Вскоре у нее появились и дополнительные факты. Выйдя как-то утром во двор, она обнаружила, что на клумбе недостает трех пионов. Цветы были выкопаны с корнем, лопатой. На их месте зияли черные ямы. Вторая клумба была кем-то истоптана, словно похититель цветов убегал через нее от преследования. Позвав свидетелей, преддомкома заметила следы. Они были маленькие, подростковые. Подозрение сразу же пало на мальчишек, сновавших по вечерам по двору с лопатами. Терпение преддомкома лопнуло. Она ушла в свой подвал и начала писать, звонить, требовать. «Или я или они» (то есть мы) — так был поставлен вопрос.
Мы с Сережей опять приуныли. Я поругала его за всю эту затею с клубом. И без него у нас забот хватало. Нас помирил Ойвегов. Он собрал ребят.
— У нас появился новый противник, — сказал он. — И если с одним мы ведем редкую перестрелку с укрепленных позиций, то второй стреляет нам в спину. Это те мальчишки (я не сомневаюсь, что это мальчишки), которые рвут и выкапывают цветы и топчут клумбы. Или мы их выведем на чистую воду, или они нам всю обедню испортят.
Когда стемнело, Сережа и Олег устроили за кустами акации засаду. Я спряталась за загородкой детского садика. Вскоре послышались шаги и приглушенный шепот. Звякнула о камень лопата, серые тени замелькали на клумбе. Выскочив из засады, ребята задержали трех мальчишек. В одном опознали Перепелкина. Двое других были из младших классов.
Перепелкин сразу признался, что и в тот раз цветы выкопал он.
— Ты что это позоришь наш клуб? — налетел на него Сережа.
— Не задавайтесь со своим клубом, — просопел Перепелкин. — Он у вас на ладан дышит. Не больно нужен. Вычеркивайте меня из списков. Уйду, не пожалею.
— Никуда ты не уйдешь. И в списке останешься, — горячился Сережа. — Будешь с нами, пока не исправишься. А сейчас решение наше такое: до утра чтоб все клумбы, что потоптаны, были разрыхлены, а все цветы на место посажены. И не вздумай финтить! Утром перед школой проверю.
А еще через два дня во двор нагрянула комиссия. Пришли товарищи из райисполкома, из ЖЭК. Осмотрели клумбы. Они оказались в порядке. Председатель домкома ходила вслед за комиссией сама не своя. Основной аргумент против нас мы вырвали у нее из рук. Члены комиссии заглянули и в овраг. Беговая дорожка была почти готова. Наметились контуры и городошной площадки.
— Гляди-ко, — удивился представитель райисполкома. — А мы не знали, что с этим оврагом делать!
Порядок во дворе понравился комиссии. В адрес председателя домкома было сказано немало лестных слов. Но то, что сделали ребята из нашего клуба, было тоже неплохо.
— Так что же вы не поделили? — спросил представитель райисполкома, обращаясь к Дарье Тихоновне.
Все еще не в силах сдержать накопившееся в ней раздражение, председатель домкома изложила свои претензии.
— Но ведь ребята заняты делом, — сказал представитель райисполкома. — Хотелось бы их поддержать.
— Да, но они безобразничают, — упорствовала преддомкома. — Разбили горшок, топчут клумбы.
— Как же вас помирить? На наш взгляд, обе враждующие стороны делают много полезного. Не конфликтовать бы вам, а сообща трудиться на общее благо.
Кто-то предложил поделить функции. Пусть любители цветоводства украшают двор цветочными клумбами.
— А мы беремся их охранять, — выступил вперед Ойвегов. — Как, ребята, возьмемся? — обратился он к стоявшим тут же членам оргкомитета.
— Возьмемся! — единодушно ответили мы.
Предложение понравилось.
— Как, товарищ преддомкома? — поинтересовался представитель исполкома. — Ведь ребята, если возьмутся, и кошке не дадут по клумбе пробежать. А работу с подростками предоставьте товарищам, направленным для этого заводом и райкомом комсомола. Все-таки они помоложе, у них это дело лучше получится.
Председатель домкома поворчала, помялась, но согласилась. Нам вернули отведенную ранее комнату. Все устроилось как нельзя лучше. Только Боря к нам уже не пришел. Это была первая наша потеря.
ЧТО ЖЕ ПРЕДПРИНЯТЫ
В середине мая в московских садах и парках зацвели груши. За день деревья стали белыми. Издали кажется, что их только что покрасили. Я смотрю на Москву из окна нашей школы. Вдали за кварталами домов, за скверами и парками угадывается извилистая линия Москвы-реки. Слева, как дерево-великан, тянет ввысь свою иглу Останкинская башня. Справа, к Серебряному бору, поблескивают свежевымытыми окнами новенькие красавцы-дома. Они только недавно заселены, и из них выскочили на еще не расчищенные площадки до полусотни ребятишек и бегают, ковыряют землю.
Я стою у окна и вспоминаю, как мы подружились с Сережей. Ведь первое время что было? Стоило ему появиться в классе или на занятиях в каком-либо кружке, на репетиции самодеятельного театра, как я начинала грубить, старалась чем-нибудь досадить, поставить в смешное положение. И кончалось тем, что или Сережа, не выдержав, уходил, либо я, фыркнув, убегала. А потом жалела, что так поступила, ругала себя.
Часто после такой ссоры я не находила себе места, бесцельно бродила после уроков по улицам, снова возвращалась в школу с таким ощущением, будто что-то там потеряла, оставила. Больше всего меня возмущало, что Сережа так легко уступал мне. Он не обижался, не грубил в ответ, только глядел так жалостливо, что я от этого еще больше сердилась. Он даже не пытался узнать, почему я так поступаю. Он просто отходил, чтобы не связываться. А это уже обижало.
Не раз я давала себе слово перемениться. Вот подойду и скажу: «Сережа, извини. Вчера я была не права. Будем дружить». Но появлялся Сережа, отдавал какое-нибудь распоряжение ребятам или высказывал предложение, и я не выдерживала, взрывалась. Особенно мне не нравилось, что он командует. Конечно, он староста класса, но мог бы сперва спросить, какие есть мнения у других. И ведь понимала, что не права, несправедлива к Сереже. Не раз, бывало, спрашивал он: «А что ты скажешь, Нина?» А я и взглядом его не удостаивала: «Нечего мне говорить. Сами все решили».
Я спускаюсь в пустую пионерскую комнату и жду, когда придут Борины мальчишки-футболисты. Сережа сегодня обещал их привести. Но вот что-то запаздывает. Опять, наверное, позабыл. Прислушиваюсь. Тихо. Во всей школе тихо. И все же подошла к двери. Показалось, что в коридоре раздались шаги. И говорок. Такой беспорядочный, когда один перебивает другого. Неужели ребята одни пришли? И я широко распахнула дверь.
По коридору, оглядываясь по сторонам и подбадривая друг друга, шагали мальчишки. Как во всякой мальчишеской компании, предводительствовал один. Он и шел немного впереди остальных, как бы беря на себя ответственность за это вторжение. Был он рыжеват, низковат, но очень подвижен и смел. Увидев выглянувшую из физкультурного зала Свету Пажитнову, он крикнул:
— Сюда, пацаны! Тут кто-то есть.
— Вы кого ищете, ребята? — остановила его Света.
— Мы-то? — с любопытством уставился на нее мальчишка. И тут же начал жаловаться: — Почти час проторчали во дворе вашей школы. Я ребят по постам расставил, все выходы перекрыли, чтоб не ускользнул. А он что у вас — невидимка?
— Кто? — не поняла Света.
— Кто-кто, — недовольно пробурчал мальчишка. — Вожатый наш. Внештатный вожатый. Ну, не совсем вожатый, а добровольный. Он сам вызвался нашу дворовую футбольную команду тренировать.
Только тут я заметила, что один из мальчишек держал в руках мяч.
— Да что тут толковать, Генка, — крикнул этот, с мячом. — Только время зря теряем. Пойдем в классах пошарим. Аль директору пожалуемся. Так не делают: обнадежил нас: дескать, буду учить, про пас и про обводку расскажу, а сам на тренировки не является.
— Пошли, пошли! — загалдели ребята.
— Кого вы ищете-то? — спросила опять Света.
— Кого? — отозвался мальчишка. — Кабы мы точно знали. А то назвался Борисом, и все. Уж нам Сережа Нартиков сказал, что он из этой школы. Мы посовещались и решили искать.
И тут я узнала их. Конечно же это те самые мальчишки-футболисты, которые мне нужны. И направил их сюда Сережа. А сам опять где-нибудь задержался. Тоже мне помощник выискался! Я бросилась к ребятам, заторопила:
— Пошли, пошли ко мне. Заходите в комнату. Бориса я знаю, помогу вам. Расскажу.
Мальчишки, все одиннадцать человек, перешептываясь, проскользнули мимо меня, уселись на стулья вдоль стены. Я смотрела на них с надеждой и любопытством. Тихо сказала:
— С Борисом, ребята, беда. Ушел он из школы.
Загалдели все разом, как голодные сорочата:
— Как ушел? Какая беда? Обманул, значит.
— Обвиняют его, — с тревогой в голосе продолжала я, — будто бы чемодан украл.
— Чемодан! — вскочил и подбежал ко мне Генка. — Это какой же чемодан? Тот, что у нас один край ворот обозначал?
Мне хотелось узнать, как отнесутся ребята к Боре теперь, когда поймут, в чем его вина. И я сказала:
— Вот видите! И вы про это знаете. Выходит, все правда.
— Погоди ты! Правда! — накинулся на меня Генка. — Сразу ей — правда! Я свое скажу: украл, так прятал бы. А то бросил. На траву на самом поле бросил. Потом с нами играть стал. И забыл про свой чемодан. Он так и стоял около кирпича, который у нас обозначал угол ворот.
До чего же сообразительные эти мальчишки! Ведь все очень просто. Почему же я не додумалась? А ведь я еще тогда, когда наблюдала за игрой ребят, заметила, что чемодан Борю совсем не интересовал. Важная деталь. А я оставила ее без внимания. Молодцы ребята. Недаром я их так настойчиво разыскивала. Особенно Генка хорош, капитан команды. Как загорелся, все не может остыть, продолжает возмущаться:
— Украл! Скажут тоже. Стал бы он тогда с нами долго мяч гонять! В тот день наша дворовая команда вышла вперед.
— А чемодан-то все-таки был с ним, — вставила я.
— Ну, был. Что из того?
— А куда он его нес? И откуда?
Генка взорвался:
— Вот еще! Куда надо, туда и нес.
— А что было в чемодане?
— Почем мне знать, что там было? — вскочил он со стула. — Я его не открывал. Помню только: тяжелое. Книги, наверное. Меня, да и ребят наших, больше не чемодан интересовал, а Боря. Мировой парень. Сам вызвался стать тренером нашей дворовой футбольной команды. Ценить надо! Попробуй найди такого. Мальчишки, что постарше, только смеются да мяч отбирают. А он учил играть в футбол. И жил-то далеко от нашего двора. А все же приходил к нам. И секреты свои не скрывал.
— Какие секреты?
— Футбольные. Как противника обводить с мячом и прочее.
— Часто он у вас бывал?
— Не так чтоб часто. Мы ж понимаем: у него свои дела. Но наша команда все равно всех обставила. Еще бы: у нас свой тренер и настоящий судья. Понимающий. Лично я очень благодарен Боре: из всех мальчишек во дворе у меня самый лучший пас. И, может, меня возьмут в сборную школы.
Генка шмыгнул носом и уселся на место. Наступила тишина. Ребята с надеждой смотрели на меня. А я не знала, что им сказать. Хорошо, что подоспел Сережа. Он сразу же вступил в разговор. Генку прямо-таки замучил, допрашивал с пристрастием. Особенно, когда дело дошло до чемодана. Какого он цвета был, куда его Боря нес да что говорил?
— Какого цвета? — отвечал Гена. — Коричневого. Грязью немного обрызган. Он, видать, не жалел его. С ценной вещью так не обращаются. Уж я как-нибудь знаю. У меня папа на базе кладовщиком работает.
— Ладно, — остановил его Сережа. — Про папу не распространяйся. А вот куда он шел, Боря? Вы же долго его провожали.
— Куда шел? — покачал головой из стороны в сторону Генка. — Вот задача! Домой шел. Ясно. Только домой идут так… так…
— Как так? Не тяни.
— Как? Очень просто. Смело так, уверенно. Словно этой дорогой тыщу раз ходил. Через проходные дворы, напрямик. Идет и идет. А мы за ним. И разговор такой… Неприметный. Просто так: болтаем обо всем. С одного на другое скачем. То про рыбалку, то про грибы. Грибов прошлым летом как раз много было. О футболе-то уж и забыли. С ним легко разговаривать. Потому что он из себя взрослого не строит. Пацана уважает.
Сережа задумался на минуту, решая, что еще можно спросить, и включил магнитофон.
— А вы же видели, когда чемодан у него взяли? Видели: милиционер подошел и забрал.
— Видели. Издалека, правда. Разговора мы их не слышали. А милиционер, что ж, значения не придали. Подошел какой-то дяденька, взял чемодан. Ну и милиционер тут рядом крутился. Поговорили они и пошли. Может, дяденька тот встречал его. Чемодан-то тяжелый. Брат или отец. Все может быть. Нам откуда знать?
— Он после к вам еще приходил?
— Приходил. Раза два приходил. Верно ребята? Два раза точно.
— Верно, верно. Два раза, — загалдели ребята. — А потом враз перестал ходить.
— Это он в деревню уехал, — сказал Сережа, обращаясь больше ко мне, чем к ребятам.
Я подтвердила. Сережа опять обратился к ребятам:
— А когда он эти два раза к вам приходил, вы ничего не заметили?
— Нет, нет, — заговорили все разом. — Не заметили.
А Гена уточнил:
— Такой же веселый был. Играл с нами много. Такие финты показывал. Закачаешься! Ребята из соседнего дома, наши противники по игре, едва не лопнули от зависти, когда мы им похвастали своим тренером.
Сережа выключил магнитофон. Сказал, повернувшись ко мне:
— Это он с ними душу отводил. Оттаивал.
— Ну да, — подтвердила я. — В школу к нам он не ходил, а кое-кто из друзей от него отвернулся.
— Да что ты! — возразил Сережа.
— Да, да! — твердила я. — Имей мужество.
Конечно, я немного сгустила краски. Но ничего, пусть прочувствует свою вину. Злее будет.
Мы отпустили ребят, а сами остались и несколько раз прокрутили ленту с записями.
— Хорошие мальчишки, — сказал Сережа, отдавая мне магнитофонную ленту. — Добрые.
— Ребята-то хорошие, — ответила я. — Только почему так легко признает за собой вину Боря? Твердит одно: виноват, и все. А я вот думаю и одного понять не могу: где Боря прятал чемодан?
— Он его таскал с собой.
— Нет. Это он на другой день взял его и ходил с ним по городу. Это я видела. А первую ночь? Одну ночь? Домой он его не приносил. У товарищей не оставлял. Где же?
Сережа задумался. Чувствую, задел его мой каверзный вопрос. А не поможет ли он разъяснить и главную загадку: зачем был взят чемодан? Куда же он его унес?
— Погоди, — говорит Сережа. — Как бы не ошибиться. Постой, постой…
— Ты что-нибудь припомнил? Говори.
— Постой, постой… Он же снимал комнату.
— Какую комнату? Не ври. И не шути так. Это очень скверная шутка.
— Я не шучу, — отвечает Сережа. — Я с ним вместе ходил. Снимать комнату.
— Какую комнату? Для кого? Ничего не пойму.
— Он сказал: «Для двоюродной сестры, которая приезжает из Калуги».
— Зачем приезжает?
— Чтоб поступить в университет.
Час от часу не легче! А я ничего и не знала. Ни от него, ни от Тамары ни разу не слышала ни о какой Бориной двоюродной сестре.
— Странно все это.
— А чего странного? — не соглашается Сережа. — У них она остановиться не может. Тесно. А потом… ты же знаешь.
— Знаю. И все равно непонятно. Зачем ему хлопотать? Пусть бы мать заботилась о племяннице. Странно.
— Ну, как знаешь. А по-моему, все в норме.
В тот вечер впервые он проводил меня до дому. А я радовалась: наконец-то есть у нас с ним общее дело, о котором никто другой ничего не знает. Долго не могла уснуть. Все думала о Сереже, сравнивала его с ребятами из класса. Нет, никого нет лучше его. Отзывчивее и смелее. И рассудительнее.
А на другой день я позвонила ему по телефону поздно вечером:
— Сережа? Ты еще не спишь? Так вот, новость номер один: никакой сестры в Калуге у него нет!
— У кого? Какой сестры? — не понял Сережа.
— У Бори. Двоюродной сестры нет.
— Как нет?
— Очень просто. Нет, и все. Я сегодня была у его матери и все выспросила. Про всех его родных. Не только в Калуге, вообще нигде никакой двоюродной сестры нету.
Сережа подул в трубку телефона:
— Нету, говоришь?
— Точно.
— Да что он ее выдумал, что ли?
— Кто его знает! Это я еще не выясняла.
— Вот история с географией.
Трубка помолчала.
— Слушай, Сережа, — сказала опять я. — А ты дом помнишь?
— Какой дом?
— Ну, где вы комнату смотрели.
— Помню.
— Давай сходим. А?
— Шут его знает. Неудобно как-то.
— А чего неудобно, — настаивала я. — Как-нибудь объясним. Что-нибудь придумаем. А то и прямо скажем. Чего ж скрывать? Вся школа об этом говорит. Давай сходим. Может, это и окажется самым важным.
— Что ж, я не против. Давай сходим. Во сколько?
— Лучше с утра.
— С утра? Когда же? Первый урок литература. А до урока не успеем.
— С Ольгой Федоровной можно договориться.
— А может, вечером? Без колготы. Часов в пять.
— Согласна и вечером. Где встретимся?
— У кинотеатра «Юность». Подойдет?
— Конечно. Тогда до завтра.
— До завтра.
Трубка прерывисто загудела.
ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД
В воскресенье Ольга Федоровна решила увезти весь класс за город. Она уже давно твердила нам, что мы переутомились, что всем нужен отдых. А свежий воздух, физическая нагрузка, смена обстановки — лучшее лекарство. Для туристической поездки выбрали довольно живописный маршрут. От Павелецкого вокзала электричкой до Калиновки. Там пешком по пойме реки Пахры до Горок Ленинских. Спортивные игры, обед и возвращение автобусами аэропорта.
На большой перемене я подскочила к Тамаре:
— Томочка! Едешь? Я так рада!
— Конечно, еду. Все очень кстати. Боюсь только, как бы не проспать. У нас встают поздно, а будильник Василий Степанович не разрешает заводить. Режим сна у него нарушается.
— Да брось ты, Тома. Чего бояться? Я за тобой забегу.
Дома я переполошила всех. Обычно просыпалась всегда в то время, которое сама для себя устанавливала. А тут почувствовала, что отвечаю не только за себя, а и за подругу, и испугалась. Начали одолевать сомнения: а вдруг просплю? И всем наказала: разбудить! И бабушка, и мама то и дело вскакивали, смотрели на часы. Было полчаса шестого, когда бабушка поднялась, вышла на кухню. Прилечь она не решилась, присела за столом и продремала оставшиеся полчаса. Пошла меня будить. А я сама выскочила навстречу. Смеюсь:
— Бабушка, чего ты беспокоишься? Я ж никогда не просыпаю. И сейчас вскочила ровно в шесть, как по заказу.
Бабушка махнула на меня рукой и пошла досыпать.
В лес мы принесли много веселья, смеху. Я захватила с собой магнитофон, и Ольга Федоровна очень хвалила меня за это. В чемоданчике у Сережи оказался приличный набор магнитофонных записей. Слушали популярные песни, даже танцевали. Мне удалось расшевелить Тамару. Она пела вместе со всеми, играла, смеялась. В этом опять помог магнитофон. Но он же и мешал. Притягивал к себе ребят, и вокруг нас с Тамарой все время толпились люди. Поговорить наедине, к чему я стремилась, не удавалось. Только перед обедом, когда на костре в эмалированном ведре уже закипала уха, я захлопнула крышку магнитофона.
— Все, — объявила. — Перерыв.
И обхватила за талию Тамару.
— Ой, устала я, умаялась! Пойдем, Томочка, к реке. Полюбуемся на блага природы. А то, пока мы тут музыку крутим, ребята всю красоту высмотрят.
Мы шли по лугу, как по мягкому зеленому ковру. Иссиня-черные скворцы выискивали в молодой траве зазевавшихся гусениц. По берегу реки почти у самой воды прогуливалась любопытная трясогузка. Она посмотрела на нас, прикинула, не грозит ли ей опасность, и опять зашагала, плавно покачивая похожим на лопатку хвостиком. У реки цвела черемуха. Резкий, горьковатый запах ее, смешиваясь с запахом парной земли, создавал неповторимый аромат весны.
— Ой! — воскликнула я, опускаясь на ствол подмытого
половодьем и поваленного ветром дерева. — Ты полюбуйся только, Томочка! Погляди. Листочки на деревьях словно изумрудные. Ни пылинки на них. А воздух! Чистый нектар. Я насмотрелась, надышалась, голова кругом пошла.
— Правда, хорошо тут, — отозвалась Тамара. — Вот бы каждый выходной так за город выезжать. Да ведь не согласится никто. Мороки с нами много.
— Самим надо беспокоиться. «Дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих». Это, кажется, Остап Бендер сказал.
— А ты молодец, Нинка, — перевела на другое разговор Тамара. — Такую музыку в своем чемоданчике привезла! Без нее было б скучнее. Я, когда еще в электричке ехала, смирилась с тем, что придется скучать. Ко мне и сейчас стесняются подойти. Из-за Бори.
— Пустое ты говоришь, Тома. А если музыка моя понравилась, могу одолжить на время. Благо, сама взаймы взяла. И ленты насобирала с бору по сосенке. Только где ж ты слушать будешь? Дома-то у тебя…
Сказала и осеклась. Но Тамара не придала моим словам значения. А может, думала совсем о другом.
— Погоди, — оживилась она. — Мои завтра в гости уйдут. Заходи сразу после уроков. Все записи прокрутим.
Возвращались в город с ярким румянцем на щеках, веселые, отдохнувшие, будто снявшие с себя бремя недельных забот. Ни одного грустного лица.
Как условились, в понедельник я забежала к Тамаре сразу после уроков. Установила и включила магнитофон. Песни следовали одна за другой. И одна другой краше. Мы и смеялись, и вздыхали. Наконец, кажется, притомились.
— А знаешь, Тома, — сказала я. — Мы ведь с Сережей недавно снова в подшефный колхоз ездили. О Боре там спрашивали. Такие записи сделали! Все его очень хвалят.
— Дай послушать.
— А ты не обидишься?
— Ну, что ты! Не маленькая.
Я поставила ленту, включила магнитофон. Прослушали рассказы мальчишек, Бориных подопечных из дворовой футбольной команды. Потом записи, сделанные в колхозе.
— Хороший он парень, Боря, — сказала Тамара. — До сих пор не пойму, как все произошло.
— Ты должна, обязана понять, Тамара, — убеждала я. — Все припомнить, все, до малейшей детали. Я думаю, от тебя многое зависит. Мы с Сережей были у тети Груни. У нее Боря хотел снять комнату, как он говорил, для двоюродной сестры из Калуги.
Тамара насторожилась.
— У него, по-моему, нет двоюродной сестры, — сказала она. — Тем более в Калуге.
— Нигде нет. Я это теперь твердо знаю. А для кого же он комнату снял? Вот послушай, что нам тетя Груня рассказала. Мы незаметно для нее все на магнитофон записали.
Рассказ тети Груни Тамара прослушала в грустном молчании. Вдруг она вскочила со стула, крикнула:
— Все вспомнила, все поняла! Это я, я виновата! Это он из-за меня все сделал. Нина, Ниночка! — И заметалась по комнате: — Я не могу! Я должна, обязана все рассказать.
Она схватила с вешалки плащ, накинула его на плечи. Потом, чуть успокоившись, присела на кушетку, взяла меня за руку.
— Я сказала ему, — торопливо заговорила она, — что тяжело мне дома, что готова уйти куда глаза глядят. В сердцах сказала, после ссоры с отчимом. Они такие разные: папа и Василий Степанович. Папу я не могла забыть. А Боря, добрая душа, предложил: ну и уйди. Я подумала, он шутит. А он и комнату подыскал, и чемодан унес. Чудак! Разве так можно? Я и маму не могу бросить. Да и сама еще учусь. На что я жить буду? Глупости какие-то. А вот что вышло из-за одного неосторожного слова. Надо бежать. Надо спасать Борю. Из-за меня все это… А он теперь боится правду сказать, чтобы мне не было хуже.
Тамара засобиралась. Я закрыла магнитофон, и мы вышли вместе. Через полчаса мы были у Скороходова. Его не удивило наше появление. Скорее всего, он ждал Тамару, надеялся, что она придет. А Тамара, распахнув двери его кабинета, стояла на пороге, не имея силы войти, и только шептала:
— Это я, я во всем виновата. Это из-за меня он все сделал.
Кирилл Петрович успокоил ее, усадил на стул.
— Боря при переезде на новую квартиру спросил, в каком чемодане мои вещи, — рассказывает Тамара. — Я не придала этому значения.
Она говорила тихо, но страстно и убежденно. Знала, что только правда может выручить Борю.
Да, теперь она поняла, что, щадя ее, Боря взял на себя вину за поступки, которых не совершал. Она в этом уверена. Она знает: то, о чем она скажет, может повлиять на всю ее жизнь, что очень больно будет маме, но она думает, что только правда поможет им всем.
Тамара выпрямилась и открыто и смело посмотрела на Кирилла Петровича, подчеркивая этим, что вся она перед ним как на ладони и ей нечего бояться.
— Да, — подтвердила она, — я жаловалась Боре, говорила, по глупости, конечно, что в пору бежать из дому. Я не могла забыть отца. А тут еще постоянные упреки отчима, грубость, нежелание считаться не только с моим, но и с маминым мнением. Мама покорно все терпела. Я ее понимаю. Она хотела создать новую семью. А я не могла терпеть. Но не было сил и покинуть маму, оставить ее одну с этим… — Тамара остановилась, не решаясь произнести слова осуждения.
— Мне было плохо, очень! — продолжала твердить она. — По-моему, и маме тоже. Я любила ее и не хотела обижать. Мы так хорошо жили! Раньше. При папе.
— Но мы, кажется, уклонились в сторону от главного, — напомнил Скороходов. — Я ведь многое знаю.
— Нет, нет, — торопливо отозвалась Тамара. — Напротив, приблизились. Вот сейчас. Я все-таки хочу вам пояснить то, что самой, пока Нина не надоумила, не было ясно… То, что я говорила в пылу, в горячке, Боря воспринял как истину. Теперь я вижу, он искренне хотел мне помочь. У него ведь тоже дома плохо. Так хоть мне облегчение сделать!
Кирилл Петрович встал, подошел к окну.
— Пожалуйста, — попросил он, — еще один вопрос. Речь идет о чемодане. При чем же тут чемодан с чужими вещами?
Тамара в нерешительности оглянулась. Она словно ждала чего-то.
— Чемодан? — переспросила она. — Разве я не сказала? Тогда я не придала этому никакого значения. Боря попросил, чтобы я все свои вещи уложила в один чемодан. Я только усмехнулась тогда. Сказала, что они и так в одном чемодане. И показала его, мой коричневый чемодан. Мы с мамой купили его, еще когда я собиралась в пионерский лагерь «Светлана».
— Простите, — перебил Кирилл Петрович, — в доме два одинаковых чемодана?
— Да, конечно, — машинально ответила Тамара. — У нас два одинаковых чемодана. Мама купила их в один день и в одном магазине. Она искала чемодан для меня, для лагеря. Нашла. Он ей понравился. Прочный, вместительный. Хороший чемодан не всегда достанешь, и она взяла сразу два. Для меня и для папы.
Мне показалось, что Тамару смущает мое присутствие, и я хотела уйти. Но Кирилл Петрович остановил меня.
Они долго проговорили в тот вечер. Тамара очень волновалась. Все спрашивала:
— Как же так? Что будет с Борей? Ведь я, я одна во всем виновата.
Постепенно она успокоилась и, как мне показалось, поняла свою ошибку.
— Да, да, — говорила она. — Я согласна. Не посоветовалась, не позвала на помощь. Но я была одна, совсем одна. И только Боря, как мог, старался мне помочь. И сам попал в беду.
На другой день я снова была у следователя. В качестве свидетеля. Кирилл Петрович разговаривал с Борей. Тот продолжал твердить свое: взял, бес попутал, я один виноват. Тогда Кирилл Петрович включил магнитофон. Взволнованный голос Тамары, прозвучавший с магнитофонной ленты, вывел Борю из равновесия.
— Это ее право, — сказал он, — так понимать.
— Кто же из вас прав? — спросил Кирилл Петрович.
— Не знаю, — угрюмо пробурчал Боря.
— Это уже ближе к истине, — усмехнулся Скороходов. — А теперь подтвердите, пожалуйста, — попросил он, — правильно ли я излагаю ваше намерение. Вы хотели взять чемодан с Тамариными вещами и отнести его к тете Груне в комнату, которую сняли для девушки? Так?
— Да, — глухо ответил Боря.
— Вы предварительно ничего не сказали об этом Тамаре.
— Да, — подтвердил Боря.
— Когда вы обнаружили, что взяли не тот чемодан?
— В тот же день, когда Тамара сказала мне после первого же урока, что в доме исчезли ценные вещи. Я побежал к тете Груне, открыл чемодан. Увидел, что в нем, и испугался. Не знал, что делать.
— Зачем вы решили перепрятать чемодан?
— Я этого не решал, — ответил Боря.
— Но тогда не сходятся друг с другом уже установленные факты, — пояснил Кирилл Петрович. — Вот слушайте. Вы взяли чемодан и понесли его в другое место. С чемоданом вы и были задержаны. Так?
— Так, — подтвердил Боря.
— Зачем же вы хотели перепрятать его?
— Я этого не хотел.
— А куда несли чемодан? Ведь я был на днях у тети Груни.
— Я решил вернуть его. Поставить на место. Но мне хотелось сделать это тогда, когда в квартире не будет ни Василия Степановича, ни Марии Сергеевны. Чтоб была только Тамара. Поэтому я выбирал время.
— И опять не сходятся факты, — вздохнул Скороходов. — Чтобы отнести чемодан к Беловым на их новую квартиру, вам следовало идти по другому маршруту. Вы же шли мимо мебельного магазина и долго стояли у старой квартиры Беловых. Чем вы это объясните?
— Я сам до сих пор не пойму, как там оказался, — ответил Боря. — Наверное, машинально, по рассеянности пришел на старую их квартиру. Так со мной бывало.
Когда Боря ушел, Скороходов сказал мне, медленно взвешивая каждое слово:
— Надо же так! Неплохой, даже хороший в принципе парень. А каких он наделал глупостей! И ведь от души, из желания прийти на помощь товарищу.
Не знаю, я, наверное, такая уж любопытная. Неисправимая. День-деньской приставала к Ольге Федоровне. Что с Борей? Добилась-таки своего. Сходила учительница к Кириллу Петровичу. И все выяснилось. И отлегло от сердца. Оказывается, был у Скороходова трудный разговор с Василием Степановичем и Марией Сергеевной. Тамарин отчим слушал молча, угрюмо уставившись в одну точку. Только в конце сказал:
— Я ведь добра ей желал. Хотел, как лучше. Нынешняя молодежь балованная, без строгости нельзя. Да, видно, переборщил.
Ольге Федоровне, когда она к нему пришла, Скороходов жаловался, что слишком много потратил времени, пока докопался до истины. Но сейчас испытывает удовлетворение. Не только потому, что помог Боре, Тамаре. Сумел разъяснить Василию Степановичу и Марии Сергеевне их промахи и ошибки. И сам многому научился. Всегда ли мы внимательны к людям, особенно к тем юношам, что стоят на пороге самостоятельной жизни? Кто призван помочь им, научить принимать верные решения? Семья? Школа? Завод? Как соединить все эти точки воедино?
Пододвинув к себе бумаги, Кирилл Петрович написал заключение о прекращении дела.
— С Борисом все, — сказал он. — Но выводы нам не мешает сделать. Я, конечно, не думаю, что навсегда распрощаюсь с Борей и Тамарой. Нет. Я успел полюбить их. Пройдет какое-то время, и мне захочется встретиться с ними. И мы обязательно встретимся. Конечно, встретимся. Надеюсь, это будет приятная встреча.
МЕЧТАЮ О КВАРТЕТЕ
Я знаю: теперь Боря уходит на завод вместе с отцом ранним утром, а заканчивает рабочий день где-то вскоре после полудня. У него остается время, чтобы побродить по городу. Он медленно идет мимо манящих витрин магазинов, пересекает тенистые бульвары, нигде не останавливаясь. Навстречу летят прохожие с портфелями, сумками, чемоданами. Более нетерпеливые отталкивают его в сторону, ворчат. Он не отвечает и не сердится на них.
Путь его лежит мимо школы. Он подходит и садится в скверике на скамейку. Отсюда ему видно каждого, кто выходит из школы. Чудак! Он и не знает, что я смотрю на него в окно класса. Звенит последний звонок, и я подхожу к окну. Теперь хорошо виден и школьный двор, и сквер, и скамейка, на которой сидит Боря. Стремительно распахнув дверь, выскакивает на школьный двор Света. За ней, как правило, появляется Оськин. Степенно, неторопливо выходит Родин. Почему-то я всегда жду, когда появится Сережа. Хотя знаю, что его не будет. Сейчас он подойдет сзади, станет за моей спиной и будет дышать мне в ухо. Как все мы изменились за эти несколько весенних месяцев! Ребята повзрослели. Для учителей эта весна тоже не прошла бесследно. Федор Лукич заметно постарел и как-то пригнулся к земле. Я удивилась, когда увидела, что старый учитель стал ходить с тросточкой. У Ольги Федоровны часто бывает грустное, усталое лицо. Будто оно запечатлело все неприятности, случавшиеся в классе. Конечно, возни с нами много. Ну, ничего, скоро каникулы.
На Боре перемены заметны сильнее всего. Он и внешне выглядит теперь иначе. В черном костюме. В рубашке с галстуком. Меж бровей появилась у него морщинка. Она, наверное, беспокоит его, и он то и дело пощупывает ее пальцем.
Уже отшумела, успокоилась школа, а Боря все сидит на скамейке. О чем он думает? Однажды он рассказал мне о себе все. С тех пор, как себя помнит. Ему не было и пяти лет, когда его пощипал гусак. Боря взялся отогнать его, чтобы пропустить по тропинке девочку. В десять лет он бросился на выручку мальчишке, провалившемуся в воду на неокрепшем еще льду пруда. Он искупался в студеной воде, но мальчика поддерживал до тех пор, пока их обоих не вытащили подоспевшие на крик люди. Через год он на спор взялся переплыть наполненный водой карьер, хотя еще плохо умел плавать. Он нахлебался воды. Зато научился не только плавать, но и нырять. Ему казалось, что все очень просто: решил — и сделал. Мать предупреждала его: «Смотри, сломаешь себе шею». Но шея не ломалась, и он решил, что все может. В какой-то мере это так и есть. Человек все может. Но никогда не мешает иметь долю здравого смысла.
Боря сидит на скамейке и думает. А я завидую Тамаре. Ведь это ее поджидает он в сквере. Но она никогда не выбегает сразу, как только прозвенит звонок. Она дожидается, когда все школьники уйдут. И тогда они с Борей будут одни. И никто им не помешает сидеть на скамейке в сквере и мечтать.
Тамара медленно открывает дверь школьного вестибюля. Выходит. Боря поднимается ей навстречу. Сейчас они возьмутся за руки и тихонько побредут по аллее. Я поворачиваюсь к Сереже и ворчу:
— Ну, чего уставился? Пошли.
Однажды на улице мы столкнулись с Борей лицом к лицу. Сережа упрекнул его:
— Борька! Бессовестный! Что же ты не зайдешь никогда?
Боря растерялся, сразу и не нашелся, что сказать. Промямлил:
— Неудобно как-то. Да и некогда. Я ведь в вечерней школе учусь.
— Да что ты, глупый! Наши тебя часто вспоминают. Заходи.
Но он все откладывал. А через неделю пришел в тесную комнатку клуба «Юпитер». Захотелось взглянуть на стадион, который ребята отстроили на месте бывшего оврага. Ему обрадовались. Сережа, выскочив из-за письменного стола, за которым переписывал начисто план работы клуба на время школьных каникул, с маху налетел плечом на цветочную подставку. Я едва успела подхватить слетевший с нее цветок.
— Ой, Борька! — крикнул Сережа. — Из-за тебя чуть опять происшествие не случилось.
— Как вы живете-то? — спросил Боря, освобождаясь от объятий.
— Мы-то что, мы отлично живем, — глядел на него влюбленными глазами Сережа. — Заводские нам крепко помогли. И следователь тот, помнишь, что дело твое вел?
— Угу, — разглядывая комнату, увешанную диаграммами и плакатами, подтвердил Боря. Старое вспоминать ему не хотелось.
Сережа усадил друга за стол и сам сел напротив.
— Ну, Борька, не томи, рассказывай, как там у тебя, как дома, на заводе? Ведь столько не виделись!
Боря улыбнулся. Я давно не видела улыбки на его лице, отвыкла от нее, и она мне показалась очень милой. И глаза его, карие, глубокие, опять светились добротой.
— Что ж дома, — сказал Боря. — Дома хорошо. Я даже не думал раньше, что может быть так хорошо. С отцом теперь мы живем душа в душу, вместе на завод ходим. Я пораньше, как малолеток, возвращаюсь. А он следом спешит. Мама повеселела. Встречает нас каждого с улыбкой. А я и не знал раньше, что у нее такая добрая улыбка. И что ласковая она такая, внимательная. В воскресенье мы всей семьей в Серебряный бор ездим. По набережной гуляем. А иной раз и еще дальше улетим, за город, под Барыбино. Правда, я иногда от них откалываюсь. Свои дела есть. С мальчишками-футболистами и другие. Так что они втроем наслаждаются природой. Домой возвращаются веселые, радостные. Сразу вся квартира наполняется смехом. Даже чудно как-то. Не привык я к этому. У нас ведь раньше в квартире смех нечасто слышался. А теперь словно прорвало. И на себя удивляюсь. Чуть что, домой спешу. Тянет. Никогда этого со мной не было. Помню, бывало, лето начинается, в турпоход или в колхоз, я с удовольствием. Первый бегу записываться. А сейчас из дому и уезжать не хочется.
Сережа покосился на друга, пытаясь понять, куда тот клонит. Привык, что у Бориса разговор всегда с подвохом. Все идет тихо-спокойно, а в конце выясняется сногсшибательная новость. Поэтому спросил осторожно:
— Вроде тебе уезжать-то и некуда. Или собираешься?
— А как же! — простодушно ответил Боря. — Ладно уж, открою вам с Ниной военную тайну. В подшефный колхоз бригада слесарей едет. Помочь в подготовке техники к уборке. Меня, как самого молодого, секретарь парткома к ним прикомандировывает. Подыши, говорит, свежим воздухом, тебе полезно.
Сережа даже на стуле подскочил от удивления.
— Погоди-ка, погоди! — заторопился он. — Ведь ваш завод шефствует над тем самым колхозом, куда мы со школой на практику едем. Ведь так?
— Так.
— Что ж это получается? — хлопнул Сережа по плечу друга. — Что же ты сразу-то не сказал? Выходит, опять вместе будем?
— Вместе, — улыбнулся Боря. — Только вы туда поедете несмышленышами-практикантами, а я от завода заправским рабочим.
— Ладно, не задавайся, — толкнул его в плечо Сережа. — Эх, Борька, — с грустью продолжал он, — ты знаешь, как нам тебя не хватает! Вот все вроде хорошо идет. Волейбольную площадку обратно отвоевали. Овраг за собой оставили. Стадион там будем расширять. А вот недостает нам человека, который умел бы помечтать, идейку подбросить. Тряхнул бы ты стариной, Борька, подкинул бы нам идейку, а?
— Попробую, — сквозь улыбку вымолвил Боря. — А пока хочу договориться, чтобы разрешили провести на стадионе соревнование дворовых футбольных команд.
Я вдруг вспомнила, что он ничего еще не сказал про завод, про свою работу. Подтолкнула Сережу: спроси, мол. Но Боря рассказывал неохотно. Все, дескать, в порядке, приняли хорошо.
— Здорово тебя ругали-то? — поинтересовалась я.
— Досталось. Следователь тогда передал мое дело на обсуждение в цех. А перед рабочими не отмолчишься. Ответа требуют начистоту. Да ничего. Все обошлось. Но я их не подведу. Их нельзя подвести.
Боря вдруг посерьезнел, его густые брови сдвинулись к переносице.
— Ну ладно, все про меня да про меня, — отмахнулся он от очередного вопроса. — Расскажите, что у вас тут во дворе делается? С домкомом-то как, все воюете?
— Что ты! — усмехнулся Сережа. — С домкомом у нас полный порядок. Договор.
— О ненападении?
— Опять не угадал. О дружбе и взаимопонимании.
— И ребятам это нравится?
— Еще как! — подтвердил Сережа. — Знаешь, мы ведь настоящий договор заключили. По всей форме. Из двенадцати пунктов. Ребята, когда обсуждали их, ох и шумели. А теперь все. Выполняют тютелька в тютельку. Если заметят нарушителя, наказывают своей властью. Однажды разбираем происшествие. Спрашиваю: «Кто на клумбе цветок вырвал, с корнем?» Поднимается один. «Я», — говорит. «А что у тебя под глазом? Откуда такая здоровенная шишка?» «Да, ребята, — отвечает, — малость поучили, чтобы не озорничал».
— А меня так и не взяли в свой клуб, — полушутя-полусерьезно упрекнул Боря.
— Приходи, — тут же пригласил его Сережа. — Дадим тебе кружок юных математиков. Из пятиклашек. Их много набралось, а руководить некому. Согласен?
— Подумаю.
Мы, кажется, уже обо всем переговорили, а расставаться не хотелось. В комнату все время заходили мальчишки, брали мячи, ракетки, спорили, шумели и снова уходили, а мы все сидели за столиком нос к носу и все вспоминали, вспоминали или мечтали о будущем. По тротуару протопали чьи-то тяжелые сапоги.
— Совсем забыл, — встрепенулся Сережа. — Ваньку Косолапого помнишь?
— А как же! У меня с ним не одна стычка была. То из-за мальчишек, то из-за отца.
— Планомерную атаку на него ведем, — сообщил Сережа. — Можно сказать, обложили со всех сторон, как медведя в берлоге, — весело усмехнулся он. — Домком — с одной стороны, мы с ребятами из клуба — с другой. Поставлен вопрос о выселении. Но, кажется, он одумался. На работу поступил.
За окном потемнело. Кто-то из вошедших ребят включил свет. Боря засобирался.
— Так как насчет стадиона? — уточнил он. — Будем считать, что договорились?
— Поставлю на совете клуба, — ответил Сережа. — Думаю, что согласятся. Можешь обрадовать своих ребят.
Они пожали друг другу руки.
— До встречи, — сказал Сережа.
— В колхозе, — уточнил Боря.
В колхоз наш класс выехал через неделю. Но возможностей для новых встреч у нас оказалось мало. Боря допоздна пропадал в мастерских. Вместе с опытными слесарями с завода по вечерам восстанавливал калеку-комбайн. Машина была изношенная, требовала большого ремонта. Но для Бори эта работа была очень важна. Надо сдержать данное слово. Не показывать же себя с первых шагов этаким болтуном! Сбрехнул, и в кусты. Тем более, что теперь Боря видел, как скупы на обещания его новые друзья из бригады слесарей. Но если скажут — все: кровь из носа, а сделают. Возни с комбайном оказалось значительно больше, чем можно было предположить с первого взгляда. И Боря наверняка не управился бы, не приди к нему на помощь его новый наставник, тот самый мастер — Петр Прохорович Моисеев, — который первым вступился за него на заводе, взял к себе на выучку.
Мы с Сережей возвращались с поля, когда услышали, как на околице села чихнул мотор. Не обратили внимания. Мало ли теперь повсюду моторов! В селе не только мотоциклы, собственные автомобили появились. Тропка, заросшая травой, вилась вдоль березовой рощи по краям ржаного поля. Из-под ног со звоном вылетали кузнечики. Неподалеку в ельнике назойливо трещали дрозды-рябинники. Рожь уже колосилась. Тонкие стебли ее вытянулись и доходили Сереже до пояса. Высоко в знойном сером небе трепетал и заливался жаворонок. А мотор на околице то чихнет, то вновь остановится, заглохнет. Сережа уже догадался, в чем дело. Говорит мне:
— Это же Борька со своим комбайном возится. Они с Моисеевым старый мотор на складе отыскали, отремонтировали. Теперь, слышь, пытаются завести.
Мы свернули во двор механических мастерских.
— Давай еще попробуем, — это голос Петра Прохоровича, Бориного наставника. — Должен же он завестись.
Мотор чихнул раз, другой и затарахтел ровно, спокойно.
— Есть! — крикнул Боря.
Несколько мальчишек подбежали к комбайну. Петр Прохорович залез в кабину и тронул машину. Комбайн пошел по двору плавно, слегка покачиваясь на неровностях дороги.
— Ура! — закричал Боря.
— Ура! — подхватили мальчишки, бежавшие за машиной.
От мастерских спешили к ожившему комбайну слесари. Из конторки вышел Першин. Боря приготовился рапортовать ему о выполнении задания. Поджидая его, Першин остановился.
— Поздравляю! — торжественно произнес он, выслушав сбивчивый рапорт. — А у меня, брат, для тебя новость. В самое время с комбайном своим ты покончил. Вот телеграмма. В Москву тебя вызывают. Уезжает кто-то. Родственники, наверное.
Боря с нетерпением взял телеграмму. Уезжала Тамара. Телеграмма была, как и положено, лаконичной: «Пятницу уезжаем мамой Барнаул геологической экспедицией. Поезд уходит восемь». Конечно, он не стал дожидаться электрички. Собрался и на попутной машине умчался в Москву.
Когда вернулся, я не отстала от него, пока не выпытала всех новостей.
Они медленно ходили по перрону, нетерпеливо посматривая на большие электрические часы, висевшие на большом столбе.
— Как жаль, что ты уезжаешь! — говорил Боря. — А я надеялся уговорить тебя включиться в наш отряд.
— Так решила мама, — сдержанно отвечала Тамара. — Она очень переживала за все. А в школе меня отпустили. Сказали, что зачтут за практику работу в экспедиции.
— А как же Василий Степанович?
Тамара метнула на Борю строгий взгляд, но сдержалась, ответила спокойно:
— Мама сказала, пусть поживет пока один. Да у нас отношения наладились. Я ведь тоже многое поняла. Но хватит о нем. Расскажи о себе. Ты что же, в нашу школу не вернешься?
— Не знаю еще, — с грустинкой произнес Боря. — Пока останусь на заводе. Буду ходить в вечернюю. Секретарь парткома сказал: получишь аттестат, дадим тебе путевку в институт.
Тамара взглянула на часы. Проводницы уже приглашали пассажиров занять свои места.
— Я тоже решила в институт, — сказала она. — Может, еще встретимся на первом курсе.
— Почему на первом? — не согласился Боря. — На экзаменах, при поступлении. Идет?
— Идет!
Мария Сергеевна нетерпеливо махала им рукой из открытого окна вагона, звала:
— Тамара, садись. Сейчас тронется.
Они подбежали к вагону, и Боря подсадил Тамару на ступеньку.
Он шел вдоль поезда и махал рукой.
— До встречи, Тамара!
Поезд набирал скорость. Боря отстал и все шел за последним вагоном по перрону. Но вот и этот вагон исчез из виду. И только красный светофор мелькал на путях.
Боря повернулся и вслед за толпой провожавших пошел к выходу. На перрон доносился неумолчный шум улиц столицы. Боря шел все быстрее и быстрее. Он не замечал ничего происходящего вокруг. Он спешил. Он думал о будущем. У него в запасе оставался всего один год. Год до вступительных экзаменов. Тех экзаменов, которые нужно было обязательно выдержать. А сейчас его ждут в колхозе. Он только на минутку забежит домой, чтобы повидаться с родными.
* * *
Конец августа. Скоро опять в школу. В свой последний, десятый класс я буду летать, как на крыльях. Из колхоза мы вернулись давно. Прошло уже больше месяца. Сижу дома и вспоминаю. О Боре и Тамаре, о Сереже и Оськине, о Федоре Лукиче и Ольге Федоровне. Беспокойный прожили мы год. Но многому научились. И не только по учебникам. Я гляжу в окно и немножко завидую Тамаре. Почему? Сама не знаю. Наверное, из-за Бори. Скоро зайдет Сережа, и мы побежим в кино. Хорошо бы, как раньше, всем четверым вместе. Я с Сережей и Тамара с Борей. Хорошо! Но это же от нас зависит. Я снимаю телефонную трубку и звоню Тамаре. Сейчас она ответит, сейчас…
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Оглавление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,
рассказанная Сережей Нартиковым
МАЛЬЧИШКИ и ДЕВЧОНКИ
В НОВОЙ ШКОЛЕ
ПЕРВЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
НАЕДИНЕ С СОБОЙ
ОТЕЦ
ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
РАБОЧАЯ ЩЕДРОСТЬ
ЧУДАК ОСЬКИН
ХОЧУ ПОНЯТЬ
УЛИЦА ИМЕНИ УЧИТЕЛЯ
ВЕЧЕРНИЕ БЕСЕДЫ
ГОРЕ ТАМАРЫ БЕЛОВОЙ
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ
ЦВЕТЫ НА КЛУМБЕ
КАРАУЛ НА РАССВЕТЕ
ПИСЬМО
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
КОМНАТА ДЛЯ «СЕСТРЫ»
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ПЕРЕПОЛОХ
ГРОМ С ЯСНОГО НЕБА
ЧАСТЬ ВТОРАЯ,
рассказанная Ниной Звягинцевой
ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ
ПРЯМЫЕ УЛИКИ
КОЛХОЗНАЯ ПРАКТИКА
СЛЕДОВАТЕЛЬ
У МУХИНЫХ
НА ЗАВОДЕ
ИДУ В ГОСТИ
В ПОИСКАХ ВЫХОДА
ОШИБКИ И ВЫВОДЫ
ПЕРЕМЕНЫ ВО ДВОРЕ
АКТИВНАЯ ОБОРОНА
ЧТО ЖЕ ПРЕДПРИНЯТЫ
ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД
МЕЧТАЮ О КВАРТЕТЕ

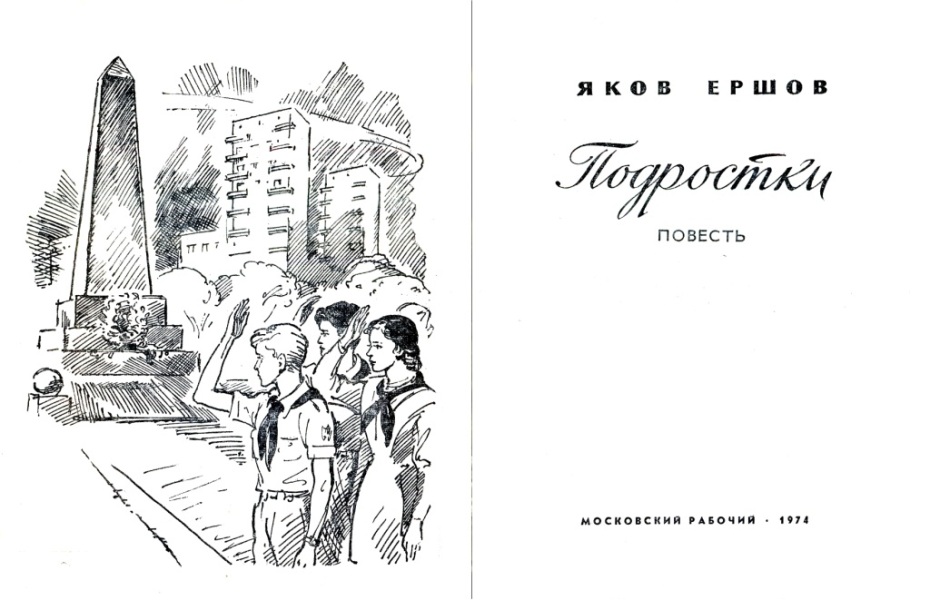




 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.