Леонид Лиходеев
Клешня
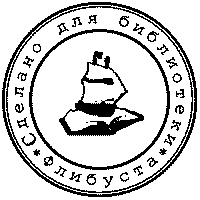
Это фельетон не о ценителях искусстве, а об оценщиках. Бывают люди, которые не научились ценить, но уже торопятся категорически оценивать, так сказать, наотмашь. Бывают люди, которым чуждо туманное понятие «эстетическое наслаждение» и очень близко понятие «к чему бы это можно приспособить». Они смотрят на «Княжну Тараканову» и считают, сколько кубометров воды вливается в ее каземат за одну минуту. Они смотрят на «Боярыню Морозову» и учатся, как запрягать лошадь. Они смотрят пейзажи Левитана и прикидывают, сколько желтой краски пошло на «Золотую осень». У них особый взгляд.
Оценщик берет журнал, ставит его перед собой на попа и начинает вглядываться в текст и в иллюстрации. Он никогда не читает с начала до конца, никогда не получает от чтения удовольствия и ничего не переживает с героями. Он ставит перед собою текст, прикладывает козырьком ладонь ко лбу и предвкушает добычу.
Добыча эта такая:
«Петя взял Машу за руку».
— Взял все-таки, сукин сын... — сладострастно бормочет оценщик-любитель и добавляет: — Распустились...
«Клава уткнулась в грудь Валерия».
— Ага! Уткнулась! Утыкайся, утыкайся... Доутыкаешься... Вот недавно лекцию читали. О распущенности. Особенно среди девочек.
Но когда герои начинают целоваться, любитель отводит руку, которую держал все время козырьком. Он берет в десницу карандаш и пододвигает к себе вспомогательной шуйцей листок бумаги. Он в этот момент похож на рака с двумя безработными клешнями. И ему очень желательно чего-нибудь откусить. Сам он никогда в жизни не целовался, детей ему принес аист, а самого его нашли в капусте во время борьбы с вредителями овощных культур: боролись-боролись, смотрят — лежит!
Он никогда никого не любил, его никогда не лихорадило под городскими часами, он никогда не плакал от ревности. Он никогда не дарил цветов просто так, без повода и случая. Единственный раз он разорился на это дело, когда хоронили сослуживца и собирали на жестяной венок.
Итак, он берет карандаш и бумагу и делает выписки из
высмотренного. Я говорю из высмотренного потому, что и читает он и смотрит на картины не как все нормальные люди, а как особо уполномоченное лицо с целью доложить о замеченном.
Что же он высматривает?
«Она умела показать все, что было в ней красивого».
Это его возмущает:
— Видал, какое безобразие! Вместо того, чтобы скромно прикрыться рогожей, она еще показывает свое несчастье нашим простым людям! Отвлекает! Хвалится! Да... Распустились... А фигурка, наверно, не плохая. Поглядеть бы... Тем более автор пишет, что у нее там ноги всякие, колени...
И оценщик пишет с гневом:
— Чему может научить автор?!
И автор хватается за голову.
Но оценщик не дает ему хвататься. Он снова прикладывает ко лбу ладошку козырьком и смотрит на автора, как на поле боя, покрытое поверженным неприятелем.
— Ага! Попался? Колени, говоришь? Да еще теплые? Губы, говоришь? Красоту показывает? Подъем ноги у ней выдающий? Так? Признавайся!

— Да, — бормочет автор, — она красивая...
И тогда любитель клацает своей клешней:
— Клевета на нашу молодежь! У нашей молодежи нет коленей! Нет губ! Нет ног! Ей все это чуждо!
— Хорошо, — говорит автор, — но идет-то она на ногах и, как поется в песне, грудью ветер разрезая...
Но оценщик не унимается:
— Это не та грудь! И не те ноги! Это стальная грудь и железные ноги! А не ваши теплые колени!
Вот такой разговор заводит оценщик-любитель. А чтобы не быть голословным, я приведу выдержку из его письма в редакцию по поводу одной повести, напечатанной в журнале:
«Перед нами, учителями, выступил работник милиции с просьбой, чтобы мы как можно больше проводили воспитательную работу, особенно среди девочек. Но что стоит работа, может быть, не одной тысячи учителей, наши беседы, если одно такое «произведение» сводит на нет всю эту работу?»
Мне искренне жаль автора письма. Действительно, что стоит такая работа, если всю ее сводит на нет одно произведение! Ничего она не стоит.
Короче говоря, оценщик явно выбирается в моралисты. Он просто не может себе представить, чтобы красота не несла в себе разрушительных аморальных функций. Ему кажется, разврат начинается именно здесь — возле книг и полотен. Ему кажется, что мерзкая распущенность берет свое начало не в жизни, а на бумаге и на холсте. Он убежден, что искусство существует не для осмысливания жизни, а для обезьяньего подражания. Он полагает, что искусство служит не для расширения взглядов, а для довольствования своими скудными представлениями о том, о сем. Примеривая к высокой идее свои мелкие представления, он оберегает себя от необходимости думать, поскольку думать ему просто лень...
В этом самом месте ценитель-моралист накинется уже на меня:
— Как? В журнале для юношества критиковать учителя? Ронять его авторитет? Вместо того, чтобы воспитывать, особенно девочек?
А как воспитывать особенно девочек? Например, так, что ли:
— Мальчики! Не смейте читать этот фельетон! Он для девочек!
Мальчики сразу краснеют и идут играть в лото.
Или наоборот:
— Девочки! Этот фельетон — бяка. Он только для мальчиков.

Девочки тоже краснеют и идут вышивать гладью.
Оценщик-моралист думает, что наши милые послушные дети моментально разбегаются, едва только увидят надпись «Детям до шестнадцати лет нельзя...». Калачом не заманишь!
А тем не менее и у мальчиков и у девочек есть глаза и ресницы, и брови, и губы, а у некоторых — даже красивые волосы. Имеются у них даже руки, ноги и колени. И у девочек они красивее, чем у мальчиков. Такова уж игра природы. Но именно это обстоятельство не дает покоя моралистам-любителям, которые произошли от капустного листа, особой красотою не отличающегося. Поэтому они считают себя единственными знатоками вопроса: как быть с таким несчастьем, как живой и теплый человек?
Что же происходит?
Происходит ханжество. Происходит ложь, прикрытая ангельскими хитонами. И дети в возрасте до шестнадцати лет понимают это не хуже детей в возрасте после шестнадцати. И напрасно автор приведенного письма жалуется на то, что одним произведением сводится на нет вся его работа. Ничего она не сводится. Ее и нету вовсе. Потому что это неправда. Потому что ложь лежит в самом ее существе. Судите сами: «особенно среди девочек». А «особенно среди мальчиков»? Понимаете, существует, вероятно, «общая работа» — это, когда про стальную грудь и про железные ноги. Конечно, лучше бы, чтобы человек состоял исключительно из этих деталей. Тогда было бы все в порядке, работа бы не сводилась на нет одним произведением. Но в проклятом произведении написано, что колени теплые. Потрогаешь себя за колени — и действительно, теплые! И как это автор допер? Не иначе — подсмотрел в жизни! Дай-ка и я загляну в щелку. Может, еще и не то увижу. Интересно!

Любить вообще, конечно, хорошо. Дружба, товарищество, любовь, самодеятельность, кружковая работа. Массовое мероприятие! Но любить в частности стыдно. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Никакого массового охвата. Начнешь охватывать — только соловья вспугнешь.
А между тем искусство занималось главным образом частностями. Джульетта, например, любила своего Ромео совершенно частным образом, не прослушав ни одной лекции о любви и дружбе. Более того, за любовь она заплатила смертью. Может быть, эта девушка покажется нам этически отсталой. Есть даже такая развеселая песня-лозунг: «Любить — так сильней, чем Ромео Джульетту!» Лично я на этом не настаиваю. Конечно, дай бог нашему теляти волка съесть. Но даже любить в подобную силу тоже неплохо...
И тут просто необходимо отметить благородный порыв оценщика-любителя. Он, видите ли, борется с развращенностью. Допустим. Но как он это делает? А по своему усмотрению. Из-под ладошки.
«Подобное произведение культивирует грязные мысли», — пишет он.
Культивирует, стало быть. А что такое грязные мысли?
Грязные мысли — это запачканные чистые. Берется чистая мысль и приставляется к ней замочная скважина. И все. И мысль уже грязная. Потому что Венеру Медицейскую — символ красоты и чистоты — можно заподозрить в развращенности по весьма доступной причине: она голая. Но автор ее, можно с уверенностью сказать, был довольно далек от этой идиотской гипотезы. Он не виноват, что не дал возможности перегруженным своей культурностью моралистам-любителям домыслить: чего это там у человека под одеждой? Он вероломно лишил их единственно доступного им взгляда на жизнь: сквозь замочную скважину. А между тем существует прекрасная древняя легенда о скульпторе, который, создав мраморную женщину, молил богов, чтобы они ее оживили, — настолько она была прекрасна. И боги пошли навстречу пожеланиям художника, поскольку не знали еще, что такое замочная скважина, и смотрели на мир чистыми глазами, как смотрят на чудо правдивые, простодушные дети.
Хуже всего, когда моралисту попадается в поле зрения, как говорится, обнаженная натура. Тут он уже начинает стрелять без предупреждения.
«Не умаляя таланта художника, — пишет моралист, — что редакция преследовала, помещая голую женщину для обозрения 15—17-летних ребят?»
Видите, как? «Голую женщину для обозрения»! Вроде как поганую надпись на заборе. Дескать, ребя! Гляди! Голая баба! У-лю-лю... Не это ли и есть развращенность?
Понимаете разницу между обнаженной натурой и голой женщиной, помещенной для обозрения? Микеланджело, например, никакого «Давида» не лепил. Он вылепил голого со всеми подробностями мужчину (какое неприличное слово!) и установил его для обозрения. Смотрите, мол, кто не видел, какой бывает голый дядька! А то, что его «Давид» мужествен, юн, чист, задумчив, красив, — это значения не имеет.
Развращенность существует. С развращенностью надо драться. И гораздо крепче, чем думает моралист-любитель. И гораздо шире, чем он преподает. И не с помощью ханжества и предрассудков, а с помощью правды. Но ведь искусство и воюет с развращенностью! Искусство и развращенность — вещи взаимоисключающие! Потому что искусство — это правда, а развращенность — это мерзкое поругание самого себя, жалкое, хвастливое возвеличивание своего ничтожества.
Так вот есть лица, которым эта разница не ясна. Они обращают внимание только на то, что они уже знают. Они знают, как устроен человек (видели в бане). И больше их ничего не интересует. Поэтому, видя обнаженную натуру, они кидаются прежде всего смотреть то, что им уже известно. И вдоволь насмотревшись и убедившись, что художник изобразил все, как надо, начинают кричать, что можно уже одевать. Между прочим, так поступают жутко мудрый моралист-охранитель и успевшие ткнуться носиком в грязь юные сопляки...
Так получилось, например, с живой, теплой, человеческой картиной А. Пластова «Весна». На ней изображена обнаженная женщина, одевающая девочку возле бани. Обнаженная, а не голая. Может быть, в обиходе разница между этими словами не улавливается. Но на обнаженных смотрят, восхищаясь. А на голых подглядывают, пуская слюну.
Итак, «что редакция преследовала, помещая голую женщину»? Или, как пишет другой оценщик, «не лучше бы нарисовать эту молодую мать в купальном костюме на воздухе, делающей спортивное упражнение»? Тем более третий оценщик тревожится о судьбах искусства тем, что «на улице холодно. Но женщина раздетая — это как-то нереально».
И почему обязательно «молодая мать»? А может быть, это девочкина старшая сестра? Или тетя? Или просто соседка? А может быть, она не умеет делать «спортивное упражнение»? А может быть, наоборот, она занимается зимним купанием, нырянием, и ей не страшен мороз. Сказано же: ни мороз нам не страшен, ни жара.
Но как бы то ни было, никто из этих трех критиков картины не увидел ничего, кроме того, что можно увидеть в замочную скважину. А между тем А. Пластов изобразил здоровое, красивое тело энергичной, заботливой женщины. Он изобразил легкий, невесомый снежок, какой бывает только весною, когда, как говорится, из небесных сусеков последнее метут. Он изобразил человеческое настроение, свойственное весенним предчувствиям. Сочные краски, без которых живописи не бывает, создают это настроение. Но моралисту плевать на живопись. Ему все равно: мрамор — не мрамор, холст — не холст, какая разница!

Согласитесь, что делать откровение из своих практических знаний просто глупо. Все знают всё. И даже читатели юношеского журнала.
Перед художественным произведением, что бы ни было на нем изображено, люди думают, размышляют, обобщают, всматриваясь в замысел. Но поставьте перед ними замочную скважину, и вы тотчас услышите лошадиное ржание дураков. И вы тотчас услышите советы, где покупать купальники и бюстгальтеры. И природа — веселая, открытая, чистая и свежая — окажется вымазанной вонючим дегтем ограниченных людей, возводящих свою ограниченность, свое невежество, свой кухонный утилитаризм в степень непререкаемой истины. И истина эта грязна, потому что происходит не от честного взгляда, а от развращенного подглядывания.
Надо все-таки понимать, где художественное произведение, а где анатомический атлас с пририсованными усами.
Яркому, бурному расцвету искусства в истории человечества предшествовал мрачный период средневековья, когда за чистые мысли сжигали, когда свирепые фанатики хотели превратить человечество в однородную лягушачью икру без глаз, без бровей, без ног и без мыслей, Я не хочу утомлять читателя, но высказывания тогдашних мракобесов ничем не отличаются от проповедей нынешних доброхотов-моралистов. Они сводятся к одной задаче: убивать в человеке чувство прекрасного, навешать на него вериги и задушить его позором.
Но прекрасное существует. Существует мудрый Рембрандт и неуемный Рубенс, существует грозный в своем смехе Рабле и веселый Боккаччо. И весь ужас в том, что существуют они уже задолго до того, как нашим мальчикам и девочкам стукнет по шестнадцати лет. Но если этим мальчикам и девочкам постоянно талдычить, что под одеждой все люди голые и при этом они еще делятся на мужчин и женщин (какой позор!), старик Рабле помрет, не родившись в их сознании, потому что побегут они не к нему, не к старику Рабле, а к замочным скважинам. Потому что легче всего научить человека видеть мир через замочную скважину.
Весь этот взгляд оценщика похож на тот случай, когда хлещут горькую, проповедуя сухой закон. Надо, так сказать, первым крикнуть что-нибудь сугубо моральное. И крик этот, как этакое раскаяние, прикроет грех собственного недомыслия. Насмотришься вдоволь, а потом вылезешь на амвон и покроешь позором.
То-то и оно, дорогой читатель. Возлюбленная формула ханжей — грешить и каяться. Покайтесь, и вам простят. Вам простят грех, но не простят, если вы в нем не покаетесь. А почему? А потому, что приятно смотреть на раскаивающегося.
— Ну-ка, негодяй, расскажи все, как было! Да с подробностями!
Интересно!
— А теперь раскайся! Скажи, что больше не будешь!
И вырастают мальчики и девочки, которым раскаяться — раз плюнуть. Раскаешься — отцепятся до следующего раза. Потому что ханжа считает себя заведующим вашим внешним обликом. Чтоб налицо все было по описи: грудь стальная, ноги железные, взгляд огневой. Ну, постучишь себя в якобы стальную грудь якобы железным кулачком. Жалко, что ли? А некоторые даже и не каются. Мерзкое самопоругание кажется им высшим достижением самостоятельности. И искусство здесь совершенно ни при чем. Здесь ни при чем обнаженная натура, как и откровенная чистота литературных героев. Здесь «при чем» только слюнявое соучастие в том, что существует лишь в грязной фантазии.
А ведь грудь не стальная! Это каждый сызмальства знает. Не стальная она и не стальная. И колотится в ней сердце. Гулко и тревожно. И есть два пути: один — грешить и каяться, а другой — чувствовать себя частицей удивительного мира, в котором поют птицы и живут книги, полощется небо и цветут цветы. Мира, в котором совершенно задаром, ничего не требуя взамен, сверкают звезды, сгущаются тучи, хохочет солнце, идут дожди, облетают листья и поднимаются подснежники. В этом мире есть все — радость и печаль, грусть и веселье. В нем есть и стихи, и вино, и розы, и музыка.
И есть в нем теплые колени женщины и прекрасное ее лицо, без которого просто не было бы ни этого удивительного мира, ни поражающей мощи жизни.
И не надо прикладывать козырьком ко лбу ладошку. И не надо смотреть в замочную скважину. Все явно. Все чисто и открыто.
Я вижу, как уже клацает своей клешней оценщик-моралист:
— Ага! Попался! Вместо того, чтобы клеймить, что проповедует!
А я ничего не проповедую. Я просто хочу поздравить читателей с Новым годом, с новыми звездами и с чистыми мыслями.

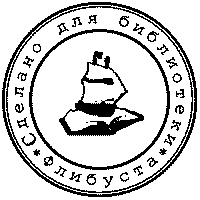
 — Да, — бормочет автор, — она красивая...
И тогда любитель клацает своей клешней:
— Клевета на нашу молодежь! У нашей молодежи нет коленей! Нет губ! Нет ног! Ей все это чуждо!
— Хорошо, — говорит автор, — но идет-то она на ногах и, как поется в песне, грудью ветер разрезая...
Но оценщик не унимается:
— Это не та грудь! И не те ноги! Это стальная грудь и железные ноги! А не ваши теплые колени!
Вот такой разговор заводит оценщик-любитель. А чтобы не быть голословным, я приведу выдержку из его письма в редакцию по поводу одной повести, напечатанной в журнале:
— Да, — бормочет автор, — она красивая...
И тогда любитель клацает своей клешней:
— Клевета на нашу молодежь! У нашей молодежи нет коленей! Нет губ! Нет ног! Ей все это чуждо!
— Хорошо, — говорит автор, — но идет-то она на ногах и, как поется в песне, грудью ветер разрезая...
Но оценщик не унимается:
— Это не та грудь! И не те ноги! Это стальная грудь и железные ноги! А не ваши теплые колени!
Вот такой разговор заводит оценщик-любитель. А чтобы не быть голословным, я приведу выдержку из его письма в редакцию по поводу одной повести, напечатанной в журнале:
 Девочки тоже краснеют и идут вышивать гладью.
Оценщик-моралист думает, что наши милые послушные дети моментально разбегаются, едва только увидят надпись «Детям до шестнадцати лет нельзя...». Калачом не заманишь!
А тем не менее и у мальчиков и у девочек есть глаза и ресницы, и брови, и губы, а у некоторых — даже красивые волосы. Имеются у них даже руки, ноги и колени. И у девочек они красивее, чем у мальчиков. Такова уж игра природы. Но именно это обстоятельство не дает покоя моралистам-любителям, которые произошли от капустного листа, особой красотою не отличающегося. Поэтому они считают себя единственными знатоками вопроса: как быть с таким несчастьем, как живой и теплый человек?
Что же происходит?
Происходит ханжество. Происходит ложь, прикрытая ангельскими хитонами. И дети в возрасте до шестнадцати лет понимают это не хуже детей в возрасте после шестнадцати. И напрасно автор приведенного письма жалуется на то, что одним произведением сводится на нет вся его работа. Ничего она не сводится. Ее и нету вовсе. Потому что это неправда. Потому что ложь лежит в самом ее существе. Судите сами: «особенно среди девочек». А «особенно среди мальчиков»? Понимаете, существует, вероятно, «общая работа» — это, когда про стальную грудь и про железные ноги. Конечно, лучше бы, чтобы человек состоял исключительно из этих деталей. Тогда было бы все в порядке, работа бы не сводилась на нет одним произведением. Но в проклятом произведении написано, что колени теплые. Потрогаешь себя за колени — и действительно, теплые! И как это автор допер? Не иначе — подсмотрел в жизни! Дай-ка и я загляну в щелку. Может, еще и не то увижу. Интересно!
Девочки тоже краснеют и идут вышивать гладью.
Оценщик-моралист думает, что наши милые послушные дети моментально разбегаются, едва только увидят надпись «Детям до шестнадцати лет нельзя...». Калачом не заманишь!
А тем не менее и у мальчиков и у девочек есть глаза и ресницы, и брови, и губы, а у некоторых — даже красивые волосы. Имеются у них даже руки, ноги и колени. И у девочек они красивее, чем у мальчиков. Такова уж игра природы. Но именно это обстоятельство не дает покоя моралистам-любителям, которые произошли от капустного листа, особой красотою не отличающегося. Поэтому они считают себя единственными знатоками вопроса: как быть с таким несчастьем, как живой и теплый человек?
Что же происходит?
Происходит ханжество. Происходит ложь, прикрытая ангельскими хитонами. И дети в возрасте до шестнадцати лет понимают это не хуже детей в возрасте после шестнадцати. И напрасно автор приведенного письма жалуется на то, что одним произведением сводится на нет вся его работа. Ничего она не сводится. Ее и нету вовсе. Потому что это неправда. Потому что ложь лежит в самом ее существе. Судите сами: «особенно среди девочек». А «особенно среди мальчиков»? Понимаете, существует, вероятно, «общая работа» — это, когда про стальную грудь и про железные ноги. Конечно, лучше бы, чтобы человек состоял исключительно из этих деталей. Тогда было бы все в порядке, работа бы не сводилась на нет одним произведением. Но в проклятом произведении написано, что колени теплые. Потрогаешь себя за колени — и действительно, теплые! И как это автор допер? Не иначе — подсмотрел в жизни! Дай-ка и я загляну в щелку. Может, еще и не то увижу. Интересно!
 Любить вообще, конечно, хорошо. Дружба, товарищество, любовь, самодеятельность, кружковая работа. Массовое мероприятие! Но любить в частности стыдно. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Никакого массового охвата. Начнешь охватывать — только соловья вспугнешь.
А между тем искусство занималось главным образом частностями. Джульетта, например, любила своего Ромео совершенно частным образом, не прослушав ни одной лекции о любви и дружбе. Более того, за любовь она заплатила смертью. Может быть, эта девушка покажется нам этически отсталой. Есть даже такая развеселая песня-лозунг: «Любить — так сильней, чем Ромео Джульетту!» Лично я на этом не настаиваю. Конечно, дай бог нашему теляти волка съесть. Но даже любить в подобную силу тоже неплохо...
И тут просто необходимо отметить благородный порыв оценщика-любителя. Он, видите ли, борется с развращенностью. Допустим. Но как он это делает? А по своему усмотрению. Из-под ладошки.
«Подобное произведение культивирует грязные мысли», — пишет он.
Культивирует, стало быть. А что такое грязные мысли?
Грязные мысли — это запачканные чистые. Берется чистая мысль и приставляется к ней замочная скважина. И все. И мысль уже грязная. Потому что Венеру Медицейскую — символ красоты и чистоты — можно заподозрить в развращенности по весьма доступной причине: она голая. Но автор ее, можно с уверенностью сказать, был довольно далек от этой идиотской гипотезы. Он не виноват, что не дал возможности перегруженным своей культурностью моралистам-любителям домыслить: чего это там у человека под одеждой? Он вероломно лишил их единственно доступного им взгляда на жизнь: сквозь замочную скважину. А между тем существует прекрасная древняя легенда о скульпторе, который, создав мраморную женщину, молил богов, чтобы они ее оживили, — настолько она была прекрасна. И боги пошли навстречу пожеланиям художника, поскольку не знали еще, что такое замочная скважина, и смотрели на мир чистыми глазами, как смотрят на чудо правдивые, простодушные дети.
Хуже всего, когда моралисту попадается в поле зрения, как говорится, обнаженная натура. Тут он уже начинает стрелять без предупреждения.
Любить вообще, конечно, хорошо. Дружба, товарищество, любовь, самодеятельность, кружковая работа. Массовое мероприятие! Но любить в частности стыдно. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Никакого массового охвата. Начнешь охватывать — только соловья вспугнешь.
А между тем искусство занималось главным образом частностями. Джульетта, например, любила своего Ромео совершенно частным образом, не прослушав ни одной лекции о любви и дружбе. Более того, за любовь она заплатила смертью. Может быть, эта девушка покажется нам этически отсталой. Есть даже такая развеселая песня-лозунг: «Любить — так сильней, чем Ромео Джульетту!» Лично я на этом не настаиваю. Конечно, дай бог нашему теляти волка съесть. Но даже любить в подобную силу тоже неплохо...
И тут просто необходимо отметить благородный порыв оценщика-любителя. Он, видите ли, борется с развращенностью. Допустим. Но как он это делает? А по своему усмотрению. Из-под ладошки.
«Подобное произведение культивирует грязные мысли», — пишет он.
Культивирует, стало быть. А что такое грязные мысли?
Грязные мысли — это запачканные чистые. Берется чистая мысль и приставляется к ней замочная скважина. И все. И мысль уже грязная. Потому что Венеру Медицейскую — символ красоты и чистоты — можно заподозрить в развращенности по весьма доступной причине: она голая. Но автор ее, можно с уверенностью сказать, был довольно далек от этой идиотской гипотезы. Он не виноват, что не дал возможности перегруженным своей культурностью моралистам-любителям домыслить: чего это там у человека под одеждой? Он вероломно лишил их единственно доступного им взгляда на жизнь: сквозь замочную скважину. А между тем существует прекрасная древняя легенда о скульпторе, который, создав мраморную женщину, молил богов, чтобы они ее оживили, — настолько она была прекрасна. И боги пошли навстречу пожеланиям художника, поскольку не знали еще, что такое замочная скважина, и смотрели на мир чистыми глазами, как смотрят на чудо правдивые, простодушные дети.
Хуже всего, когда моралисту попадается в поле зрения, как говорится, обнаженная натура. Тут он уже начинает стрелять без предупреждения.
 Согласитесь, что делать откровение из своих практических знаний просто глупо. Все знают всё. И даже читатели юношеского журнала.
Перед художественным произведением, что бы ни было на нем изображено, люди думают, размышляют, обобщают, всматриваясь в замысел. Но поставьте перед ними замочную скважину, и вы тотчас услышите лошадиное ржание дураков. И вы тотчас услышите советы, где покупать купальники и бюстгальтеры. И природа — веселая, открытая, чистая и свежая — окажется вымазанной вонючим дегтем ограниченных людей, возводящих свою ограниченность, свое невежество, свой кухонный утилитаризм в степень непререкаемой истины. И истина эта грязна, потому что происходит не от честного взгляда, а от развращенного подглядывания.
Надо все-таки понимать, где художественное произведение, а где анатомический атлас с пририсованными усами.
Яркому, бурному расцвету искусства в истории человечества предшествовал мрачный период средневековья, когда за чистые мысли сжигали, когда свирепые фанатики хотели превратить человечество в однородную лягушачью икру без глаз, без бровей, без ног и без мыслей, Я не хочу утомлять читателя, но высказывания тогдашних мракобесов ничем не отличаются от проповедей нынешних доброхотов-моралистов. Они сводятся к одной задаче: убивать в человеке чувство прекрасного, навешать на него вериги и задушить его позором.
Но прекрасное существует. Существует мудрый Рембрандт и неуемный Рубенс, существует грозный в своем смехе Рабле и веселый Боккаччо. И весь ужас в том, что существуют они уже задолго до того, как нашим мальчикам и девочкам стукнет по шестнадцати лет. Но если этим мальчикам и девочкам постоянно талдычить, что под одеждой все люди голые и при этом они еще делятся на мужчин и женщин (какой позор!), старик Рабле помрет, не родившись в их сознании, потому что побегут они не к нему, не к старику Рабле, а к замочным скважинам. Потому что легче всего научить человека видеть мир через замочную скважину.
Весь этот взгляд оценщика похож на тот случай, когда хлещут горькую, проповедуя сухой закон. Надо, так сказать, первым крикнуть что-нибудь сугубо моральное. И крик этот, как этакое раскаяние, прикроет грех собственного недомыслия. Насмотришься вдоволь, а потом вылезешь на амвон и покроешь позором.
То-то и оно, дорогой читатель. Возлюбленная формула ханжей — грешить и каяться. Покайтесь, и вам простят. Вам простят грех, но не простят, если вы в нем не покаетесь. А почему? А потому, что приятно смотреть на раскаивающегося.
— Ну-ка, негодяй, расскажи все, как было! Да с подробностями!
Интересно!
— А теперь раскайся! Скажи, что больше не будешь!
И вырастают мальчики и девочки, которым раскаяться — раз плюнуть. Раскаешься — отцепятся до следующего раза. Потому что ханжа считает себя заведующим вашим внешним обликом. Чтоб налицо все было по описи: грудь стальная, ноги железные, взгляд огневой. Ну, постучишь себя в якобы стальную грудь якобы железным кулачком. Жалко, что ли? А некоторые даже и не каются. Мерзкое самопоругание кажется им высшим достижением самостоятельности. И искусство здесь совершенно ни при чем. Здесь ни при чем обнаженная натура, как и откровенная чистота литературных героев. Здесь «при чем» только слюнявое соучастие в том, что существует лишь в грязной фантазии.
А ведь грудь не стальная! Это каждый сызмальства знает. Не стальная она и не стальная. И колотится в ней сердце. Гулко и тревожно. И есть два пути: один — грешить и каяться, а другой — чувствовать себя частицей удивительного мира, в котором поют птицы и живут книги, полощется небо и цветут цветы. Мира, в котором совершенно задаром, ничего не требуя взамен, сверкают звезды, сгущаются тучи, хохочет солнце, идут дожди, облетают листья и поднимаются подснежники. В этом мире есть все — радость и печаль, грусть и веселье. В нем есть и стихи, и вино, и розы, и музыка.
И есть в нем теплые колени женщины и прекрасное ее лицо, без которого просто не было бы ни этого удивительного мира, ни поражающей мощи жизни.
И не надо прикладывать козырьком ко лбу ладошку. И не надо смотреть в замочную скважину. Все явно. Все чисто и открыто.
Я вижу, как уже клацает своей клешней оценщик-моралист:
— Ага! Попался! Вместо того, чтобы клеймить, что проповедует!
А я ничего не проповедую. Я просто хочу поздравить читателей с Новым годом, с новыми звездами и с чистыми мыслями.
Согласитесь, что делать откровение из своих практических знаний просто глупо. Все знают всё. И даже читатели юношеского журнала.
Перед художественным произведением, что бы ни было на нем изображено, люди думают, размышляют, обобщают, всматриваясь в замысел. Но поставьте перед ними замочную скважину, и вы тотчас услышите лошадиное ржание дураков. И вы тотчас услышите советы, где покупать купальники и бюстгальтеры. И природа — веселая, открытая, чистая и свежая — окажется вымазанной вонючим дегтем ограниченных людей, возводящих свою ограниченность, свое невежество, свой кухонный утилитаризм в степень непререкаемой истины. И истина эта грязна, потому что происходит не от честного взгляда, а от развращенного подглядывания.
Надо все-таки понимать, где художественное произведение, а где анатомический атлас с пририсованными усами.
Яркому, бурному расцвету искусства в истории человечества предшествовал мрачный период средневековья, когда за чистые мысли сжигали, когда свирепые фанатики хотели превратить человечество в однородную лягушачью икру без глаз, без бровей, без ног и без мыслей, Я не хочу утомлять читателя, но высказывания тогдашних мракобесов ничем не отличаются от проповедей нынешних доброхотов-моралистов. Они сводятся к одной задаче: убивать в человеке чувство прекрасного, навешать на него вериги и задушить его позором.
Но прекрасное существует. Существует мудрый Рембрандт и неуемный Рубенс, существует грозный в своем смехе Рабле и веселый Боккаччо. И весь ужас в том, что существуют они уже задолго до того, как нашим мальчикам и девочкам стукнет по шестнадцати лет. Но если этим мальчикам и девочкам постоянно талдычить, что под одеждой все люди голые и при этом они еще делятся на мужчин и женщин (какой позор!), старик Рабле помрет, не родившись в их сознании, потому что побегут они не к нему, не к старику Рабле, а к замочным скважинам. Потому что легче всего научить человека видеть мир через замочную скважину.
Весь этот взгляд оценщика похож на тот случай, когда хлещут горькую, проповедуя сухой закон. Надо, так сказать, первым крикнуть что-нибудь сугубо моральное. И крик этот, как этакое раскаяние, прикроет грех собственного недомыслия. Насмотришься вдоволь, а потом вылезешь на амвон и покроешь позором.
То-то и оно, дорогой читатель. Возлюбленная формула ханжей — грешить и каяться. Покайтесь, и вам простят. Вам простят грех, но не простят, если вы в нем не покаетесь. А почему? А потому, что приятно смотреть на раскаивающегося.
— Ну-ка, негодяй, расскажи все, как было! Да с подробностями!
Интересно!
— А теперь раскайся! Скажи, что больше не будешь!
И вырастают мальчики и девочки, которым раскаяться — раз плюнуть. Раскаешься — отцепятся до следующего раза. Потому что ханжа считает себя заведующим вашим внешним обликом. Чтоб налицо все было по описи: грудь стальная, ноги железные, взгляд огневой. Ну, постучишь себя в якобы стальную грудь якобы железным кулачком. Жалко, что ли? А некоторые даже и не каются. Мерзкое самопоругание кажется им высшим достижением самостоятельности. И искусство здесь совершенно ни при чем. Здесь ни при чем обнаженная натура, как и откровенная чистота литературных героев. Здесь «при чем» только слюнявое соучастие в том, что существует лишь в грязной фантазии.
А ведь грудь не стальная! Это каждый сызмальства знает. Не стальная она и не стальная. И колотится в ней сердце. Гулко и тревожно. И есть два пути: один — грешить и каяться, а другой — чувствовать себя частицей удивительного мира, в котором поют птицы и живут книги, полощется небо и цветут цветы. Мира, в котором совершенно задаром, ничего не требуя взамен, сверкают звезды, сгущаются тучи, хохочет солнце, идут дожди, облетают листья и поднимаются подснежники. В этом мире есть все — радость и печаль, грусть и веселье. В нем есть и стихи, и вино, и розы, и музыка.
И есть в нем теплые колени женщины и прекрасное ее лицо, без которого просто не было бы ни этого удивительного мира, ни поражающей мощи жизни.
И не надо прикладывать козырьком ко лбу ладошку. И не надо смотреть в замочную скважину. Все явно. Все чисто и открыто.
Я вижу, как уже клацает своей клешней оценщик-моралист:
— Ага! Попался! Вместо того, чтобы клеймить, что проповедует!
А я ничего не проповедую. Я просто хочу поздравить читателей с Новым годом, с новыми звездами и с чистыми мыслями.