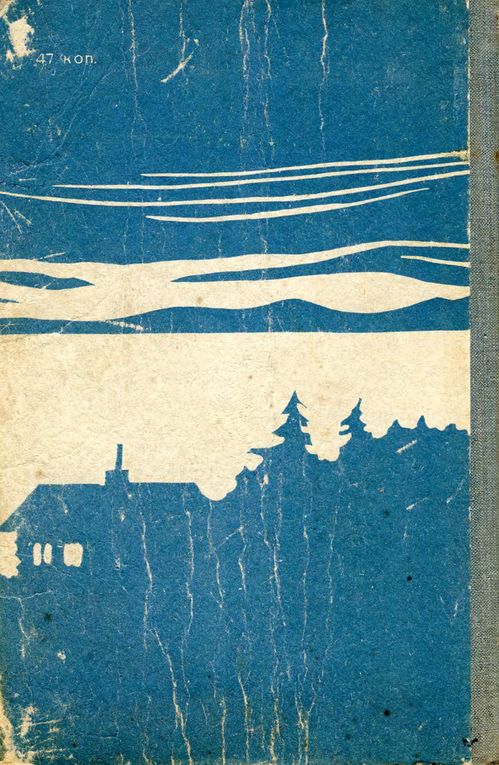Александр Грачев
СТОРОЖКА У БУРУКАНСКИХ ПЕРЕКАТОВ
Повесть

 1. Экспедиция профессора Сафьянова
1. Экспедиция профессора Сафьянова
Стояла пора весенних ветров на Амуре. Она по обыкновению бывает здесь после ледохода. Штормило почти неделю. Был грозен и суров дикий пляс воды и ветра — со свистом, с грохотом волн у берегов и зловещими беляками, вскипающими на изжелта-черном плесе могучей реки, с тучами поднятого песка над косами. Казалось, природа празднует освобождение сил, томившихся под ледяной броней в течение полугода.
В такие дни, обычно под вечер, на верхней площадке башни, воздвигнутой на Хабаровском утесе, можно было видеть одинокую фигуру высокого и тощего, как жердь, человека лет под шестьдесят. Во всем сером — войлочной шляпе, в коверкотовом пальто-реглане — он, этот довольно приметный человек, неторопливо поднимался по ступенькам и шел к перилам площадки; казалось, ему тяжело ходить оттого, что его отягощают огромные ботинки — по меньшей мере сорок восьмого размера. Надвинув поглубже шляпу и положив на перила свои длинные руки, он подолгу стоял не шевелясь. Усталый взор его больших, узких в прорези глаз был устремлен в бескрайние просторы амурской поймы. Нет, не похоже, чтобы он любовался этими захватывающими приамурскими далями с синеющими у горизонта сопками, этим могучим изгибом темного Амура. Он смотрел на чешуйчатый панцирь волн, на белесое безоблачное небо, на синие увалы Хехцирского хребта, надеясь увидеть к вечеру приметы, указывающие на перемену погоды. Никаких признаков.
С утеса человек в сером направлялся к ближайшей будке телефона-автомата, и вскоре оттуда слышался его спокойный, слегка глуховатый бас:
— Бюро погоды? Вас снова беспокоит назойливый профессор Сафьянов. Что можете пообещать на завтра? Благодарю вас, — корректно заканчивал он и сердито вешал трубку на рычажок.
Дважды ему обещали «слабый до умеренного» ветер, и оба раза погода посмеялась над предсказаниями.
На ближайшей остановке такси профессор Сафьянов брал машину и отправлялся в затон; там на приколе стоял катер его экспедиции. Диспетчер порта не выпускал его в рейс, пока не прекратится шторм. Сейчас на катере жили члены экспедиции — студенты и аспиранты биофака Московского университета.
Экспедиция была уже окончательно готова к выходу по маршруту средний Амур — озеро Болонь — устье Амгуни, когда ее застигла непогода. Профессор Сафьянов — видный ихтиолог. Он не впервые возглавлял подобные экспедиции на Амур, но такого с ним никогда не случалось. Знаток Амура, он на этот раз просто поторопился с выходом в маршрут, выпустив из виду сезон весенних ветров. Теперь он ругал себя самыми последними словами.
Ругал не только за эту промашку. В день приезда в Хабаровск, а это было две недели назад, он узнал, что директор института рыбного хозяйства собирается вызвать заведующего биологическим пунктом на озере Чогор Колчанова. Сафьянов из опасения, что они разминутся в пути, попросил отложить вызов и дал телеграмму Колчанову, что днями будет у него.
Колчанов был, можно сказать, правой рукой Сафьянова на Амуре. Пять лет назад в числе студентов-дипломантов этот скромный молодой человек был в составе его экспедиции и влюбился в Амур. Правильнее даже сказать — просто-напросто вспомнил детство, которое провел на Дальнем Востоке с отцом-геологом. Вот почему после защиты диплома он попросился именно сюда, хотя предлагали ему и Рыбинское водохранилище, откуда до Москвы, где жили родители, рукой подать, и Цимлянское море, которое в масштабах нашей страны тоже не так-то уж далеко от столицы.
С той поры и повелась дружба двух ихтиологов: старого, маститого профессора Николая Николаевича Сафьянова и его ученика Алексея Колчанова, теперь аспиранта-заочника кафедры, которой руководит Сафьянов. Последние два года профессор не бывал на Амуре. В позапрошлом году болел, а прошлое лето провел в заграничных командировках.
Сейчас Николаю Николаевичу Сафьянову не терпелось поскорее попасть на озеро Чогор, где его давно ждет Колчанов. Ведь он там почти в одиночестве вот уже три года работает на биологическом пункте Амурского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Сколько теперь у него нового, сколько интересных наблюдений! Правда, они довольно регулярно переписывались, старый ученый был в курсе основных исследований Колчанова на озере Чогор и реке Бурукан. Но в последний год письма от Алешки, как звал профессор своего ученика, вызывали у него серьезную тревогу.
Началось все с вопроса о впадающей в Чогор таежной реке Бурукан, в прошлом знаменитой своими нерестилищами осенней амурской кеты. По ряду причин в последние полтора десятилетия заход кеты в Бурукан почти прекратился. Вместо того, чтобы, научно объяснив биологические причины этого явления, дать свои рекомендации хозяйственникам и приниматься за другие темы, непочатый край которых лежит кругом, Колчанов загорелся идеей восстановить нерестилища на Бурукане. Когда на кафедру пришло это письмо, профессор Сафьянов немедля послал на Чогор грозную телеграмму: «Приеду высеку тчк Дурень зпт ты талантливый исследователь систематик тчк Прожект передай практикам рыбоводам тчк Никник».
Осенью прошлого года от Колчанова пришло новое письмо, которое вызвало прямо-таки негодование шефа. Оказывается, на Чогоре, по рекомендации Колчанова, создается нерестово-выростное хозяйство для разведения сазана. Что ж, это хорошо. Для обслуживания хозяйства Средне-Амурский райком комсомола организует опытную молодежную рыбоводно-рыболовецкую бригаду. Это тоже хорошо. Но зачем Колчанов согласился принять на себя руководство нерестово-выростным хозяйством?
В ответ профессор Сафьянов в тот же день написал большое письмо. «Не понимаю тебя, Алешка, — размашисто, как всегда, когда сердился, писал он. — К чему тебе ввязываться в это дело? Нам сейчас дорог каждый способный ученый-исследователь, который бы мог глубоко анализировать и приводить в строгую научную систему то, что делается в подводном мире. Ихтиофауна Амура — неразрезанный том творений природы. Практики ждут от нас ясных указаний — как и с чем обращаться, чтобы овладеть производительными силами природы. А ты, можно сказать, превосходный теоретик, чем ты занимаешься, паршивец? Взываю к твоему разуму: не трать попусту время, исследуй! Рыбоводством пусть занимаются практики…»
И на телеграмму и на письмо Колчанов отвечал, что он оставляет решение вопроса до встречи. Не нравились эти ответы Сафьянову, авторитет которого в ихтиологической науке был непререкаем. Теперь, в канун встречи, взаимоотношения с Колчановым занимали профессора ничуть не меньше, чем окончание шторма. «Паршивец! — с обычной своей незлобивой строгостью думал ученый. — „При встрече решим“… Ну погоди же, я тебе задам „при встрече“!»
Но случилось непредвиденное. За день до окончания шторма часов около десяти утра в номере гостиницы, где жил Сафьянов, зазвонил телефон.
— Николай Николаевич? — послышался в трубке несколько необычный, встревоженный голос Машеньки — секретарши приемной института. — Григорий Афанасьевич поручил мне зачитать вам довольно неприятную телефонограмму. Вы слушаете?
— Да-да, — настороженно проговорил профессор Сафьянов.
— Читаю, — продолжала Машенька. — «Дьяконову, из Средне-Амурского, 21 мая. 14 мая ваш научный сотрудник с биологического пункта на озере Чогор Колчанов выехал вверх по Бурукану с расчетом вернуться к концу следующего дня. Прошла уже неделя, а Колчанов не возвратился. Имеется опасение, что с ним случилось несчастье. Считаем необходимым срочно организовать поиски, желательно с помощью вертолета. Просим вызвать нас по телефону. Секретарь райкома комсомола Гаркавая». Все, Николай Николаевич, — закончила секретарша.
— Простите, Машенька, — прогудел Сафьянов, — вы сказали — Гаркавая? Это кто, не Лидия Сергеевна?
— Она, Николай Николаевич.
— Разве она теперь секретарь райкома?
— Средне-Амурского райкома комсомола. С прошлого года.
— Гм-м, — молвил в раздумье профессор. — А как с ней связаться по телефону?
— С ней сейчас разговаривает Григорий Афанасьевич.
— Хорошо, я еду к вам, — Сафьянов положил трубку.
2. На поиски Колчанова
Быстро бежит время! Лидия Гаркавая — секретарь райкома комсомола… А кажется, лишь вчера он видел у себя на кафедре эту бойкую хорошенькую хохлушку с ребячьими замашками, в которой было столько же наивности, сколько и любознательности, столько же милой деревенской непосредственности, сколько и твердости в круто замешанном характере. Сафьянов всегда недопонимал ее: и вроде талантлива и вроде заурядна. Она на два года позднее Колчанова окончила университет и так же, как он, участвовала в экспедиции на Амур. До Сафьянова доходили смутные слухи, будто она из-за Колчанова поехала сюда на работу. Кто его знает, может быть и так. А может, они уже поженились? Может, Колчанов скрывает от него? Ведь она работала в одном с ним районе главным инженером на рыбоводно-мелиоративной станции Амуррыбвода. Ба, да не она ли это, практик-инженер, внушает Колчанову то самое, что сбивает с правильного курса молодого ученого?
Обо всем этом время от времени думал Сафьянов, пока выяснял в институте обстоятельства исчезновения Колчанова. Он всерьез тревожился за судьбу своего ученика, хотя и знал, что тот сумеет найти выход из самого трудного положения.
Как-то их вдвоем, на утлой лодочке, захватил шторм на озере Болонь. Он настиг их километрах в трех от берега. Лодку пришлось развернуть кормой к ветру; стоило чуть повернуть бортом, как ее тотчас же начинало захлестывать. Но волны угрожающе увеличивались и скоро стали заливать лодку с кормы. Профессор окончательно растерялся. Тогда Колчанов попросил его перейти с кормы на нос и отливать воду. Сам же быстро поставил в гнездо для мачты весло, привязал к нему свою куртку, как парус, и сел на корму рулить. Чтобы не заливало лодку сзади, Колчанов бросил на себя плащ-накидку, а полами ее накрыл всю корму снаружи до самого днища, прижав ногами подтянутые из-за бортов их концы. Вода иной раз окатывала его сзади до самой спины, но в лодку не попадала. Следуя по ветру, они вскоре вошли в первый попавшийся залив и там прокоротали время у костра. Вечером, когда шторм утих, благополучно вернулись на свою базу.
Не раз бывали они в подобных переделках, и профессор втайне завидовал своему ученику: Колчанов обладал одним качеством, которого всегда недоставало ему, Сафьянову, — умением быть настоящим хозяином в природе. Но все-таки… это же Дальний Восток!
Что же могло случиться с ним на Бурукане? Телефонный разговор директора института с Гаркавой ничего нового не прибавил к тому, что уже было известно, кроме одного: Колчанов уехал километров за пятьдесят вверх по Бурукану на своей легкой быстроходной лодчонке с подвесным мотором. Обо всем этом сообщил в Средне-Амурское срочно посланный с Чогора молодой рыбовод — член бригады, обслуживающей нерестово-выростное хозяйство. Катер посылать туда бесполезно — он не пройдет через перекаты, которыми изобилует Бурукан, а мотобот, имеющийся у бригады, стоит на ремонте.
Было принято решение, подсказанное Гаркавой: снарядить на поиски вертолет.
Во втором часу дня с аэродрома так называемой малой авиации поднялась четырехместная машина, похожая на гигантскую стрекозу. В ее кабине, кроме пилота, сидел только один человек — профессор Сафьянов. Он взял на себя руководство поисками, распорядившись, чтобы катер экспедиции, как только прекратится шторм, следовал прямо на озеро Чогор.
От Хабаровска до села Средне-Амурского вертолет летел над безбрежными просторами амурской поймы. Повсюду простирались молодая зелень лугов, бесчисленные лабиринты проток, озер и стариц, опушенных кудрявыми тальниками. То узкие, то широкие плавно изгибающиеся полосы воды, перемежающиеся с извилистыми полосами зарослей, создавали такую мозаику, что в ней невозможно было разобраться даже знатоку акватории Амура Сафьянову. Лишь когда пролетали над Чогором, он узнал характерный контур огромного озера. Одним углом оно вклинивалось в кривое устье Бурукана, голубая извилистая лента которого терялась в буровато-зеленых просторах весенней тайги, а два других угла, оконтуренных густыми зарослями тальника, упирались в русло Амура километрах в пяти от правобережных сопок. Между этими углами, как бы ножками треугольника, тянулся узкий остров — релка, отделяющая озеро от Амура — Шаман-коса с одинокой избушкой бакенщика на самом высоком ее месте. У устья Бурукана Сафьянов разглядел два домика: один — биологического пункта института, другой, более новый, по-видимому принадлежал рыбоводам. Вертолет летел сравнительно невысоко, и Сафьянову хорошо были видны тропинки, вытянутые на берег лодки, белая полоса пены у берега, фигурки людей, машущих руками.
Часам к четырем наконец показалось широко и привольно раскинувшееся вдоль правого берега Амура село Средне-Амурское. Вскоре его длинные прямые улицы, жилые квадратные кварталы, широкая площадь в центре стали вырисовываться отчетливее, будто Сафьянов смотрел в микроскоп, подкручивая регулятор резкости, — вертолет шел на снижение.
…Едва пилот открыл дверцу кабины, как в ее просвете показалась знакомая Сафьянову высокая ладная фигура Лиды Гаркавой, одетой по-походному в спортивный костюм. За спиной у нее виднелся рюкзак, через плечо болталась полевая сумка, на левой руке висела плащ-накидка.
— Здравствуйте, Николай Николаевич! — зазвенел ее бойкий голос, доносившийся до Сафьянова будто издалека: так бывает после непрерывного оглушительного шума мотора.
Он протянул руку, и в его пятерне целиком потонула сильная мягкая кисть девушки. Он долго и бережно тряс ее. Потом Гаркавая с готовностью приняла пузатый дорожный саквояж профессора и даже сделала попытку помочь ему самому сойти на землю. Сафьянов улыбнулся, подмигнул девушке с хитрецой старого донжуана и с поразительной легкостью спрыгнул на мягкую мураву стадиона. Вертолет окружила пестрая ватага малышей и подростков и с чисто ребячьим неистребимым любопытством глазела на каждую деталь диковинной воздушной машины. Сафьянов обратил внимание на высокого хмурого юношу в зимней шапке, с густыми черными, сросшимися на переносице широкими бровями. Он стоял рядом с Гаркавой и тоже был одет по-походному: на ногах — глубокие мягкие бродни-бахилы, какие исстари носят местные охотники, на плечах — куртка-кацавейка, опоясанная патронташем. Из расстегнутого ворота выглядывала полосатая тельняшка. В руках он держал туго набитый рюкзак и старенькую двустволку. От Сафьянова не ускользнуло и то жадное любопытство, с каким юноша разглядывал его как-то исподлобья своими жгуче-черными задумчивыми глазами.
— Это мой проводник, — представила Гаркавая профессору паренька, — Александр Толпыгин, член опытной рыбоводно-рыболовецкой бригады на Чогоре. Это он привез весть о Колчанове.
— Не находите ли вы, Лидия Сергеевна, что ваш проводник слишком молод для такой серьезной миссии?
— Не хотела бы при нем говорить, зазнается парень. — Лида хитренько сощурила свои темно-серые улыбчивые глаза, посмотрев на Шурку Толпыгина. — Не зазнаешься, Шура? Это, — обратилась уже серьезно девушка к профессору, — лучший охотник в селе. Его ружье, как говорили в старину, не знает промаха. А что касается тайги, то он с самого детства бродил по ней с отцом и хорошо знает всю здешнюю округу на сто километров.
— Ходил и подальше, — с плохо скрываемой гордостью баском поправил ее Шурка.
— Ну, если так, — добро! — весело прогудел профессор, хлопнув по плечу паренька. — Вашу карту Бурукана, Лидия Сергеевна. Прихватили? — Он с напускной строгостью посмотрел на девушку.
— А как же!
Через минуту под фюзеляжем вертолета, в затишке, над разостланной на траве «десятиверсткой» склонились головы Сафьянова, Гаркавой и Шурки; рядом разостлал свою карту пилот.
— Вам первое слово, Лидия Сергеевна, — распорядился профессор.
— Алексея Петровича надо искать вот в этом районе — между Изюбриным утесом и устьем Сысоевского ключа, а возможно и по Сысоевскому ключу, — Гаркавая провела карандашом по извилистой голубой полоске, окруженной паутиной более мелких ниточек, дошла до одной из них и повела карандаш по ее кривулинам до самого конца.
— Мотивы?
— Я открою вам один секрет, Николай Николаевич, — Гаркавая смущенно посмотрела на профессора, словно была в чем-то виновата перед ним. — Колчанов давно говорил, что не согласен с планом темы по Бурукану, потому что этот план охватывает исследованиями главное русло и протоки, входящие в акваторию его поймы. Он считает, что основные нерестилища кеты следует искать в притоках Бурукана, в том числе и в самых мелких.
— Это для меня не секрет, наоборот, старая песня, — сердито проворчал профессор. — Упрям, как бык, паршивец. Терять драгоценное время молодого ученого ради одного-двух нерестовых бугров в каком-то пересыхающем ключе все равно, что палить из пушки по воробьям. Главные нерестилища всегда находились по основному руслу Бурукана и протокам. Раз там их нет, стало быть нет вообще! Не вы ли ему внушаете тут такие мысли? — Сафьянов не то с напускной, не то с всамделишной подозрительностью уставился на Гаркавую. — Подкоп делаете под институт.
— Это еще не все, Николай Николаевич, — с тем же заметным смущением, но твердо продолжала Гаркавая. — Колчанов давно ищет способ искусственного восстановления запасов лосося на Бурукане.
— Тэк-тэк-тэк. Тоже не секрет, — сказал Сафьянов. — Все это мне известно. Ищет! Он был в пеленках, когда такой способ уже нашли. Я из него выбью эту нигилистическую блажь!
— Николай Николаевич, почему вы хотите выбить из него, как вы говорите, блажь?
— А потому, дорогая моя, что этой проблемой, помимо Алешки, занимается достаточное количество хороших специалистов. Люди, которые давно и превосходно отработали биотехнику искусственного разведения лосося. Чтобы восстановить запасы кеты на Бурукане, достаточно построить там один рыбоводный завод, и проблема решена. Может, это вы ему нажужжали в уши? — Сафьянов снова с подозрительностью посмотрел на Гаркавую.
— Наоборот, Николай Николаевич, — засмеялась девушка. — Я как раз тоже выступала против его затеи. Вы же знаете мою позицию в вопросе о воспроизводстве лососевых.
— Это в городских условиях?
— Да.
— Кстати, в данном вопросе вы имеете во мне своего заядлого сторонника, дорогая Лидия Сергеевна. Так что имейте это в виду. Однако ближе к делу, уже четыре часа. Итак, что же вы конкретно предлагаете, Лидия Сергеевна, по вопросу поисков?
— Я уже сказала, Николай Николаевич. Надо пролететь вот по этому маршруту, — Гаркавая вновь склонилась к карте. — Устье Бурукана, русло Бурукана, устье Сысоевского ключа, Сысоевский ключ — до самых его истоков.
— Утверждаю ваш план. Вам ясен маршрут, дружище? — обратился Сафьянов к пилоту.
— Вполне. Можно лететь?
— Да, отправляйтесь.
Теперь профессора Сафьянова ни на минуту не покидала тревога за судьбу Колчанова. Он вдруг обнаружил уйму опасностей, которые могли подстерегать его ученика на стремительном Бурукане: он мог попасть с лодкой в залом или разбиться о подводные камни на перекате; не исключалась возможность встречи с медведем, а в этом случае, как хорошо знал профессор, Колчанова трудно было удержать от соблазна добыть зверя — недаром он никогда не расставался с ружьем. Наконец, немалую опасность представляли браконьеры, сделавшие Бурукан чуть ли не своей вотчиной, используя то обстоятельство, что рыбинспекторы не могли проникнуть туда на своем тяжелом катере. Сафьянов знал, что Колчанов ведет непримиримую войну с браконьерами. В прошлом году они даже прислали ему анонимное письмо, угрожали расправой, если Колчанов не перестанет притеснять их; копию этого «послания» Сафьянов получил в одном из писем Колчанова.
3. Происшествие на Бурукане
Вертолет оторвался от земли. Шурка Толпыгин, прильнув к окну, улыбался во всю физиономию; ватага ребятишек, окружавшая машину, рассыпалась во все стороны вместе с клубами пыли, поднятой винтом вертолета. Шурка ни на мгновенье не отрывал лица от окна, впервые рассматривая с высоты родное село, дивясь тому, как широко оно раскинулось по увалу, кажущемуся сверху равниной, как не похоже оно на то, что привык видеть Шурка каждый день с земли. Душа его ликовала, его всего пронизывало острое чувство любопытства и восторга, он представлялся себе первооткрывателем огромного мира, простершегося внизу, легко узнавал, словно на макете, каждый изгиб берега, распадки, врезающиеся в прибрежный краешек безмерно большой сумрачной махины, какой казалась теперь далеко видимая к востоку и югу тайга. Любил Шурка эти родные таежные просторы и всегда тосковал по ним. Сейчас он с нетерпением ждал минуты, когда вертолет опустится где-нибудь на берегу Бурукана или на лесной поляне и он, Шурка, зарядит свое ружье и ринется в тайгу на поиски Колчанова. Он готов биться об заклад, что найдет Алексея Петровича хоть в самой преисподней и выручит его!
Когда показался характерный треугольник озера Чогор, Гаркавая, сидевшая рядом с пилотом, поманила к себе Толпыгина.
— Шура, — крикнула она ему на ухо, — внимательно наблюдай за левым берегом Бурукана, как только полетим над ним.
— Есть, Лидия Сергеевна, наблюдать за левым берегом! — ответил ей на ухо Шурка и с кошачьей мягкостью шмыгнул на свое место.
Внизу проплыло озеро Чогор, потом заголубело устье Бурукана. Вертолет точно шел над руслом реки. Шурка хорошо ориентировался в изгибах и протоках Бурукана, спрямляющих кривуны реки или замысловато петляющих вблизи главного русла. Вот и Изюбриный утес, за ним — белые клочья на зеленоватой ленте реки — так называемые Буруканские перекаты. Но самым примечательным для Шурки было то, что почти повсюду река и протоки просматривались до дна. Как не похож был Бурукан с высоты птичьего полета на ту реку, по которой плавал на лодке Шурка! Казалось, это даже не река, а пересыхающий ручей. Разглядывая каждый потаенный уголок по левому берегу реки, когда перекаты остались позади, Шурка вдруг увидел в одном из заливчиков две лодки, уткнувшиеся под куст в берег, — моторную и простую. Он бросился к Лиде и что было сил крикнул ей на ухо:
— Вижу лодки! Вон в кривуне, под кустами.
Вместе они уперлись лбами в стекло окна, напряженно разглядывая лодки; напрасно искали они людей — ни одного человека не было видно поблизости.
— Надо спуститься! — крикнул Шурка. — Может, они видели Алексея Петровича.
Скоро вертолет снизился метров до двадцати прямо к лодкам и повис на месте. Минуты три он висел так, и пассажиры успели в подробностях разглядеть содержимое лодок: сеть, набранную в корме весельной лодки, серебристые тушки рыб и два небольших бочонка в моторке, прикрытые ветками.
— Браконьеры, — объяснила Гаркавая пилоту. — Сами, конечно, попрятались, бесполезно их искать. Полетим дальше.
Вертолет двинулся с места и, набирая скорость, начал подниматься по наклонной вверх.
В начале шестого, когда позади осталось с полсотни километров от устья Бурукана и долину реки начинали теснить сопки, все трое сразу увидели на галечном берегу, возле изгиба Бурукана, четырехугольник вылинявшей палатки и возле нее — корпус опрокинутой вверх дном дюралюминиевой лодки.
— Его палатка и лодка! — закричал Шурка. — Снижайтесь!
Через минуту вертолет был почти у самой земли, а потом легко коснулся колесами галечника в десятке метров от бивуака Колчанова. Первой до палатки добежала Лида. Полог оказался застегнутым на все петли. Нетерпеливыми движениями девушка расстегнула его, заглянула внутрь палатки. Там было пусто, в изголовье лежала скатанная медвежья шкура и знакомая Лиде накидка Колчанова.
— Пусто, — сообщила девушка, вылезая из палатки.
— Смотрите, Лидия Сергеевна, — угрюмо проговорил Шурка, указывая на днище лодки.
— Пробоины?..
— А то что же? Якорем кто-то два раза двинул.
— Э-э, да тут кто-то и расписался, — послышался голос пилота. — Смотрите-ка! Что сие означает?
Лида и Шурка подошли к месту, где стоял летчик, и оба вслух прочитали на стене палатки: «Это пока цветочки».
— В самом деле, что это? Как вы думаете? — Лида с тревогой посмотрела на спутников. — Колчанов не мог этого написать…
— Конечно, зачем ему пачкать углем свою палатку, — согласился пилот.
— Убили Алешу! — вдруг охнула Лида и расслабленно опустилась на корму лодки. — Браконьеры убили Алешу, — простонала она сквозь слезы! — Они и в прошлом году угрожали ему…
— Этого не может быть, — пилот недоверчиво покачал головой.
— Подождите, Лидия Сергеевна, — робко успокаивал ее Шурка, — ведь ничего еще не ясно, может он ушел пешком по берегу…
— В палатке накидка его, — отвечала Лида, всхлипывая, — он без накидки не ушел бы.
— Разрешите мне стрельнуть, может отзовется?
— Не отзовется. Он должен был слышать шум вертолета, прибежал бы, если бы находился где-нибудь рядом…
— Я все-таки стрельну, Лидия Сергеевна, разрешите?
— Ладно, стреляй, — Лида вытерла глаза.
Предвечернюю тишину тайги расколол дуплет — два выстрела один за другим. Прождав с минуту, Шурка перезарядил ружье и снова выстрелил дуплетом. Тотчас же с верховий Бурукана, откуда-то со стороны левобережных сопок, донеслось эхо одиночного выстрела, совершенно очевидно — ответного.
— Лидия Сергеевна, слышали?! — радостно закричал Шурка. — Это Алексей Петрович!
— Слышала, Шура, слышала, — ответила девушка. — Неужели это он?.. — Лида бросилась к пилоту: — Летим!.. Вы определили, откуда послышался выстрел?
— Примерно определил. Полезайте в машину, — приказал пилот.
Через несколько минут вертолет уже летел в том направлении, откуда раздался одиночный выстрел.
— Сысоевский ключ! — прокричала Гаркавая, склонившись к пилоту и показывая на карту и вниз. — Так и есть, он на Сысоевском ключе! — ликовала девушка.
Внизу, затененный могучими деревьями, замысловато петлял ручей шириной не больше пяти — семи метров. Вертолет как бы ощупью шел на самой малой скорости вдоль русла ручья, готовый каждую минуту зависнуть над любой точкой земли. Лопасти винта, облитые золотом предвечернего солнца, бешено выписывали над машиной сияющий правильный круг. Внезапно в полукилометре над лесом взвился темно-сизый клуб дыма и столбом потянулся вверх.
— Алеша! — вырвался радостный крик из груди девушки. — Он, Алеша!
— Приготовь трап, — прокричал Шурке пилот. — Когда дам знак — открой дверцу и выбрось вон тот свободный конец. — И объяснил Лиде: — Сесть не смогу, негде.
И вот они чуть в стороне от костра, метрах в двадцати над землей. Потоки воздуха из-под винта растрепали столб дыма, раскидав его сизые клочья далеко по зарослям. Может, из-за этого с вертолета не сразу заметили Колчанова, который показался неподалеку, на галечном берегу ручья.

Тотчас же туда послушно подвинулся вертолет, Шурка расторопно открыл дверцу кабины и выбросил веревочный трап. Однако Колчанов, вместо того, чтобы немедленно броситься к трапу, продолжал оставаться на месте. Он махал руками и показывал куда-то в сторону. Только теперь все поняли, в чем дело: с Колчановым был большой серый пес, трусливо наблюдавший с того берега ручья за невиданной птицей.
— Я спущусь к нему, а вы летите к его бивуаку! — прокричала Гаркавая пилоту.
— Добро! — Пилот кивнул. — Только поторапливайтесь! — Он выразительно показал руку с часами: было без десяти шесть.
— И я с вами, можно? — спросил Шурка, когда Лида была уже у дверцы.
— Нет, Шура, — властно сказала Гаркавая, — ты скатай там палатку и приготовь все для погрузки на вертолет. Идет?
— Ладно, — с неохотой ответил Шурка, помогая ей вылезти из кабины и стать ногами на верхнюю перекладину трапа. Он придерживал трап и следил за Гаркавой до тех пор, пока девушка не ступила на землю. Потом ловко и уверенно выбрал трап, плотно прикрыл дверцу, и вертолет полез вверх.
А в это время Гаркавая стояла перед Колчановым — великорослым, сутуловатым детиной, обросшим черной бородой, и бесконечно счастливыми глазами рассматривала каждую черточку его обострившегося, с хмурыми бровями лица.
— Жив, Алеша, жив… Как я боялась… — Она не заметила, как оказалась в такой близости к нему, что голова ее коснулась его широкой груди. — Как я боялась за тебя…
Колчанов застенчиво обнял ее, потом бережно отстранил.
Выслушав рассказ Лиды о причинах, приведших ее сюда столь необычным способом, он еще больше нахмурил брови и проговорил недовольно:
— Решительно не к чему было поднимать эту нелепую панику. Я бы и сам завтра добрался до Чогора.
— А ты видел, что у тебя лодка пробита в двух местах и надпись на палатке?
— Это еще пять дней назад…
— Браконьеры?
— Они. Я знаю, кто это сделал. Только не пойманный — не вор. Думаю, что он мне все-таки попадется, негодяй.
— Но кто это?..
— Ты его не знаешь, из города один хорек. Он каждый год тут хищничает. В прошлом году я с ребятами поймал его и передал Кондакову. По-моему, это он опять пожаловал сюда. Когда я проходил перекаты, он с приятелем прятался в протоке.
— Так мы видели их лодки!..
— Я тоже видел их. Правда, он перекрасил моторку и другой мотор поставил, кажется, восемнадцатисильный японский «томоно». Он мощнее прошлогоднего. А лодка та же. Но не было бы счастья, да несчастье помогло, — весело проговорил Колчанов. — Вот я проявлю пленку и покажу тебе, что я тут нашел. — Сумрачное по самой своей природе лицо его заметно преображалось — становилось светлым и приветливым. — Целое нерестилище обнаружил, Лидочка, больше сотни бугров насчитал!
— Все это очень хорошо, Алеша, но нам нужно поторапливаться, чтобы засветло прилететь в село.
— Да ты на самом деле ихтиолог или нет? — вдруг сердито спросил Колчанов.
— Почему ты думаешь, что я не ихтиолог? Ты глубоко ошибаешься, Алеша… Но ведь вертолет ждет, времени у нас в обрез.
— Время, время! — сердито ворчал Колчанов, сгребая ногой головни в ручей. Потом подобрал рюкзак, кинокамеру, ружье. — Я ей, можно сказать, про святая святых, а она и слушать не хочет.
— Честное слово, Алеша, я рада за тебя — и что ты жив и что все это нашел.
— Между прочим, Лида, — уже спокойно сказал Колчанов, — я не полечу с вами. Лодку бросить не могу, — добавил он, когда они, загасив костер, двинулись вниз по ключу.
— Ты что же, все лето тут будешь сидеть у лодки? И вообще, как ты на ней уедешь?
— Заклею и уеду.
— Чем ты ее заклеишь?
— Смолой. Я тут надрезал кору на нескольких лиственницах, уже натекло граммов двести, и сегодня, думаю, будет столько же. Отрежу несколько кусков палатки и начну наклеивать на дыры один на другой с обеих сторон днища.
На пути к бивуаку он не раз останавливался у крупных лиственниц и, неуклюже горбясь, осторожно отвязывал от ствола коробочку, искусно свернутую из березовой коры. На дне желтел чистейший янтарь — древесная смола.
Было около семи часов, когда Колчанов и Гаркавая достигли берега Бурукана. Бивуака уже не было — палатку со всем ее содержимым погрузили в кабину, а лодку пилот привязал к днищу фюзеляжа. Колчанову оставалось только затащить в вертолет пса и самому занять место в кабине машины. Перегруженный вертолет с трудом оторвался от земли и взял курс на Средне-Амурское — пилот спешил достичь его засветло.
4. Это не нравится профессору
Профессор Сафьянов коротал время за разговором с секретарем райкома партии Иваном Тимофеевичем Званцевым — человеком лет пятидесяти, мускулистым, подтянутым. Разговор затянулся, и Сафьянов то и дело подходил к окну, беспокойно всматривался в предвечернее небо, прислушивался. Вертолета не было.
— Подождем до заката солнца, Николай Николаевич, — успокаивал профессора секретарь райкома, — часов до восьми, а уж потом будем принимать какое-нибудь решение.
Они снова занялись разговором и, будучи людьми деловыми, так увлеклись, что забыли о вертолете. Оба сразу умолкли, услышав характерный звук мотора над селом. Они бросились к окну в ту самую минуту, когда вертолет уже снижался, направляясь к стадиону.
— Иван Тимофеевич, — обратился профессор к секретарю райкома, — у вас зрение, по-видимому, поострее моего… Если я не ошибаюсь, — он говорил с придыхом, — под фюзеляжем подвешен какой-то предмет… Не так ли?
— Совершенно точно, Николай Николаевич, и предмет этот не что иное, как моторная лодка Колчанова.
— Вы уверены, что это именно его лодка? — глухо спросил Сафьянов.
— Да, у нас в районе пока две такие лодки — у Колчанова и в конторе связи…
— Значит, с Алешкой что-то стряслось, — голос профессора дрогнул. — Что-то стряслось… — Он схватил свою шляпу и бросился вон из кабинета.
Вертолет уже приземлился, когда к нему великовозрастным «замыкающим» ватаги ребятишек прибежал Сафьянов. Держась за сердце, он растолкал детей, окруживших машину, и очутился у дверцы в ту самую минуту, когда она отворилась. За спиной Лиды Гаркавой, первой показавшейся в дверях, он увидел улыбающегося Колчанова.
— Сдаю Алексея Петровича целым и невредимым! — бойко проговорила Лида, спрыгивая на землю.
— Ах ты, разэтакий паршивец! — загудел профессор, протягивая навстречу Колчанову руки. — А старик-то тут совсем было перетрусил. Сейчас же докладывай начальству, негодник, по какому праву ты снова забрался на Бурукан и почему там задержался!
Он долго жал ему руку, потом обхватил его широкие плечи, легонько прижал к себе и потряс.
— Николай Николаевич, все в порядке! — торопился успокоить своего шефа Колчанов. — Но разрешите мне сейчас пока распорядиться насчет имущества — палатки, рюкзака, лодки…
— А почему это прицепили ее? Мотор отказал? — спрашивал Сафьянов, заглядывая под фюзеляж вертолета.
— Видите, что… — Колчанов показал на пробоины.
— Авария? На камни налетел?
— Если бы так! Браконьеры просадили, когда меня не было.
— Значит, верно чуяло мое сердце, что у тебя произошло столкновение с ними.
— Никакого столкновения не было, Николай Николаевич. — Отвязывая лодку, Колчанов бросал обрывки фраз, рассказывая о том, что случилось.
— Скажи спасибо Лидии Сергеевне, — заметил с укоризной профессор, — это она подняла тревогу, а то бы куковать тебе там до белых мух. Ну так вот, Алешка, — переменил разговор Сафьянов, — я тебе сюрприз подготовил. Попробуй-ка, негодник, догадаться — что? Не догадываешься? А ну-ка вспомни про свою мечту, о которой ты писал прошлой осенью?
— Акваланг?.. — У Колчанова посветлело лицо.
— Весь комплект: акваланг, гидрокостюм, ныряльную маску, ласты, подводное ружье, да в придачу — подводную кинокамеру! Каково?
— Я даже и не знаю, как вас отблагодарить, Николай Николаевич, — пробормотал Колчанов, краснея от радости. — Теперь все ямы кругом излазаю. И обязательно обследую дно у Шаман-косы. Там ведь всегда скапливается калуга.
— О том, что и где обследовать, мы еще поговорим. А сейчас пойдем, тебе надо побриться, перекусить…
…Вечером ученые рыбники собрались на чай в квартире Гаркавой. Поначалу все шло хорошо, беседа текла тихо и мирно. Но вот речь зашла о буруканских нерестилищах кеты.
— Я все-таки утверждаю, Николай Николаевич, — говорил Колчанов, помешивая ложечкой густой дымящийся чай, — что Бурукан не потерян для нас как нерестовая река и со счетов нельзя ее сбрасывать.
— Ну-ну, — профессор оживился, доставая из кармана «Казбек». — Наберусь-ка я терпения, послушаю. Только прошу конкретно, с выкладками.
— Будут и выкладки. Первое, — Колчанов выпрямился, и стул под ним жалобно заскрипел. — Довоенное обследование, как и прошлогоднее, имело один и тот же недостаток: оно охватывало лишь главное русло и протоки, находящиеся непосредственно в пойме реки. Я дважды внимательно прочитал довоенный отчет. Лишь самые крупные ключи подвергались тогда изучению, да и то только в устьях, в наиболее глубоких местах. Так или не так?
— Ну, так. И чем ты это объясняешь?
— Тем, что испугались объема работ. По моим подсчетам, для Бурукана в этом случае потребовалось бы втрое увеличить объем. В сумме же общая нерестовая площадь только в ключах могла оказаться не меньшей, а возможно, и большей, чем в русле Бурукана, заиленного лесосплавом.
— Дорогой мой Алеша, хватит! — прервал его Сафьянов. — В довоенное время у нас работали специалисты ничуть не хуже тебя. Но вот главный вопрос: на каком основании ты игнорируешь такой метод определения лососевого стада, как контрольный подсчет?
— Не игнорирую, Николай Николаевич, но и не отдаю ему предпочтения, потому что хорошо знаю методику этого так называемого контрольного подсчета. Она несовершенна! — вызывающе повысил он голос. — Она не учитывает всех тончайших деталей климатического, гидрологического, наконец биологического процессов, совершающихся в природе. Вы же хорошо знаете, что в разное время суток при различной погоде эти процессы неодинаковы, а потому и неравномерно стадо лососей, заходящее в устье реки в отдельное не только время суток, но и в отдельные часы и минуты. Я это сам проследил, Николай Николаевич, и, кстати, отразил в последнем отчете. Вам нужны доказательства? Пожалуйста. Мой подсчет нерестовых бугров на одном только Сысоевском ключе показывает, что, если верить контрольному подсчету, производившемуся на устье Бурукана, две трети кетового стада зашло только в Сысоевский ключ.
— А почему бы и не так? — не сдавался профессор.
— Николай Николаевич! — с удивлением воскликнул Колчанов. — Да взгляните на карту Бурукана — и вы увидите дюжину подобных ключей, прилегающих к главному руслу. Для того чтобы не быть голословным, я накрутил на пленку эти бугры и смогу продемонстрировать их вам при первой же возможности.
От опытного взгляда профессора Сафьянова не мог ускользнуть короткий, но полный теплой ласки взгляд Гаркавой, которая, по-видимому, была полностью солидарна с его учеником.
— Что же, все это не исключено, — неохотно согласился профессор. — Но я утверждал и утверждаю, что Бурукан может представлять для нас интерес только как река, имеющая массовые нерестилища, — он подчеркнул слово «массовые», — а, стало быть, по главному руслу, иначе говоря, в довоенном объеме. Жалкие остатки бугров по ключам дела не меняют. Я все-таки продолжаю верить, что главное мерило — контрольный подсчет кетового стада на устье реки. А подсчет этот показывает, дорогой Алексей Петрович, что заход кеты в Бурукан сократился в сравнении с довоенным в одиннадцать раз! — Сафьянов обвел победным взглядом своих собеседников.
Наступило неловкое молчание. Всем было ясно, что профессора не сбить с его позиций отрицания Бурукана как нерестовой речки. Чтобы преодолеть неловкость, Гаркавая спросила:
— Кстати, Николай Николаевич, чем вы объясняете исчезновение нерестилищ в русле Бурукана за послевоенные годы?
— Причин несколько, — ответил профессор, вяло скручивая мундштук погасшей папиросы в жгутик. — Главная из них — резкое сокращение захода лососевого стада вообще в Амур в связи с хищническим выловом кеты японскими рыбопромышленниками на путях миграции в Тихом океане. За последнее десятилетие они ежегодно вылавливают, на главной дороге нашего лосося в Тихом океане до двух миллионов центнеров. Ничего подобного не бывало прежде. И если бы эта рыба вся попадала на стол японского трудящегося! Ничуть нет, большая ее часть идет на самый дешевый экспорт или залеживается и пропадает массами на складах, а потом перерабатывается на удобрения.
Профессор взялся за остывший чай. Отхлебнув несколько глотков, он подал чашку Гаркавой, попросил:
— Подлейте горяченького, Лидия Сергеевна, страсть не люблю пить холодный чай. Казалось бы, в этих условиях, — продолжал Сафьянов свою главную мысль, — наши товарищи на Амуре должны были сделать все, чтобы оберегать как зеницу ока то сравнительно небольшое стадо лосося, которое достигает вод Амурского бассейна. В действительности этого пока мы не наблюдаем. Те меры, которые, как известно, сейчас осуществляются, далеко недостаточны, чтобы они могли всерьез сказаться на воспроизводстве стада амурской кеты. По-прежнему лесники не всегда соблюдают правила рубки и сплава леса на притоках Амура — оголяют берега, а в результате промерзают речки и, стало быть, нерестовые бугры вместе с их содержимым. Во время сплава оставляют неразобранными заломы, и галечник заносится илом. Ну и, разумеется, немалый вред запасам лосося приносят браконьеры. В масштабе бассейна в общем-то наберется солидный куш, который перепадает в их руки.
— Но ведь и раньше браконьеры вылавливали кету, — заметила Гаркавая, не спускавшая глаз с профессора.
— Видите ли, милая Лидия Сергеевна, — Сафьянов с некоторым высокомерием поднял усталый взгляд на девушку, — украсть десять рыбин из тысячи или пять из ста — это не одно и то же. Вот в чем суть, дорогой ихтиолог, это надо понимать. Что касается Бурукана, — после короткого раздумья продолжал профессор, — то здесь мы имеем дело в некотором роде с исключительным фактом. Бурукан — река сплавная. Во время войны на его берегах велись интенсивные заготовки леса для строек Комсомольска-на-Амуре. Тогда мало с чем считались: все подчинялось цели номер один — разгромить врага. В итоге — берега реки оголились, нерестилища заилились. А так как местные лесозаготовители заодно облавливали нерестилища, благо контролировать их было некому, то оказались сильно подорванными и стада самих производителей. В совокупности все это и привело к тому, что мы имеем сегодня: кеты больше нет в Бурукане. Нужно срочно строить там рыбоводный завод! — Сафьянов легонько стукнул кулаком по столу, и во всех трех чашках дзинькнули ложки. — В этом и только в этом спасение остатков кетового стада, еще находящих там себе пристанище. Но для этого нужны большие деньги…
За столом
наступила тишина. Сразу показались громкими нудный и тягучий писк чайника на плите, тиканье ходиков на стене, отчетливый равномерно-нескончаемый перестук двигателя сельской электростанции: дук-дук-дук-дук…
— А я все-таки добьюсь восстановления нерестилищ Бурукана без строительства там дорогостоящего рыбоводного завода! — внезапно нарушил тишину Колчанов.
— Один? Без шефа? — с деланным удивлением спросил Сафьянов и многозначительно скосил глаза в сторону своего ученика, почти не поворачивая к нему головы.
Сказанное казалось шуткой, но ни от Колчанова, ни от Лиды Гаркавой не ускользнула нотка обиды, едва заметно прозвучавшая в голосе профессора.
— Отнюдь нет, Николай Николаевич, — поспешил Колчанов успокоить своего шефа, — только с вашей помощью.
— Тогда прошу все бабки на стол! — Сафьянов весело и решительно хлопнул обеими ладонями по столу.
— Я заложу там аппараты Вальгаева, Николай Николаевич.
— Что, опять?! — И без того длинное лицо Сафьянова сейчас вытянулось еще больше, а глаза стали сердитыми. — Я уже слышал эти песни и больше не желаю их слушать! — проговорил он решительно. Потом сбавил тон и с недобрым ехидством продолжал: — Вот что, Алешка. Я тебя еще никогда не сек, но, видит бог, я прибегну к этому великолепному средству воспитания молодых людей! Я вышибу из тебя эту святую блажь!
— Выслушайте меня до конца, Николай Николаевич, — пытался было остановить его Колчанов, мягко и простодушно поглядывая на профессора.
— И слушать не хочу, не желаю слушать глупостей. Вот что, дорогой мой Алексей Петрович, — почти совсем сердито и даже, как показалось молодым людям, едко проговорил Сафьянов. — Если ты не хочешь, чтобы мы с тобой сильно поссорились, — выбрось эту глупость из головы. Аппарат Вальгаева! Об аппарате Вальгаева мне все рассказали в институте. Это детская забава, профанация науки, попытка решить проблему негодными средствами. Но главное даже не в этом. По семилетнему плану на Бурукане намечено построить большой рыбоводный завод, оснащенный новейшим оборудованием. Но и это не главное в нашем споре. Главное — твоя судьба ученого, паршивец ты этакий! Рыбоводство — дело в основном рыбоводов и практиков. Этих людей вполне достаточно, и они неплохо умеют делать свое дело. Что касается нас с тобой, так у нас и без того непочатый край работы. Мы — ученые аналитики и систематики, наша задача — до конца разгадать все тайны подводного царства и описать всю сложнейшую взаимосвязь процессов, происходящих в мире рыб. Пока мы этого не сделаем, до тех пор невозможно грамотное, целенаправленное воздействие человека на ту часть живой природы, которая лежит под водой. А много ли сделано в этом направлении? Вот тут-то и надо подумать над тем, куда и как тратить силы ученых-исследователей: по-хозяйски собрать их на главном направлении или раскидать по второстепенным, ничего не дающим науке участкам. Так-то вот, дорогой мой. И еще: ты думаешь о своем будущем? Ты не забыл, что являешься аспирантом по последнему году, а я — руководитель твоей диссертационной темы? Ты думаешь когда-либо защищать диссертацию? — все больше наседал профессор на загнанного в угол подшефного. — Если думаешь обо всем этом, так вот моя тебе конкретная программа: лето ты будешь работать в моей экспедиции, а по окончании полевых работ немедленно начнешь форсировать диссертацию.
Колчанов долго не отвечал. Он вычерчивал какие-то замысловатые линии на блюдце и, казалось, ни о чем больше не думал. Потом тяжело вздохнул, поднял усталый взгляд на шефа и коротко сказал:
— Я подумаю, Николай Николаевич.
— Подумай, подумай, — согласился профессор, — это всегда полезно. А когда будешь думать, заодно помни и о таком немаловажном факте. Иван Тимофеевич Званцев сегодня в разговоре со мной просил оставить тебя здесь еще на год, хотя бы как ученого консультанта и, так сказать, идейного руководителя нерестово-выростного хозяйства. Нерестово-выростное хозяйство я считаю делом важным и необходимым, но что касается твоего участия в его работе, я согласия не дал. Для этого у них есть свой ихтиолог, ей все карты в руки, у нее за спиной практика работы на рыбоводно-мелиоративной станции. — Он снова многозначительно посмотрел на Гаркавую. — А на должность секретаря райкома комсомола можно подобрать другого человека. К тому же ихтиологов не так уж много.
Колчанов и Гаркавая молчали, занятые своими мыслями. Прождав минуту-другую, Сафьянов с обычной своей напускной грубоватостью спросил:
— Ну, что молчите? Прижал вас старик?
— Нужно подумать, — проронил Колчанов.
Разговор больше не клеился. Гости поблагодарили хозяйку и отправились спать в сельскую гостиницу. За всю дорогу они обменялись лишь двумя — тремя фразами.
5. Разлад
Утром следующего дня они разговаривали так, будто не было ничего, что угрожало бы их дружбе. Но Колчанов заметил — профессор старается избегать напоминаний о вчерашнем. Только на пути из столовой в райком партии Сафьянов спросил коротко:
— Ну как, подумал?
— Все время думаю, Николай Николаевич, — столь же лаконично отвечал Колчанов.
— И как решил?
— Еще не знаю.
— М-да…
Больше профессор не промолвил ни слова.
Они явились в райком первыми из приглашенных. Но уже через пять минут в кабинет ввалились сразу человек десять — председатель местного рыболовецкого колхоза со своими бригадирами, директор рыбозавода с начальником лова, районный рыбинспектор с помощником, Лида Гаркавая.
К десяти часам утра кабинет секретаря был уже полон народа.
Сафьянов немало был удивлен, когда понял, что весь этот люд собран единственно для встречи с ним, московским гостем.
— Я думаю, товарищи не обидятся на меня, — говорил Званцев, открывая встречу, — что мы отнимаем у них часть выходного дня. Но мы решили воспользоваться присутствием у нас уважаемого Николая Николаевича Сафьянова, крупного ученого-ихтиолога, и окончательно решить кое-какие назревшие вопросы. Николай Николаевич, попрошу вас разъяснить с точки зрения науки, как нам лучше вести рыбное хозяйство, а попутно проинформировать нас, какую помощь могут оказать нам в этом деле ученые, в частности экспедиция, которую вы возглавляете.
Нет необходимости приводить здесь выступление профессора Сафьянова полностью, хотя слушали его так, что ни единый шорох не отвлекал внимания на протяжении всей речи. Но кое-что представляет в ней несомненный интерес.
— «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача». Этими крылатыми словами Ивана Владимировича Мичурина я бы хотел начать, — говорил профессор, разложив по столу свои бумаги. — Великий Карл Маркс писал, что плодородие вовсе не есть такое уж природное качество почвы, как это может показаться: оно тесно связано с современными общественными отношениями… Водная среда подобна почве. Она может быть хорошо удобренной и плодородной и, наоборот, истощенной и бесплодной. В прямой зависимости от этого находится состояние урожая, в данном случае промысловых рыб. Амур, как рыбацкая нива, богат и плодороден. Напомню лишний раз, что в Амуре насчитывается больше ста видов рыб. Ни одна другая река в нашей стране не имеет столь богатого видового состава ихтиофауны. Но давайте представим себе такую картину. Вы посадили на своем огороде картофель. Через полтора — два месяца появились клубни. Не дождавшись, пока они вырастут и созреют, вы начинаете подкапывать их. Подкапываете до самой осени. И вот наступил срок сбора урожая. Богатый урожай вы соберете? Едва ли. Вы съели его почти в зародыше. Так почему же вы думаете, — повысил голос профессор и нацелил свой длинный палец, словно ствол маузера, прямо на председателя колхоза Севастьянова, — почему вы думаете, что иначе обстоит в рыболовецком деле? Я категорически подчеркиваю, что мы нерационально используем наши рыбные ресурсы. Где пудовые щуки, сомы и сазаны, где полуторакилограммовые караси, где полупудовые толстолобы? Я вас спрашиваю? — сердито оглядывая присутствующих, — кричал профессор. — Их нет!
— Есть, но мало, — робко бросил кто-то реплику из угла.
— Так дальше эксплуатировать наши водоемы нельзя! — Сафьянов стукнул кулаком по столу. — Слава богу, на Амуре пока процесс самовоспроизводства промысловых рыб идет в благоприятных условиях и достаточно интенсивно. На многих реках дело обстоит гораздо хуже. И если мы не изменим положения в самое ближайшее время, то может кончиться тем, что некому будет производить посев на подводных полях…
Сафьянов привел многочисленные примеры того, как из года в год уменьшаются размеры промысловых рыб, доставляемых рыбаками на рыбообрабатывающие базы, как сокращается в общих уловах количество наиболее ценных видов — сазана, толстолоба, желтощека, как все большее распространение получают сорные рыбы, такие, как косатка, горчак, гольян, чебак, которые либо истребляют икру промысловых рыб, либо являются их конкурентами в питании.
— Вы ничего не сказали о заездках! — крикнул кто-то от дверей. — Они явились главной причиной подрыва основных запасов!
— Раз вы хорошо знаете об этом, стало быть, мне не к чему говорить о заездках, — отпарировал профессор. Помолчав, добавил: — Заездки относятся к прошлому, а я говорю о проблемах нынешнего дня. А проблем в рыбном хозяйстве назрело сегодня столько, что их надо начинать решать немедленно, если мы не хотим оказаться у разбитого корыта. Конечно, они решаются и вами — промысловиками и нами — учеными. Но решаются недостаточно продуманно, а главное неэффективно. Я хочу выделить из них пока две наиболее насущные, требующие безотлагательного решения. Это — регулирование промысла и вопросы воспроизводства промысловых рыб. Правда, есть еще одна проблема, которую вы сами воспринимаете с болью, — проблема лососевых. На протяжении почти столетия кета питала все население сел, лежащих между Хабаровском и Николаевском-на-Амуре, давала ему работу и материальные блага, тогда как все остальное — промысел частика, сельское хозяйство — носило характер подспорья. Теперь кета почти выпала как объект трудовых занятий населения и как основной традиционный продукт питания. Но я сейчас не буду говорить об этой проблеме: она должна решаться в общегосударственном масштабе.
Далеко не с профессорским тактом Сафьянов устроил разнос руководителям рыболовецкого колхоза и рыбозавода за нарушение правил рыболовства.
— Вы живете одним днем! — кричал он на них. — Вы рубите сук, на котором сидите! Вы забываете о том, что рыбу ловить нужно не только вам, но и вашим детям, внукам и правнукам.
Примеры, которые он приводил, были убийственные: массовый облов нерестилищ сазана, карася, щуки, нежелание искать и облавливать скопления сорной рыбы и многое, многое другое.
Заключительная часть речи профессора — о воспроизводстве промысловых рыб — носила мирный и спокойный характер, если не считать единственной вспышки гнева, когда он говорил о случаях массового замора молоди в отшнуровавшихся озерах и безразличном отношении к этому бедствию руководителей рыболовецких предприятий.
— Ведь все знают об этом! — возмущался профессор. — У всех на глазах гибнет ваше же богатство, но никто не удосужится выпустить малька в Амур во время летнего обсыхания озер или сделать отдушины во льду во время зимнего замора.
— Для этого созданы рыбоводно-мелиоративные станции! — обидчиво крикнул председатель колхоза. — Вот их и критикуйте вместе с рыбводом.
— Но вы же сами говорили мне как-то, товарищ Севастьянов, что это мертворожденные организации. Не так ли? — Сафьянов долго ждал ответа, но председатель колхоза промолчал.
О создании нерестово-выростного хозяйства на озере Чогор Сафьянов ничего не сказал нового. Он одобрил инициативу райкома партии, обещал предоставить все материалы по Чогору, особенно накопленные Колчановым за последнее время, и на этом закончил свою довольно длинную речь.
— Николай Николаевич, а как насчет помощи нам со стороны ученых? — спросил секретарь райкома, когда профессор стал складывать в объемистый портфель свои бумаги. — Я имею в виду просьбу оставить Алексея Петровича Колчанова руководить нерестово-выростным хозяйством.
— Я уже говорил вам, Иван Тимофеевич, что Колчанову предстоит большая и серьезная работа над обобщением материалов, собранных им на Чогоре и Бурукане, — объяснил Сафьянов. — Но почему вы не хотите направить туда Лидию Сергеевну Гаркавую? — Он с недоумением посмотрел на секретаря райкома. — Она ведь тоже ихтиолог, к тому же почти три года проработала на рыбоводно-мелиоративной станции, хорошо знает обстановку в районе и на озере Чогор.
— Товарищ Гаркавая у нас хороший вожак молодежи, Николай Николаевич, — заметил секретарь райкома, — а это тоже немаловажное дело.
— Нет, Колчанов не должен отвлекаться вопросами воспроизводства рыбных запасов, — категорически ответил Сафьянов. — Нам тоже нужны хорошие кадры для науки, без которой, как вы знаете, практика слепа. Я уже договорился в Хабаровске, что на летний период включаю Алексея Петровича в состав экспедиции.
— А как сам Алексей Петрович смотрит на это? — секретарь райкома, улыбаясь, повернулся в сторону Колчанова.
Колчанов смутился, кровь бросилась в его коричневые скулы, густо покраснели уши.
— Разрешите, — пробормотал он смущенно и совсем без надобности стал поправлять галстук.
— Слово предоставляется товарищу Колчанову. Можно говорить с места, Алексей Петрович.
Колчанов не любил долгих вступительных объяснений. Он сразу заговорил о том, что его более всего волновало, — об исследованиях института на озере Чогор и Бурукане. Заключая выступление, Колчанов повернулся к профессору Сафьянову:
— И вот, Николай Николаевич, продумав все и тщательно взвесив, я решил, что здесь смогу принести больше пользы, чем у вас в экспедиции, а затем в лаборатории института. Во-первых, в это лето я намерен продолжить свои опыты по гибридизации некоторых видов рыб и исследование условий нереста наиболее ценных промысловых пород — сазана и карася. Во-вторых — и это самое главное — осенью в порядке производственного опыта заложить на Бурукане несколько аппаратов Вальгаева, которые должны заменить дорогостоящие рыборазводные заводы. Я уверен, что этому аппарату принадлежит будущее в деле воспроизводства лососевых, поэтому прошу вас, Николай Николаевич, оставить меня на озере Чогор и не включать в свою экспедицию.
Сначала несколько хлопков, а потом настоящий гром аплодисментов заглушил его последние слова. Лицо Сафьянова стало багровым — кажется, никто и никогда не наносил еще такого удара его самолюбию ученого, как это сделал Колчанов.
— В таком случае, дорогой Алексей Петрович, — желчно сказал Сафьянов, — я складываю с себя обязанности шефа и руководителя вашей диссертации.
— Но иначе я не могу поступить, Николай Николаевич, — стоял на своем Колчанов. — Проблемы частиковых озера Чогор и лосося реки Бурукан нужно решать в комплексе и именно местными силами, а не в общегосударственном масштабе, как вы утверждаете, Николай Николаевич, по отношению к воспроизводству лососевых. И я как молодой специалист считаю себя не вправе оставаться в стороне от решения этой сложной, не терпящей отлагательства проблемы.
Встреча работников Средне-Амурского с профессором Сафьяновым закончилась далеко за полдень. Загадочным для всех осталось поведение профессора. У большинства участников встречи создалось впечатление, что он не одобряет на деле мероприятий, направленных на воспроизводство рыбных запасов Амура. Одна Лида Гаркавая хорошо знала всю подоплеку столь странного поведения представителя большой науки: в нем боролись уязвленное самолюбие избалованного почетом и уважением ученого и поистине отеческая привязанность к своему молодому ученику…
6. Предложение Гаркавой
Тяжело переживал и Колчанов размолвку со своим шефом. Он терял больше, чем научного руководителя и наставника: он терял друга, хорошего старшего товарища, умного, заботливого покровителя, готового всегда прийти на помощь.
Вчера вечером перед сном они встретились в гостинице, но Сафьянов даже не взглянул на своего ученика.
Чтобы хоть как-то отвлечься, Колчанов с утра ушел вместе с Шуркой Толпыгиным в ремонтно-механическую мастерскую рыбозавода заклепать пробоины в днище лодки, хотя эту работу с успехом мог бы выполнить и один Шурка с помощью слесаря. Во втором часу дня, когда все пробоины были заклепаны и Колчанов с подручным замазывали заплатки суриком, в мастерской появилась Лида. Шумно здороваясь на ходу с молодыми рабочими, она прошла в угол, где возился с лодкой Колчанов, и, как всегда улыбающаяся, жизнерадостная, пышущая завидным здоровьем, долго по-ребячьи трясла ему руку. Все нравилось Алексею в Лиде — ее броская красота, искренность и прямодушие, наконец, живой, практический ум; не нравилось одно — некоторая грубоватость, в чем-то похожая на манеры залихватских парней.
— Я за тобой, Алеша, — говорила она бойко. — Иван Тимофеевич послал, он еще с утра ищет тебя.
— Что случилось?
— Мой руки и пойдем, по дороге расскажу.
— Шура, — обратился Колчанов к Толпыгину. — Ты кончай с лодкой, а потом столкнете ее на воду. Жди меня у лодки.
Когда они вышли на улицу, Лида не сразу сказала, зачем потребовался Колчанов Званцеву.
— Ты молодец, Алеша, — проговорила она серьезно.
— Я не для похвалы поступил так.
— Да разве я не знаю тебя! Конечно, не для похвалы, за это и молодец. А то, что разладилось с Николаем Николаевичем, — не беда, не век тебе быть при нем в учениках.
— Так-то оно так, но мне жаль Николая Николаевича. Обидел я, кажется, старика…
— Ничего ты не обидел его. Просто он не привык терпеть возражений, а тут вдруг верный ученик, а главное, незаменимый помощник, — подчеркнула она, — нате-ка, встал на дыбы! Он не о твоей диссертации печется, а о своей монографии «Рыбы Амура».
— Кончим об этом, Лида, ты все не так понимаешь.
— Это еще надо разобраться, кто не так понимает…
— Ты искала меня, чтобы поссориться?
— Ну ладно, Алеша, не сердись. Я понимаю, что тебе нелегко. Ты вот что скажи мне: какие у тебя сейчас планы?
— Ехать в Хабаровск и там все решить.
— Что именно?
— А то, чтобы не включали меня в экспедицию Николая Николаевича и утвердили мне как плановую тему испытание аппарата Вальгаева непосредственно на Бурукане.
— А если не утвердят? — девушка испытующе посмотрела в лицо Колчанову.
— Буду добиваться, чтобы утвердили.
— Не утвердят, — убежденно сказала Гаркавая. — Ты же знаешь отношение к аппарату Вальгаева в институте. Да и не только в институте. В Амуррыбводе тоже не считают его перспективным. Кстати, я — тоже.
— Не утвердят — буду проситься, чтобы оставили по-прежнему заведующим биологическим пунктом. Теперь его не ликвидируют, поскольку на Чогоре работает нерестово-выростное хозяйство. А попутно испытаю аппарат Вальгаева на Бурукане.
— Один, своими силами?
— Ребята из бригады помогут. Я уже договорился с ними.
— А не принял бы ты вот такой план, — заговорила Лида решительно и напористо; видно, она давно подготовила это и только теперь подобрала подходящий момент. — Ты, конечно, поезжай в институт и добивайся там своего. Одна только просьба к тебе — не отступаться от озера Чогор.
— От Чогора не отступлюсь ни при каких условиях, — решительно произнес Колчанов. — Пусть это будет мне стоить чего угодно, вплоть до увольнения из института…
— Думаю, что до этого не дойдет, — возразила Гаркавая. — Так вот, слушай самое главное. У нас в райкоме возникла интересная идея — превратить Чогорскую молодежную бригаду в районную рыбоводно-рыболовецкую школу. А тебя привлечь в качестве директора или руководителя этой школы. На общественных началах. Составим программу, учебный план, и мы с тобой будем читать лекции по ихтиологии.
— Нет, Лида, — Колчанов решительно замотал головой, — от этого меня уволь. Ты же знаешь, что я заканчиваю аспирантуру, мне нужно писать диссертацию — материал для нее уже готов. А ты хочешь превратить меня в самого натурального практика-рыбовода!
— Ты утрируешь, Алексей, — серьезно сказала Гаркавая. — Я прошу помочь делу, в котором в одинаковой степени заинтересованы и теоретики, и практики, и все мы, советские люди.
— А я не хочу, понимаешь, — упрямо твердил Колчанов. — Не хочу и не могу заниматься этим делом.
— А ты не забыл, что в кармане у тебя комсомольский билет?
— Это что, угроза?
— Нет, Алеша, я просто хочу напомнить тебе еще кое о каких твоих обязанностях, кроме науки.
— Ну, знаешь! — возмутился Колчанов. — Кому что дано! Некоторым, например, нравятся чины…
— Ты на что это намекаешь? — Лида повысила голос, зло сощурила свои красивые глаза: они потемнели и стали еще выразительнее. — Значит, гениям — неука, а бездарным — комсомольская работа? Да как тебе не стыдно, Алексей! Ты же превосходно знаешь, что и как привело меня в райком комсомола…
Лида умолкла, тяжело дыша. Угрюмо молчал и Колчанов. Они подходили к зданию райкома партии.
— Не знала я, что ты можешь быть таким жестоким и несправедливым, — полным горечи голосом проговорила Лида, когда они поднимались на крыльцо. — Для него же делала все, хотела добра ему… — Последние слова она произнесла почти шепотом — что-то сдавило ей горло. Она торопливо достала платочек, беззвучно всхлипнула, вытерла слезы, стараясь сделать это незаметно. Колчанов настороженно посмотрел на нее.
Поистине, всему бывает предел. Разве мог он понять сейчас все, что происходило в душе Лиды? Горечь безответной любви, обида за унижения, которые она — гордая, с достаточным запасом собственного самолюбия — все время стоически переносила во имя хотя бы одного доброго взгляда Колчанова, — все сейчас вдруг обнажилось для нее во всей своей сути. Непостижимым усилием воли она сумела взять себя в руки, лицо ее сделалось столь же суровым, сколь и красивым в своей строгости, глаза вмиг высохли. Нет, она никогда не простит Колчанову!
— Что с тобой, Лида? — испуганно спросил Колчанов, озабоченно заглядывая ей в глаза. — Неужели это мои слова так обидели тебя?
— Слова? — Гаркавая презрительно усмехнулась. — Если бы только слова! Хватит об этом, — властно произнесла она, решительно открывая дверь в приемную секретаря райкома партии.
Иван Тимофеевич Званцев принял их не скоро — кто-то уже был у него. Они отсидели более получаса. Гаркавая не произнесла ни одного слова. Напрасно Колчанов бросал многозначительные реплики о погоде, о затянувшихся сроках межени на Амуре, — девушка молчала, уткнувшись в газету. О деле он даже не заикался: мог снова возникнуть спор.
Но вот дверь из кабинета Званцева отворилась. Из нее вышел профессор Сафьянов. Вслед за ним показалась сухощавая, слегка сутулая фигура секретаря райкома.
— Ну, где пропадал? — как ни в чем не бывало про гудел профессор, с напускной строгостью хмуря свои белесые широкие брови. — Нам, братец, пора уж и на Чогор.
Немного обескураженный столь резкой переменой в поведении шефа, Колчанов вскочил:
— Моторка готова, Николай Николаевич.
— Вот и хорошо, будем собираться. Я жду тебя в гостинице.
— Вы, Николай Николаевич, моторкой? — удивился Званцев. — Нет уж, мы не так бедны, чтобы для вас не сумели организовать катер. Кстати, мне тоже нужно взглянуть на нерестово-выростное хозяйство. А моторку Алексея Петровича возьмем на буксир.
— Я бы хотел своим ходом идти, Иван Тимофеевич, — возразил Колчанов. — Нужно проверить одно наблюдение. Кажется, я нашел интересное место выпаса толстолоба…
— Добре, — согласился Званцев. — Прошу заходить, — весело пригласил он Колчанова и Гаркавую. — А вам, Николай Николаевич, я позвоню в гостиницу, как только будет готов катер. — И он легкой походкой направился в кабинет. — Давно ждете? Час, два? — озабоченно спросил он гостей. — Засиделись мы тут с профессором.
К его моложавому лицу удивительно шла седина на висках и полоса седины по самой середине аккуратно зачесанного назад былого чуба. Она придавала его живой, подвижной фигуре не то что солидность, а скорее говорила об умудренности большим жизненным опытом, вызывала невольное чувство симпатии к нему. И не только это привлекало симпатии к Званцеву — одному из первых строителей Комсомольска-на-Амуре. Сам он был удивительно добр и приветлив, тактичен даже в гневе; о нем часто можно было слышать: «Редкой души человек!»
Он внимательно вгляделся в лицо Гаркавой, спросил:
— Лидия Сергеевна, вы не в духе? Что молчите?
— Да нет, ничего я, Иван Тимофеевич. Вот Колчанов отказывается от предложения взять на себя руководство бригадой-школой…
— Ну что же, давайте это дело обмозгуем.
Усадив гостей в кресла друг против друга, он еще долго продолжал ходить по кабинету.
— Проминку делаю, — объяснил он, — я ведь — лошадь скаковая, а не тяжеловоз, не могу долго быть без движений.
Первой он попросил высказаться Гаркавую. На этот раз Лида была предельно лаконична: рассказала только о той части беседы с Колчановым, где речь шла о ее предложении и его отказе.
Столь же краток был и Колчанов.
— Та-ак, — проговорил Иван Тимофеевич. Он молча прошелся до двери и обратно к столу, сел в кресло и в упор задумчиво посмотрел на Колчанова. — Я, конечно, понимаю, наука — вещь важная, — заговорил он тихо. — Без теории практика слепа, как сказал вчера Николай Николаевич. Но есть и другое, не менее правильное положение: без практики теория — пустой звук. Вот я и думаю Алеша… Ты не обижаешься, что я так назвал тебя?
— Напротив, Иван Тимофеевич.
— Вот и хорошо, ведь у меня сын почти твоих лет. Итак, я думаю, Алеша, — продолжал он, — не выиграет ли твоя диссертация, если ты обогатишь ее таким интересным материалом, какой даст тебе практика работы рыбоводно-рыболовецкой да еще молодежно-комсомольской бригады-школы, а? Подумай, а потом скажешь. Что касается моего мнения, если оно что-нибудь значит для тебя, так вот оно: пре-вос-ход-нейшая диссертация может получиться! Живая практика по живой теории, и все — новое, еще нигде, наверное, не испытанное… Прекрасную вещь придумала для тебя Лидия Сергеевна!
Колчанов почему-то смутился, и, как всегда, бронзовые скулы у него при этом потемнели, а уши сделались пунцовыми. Горбясь, он мельком взглянул на строгое, даже суровое сейчас лицо Гаркавой, спрятал глаза под насупленными бровями, заговорил:
— Видите ли, Иван Тимофеевич, все это, конечно, очень хорошо, если не считать, что такую диссертацию вообще трудно, а то и невозможно написать. Ведь здесь две несовмещающиеся теории — наука о рыбах и наука об организационных формах работы бригад. Но дело даже не в этом. Ведь я работаю над диссертацией о нерестилищах Бурукана — «Влияние естественной среды на нерест лососевых», тогда как бригада будет работать над воспроизводством частиковых пород.
— Ах, вот оно что, — разочарованно проговорил Званцев и вздохнул. Помолчав с минуту в раздумье, он поднял глаза на Алексея: — А что это за аппарат Вальгаева? Что сие означает?
— Это простейший инкубатор для лососевой икры, — пояснил Колчанов, исподлобья поглядывая на Гаркавую. — Для него не требуется дорогостоящих сооружений рыбоводного завода. Он может быть заложен в любом ключе подручными средствами.
— Да что ты говоришь?! — с энтузиазмом воскликнул Иван Тимофеевич; лицо его просияло при этом, глаза оживились, заблестели, лучики веселых морщинок заиграли у прищуренных век. — И давно эта штука изобретена? Почему она не дошла до нас?
— Да вот недавно.
— Разрешите мне, Иван Тимофеевич, — вмешалась Гаркавая. — Аппарат этот еще изобретается. Алексей Петрович тут несколько опережает события. Но главное в том, что аппарат как бы имитирует естественный нерестовый бугор. Сама по себе эта идея не нова. В свое время ряд крупных ихтиологов, работавших на Амуре, и в их числе такие светила, как профессора Кузнецов и Солдатов, делали попытки воспроизвести искусственным путем нерестовый бугор, но ничего из этого не получилось — вся икра погибла. До сих пор никто не смог соорудить искусственный нерестовый бугор.
— А теперь мне разрешите, — нетерпеливо проговорил Колчанов, с недовольным беспокойством наблюдавший за Гаркавой. — Лидия Сергеевна, по-видимому, не в курсе дела. Аппарат Вальгаева — имитация не бугра, как говорит она, а заводского инкубатора, приспособленного не к идеальным, можно сказать, почти тепличным условиям рыбоводного завода, а к естественным условиям живой природы. В естественном бугре, который закладывает кета, отход икры в среднем составляет девяносто процентов. Из трех тысяч икринок выходит триста мальков. В заводских условиях гибнет десять-двадцать процентов икры. А в опытных образцах аппарата Вальгаева гибнет всего два-пять процентов икры. Теперь о степени готовности аппарата. Думаю, его уже можно пробовать в производственных условиях. Сам Вальгаев говорил мне об этом прошлой осенью.
— Так. Дело ясное, что дело темное, — скучновато произнес Званцев, когда Колчанов умолк. — У меня вот какой к вам вопрос, друзья: как относятся к этому аппарату, во-первых, профессор Сафьянов, а во-вторых, сведущие научные сотрудники института?
— Почти все отрицательно, — ответила Гаркавая. — Позавчера профессор Сафьянов назвал этот аппарат профанацией науки. Я сама слышала, как директор института назвал его бесперспективным.
— М-да, — раздумчиво произнес Иван Тимофеевич. — Заманчивая идея… Изобрести бы, в самом деле, такой аппарат да заставить им все нерестовые реки — огрузились бы мы кетой! Лидия Сергеевна, — обратился он к Гаркавой, — а наша рыбинспекция знает об этом аппарате?
— Понятия не имею.
— А ну-ка, позвоню я сейчас Кондакову.
Он долго крутил ручку телефона, с ожесточением дул в трубку, стучал пальцем по рычагу.
— Космические корабли с человеком запускаем, — вполголоса со вздохом произнес он, — к звездам скоро полетим, а вот телефон еще допотопный. Ну, ничего, — утешил он себя, — мы сразу перейдем потом на видеофон. Так, кажется, называется этот аппарат, в котором, как в телевизоре, видишь собеседника? Вот тогда я сразу узнаю, когда Севастьянов врет — по глазам увижу! — и он с удовольствием рассмеялся собственной шутке. Потом стал серьезным, закричал так, как будто догонял кого-то: — Станция? Станция! Где же вы пропадаете, девушка?! Как не было звонка — целый час кручу! Кондакова мне. Давайте… Трофим Андреевич! Слушай, ты знаешь о существовании такого аппарата — Вальгаева? Да нужно мне тут решить один вопрос. Та-ак. Слушаю, слушаю.
Он долго молчал, отрешенно поглядывая то на Гаркавую, то на Колчанова, сочувственно кивал головой словам невидимого собеседника, потом коротко сказал:
— Все ясно. Спасибо, — и устало положил трубку. — Рыбинспектор утверждает, что этот аппарат принесет только вред, так как может загубить и без того обедневшие нерестилища. Он говорит, что не разрешит применять его у нас в районе. А скажите, производителей надо ловить там, на месте нереста? — спросил он Колчанова.
— Конечно, там, — угрюмо проговорил Колчанов.
— Значит, Кондаков правильно говорит, что никто никому не разрешит ловить кету на нерестилищах. Да-а, — разочарованно протянул он. — Профессор Сафьянов — против, директор института — против, районный рыбинспектор — против, инженер-рыбовод Гаркавая — против. За — один Алексей Петрович Колчанов, молодой способный специалист. Извини меня, Алеша, но я при всем моем уважении к тебе отдаю предпочтение авторитетам и большинству. Я думаю, ты не назовешь меня консерватором, я руками и ногами за такой аппарат, которым можно было бы заменить нерестовые бугры. Оно так вернее дело, когда человек берет в свои умные руки управление природой, а не созерцает ее слепую работу. Но… сам видишь… — Он безнадежно развел руками.
Гаркавая, почти не смотревшая до сих пор на Колчанова, взглянула грустными глазами на его прямо-таки трагически сгорбленную фигуру.
— Я не понимаю, почему ты, Алексей Петрович, ухватился за этот аппарат. Наука не признает беспочвенного пристрастия и пустого фантазирования. Она признает только объективную реальность. Почему ты не хочешь считаться с этим? Ты же способный специалист. Как в тебе все это совмещается?
— Ладно, Лидия Сергеевна, не будем об этом говорить, — мрачно сказал Колчанов.
— Да, давайте о деле, — поддержал его Званцев. — Ну так как насчет директорства в школе-бригаде?
— Иван Тимофеевич, — Колчанов посмотрел на секретаря райкома, — разрешите мне ответить на этот вопрос после того, как я побываю в Хабаровске?
— Идет! — согласился Званцев. — Обдумаешь на досуге все, как следует, да в институте поговоришь. Тогда-то и придет постепенно правильное решение. Кстати, выдам тебе, Алеша, маленький секрет: профессор Сафьянов намерен посидеть на Чогоре, чтобы хорошенько познакомиться там с твоими делами. А уж после этого он решит вопрос о том, отзывать тебя с Чогора или нет. Но это — между нами, — подмигнул он Колчанову. — Ну, что же, товарищи, — Званцев встал, — не смею больше задерживать вас. Так ты когда в Хабаровск? — спросил он Колчанова, пожимая ему на прощание руку.
— Сначала нужно съездить на Чогор. Там будет видно…
— Тогда желаю тебе счастливого пути.
Колчанов и Гаркавая молча шагали рядом по коридору, а потом по лестнице вниз. Только у выхода Лида сказала:
— До свидания, Алексей, я пойду к себе в райком.
— До свидания, Лида, — рассеянно буркнул Колчанов. Он холодно поклонился Гаркавой и решительно направился к выходу. Отчуждение, кажется, стало теперь взаимным. А может быть…
7. На Чогор!
Разное говорили о Колчанове, когда речь заходила о том, что удерживает этого молодого человека в уединении на озере Чогор. Одни судили о нем, как о человеке, вообще любящем уединение и отшельническую жизнь среди природы и поэтому избравшем профессию ихтиолога. Другие рисовали его как заядлого охотника и рыбака, для которого нет на свете ничего дороже тишины лугов и задумчивого шелеста трав, утренних карасиных зорек и страстного утиного кряка на вечерней заре в пору весеннего перелета дичи.
Может быть, правы были частично и те и другие, потому что Колчанов действительно легко переносил уединение и любил в свободную минуту поохотиться за дичью или поудить карасей, не говоря уже о том, что, как и всякий человек, он любил природу. Но все-таки не это было главным.
Колчанов был коренным москвичом, хотя детство провел на Сахалине и в Приморье, куда возил за собою семью отец геолог. Постоянные разговоры в семье о проблемах изучения дальневосточной природы, вероятно, сказались на выборе профессии: серьезный и вдумчивый мальчик еще в средней школе выбрал свой путь. Труд отца и его коллег всегда был для него живым примером того, каким должен быть исследователь природы: он изучает именно то, что видит своими глазами, берет своими руками. Он презирал кабинетных сидней, не считая их за ученых. Все это не могло не сказаться на формировании характера молодого специалиста. Когда он получил диплом выпускника Московского университета, цель его жизни и средства для достижения этой цели были ему совершенно ясны: как можно больше собрать живых наблюдений, чтобы разгадать потом как можно больше тайн, которыми так богат подводный мир каждой реки, а тем более Амура. А для этого нужно быть там, где лучше всего можно вести поиски.
Именно эта страсть исследователя удерживала Колчанова на озере Чогор и властно манила его на Бурукан. Но он столкнулся здесь с тем, что не входило в его планы, когда родные и друзья провожали его на Ярославском вокзале: с необходимостью, как он потом говорил, хирургического вмешательства в природу. Мысль о попытке восстановить нерестилища на Бурукане пришла к нему еще в прошлом году, когда было в основном закончено обследование русла и поймы Бурукана и когда стало ясно, что без немедленного вмешательства человека Бурукан погибнет как нерестовая речка. С этим Колчанов не мог мириться. Но что можно сделать помимо строительства рыбоводного завода, он тогда не знал. Дальнейшая же задержка строительства завода могла привести к гибели последних нерестилищ на Бурукане, тем более, что здесь вовсю хищничали браконьеры.
Еще в прошлом году, весной, а потом осенью, Колчанов побывал на Бирском рыбоводном заводе и там подробно познакомился с аппаратом Вальгаева. Этот аппарат разрабатывался для инкубации икры непосредственно в местах нереста кеты и не требовал капитальных сооружений. По идее изобретателя, его можно было построить из подручных средств. Колчанов, хотя и видел его несовершенства, уверовал в будущее этого аппарата. Уже тогда родилась у него идея испытать его на Бурукане. Он опасался одного: вдруг здесь не хватит местных производителей — лососей; возить их из других речек было ему не под силу. Прошлогодняя и нынешняя поездки на Бурукан были предприняты для проверки нескольких мелких ключей, впадающих в Бурукан и неизученных ихтиологами в период основного обследования. Читателю уже известно, чем кончились эти поездки: Колчанов обнаружил вполне достаточную базу для сооружения там аппарата Вальгаева. Теперь он мог смело приступать к осуществлению своей идеи. Но сначала надо было решить, что предпринимать: либо окончательно рвать свои отношения с профессором Сафьяновым, а может быть и с институтом, и надолго связать судьбу с Буруканом, либо отказаться от мечты воскресить Бурукан, вернуться в институт и целиком отдаться научно-исследовательской работе.
Этим, однако, не исчерпывалась вся сложность положения Алексея Колчанова. На пути вставало еще одно препятствие — запрет рыбинспектора Кондакова ловить производителей кеты на месте нереста, хотя Колчанов и догадывался, что Кондаков руководствуется отнюдь не соображениями охраны естественных нерестилищ…
…Было немногим более пяти часов, когда Колчанов вышел из райкома партии. Дел в Средне-Амурском больше не оставалось, и он решил немедленно отправляться на Чогор. Шурка Толпыгин был давно готов, погода стояла хорошая — тихая, ясная, довольно теплая. Не беда, что они доберутся поздно. В конце концов можно переночевать у бакенщика на Шаман-косе и заодно завезти ему пса, который вот уже третьи сутки сидит на привязи во дворе гостиницы и до чертиков надоел ее обитателям тем, что бесконечно скулит.
Как ни торопился Колчанов, но меньше чем за полчаса собраться в путь не удалось. Наконец все готово, Шурка оттолкнулся от берега. Колчанов завел мотор и хотел уже включить скорость, когда увидел Лиду Гаркавую. Она махала рукой, по-видимому, что-то кричала, но голоса се Колчанов не слышал: мешал шум мотора. Пришлось снова подъехать к берегу и заглушить мотор.
— Ты что же, Алексей, даже не зашел попрощаться? — еле переводя дыхание, спросила она, садясь на нос моторки.
— Извини, Лида, — Колчанов мягко и искренне улыбнулся, — спешим засветло добраться до Чогора.
— Как же успеете засветло, когда на дворе уже вечер, а впереди почти сто километров! Да еще хочешь искать толстолобов. А впрочем, смотри сам, дело твое. Я вот с чем: звонили из института и просили передать тебе и Николаю Николаевичу, что первого июня заседание Ученого совета, твое присутствие обязательно. Это первое. Второе — Иван Тимофеевич и Николай Николаевич поедут на Чогор завтра, потому что вечером Николаю Николаевичу предстоит разговор с Москвой. С ними поеду я и Петр Григорьевич Абросимов. Знаешь, бывший директор школы, пенсионер? Он согласился руководить школой-бригадой.
— Ну что ж, хорошо. Буду ждать вас.
— И прошу тебя, Алеша, подумай, пожалуйста, насчет программы и лекций для ребят.
— Ладно, подумаю.
Гаркавая долго провожала взглядом моторку. Легкая, стремительная лодочка, казалось, летела над самой поверхностью воды, навстречу вечерним лучам солнца, прочерчивая длинную пенящуюся борозду. Создавалось впечатление, что она берет разгон, чтобы подняться в воздух и вот-вот взлетит — уже оторвалась от воды вся ее передняя часть, и только корма, на которой сидит, подавшись всем корпусом вперед, Колчанов, еще царапает поверхность воды. Колчанов то и дело придерживал козырек своей старенькой кепчонки, поглубже натягивая ее на глаза, чтобы не сдуло встречным потоком воздуха. Он застыл в этой напряженной позе, будто изваянный скульптором. Грустная уходила с берега Лида: хоть бы раз повернул лицо в ее сторону!
Через полтора часа путники были уже более чем в пятидесяти километрах от Средне-Амурского. Там Колчанов свернул в тихую старицу Амура, глубоко вдающуюся в правобережье поймы. На излучине старицы начинался и уходил в луга большой залив, связанный системой озер и проток с Чогором. В этом огромном водном лабиринте в летнее время держался на выпасе толстолоб — одна из удивительнейших рыб Амура.
Пожалуй, в Амуре, да и не только в Амуре, нет рыбы из семейства карповых жирнее толстолоба. В копченом виде — это деликатес, который по вкусу можно сравнить разве только с осетровыми. Между тем и ихтиологи и рыбаки очень мало знают об образе жизни толстолоба. Известно, что он размножается пелагической икрой: одна рыбина выметывает непосредственно в толщу воды до полумиллиона икринок; икринки быстро набухают, а их прозрачную оболочку очень трудно различить в воде. В оболочке и происходит развитие зародыша, при этом довольно быстрое — в течение нескольких дней. Известен и характер питания толстолоба; пищей ему служит планктон. В размножении и в питании толстолоб не зависит от режима воды в Амуре. Казалось бы, при этих условиях запасы его должны быть очень большими. На самом же деле толстолоб занимает далеко не первое место среди промысловых рыб. Эта загадка связана с тем, что никто не знает, где и когда он находится. Если карася и сазана, щуку и сома летом нужно искать в стоячей воде, поближе к траве, а леща, верхогляда и желтощека — на течении, то о толстолобе ничего определенного не могут сказать ни ученые, ни рыбаки. Только зимой можно найти яму, где толстолоб отлеживается, часто вместе с другими карповыми рыбами.
Колчанов давно заметил, что между излучиной старицы Амура и Чогором кочует большое стадо
толстолобов. Уже около десяти точек поставил молодой ихтиолог на карте лабиринта, изучая маршрут и закономерности движения стада. Теперь ему хотелось попутно найти еще одну такую «точку».
Над безбрежной амурской поймой царил первозданный покой. Замерли травы на лугах, зеленые купы тальника гляделись в зеркало воды, повсюду разлилась вечерняя дремотная тишь. Амур словно отдыхал после многодневных штормов. Только иногда показывалась тяжелая и ленивая в полете цапля, изредка оглашая всю округу своими зычными, похожими на стон воплями.
В этой тиши звук мотора напоминал нескончаемый звон огромной струны, натянутой где-то от края и до края над просторами лугов. Колчанов давно уже так не отдыхал душой, как сейчас, весь отдаваясь упоению стремительным движением.
Они мчались протокой. Чуть правее лодки из воды вдруг выпрыгнула огромная серебристая рыбина. Толстолоб! Потрепетав плавниками в воздухе и весь изогнувшись, он бухнулся обратно в воду, подняв каскад изумрудных брызг. Это было как бы сигналом: через мгновение такие же серебристые красавцы замелькали в воздухе повсюду вокруг лодки. Колчанов мгновенно сбавил бег моторки и стал выписывать крутые виражи: придуманный им еще в прошлом году способ выловить несколько рыбин. Не успел Колчанов, пряча голову и пригибаясь, сделать и двух кругов, как на дно лодки, перепугав пса, с грохотом упал полупудовый толстолоб. Едва Шурка прикрыл рыбину пологом палатки, как ощутил тупой, довольно увесистый удар по спине — в лодку влетел второй толстолоб. Хватит, нужно скорее выскакивать из «опасной зоны»! И лодка понеслась своей дорогой: новая «точка» выпаса толстолоба найдена!
Под впечатлением встречи с толстолобами Колчанов — уже в который раз — принялся обдумывать способ постановки опыта для выяснения причин, которые заставляют выпрыгивать из воды эту любопытную рыбу. Одни утверждают, что толстолоба пугает тень лодки или катера, другие — внезапный звук. Но Колчанову хотелось выяснить главное: почему только толстолоб при встрече с лодкой или катером выпрыгивает из воды? По рассказам старожилов Приамурья, в старину, когда рыбы в Амуре было гораздо больше, рыбакам случалось встречаться с такими стаями толстолобов, что они опрокидывали лодку.
Задержка с Лидой Гаркавой на берегу и встреча с толстолобами, тоже отнявшая несколько минут, привели к тому, что сумерки застали путников километрах в тридцати от Шаман-косы в довольно сложном лабиринте проток и тальниковых зарослей. Пока догорала заря, Колчанов мог вести лодку на самой большой скорости, хотя протока, по которой они ехали, делала одну петлю за другой. Но вот в небе потухли последние отсветы зари, и густая темень окутала пойму Амура. Свет карманного фонарика почти не пробивал темноту — села батарейка. Колчанов сбавил обороты мотора до самых малых. Пригнувшись к самому борту лодки, он, как и Толпыгин, изо всех сил напрягал зрение. И все-таки в одном месте лодка с такой силой наскочила на затопленный сухостойник, что едва не опрокинулась. К счастью, тальниковый коридор вскоре кончился, и перед путниками открылась широкая, усеянная отраженными звездами гладь воды. По расчетам Колчанова это было Песочное озеро, от которого отходит к Амуру широкая протока. Он не ошибся: через четверть часа позади остались последние купы тальников, и лодка выскочила в русло Амура. Или он привык к темноте, или ярче заблестели звезды, подсвечивая воду сверху и снизу, из глубины, но он стал видеть гораздо лучше. Теперь Колчанов выжимал из мотора всю силу, на которую только тот был способен. Так они мчались с полчаса, пока наконец не увидели впереди огоньки знакомых створ на Шаман-косе. А еще минут через десять лодка ткнулась носом в песчаный берег неподалеку от хижины бакенщика.
— Кого бог принес? — послышался густой хрипловатый бас от порога избы. — Уж не Алексея ли Петровича?
— Он самый, Филимоныч! — отозвался Колчанов. — Принимай Верного!
Но пес уже выскочил на берег и теперь радостно скулил и тявкал возле хозяина.
— Ну, задал ты мне, паря, головоломку, — старик подошел к лодке. — Только утром от рыбинспекторов узнал, что ты, слава богу, жив и здоров. Заходь чайку-то попить, а то, может, и переночуешь?
— Недосуг, Филимоныч, завтра у меня будут гости, — говорил Колчанов, нащупывая рыбину. — На вот, на уху! — Под ноги бакенщика, сверкнув серебром, шлепнулся толстолоб.
— Благодарствую, Петрович, — крякнул старик, поднимая полупудовую рыбину. — А там уж, паря, и сейчас у тебя гости. Большой да нарядный катер, из Хабаровска, должно…
— Да ну! — обрадовался Колчанов. — Значит, приехали. Это экспедиция из Москвы. Может, кто-нибудь из друзей или знакомых. Поехали! Спокойной ночи, Филимоныч.
— С богом, Петрович, удачи тебе!
Колчанова и Филимоныча связывало не только соседство по озеру Чогор. Знакомясь с окрестностями Чогора, Колчанов объезжал однажды на лодке протоки и заливы, прилегающие к озеру, Неподалеку от Амура на лугу он заметил человека, который с ведром в руках шел к берегу реки. Подойдя к Амуру, человек выплеснул из ведра в воду какую-то жижу и снова зашагал в луга. Где-то во впадине он исчез, а вскоре снова появился с ведром и проделал то же, что в первый раз. Колчанова заинтересовало, чем он занимается. Алексей оставил свою лодку и поспешил в направлении впадины. И вот перед ним картина: длинная кочкастая ложбина, видимо заросшая старица какой-то протоки; на дне ее — небольшая и неглубокая, по щиколотку, мутная лужа, по ней бродит могучий старик, ловит пригоршнями мелкую рыбешку, которая здесь кишмя кишит, и бросает в ведро. Колчанову стало ясно: старик спасает молодь, оставшуюся в обсыхающем озерке. Не долго думая, Алексей разулся, засучил штаны и принялся помогать старику.
Так они познакомились и вскоре стали друзьями. С тех пор то Колчанов, то Филимоныч нередко заглядывали друг к другу в гости. Зимой бакенщик жил вдвоем со старухой. Во время же летних отпусков у него становилось людно: приезжали с женами и детьми сыновья (у Филимоныча их было шестеро), две дочери-учительницы с мужьями и тоже с детьми, и тогда на Шаман-косе возникал целый пионерский лагерь. Все попытки сыновей и дочерей переманить стариков в город пока не имели успеха. Филимоныч, избродивший в молодости весь Дальний Восток, испытавший труд и золотоискателя, и зверобоя, и рыбака, не хотел расставаться с привольными просторами Амура. Он превосходно знал здесь каждый уголок поймы, глубины и отмели в озере и окрестных протоках и был незаменимым советчиком в исследовательской работе Колчанова.
8. На распутье
От Шаман-косы моторку повел Шурка. Волшебной иллюминацией переливались в темной блестящей глади воды хороводы синевато-серебристых звезд. Любуясь ночным Чогором, Колчанов кутался в плащ-накидку и думал, думал о том, как трудно ему придется разрешать свой конфликт с профессором Сафьяновым, а может быть и с институтом. Не сдаться ли? Не отступить ли?
Почему-то вспомнилось, как по пути в райком до слез обидел Лиду Гаркавую. Ему стало жаль девушку и стыдно за себя — даже не извинился перед ней. Он ни разу не пытался разобраться в своих взаимоотношениях с этой, в общем-то превосходной, девушкой. Он как-то привык к ее мелким услугам, к молчаливому обожанию. Да она, во-первых, неравнодушна к нему — он это видел, хотя никогда не придавал ее чувству серьезного значения. Во-вторых, она, как ихтиолог, не пошла далеко, и ее преклонение перед настоящим ученым воспринималось им, как само собой разумеющееся. Сейчас, взвесив все объективно, Колчанов как бы впервые прозрел. Он спросил себя, почему он не считает ее настоящим ихтиологом? И, к своему удивлению, не нашел ответа на этот вопрос. Напротив, все, что она сделала на рыбоводно-мелиоративной станции до того, как ее избрали секретарем райкома, — организовала расчистку нескольких ключей на Бурукане, разработала характеристику обсыхания некоторых озер в пойме Амура и способы борьбы с этим бедствием, — говорило о ее умении решать главные проблемы естественного размножения промысловых рыб. А теория инкубации лососевой икры в городских условиях, которую исподволь разрабатывает она? Ведь в этой теории учитывались все факторы современного состояния рыбоводной науки. Икру действительно можно добывать и оплодотворять непосредственно на нерестилищах, а вертолет вполне может обеспечить ее быструю доставку в город и весной отвезти вылупившихся мальков в ту же речку. Что касается инкубации икры в городе, то для этого имеются идеальные условия — возможность получать чистую воду, поддерживать нужную температуру. Помещением может служить любое, в том числе и жилое здание.
Анализируя таким образом характер Гаркавой, Колчанов как-то в новом свете увидел и ее идею рыбоводно-рыболовецкой — и именно молодежно-комсомольской — школы. В сущности, ею решалась давно назревшая задача — соединить в труде рыбаков функции сеятелей и жнецов подводных полей. Взять того же скотовода или хлебороба; он тоже прошел когда-то эту стадию, — сначала был собирателем диких плодов или охотником. Когда естественные ресурсы в природе оказались недостаточными для удовлетворения его потребностей, человек вынужден был взять на себя заботу об организованном воспроизводстве этих ресурсов. Если рыбаки до сих пор не прошли эту стадию, то только потому, что водная среда оставалась труднодоступной. Теперь, когда на помощь человеку пришла техника, настал черед и рыбаку заняться воспроизводством рыбных запасов.
Так как же поступить: уйти в «чистую» науку, как настаивает на том шеф, или действительно принять предложение Лиды Гаркавой и взяться за обучение молодых рыбаков-рыбоводов основам ихтиологической науки?
Занятый этими мыслями, он не заметил, как лодка пересекла озеро и приблизилась к устью Бурукана.
Показался светлый четырехугольник крыши домика биологического пункта. В стороне, слева, темнел силуэт дома бригады, а поодаль, в заливчике, Колчанов разглядел у берега очертания большого катера. Чувство приятного успокоения, свойственное путнику, возвращающемуся домой, овладело Колчановым. Как он любил это свое прибежище под утесом! С ним было связано все, чем он жил последние три года: и радость находок, и увлекательные раздумья в долгие осенние вечера, и горечь неудач и ошибок. Да и сама природа собрала в этом уголке, кажется, все, чем могла очаровать человека. Над крышей — каменный утес, а за ним — непролазные таежные дебри. Прямо перед домиком — привольная ширь озера Чогор, оконтуренного со всех сторон густым валом тальника. Тут же рядом — устье Бурукана, прорезавшего широкую долину среди сопок. День и ночь несет Бурукан прохладные, чистые, как слеза, воды из таежных далей в озеро Чогор. Их шум и перезвон, ни на минуту не умолкая, навевают в часы отдыха приятные думы.
Заглушив мотор, путники вытащили лодку на берег.
— Алексей Петрович, а катер-то незнакомый, — сказал Шурка.
— Видимо, экспедиционный.
Шурка попрощался и ушел, а Колчанов долго стоял, вслушиваясь в звуки ночи. Из леса невнятно доносились пугающие шорохи; со стороны Бурукана, из непроглядной тьмы плыл далекий шум воды на перекатах; рядом, у самого устья речки, звенел и звенел колокольчиком родничок, бивший из-под самой подошвы утеса. А над всеми этими скорее угадываемыми, чем слышимыми звуками распростерлась чуткая ночь, пропитанная холодком и лесной влагой с терпким запахом молодой зелени.
Колчанов неслышно поднялся на крылечко, долго искал в темноте ключом замочную скважину. Вот он и дома! Пахнуло нахолодалостью нежилья. Он зажег лампу-«молнию» с веером пластин вместо абажура — термоэлектрогенератором и с облегчением опустился на раскладушку. Усталость сразу навалилась на Колчанова с такой силой, что ему стоило большого труда удержаться от соблазна и не привалиться на подушку — сод пока еще не входил в его планы. Превозмогая усталость, Колчанов поднялся, подключил радиоприемник к лампе, и вскоре в этот уголок глухого безмолвия, затерянный в безлюдных далях дальних, ворвался голос диктора: Хабаровск заканчивал передачу вечернего выпуска последних известий. Потом в домик вошла музыка — звуки Богатырской симфонии Бородина. Ничто в эту минуту так не соответствовало настроению Колчанова, как эта музыка. Сразу вернулась утраченная бодрость.
Наскоро перекусив, Колчанов зажег фонарь и отправился в лабораторию проверить аквариум. Там было все в порядке: тихо журчала вода, поступающая в стеклянные прямоугольные банки из родника от скалы и сбегающая по желобку в подпол. Рыбки — мальки гибридов, торопливо шевеля плавниками, двинулись на свет и стали тыкаться носами в стеклянные стенки. Вот две самые крупные рыбешки сошлись рядом, как бы о чем-то советуясь. Бока их поблескивали бронзовым отливом. Эти гибриды сазана и карася, полученные нынешней весной, почти вдвое обогнали в росте своих контрольных сверстников-негибридов.
Колчанов долго стоял возле банки с тремя продолговатыми темными шустрыми рыбками. Это были самые ценные из всех находившихся сейчас у него в аквариумах — гибриды черного амура и озерного гольяна. Вывести их стоило огромного труда. Оставалась неменьшая трудность — вырастить их. Первая попытка не удалась — в прошлом году погибли пять таких гибридов.
Порадовала его и третья банка, в которой, здоровые и невредимые, носились мелкие веретенообразные рыбешки — гибриды пескаря и амурского коня.
Величественные звуки Гимна Советского Союза заполнили одинокий домик под утесом, когда Колчанов управился со всеми делами. Еще раз оглядев лабораторию, он вернулся в спальню, выключил радио и погасил лампу. Нет, он не покинет этого так полюбившегося ему уголка, не может так просто оторвать от сердца все, что его роднит с этим домиком, с царством природы, полной неразгаданных тайн.
…И снится Колчанову огромный университетский вестибюль. В нем полно народу — все студенты. Они поют — удивительно слаженно и красиво — и качаются в такт песне. Какая же это песня? Стройная, мощная мелодия гремит где-то в вышине там, за стенами вестибюля. Ба, да это же «Подмосковные вечера»! Колчанову очень хочется прослушать ее всю, он напрягает слух, но слова все время ускользают, песня слышится где-то далеко-далеко. Он делает усилие, и все вдруг исчезает. Колчанов открыл глаза. В окне — утренняя голубизна, стены комнаты позолочены отсветом первых лучей солнца. Неужели утро? А ведь кажется, будто он только что уснул. А мелодия не исчезает, она гремит за окном, над озером.
Колчанов вскочил с постели, распахнул окно. И замер, очарованный благодатью теплого весеннего утра. Над гладью озера — белые невесомые прядки пара. Небо, озеро, дальние левобережные увалы сопок и сам воздух — все пронизано светом. А неподалеку, уткнувшись носом в берег, стоит большой катер — белый, нарядный, и на нем — репродуктор.
За окном послышались голоса и чьи-то шаги, а потом — стук в дверь. Наскоро одевшись, Колчанов бросился в коридор, открыл дверь. Перед ним стояли двое: высокий длинноногий молодой человек с тонкими усиками на бледном лице горожанина и девушка с копной льняных волос, одетая по-экспедиционному. У нее чуть скошенные васильковые глаза, стройная фигура, точеная белая шея. Надя Пронина! Когда Колчанов уже заканчивал университет, она училась только на третьем курсе. Это была приметная на всем факультете девушка. Не раз Колчанов заглядывался на нее, а незадолго до окончания университета даже познакомился с нею.
— Входите, — растерянно пробормотал он, не зная, как вести себя с Надей в присутствии молодого человека.
— Здравствуйте, Алеша, — первой произнесла Пронина. — Не узнаете? — она шагнула к нему, протягивая белую пухленькую руку.
— Узнаю, — лицо Колчанова покрылось румянцем. — Здравствуйте, Надя. Прошу заходить в мое логово. Извините за беспорядок, — говорил он, открывая перед гостями дверь в свою комнату. — Ночью приехал, не успел прибрать.
— А мы слышали, как вы приехали, — приподнято звенел голос девушки, — спорили даже, пойти или не пойти к вам. И решили, что неудобно… А вот сейчас встали и попросили шкипера, чтобы специально для вас поставил «Подмосковные вечера». — Вся сияющая, она радостно рассмеялась. — Думали, скорее проснетесь…
— Спасибо. Я как раз и проснулся от этой мелодии. А вообще-то стоило бы зайти еще ночью. С экспедицией?
— Да, — ответил молодой человек. — Давайте познакомимся. Геннадий Хлудков, заместитель начальника экспедиции. — Он протянул узкую влажноватую ладонь, проницательно вглядываясь в лицо Колчанова глубоко посаженными глазами. — А скажите, где вы разминулись с Николаем Николаевичем? Он ведь отправился разыскивать вас.
— Я с ним не разминулся. — Колчанов сел на раскладушку, указал гостям на табуретки. — Короче говоря, он сегодня будет здесь.
Ему бы хотелось поговорить с Надей о многом, расспросить о друзьях, знакомых, но темные с прозеленью глаза Хлудкова мешали найти нужный тон. Поэтому Колчанов задавал лишь самые обыденные вопросы: где работает Надя, чем занимается в экспедиции, какое впечатление произвел Амур? Надя учится в аспирантуре по первому году, специализируется по подводной энтомофауне, Амур очаровал ее.
— Вы, говорят, уже три года живете здесь, — вмешался в разговор Хлудков. — Неужели так нравится?
— Да, тут интересный уголок, — равнодушно отвечал Колчанов. — Привык, знаете. За работой как-то не замечаю оторванности.
— И зимой здесь? — спросила удивленная Пронина. — Да ведь это же героизм, Алеша!
Колчанов повернул лицо к окну и мельком глянул на Хлудкова. Да, тот по-прежнему смотрел на него проницательно и, кажется, с подозрительностью. Этот человек с франтоватыми усиками начинал раздражать Колчанова своим нагловатым и немного высокомерным взглядом. Чтобы скрыть неловкость, Колчанов предложил:
— Хотите посмотреть лабораторию? Там у меня есть кое-что интересное.
— И по энтомофауне? — с живым любопытством спросила Пронина.
— К сожалению, Надя, почти ничего нет. В этом отношении Чогор еще «белое пятно»…
— Все равно очень интересно! — воскликнула Пронина. — Как вы, Геннадий Федорович?
У Колчанова сразу отлегло: «Геннадий Федорович» да еще на «вы»… Но, может быть, это маскировка?
— Что ж, возможно это действительно интересно, — без энтузиазма согласился Хлудков. — Но нам предстоит решить прежде всего деловые вопросы, Алексей… э-э, простите, Алексей Петрович. Я хотел бы согласовать с вами задание, которое имеется для вас, как члена нашей экспедиции, в нашей научной тематике.
— Не будем опережать события, — спокойно ответил Колчанов. — Я пока еще не член вашей экспедиции.
— Как? Разве Николай Николаевич не говорил вам, что вы включены в нашу экспедицию?
— Говорил, но я не принял его предложения. До тех пор, пока я не побываю в Хабаровске, вопрос остается открытым.
— Но ведь это же распоряжение профессора Сафьянова, вашего шефа, и оно согласовано в Хабаровске! — повысил голос Хлудков.
— И тем не менее вопрос остается открытым.
— А вы, я смотрю, излишне смелый человек, — Хлудков с недоброй иронией посмотрел на Колчанова.
— Смелость тут ни при чем. На мне много обязанностей здесь, на Чогоре, которые пока не на кого возложить.
— Что ж, будем ожидать Николая Николаевича, — растягивая слова, холодно сказал Хлудков.
9. Идет-гудет Зеленый Шум…
После ледохода на Амуре земля долго выглядит прозябшей. Нахолодает она за зиму — и много дней еще сочится холод из-под кочек и коряг, из-под обрывчиков и из ямин. Неприветлив бывает в такую пору Чогор — дуют холодные пронизывающие ветры, гуляют на широких просторах гривастые волны. Но где-то во второй половине мая установится тишь и вдруг хлынет тепло — обильное, мягкое, благодатное. И запоет, засвиристит все живое. Над лугами в блеклой голубизне неба день-деньской звенят жаворонки, в дремучей молодой зелени тальников над протоками на все лады выщелкивают камышовки, в шелковисто-мягких молодых травах, словно звон в ушах, висит назойливый хор цикад.
В такие дни медвежья дудка растет по целой четверти в сутки, почти на глазах вытягиваются в рост стрельчатые листья пырея; буйным соком наливаются молодые побеги и с жадностью тянутся к щедрому солнцу. А в заливах, на мелководье, среди кочкарников, где вода, как парное молоко, начинается сазаний бой — время икрометания.
Для Колчанова эта пора была самой горячей и счастливой. Целые дни проводил тогда он среди природы, носился на своей моторке по Амуру, протокам, заливам, озерам, наблюдая пробуждение подводного царства. Вот и сегодня, проводив гостей, он сразу заторопился, чтобы не терять драгоценного времени. Уж несколько дней в Амуре наблюдалась небольшая прибыль воды, стало быть, сазан пошел на затопляемую траву и вот-вот начнет нереститься. Наступала самая лучшая пора для отлова сазанов-производителей и запуска их в нерестовики. По этому случаю еще неделю назад собирались начать заполнение водой главного нерестовика.
Колчанов решил сходить на нерестовики, проверить, не пропускает ли сооружение воду. Возле дома бригады его встретил самый веселый обитатель рыбацкого стана — Шарик — лохматая коротконогая дворняга, которая охотно откликалась и на кличку Мальбрук. Эту вторую кличку Шарик приобрел в начале минувшей зимы. Неподалеку от устья Бурукана ребята из бригады обнаружили свежий след медведя-шатуна. Прихватив ружья, Колчанов, Шурка Толпыгин и бригадир Владик Стариков решили его выследить. Позвали с собой и Шарика. Разнюхав след, Шарик вдруг поджал хвост, жалобно взвизгнул и со всех ног бросился к рыбацкому стану. Охотники тотчас же констатировали: Шарик заразился «медвежьей болезнью», даже не войдя в контакт с медведем. Так он получил новую кличку — Мальбрук. Никакими усилиями больше нельзя было заманить его в тайгу. Сейчас он делал головокружительные прыжки перед Колчановым, намереваясь лизнуть его в лицо. Обнаружив однако, что тот держит путь в сторону сопок, Шарик постоял в раздумье и с чрезвычайно деловым видом затрусил к дому.
Через полчаса Колчанов был уже на плотине главного нерестовика. Земляная плотина, высотой метра три и в длину около сотни метров, отсекала самый верхний угол заболоченной ложбины. Выше по ее склонам были созданы небольшие плотинки, отгораживающие более мелкие — опытные нерестовики — одиннадцать небольших, пока сухих бассейнов.
Сооружение нерестово-выростного хозяйства производилось по рекомендациям Колчанова. Ему никогда прежде не приходилось заниматься столь ответственным делом, поэтому он был серьезно озабочен каждой мелочью в этом несложном, но довольно прихотливом хозяйстве. Он придирчиво осматривал щит водоспускного отверстия — не пропускает ли воду, долго, бродил среди кочек по колено в воде, высматривая опасных для икры обитателей — ротана-головешку, гольяна, косатку. Но все было хорошо — вода накапливалась довольно быстро и уже начинала затоплять молодую траву, а среди кочек ему не удалось обнаружить пока ни одной рыбешки. У верхнего края образующегося озерка, где в него вливался ручей, бегущий со стороны мари, из-под самых ног Колчанова взлетела большая кряковая утка. Неужели гнездо? Так и есть: на широкой кочке в центре осокового веера — полдюжины зеленоватых яиц в еще теплом, аккуратно свитом из травы и пуха гнезде. Через два — три дня эта кочка будет на дне озера. Переносить гнездо в новое, безопасное место — бесполезно, утка уж больше не вернется к яйцам, даже если и найдет гнездо. Колчанов аккуратно срезал охотничьим ножом торфяную макушку кочки, чтобы отнести в препараторскую, где по инициативе ребят создавался природоведческий музей бригады. Там уже хранились заспиртованные рыбы, змея, свившаяся в клубок и так засохшая, несколько осиных гнезд и полдюжины чучел местных птиц.
Когда Колчанов вернулся на стан, бригада рыбаков-рыбоводов купалась. Несмотря на довольно ощутительную утреннюю свежесть, парни и девушки бултыхались в озере. Завидев Колчанова, Владик Стариков скомандовал вылезать из воды. Владика можно было назвать красавцем. Правильное смуглое лицо с мягким нежным овалом подбородка, прямые черные волосы, откинутые назад и спадающие на уши, тонкие дуги бровей, наконец, большие, то веселые, то задумчивые и мечтательные глаза, — все это придавало его облику что-то поэтическое. У него была стройная высокая фигура с хорошо развитой мускулатурой.
— Что это у вас, Алексей Петрович? — спросил он, указывая на веер осоки и заглядывая в гнездо. — Яйца дикой утки?! Какая прелесть! Ребята, скорее сюда, посмотрите! Разрешите, Алексей Петрович…
Взяв кочку с гнездом, он осторожно положил ее на землю. Через минуту у гнезда толпились голоспинные мокрочубые рыбоводы.
— Вот бы под домашнюю утку! — сказал Шурка, прозванный в бригаде Толпыгой.
— Яичницу зажарить… — заметил коренастый увалень Степан Ферапонтов.
— Дундук он и есть Дундук! — презрительно бросила в его адрес Верка Лобзякова, быстроглазая, как коза.
— Это для музея, Алексей Петрович? — по-петушиному кричал Гоша Драпков, щупленький скуластый паренек, приглаживая на широком лбу жиденький вихор.
— А что если и в самом деле подложить их под домашнюю утку? Выведутся утята?
— Конечно, выведутся, — объяснил Сергей Тумали — стройный симпатичный нанаец. — Мой отец выводил. Но они улетают, не приручаются.
— Посмотрели — хватит, — решил Владик. — Быстро одеваться — и на завтрак!
Через минуту Владик был уже в лаборатории Колчанова.
— Алексей Петрович, вам сегодня нужны будут ребята? — спросил он.
— На полдня — вся бригада, производителей будем ловить.
— Добро. Скоро поедем?
— Позавтракаем и отправимся.
— Завтракать с нами будете, Алексей Петрович?
— Да, я сейчас приду.
Нравились Колчанову эти ребята. Вчерашние десятиклассники, почти одного года выпуска, они с первого дня существования бригады — с осени прошлого года — сложились как дружная и очень дисциплинированная коммуна. На стене в столовой у них висел распорядок дня — когда и чем заниматься. Каждое утро назначался дежурный по стану. В общежитии и столовой поддерживалась идеальная чистота. Но главное — дисциплина: она как-то сама по себе поддерживалась и на работе и в общежитии. В сущности, на глазах Колчанова рос, формировался коллектив подлинно коммунистического труда. Как же хорошо придумала Лида Гаркавая — создать эту бригаду именно здесь, на нерестово-выростном хозяйстве, где нужны только энтузиасты!
Что касается результатов их труда, то они превзошли даже самые оптимистические ожидания: за зиму бригада в полтора раза превысила сезонный план вылова рыбы и почти на сто центнеров обставила лучшие промысловые бригады Средне-Амурского колхоза. К Первому мая каждый член бригады получил премию — отрез на костюм, а фотографии молодых рыбоводов уже красовались на районной Доске почета.
Взламывая глянец озера и разрезая надвое жиденькое кисейное покрывало пара, по Чогору ходко шел лодочный караван. Впереди — колчановская моторка, за нею на буксире — бригадный кунгас — большая лодка с высоко поднятыми острым носом и кормой, за кунгасом — почти такая же лодка — живорыбница. След каравана прочерчивал озеро, удаляясь в направлении Верхней протоки. Вел моторку сам Колчанов. Он, как всегда, сидел, чуть подавшись вперед.
Вскоре караван пересек озеро и пошел по Верхней протоке, направляясь к Кривому заливу.
Этот залив стал для Колчанова самым верным барометром, предсказывающим те или иные биологические процессы, совершающиеся в жизни рыб. Залив был довольно глубоким, с длинной кочкастой отмелью на конце. Сюда при любом уровне воды заходили рыбы на кормежку, а в нерестовый период — на икрометание. Колчанов знал, что в этом заливе нерестятся в разное время щука, сом, сазан, карась и даже озерный гольян, который обычно мечет икру в озерах. Щука и сом уже отнерестились, и теперь очередь была за сазаном и карасем.
Пристав к берегу, Колчанов велел ребятам перегородить залив ставной сеткой, а сам отправился осматривать отмель. Здесь он разделся, оставшись в одних трусах, и осторожно, чтобы не колоть ноги об траву, пошел по самому бережку, пристально вглядываясь в буровато-прозрачную толщу воды.
Способность специалиста-ихтиолога, как и иного опытного рыбака, видеть в воде скрытую там жизнь, бывает нередко поразительной. Там, где несведущий человек ничего не обнаружит или в лучшем случае заметит лишь серебристое поблескивание, ихтиолог разглядит целые тучи мальков и даже определит их породу, будет долго наблюдать за карасем-сеголетком, почти слившимся с цветом дна и что-то выкапывающим из ила, заметит, как откуда-то из-за кочки торпедой вылетит щучка-травянка и врежется в стаю мальков — несколько рыбешек, считай, уже очутились у нее в пасти.
Колчанов с ненасытной жадностью всегда наблюдал эту таинственную жизнь подводного мира. Он мог часами простаивать или просиживать где-нибудь в укромном прибрежном уголке и смотреть, смотреть в воду. Сейчас ему нужно было выяснить, зашел ли сазан в залив и как он себя ведет. Чутье у рыб к предстоящему спаду или подъему воды настолько развито, что пока они лучше человека ориентируются в этом. Еще только завтра или послезавтра начнет убывать вода, а крупный сазан уже покидает заливы, мелкие протоки или озера, которым угрожает отшнурование. Правда, в разгар нереста это чутье изменяет, например, сазану: порой он выметывает икру на траву, которая — на гибель икре — завтра обсохнет. Это связано, по-видимому, с тем, что рыба не может прекратить нерест, не выметав всю икру, иначе икра набухает, закупоривает выходной канал, и рыба может погибнуть.
Колчанов уже поравнялся с отмелью, а ни одного сазана пока не обнаружил. Значит, нерест еще не начался. Колчанов как раз и опасался того, что сазан начал нереститься, — такой производитель уже неполноценен для искусственного нерестовика. Но плохо, если он вообще еще не зашел в залив. Будет впустую потрачен труд.
Среди кочек его внимание привлек характерный бурун на глади воды, похожий на след сазаньего горба. Рыбацкая страсть захватила Колчанова: осторожнее стали движения, острее глаза. Эта никогда не притупляющаяся страсть рыбака счастливо сочеталась у него со страстью ученого-исследователя, и, может быть, это качество и было самым сильным в его характере, придавая ему ту цельность, без которой немыслим большой успех в любом деле. Потом он заметил, как еще один бурун неторопливо прошел через залив и растаял недалеко от противоположного берега. Вскоре в той стороне послышался громкий всплеск. Взыграла вода и неподалеку от того места, где стоял Колчанов. Значит, сазан есть!
Колчанов облюбовал крупную кочку посреди отмели, по пояс в воде добрался до нее, решив устроить здесь наблюдательный пункт. Усевшись поудобнее в буйный веер осоки, растущей из кочки, как из вазона, он опустил ноги в воду и замер, приблизив лицо к самой воде. Как хорошо бы иметь сейчас маску и дыхательную трубку! Только вряд ли Сафьянов теперь подарит ему обещанное ныряльное снаряжение…
Приходилось пока изучать подводную жизнь так же, как испокон веков ее изучали ихтиологи: пристально всматриваться в толщу воды, стараясь различить в ее сумраке хоть какое-нибудь движение живого существа. Вот он разглядел стайку карасиков. Они торопливо бежали у самого дна, потом остановились неподалеку от его ноги, видимо разглядывая незнакомый предмет. Те, что посмелее, осторожно приблизились, а вскоре и вся стайка доверчиво стала кружиться у ноги. Потом вмиг все шарахнулись в разные стороны и исчезли. Что случилось? Ах, вот оно что: поводя багряно-зеленоватыми плавниками, сюда медленно двигался огромный красавец сазан. Он тоже остановился неподалеку от ноги Колчанова и долго смотрел на нее, едва заметно открывая и закрывая рот. За его хвостом из бурого сумрака вскоре показался второй сазан, покрупнее. Этот оказался смелее — он подошел почти к самой ноге и вдруг, сверкнув бронзой, резким рывком кинулся в сторону. В ту же минуту позади Колчанова что-то громко бултыхнулось, обдав его спину каскадом брызг.
Сомнений больше не оставалось — сазан пришел на нерест. Нужно звать ребят и начинать облов кочкарника. До Колчанова все время доносились со стороны протоки их шум, смех. Но ребята не развлекались, как думал он, прислушиваюсь к их гвалту.
Как только караваи пристал к берегу и звеньевые Шурка Толпыга и Сергей Тумали вместе с Владиком принялись перетягивать сеть через залив, Верка Лобзякова с разбега бросилась в воду и поплыла.
— Что ты делаешь, коза, ты же нам всех сазанов распугаешь! — закричал на нее Шурка Толпыга. Но та, не обращая внимания на него, легкими сажёнками пошла через залив.
— Беда с нею, — говорил Владик, наблюдая за красиво изгибающейся тонкой фигурой девушки. — Вот уж, поистине, от черта шмат.
Они поставили сеть и вернулись к берегу, а Верка все не вылезала из воды. На той стороне залива она залезла в кочкарник и стала бултыхаться в нем.
— Я вам сейчас сазана загоню в сеть! — кричала она.
Потом подплыла к сети и, перебираясь по верхней подборе за балберы, двинулась к берегу. Вдруг, завизжав так, что перепугала всех на берегу, девушка бросилась прочь от сети.
— Рыба! Скорее поднимайте сеть!
Через минуту Толпыга и Гоша были с лодкой там, где плясали балберы. Верка подплыла к ним и с мальчишеской расторопностью перевалилась через борт в лодку. Ребята тем временем, перегнувшись через корму, боролись с какой-то крупной рыбиной. Они кряхтели, чертыхались, стараясь поднять сеть в лодку, но она вырывалась из их рук, тянула в стороны.
— Верка, дьявол, да помоги же! — закричал на нее Толпыга. — Подержи вот эту балберу.
— Ты не кричи на меня, а то сейчас за ноги — и в воду, — бойко огрызнулась Верка и уцепилась за балберу обеими руками.
— Щучища! — исступленно заорал Гоша, почти касаясь лбом воды и заглядывая под днище лодки.
Тем временем Толпыга собрал в горсть всю капроновую стенку сети до самой нижней подборы и перевесил ее через угол кормы.
— Теперь отходи, Верка, мы сами управимся…
— То помоги, то отойди, — обиделась Верка. — Сами не знаете, чего вам нужно…
Оставшись вдвоем на корме, Толпыга и Гоша с усилием подняли сеть. Под бортом лодки с урчанием взыграла вода и там показался широкий, в две ладони, щучий хвост.
— Помогай, Верка! — заорал Гоша. — Уйдет же, помогай!
Работая изо всех сил, они перевалили рыбину через борт в лодку. Это была почти двухметровая щука с черной, в прозелени, спиной и огромной пастью, густо усеянной зубами, словно отточенными шильями. Верка в восторге так запрыгала, что лодка резко качнулась и Гоша, стоявший на корме, зашатался, побалансировал и, запрокинув вверх ноги, упал в воду.
— Гошенька, миленький, прости, я нечаянно, — запричитала Верка, когда из воды вынырнула голова Гоши с широко раскрытом ртом. — Я нечаянно, Гошенька, прости! — Верка помогла ему залезть в лодку.
А Толпыга уже сидел верхом на опутанной сетью щуке и, прижав ее голову к днищу лодки, старался просунуть ей через пасть лодочную цепь. Вскоре ему удалось это сделать с помощью палки. Посадив щуку на цепь подлиннее, как на кукан, он замкнул ее петлей и сказал с облегчением:
— Теперь не уйдешь! Ну, что, нажралась сазанчиков?
Ребятам еще никогда не доводилось видеть такую гигантскую щуку.
— Такая ногу может запросто откусить, вон какая пасть, голова пролезет, — говорил Степан Ферапонтов, которого все ребята иначе не называли, как Дундуком. — Как это она не цапнула тебя, Верка?
— А что, ребята, она ведь и в самом деле могла поймать меня за ногу? — Вопросительный взгляд Верки пробежал по лицам рыбоводов. — Как вы думаете, а?
— Вполне, — отозвался кто-то.
— Нет, не могла, — уверенно заявил большелицый коренастый Кеша Гейкер, пряча в узких щелках глаз-угольков веселую лукавинку.
— Правда, не могла? — с запоздалым страхом допытывалась Верка.
— Конечно, нет, — успокаивал ее Кеша. — Побоялась бы, что обзовешь ее паразитом…
Ребята захохотали. «Паразит» — это было излюбленное ругательство Верки Лобзяковой. Как ни боролись в бригаде с этим вульгарным ее словечком, Верка упорно продолжала повторять его, когда злилась. А злилась она часто и по любому поводу.
Пришел Колчанов. Он тоже немало подивился случайному улову бригады, потом стал прощупывать брюхо хищницы.
— Сазан, ребята, — объявил он, — пощупайте.
Под скользкой эластичной брюшиной и в самом деле ясно прощупывался еще совсем твердый полуметровый сазан, видимо недавно проглоченный.
— Подкарауливала сазанов, — сказал Колчанов, выслушав историю о том, как попалась щука. — Такая хищница, — пояснил он, — за время нереста истребляет не только сазанов, но вместе с ними и десятки миллионов икринок, больше, чем мы собираемся высеять в своих нерестовиках. Вере Лобзяковой благодарность, это она загнала щуку.
Верка смутилась, под бронзой ее щек широко разлился горячий румянец. Она всегда почему-то смущалась, когда к ней обращался Колчанов.
Вскоре ребята перетащили лодки в глубь залива, отгородили там кочкарник ставной сеткой и принялись гонять сазанов. Но загнать сазанов в сетку оказалось не так-то просто. Они стремились в сторону, обратную той, куда их хотели направить. И только когда вода стала мутной, они сами начали попадать в сеть, стараясь уйти на чистую воду. Через час в живорыбнице уже ходило до пяти десятков стремительных бронзовых красавцев. А заодно ребята выпутали из сетки с дюжину щук и три крупных, сильных, словно из чугуна отлитых змееголова.
10. День сюрпризов
В знойный полдень, когда лодочный караван уже миновал середину Чогора, из Нижней протоки в озеро вошел катер, стройно вытянутый, с голубой нарядной надстройкой. Вздымая форштевнем огромный пенный вал, он быстро шел в направлении стана. Еще издали разглядел Колчанов на палубе высокую фигуру Сафьянова, окруженного толпой спутников; вскоре катер поравнялся с караваном, сбавил ход. Приглушил мотор и Колчанов. Среди спутников Сафьянова он увидел Званцева, Лиду Гаркавую, старого учителя-пенсионера Петра Григорьевича Абросимова — крепкого старика с курчавой седой головой и изящной бородкой. По ту сторону надстройки видны были грузный председатель колхоза Севастьянов, краснолицый рыбинспектор Кондаков, директор рыбозавода Клюкач — щуплый, с благородной осанкой украинец.
— Цепляйтесь на буксир, — крикнул из рубки шкипер, указывая на корму.
— А ты, Алексей Петрович, полезай сюда, — распорядился Званцев.
Через минуту Колчанов пожимал руки гостям. Его приятно поразила новая перемена в отношении к нему Сафьянова — шеф был весел и, как всегда, дружелюбен к нему.
— Ну вот, Алешка, теперь ты не отвертишься, — бубнил он, лукаво щуря глаза. — Имею распоряжение сдать тебе руководство экспедицией…
— А вы, Николай Николаевич?..
— Выезжаю в Японию, парень, — он многозначительно прищелкнул языком, — воевать за кету для твоего Бурукана. Так-то оно будет вернее… Крутиться тебе некуда — команда из Москвы. Ночью вызывали.
Колчанов был сбит с толку этой новостью. Теперь уж окончательно рушились все его планы на лето: опыты по гибридизации, дальнейшее изучение нереста карповых — сазана и карася — в различных вариантах органобиологических условий, поездка к Вальгаеву для обстоятельного изучения его аппарата, наконец, экспедиция в верховья Бурукана для окончательного выбора мест закладки аппаратов и для сооружения там зимовья.
— Ну, что приуныл? — говорил меж тем Сафьянов. — Ты не поглядывай на Ивана Тимофеевича, — усмехнулся он, — не поможет.
— А как же с нерестово-выростным хозяйством, Иван Тимофеевич? — спросил Колчанов секретаря райкома.
— Вот, Лидии Сергеевне решили поручить наблюдение, — Званцев кивнул на Гаркавую. Видно, и его не очень устраивало новое назначение Колчанова.
— На какой срок рассчитана программа экспедиции, Николай Николаевич? — уныло спросил Колчанов, все еще надеясь выкроить время для осуществления своих планов.
— Вот это уже другой разговор, — весело ответил тот. — Об этом и следует потолковать. Сейчас высадимся на берег, и там я тебя, как говорят, введу в курс дела…
Караван между тем уже подошел к берегу. Ребята расторопно снялись с буксира, пристали к берегу и приняли с катера трап. Здесь Сафьянова уже поджидали все участники экспедиции — Хлудков, Пронина, еще две девушки и четверо парней-студентов.
— Николай Николаевич, разрешите мне сначала выпустить сазанов в нерестовик? — попросил Колчанов, когда они сошли на берег.
— Что ж, это правильно, — охотно согласился Сафьянов. — Заодно посмотрим твое хозяйство.
Гости вместе с ребятами толпились у лодок, любуясь щукой и сазанами, крутившимися в прозрачной воде кунгаса.
— Вот живорыбница. Видишь, товарищ Севастьянов? — назидательно говорил Званцев, подергивая предколхоза за лацкан нарядного пиджака. — Почему бы тебе не завести такую штуку? У вас в колхозе, пожалуй, целый десяток найдется старых кунгасов. Молодцы, ребята, ловко придумали!
— Мудрость не велика, Иван Тимофеевич, — подчеркнуто равнодушный Севастьянов ухмыльнулся так, словно эти тайны были ему давно известны, — да только эта штука у нас не пойдет. Пока ее притартаешь за двадцать километров от тони до рыбозавода, — вся рыба в ней подохнет…
— А вы пробовали?
— Пробовать нечего, и так видно, — самоуверенно отвечал предколхоза.
— Ох уж это мне ваше всезнайство, товарищ Севастьянов! — с горечью воскликнул секретарь райкома. — Говорят, что вы до войны были стахановцем, знатным рыбаком. Но почему у вас отсутствует чувство нового?
— Ничего, сделаем, Иван Тимофеевич, — заметил Клюкач, скромно слушавший их разговор. — Это Григорий Андрианович из зависти, я его знаю…
Клюкач действительно хорошо знал Севастьянова. В довоенное время они оба были рядовыми рыбаками, потом стали бригадирами, постоянно соревновались между собой, а когда возникло стахановское движение, выступили его зачинателями в Средне-Амурском районе. Первыми применили ставные невода — тогда новинку в рыбном промысле на Амуре, потом стали внедрять гигантские закидные невода, до пятисот метров длиной, и брать такие уловы, каких никто не брал раньше. Одновременно им
вручили награды в Кремле: Клюкачу — орден Ленина, Севастьянову — орден Трудового Красного Знамени. Так и шли рядом эти два замечательных человека, виски которых уже изрядно посеребрила седина.
Но они с самого начала не были похожи друг на друга и еще более непохожими стали теперь. И все оттого, что по-разному восприняли трудовую славу, в ореоле которой вдруг оказались почти четверть века назад, еще почти малограмотными парнями. Севастьянов менялся внешне, заважничал, ходил с выпяченной вперед грудью, говорил начальственно. Потом, когда стал председателем колхоза, появилось брюшко. Однако он по-прежнему папиросы называл «папирёсами», фуфайку — «тюфайкой», не прочитал ни одной книги и даже не научился хоть мало-мальски грамотно писать.
Иные перемены происходили в характере Остапа Ивановича Клюкача. Внешне он остался таким же — сухопарым, скромным, даже тихим, с веселой хитринкой; не было ни одного лодыря, разгильдяя или жулика среди его подчиненных, кого бы он не перехитрил и не вывел, как говорят, на чистую воду. Но самой сильной его чертой была и осталась какая-то удивительная любовь к людям. Она-то и покоряла всех, с кем он имел дело. Однажды на рыбалке он снял с руки часы и наградил ими рыбака за спасение тонувшего товарища. Рыбацкое дело он, несомненно, знал гораздо лучше Севастьянова, потому что был вообще беспокойнее, умнее его. Еще в то памятное время, когда они с Севастьяновым получали ордена в Кремле, из Москвы вернулись с различным грузом: Севастьянов — с чемоданами, полными всяких тряпок, Клюкач — со стопами книг. Книголюбом он был и прежде, а теперь книги стали его второй страстью. В селе трудно было найти еще одного человека, у которого была бы такая библиотека, как у Клюкача. Он и сам был автором небольшой брошюры об орудиях и способах лова рыбы, применявшихся на реках Дальнего Востока.
Между Клюкачом и Севастьяновым была давнишняя взаимная неприязнь, хотя в общем-то они работали дружно. Севастьянов недолюбливал Клюкача из зависти к его непререкаемому авторитету на селе, к его эрудиции; Клюкач же — этот честнейший человек — не терпел грубого севастьяновского нахрапа, с каким тот вершил хозяйственные дела, его вечной манеры строить из себя этакого самородка, излюбленной фразы, которую Севастьянов, правда, давно уже не повторяет: «Мы академиев не проходили!» После того как прошлой осенью Клюкача наградили вторым орденом Ленина, болезненное самолюбие Севастьянова и вовсе разделило их пропастью.
Причиной того, что Севастьянов оказался сейчас на Чогоре, был хитроумный замысел Клюкача убедить этого заскорузлого в своем консерватизме рыбака в том, насколько он отстал от времени, от нового, что совершается в рыбном промысле. У Севастьянова и в мыслях не бывало, что рыбу нужно не только ловить, но и разводить, что теперь не он решает судьбу рыбного промысла, не ему принадлежит рыбацкая слава, а вот этим юнцам, на которых он и его дружок Кондаков смотрят с высокомерной снисходительностью. И уж если говорить откровенно, то Клюкач попросту решил немного сбить севастьяновскую спесь. Предколхоза не был на Чогоре ни разу после того, как здесь возникло нерестово-выростное хозяйство и поселилась бригада молодых рыбаков-рыбоводов.
Вскоре живорыбницу доставили почти к самой плотине главного нерестовика — полуголые ребята всей гурьбой толкали ее по узкому руслу в кочкарнике, проделанному ручьем. Сюда собрались все гости и все участники экспедиции. Многие изъявили желание таскать сазанов, но вода в живорыбнице стала мутной от ила, поднятого днищем лодки, поэтому Колчанов попросил гостей не пачкаться. Он сам, неуклюже шагая по грязной жиже, ловил сачком сазанов и бережно опускал их вниз головой в ведра с чистой водой, которыми вооружились ребята. Молодые рыбоводы бегом несли ведра к нерестовику и осторожно опрокидывали их, предварительно опустив в воду. Долго потом вышагивал Колчанов по берегу нерестовика, когда сазанов пересадили туда, вглядываясь в буроватую толщу воды, — не всплывет ли какой из них после такого путешествия. Но переселенцы чувствовали себя, по-видимому, нормально: все они бесследно исчезли среди кочкарника и травы — своей родной стихии.
— Такими вот прудами с идеальными условиями для размножения рыбы надо усеять всю пойму Амура, — говорил Званцев, когда все собрались уходить с нерестовика. — А почему бы не так?! — воскликнул он, хотя никто ему не возражал. — Ведь это хозяйство требует совсем небольших затрат. Но зато сколько выйдет отсюда сазанов! Алексей Петрович, — обратился он к Колчанову, — вы не подсчитывали? Тридцать миллионов? Это примерно? Ну, пусть двадцать, пусть пять миллионов выживут и станут взрослыми. Может быть так? Может. Возьмем промысловый вес за три килограмма, — наседал он на Севастьянова, словно чувствуя возможные его возражения, которые давно привык встречать со стороны этого бывалого рыбака, когда речь заходила о рыбацких делах. — Григорий Андрианович, — въедливо повторил он, — сколько будет? — И воскликнул: — Сто пятьдесят тысяч! Сто пятьдесят тысяч центнеров! Это в пять раз больше плана всего нашего района! Вот где ваша рыбацкая слава и ваши колхозные богатства, Григорий Андрианович! Вот где ваше сырье для переработки, Остап Иванович, — обратился он к Клюкачу. — Вот в чем великий смысл замечательного труда этих скромных юношей и девушек! Спасибо вам, ребята! — закончил секретарь райкома.
— Так оно и будет, Иван Тимофеевич, — поддержал его Клюкач. — Лиха беда — начало!
Только Севастьянов молчал и думал. За всю дорогу до рыбацкого стана он так и не проронил ни единого слова.
11. Новые знакомства
По предложению Званцева решено было устроить общий обед под открытым небом на берегу Чогора. Кухне бригады была заказана большая уха, камбузам обоих катеров — закусочные блюда и дано задание мобилизовать всю наличную посуду.
А пока готовился обед, Сафьянов пригласил Колчанова и Хлудкова в кают-компанию экспедиционного катера, чтобы передать свои полномочия Алексею и познакомить его с планом предстоящей работы.
Перед входом в кают-компанию Колчанова остановила Пронина. Она отвела его в сторонку, смущенно шепнула на ухо, заглядывая снизу вверх ему в глаза:
— Алеша, вы меня извините, пожалуйста, у меня к вам две маленькие просьбы: помогите раздобыть утюг, если есть такой в ваших владениях, и разрешите воспользоваться вашей комнатой, чтобы там переодеться.
— С удовольствием, Наденька! Обе просьбы легко выполнимы, — добродушно ответил Колчанов. Он вытащил блокнот и авторучку и стремительно стал писать. — Эту записку передайте Вере Лобзяковой, найдете ее в доме бригады. Она вам все организует и принесет в мою комнату. Комната в вашем распоряжении, она открыта.
— И еще два вопроса, Алеша, — продолжала Надя шепотом, приблизив к нему лицо. — Первый. Это правда, что Николай Николаевич уезжает и вместо себя оставляет вас начальником экспедиции?
— Да. Так, по крайней мере, он мне сказал…
— Боже мой, Геннадий Федорович теперь с ума сойдет от зависти! — Лицо Прониной покрылось румянцем. — И второй вопрос, Алеша. Та девушка в темно-синем платье, что все время вертится возле вас, она не училась на нашем факультете?
— Да, это Лида Гаркавая, она годом раньше вас кончила университет.
— Вот я и вижу — очень знакомое лицо. Ну, я больше не задерживаю вас, Алеша, — заторопилась Пронина и порывисто пожала ему руку.
«Геннадий Федорович теперь с ума сойдет от зависти», — с этой неприятной мыслью входил Колчанов в кают-компанию, где его уже ожидали Сафьянов и Хлудков. Колчанов мельком взглянул на Хлудкова и не заметил ничего такого, что указывало бы на зависть или на плохое настроение. Тот сидел, самодовольно откинувшись в кресле.
— Итак, друзья мои, — заговорил профессор Сафьянов, когда Колчанов сел за круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, — приступим к делу. Геннадий Федорович, — он строго посмотрел на Хлудкова, — я уже сообщил Алексею Петровичу, а вам еще не успел: сегодня ночью меня вызывала по телефону Москва. Я должен выехать вместе с делегацией в Японию. Предстоят серьезные переговоры о регулировании промысла лососевых в Тихом океане. Сколько я там пробуду, пока неизвестно. Не исключено, что оттуда мне придется ехать в Москву для доклада. А это значит, что фактически я отстраняюсь от руководства экспедицией…
Хлудков выпрямился в кресле. Колчанов мгновенно уловил это его движение, потому что все время краем глаза наблюдал за ним.
— В связи с этим, — продолжал профессор Сафьянов, посматривая то на Колчанова, то на Хлудкова, — я принял и согласовал с Москвой следующее решение: на время моего отсутствия экспедицию возглавит Алексей Петрович со всеми вытекающими из этого правами и ответственностью. Геннадий Федорович, — обратился он к переменившемуся в лице Хлудкову и эффектным жестом указал на Колчанова, — вы переходите в подчинение Алексея Петровича. Программа работы экспедиции остается неизменной: изучение видового состава ихтиофауны в географическом разрезе, оценка запасов основных промысловых рыб, изучение нереста и сборы подводной энтомофауны. Вам понятно, Алексей Петрович?
— Понял вас, Николай Николаевич.
— И эпизодические задания, — продолжал профессор. — Первое: ареал распространения нового вида амурской рыбы — обской стерляди и выявление выпасов толстолоба. Маршрут, Алексей Петрович: озеро Чогор — озеро Болонь — устье Амгуни. График работы будете регулировать сами в зависимости от хода выполнения программы экспедиции. Поскольку вы связаны с Чогором своей тематикой, да и у Надежды Михайловны здесь много работы, разрешаю вам примерно половину времени провести в районе этого озера. Катер находится в вашем распоряжении до первого сентября. К этому сроку научная программа должна быть выполнена. Функции ваши, Геннадий Федорович, остаются прежними: работа над темой, хозяйственные вопросы, наконец, контроль за дипломной практикой студентов. Обо всем, что я вам сейчас сказал, сегодня мной будет издан соответствующий приказ.
Да, по-видимому, Надя Пронина хорошо знала Хлудкоза. Как он переменился за эти несколько минут! Он сразу как-то осел, лицо его сделалось серым и скучным.
Верка Лобзякова, за которой неслучайно ходили давнишние клички «Вырви глаз» и «От черта шмат», никогда не робела перед своими сверстниками, всегда оставаясь дерзкой задирой. Если кого она и стеснялась, то только Колчанова, и робко потупляла взор, когда он с ней заговаривал. Трудно понять: была ли эта остроязыкая непоседливая девчонка прирожденной актрисой или, может быть, что-то пробуждалось в ней под пристальным взглядом молодого ученого, но каждое его слово для нее было законом. И сейчас, прочитав его записку, она немедленно стала действовать.
Редчайшее из самых глазастых существ, Верка почти все видела и поняла, когда Пронина и Хлудков ходили к Колчанову: возвратившись с рыбалки, она все время не спускала глаз с Колчанова и Прониной. Теперь она сгорала от нетерпения скорее познакомиться с этой хорошенькой москвичкой и разглядеть ее всю, до каждой складки платья; так она всегда делала, если кто-нибудь привлекал ее внимание.
Очутившись в комнате Колчанова с глазу на глаз с Прониной, она говорила робко и тихо, смущенно отводила глаза, а между тем от ее внимания не ускользнули даже застежки на модных туфлях Прониной, не говоря уже о платьях, сорочках, брючках, шляпках и других предметах туалета, разложенных сейчас повсюду. Это не была зависть — Верка даже не смела завидовать всей этой недоступной ей роскоши, — она попросту была в восторге от всего увиденного. Не без интереса рассматривала и Пронина диковатую собеседницу, слегка улыбаясь своими васильковыми глазами в аспидно-черной оправе ресниц. Поблагодарив за утюг, она тоном старой барыни, знакомым Верке по кино и потому показавшимся ей смешным, спросила, растягивая слова:
— Ну, а как тебя зовут, милая?
Верке вовсе не понравилось то, что Пронина называла ее на «ты», да еще «милая»; похоже, что она принимает ее за деревенщину. Но Верка не осуждала красивую «научницу», как уже окрестили ребята Пронину, да и простенькое Веркино ситцевое платьице и косы, по Веркиному понятию, немодные, не могли сказать большего этой столичной гостье. Не без чувства достоинства Верка ответила:
— Меня зовут Вера Лобзякова.
— Чем же ты, Вера, занимаешься здесь? — все тем же тоном, но уже как-то между прочим спрашивала Пронина. Коснувшись мокрым пальчиком сверкающей глади утюга, она начала гладить дорогое лиловое платье.
— Как чем? — Верка жадно смотрела на платье. — Тем же, чем и все: состою в рыбоводно-рыболовецкой бригаде. Зимой и весной ловим рыбу, а сейчас на нерестовиках работаем.
— Ну и как, трудно быть рыбаком-рыбоводом?
— Когда — трудно, когда — нет, в зависимости от времени. Зимой трудно — очень холодно на льду, но мы уже привыкли. А вот сейчас легко и очень интересно. Вы видели, какую щуку мы сегодня поймали? Это я ее вспугнула в кочках и загнала в сеть, — не без гордости сообщила Верка. — Алексей Петрович благодарность объявил мне за это. Простите, а как вас зовут? — спохватилась она.
— Хочешь — зови Надей, хочешь — Надеждой Михайловной. — Пронина улыбнулась, снисходительно взглянула на Верку. — Сколько тебе лет, Вера? Какое образование у тебя?
— Только десять классов, — горестно вздохнув, ответила Верка.
— Почему же «только»? Это ведь вполне приличное образование — десять классов. Не — всем же обязательно иметь высшее образование.
— Как так не всем? — удивилась Верка. — Только и слышишь везде, и газеты пишут об этом каждый день, что каждый человек при коммунизме должен иметь высшее образование…
— Ха-ха-ха! — неожиданно рассмеялась Пронина. — Это же наивно, милая! До коммунизма-то еще далеко-далеко… Впрочем, оставим лучше этот разговор. А скажи мне, Вера, ты пошла бы ко мне в лаборанты?
Верка, конечно, понимала, что Пронина еще продолжает смотреть на нее, как на деревенщину. Но она сообразила и выгоду, которую сулит ей работа с этой, в общем-то, должно быть, неплохой «научницей». А выгода эта ей представлялась в том, что она научится у Прониной городским манерам, срисует фасоны ее платьев, которые сейчас дразнили Веркин взор, особенно вон то — сине-голубое, расправленное на колчановской раскладушке, и сразу же сошьет себе такое, когда приедет домой.
— Я с удовольствием пошла бы, Надежда Михайловна, — скромно сказала Верка, — но не знаю, справлюсь ли? Что я должна делать?
— Мы будем собирать хирономид. Знаешь, что это такое?
— Конечно, знаю. Это личинки комара, ими питаются рыбы.
— Ну, совсем чудесно! — восторженно воскликнула Пронина. — Тебя, я смотрю, и учить уже не надо?
— А мы всю зиму изучали ихтиологию, — сообщила Верка. — Алексей Петрович читал нам лекции.
— Тогда по рукам, моя дорогая?
И они ударили по рукам.
…Примерно через час пришли Владик и Кешка Гейкер приглашать Пронину обедать. Постучавшись, ребята застали довольно любопытную сцену: у стола сидела Верка, а над ее головой, как заправский парикмахер, хлопотала Пронина — она заканчивала укладку Веркиных волос в замысловатую прическу. Новоиспеченные подруги торопились управиться к обеду. Верку было не узнать из-за новой прически, но на ней немного мешковато сидела сильно декольтированная ярко-желтая блузка и вся в оборочках юбка канареечного цвета из гардероба Прониной.
— Мы готовы, — сказала Пронина, уложив и пришпилив последний локон на голове у Верки.
Верка встала с табурета и, подражая артистке, прошлась по комнате. Да Верка ли это Лобзякова? Тонкие черты ее чуть тронутого загаром нежного лица светились истинной одухотворенностью, иссиня-зеленоватые быстрые глаза весело поблескивали.
— Кешенька, миленький, — обратилась она к Гейкеру точь-в-точь, как Пронина, — сбегай, дружочек, в нашу комнату и принеси мои бежевые туфли, они под моей кроватью.
Пока Кешка бегал за туфлями, Верка вертелась у небольшого зеркальца, накладывая на лицо пудру и на губы — сиреневую помаду; Пронина, которая теперь была в лиловом узком платье с большой черной брошью в серебряной оправе, во всем своем блеске стояла перед Владиком и, смущая его пристальным взглядом васильковых глаз, кокетничая, расспрашивала его таким же тоном, как Верку час назад. По-видимому, и на этот раз ее сбила с толку одежда — Владик был в своем неизменном лыжном костюме, хотя и аккуратно отутюженном, но заштопанном на локтях и на правом плече. Узнав, однако, что Владик закончил два курса педагогического института и продолжает учиться заочно, она сама заметно стала тушеваться. Что касается Владика, то он в первую минуту опешил при виде нарядной Прониной.
За столом рассаживались, кто как хотел, но поскольку скамеек и табуреток хватило только для половины присутствующих, ребята уступили их гостям, а сами расселись на досках, сделав некоторое подобие скамей. Пронина скромно примостилась в конце стола рядом с Веркой в окружении ребят, весьма польщенных этим соседством; особенно, конечно, была польщена Верка. Эта коза уже переняла все манеры своей соседки: сидела царственно, поворачивала голову неторопливо, грациозно, говорила, растягивая слова. Ребята, разумеется, давно бы осмеяли ее, не будь рядом Прониной; сейчас они лишь хитро перемигивались между собой, изредка прыская в кулак.
12. Хитрость Званцева
Когда на стол были поданы кастрюли с наваристой ухой, поднялся Иван Тимофеевич Званцев.
— Дорогие друзья мои! — заговорил он, по-юношески откидывая со лба седую прядку волос. — Мы тут с Петром Григорьевичем немного схитрили: решили использовать обед, чтобы потолковать о наших с вами делах…
— Э-э, батенька мой, я тут ни при чем! — замотал головой в серебряных кудрях старый учитель. — Это ваша идея, Иван Тимофеевич, я только поддержал ее.
— Ну что ж, — Званцев рассмеялся, — возьму грех на свою душу, не привыкать. Итак, друзья мои, — продолжал он, — наша, сегодняшняя встреча за этим столом знаменательна в двух отношениях. Во-первых, мы сегодня по инициативе райкома комсомола учреждаем здесь нечто новое и, по-видимому, очень перспективное — школу-бригаду молодых рыбаков-рыбоводов. Сложилось весьма счастливое стечение обстоятельств: все двенадцать человек членов бригады — прошлогодние или позапрошлогодние выпускники, десятого класса нашей школы, значит, народ грамотный. Руководить школой-бригадой согласился их бывший учитель биологии, ныне пенсионер, всеми нами уважаемый Петр Григорьевич…
Взрыв рукоплесканий прервал Званцева; изо всех сил аплодировали не только члены бригады, но и все участники экспедиции, в том числе профессор Сафьянов.
Абросимов по-молодецки встал; его крепкая фигура, по-юношески ясные и быстрые серые с лукавинкой глаза, серебристые кудри, — весь его облик был дорог ребятам, знавшим своего учителя с самого детства. Они теперь не спускали с него влюбленных глаз, перешептывались и вновь начинали рукоплескать.
Среди тех, кто особенно горячо аплодировал, был и Колчанов. Он впервые встретил старого учителя в прошлом году, когда Абросимов во главе группы учеников старших классов совершал лодочный поход по Амуру. Ребята знакомились с протоками, озерами, заходили в устья некоторых таежных речек, а по Бурукану даже поднялись до перекатов. Абросимов не был ни заядлым рыбаком, ни охотником. Он, кажется, никогда не держал в руках ни ружья, ни рыболовных снастей, однако трудно было найти в районе рыбака или охотника, который так хорошо знал бы каждый уголок в округе. Он относился к природе не как добытчик, а как исследователь. Абросимов являл собою тип того старого русского интеллигента, который всю свою жизнь посвятил труду сеятеля «разумного, доброго, вечного». Он самозабвенно любил все русское — русский быт и русские песни, русские поля и леса, реки и горы. Но любовь эта не была созерцательной. Как рачительный и аккуратный хозяин, он никогда не проходил мимо бесхозяйственно брошенного предмета, не положив его на место. Комиссар полка в гражданскую войну, он так и остался комиссаром в жизни, был ли он директором школы или заведующим районо, преподавателем естествознания или депутатом районного Совета. Но, может быть, самой выдающейся его чертой был оптимизм. Поэтому, видимо, он и сохранил бодрость и завидную энергию в свои шестьдесят пять лет.
— Ваши аплодисменты, как принято говорить, — резюмировал Званцев, когда улегся шум, — разрешите считать за одобрение. Надеюсь, что какое-то время, и чогорцы станут хорошими техниками-рыбоводами. Алексей Петрович и Лидия Сергеевна, наши ученые, согласились прочитать курс лекций по ихтиологии.
И снова все зааплодировали.
— Я кончаю свою речь, — продолжал Званцев. — Второе счастливое обстоятельство, которое собрало нас за этот стол, — присутствие здесь наших дорогих московских гостей. Теперь всем ясно, что в наше время труд ученого и труд практика настолько сомкнулись, что существование их порознь немыслимо. В этом — один из главных источников нашего непреодолимого движения к светлому будущему — коммунизму, характерная черта поколения, которое будет жить при коммунизме…
— Сейчас чего-нибудь будет просить у вас, Николай Николаевич, — шепнул Колчанов на ухо сидящему рядом Сафьянову. — Я уже знаю Ивана Тимофеевича…
Сафьянов приглушенно засмеялся, обратив на себя внимание всех. Поняв свою оплошность и уловив на себе взгляд Званцева, он кашлянул и сказал:
— Извините, Иван Тимофеевич, это мы тут о своем с Алексеем Петровичем…
— Да, так вот что я хотел сказать, — прищурился Званцев. — У нас к вам просьба, Николай Николаевич. Собственно, не одна просьба, а две. Первая: чтобы ваша экспедиция, а потом, когда вернетесь в Москву, ваш факультет взяли бы шефство над нашими молодыми рыбаками-рыбоводами. Словом, чтобы помогли лекциями, литературой, — всем, чем возможно. Вторая просьба: я слышал, что вы привезли несколько комплектов подводного снаряжения. От имени молодежной школы рыбаков-рыбоводов я обращаюсь ко всей вашей экспедиции: научите, пожалуйста, наших ребят подводному плаванию, а когда будете уезжать, подарите на всю бригаду хотя бы два-три комплекта этого снаряжения. Ведь это же великолепная штука не только для изучения подводного царства, но и для промысла, для разведки скопления рыбы!
Ребята вскочили и стали бешено хлопать в ладоши.
— Ай хитер, ай хитер, стервец! — бубнил себе под нос профессор Сафьянов. — Он же ограбил нас посреди бела дня!
— А теперь попросим нашего дорогого Николая Николаевича, — говорил между тем Званцев. — Пожалуйста, прошу вас!
Сафьянову ничего не оставалось делать, как ответить. Он встал, окинул взглядом сидящих за столом.
— Я и мои коллеги, — заговорил он, — весьма тронуты гостеприимством, оказанным нам за этим столом, особенно со стороны всеми нами уважаемого Ивана Тимофеевича. Что же еще я могу сказать вам, друзья мои? По мере наших возможностей мы с удовольствием поможем вам в ваших благородных начинаниях. Сегодня обдумаем на досуге и решим. Что касается ныряльного снаряжения. Иван Тимофеевич, — он помолчал, обведя всех взглядом, — то, честно говоря, у нас всего пять аквалангов, не считая комплекта, который я привез для Алексея Петровича. Что ж, один акваланг со снаряжением и две ныряльные маски с ластами и дыхательными трубками мы сможем уступить вам…
И снова за столом гремели аплодисменты.
— А теперь — в атаку на уху! — скомандовал довольный Званцев.
Когда стали разливать уху, Званцев вдруг спохватился, заглянул в тарелку Кондакова и сказал:
— Э-э, одну минутку, Трофим Андреевич! А ну, сколько ты наливаешь себе ухи? Ребята, не давайте рыбинспектору больше одного половника! Он был самым неверующим в вашу бригаду. Честное слово, так и говорил: на уху не поймают.
Все засмеялись. Кондаков, которого все привыкли видеть развязным и грубым, сейчас выглядел скромным тихоней. Он смущался, чего с ним, кажется, никогда не бывало, во всяком случае на глазах у ребят.
Клюкач, сидевший рядом с Кондаковым, бесцеремонно забрал у него тарелку и с серьезным видом сказал:
— Пидожди, инспектор! Так як решимо, отберем излишки?
Смех еще сильнее загрохотал за столом. Смеялись не столько над выходкой Клюкача, сколько над поведением Кондакова: сначала он инстинктивно хотел удержать тарелку, потом рассвирепел, затем вымученно улыбнулся, с жалким, растерянным видом оглядывался по сторонам вечно припухшими глазами. Ребятам, видно, неловко стало за Кондакова — всегда такого уверенного, а сейчас вконец растерявшегося и жалкого. Со всех сторон раздались голоса:
— Пусть ест!
— Прощаем!
— Пускай остальное зачтется авансом!
— Ну, коли так, — ваша добрая воля.
Клюкач вернул Кондакову тарелку, сказал с укоризной:
— Чуешь? — и кивнул на ребят. — Скажи им спасибо. А то хотел вылить под стол. Другой раз знатымешь. — Он весело крякнул, берясь за ложку.
Когда все усердно занялись ухой, Званцев спросил, ни к кому не обращаясь:
— Ну, а что же будет делать бригада эти полтора месяца, пока установлен запрет на промысел рыбы?
— Уж мы ломали голову над этим, — ответила Гаркавая. — Штатных единиц всего пять: трое на нерестово-выростном хозяйстве и два лаборанта — один у Алексея Петровича, один на нерестовиках. Шестеро остаются без дела.
— А вы? — спросил Званцев Абросимова.
— Я не в счет, Иван Тимофеевич, — сказал тот, — у меня пенсия идет.
— Так вы что ж, Петр Григорьевич, и бригадного пая не думаете получать?
— Бригадный пай? Гм-м… Да как вам сказать? Оно, конечно… а зачем мне лишние деньги? — И он озорно взглянул на секретаря райкома.
— Петр Григорьевич сказал, что будет покупать на них книги для бригадной библиотеки, — выдала тайну Гаркавая. — Да еще шахматы и настольный бильярд думает купить.
— Вот оно что-о… — протянул Званцев, иронически глядя на старого учителя. — Нехорошо, Петр Григорьевич, нехорошо получается. Вроде благотворительности.
— Ладно, буду получать.
— Будьте свидетелями, ребята, — объявил Званцев. — Зачем покупать книги для бригады, когда можно в районной библиотеке брать библиотечку-передвижку и менять ее каждый месяц?
— Мы и берем, — сообщил Владик.
— Так вы что, едите, что ли, книги? — с искренним изумлением спросил секретарь райкома.
— Можно сказать, едят, — подтвердил Владик. — Особенно в зимние вечера.
— Слышишь, Григорий Андрианович? — Званцев многозначительно посмотрел на Севастьянова. Секретарь райкома знал, что Севастьянов не прочитал за свою жизнь ни одного романа или повести. — Вот откуда их уловы! Вот где их успех!
— Прикрепите к любой промысловой бригаде Колчанова — и там будут уловы не меньше, — ответил Севастьянов.
Этому ответу удивился не только Званцев, но и Колчанов. Уж кто-кто, а он-то очень хорошо знал, как Севастьянов относился к науке. Он прямо не отвергал ее, но всякий раз, когда речь заходила о научных основах рыбного промысла, со свойственной ему высокомерной усмешкой любил говорить: «Была бы рыбка, а как ее поймать мы и без науки знаем».
Вопрос о ребятах, оказавшихся без дела на полуторамесячный межпутинный период, был решен так, что они уйдут в отпуск на двадцать дней, а потом сменят тех, кто останется на Чогоре. Верка Лобзякова будет работать лаборанткой у Прониной, а Шурка Толпыга по-прежнему останется у Колчанова.
Но, когда речь зашла о том, кто первым пойдет в отпуск, желающих оказалось только трое — Степан Ферапонтов, Сергей Тумали и Лиза Колпина. Выход подсказали сами ребята. Они решили поделить зарплату поровну на всех и на весь межпутинный период. Так каждый побывает в течение этих полутора месяцев в отпуске, и бригада как единое целое сохранится и на межпутинный период.
Гаркавая спросила Кондакова:
— А что, Трофим Андреевич, не смогли бы ребята заниматься пока отловом хищников — щуки и крупных сомов? Ледник у них есть, добывать теперь тоже есть чем — подводными ружьями.
— Да и косатку и горчака можно было бы отлавливать на местах скопления этой сорной рыбы, — заметил Колчанов. — Благо у нас есть теперь верное средство для обнаружения ее скоплений — акваланг и ныряльные маски…
— Без контроля рыбоохраны нельзя, — ответил Кондаков тоном, не допускающим возражений.
— Подожди! — в изумлении воскликнул Званцев. — Ты что же, Трофим Андреевич, не доверяешь бригаде. Колчанову с Абросимовым?
— Не то, что не доверяю, — уклончиво ответил Кондаков, — порядок такой…
— Так мы же сами устанавливаем эти порядки по данным науки, а не по чьей-то прихоти. Вот что, — подумав, продолжал Званцев, — у нас существует в районе институт общественных инспекторов рыбоохраны, так? А почему бы этим ребятам не выдать удостоверения общественных инспекторов? Можно выдать?
— Можно-то можно, но я, как старший районный инспектор рыбоохраны, должен как следует изучить людей, которым доверяются удостоверения…
— Ну, а Колчанову ты можешь доверить такое удостоверение? — наседал Званцев.
Кондаков исподлобья взглянул на Колчанова.
— Запрошу Хабаровск, рыбвод, — сказал он глухо, — если разрешат — выдам…
— Ты что, о всех запрашиваешь Хабаровск? — недобрым голосом спросил Званцев. — На каком основании ты не доверяешь Колчанову?
На Кондакова теперь смотрели все сидящие за столом. Он старался казаться спокойным, но по тому, как у него побагровела шея, а потом пошли по лицу красные пятна, было видно, что рыбинспектор борется с собой.
— У меня прямых улик нет, — наконец заговорил он, — но до меня доходили слухи, что Колчанов ловил осетров…
— Это клевета! — сдерживая себя, возразил Колчанов. — Укажите, когда и где это было?
— В прошлом году у Дурала, — спокойно произнес Кондаков.
— Иван Тимофеевич, — обратился Колчанов к Званцеву, — в прошлом году я вообще не бывал в районе Дурала, все лето провел на Бурукане.
Мало кто знал истинную подоплеку этой взаимной неприязни между Колчановым и Кондаковым. Колчанов прямо-таки демонстративно не признавал Кондакова; он знал, что за десять лет работы районным рыбинспектором этот человек, по-видимому больше всего на свете любящий власть, до того привык отдавать распоряжения, что на всех смотрел свысока. Но даже не это было главным, что вызывало к нему антипатии Колчанова. Каждый выезд районного рыбинспектора по рыбалкам — Колчанов хорошо это знал — сопровождался пьянками и разгулом самодурства. Колчанов не раз слышал разговоры о том, что Кондаков покрывает браконьеров, облагая их за это данью — натурой. По-видимому, это была правда, иначе Кондакову при его скромной зарплате вряд ли удалось бы выкраивать столько денег на водку.
Обращаться этак свысока на «ты» к любому «неначальнику» — было характерно для Кондакова. Он любил повторять не без хвастовства, и этим был похож на Севастьянова: «Рыбный промысел — не детская забава, а суровый и тяжелый труд».
Была и другая причина — только Колчанов знал о ней: Кондаков давно добивался расположения Лиды Гаркавой. На этой почве, как однажды рассказала Гаркавая Колчанову, в его семье происходили частые раздоры. Пока Кондаков трезв, он не обнаруживает своих чувств к Гаркавой. Но стоит ему выпить, он начинает досаждать девушке своими ухаживаниями. Зная или, возможно, подозревая об отношении Лиды к Колчанову, он всячески третирует его, особенно когда выпьет. Колчанов давно привык к этому и не придавал значения грубостям рыбинспектора. Но сейчас он долго не мог успокоиться…
Видя, что за столом назревает серьезный конфликт, Званцев сказал, обращаясь к Колчанову:
— Вот что, Алексей Петрович: считай себя общественным инспектором. А вы, Петр Григорьевич, — обратился он к Абросимову, — организуйте отлов хищной и сорной рыбы, — и, помолчав, добавил, искоса глядя на Кондакова: — Не там вы ловите браконьеров, товарищ районный инспектор. А там, где их нужно ловить, вас что-то не бывает… Кстати, Алексей Петрович, и вы, Петр Григорьевич, составьте список ребят, кого вы рекомендуете общественными инспекторами рыбоохраны. Человек пять, думаю, достаточно будет. Мы утвердим этот список на бюро райкома партии.
Выпад Кондакова испортил всем настроение, но ненадолго. Вскоре на берегу озера зазвучала музыка. Это неизменное трио — Владик — на аккордеоне, Гоша — на гитаре и Шурка Толпыга — на балалайке давали концерт для гостей.
— А теперь, друзья мои, послушайте стихи нашего поэта Георгия Драпкова!
Это объявление Петра Григорьевича было неожиданным для присутствующих. Все посторонились, с любопытством разглядывая щупленькую фигуру в середине круга.
Тонкошеий, с угловатым лицом, на котором бросались в глаза большие скулы и широкий рот, Гоша Драпков выглядел невзрачным, незаметным. К тому же он был робок, застенчив.
— Товарищи! — по-петушиному закричал он и весь залился румянцем. — Товарищи, я пишу, так сказать, давно, но пока еще не печатаюсь. Для себя, так сказать…
И вот сменился тон, выше вскинулась голова.
За Чогором сгорают морозные зори.
По распадкам крадется холодный туман.
И луна одинокая ходит в дозоре, —
Стережет над тайгой облаков караван…
Стихи не вызвали бури оваций, не забросали поэта и цветами, но все же аплодисменты, которыми ответили слушатели, Гоша Драпков принял за одобрение и стал держаться увереннее.
— Это я давно написал, — прокомментировал он, — а вот только неделю назад, так сказать, недавно:
Шумит в ночи глухой прибой —
Суровой музы бог.
А я пленен одной тобой,
А я — у твоих ног…
Гоша так и не понял, почему вместе с аплодисментами раздался смех. Очень довольный, он поклонился во все стороны и мгновенно исчез в гурьбе ребят.
13. В гости к Вальгаеву
Ночью катер рыбозавода покинул гостеприимный Чогор. С ним уехали профессор Сафьянов, Колчанов и Пронина. Колчанов должен был участвовать в работе Ученого совета института, заседание которого, как известно, было назначено на первое июня. Пронину не приглашали на Ученый совет, она сама попросила Сафьянова разрешить ей эту поездку, которую объясняла необходимостью получше познакомиться с материалами института по подводной энтомофауне Амура.
Однако в Хабаровске они узнали, что Ученый совет откладывается на три дня из-за задержки важных материалов по исследованиям в низовьях Амура. Колчанов решил за это время съездить к Вальгаеву на Бирский рыбоводный завод. С ним поехала и Пронина.
Последний раз Колчанов был там прошлой осенью, во время страдной поры закладки икры на инкубацию. Он во всех подробностях помнил эту поездку.
Вальгаева он нашел в первом цехе — тот вылавливал сачком кету в огромном садке из толстых бревен, куда рыбины заходили прямо из ручья — притока Биры. Движимые инстинктом, они шли туда, где родились, — в озеро. Оказавшись в садке, они бились о бревенчатую стену, делали головокружительные прыжки, пытаясь перепрыгнуть через преграду, пробовали подкапываться под бревна.
Коренастый розовощекий здоровяк лет тридцати, в стареньком ватнике и стоптанных кирзовых сапогах, Вальгаев ничем не отличался от других рабочих, занятых обловом садка. У него были такие же загрубелые крупные руки с потрескавшейся кожей на ладонях, такое же продубленное солнцем и ветрами лицо, такая же манера держаться и говорить.
— A-а, Колчанов! Здравствуй, Алексей, — на ходу сказал он, волоча в сачке огромную рыбину. — Ко мне? Я сейчас.
Он принес рыбину в цех, там помял ей брюхо, а потом, взявшись за хвост, стукнул ее по голове деревянной колотушкой. Выпустив икру в таз, он взял уже лежащего здесь самца и принялся выдавливать из него молоки, поливая мутновато-белой жижицей икру.
— Вот видишь, все приходится делать самому, — говорил он при этом. — Людей не хватает…
Матвей Вальгаев был научным сотрудником института, заведовал биологическим пунктом при рыбоводном заводе. Работа по созданию упрощенного аппарата для инкубации икры не входила в запланированную ему научную тематику. Вальгаев делал ее на свой страх и риск и даже вопреки желаниям кое-кого из ведущих научных сотрудников института. Упорство, с которым он уже третий год производил эксперименты, вызывало у одних уважение, у других — насмешки, подчас едкие и оскорбительные.
Дело в том, что в характере Вальгаева были скрытность и подозрительность. Он словно боялся, что у него выкрадут секрет его изобретения. Когда Вальгаев докладывал на Ученом совете о своем аппарате, он характеризовал его такими общими словами, столько недоговаривал, что приобрел множество недоброжелателей среди специалистов. В сущности, толком никто не знал всех деталей и тонкостей его изобретения, а тот, кто хотел узнать, получал маловразумительный ответ: аппарат должен заменить рыбоводные заводы, так как очень прост, не требует капитальных затрат и может быть заложен на любой нерестовой речке любым мало-мальски сведущим человеком. Среди сторонников заводского рыборазведения кеты он тем самым приобрел себе ярых противников.
Управившись с икрой и ожидая, пока она «набухнет», Вальгаев подозрительно спросил Колчанова:
— Ты по какому делу?
— По самому важному, — ответил Колчанов, улыбаясь. Он уже знал характер Вальгаева. — Познакомиться с твоим аппаратом.
Вальгаев долго молчал, помешивая икру. Потом коротко бросил:
— Он еще не готов…
— Ты же летом говорил, помнишь, когда были на Ученом совете, что хотел испытать его в производственных условиях.
— Ну, говорил. Так что же? Я сам, что ли, не в состоянии испытать его? — он покосился на Колчанова.
— Ну ладно, Матвей, — примирительно сказал Колчанов. — Об этом потом, на досуге поговорим, а сейчас хоть покажи, как и где ты закладываешь икру.
— Хочешь, обижайся, Алексей, хочешь — нет, — решительно заявил Вальгаев, — а показывать тебе ничего не буду.
— Да ты это серьезно?
— А почему же не серьезно?
— Так это же смешно!
— Кому смешно, а мне нет. Я не понимаю, что тут смешного? — вдруг возмутился Вальгаев. — Изобретение мое, никто мне не помог, когда нужно было, а теперь…
С этими словами Вальгаев подхватил таз с икрой и по-медвежьи зашагал к выходу. У дверей оглянулся, увидел Колчанова, идущего следом, недовольно спросил:
— Идешь все-таки?
— Иду.
— Ну и черт с тобой, иди, все равно главного секрета не поймешь.
— Так я уже знаю его, Матвей, ты же летом сказал мне о нем.
— Разве?
— Ты что, не помнишь?
Вальгаев только громче засопел и ничего не ответил. У входа в следующий цех буркнул:
— Теперь помню. Но я в соавторы тебя не возьму, понял?
— Да мне вовсе не нужно это, Матвей, как ты не поймешь?
— Какая же тогда нужда пригнала тебя?
— А вот сейчас расскажу.
Вальгаев прошел со своим тазом в самый дальний угол цеха, и Колчанов увидел в полумраке штук тридцать небольших ящиков, стоявших в проточной воде. Одни были заполнены галечником, другие стояли еще пустыми. Вальгаев достал один из них. На дне ящика Колчанов увидел сетку, поверх которой из стенок торчали два кончика резинового шланга. Вальгаев быстрыми привычными движениями устелил дно песком, потом галечником и, захватив пригоршню икры, рассыпал ее по галечнику. Так он проделал несколько раз…
Выслушав тогда рассказ Колчанова о причинах, приведших его сюда, Вальгаев, как всегда, долго молчал. Потом сказал:
— Испытывать — это дело другое. Иди пиши расписку, что заимствуешь у меня этот метод и не претендуешь на соавторство. Переодевайся и будешь мне помогать, а заодно и изучишь все дело. Только учти, у меня еще не найдена одна важная штука. — Он засопел, опустил в воду ящик, до краев наполненный галечником. — До весны! — сказал он, словно прощаясь с икрой.
— А не раздавит икру, которая внизу находится? — спросил Колчанов.
— Ты не знаешь разве, что одна икринка выдерживает груз в девять килограммов? — Вальгаев недовольно покосился на Алексея.
— Знаю, и потому подумал, что груз-то большой слишком.
— Не-ет, тут все рассчитано.
— Так какая же штука не найдена, говоришь?
— Выход малька из ящика. Приходится освобождать его.
— Найдем, — уверенно сказал Колчанов. — Что-нибудь придумаем.
Почти неделю прожил в ту пору Колчанов на рыбозаводе, помогая Вальгаеву закладывать опыты и изучая все тайны его изобретения. А тайн этих оказалось немало. И главная из них состояла в том, что в производственных условиях, в натуре, аппарат должен был быть совсем не таким, как сейчас. Если в ящик закладывалась икра одной кеты — до трех тысяч икринок, то в аппарат, сооружаемый на нерестилище, предполагалось закладывать до одного-двух миллионов икринок. Интересно было решение и такого, можно сказать, главного элемента инкубации, как снабжение икры чистой проточной водой. Известно, что кета закладывает свой нерестовый бугор только там, где имеются родники, обеспечивающие поступление к икринкам чистой воды без механических примесей — ила, песка, мелкого мусора. Вальгаев в точности воспроизводил родник, который бил снизу, приспособив для этого надежный фильтр — слой чистого речного песка.
Но было и такое, что вызывало серьезные сомнения в пригодности аппарата вообще, когда он будет заложен в производственных условиях. Как уже сказал сам Вальгаев, еще не решен был вопрос самостоятельного выхода малька из аппарата. Если он не мог выйти из ящика сравнительно маленького, то вдесятеро труднее решить это в аппарате, вмещающем один-два миллиона икринок. Ведь в естественных условиях нерестовый бугор является не только «родильным домом» лосося, но и его убежищем в первый месяц жизни. Отсюда он выходит на поиски пропитания и здесь же укрывается при появлении опасности. Далее, неясно было, как организовать питание одного-двух миллионов мальков на маленькой площади. В естественных условиях нерестовые бугры, как правило, рассеиваются на сравнительно большой территории. Часто пищей малькам служат не только хирономиды, растительные крохи, но и разложившиеся тушки прошлогодних лососей. В новых условиях нужна будет искусственная подкормка. Из чего она должна состоять и в
каком количестве потребуется, — этого не знал и сам Вальгаев. Наконец, не найден был способ защиты аппарата от промерзания.
И вот Колчанов вновь едет к Вальгаеву. Чем-то Матвей встретит его? Что теперь у него нового? Ведь прошла зима, закончена еще одна серия опытов. А вдруг техника инкубации икры уже отработана окончательно? Ведь тогда нужно немедленно начинать подготовку к закладке аппарата, а Колчанов связан по рукам и ногам руководством экспедицией. Да и после завершения ее работы ему придется немало повозиться с научным отчетом. Ах, как нескладно все получается!..
Поезд вышел из Хабаровска во втором часу дня. Прогрохотав по гигантскому мосту через Амур, он вырвался на бескрайний простор припойменных лугов и перелесков левобережья.
Колчанов и Пронина стояли у окна в коридоре, любуясь зеленым привольем березовых рощ, первыми цветами, пробегающими мимо вагона.
Когда позади осталась Волочаевка с ее знаменитой сопкой Июнь-Корань, увенчанной белым памятником — зданием и скульптурой красноармейца, поднявшего вверх винтовку, Колчанов неловко взял Пронину за локоть и предложил:
— А не пойти ли нам, Наденька, пообедать?
— С удовольствием, Алеша.
— Знаете, я удивительно хорошо чувствую себя, — говорил Колчанов. — Все вылетело у меня из головы, как только вырвался из города. Должно быть, первобытный человек, не обремененный науками, так же чувствовал себя, как я сейчас. Недаром у меня сразу появился зверский аппетит! — Он рассмеялся.
В вагоне-ресторане они выбрали столик и, сидя у окна друг против друга, болтали и смеялись. Колчанов почти не сводил влюбленных глаз с Прониной. Ему казалось, что нет больше на свете таких глаз, как у нее, — больших, переменчивых — от темно-синего до василькового; нет ни у кого таких красивых золотисто-льняных волос, собранных, как всегда, в большую копну, где каждый локон уложен замысловато и как-то особенно. И голос! Его даже ни с чем нельзя сравнить — он мелодичен и весь соткан из нежных переливчатых ноток, полон ласки, тепла.
— Знаете, Алеша, когда я узнала, что поеду на Амур, первой моей мыслью было: увижу вас здесь или нет? Мне так хотелось встретить вас!
Колчанов не заметил, как промелькнули эти четыре часа, пока поезд шел до рыбоводного завода, — он весь был поглощен Надей Прониной…
…Посреди живописной долины, зажатой крутыми грядами сопок, одиноко возвышаются постройки Бирского рыбоводного завода. Издали они похожи на маленький хутор или скромный санаторий, поставленный вблизи озерка.
Колчанову все было здесь интересно, особенно осенью, когда идет закладка икры на инкубацию; весной в шлюзах появятся тучи темно-фиолетовых глазастых мальков с круглыми оранжевыми животиками-икринками, «желточными мешочками», как их называют рыбоводы.
Вальгаева они застали в цехе. Вокруг него были разбросаны обрезки досок, кучи гравия, проволочная сетка, инструмент. Он сколачивал какой-то ящик.
Гостей он встретил без восторга, долгим изучающим взглядом посмотрел на Пронину, когда Колчанов представил ее ему. Потом, как ни в чем не бывало, принялся за свой ящик.
— Последний этап, — пояснил он, когда Колчанов спросил, чем он занимается. — Загадок больше нет. — Потом бережно положил инструмент, уселся. Закурил.
— Ну, что нового, Матвей? — спросил Колчанов.
— Нового-то? — Вальгаев затянулся папиросой, посмотрел на ее огонек. — Новое все. Закончил я свои опыты. Самый большой отход икры был пять процентов…
— А другие вопросы? — осторожно спросил Колчанов. — Выход малька, например…
— Вот, видишь? — Вальгаев указал на ящик. — Тут все решения… И закладка двух миллионов, и выход малька, — он указал на доски с отверстиями, поставленные на ребро между сетками. — А пустоты заложу крупным галечником. В нем и будет икра. Так-то вот…
— Выходит, закладывать можно? — Колчанов встал.
— Даже принципиальное разрешение начальства получил, — сказал тот равнодушно. — Григорий Афанасьевич так и заявил: «При научных опытах отрицательный результат важен так же, как и положительный, потому что он движет мысль ученого вперед». Видишь — «отрицательный». — Вальгаев усмехнулся. — Ничему не верят. Ну и черт с ними! — Он сердито плюнул. — Я им покажу «отрицательный результат»!
Колчанов посмотрел на Пронину, которая со скучающим видом осматривала цех и разбросанные повсюду предметы вальгаевского труда, сказал басом:
— Слушай, Матвей, давай вместе заложим твой аппарат в производственных условиях у меня на Бурукане. А?
— На Бурукане? — безразлично переспросил Вальгаев. — А мне хоть у черта на рогах. Лишь бы прок был.
— Значит, договорились?
— На Ученом совете договоримся. А сейчас пойдем обедать. Вы, наверное, проголодались? — И он снова долгим и пристальным взглядом посмотрел на Пронину.
Назавтра они все втроем выехали в Хабаровск.
14. Разговор в ресторане
Ученый совет продолжался пять дней. Все эти дни Вальгаев и Колчанов проводили вместе. Они нашли общий язык по всем вопросам предстоящих исследований. Вместе радовались тому, что Ученый совет утвердил испытание вальгаевского аппарата на Бурукане. Это решение явилось результатом почти назойливого упорства Колчанова и Вальгаева и было вынесено по принципу: «Отрицательный результат в науке так же важен, как и положительный, потому что он движет мысль ученого вперед». Большего этим двум «одержимым», как их называли, и не требовалось. На август была запланирована командировка Вальгаева на Чогор для подготовки и закладки его аппарата на Бурукане.
После Ученого совета Прониной все-таки удалось оторвать Колчанова от Вальгаева. Отведя его в темный угол коридора, она сказала, грустно заглядывая ему в глаза:
— Алешенька, я так скучала без тебя эти дни.
— Я тоже! — ответил Колчанов и крепко сжал ее руку выше локтя. — Проведем сегодня вечер вместе, в ресторане. Хорошо? Я там не был от сотворения мира…
…Они пришли в ресторан засветло, когда еще не было ни музыки, ни плавающих пластов табачного дыма, ни пьяных физиономий за столиками.
Пронина родилась и выросла в столице. Она была единственным ребенком в семье. Отец ее — третьеразрядный актер филармонии — месяцами пропадал на гастролях и почти не занимался воспитанием дочери; она была для него только милой игрушкой. Воспитывала ее мать — костюмерша театра, мастерица с золотыми руками и диким, несдержанным характером. Пронина никогда не любила мать, а после того, как та разрушила первую ее любовь-дружбу с милым юношей-однокурсником и настояла на ее поездке на Амур для «исправления характера», — особенно. Вся дочерняя любовь ее была обращена к отцу. Он ее баловал дорогими подарками и всепрощением, когда Наде было пятнадцать лет, и продолжал баловать, когда ей минуло уже двадцать три; не без гордости он называл ее «моя молодая львица». Ресторан для Прониной был привычным местом развлечений.
Сейчас, шагая впереди Колчанова, она уверенно прошла в направлении оркестровой рампы и уселась за угловым столиком на две персоны, словно здесь ей давно было подготовлено место.
Что касается Колчанова, то он чувствовал себя несколько скованно и выглядел неотесанным простаком, особенно рядом с Прониной. Заказывала, разумеется, она, лишь иногда благосклонно разрешая Колчанову сделать свое замечание. Когда вино было разлито по бокалам — любимый Прониной белый мускат, — она спросила:
— За что же мы выпьем, Алеша?
— Знаешь за что? — он посмотрел ей в глаза. — За нашу дружбу и за Чогор! «Жили старик со старухой у самого синего моря, старик ловил неводом рыбу, старуха пряла…»
— Хорошо, Алеша! И еще за твое будущее переселение в Москву! Ах, Алеша, как я люблю Москву… — мечтательно проговорила Пронина.
— Ну, тогда за Москву и Чогор! — дурачился Колчанов.
— Ладно. И за нашу дружбу! — улыбнулась Пронина. Поставив бокал и берясь за салат, уже серьезно спросила: — А в самом деле, Алеша, ты не собираешься возвращаться в Москву?
— Хоть сегодня! — рассмеялся он. — С удовольствием бы, да столько дел накопилось…
— А потом? Когда дела кончатся?
— Потом? Гм-м… Потом будет видно.
— Ну, а все-таки?
Колчанов раздумчиво посмотрел на нее.
— Не знаю, Наденька, — откровенно сказал он. — Давай еще выпьем?
— Я — последнюю.
Он разлил вино.
— За Чогор!
— За Москву, — повторила Пронина.
Они рассмеялись.
— Не понимаю, Алеша, что тебя так привязывает к Чогору.
— Работа, Наденька, интереснейшие исследования.
— А не Гаркавая? — Пронина сощурила глаза.
Колчанов отрицательно покачал головой.
— Знаешь, — заговорил он, — я даже сам не знаю, почему я не влюбился в Лиду Гаркавую. Ведь, кажется, всем хороша, а вот душа не лежит к ней.
— А к кому же у тебя лежит душа? — Пронина лукаво улыбнулась.
— Наверное к тебе, Наденька… — Он посмотрел на нее ласковым пьянеющим взглядом, отчего все лицо ее стало пунцовым.
— Ты мне тоже нравишься, Алеша, — прошептала она, опуская глаза.
Заиграла музыка. Колчанов не заметил, как у него за спиной появился высокий, качающийся, как тополь под ветром, краснолицый человек.
— М-молодой человек, разреши пригласить твою барышню на одну, как ее, рындеву, — промямлил он.
Колчанов повернул к нему строгое лицо и вдруг застыл в изумлении: перед ним был председатель Средне-Амурского рыболовецкого колхоза Севастьянов.
— Алешка! — загорланил тот и с силой хлопнул Колчанова по плечу. — Ты как тут?
Колчанов не был в таких близких отношениях с Севастьяновым, чтобы тот имел право обращаться к нему так панибратски. Наоборот, он не любил Севастьянова за безграмотность, за пренебрежение к правилам рыболовства, которые всегда возмущали Колчанова до глубины души. К тому же сейчас Севастьянов был пьян.
— Пиртрубация у нас, Алешка! — пьяно кричал Севастьянов. — Слили до кучи — рыбозавод и колхоз. Теперь, друг, я не председатель. Все! Клюкач высадил меня! Теперь я бригадир, вот как ссадили! А это твоя краля? — он кивнул на Пронину, со страхом смотревшую на него.
— Не краля, а подруга, — одернул его Колчанов.
— A-а… Ну, извиняй, дорогой друг Алеша. — Севастьянов икнул, сразу как-то притих. — Красивая, черт, у тебя подруга. На Чогор к себе повезешь?
Он еще долго не уходил, в который раз начиная рассказывать, как его «ссадили» из председателей. Когда он наконец ушел, Пронина, краснея, спросила Колчанова:
— И ты можешь жить среди таких людей?
Настроение было испорчено.
15. Так приходит любовь
Словно в чудесном полусне пробежало для Колчанова время, проведенное в поездках в Хабаровск и к Вальгаеву. И все оттого, что его спутницей была Надя Пронина. Что за девушка, что за прелесть! И как же это он раньше, в Москве, не сумел ее разглядеть, — почти полгода были знакомы! А ведь еще тогда чувствовал сердцем — хорошая, умная, обаятельная…
Только подъезжая к Чогору, Колчанов подумал о бездне дел, которые его ожидают.
Необходимо разработать график работы экспедиции. Ведь уже девятое июня. Профессор Сафьянов разрешил провести половину экспедиционного времени в районе Чогора, так как здесь, на среднем Амуре, распространены наиболее характерные представители промысловой ихтиофауны. В середине июля начнется промысловый сезон. Нужно сделать так, чтобы внепромысловое время — первую половину экспедиционного срока — провести за пределами Чогора — на озере Болонь и в устье Амгуни, а потом вернуться на Чогор и здесь закончить программу экспедиции. Это как раз совпадает с периодом подготовки к закладке аппарата Вальгаева, и можно будет выкроить время для поездки в верховья Бурукана.
Обо всем этом он рассказал Петру Григорьевичу и Владику. Владик был теперь комсоргом бригады и помощником Абросимова во всех производственных делах. Сам Абросимов так увлекся рыбоводством, что все время только и занимался на опытных нерестовиках или в колчановской лаборатории. На удивление Колчанову, он по всем правилам поставил опыты по выявлению действия свежезалитой водой травы на ускорение процесса созревания икры у сазана и карася. Эти опыты были в программе бригады и должны были ставиться под руководством Колчанова.
Дело в том, что способность к нересту у сазана, как и у карася, сохраняется с середины мая до середины июля. Если рыба не встретила за это время благоприятных условий для нереста, икра в ней начинает рассасываться (так называемая резорпция).
Сазан и карась фитофильны, они нерестятся на траву — пырей, осоку, но при непременном условии, чтобы трава пробыла под водой не больше пяти-семи дней. После этого срока трава непригодна как нерестовый субстрат. Когда паводок начинает заливать свежую траву, икра сазана и карася очень быстро созревает и приходит в «текучее» состояние. Чем это вызывается, науке пока неизвестно. Некоторые ихтиологи предполагают, что вода смывает с травы и растворяет какие-то особые вещества, которые являются как бы катализатором, ускорителем в биологическом процессе созревания икры.
Именно эти опыты и проводил Петр Григорьевич с помощью ребят, пока Колчанов ездил в Хабаровск. Они залили водой шесть маленьких нерестовиков, запустили в одни из них производителей карася, в другие — сазана.
И опыты блестяще подтвердили гипотезу ученых: там, где была положена свежая трава, рыба уже почти отнерестилась. В двух же, где находилась уже побывавшая в воде трава, нереста не было.
— Теперь, Алексей Петрович, — с увлечением говорил старый учитель, — давайте мне вашу программу по гибридизации, и мы ее выполним! Ребята великолепно знают биологию рыб!
И еще одну приятную новость узнал Колчанов: пока его не было, студенты-москвичи обучили всех ребят бригады подводному плаванию, нырянию с масками и дыхательными трубками и собрали много интересного.
Колчанов провел совещание с участниками экспедиции, на котором договорились о сроках экспедиционной работы, потом побывал с Петром Григорьевичем на нерестово-выростном хозяйстве — там было все в порядке, сазаны отнерестились; поговорил с ребятами из бригады. И тут вспомнил, что не видел Надю почти полдня. Он отправился на катер. Предлог? Забрать подводное снаряжение, а потом попросить Владика показать ему технику подводного плавания.
Но у сходней его встретила Пронина. Узнав, в чем дело, она воскликнула:
— Алеша, так я тебя обучу, я неплохо ныряю.
Прихватив снаряжение, они отправились на нерестово-выростное хозяйство, чтобы там ознакомиться с элементарными правилами подводного плавания, а заодно посмотреть, что делается под спокойной гладью озера-нерестовика.
Не успели они надеть ныряльное снаряжение, как появился Хлудков. Он тоже пришел плавать. Держался он по-прежнему высокомерно, чуть ли не вызывающе, особенно с Прониной. Это Колчанов заметил.
Первый заплыв они сделали втроем. Колчанов был буквально потрясен картиной, открывшейся его взору под водой. Он читал о подводном плавании, давно о нем мечтал, знал, как выглядит подводный мир. Но то, что он увидел теперь сквозь стекло маски, было несравненно богаче и красочнее.
Видимость была слабой — не более полутора метров, но и на этом расстоянии все казалось каким-то сказочным, расплывчатым: столбы кочек, веера неподвижно застывшей, опушенной тончайшим ворсом осоки, тучи сазаньей молоди, похожие на подвижный туман. В одном месте Колчанов даже разглядел между кочками силуэт крупного сазана, но тот быстро скрылся.
Колчанов очень скоро приноровился и стал свободно плавать в акваланге.
Больше часа они все трое пробыли на озере-нерестовике. Колчанов за это время не только овладел координацией движений под водой, но и убедился, что нерестовик уже сослужил свою службу — он был переполнен мальками сазана. Пройдет еще некоторое время, и воду, а с нею и сазанье потомство можно выпустить в Чогор.
На обратном пути у него возникла мысль, о которой он шепнул Прониной, когда они поднимались на катер. Хлудкова поблизости не было.
— Хорошо! — радостно согласилась она.
— Завтра в десять часов. Идет?
— Идет, Алеша!
Над лугами — зной. В горячем застойном, словно в парной, воздухе сникли метелки пырея, султаны медуницы и головки диких ромашек. Ничто кругом не шелохнется, только марево волнуется над травами, отчего миражем кажутся и зеленые тальники с отяжелевшими от сока молодыми побегами, и дальние сопки, и сами луга; однообразный звон цикад нагоняет сонную одурь. Томление разлито во всей природе, в каждом ее уголке.
Хорошо в такую пору промчаться на моторке по тихой, с ослепительным голубовато-серебристым глянцем протоке. Встречный воздух приятно холодит тело, под бортом лодки стремительно скользит такая невозмутимая, до того отглаженная покоем ласковая вода, что кажется — потрогай ее, и палец упрется в твердое, как стекло.
Пронина сидит на носу лодки и касается пальцами воды — то одним, то всеми пятью. Тогда от пальцев разлетаются изумрудные стружки брызг. Несмотря на жару, Пронина в своем экспедиционном костюме — в войлочной шляпе с бахромой, в бежевой болгарской куртке, узких брюках и неизменных туфельках на венском каблучке. Только теперь на переносице у нее красуются огромные темные очки — самые модные, с раскосо поставленными стеклами.
Колчанов у мотора. Мотор работает на полную мощность, и лодка, словно птица, летит по протоке, то и дело кренясь на крутых поворотах.
Они вдвоем держат путь на Гайтеровское озеро, как договорились вчера. Для того чтобы попасть в него, надо выехать в Амур, найти среди прибрежных зарослей тальника узенькую протоку и по одному из ее ответвлений проникнуть в озеро. Гайтеровское озеро давно привлекало внимание Колчанова. Оно было небольшое, может быть всего гектара в полтора площадью, но довольно глубокое — не пересыхало летом и не промерзало зимой; по-видимому, на его дне были родники, так как круглый год, даже при самых низких уровнях воды, оно сообщалось с Амуром хотя и узенькой, но довольно глубокой протокой.
Озеро было исключительно богато рыбой самых разнообразных видов. По наблюдениям Колчанова, здесь водились карась, сазан, сом, щука, змееголов, не говоря уже о косатках, горчаках и гольянах. Иногда в озеро заходили желтощек, краснопер и даже верхогляд. Однако обловить его не было никакой возможности — мешали подводные заросли. Но самое главное, что влекло сюда Колчанова, — это подозрение относительно нереста кеты у придонных родничков. Нынешней весной в контрольной мальковой сетке, выставленной Колчановым, оказалось два десятка мальков кеты. Объяснить появление их здесь он пока не мог. Возможно, конечно, что они зашли сюда, скатываясь с нерестилищ Бурукана или какой-нибудь другой речки.
Сегодня Колчанов решил с аквалангом поискать на дне озера нерестовые бугры. Если найдет, то в будущем здесь можно создать нерестовый заповедник осенней кеты. Попутно Колчанову хотелось найти разгадку случая, который он наблюдал здесь в середине мая. Он шел вдоль берега, вглядываясь в толщу воды, как вдруг впереди раздался такой всплеск, что Колчанову показалось, будто в воду упал по меньшей мере годовалый теленок. Что это была за рыба, он не знал, и теперь прихватил с собой подводную кинокамеру на случай встречи с этой диковиной.
…Последний крутой изгиб протоки — и лодка вошла в озеро. Тут же, у истока, Колчанов заглушил мотор и пристал к пологому песчаному бережку.
— Чудесное озеро! — в восторге воскликнула Пронина.
Озерко действительно напоминало старый заброшенный пруд. Оно было слегка вытянуто, по сторонам возвышались релки с редкими коренастыми яблоньками и боярышником, и лишь в дальнем конце его обрамляли старые непролазные заросли тальника. У берегов озера густо разрослись рогоз и осока, а дальше вода сплошь была покрыта листьями кувшинки, водяного ореха и ряской. Только середина озера была чистой и дегтярно-темной от большой глубины.
— Я что-то опасаюсь лезть в воду, Алеша, — говорила Пронина. — Откровенно говоря, еще боюсь «дикой» воды — тренировалась-то все в искусственных бассейнах.
Но вскоре они надели акваланги, ласты и, взявшись за руки, побрели в воду, потом разом нырнули и поплыли рядом.
Вода и в самом деле была какая-то необычная — пронизанная желтоватым янтарным сумраком, довольно прохладная, в ней выступали туманные очертания водорослей, мелких рыбешек, пасущихся в этих подводных дебрях.
Колчанов отпустил руку Прониной и показал, что хочет рассмотреть дно. Он опустился вниз, а Пронина поднялась к самой поверхности воды. Ничего интересного не обнаружив на дне, кроме каких-то обветшалых водорослей, Колчанов рывком устремился к Прониной, и они продолжили путь к центру озера.
Неожиданно перед ними появился сазан. Колчанов и Пронина вмиг замерли на месте, чтобы не спугнуть рыбу. Замер и сазан, видимо пытаясь разглядеть диковинные существа. Мерно зажужжала кинокамера. Сазан быстро развернулся и мгновенно исчез в сумраке. Они не стали преследовать его, стараясь вообще не пугать подводных жителей, чтобы разведать обстановку в озере. Осторожно двигая ластами, они теперь плыли почти у самого дна.
Как и следовало ожидать, прозрачность воды в озере была вполне достаточной, чтобы видеть все вокруг на расстоянии двух — трех метров. С замиранием сердца вглядывался Колчанов в этот таинственный мир, впервые открывшийся взору ученого-ихтиолога. Вот оно — волшебное царство природы, так долго скрывавшееся от глаз человека. Здесь все было необычным, не таким, как оно видится с берега. Мягкие очертания стеблей, кажущихся опушенными, лохматое дно — ровное, словно выстланное пухом. То там, то тут появляется стайка рыб. Вот несколько крупных косаток-скрипунов, сбившись в кучу голова к голове, почти в вертикальном положении — хвостами вверх, что-то, видимо, едят. То и дело встречаются стайки карасей, иногда довольно крупных; они движутся, как правило, цепочкой, один за другим, обследуя каждую мало-мальски приметную возвышенность или впадинку. Как и ожидал Колчанов, озеро было населено довольно плотно. Но крупные рыбы, за исключением сазана, пока не встречались. По-видимому, это было связано с тем, что пловцы находились в серединной и самой глубокой части озерного ложа, почти лишенной донной растительности.
По мере того как Колчанов и Пронина осторожно продвигались вперед, заиленное дно, хотя и очень полого, но достаточно заметно клонилось вниз; да и по давлению воды они оба чувствовали, что уходят все глубже и глубже.
С каждой минутой вокруг становилось все темнее, видимость уже не превышала одного метра, а вода делалась все холоднее и холоднее. И когда глубиномер показывал глубину в шесть метров, Колчанов вдруг разглядел галечник. Так и есть — родники! Поле галечника простиралось всюду, куда только достигал глаз. Не успели ихтиологи сделать и двух гребков ластами, как Колчанов в изумлении замер на месте: перед ним был типичный нерестовый бугор кеты — галечная насыпь до метра шириной и метра два в длину.
Восемнадцать бугров насчитал Колчанов, тщательно обследовав весь галечный участок дна. Он так закоченел, что ни минуты больше не мог оставаться под водой. Кроме того, нужно было определить на поверхности, в какой части озера находятся нерестовые бугры. Двумя сильными рывками он двинулся вверх. Знойное солнце ослепило его, и в первую минуту он решительно ничего не мог разглядеть. Когда же осмотрелся, то увидел, что находится на самой середине озера — в центре его овального зеркала. Неподалеку от него беззаботно плескалась в воде Пронина.
— Э-гей! Надюша! — освободившись от загубника, окликнул он ее и помахал рукой.
Несколько гребков ластами — и вот он рядом с Надей. Они поплыли вдоль озера.
Колчанову еще предстояло обследовать прибрежные участки, занятые водорослями, — их плавающие листья в своей массе в точности повторяли линию берега, образуя как бы второй, плавучий берег. Подплыв к границе водорослей, Колчанов погрузился в воду, увлекая за собой Пронину, и тотчас же они очутились в каких-то сказочных хоромах.

Тонкие буровато-зеленые нити спускались с «потолка», каким выглядела сейчас поверхность воды, сплошь покрытая листьями, и терялись где-то в таинственном сумраке внизу. Водоросли не были густыми, между ними просматривались проходы. Пользуясь ими, Колчанов и Пронина медленно двинулись вперед, ощущая неприятное прикосновение водорослей к телу.
Вскоре они очутились у стены рогоза и увидели дно; глубина в этом месте не превышала полутора метров. Сквозь заросли рогоза виднелись редкие кочки, а за ними — прибрежный обрывчик. Вдоль этой стены надводных зарослей они и решили все время двигаться. Колчанов разглядел на дне среди кочек огромного сома. Велик был соблазн подплыть к рыбине вплотную, но он боялся спугнуть ее и стал снимать кинокамерой с расстояния двух метров, медленно приближаясь. Сом почувствовал опасность только тогда, когда подводный пловец был от него уже совсем близко. Подняв тучу ила, рыбина мгновенно исчезла, Колчанов и Пронина даже не успели разглядеть, в какую сторону она кинулась. Только проплыв еще несколько метров, они увидели среди водорослей дымную полосу ила, сбитого со стеблей: сом ушел на глубину — к середине озера.
Теперь рыбы попадались все время. Но они здесь были куда осторожнее, чем на середине озера, на глубине. Чаще всего встречались караси и сравнительно мелкие щуки. В одном месте Колчанов обратил внимание на самую настоящую карасиную тропу, проделанную между кочками. Он задержал Пронину, и они замерли на месте. Перед ними двигалась вереница серебристых «лаптей» — карасей, весом, должно быть, не менее килограмма каждый. Чтобы не тревожить их, пловцы подались в сторону, стараясь не терять рыб из виду. Впереди вода вдруг взмутилась, словно там что-то взорвалось, и караси мгновенно кинулись врассыпную, подняв вдоль всего берега клубы мути.
Колчанов схватил за руку Пронину, они затаились на месте, ожидая, пока осядет ил. Когда вода наконец посветлела, они увидели впереди почти под самым берегом расплывчатый силуэт какой-то громадной рыбины. По мере того как вода становилась прозрачной, яснее проступал и силуэт. Это был желтощек редких размеров — килограммов на сорок. Он стоял носом к берегу и боком к Колчанову в довольно узком проходе между кочками. До желтощека было метра два — расстояние, вполне достаточное для съемки. Но Колчанову хотелось снять его со всех сторон. Подав сигнал Прониной, чтобы она оставалась на месте, он стал тихонько продвигаться вперед, то и дело включая кинокамеру. Голову желтощека заслоняла толстая кочка, а ему хотелось заснять всю рыбину. Обогнув стороной место засады рыбы, Колчанов вскоре увидел ее всю. Продолжая снимать, он все ближе подвигался к желтощеку. И вдруг — взрыв мути, удар воды, чуть не выбивший кинокамеру из рук пловца. Колчанов всплыл на поверхность. Тотчас неподалеку от него выскочила из воды Пронина с перекошенным от страха лицом и бросилась к берегу, визжа на все озеро.
— Что это за чудовище, Алеша?! — едва переводя дыхание, спросила девушка, когда они выбрались на сушу. — Щука, да? Я думала, она убьет меня.
Большого труда стоило Колчанову уговорить Пронину вновь опуститься в воду.
Пока они обследовали озеро, над горизонтом поднялась пепельно-мглистая завеса. Она быстро разрасталась, и не успели пловцы собраться в путь, как в небе четко обозначились границы исполинской грозовой тучи зловещего аспидно-стального цвета с белым подсветом по краям. Вскоре верхний ее край надвинулся на солнце. Окрестности сразу помрачнели, словно на землю спустились вечерние сумерки, притихли цикады и камышовки; мир замер в каком-то оцепенении.
И вот первый вестник грозы — глухой, тревожно-басовитый раскат грома родился в темных недрах грозового фронта.
— Боже мой, это ужасно, какая гроза будет! — говорила Пронина, со страхом вглядываясь в надвигавшуюся тучу. — Что же будем делать, Алеша? Мы даже накидок не захватили…
— Попытаемся проскочить до Филимоныча, — ответил Колчанов, тоже не без опаски поглядывая на тучу. — Не нравится она мне, похоже, с градом будет.
Моторка еще петляла по извилинам протоки, когда первый порыв ветра со свистом ударил по тальникам и травам, покрыл чешуйчатой рябью воду. После каждой новой паузы сила порывов возрастала, и вскоре все кругом гудело; ветер ожесточенно трепал и гнул макушки тальников, выстелил травы на лугах, будто чья-то исполинская невидимая рука прижала их к земле.
Моторка достигла устья протоки и выскочила на Амур. Рекой «Черного дракона» называют его китайцы. Именно таким он выглядел сейчас — черным, с серебристой чешуей. Моторку сразу же стало кидать, хотя волны были еще некрупными. Лодка с грохотом ударялась днищем об их горбины, высоко подскакивая; Колчанов сбавил скорость до самой малой, и все-таки брызги от этих ударов каскадами обдавали путников и в одну минуту вымочили их с головы до ног. На лице Прониной были написаны страх и растерянность, вся фигура Колчанова выражала ожесточенность и упорство. Он упрямо подался корпусом вперед.
До бакенщика оставалось еще километров шесть. В тихую погоду проскочить это расстояние на моторке ничего не стоило, но сейчас этот путь серьезно тревожил Колчанова.
Верхний край тучи был уже у них над головой, в полнеба выросла сплошная черная стена. Скоро по воде заклевали крупные дождевые капли, испещрив ее пузырями, словно плавающими стеклянными шариками; их граница на воде убегала вниз по течению реки, обогнав моторку. А позади под тучей повисла лохматая грива ливневого дождя. Ветер резко пошел на убыль, а дождь усилился.
— Это нам на руку! — закричал Колчанов, весело сверкая глазами. — Он скоро прибьет волну!..
Действительно, волны становились заметно меньше. Воспользовавшись этим, Колчанов выжимал из мотора все его лошадиные силы. Лодка почти скользила по самой поверхности успокоившейся реки, оставляя за кормой узенькую белую полоску пены. Удары грома следовали один за другим, белые вспышки молний то и дело перечеркивали из конца в конец весь грозовой фронт.
Им так и не удалось убежать от ливня. Примерно километрах в двух от Шаман-косы, когда уже виднелась избушка бакенщика, сизая полоса дымящейся водяной пыли, протянувшаяся поперек реки, стала настигать лодку. Это была стена ливня. Вот она в сотне, в полусотне, в двух десятках метров — грохочущая стена воды.
— Держись, Наденька-а! — возбужденно закричал Колчанов в ту самую секунду, когда граница ливня проходила через лодку.
— А-ай!.. — Пронина вся сжалась в комок, опустившись на самое дно моторки; она вобрала голову в плечи и старалась укрыться своей войлочной шляпой.
В густой завесе дождя сразу исчезли берега реки. Колчанов, опасаясь проскочить домик бакенщика, стал подворачивать моторку к берегу и сбавил ход. Вода угрожающе прибывала на дне лодки. Правой рукой управляя руль-мотором, Колчанов левой стал вычерпывать банкой воду. Он не заметил, как перед лодкой возникла песчаная коса, и лишь в самый последний момент успел поднять мотор и этим спасти гребной винт — днище лодки с силой врезалось в песок. Заглушив мотор, Колчанов выпрыгнул прямо в воду и вытолкал лодку подальше на сушу. Потом подхватил на руки Пронину и побежал с нею под защиту тальников. Надя обхватила его за шею, и он не заметил, как их губы сомкнулись; он целовал ее мокрое, холодное, все в струях воды лицо с каким-то жадным исступлением, не обращая внимания на ливень, на могучие удары грома, потрясавшие небо.
Потом они сидели под густой кроной тальника, плотно прижавшись друг к другу, и эти минуты казались Колчанову самыми счастливыми в его жизни. Он весело смеялся, и вновь целовал щеки, лоб, глаза Прониной.
Ливень прекратился так же внезапно, как и начался. Снова засияло солнце, нестерпимо ярко заголубело небо.
— Как жаль, что он так скоро прекратился! — со вздохом воскликнул Колчанов, и они весело рассмеялись, с любовью глядя друг на друга.
16. Каждый познается по-своему
Во вторник утром экспедиционный катер «Кристалл» снялся с якоря на озере Чогор и взял курс на Нижнюю протоку, в направлении Амура. Утро стояло солнечное, но ветреное, с холодной синью неба, с редкими перистыми облачками, вытянутыми вдоль Амура.
Колчанов не покидал палубы. Ему не хотелось тесниться в маленьком кубрике, который он занимал вместе с неприветливым Хлудковым. На другом конце палубы оживленно болтали и смеялись Шурка Толпыга и Верка Лобзякова.
Вскоре Шаман-коса осталась позади. Амур неприветливо встретил экспедицию: по его простору гуляли крутые встречные волны, с гулом бились о борт катера, там и тут вспыхивали беляки. Колчанов, закутавшись в плащ-накидку, бездумно любовался могучей рекой. Много раз видел он эти тальниковые острова, протоки и старицы необъятной поймы, синие ярусы сопок по горизонту и частокол тайги на прибрежных увалах и каждый раз находил что-нибудь новое, не открытое доселе. Вода уже опять шла на убыль; слева совсем обсох небольшой островок с редкими купами зеленого застарелого тальника и отцветающей черемухи. Трава на островке выглядела бархатисто-зеленой. Колчанов знал: там есть озера, заливы, по которым в солнечные дни нагуливают жир сазаны и караси. У него не было возможности тщательно обследовать весь остров, как и старицу, которая уходит в левобережную часть поймы. Теперь, с аквалангом, это будет возможно. Когда-то, по-видимому сравнительно недавно, там, где сейчас старица, проходило главное русло Амура. Но потом на повороте стала расти песчаная коса, появился остров, его заселили тальниковые дебри, и Амур оказался бессильным против преграды, созданной им самим; он повернул вправо, смыл там песчаные косы и острова и проложил новую дорогу — привольную, широкую…
Колчанов почувствовал, что за его спиной кто-то остановился. Оглянувшись, увидел Хлудкова — высокого, тонконогого, в узких трико, в глубоко надвинутой на глаза мятой шляпе.
— Вы что же, Алексей Петрович, дрогнете здесь, а не заходите в кубрик? — спросил он и, как показалось Колчанову, насмешливо посмотрел на него.
— Да вот, любуюсь…
— Сколько же лет можно все любоваться? — усмехнулся Хлудков. — Вы уже, наверное, сто раз видели здесь каждый кустик?
Колчанову понравилось это явное намерение Хлудкова завязать разговор.
— Это правда, Геннадий Федорович, — Колчанов всем корпусом повернулся к Хлудкову; тот присел рядом на скамейке. — И тем не менее порой мне кажется, что лучшего уголка природы, чем здесь, не существует на земле вообще.
Хлудков назидательно заметил:
— Ученый не может ограничивать себя лишь одним уголком природы. В этом таится угроза оказаться на всю жизнь провинциалом.
Эта манера поучать, замеченная Колчановым у Хлудкова еще с первого дня их знакомства, немного задела молодого ихтиолога: уж слишком Хлудков высокого мнения о себе. Спорить с ним не хотелось, и Колчанов отделался лишь репликой:
— В этом еще нужно разобраться.
И умолк. Молчал и Хлудков, неприятно посапывая длинным острым носом.
Впереди на широком правобережном увале показалось Средне-Амурское.
— В село будем заходить? — спросил Хлудков.
— А есть необходимость?
— Да, надо бы пополнить наши продовольственные запасы. До Болони еще далеко?
— Километров сто с небольшим, — ответил Колчанов. — Ну что ж, давайте зайдем. Только ненадолго.
— А там как управимся, — независимым тоном отвечал Хлудков.
Они подошли к селу около десяти часов утра. Пока Хлудков со студентами покупали продукты, Колчанов решил заглянуть к Гаркавой. Едва он появился в райкоме, как Лида засыпала его градом вопросов: что нового на нерестовиках, как Петр Григорьевич, как с изучением техники подводного плавания у ребят, что интересного найдено под водой… В заключение достала из стола пачку бумаг:
— Вот, удостоверения общественных инспекторов рыбоохраны. Пять ребятам, одно тебе.
— Толпыгину есть?
— Обязательно! Кстати, Алеша, мы тут советовались, не сделать ли его освобожденным инспектором?
— Что ж, он вполне подготовлен, — согласился Колчанов. — Но сейчас пока он у меня в экспедиции, лаборант. А удостоверение давай.
В первом часу дня «Кристалл» покинул Средне-Амурское. Заглянув в кубрик, Колчанов обнаружил на столике полдюжины бутылок коньяку. Вскоре вошел Хлудков.
— Что-то вы, Геннадий Федорович, будто на свадьбу набрали, — указал Колчанов на бутылки.
— Дорога длинная, все может случиться, — неопределенно отвечал тот. — Хотите? — Он взялся за бутылку.
— Да ведь скоро обед, там и выпьем.
— При студентах?! — лицо Хлудкова сделалось испуганным.
— Ну ладно, давайте тогда по одной, — подумав, согласился Колчанов.
Вмиг из тумбочки появился кусок балыка, булочка и два стакана.
— Николай Николаевич запрещал мне, — говорил Хлудков, приготавливая закуску, — а уж с вами, я думаю, мы найдем общий язык.
Колчанову не понравилась эта его самоуверенность, но он промолчал, не желая с первых шагов портить отношения с заместителем.
— Ну, за что же выпьем, Алексей Петрович? — спросил Хлудков, выжидательно поднимая стакан.
— Давайте за то, чтобы экспедиция наша вернулась не с пустыми руками, — добродушно посмеиваясь, отвечал Колчанов.
— Вы плохо думаете о нас, Алексей Петрович. В нашей экспедиции почти все отличники и все мастера подводного плавания. Давайте начнем тогда с главного — с доверия!
— Не возражаю — со взаимного!
Они церемонно чокнулись, высоко подняли стаканы.
Закусывали, сидя друг против друга на своих койках, почти упираясь один в другого коленями. Ели молча, старательно обсасывая балычьи шкурки.
— Вы впервые на Амуре, Геннадий Федорович? — первым заговорил Колчанов.
— Да, впервые, — ответил глуховато тот. — Откровенно говоря, я и не хотел ехать. Просто уступил настойчивости Николая Николаевича. Моя тема — осетровые юга Европейской части Союза.
— Ну что ж, тут есть кое-какие аналогии, — заметил Колчанов.
— Вот из-за них и настаивал Николай Николаевич на моей поездке. Мне нужна калуга.
— На устье Амгуни найдем ее.
— Ну что, еще по маленькой? По последней? — спросил Хлудков, стойко вперив холодные глаза в добродушное лицо Колчанова.
— Разве только чуть-чуть, — согласился Колчанов.
— Да я тоже редко пью больше одной дозы, — Хлудков взялся за бутылку.
Колчанов вспомнил, что сегодня еще не видел Пронину. Хотел было спросить, почему ее не видно нигде, но, подумав, что Хлудков втайне ревнует его к ней, промолчал. Тот однако сам заговорил о Прониной:
— Вчера вечером сильно повздорили с Надеждой Михайловной.
— Чего вы с ней не поделили? — спросил Колчанов с напускным безразличием.
Хлудков ответил не сразу. Закончив с копченым колтычком кеты, он тщательно вытер платочком рот, руки, закурил и только тогда сказал:
— Ужасно тяжелый человек.
— Надежда Михайловна?! — с искренним изумлением спросил Колчанов.
— О, кто ее не знает, считает ее ангелом, — проговорил Хлудков. — А на самом деле — фурия!
Он говорил это с неподдельной искренностью.
Колчанов молчал — его будто обухом оглушили. Он чувствовал себя очень скверно, как всякий, кому говорят плохо о любимом человеке. Все его представления о самом лучшем в человеке воплотились в Наде Прониной. Сейчас Колчанову хотелось обругать Хлудкова, но он тактично промолчал. Только лицо у него горело; легкий хмель вылетел из головы.
Хлудков сквозь клубы табачного дыма поглядывал на Колчанова. Потом вдруг решительно сказал:
— Алексей Петрович, давайте поговорим как мужчина с мужчиной. Вам нравится Надежда Михайловна?
Колчанов неопределенно пожал плечами. Он еще не настроился говорить с Хлудковым как «мужчина с мужчиной», потому что был слишком зол на него в эту минуту.
— Вижу и знаю, что нравится, — продолжал Хлудков. — Да, она умеет произвести впечатление, умеет очаровать. В этом отношении она — гений, — Хлудков все больше распалялся.
— Зачем вы мне говорите все это? — перебил его Колчанов.
— Дорогой Алексей Петрович, поймите меня правильно, — Хлудков положил ладонь на острое колено Колчанова. — Мной руководят лучшие намерения — я хочу помочь вам, предостеречь вас от роковой ошибки, потому что хорошо знаю Надежду Михайловну и хорошо понимаю вас. Я ведь все вижу: она вас хочет очаровать, влюбить в себя, если уже не влюбила. А все это делается потому, что вы стали начальником экспедиции. Не будь у вас этого чина, она наверняка не обратила бы на вас внимания. От Москвы до Чогора она пыталась проделать это со мной, как заместителем начальника экспедиции. Теперь у нее более солидный, более выгодный объект для атаки. И она повела…
Колчанов резко встал, проговорил сухо:
— Я больше не желаю слушать вас, Геннадий Федорович. Вы слишком плохо думаете о людях. Впредь прошу не говорить мне подобных гадостей о членах нашей экспедиции. — Он круто повернулся и вышел из кубрика.
Хлудков вскочил, попытался было остановить его, но, махнув рукой, снова сел, облокотился на колени и долго сидел в такой позе.
17. Когда преследуют подозрения
В шестом часу вечера «Кристалл», миновав живописную протоку, входил в Болонь — огромное озеро, оттеснившее почти на тридцать километров сопки и тайгу левобережья Амура. Колчанов все время не покидал палубы. Ветер к этому времени улегся, и невозмутимая гладь озера впереди плавилась ослепительным золотом в лучах предвечернего солнца.
На палубу высыпали все пассажиры катера за исключением Хлудкова и Прониной. Хлудков спал после коньяка и сытного обеда. Пронина же и не выходила обедать. Колчанов, заглянувший в «девичий» кубрик, где размещалась Пронина вместе со студентками, застал ее в постели. Она объяснила, что укачалась. Колчанов то и дело посматривал на трап, ведущий в кубрики: он ждал Пронину. В нем боролись два чувства — любовь и подозрение. Нет, не прошли бесследно слова, сказанные ему Хлудковым. «А что если он действительно прав?» — время от времени мелькала в голове предательская мысль. И тут же вспомнилось сказанное Вальгаевым: «Хитрая больно, обжечься можно». Да, страшная это напасть — подозрения…
Незадолго до
заката солнца, когда катер был уже почти в самом конце озера, Колчанов распорядился пристать к берегу в уютном, защищенном от ветров Кривом заливе. Отсюда предполагалось постепенно продвигаться к Амуру, делая сборы ихтиофауны и обследуя в рыбопромысловом отношении наиболее интересные места.
Вскоре на живописном берегу белели две вместительные палатки, полыхал костер, а у самой воды то и дело визжали катушки спиннингов — это любители-удильщики испытывали свое рыбацкое счастье.
На палубе катера появилась и Пронина. Недавняя «морская болезнь» не оставила никакого следа на ее внешности: так же форсовато сидела на соломенной копне волос войлочная шляпа, так же блестели пунцовые ее губы, а глаза сейчас темнели, как смоченные в воде ягоды крыжовника. Колчанов, заметив се с берега, постоял с минуту у костра, ожидая, что Пронина сойдет на землю, но, не дождавшись, сам неторопливо двинулся на катер.
— Как чувствуешь себя, Наденька? — вполголоса спросил он, подходя к ней.
— Хорошо, Алеша, — тихо отвечала она, вскидывая на него полный нежности взгляд. — Ты чем-то недоволен?
Колчанов не сразу ответил. Он неловко замялся, прошелся по палубе, глядя под ноги. Он опять вспомнил слова Хлудкова и Вальгаева, и его будто кто-то оттолкнул от Прониной.
— Чем ты недоволен, Алеша?
О, эта удивительная ее проницательность! Как могла она узнать, что он недоволен? Колчанов посмотрел на нее, сказал раздумчиво:
— Просто настроение плохое.
— А почему?
— С Геннадием Федоровичем нехорошо поговорили, — пробормотал Колчанов, неспособный кривить душой.
— Ох, этот Геннадий Федорович, — вздохнула Пронина. — Он, видно, еще не один раз испортит настроение и тебе и мне…
На палубе появился шкипер, разговор прервался.
Незаметно бежали дни в больших и мелких экспедиционных заботах. С утра одни, запасшись сетками, отправлялись на лодке по своему маршруту, другие в подводном снаряжении уходили под воду, третьи бродили по берегам, залезали в затопленные кочки и подолгу копались среди них или бултыхались в прибрежных зарослях. К вечеру все собирались к костру у палаток, и тогда здесь начинался форменный базар: всюду лежали рыбы, стояли банки с какими-то мокрыми насекомыми, а полуголые их владельцы шумели, спорили, смеялись… Каждый что-то рассказывал, не слушая собеседника.
В такую пору Колчанова буквально засыпали вопросами студенты-дипломанты. Пришлось ввести в практику вечерние обзорные беседы по итогам дневных сборов. Это было для всех самое интересное время. Беседы обычно завязывались после ужина. Потрескивает костер, пляшут языки пламени, отпугивая темноту; вверху, за световым куполом, смутно поблескивают редкие изумрудинки звезд. Время от времени в ночи то цапля простонет, то сонно гукнет выпь, и каждый такой звук далеко катится по глади озера. А из прибрежной травы все время доносятся всплески рыбы. В такие минуты все невидимое, что происходит в ночном мире, воспринимается с какой-то особенной остротой и представляется исполненным глубокого и загадочного смысла.
Как-то Колчанов предложил:
— Сейчас в подводном мире самое беспокойное время: идет нерест у большинства его обитателей. Хотите послушать об этом?
— С удовольствием!
— Пожалуйста, Алексей Петрович, — загудели вокруг костра.
— Что ж, тогда начнем, — заговорил Колчанов. — Способность амурских рыб к естественному воспроизводству колоссальна. Наибольшей плодовитостью среди них отличается калуга. Она выметывает за нерест до четырех миллионов икринок. Очень плодовиты: сазан — до шестисот тысяч икринок, толстолоб — пятьсот тысяч, карась — до трехсот восьмидесяти тысяч икринок. Все эти рыбы не заботятся о своем потомстве, поэтому у них гибнет очень большой процент икринок. Но так плодовиты не все рыбы Амура. Например, лососевые. Летняя кета мечет всего две тысячи четыреста икринок, осенняя — около трех тысяч пятисот, горбуша — около тысячи пятисот икринок, ленок — до тринадцати тысяч, таймень — около тридцати тысяч. Почти все они прячут свою икру, закапывая ее среди камней. Меньше всего — до трехсот икринок — мечут колюшки, горчаки и лжепескари. Все эти рыбы активно охраняют свою икру.
Весьма различны способы кладки икры у амурских рыб. Холодолюбивые (арктические и бореальные) — ленок, таймень, мальма, хариус, сиг, налим — мечут икру в притоках Амура на галечном грунте, обычно при низких температурах. Течением воды икринки забиваются меж камней, где и развиваются.
Калуга, осетр и некоторые формы пескарей откладывают икру на гальке и песке на середине реки. Многие рыбы приклеивают икринки к донной растительности: сазан, карась, щука, сом, озерный гольян. Эти рыбы, как вы знаете, называются фитофильными. Наконец, в Амуре живет большая группа так называемых пелагофильных рыб, которые откладывают икру прямо в толщу воды, на течении; верхняя оболочка такой икры разбухает, икра приобретает плавучесть и бывает плохо заметной, что и спасает ее от хищников. Но вот любопытный факт: в Европе пелагическую икру мечут только чехонь и проходная сельдь, в Сибири вовсе нет таких рыб, а в Амуре их насчитывается около двадцати видов: толстолоб, желтощек, белый и черный амур, белый и черный лещ, китайский окунь — ауха и другие.
Очень любопытно нерестятся горчаки — обыкновенный и колючий, которых на Амуре называют еще синявками. Они откладывают икру в жаберную полость двустворчатой ракушки перловицы — беззубки. У самки к моменту нереста вырастает длинный яйцеклад, при помощи которого она вводит икринки внутрь ракушки.
Чрезвычайно хитроумно откладывает икру косатка-скрипун. Она роет в прибрежном грунте, подобно ласточке, норку глубиной до пятнадцати сантиметров и шириной восемь — десять сантиметров. Норки располагаются колониями довольно густо — до двадцати на квадратном метре. Общая площадь таких нерестовых колоний достигает иногда нескольких сотен квадратных метров. Самец охраняет нору до выхода из нее мальков. Чтобы личинки, вылупившиеся из икры, не испытывали кислородного голодания, самец все время машет хвостом, загоняя в нору свежую воду. То же делают личинки, а потом и мальки, чтобы создать ток воды внутри норы. Охраняют свою икру лжепескари, амурский чебачок, амурский змееголов. Змееголов устраивает плавучее гнездо из растительности и пузырей воздуха, куда он откладывает икру. Биологически такой способ кладки икры объясняется тем, что у змееголова под жаберной полостью имеется специальная камера для дыхания атмосферным воздухом.
Активная защита потомства тоже связана с одной замечательной особенностью состава ихтиофауны амурских рыб: здесь хищные рыбы составляют значительно больший процент, чем в реках Европы и Сибири. В Европе и Сибири этот процент колеблется от двенадцати до двадцати двух, а в Амуре он превышает тридцать. При этом наибольшее количество хищников наблюдается среди рыб южного происхождения. С этим связано также и то, что почти все рыбы Амура имеют острый шип в спинном плавнике: он защищает их от нападения хищников.
Задача человека — создать благоприятные условия для размножения полезных рыб и сократить стада хищных и сорных. Если будут созданы такие условия, стадо промысловых рыб может быть увеличено во много раз; запасы питательных веществ в Амуре вполне позволяют это.
В эти дни с Колчановым происходило что-то непонятное. То он был трогательно внимателен к Прониной, то вдруг взгляд его делался холодным, он замыкался в себе и словно не замечал девушки.
Объяснялось это все теми же «приступами» подозрительности. Колчанов не переставал пристально наблюдать за Прониной. Иногда ему казалось, что она слишком капризна, иногда он замечал, что она по-барски пользуется помощью Верки Лобзяковой — гоняет ее по делу и без дела. Однажды об этом ему сказал Шурка Толпыга.
— Алексей Петрович, — смущаясь, говорил Шурка, — не нравится мне, как относится Надежда Михайловна к Верке. Она ее сделала своей горничной: заставляет стирать и гладить свое белье, носить обеды с камбуза в кубрик… Я считаю, это неправильно.
— Ладно, я выясню, — ответил Колчанов.
Он ничего не выяснил, но стал еще более придирчиво наблюдать за взаимоотношениями Прониной и Верки, и скоро убедился, что Шурка прав. Но ведь все это были мелочи.
Через две недели исследовательские работы на Болони были закончены, и «Кристалл» взял курс к устью Амгуни. Это было утром. После завтрака Колчанов и Пронина остались одни в кают-компании — все ушли на палубу смотреть Амур.
— Алеша, я хочу с тобой поговорить откровенно, — сказала Пронина. — Мне кажется, ты на меня за что-то обижаешься. В чем дело?
И Колчанов честно рассказал о своем разговоре с Хлудковым.
— Конечно, иного от него и ожидать нельзя, — раздумчиво заметила Пронина. — Хочешь знать правду? — Она гордо вскинула свою красивую голову, посмотрела прямо и открыто в лицо Колчанову.
— Не только хочу, Надя, но обязан знать ее.
— Он преследует меня уже два года, — он из-за меня поехал в эту экспедицию. Алеша, милый, он надоел мне так, что я смотреть на него не могу. Пойми меня правильно, Алеша. Да, возможно, когда-то я дала какой-то повод ему, что-то в нем привлекало меня. Теперь он бесконечно противен мне, этот жалкий себялюб, бездарный завистник. Ну скажи, Алеша, разве я виновата в этом?
Нет, никакой душевной ясности не принесло Колчанову это объяснение. «Возможно, когда-то я дала какой-то повод ему…» Разве тактично было бы допытываться сейчас, что это за повод? Уж лучше бы она вовсе не говорила этого! К подозрительности прибавилась еще и ревность. Он все больше любил Надю, мысль о ней не оставляла его все время.
Так прошла вся поездка экспедиции в низовья Амура.
18. Экспедиция отправляется на Бурукан
В первых числах августа экспедиция возвратилась на Чогор. Помимо общих сборов ихтиофауны, которые предстояло теперь делать на Среднем Амуре, в ее задачу входили поиски обской стерляди в районе Шаман-косы — излюбленном месте осетровых.
Обская стерлядь была выпущена в Амур пять лет назад в районе села Елабуги. О случаях вылова ее отдельными рыбаками поступали сведения не только из Елабуги, но и из сел, расположенных ниже Чогора. Колчанов решил: пока Хлудков будет заниматься поисками стерляди, он с небольшой группой совершит поездку на Сысоевский ключ, чтобы окончательно определить места для закладки аппарата Вальгаева.
К восьмому августа все неотложные дела были завершены и можно было отправляться на Бурукан. В экспедицию, кроме Колчанова, вошли еще пять человек: Пронина, Владик, Верка, Толпыга и Гоша Драпков. Тяжело нагруженный бригадный мотобот, провожаемый всеми обитателями стана, отчалил от берега. Солнце только что поднялось над грядой сопок, и долина Бурукана еще хранила ночную прохладу. Набирая скорость, мотобот ходко двинулся по Бурукану.
Чем дальше в глубь долины уносил мотобот путников, тем суровее становились картины природы. Все больше сужалась долина, круче и выше поднимались склоны гор, глубже и сумрачнее казались распадки, заросшие ельником. Куда ни глянь — повсюду глухомань непролазных лесных дебрей. Бурукан весело, с перезвоном бежал здесь, светлоструйный и прохладный, то прихотливо петляя между галечниками и песчаными наносами с замытыми в них корягами, среди дремучих тальников, то вдруг выпрямляя свое русло у каменистой осыпи. У подножия какой-нибудь громадной сопки он вдруг начинал шуметь и пениться на перекатах и среди прибрежных каменных глыб. В ином месте река расходилась по лесистой пойме на множество рукавов, и тогда бывало нелегко найти главное русло реки. Но Колчанову места были знакомы, и он уверенно вел мотобот. За Изюбриным утесом, могучей отвесной скалой поднявшимся над речкой, начались перекаты. Их пенистая лента протянулась почти на километр вдоль подножия правобережного обрыва. Левый берег в этом месте был приподнят метра на три над уровнем реки и весь порос старой черемухой, рябинником и дикими яблоньками. Деревья росли негусто, напоминая фруктовый сад, странно выглядевший в этом диком живописном уголке. Подлеска под ним почти не было, а только высокий буйный пырей.
О том, чтобы подняться через перекаты на груженой лодке, не могло быть и речи. Колчанов повернул ее к берегу и попросил всех спутников выйти на сушу. Пронина была в восторге от речки, от приятного плавания на мотоботе и особенно от вида этой поэтической рощицы, усыпанной ягодами.
Колчанов внимательно присматривался к поведению Прониной. Еще несколько дней назад, когда речь зашла об экспедиции на Бурукан, у него не было намерения брать ее с собой. Учитывая трудности, которые ожидают экспедицию, сугубо «городской» склад характера и неприспособленность Прониной к жизни в суровых условиях дикой природы, он просто хотел поберечь ее. Но Пронина сама настояла на поездке — ее тематика включала сборы бентоса и в притоках Амура. Настойчивость и решимость, с которой она добивалась участия в экспедиции, понравились Колчанову, и теперь он с теплым чувством наблюдал за ней, радуясь ее по-детски непосредственному восторгу.
Заглушив мотор, Колчанов сошел с лодки. Ребята уже двинулись берегом, только Пронина задержалась.
— Алеша, милый, я никогда не думала, что здесь такая прелесть! — порывисто говорила она, сжимая у груди ладони. Она вся светилась неподдельной радостью. — Я думала, что природа может быть красивой только в Крыму или на Кавказе.
— Очень рад за тебя, Наденька, — Колчанов залюбовался ею. — Теперь, надеюсь, ты понимаешь, что меня удерживает здесь.
— Да, да, теперь я понимаю, Алешенька…
Но, произнося эти слова, она уже начинала с ожесточением отмахиваться от комаров, тучей закружившихся над ними.
— Смажься репудином, Наденька, — Колчанов подал ей флакон. — Это пока первая плата за прелести, которые нас окружают, — заметил он, увидев, как недовольно сморщилось лицо Прониной.
Но она безропотно принялась натирать лицо, шею и руки липкой, пощипывающей кожу жидкостью. Надя уже не впервые прибегала к этому средству защиты от гнуса.
— Алешенька, а это очень опасно — проезжать здесь? — с тревогой спросила она, указывая на перекаты. — С тобой ничего не случится?
— Ничего, ничего, — нетерпеливо сказал Колчанов. — Иди, Надя, а то ребята уже далеко ушли, как бы тебе одной не было боязно.
— А здесь звери? — она округлила глаза.
— Как и во всякой тайге.
— И тигры?..
— Тигры давно не водятся в этих местах. Медведь встречается, только он никогда первым не набрасывается на человека.
— А вдруг набросится? Возьми, Алешенька, меня в лодку, я боюсь идти одна.
— Ладно, садись, — недовольно проворчал Колчанов. — Видимо, зря ты поехала с нами…
— Не сердись, милый, я привыкну, честное слово привыкну…
За перекатами течение Бурукана стало быстрее, чем на пройденном от устья участке, и ход тяжело груженной лодки сразу замедлился; тем не менее настроение у всех оставалось превосходным. Перед глазами путников сменялись все новые и новые пейзажи, один живописнее другого. Иногда лодка проходила возле какого-нибудь залома из коряг и могучих колодин, и тогда нельзя было без внутреннего трепета наблюдать, как перед ними завихривается вода, как гудит она в заломе, сотрясая воздух; попади туда человек — и вода, кажется, скрутит, сомнет его, как былинку. Пронина крепче хваталась за борт лодки и жалась к Верке, рядом с которой сидела.
Во втором часу дня впереди по правому берегу показалась длинная галечная отмель, упирающаяся в небольшой обрывчик. Берег здесь был открытый, долина Бурукана расширялась, а немного выше по течению виднелся темный лесной коридор.
— Ваше становище тут было! — закричал Шурка Толпыга, указывая на галечный берег. — А вон и Сысоевский ключ! — указал он на темный лесной коридор.
Колчанов кивнул и повернул лодку к галечнику. Метрах в пяти от берега он выключил мотор и весело объявил:
— Приехали, братцы! Здесь и будет наша база.
Солнце нещадно припекало, и если бы не прохлада, идущая от студеной реки, было бы, наверное, невыносимо жарко и душно. Но сейчас все чувствовали себя превосходно, а дикость и глушь окрестной тайги манили воображение своей таинственной неизведанностью. Прямо за прибрежным обрывчиком начинался могучий старый лес из тополей, ильмов и елей. Под их сумрачным покровом, составляя второй ярус, тянулись к солнцу стройные березки, осины и клены, а у самой земли сплелись орешник и аралия, лианы актинидии и лимонника. В дремучей зелени попискивали синицы, где-то назойливо кричали кедровки, а из глубины лесного сумрака доносилось грустное однотонное гуканье дикого голубя.
Место на галечном берегу как нельзя лучше подходило для бивуака — от реки веяло прохладой, комара здесь почти не было. Вскоре неподалеку от воды уже стояла восьмиместная палатка, а рядом с нею дымил костер — бивуак был готов.
Пока девушки возились с обедом, ребята во главе с Колчановым наладили удочки с крючками-«мушками» и отправились на устье Сысоевского ключа промышлять хариусов. Обитатель мелководных речек, хариус обладает исключительной способностью маскироваться даже там, где вода чуть выше щиколоток. Как правило, он затаивается где-нибудь под корягой, размытыми корнями или в тени обрывчика. Стоит появиться неподалеку у поверхности воды бабочке, кузнечику или букашке, как хариус стрелой вылетает из засады и точно, без промаха, мгновенно хватает добычу. Зная повадки хариуса, рыболовы изготовляют искусственную «мушку» — с крылышками, усиками и цветным брюшком, в котором запрятан крючок. Но этого еще недостаточно, чтобы поймать хариуса. Он является объектом охоты многочисленных хищников — четвероногих и пернатых. С воздуха его подстерегают коршун, сова, ястреб, даже ворона, с берега и в воде за ним охотятся выдры, водяная крыса, хорьки, енот. Вот почему малейший шорох или мелькнувшая тень заставляют хариуса мгновенно скрываться в надежное убежище. Чтобы перехитрить его, рыболову приходится тщательно маскироваться и бесшумно опускать леску в воду, да так, чтобы мушка не тонула, а чертила лишь поверхность воды.
Обо всем этом ребята узнали от Колчанова, пока готовили удочки и шли к устью Сысоевского ключа — месту обитания хариуса. Вскоре в воздухе сверкнула серебром первая рыбка, затем вторая, третья. Не прошло и четверти часа, как на берегу уже лежало десятка три довольно крупных хариусов — вполне достаточно для хорошей ухи.
За обедом решено было остаток дня посвятить отдыху и знакомству с окрестностями. Шурка и Гоша решили наудить рыбы про запас. Их так увлекла ловля, что у них только и было разговора, что о хариусах. Чтобы лучше сохранить будущий улов, юноши приготовили своеобразный садок — вырыли недалеко от берега глубокую яму в галечнике. В нее сразу набралась вода. Туда они и будут пускать хариусов.
19. Испытания
Вечером у костра, после превосходной ухи, участники экспедиции составили детальный план работы на ближайшие три дня. Колчанов, Гоша Драпков и Владик пройдут до истоков Сысоевского ключа, где никто из ихтиологов еще не бывал. По пути составят схематический план всего ключа с указанием ширины и глубины в местах, наиболее подходящих для закладки аппарата Вальгаева, кроме того, учтут участки с заиленным дном и возьмут пробы ила на предмет определения количества бентоса в них. К исходу третьего дня они должны вернуться на бивуак.
Что касается Прониной, Верки и Шурки Толпыги, то им предстояло все эти три дня заниматься сборами хирономид и других представителей энтомофауны в Сысоевском ключе неподалеку от бивуака. Толпыгу оставляли при девушках не как знатока энтомофауны (Гоша Драпков больше подошел бы для этого), а как хорошего охотника, чтобы охранять девушек от возможных опасностей в тайге. На ночь они будут возвращаться на бивуак.
Утром, едва первые солнечные лучи прорвались в долину между двух правобережных сопок, все участники экспедиции уже были готовы к походу. Застегнув наглухо палатку и тщательно загасив костер, мужчины вскинули за спину тяжелые рюкзаки, и экспедиция тронулась в путь. Те, кто уходил к верховьям Сысоевского ключа, помимо трехдневного запаса продовольствия, несли с собой акваланг, три комплекта ныряльных масок и ластов, подводные и дробовые ружья, дождевики, две мелкоячеистые капроновые сетки, десятка два банок для образцов ила.
У устья Сысоевского ключа галечный берег кончился, и путники, свернув вправо, вдоль ключа, очутились в густых зарослях цепкого подлеска. Это был характерный пойменный лес таежных рек. Крупные деревья, главным образом старые тополя, кедры и ели, росли вразброс, но зато подлесок из жасмина, шиповника, мелкого орешника и колючей аралии сплошной стеной вставал на пути. Пронина по-прежнему восторгалась всем — и ночлегом в палатке, и чудесным утром, и неумолчным шумом Бурукана, и возней камышевок, которые с самой ранней зари принялись за поиски пищи в тальниковой куще, почти над самой палаткой. Подражая Прониной, восторгалась всем и Верка.
— Вот подождите, в тайге не так запоете, — ворчал Шурка; он был горько обижен своей ролью проводника у этих «барышень», как он называл их, и готов был отдать что угодно, только бы участвовать в походе к вершине Сысоевского ключа. К тому же, вспомнив, как в поездке на Болонь Пронина гоняла его по всякому поводу и без повода, когда Колчанов посылал его с «барышнями» на лодке собирать хирономид, Шурка с тоской подумал о днях, которые ему придется провести с Прониной.
Вскоре его опасения подтвердились. На пути оказался ручей шириной метра четыре, впадающий в Сысоевский ключ. Колчанов, чтобы не мочить ноги в начале пути, вывел своих спутников на естественный «мост» — лесину, упавшую поперек ручья. Чтобы Пронина в своих туфлях на венском каблучке не сорвалась в ручей, Колчанов срубил длинную жердочку, которую сделали поручнем — один конец его на том берегу держал Колчанов, другой, на этом, — Шурка. Но поручень не помог: над серединой ручья Пронина поскользнулась и с метровой высоты свалилась в воду. Воды оказалось по пояс, но и этого было достаточно, чтобы выкупаться.
К счастью, она не зашиблась и, выбравшись с помощью Колчанова на берег, говорила со смехом:
— Крещение состоялось, теперь мне не страшны никакие преграды.
Но она поторопилась с выводами. Не прошли путники и сотни шагов по зарослям, как Пронина завизжала так, что все испуганно остановились.
— Что случилось, Надя? — крикнул Колчанов.
— Ой, ой, всю руку позанозила о какие-то иглы! — в отчаянии кричала она. — Ой, Вера, скорее помоги мне вытащить занозы, у меня их целый миллион в ладони.
Все сгрудились вокруг Прониной. Ее правая ладонь действительно была утыкана мелкими шипами аралии.
— Достаньте пинцет из сумки, — со стоном приказывала она так, будто сама уже не могла пошевелить ни одним пальцем.
За операцию взялся сам Колчанов. Он довольно быстро вытащил занозы.
— Теперь будешь знать, что в тайге нельзя быть беззаботным и опрометчиво хвататься за каждую ветку. Это не тротуар на московской улице. Здесь надо видеть все: и куда ступаешь, и на что опираешься, и за что берешься.
— Откуда я могла знать эту высокую грамоту! — вдруг рассердилась Пронина. — А если бы знали, то должны были предупредить… — Она разгневанно посмотрела на ребят, потом на Колчанова. — Ужасно горит рука, — снова простонала она.
— Да, погорит, — с подчеркнутым равнодушием пообещал Колчанов, — шипы аралии немного ядовиты… Иди за мной и старайся шагать мне в след, — сказал он и стал продираться сквозь кусты.
Заросли кустарника скоро кончились, и путники шли теперь по самому краю левобережного обрывчика, где росли лишь пырей да широколистное разнотравье. Слева шумел говорливый ключ. Над его извилистым затененным руслом почти сомкнулись кроны могучего разнолесья; в воздухе стоял смешанный гул шмелей и диких пчел, стрекот кузнечиков; по зарослям жасмина пестрыми лепестками порхали бабочки. Было еще не жарко, но с травы уже осыпались последние изумрудинки росы. Пронина больше не восторгалась картинами таежной глухомани, остальные тоже подавленно молчали: у ребят, да и у самого Колчанова испортилось настроение. Каждый чувствовал и понимал, что если и дальше так будет повторяться с Прониной, приятного в этом походе ждать нечего.
Часа через три они достигли кривуна, где оставались Пронина, Верка и Толпыга. Это была самая дальняя точка, куда доходил Колчанов весной, когда изучал нерестилища кеты.
На галечном откосе, круто огибаемом шумливой речушкой, решили сделать большой привал, чтобы отдохнуть как следует и пообедать.
Приятно освежиться холодной водой после трудного пути по цепким зарослям, когда солнце уже подходит к зениту и лучи его начинают припекать даже в лесу. Быстро разложив костер, ребята тотчас же сбросили с себя одежду и, пока варился обед, принялись плескаться в речушке. Попробовала зайти в воду и Пронина, но сейчас же выскочила.
— Как вы купаетесь, вода же ледяная! — крикнула она. — Шура, сейчас же вылезай, простудишься!
Но Шурка словно и не слышал ее слов: он надел ныряльную маску, взял в рот дыхательную трубку и стал сплывать по течению, уткнув лицо в воду. Его примеру последовали Владик и Гоша. Уносимые быстрым течением, они так и скрылись за поворотом. Минут через десять они вернулись по берегу пешком — посиневшие, возбужденные.
— До ямы доплыли, — говорил Шурка, клацая зубами, — метра три будет глубиной. Спугнули, кажется, большого тайменя, поднял целую тучу мусора. Жаль, ружья не было, вот бы подстрелить!
— Чем гоняться за тайменями, лучше бы поискал хирономид, — упрекнула его Пронина. — И вообще, Шура, поскольку ты теперь в моем распоряжении, я не разрешаю тебе купаться, когда ты вздумаешь.
Владик и Гоша, одевавшиеся рядом с Шуркой, искоса посмотрели на него и состроили ему рожи; он молча погрозил им кулаком и показал язык в сторону Прониной. Колчанов, наблюдавший всю эту сцену, улыбнулся, потом сказал серьезно:
— Положим, Надя, эта область тебе не подконтрольна, и в нее не следует вторгаться.
— А я бы полагала, Алексей Петрович, что в таких случаях старшим следует быть заодно, иначе они подрывают собственный авторитет…
Словом, Шурке стало особенно ясно, что предстоящие три дня ничего хорошего ему не обещают.
После обеда Колчанов со своими помощниками надели на себя рюкзаки, попрощались с остающимися и ходко зашагали по галечному берегу. Через минуту они скрылись в зарослях, а скоро в тишине леса потерялись и их голоса.
— А теперь приступим и мы к делу, — известила своих помощников Пронина. — Верочка, подай, пожалуйста, мою сумку. Шура, ты ружье зарядил? Оно должно быть все время заряженным и находиться при тебе на случай внезапного нападения зверя.
Шурка тихонько прыснул в кулак и ответил:
— Зверь в тайге первым никогда не нападает на человека, Надежда Михайловна. Он убегает…
— Ты мне будешь тут сказки рассказывать! — воскликнула Пронина. — А кто же разрывает охотников? Об этом во всех книгах про тайгу пишут и в газетах тоже иногда сообщают.
— Так это, Надежда Михайловна, на охоте бывает, — пояснил Шурка, — когда раненый зверь бросается на человека или когда медведица защищает своих детенышей…
— Все равно, раз я сказала, значит, должно быть сделано! — властно отрезала Пронина. — А теперь пошли, будем искать заиленные участки и брать пробы ила, — закончила она, поправляя войлочную шляпу так, чтобы она сидела чуть набекрень.
Шурка без энтузиазма выполнял сыпавшиеся на него распоряжения: посмотри в заливчике; переверни вот тот камень и посмотри, что под ним; забреди по этой отмели и прощупай, нет ли там ила; возьми пробу со дна вот в этом месте… Никогда еще Шурке день не казался таким длинным, как сегодня. Наконец солнце стало заметно клониться к западу, и Пронина объявила об окончании рабочего дня. Увы, для Шурки это совсем не был конец его печальной доли — команды и просьбы по-прежнему следовали одна за другой: «Шура, помоги мне перелезть через это бревно», «Шура, дай руку, а то я здесь не перешагну», «Шура, не уходи так далеко, я буду держаться за твое плечо», «Шура, что ты так спешишь? Я ужасно устала…»
Путь до Бурукана показался Толпыге бесконечным. Из-за этих «помоги», «не уходи», «дай руку» он прозевал великолепного глухаря-петуха, поднявшегося в пяти метрах впереди в ту самую минуту, когда он помогал Прониной перелезть через колодину, преградившую им путь. Как вскоре оказалось, глухарь этот был бы очень кстати!
Они вышли на берег Бурукана. Беда, которая ожидала их здесь, обнаружилась уже на устье Сысоевского ключа. Шурка решил взглянуть на хариусов, которых вчера вечером наловили ребята и пустили в садок. Каково было его удивление, когда он увидел, что садок наполовину завален галечником, а от хариусов остались две жалкие рыбешки.
— Ничего не понимаю, — бормотал Шурка, склонившись над опустевшим садком. — Не иначе как коршун или ворона потаскали рыбу… Вот дураки-то, не догадались прикрыть садок ветками.
Но в это время он услышал крики «барышень», ушедших к бивуаку. Шурка бегом бросился по берегу, держа ружье на изготовку. Издали он увидел, что на бивуаке не было палатки. «Украли», — с отчаянием подумал Шурка, догоняя Пронину и Верку, которые, по-видимому, боялись идти дальше.
— Ой, Шура, что же случилось? Где наша палатка? — вопила Пронина.
Шурка первым добежал до бивуака. Его глазам предстала довольно безрадостная картина: там, где стояла палатка, теперь лежали ворохи рванья, перемешанного с остатками сахара, муки, крупы. Шурка дважды обошел вокруг, постоял у обрывчика и угрюмо сказал подошедшим девушкам:
— Медведица с медвежатами побывала, один пестун, а другой нынешнего года. Они и хариусов сожрали…
— Пестун? — переспросила Пронина. — Что это за зверь, Шура?
— Медвежонок-двухлеток. Можно сказать, нянька у маленького. Ах, язви его, что натворили, а! — ругался Толпыга. — Все пошло прахом. Это же они совсем нас оголодили!
Отложив ружье и сбросив рюкзак, он принялся разбирать ворох рванья. Ему помогала Верка. Сначала они пытались осторожно ссыпать отдельно остатки соли, сахара, крупы, муки, но скоро убедились в бесполезности этого занятия — все продукты оказались до того перемешанными с песком, что разделить их не было никакой возможности. Удалось набрать в чистом виде лишь несколько горстей соли и с полкружки сахару. Весь запас продовольствия теперь составляли несколько консервных банок солянки, свежей капусты и борща, две банки тушеной говядины и несколько чудом уцелевших брикетов рисовой каши. Что касается палатки, то на ней нельзя было найти ни одного квадратного метра, где бы не оставили своих следов зубы и острые когти зверей. Учуяв съестное, медведи, по-видимому, сначала свалили палатку. Затем, в поисках доступа к продуктам, стали рвать полотнище. Так, по крайней мере, объяснил Шурка своим подопечным историю разгрома, устроенного их жилью милым медвежьим семейством.
Пронину это происшествие повергло в горькое уныние, если не сказать — в отчаяние. Она окончательно утратила недавнюю спесь и подавленная, молчаливая сидела на опрокинутой лодке.
Солнце скрылось за мохнатую макушку сопки, долина Бурукана налилась лиловыми сумерками, стала ощутима ночная прохлада. Шурка развел костер и теперь возился с обрывками палатки, стараясь выкроить подходящий кусок, чтобы соорудить хоть какой-нибудь полог для укрытия на ночь. Вскоре он с помощью Верки сложил палатку вдвое и перекинул эти лохмотья через перекладину, положенную на две метровые сошки, вбитые в землю возле костра.
— Как будем с ужином? — спросил он, ни к кому не обращаясь, когда управился со своими делами.
— Я, когда шла сюда, ужасно хотела есть, — апатично ответила Пронина, — а сейчас у меня все притупилось… Боже мой, зачем я поехала сюда?..
— Ничего, Надежда Михайловна, не унывайте, — утешал ее Шурка. — Живы будем — не помрем.
— Фу, как ты банально шутишь, — поморщилась Пронина.
Решили сварить рисовую кашу и вскипятить чай.
За ужином Пронина, откашливаясь от дыма, спросила Толпыгу:
— Что же мы теперь будем делать, Шура?
— Завтра утром наловлю хариусов, — как ни в чем не бывало ответил Шурка, — наварим ухи — соль у нас есть, позавтракаем и пойдем работать.
— Не-ет, я ни за что теперь не пойду в лес, — решительно возразила Пронина. — Вдруг встретимся с медвежьим семейством? Ты же сам говорил, что медведица, защищая детенышей, набрасывается на охотника. А откуда она знает, что мы не охотники и что не угрожаем ее детенышам?
— Как раз хорошо будет, если она встретится нам. Я ее убью, — сказал Толпыга. — Тогда, считай, мы на все время будем обеспечены мясом!
— Есть медвежатину? — изумилась Пронина. — Фу, о какой гадости ты говоришь! Это же все равно, что есть собаку.
— Не совсем так, Надежда Михайловна, — спокойно возразил Шурка. — Вы телятину любите? Медвежатина такая же вкусная…
— Хватит, не говори мне больше об этом, — капризно повысила голос Пронина.
— Тогда я пойду один в тайгу, может подстрелю медведицу.
— Нет, ты никуда не пойдешь от нас, — снова повысила голос Пронина. — Ты оставлен, чтобы охранять нас. Так будь добр, делай то, что тебе велено. Мы никуда больше не пойдем, пока не вернется сюда Алексей Петрович, — резко продолжала она. — А как только он вернется, мы уедем домой.
— Дело ваше, — безразличным тоном, но с глубокой обидой проговорил Шурка. — Я могу сидеть на этом берегу хоть месяц — тепло, вода рядом, хариусов можно ловить сколько хочешь… Ну вот что, давайте ложиться спать.
— Как?! И ты будешь спать? — Пронина сделала страшное лицо. — А звери! Они же сожрут нас!
Шурка и Пронина совершенно по-разному понимали обстановку, в которой находились. Верка в основном молчала, но время от времени поддакивала Прониной и этим прямо-таки бесила Шурку. Но он очень скоро понял, что лучше отмалчиваться даже тогда, когда страшно хотелось возразить.
Более трудных испытаний никогда еще не выпадало на долю Шурки, как в эти два дня, пока он в компании своих подопечных ожидал возвращения Колчанова. Душа его рвалась в тайгу: в двух шагах, где-то здесь бродит медведица, где-то пасется жирный глухарь — вот было бы жаркое! Но Шурку словно спеленали — он шагу не мог сделать без разрешения Прониной.
Наконец в назначенный срок со стороны Сысоевского ключа послышались голоса и на открытом галечном берегу показались бесконечно дорогие сейчас Шуркиному сердцу Колчанов, Владик и Гоша.
Усталые, немного изменившиеся с виду, они сразу же оживились, когда увидели бивуак, обещающий отдых и встречу с друзьями. Но их радость погасла, как только они заметили Пронину, со слезами на глазах бегущую навстречу. Она уронила голову на грудь Колчанова и горько разрыдалась. По-видимому, это была своего рода разрядка напряжения, страха и тревог, накопившихся в ее душе за эти трудные дни.
Выслушав сбивчивый рассказ Шурки о визите медвежьего семейства, Колчанов долго хмурил изогнутые вороньим крылом брови, а потом сказал недовольно:
— Черт бы их взял, а мы их пожалели, не стали стрелять! Они нам встретились сегодня утром… Но зато мы принесли пудового тайменя. Доставай, Владик, и давайте варить уху, да покруче…
На совете, состоявшемся за ужином, было решено завтра же утром вернуться на Чогор, чтобы запастись продуктами и в ближайшие дни снова приехать сюда — задача экспедиции не была выполнена еще и наполовину.
С наступлением сумерек небо заволокло тучами, а около полуночи начал моросить нудный обложной дождь. Девушек на ночь поместили в маленькую колчановскую палатку. Ребята и Колчанов прокоротали ночь под тряпьем, оставшимся от большой палатки. Дождь не прекратился и утром. На рассвете Колчанов принялся готовить мотобот. Наскоро перекусив остатками вчерашней ухи, экспедиция погрузилась в лодку, все укрылись остатками палатки и дождевиком, и мотобот понесся по Бурукану. Через три часа путники достигли Чогора.
20. Подводная находка
Едва Колчанов сошел с лодки на берег, как увидел знакомую фигуру на крылечке. Это был Матвей Вальгаев. Сутулясь под дождем, он неторопливо прошагал на берег, протянул руку Колчанову.
— Здравствуй, Алексей. — Скупая улыбка чуть осветила его румяное лицо. — Успешно съездил?
Слушая Колчанова, он помогал ребятам вытаскивать лодку, потом выгружать из нее мокрую палатку. Этот человек привык постоянно что-нибудь делать. Он и здесь не мог стоять в стороне.
Они вошли в дом. Пока Колчанов стаскивал с себя мокрую одежду, Вальгаев говорил:
— Вот, прислали помочь тебе в выборе места для закладки инкубаторов. И вообще продумать вместе с тобой, как все это лучше сделать.
Вальгаев сидел, по привычке широко расставив локти и навалившись широченной грудью на край стола. Глядя на него, Колчанов сказал:
— Я допускаю, что, может быть, первый блин и получится комом. Поэтому, думаю, надо закладывать не один, а два или три аппарата по миллиону икринок в каждом. Места позволяют. Нашел с дюжину сильных родников. Вот управлюсь тут с неотложными делами — и тогда махнем туда. Начнем с ребятами заготавливать лес и строить избушку на зиму. Ты-то сам поедешь с нами, Матвей?
— Обязательно! — воскликнул Вальгаев. — У меня к тебе командировка на целый месяц, а потом опять приеду на весь период закладки икры.
— Значит, на заводе больше не будешь закладывать?
— Нет. Григорий Афанасьевич велел перенести опыты к тебе.
— Да что ты говоришь! — воскликнул Колчанов. — Матвей, дружище, да мы же с тобой тут горы свернем!
— Попробуем…
…Дождь лил беспрерывно почти трое суток. Бригада вынуждена была коротать это время дома. Только Владик, Шурка и Гоша, страстно увлекшиеся подводным спортом, несмотря на холод, часами пропадали на озере, тренируясь в нырянии. Толпыга и Владик уже могли просиживать под водой до сорока секунд, только Гоша никак не мог выдержать больше полминуты.
На второй день после возвращения экспедиции, под вечер, Владик, Шурка и Гоша, мокрые, в одних трусах (только что из воды), прибежали в лабораторию Колчанова:
— Алексей Петрович, диковину нашли! — докладывал посиневший Владик. — Халку затонувшую нашли! А в ней полно сомов!
— Гро-ма-адная! — добавил Шурка. — Сомы прямо кишат в ней…
— Подождите, подождите, — добродушно посмеиваясь, остановил их Колчанов и оторвался от микроскопа. — Рассказывай ты, Владик. Да все по порядку…
Находившиеся тут же Абросимов, Пронина и Вальгаев окружили ребят.
— Ныряли мы, — снова заговорил Владик, стараясь быть спокойным и с трудом унимая дрожь. — Потом заметили, что там, где Бурукан вливается в озеро, тянется длинная полоса прозрачной воды. Хотя она и холоднее, чем рядом — озерная, но зато в ней лучше видно на дне. И вот мы заметили, что там что-то темнеет, вроде стены. Нырнули с Шуркой к этой стене и видим борт какого-то судна, весь облепленный ракушкой. Шурка пошел в одну сторону вдоль борта, а я — в другую. Метров через пять вижу — корма с будкой и правилом руля, какая-то бочка лежит рядом. А Шурка выплыл в носовую часть.
— Там целая бухта троса лежит, — вставил Толпыга.
— Потом мы вынырнули, набрали воздуха — и опять туда, — продолжал Владик. — И с нами Гоша. Спустились прямо на корму и решили исследовать, что внутри халки. Заглянули туда, а там как бревнами все дно устлано — сомы! Вот мы и прибежали сказать. Может, обловим, Алексей Петрович?
— Непременно! — воскликнул Колчанов. — Но что это за халка, как она очутилась здесь на дне? Не знаете, Петр Григорьевич?
— Припоминаю, — Абросимов потер лоб. — Это было не то в сорок третьем, не то в сорок четвертом, весной, когда на Бурукане заготавливали лес. Это халка леспромхоза, во время шторма бревнами пробило ей борт. А была она нагружена овсом и железными тросами. Я хорошо помню этот случай, на бюро райкома партии тогда обсуждался вопрос об этой аварии.
— Глубина большая? — спросил Колчанов Владика.
— Не очень. Метра четыре, не больше.
— Хорошо, ребята. Пока не тревожьте сомов. — Колчанов снова вернулся к микроскопу. — Сейчас уже поздно, завтра с утра займемся ими. А пока поставьте буек над тем местом.
Назавтра часам к десяти в небе стали появляться ярко-синие просветы. С каждой минутой их становилось все больше, пелена туч заметно редела, и вот прорвалось солнце, хлынуло благодатное тепло.
Ребята под руководством Петра Григорьевича в спешном порядке сшивали по высоте две ставные капроновые сети-трехстенки, каждая по пятьдесят метров длиной. Тем временем Колчанов, прихватив акваланг, ныряльную маску, ласты и кинокамеру, отправился с Вальгаевым и Прониной на лодке к буйку, оставленному вчера ребятами у места гибели халки. Закрепив за спиной акваланг и натянув маску и ласты, он в последний раз тщательно проверил чехол кинокамеры. Потом осторожно сполз с лодки в воду, помахал прощально Прониной и Вальгаеву и скрылся под водой.
— Нравится мне твой Алексей своей напористостью, — раздумчиво говорил Вальгаев Прониной, свесив голову над водой и следя за расплывающейся в глубине фигурой Колчанова. За эти дни Вальгаев и Пронина как-то очень хорошо сошлись и умели говорить откровенно обо всем.
— Почему мой?
— Ты мне, Надя, брось, — Вальгаев неумело подмигнул. — Я же знаю, что вы собираетесь пожениться. Ты же за этим и приехала сюда. Думаешь, не знаю?
Не был Вальгаев мастаком в тонкостях женской психологии, какая-то мужичья грубоватость сквозила в каждом его жесте и слове, когда случалось ему судить о любовных делах. Это ли или, возможно, грубоватая и честная прямота его слов, но что-то смутило Пронину и вместе с тем настроило ее на откровенный лад.
— Не будет у нас свадьбы, Матвей, — горестно сказала она, вздохнув. — Он другую девушку любит…
— Не знаю, как насчет другой девушки, а тебя он, это я хорошо знаю, любит. Может, за последнее время разлюбил — за это не ручаюсь. А хочешь, я тебе правду скажу, Надя? — Вальгаев с недобрым прищуром посмотрел на свою собеседницу.
Пронина как-то тревожно насторожилась, подозрительно покосилась на Вальгаева, спросила приглушенно:
— Что это за правда?
— А то, Надя, что ты его не любишь…
— Откуда ты это взял, Матвей?
— Так глаза-то у меня есть же, как
ты думаешь? Большую ошибку Алексей допустит, если он на тебе женится, — задумчиво продолжал он. — Намучается он с тобой, ох и намучается!
— Ты, Матвей, просто несешь бред, — зло проговорила Пронина. — Ты что, выпил сегодня?
— Немножко, за завтраком, по случаю плохой погоды, — улыбаясь, сознался Вальгаев. — Так, маленько, остаток коньяка был…
— Так ты что же, и Алеше внушал эти свои глупые догадки? — напустилась на него Пронина.
— Как тебе сказать? Конечно, не в такой форме, но говорил, не хочу врать…
— Ну и что же он ответил?
— Обещал по затылку мне съездить, — Вальгаев весело рассмеялся.
— Жаль, что только пообещал, — сдерживая улыбку, облегченно вздохнула Пронина. — Вот я непременно съезжу, если ты еще будешь совать нос в наши дела…
…Колчанов плыл под водой. Вода — а это был буруканский поток — оказалась довольно прозрачной, даже столб тени от лодки почти достигал дна. Но она была по-настоящему холодной.
Затонувшую халку он нашел сразу же, спускаясь вдоль немного наклоненной течением веревки: нижний ее конец оказался привязанным за правило руля. Видимость здесь была всего полтора — два метра, но и этого было достаточно. Колчанов жадно вглядывался в каждый мало-мальски различимый предмет; ему хотелось бы облазить все закоулки, заглянуть во все щели, но холодная вода заставляла торопиться.
Осторожно касаясь руками шершавой, в мелких ракушках палубы, он проплыл вокруг полусгнившей шкиперской будки и двинулся к трюму. Внутри халки было довольно сумрачно, но Колчанов сразу же разглядел прямые темные предметы, похожие на поленья, стесанные на конус, по метру — полтора длиной. Да, это сомы, угрюмые обитатели омутов. Но сколько же их здесь! Кажется, нет ни одного местечка, не занятого этими мудрыми степенными хищниками, осторожными и скрытными.
Образ жизни сома, как и большинства других рыб, остается пока что почти не изученным. Возможно, вскоре ихтиолог, вооруженный аквалангом, вторгнется в скрытый до сих пор от его глаз подводный мир и прочтет эту неразрезанную книгу захватывающих тайн природы.
С трепетом наблюдал Колчанов за поведением сомов, осторожно выглядывая из-за края кормовой палубы. За все время ни одна рыбина не сдвинулась с места, даже не пошевелилась. Только едва заметно открывались и закрывались их широкие пасти, да изредка у какой-нибудь из них пошевеливались прямые, вытянутые вперед былинки усов. Колчанов включил кинокамеру, нацелив ее на двух полутораметровых сомов, стоявших почти вплотную друг к другу рядом с ним. Сомы тревожно зашевелили усами, один слегка изогнулся, чуть сдвинулся с места и стал шире раскрывать пасть. Откуда-то из сумеречной мглы появился сравнительно небольшой сомик, проплыл над двумя стариками, направляясь на кинокамеру. Потом остановился, круто изогнулся и исчез из виду.
Стараясь по-прежнему держаться в своем укрытии, Колчанов двинулся вдоль правого борта халки. Время от времени он останавливался, включал кинокамеру. Тело его окончательно закоченело. Тогда он сильным движением ластов направился вертикально вверх и, словно поплавок, вынырнул из воды в двух метрах от лодки.
— Боже мой, а посинел-то весь! — воскликнула Пронина. — Ты же простудишься, Алеша!
— Совершенно сказочный мир! — восторженно кричал Колчанов, карабкаясь на корму лодки. Он сбросил маску, отстегнул акваланг и продолжал возбужденно кричать: — Рядом с сомами был, ближе, чем до вас! Сорок три сома насчитал. Настоящее чудо, братцы мои!
— Камера сработала? — равнодушно спросил Вальгаев.
— Сработать-то сработала, но света очень мало, боюсь, что ничего не выйдет на пленке. Нужно обязательно придумать какой-нибудь светильник…
— А чего ты будешь самодельничать? — берясь за весла, спросил Вальгаев. — Списался бы со специалистами, заплатил гроши и получил настоящий «Юпитер».
— Уже написал бате в Москву, — садясь за руль, говорил Колчанов. — Так разве это найдешь скоро?
Когда они вернулись на берег, здесь уже все было готово для лова сомов — четыре длинных шеста для «обвешивания» границ халки, ставная трехстенная сеть, сшитая и посаженная таким образом, чтобы ее полотнища хватило на всю глубину воды — от поверхности до дна. Погрузив снасти и ныряльные принадлежности в кунгас, бригада почти в полном составе во главе с Колчановым отправилась на лов.
Вот и буек. Пока Петр Григорьевич привязывал к нему кунгас, Владик, Шурка и Колчанов бросились в воду и принялись устанавливать шесты по углам халки. Вскоре эта работа была закончена. Теперь предстояло самое главное — окружить сеткой затонувшее судно так, чтобы нижняя подбора с грузилами плотно легла на самое дно, закрыв сомам выход из этого своеобразного сеточного вольера. Через десять минут сеть была выставлена и кольцо ее замкнулось. Проверять нижнюю подбору спустился Колчанов в акваланге. Доверить кому-нибудь Другому эту работу он опасался: достаточно малейшей неосторожности — и ныряльщик легко может запутаться в почти невидимой капроновой паутине. Он вернулся на поверхность минуты через три.
— Все в порядке, — сообщил он. — Грузила плотно лежат на дне. Теперь загоняйте кунгас внутрь квадрата, Петр Григорьевич, а мы вчетвером спустимся к сомам…
Ребята уже хотели было броситься в воду, но Колчанов остановил их.
— Стоп! Каждый возьмет в руку конец веревки, чтобы по нему вернуться в кунгас. Иначе можно уклониться в сторону и угодить в сеть. Ведь сомы так взмутят воду, что там ничего не будет видно.
Ныряльщики, вооруженные палками, один за другим скрылись под водой. Пока Колчанов спустился к халке, в ее трюме уже клубились тучи поднятого ила. То там, то тут вырисовывалась на секунду чья-нибудь расплывчатая фигура и снова исчезала.
Когда Колчанов достиг кормы, здесь тоже все было взбаламучено. Он угодил ногой на скользкую спину сома и инстинктивно ринулся было кверху, но потом овладел собой, опустился на дно халки и, ползая на четвереньках, на ощупь — вокруг стояли настоящие потемки — принялся баламутить воду палкой.

То и дело он чувствовал, как рядом взыгрывала вода, — сомы никак не хотели покидать своего убежища. Владик, Щурка и Гоша уже трижды выныривали, чтобы запастись воздухом, и вновь скрывались под водой, не выпуская из рук веревок, а Колчанов в своем акваланге все ползал внутри халки, стараясь как можно больше взмутить воду и этим заставить сомов покинуть их убежище. Велико же было его удивление, когда он, перевалив через борт, обнаружил, что сомы не ушли далеко от халки, а прячутся под ее бортами с внешней стороны. Ему пришлось подняться на поверхность, дождаться, когда вынырнут все ребята, и сообщить им об этом. Только после того как ныряльщики тщательно обшарили всю халку с внешней стороны и взбаламутили там песок и ил, сомов удалось наконец выдворить. Когда все поднялись наверх, то увидели, что муть поднялась до самой поверхности, балберы повсюду плясали и трепетали, будто живые, а иные и вовсе потонули.
Поднять сеть в кунгас, казалось, было самым простым делом. Но не тут-то было! Битый час бригада боролась с могучей силой, удерживающей сеть под водой. Сом — одна из самых сильных рыб. Изгибаясь, он как бы упирается о воду, и вытащить тогда даже одну рыбину — дело нелегкое. А тут их были десятки, и притом настоящих великанов, размером до полутора-двух метров. Когда последний конец сети с тремя сбившимися вместе большими сомами был поднят в кунгас, он был загружен до предела. Иззелена-черные скользкие рыбы копошились, не в силах выпутаться из прочной капроновой сети. Никто, даже Колчанов и Абросимов, не видели еще такого количества сомов.
Пристав к берегу и выгрузив сеть вместе с запутавшейся в ней рыбой, бригада затратила остаток дня на то, чтобы выбрать рыбу из сети. Когда взвесили последнего сома и Петр Григорьевич подсчитал общий вес, оказалось, что улов составил почти тонну.
— Да-а, — раздумчиво говорил Вальгаев Колчанову, когда рыба была помещена в ледник, — а я-то думал, откровенно скажу тебе, что эти маски и ласты — детская забава. Если так дело пойдет и впредь, то у этой «забавы» — большое рыбацкое будущее. Так же можно, например, выявлять и облавливать скопление такого рыбного мусора, как косатка и горчак!
— Ты как в воду глядел, Матвей, — шутливо ответил Колчанов. — Мы так и делаем в пределах озера Чогор и прилегающих к нему проток. За лето выловлено тонн пять сорной рыбы.
— Умная штука, — размышлял вслух Вальгаев.
21. Последнее испытание
В двадцатых числах августа работа московской экспедиции подходила к концу. Весь состав экспедиции совместно с бригадой-школой молодых рыбаков-рыбоводов занимался теперь промыслом и сборами на озере Чогор и в его окрестностях. Студенты и молодые рыбоводы так сдружились, что находились вместе не только дни, но и вечера — они стали как бы единым коллективом: выпускали вместе сатирическую газету «Амурский ерш», проводили соревнования по подводному спорту, плаванию, ватерполо, устраивали концерты. Неизменным их судьей и заводилой был Петр Григорьевич.
Однажды он пришел в лабораторию, шепнул Колчанову:
— Дело к вам есть, Алексей Петрович, — и знаком показал на дверь.
Они зашли в комнату Колчанова.
— Неудобно при Надежде Михайловне, — сказал Абросимов в комнате. — Вот, почитайте…
Он протянул Колчанову два исписанных листка бумаги.
— Что такое? — Колчанов присел к столу и стал читать:
— «Хирономида и Букашка (басня).
Послала мать Букашку на берег реки и наказала принести чего-нибудь поесть. Бежит Букашка, песенку напевает. И вдруг видит — Хирономида сидит в лужице. Сидит и прихорашивается: то прическу поправит, то шляпку примерит, то платьице прикинет и так и этак, а то начнет подмазывать брови и наставлять ресницы.
Никогда еще не видела Букашка хирономид. Остановилась и смотрит на незнакомку, как баран на новые ворота. Потом говорит: „Ах, какая ты нарядная да разнарядная, модная-премодная, чисто царевна-лебедь. Ты, наверное, из самой столицы пожаловала к нам сюда?“ — „Да, я из столицы приехала к вам, чтобы научить вас, темных, уму-разуму. А что тебе надобно от меня?“ — спрашивает Хирономида.
„Хочу моды твои перенять, чтобы быть похожей на тебя“, — отвечает Букашка. „Ну что ж, перенимай, — говорит Хирономида, — только за это ты будешь прислуживать мне — стирать белье, мыть за мной посуду, таскать мою сумочку, когда я пойду на рынок…“».
Басня была длинная, а вывод укладывался в две строчки:
Мораль сей басни — дать урок,
Кому-нибудь пойдет он впрок.
Закончив чтение, Колчанов усмехнулся, взъерошил смоляную шевелюру:
— Да-а… Кто писал?
— Как члену редколлегии скажу — Драпков и один из студентов.
— Что ж, придется печатать, — вздохнул Колчанов. — Басня правильная. Только… Э-э, да все равно, экспедиция подходит к концу, на работе Надежды Михайловны теперь не скажется…
На душе у Колчанова еще долго было нехорошо. Он подозревал, что инициатива сочинения басни исходит от Хлудкова. После объяснения Пронина больше ни слова не говорила Колчанову о Хлудкове. Но он сам видел, что отношения их испорчены, об этом можно было судить хотя бы по тому, что по возвращении «Кристалла» на Чогор Пронина попросила разрешения жить в доме биологического пункта. Ей отвели там маленькую комнатку, которую до того занимал Абросимов. Пронина поселила у себя и Верку Лобзякову, пользовалась ее услугами, из чего, собственно, и родилась теперь басня.
Что же касается отношений между самим Колчановым и Прониной, то они по-прежнему оставались невыясненными. У него попросту не хватало времени поговорить с ней по душам. За эти три беспокойных и напряженных летних месяца он смог хорошо ее узнать. Много было всяких наслоений на те первые светлые чувства, которые некогда захватили его всего. И все же ему ясно было, что все сказанное Хлудковым о Прониной за бутылкой коньяку было не чем иным, как наговором ревнивца. Время показало, что Пронина не так уж и домогается его внимания.
Теперь Колчанову было жаль ее — басня очень обнаженно адресовалась ей. Он даже подумал, не поговорить ли с ней, как-то подготовить ее.
Под вечер на стане появился Филимоныч на своей легонькой лодочке. Высокий, благообразный, он прошел к Колчанову в лабораторию, очень чинно поздоровался со всеми, неторопливо присел на предложенный табурет.
— Ну вот, Петрович, — сказал он, — тут, паря, такое дело. Тот городской хорек опять появился. Лодка, по всем видам, его. По ночам с напарником плавает с сеткой вдоль косы. Думаю, осетров и калужат промышляет, холера. А вот где прячется — никак не могу проследить. Вроде бы где-то пониже, должно в Потайной протоке. Ты бы выставил пост да припугнул его. А не то — гукнуть в рыбинспекцию.
— А мы теперь сами рыбинспекторы, Филимоныч, — весело сказал Колчанов. — Спасибо, что сообщил. Это он не иначе как приехал разведать обстановку к осеннему ходу кеты, а попутно и похищничать. Не-ет, упускать его на этот раз нельзя!
Проводив Филимоныча, Колчанов пригласил к себе Владика, Шурку Толпыгу и Гошу Драпкова. Все они имели удостоверения общественных инспекторов рыбоохраны.
— Дело есть, друзья. Кто трусит — сразу заявляй.
И он рассказал о браконьерах на Шаман-косе. Все трое с энтузиазмом изъявили готовность ехать ловить браконьеров.
— Тогда ужинайте, запасайтесь каждый карманным фонариком, потеплее одевайтесь — и двинемся. Ружья возьмем я и Толпыга. Задача понятна?
— Понятна, Алексей Петрович! — в один голос ответили ребята.
22. Встреча в Потайной протоне
Они выехали на закате солнца. Стояла та удивительная пора, когда краски в природе меняются почти на виду. Только что небо и сам воздух светились золотом, а уже по горизонту стал проявляться охристый налет; прошли минуты, и по всему озеру разлился оранжевый поток; над головой, в небе, все ярче стал проступать новый цвет — зеленовато-сапфировый, в нем постепенно растворялись оранжевые тона, рождая все новые, один другого удивительнее, оттенки. Когда моторка пересекла озеро и достигла Верхней протоки, солнце скрылось за волнистой туманной грядой левобережных сопок и небо у горизонта напоминало догорающий гигантский кострище. Амур, успокоившийся, отглянцованный, выглядел особенно могучим и привольным, а маленькая лодочка казалась затерявшейся букашкой.
Колчанов вел моторку под самым берегом. Здесь ее труднее было заметить под навесом тальников, да и звук мотора разносился не так сильно, как на открытом просторе.
Для отвода глаз браконьеров, которые могли следить за моторкой, решено было сделать вид, что ребята держат путь вверх по Амуру в одно из ближайших сел. А когда лодку уже не будет видно и слышно, они пристанут к Заячьему острову. Моторка достигла цели, когда почти стемнело. Отсветы вечернего неба лишь слегка озаряли Амур, а звезды, особенно на востоке, высыпали совсем по-ночному. Заячий был невелик, с полкилометра в длину и с полсотни метров в ширину. Прежде чем пристать, Колчанов обогнул его, чтобы убедиться, не прячутся ли у его берегов браконьеры. Лишь после этого моторка остановилась у косы в нижней части острова.
— Подождем здесь, — объявил Колчанов, — а потом пойдем на веслах к Шаман-косе. Костра не разводить, карманные фонарики не включать.
— Алексей Петрович, что мы будем делать с браконьерами, когда поймаем их? — спросил Гоша Драпков, запахивая плотнее полы ватника, — становилось прохладно.
— Свяжем, Гошенька, посадим в мешок и повезем в милицию, — с серьезным видом ответил Толпыга. Он любил подтрунивать над этим от природы робким, но добрейшим пареньком, которого все в бригаде любили за искренность, прямоту и именно за эту непосредственность, граничащую с наивностью.
— А если их будет много? — озабоченно спросил Гоша.
— Тогда половину перестреляем, а половину посадим в мешки, — тем же тоном отвечал Толпыга.
— Балабол ты, Шурка, — без обиды сказал Гоша. — Я ведь серьезно спрашиваю. В самом деле, вот нагоним их и скажем: «Мы представители рыбоохраны, давайте сюда ваши сети и улов». А они в ответ: «Пошли вы к чертям, мы вас знать не знаем!» Да еще если их окажется человек пять и с ружьями… Что тогда? Надо же знать?
— Гоша правильно говорит, — поддержал его Колчанов. — План таков, ребята. Во-первых, осветим их фонариками, чтобы они не видели, сколько нас в лодке. Во-вторых, потребуем, чтобы они ехали к Шаман-косе, к домику Филимоныча. Там легче будет с ними разговаривать — Филимоныча пригласим в свидетели. Уже на берегу потребуем сдать сети и улов и составим акт о нарушении правил рыболовства.
— А если они откажутся ехать к Шаман-косе? — допытывался Гоша. — И сети с уловом не отдадут? Тогда как?
— Тогда взять на абордаж и никаких гвоздей, — уже серьезно подсказал Шурка Толпыга. — А чтобы не ерепенились — дать в воздух выстрел из ружья.
— Возможно, что и на такую меру придется пойти, — согласился Колчанов. — Мы имеем дело с ворами, с расхитителями государственной собственности, и при задержании имеем право прибегнуть к насилию.
Гоша больше не задавал вопросов, но по всему видно было, что он переживает предстоящую встречу с браконьерами, встречу, как он убедился теперь, небезопасную. Ребята лежали на песке, еще хранившем дневное тепло. Темнота сгущалась, звездная россыпь на иссиня-черном небе стала густой, и в ней проглядывал мутноватый Млечный Путь. Чуткую тишину то и дело нарушали всплески рыб на песчаной отмели, да с лугов долетал одинокий, сиротливый вопль цапли, похожий на стон. Когда ребята уже начали дремать, Колчанов объявил «подъем». Лодку дружно столкнули на воду.
Греб Шурка Толпыга, почти беззвучно работая веслами. Разговаривали шепотом, то и дело настороженно вслушиваясь в чуткую тишину, разлитую над ночным Амуром.
Было начало первого часа ночи. Лодка уже поравнялась с Верхней протокой, за которой начиналась Шаман-коса, когда до слуха ребят долетело ровное жужжание руль-мотора. Звук доносился с низовий, со стороны домика бакенщика, но моторка, по-видимому, находилась где-то дальше.
— Будем приставать к берегу? — спросил Владик.
— Да, вот здесь, у костров, — ответил Колчанов. — Лодку вытащим подальше на берег, а сами спрячемся под кустами.
Так и сделали. Жужжание руль-мотора нарастало, становилось яснее, — кто-то шел против течения под самым берегом. Потом послышался лай. Это был знакомый Колчанову голос Верного — пес всегда облаивал лодки и катера, проходящие недалеко от берега мимо домика бакенщика. Когда, судя по звуку, лодка находилась от ребят метрах в восьмистах, Колчанов сказал:
— А звук мотора знакомый — японский «томоно»…
— В Средне-Амурском такого мотора ни у кого нет, — заметил Шурка Толпыга.
— Да, это не средне-амурская лодка, — подтвердил Владик.
— Я знаю, что нет, — Колчанов вглядывался в темноту. — Не иначе, это мой знакомый по Бурукану…
— Это тот, что поклевал вашу лодку, Алексей Петрович? — понимающе спросил Шурка.
— Похоже, что тот самый.
Судя по тому, как нарастал шум мотора, лодка шла на большой скорости. Наконец она показалась — темный ее силуэт стремительно скользил по воде недалеко от берега. Она так быстро пронеслась мимо засады, что с берега едва успели различить две человеческие фигуры на ней.
— Он! — решительно сказал Колчанов, когда моторка промчалась. — Его лодка…
— Может, устроим погоню? — храбро предложил Гоша Драпков.
— Скачи по берегу, Гоша! — под общий смех заторопил его Владик.
— Во-первых, нам не угнаться за ней, — ответил Колчанов, — во-вторых, у нас нет никакого повода преследовать ее: мало ли кто и по какой причине раскатывает ночью по Амуру.
Шум мотора вдруг заглох. Четверо в засаде затаили дыхание в надежде услышать голоса. Но голосов не было.
— Пристали к берегу, — прошептал Шурка.
— А может, сетку начали выметывать, — высказал предположение Гоша.
— Слышите, уключины гремят! — шепнул Владик. — Так и есть. Где будем перехватывать их, Алексей Петрович?
— Пусть немного сплывут. Перехватим против нашей засады.
Тоня у Шаман-косы издавна славилась у рыбаков как одна из самых богатых рыбой. Летом здесь хорошо ловились не только верхогляд, толстолоб и краснопер, но и осетры, а иной раз попадались и калужата весом в центнер — полтора. Осенью здесь пролегала главная дорога кеты. В иной год за одно притонение двухсотметровой сеткой рыбаки брали до сотни лососей. Но в связи с десятилетним запретом на лов осетровых тоня была закрыта, и лов сплавными сетями разрешался колхозным рыбакам лишь в кетовую путину.
…Уключины гремели долго: видимо, сетка была очень длинной. Судя по звукам, течение снесло браконьеров, и их говор доносился с Амура почти против места засады. Подождав еще минуту, Колчанов встал.
— Пора, — глухо проговорил он. Вчетвером они бесшумно, почти на руках, снесли лодку на воду. — Приготовить фонарики и зарядить ружья, — приказал Колчанов. — Владик сядет на нос, Шура — на среднее сиденье. Гоша — на заднее. Включать фонарики только по моей команде, когда подойдем метров на двадцать; светить прямо в тех, кто сидит в лодке. В случае необходимости будем брать лодку на абордаж. Как только подгоню моторку, первым хватается за их борт Владик, потом возьмусь я с кормы. Тем временем Шура и Гоша прыгают к ним в лодку. Но это на крайний случай. Предварительно попытаемся уладить все мирным путем.
Не успел Колчанов взяться за руль-мотор, как ребята были уже на своих местах. Мотор завелся с первого же оборота, и лодка стремительно понеслась по черной глади Амура. Колчанов взял курс наискось от берега, вниз по течению, чтобы отрезать браконьерам путь снизу. Моторка была уже где-нибудь в полукилометре от берега, когда Шурка Толпыга закричал:
— Уходят!
Колчанов тотчас же сбавил обороты мотора до самых малых, чтобы послушать. Да, браконьеры, по-видимому, уходили: знакомый шум восемнадцатисильного «томоно» заметно удалялся.
— Выходит, сеть-то бросили? — прокричал Владик.
— Самосплавом пустили, — пояснил Шурка.
— Она, наверное, замаскирована на плаву, — сказал Колчанов и добавил: — Будем преследовать!
Мотор взвыл с новой силой, и лодка помчалась в том направлении, куда удалялась браконьерская моторка. Время от времени Колчанов сбавлял обороты винта, чтобы прислушаться, куда уходят браконьеры, и снова лодка летела по черному Амуру, оставляя позади хорошо заметный белый шлейф. Но браконьеры находились в более выгодном положении: им не нужно было притормаживать бег своей лодки, их скрывала темнота, они располагали более сильным мотором, наконец, они могли незамеченными завернуть в любую протоку, которыми изобилует правобережная пойма Амура ниже Шаман-косы.
Минут десять продолжалась эта слепая погоня. Как и следовало ожидать, лодка браконьеров свернула с Амура в какую-то протоку. Об этом Колчанов догадался во время одной из остановок, услышав шум их мотора где-то справа в лугах. Все стали выслушивать направление звука. В это время они находились уже за Шаман-косой, примерно против Нижней протоки. Ребята великолепно ориентировались в этих местах, и теперь каждый напрягал слух, прослеживая путь браконьерской лодки. Можно было лишь примерно угадать район, где находятся беглецы. Потом шум сразу затих. Видимо, браконьеры пристали к берегу и заглушили мотор.
— Сбежали все-таки, дьяволы, — первым нарушил молчание Гоша Драпков.
— Рано еще говорить, — заметил Колчанов, продолжая напряженно вслушиваться в тишину ночи. Лодку несло течением и слегка покачивало.
— Алексей Петрович, а давайте пока найдем и выберем сеть, — предложил Шурка Толпыга. — Чего ей пропадать?!
— Конечно, надо ее найти, — согласился Колчанов. — Но раньше нужно кому-то двоим высадиться на берег, забраться в тальники и прослушивать все звуки, которые будут доноситься с лугов.
— Мы с Гошей высадимся, — предложил Владик.
— Добро, — Колчанов снова завел мотор.
Скоро лодка ткнулась носом в прибрежный песок. Владик с Гошей выпрыгнули на берег и тотчас столкнули лодку на воду.
— А как вы потом нас найдете? — озабоченно спросил Гоша.
— Когда услышите, что мы идем вдоль берега, просигнальте в нашу сторону фонариками.
На поиски плавной сети не ушло и четверти часа. Зная примерное положение тони, а стало быть, расстояние от так называемого «бегового» конца сети до берега, Колчанов вел моторку по этому месту крутыми зигзагами, Шурка Толпыга лежал в носу лодки и светил впереди карманным фонариком. Моторка шла против течения, навстречу сети, на самой малой скорости. Примерно против домика бакенщика Шурка увидел под лучом фонарика плывущее весло.
— Стоп, Алексей Петрович! — закричал он. — Кажется, поплавок.
В самом деле: весло посередине было перевязано веревкой. Это был конец сети. Шурка поднял весло и обнаружил, что веревка от него уходит в воду. Расторопно работая руками, он начал выбирать сеть в лодку. Колчанов светил фонариком; сверкнула серебром довольно крупная рыбина.
— Улов заберем? — спросил Шурка.
— Смотря что. Верхогляда бери.
Не прошло и минуты, как в лодке трепыхалась другая огромная рыбина — длинноносая, с темной зубчатой спиной.
— Осетр, Алексей Петрович! — в изумлении выдохнул Шурка. — И промысловых размеров…
— За борт, Шура, за борт, — усмехаясь, приказал Колчанов.
Видимо, нарочно Шурка так долго выпутывал из сети осетра — он любовался этой редкостной рыбиной, больше метра в длину. Освободив осетра, Шурка осторожно опустил его в воду и не пускал до тех пор, пока тот не рванулся из рук.
А потом снова верхогляды, два крупных сазана, калуга килограммов на сорок; ее с трудом затащили в лодку, чтобы выпутать из сети.
— Добрый был бы улов, — не без сожаления говорил Шурка, закончив выборку сети. — Да и сетка! Метров четыреста будет… Видать, дело у них поставлено на широкую ногу.
Было уже около двух часов ночи, когда моторка подошла к месту, где на берегу вели наблюдение Владик и Гоша.
— Ну, как у вас тут? — спрашивал вполголоса Колчанов, когда Владик и Гоша появились из темноты.
— По-моему, в направлении Потайной протоки что-то загремело, — шепотом отвечал Владик.
— А ведь и в самом деле они могут там прятаться, — вмешался Шурка. — Место глухое, заброшенное, никто туда никогда не заглядывает.
Колчанов долго не отвечал, вслушиваясь в тишину ночи.
— Да-а, — раздумчиво сказал он наконец, — но у нас нет никаких улик, если мы и найдем их там…
— А если у них окажется выловленная рыба? — спросил Владик. — Например, осетры?
— Если и есть рыба, они ее так запрячут при нашем появлении, что никакие ищейки не найдут, — возразил Колчанов. — Допустим, возьмут и утопят садок где-нибудь на самом глубоком месте.
— А я думаю так, Алексей Петрович, — продолжал стоять на своем Владик. — Давайте дождемся рассвета и проедем в Потайную протоку. Может быть, застанем их спящими, и они не успеют спрятать улов. А если спрячут, мы нарочно выложим на показ их сетку и будем наблюдать за их лицами. Так сказать, проделаем психологический эксперимент. Возможно, клюнут на эту приманку.
— Но выражение лица, Владик, это еще не улика, — улыбнулся Колчанов.
— А весло, Алексей Петрович! — вдруг воскликнул Шурка. — Весла же бывают парные. Может быть, второе весло у них в лодке лежит, а?
— Это уже косвенная улика, — согласился Колчанов. — Но ее легко могут отмести. Скажут — потеряли, и не придерешься. — Он помолчал, потом решительно произнес: — Сделаем так. Рассвета дожидаться не будем, поедем сейчас, но не на моторе, а на веслах. А когда будем подходить к концу протоки, перейдем на шесты, чтобы неслышно появиться перед ними. Садитесь в лодку.
Потайная протока начиналась неподалеку от Шаман-косы и, петляя по лугам среди зарослей тальника, уходила в направлении правобережных сопок. Километрах в двух от Амура она заканчивалась небольшим, но глубоким озерком. Потайной она называлась, по-видимому, потому, что в нескольких местах была настолько узкой, что макушки прибрежных тальников смыкались над ней. На всем протяжении глубина позволяла ходить по ней не только на моторке, но и на катере.
Пока наши друзья пробирались по ее лабиринту, короткая летняя ночь уже подходила к концу, темень заметно поредела, и по горизонту протянулась малиновая полоса утренней зари. До конца протоки оставалось совсем немного, когда за крутым поворотом все сразу вдруг увидели катер… Небольшой, кургузый, с надстройкой, выкрашенной в желтый цвет.
— Рыбинспекция… — прошептал Шурка.
— Да, катер Кондакова, — Колчанов вглядывался в утлое суденышко. — Но почему он здесь?..
— В засаде, наверное, ловит этих же браконьеров.
— Так они их уже поймали! — указал Толпыга. — Вон за катером лодка с руль-мотором…
Действительно, из-за кормы катера показалась знакомая Колчанову моторка, почти вся вытянутая на берег. Людей нигде не было видно.
— Спят, должно… — прошептал Гоша.
Лодка бесшумно подошла к корме катера, обогнула его, и все одновременно обнаружили треугольный дощатый ящик, плавающий на приколе.
— Садок, — шепнул Шурка. — Давайте посмотрим, что в нем…
Он первым ухватился за садок и, перевесившись через борт, открыл крышку.
— Полно осетров! — прошептал он. — Да крупные! Посмотрите, Алексей Петрович…
Лодку подогнали к берегу и стали советоваться, как поступить дальше. В конце концов решили: ребята пока останутся в лодке, а Колчанов пойдет на катер. Вскоре он уже взбирался по жиденькому трапу на борт катера. Открыв дверцу шкиперской рубки, он заглянул в кубрик, куда вела узенькая лесенка. Не сразу разглядел он обстановку кубрика — было еще довольно темно. Окликнул:
— Эй, в кубрике!
— Кто там? — послышался густой заспанный бас.
Только теперь Колчанов разглядел четырех спящих в кубрике — двоих на койках и двоих на полу. Под лесенкой сбоку — столик, на нем пустые бутылки. На полу заворочались.
— Кто там? — послышался тот же заспанный голос.
— Мне товарища Кондакова, — сказал Колчанов.
— Ну, я Кондаков, — ответил знакомый Колчанову голос. — Кто там? Что нужно?
— Это я, Колчанов, прошу подняться на палубу.
— Колчанов?.. — в голосе Кондакова послышалось изумление. — Ты какими судьбами тут?
Заспанный, помятый, Кондаков босиком поднялся в рубку. Припухшее лицо, запах винного перегара, пахнувший на Колчанова, — все говорило о том, что у Кондакова еще не прошел хмель. Как показалось Колчанову, на лице рыбинспектора отразился испуг, когда он увидел у берега колчановскую моторку и троих ребят в ней.
— A-а, понимаю, — вымученно усмехнулся он. — За браконьерами охотились? Опоздали, товарищи. Браконьеры уже у меня в руках, сцапал их ночью. Почти двое суток караулил в засаде подлецов… А ты, значит, тоже охотился за ними?
— Как видите, — коротко ответил Колчанов.
Он не стал больше объясняться с Кондаковым, потому что не верил ни одному его слову. Но у него не было прямых улик, чтобы доказать, что Кондаков действует заодно с браконьерами, и это его бесило. Он только спросил:
— Откуда браконьеры?
— Городские…
— Ну, раз поймали, нам больше здесь делать нечего…
Колчанов помолчал, в надежде, что Кондаков спросит про сеть. Но тот не спрашивал. Колчанов двинулся к сходням, когда услышал голос, донесшийся из кубрика:
— Товарищ рыбинспектор, а спросите их, они не поймали нашу сетку?
— Нет, не поймали, — с едва уловимой усмешкой ответил Колчанов.
Он был уверен: если передаст сетку Кондакову, она вновь вернется к браконьерам.
Колчанов ничего не сказал ребятам о своих подозрениях, но когда моторка уже скрылась за поворотом протоки, Шурка Толпыга сказал:
— Ни черта он их не ловил, этот пьяница. Он заодно с ними…
— Я тоже так думаю, — ответил Владик.
Колчанов не стал их переубеждать.
Прождав с минуту, Владик смущенно сказал:
— Алексей Петрович, а мы осетров-то выпустили…
— Ну-у?! — с нарочитым удивлением произнес Колчанов.
— Я опрокинул садок кверху дном, — широко улыбаясь, ответил Толпыга. — Шестом… пока вы там будили Кондакова.
— Молодцы, правильно сделали, пусть побесится Кондаков…
23. Изгнание
С минуты на минуту должно было взойти солнце, когда они вернулись на рыбацкий стан.
— Теперь — спать, — сказал Колчанов после того, как была растянута на вешалах сеть браконьеров.
Но спать ему не пришлось. Как он ни старался в своей комнате делать все неслышно, чтобы не разбудить Вальгаева и Петра Григорьевича, старый учитель все-таки проснулся.
— Доброе утро, Алексей Петрович, — прошептал он, едва Колчанов принялся за немудрящий завтрак, подогретый на керогазе. — Как успехи? Изловили браконьеров?
Выслушав рассказ о ночных приключениях, Абросимов сообщил:
— А у нас тут неприятная новость — Надежда Михайловна вчера вечером на глазах у ребят сорвала стенгазету и изорвала ее в клочки…
— Что-о?!
— Басня не понравилась…
Колчанов долго молчал, под смуглой глянцевитой кожей челюстей перекатывались желваки.
— Да-а, — наконец сказал он. — Вот это новость. Что же будем делать, Петр Григорьевич?
— Думаю, надо устроить бригадный товарищеский суд. Или на собрании обсудить, как по-вашему? — спросил Абросимов, озабоченно заглядывая в лицо молодого друга.
— Нужно подумать… Ну что за человек! — с горечью размышлял вслух Колчанов. — А как ребята реагировали?
— По-разному. Тамара Бельды расплакалась, Вера Лобзякова спряталась и весь вечер никому на глаза не показывалась, а Кешка Гейкер и студенты потребовали устроить товарищеский суд. Я с ними согласен. Поступок, прямо скажем, дикий для научного работника…
— Ну что, Алексей, — послышался из-под одеяла голос Вальгаева, — еще и теперь будешь уверять, что Пронина — ангел? — По-видимому, он давно проснулся и лишь прикидывался спящим. — Эта богиня красоты, кроме себя, никого и ничего не хочет знать, в том числе и тебя, Алексей. А если хочешь настоящую правду услышать, вот она: твоя Наденька — типичная хищница. Иначе разве она решилась бы на такую выходку?
Грубоватая вальгаевская прямота не удивила и не обидела Колчанова — он давно привык к крутому, но справедливому характеру своего коллеги. Сейчас же эта реплика помогла ему еще раз со всей беспощадностью взглянуть на свои отношения с Прониной. «В самом деле, разве не прав Вальгаев? — думал Колчанов, отхлебывая горячий чай. — Разве не эти качества наблюдал я с тех пор, как появилась она на Чогоре? Нет, пора положить конец всей этой трагикомедии. Я был поистине слеп с того дня, как встретился с ней, просто не хотел трезво видеть все то, что кроется за этой блестящей внешней оболочкой. Если я хочу остаться самим собой, пора прозреть, как это ни больно…»
— Ну что, Матвей Яковлевич, — обратился Абросимов к Вальгаеву, — дадим поспать Алексею Петровичу?
— А пусть себе спит, — флегматично ответил тот. — Я сейчас пойду покидаю спиннинг, авось подцеплю таймешку…
Третьего дня Вальгаев поймал на спиннинг неподалеку от устья Бурукана тайменя на десять с половиной килограммов, и теперь все время пропадал там, тщетно испытывая свое рыбацкое счастье.
Укрывшись с головой одеялом, Колчанов долго не мог уснуть. Он и так и этак перетасовывал мысли и не мог найти оправдания Прониной.
За этими тяжелыми раздумьями он не заметил, как стал дремать. Сквозь сон он услышал стук в дверь.
— Войдите, — он сердито сбросил с головы одеяло.
Это была Пронина.
— Я разбудила тебя, Алешенька? Доброе утро. Пора вставать, дружок, уже восьмой час.
Она присела на табурет, тяжело вздохнула.
— Ты, кажется, недоволен, что я тебя разбудила? — спросила она, ласково заглядывая ему в глаза.
— Я еще не спал, — Колчанов холодно посмотрел в лицо Прониной.
— Ты, конечно, зол, — вздохнула она. — Я тебя понимаю…
— Зачем ты это сделала, Надя? — спросил Колчанов.
— Алешенька, неужели ты не понимаешь, что это затея Хлудкова?
— Ты неправа, Надя, — Колчанов посмотрел на нее с укоризной. — Я, как член редколлегии, тоже был за опубликование басни.
— Это правда? — Пронина испуганно посмотрела на него.
— Да.
— Боже мой, а я-то считала тебя самым благородным и чистым человеком.
— Но сознайся хоть сама себе, Надежда. Разве в этой басне нет правды?
— Да, да! — Пронина закрыла лицо ладонями. — Раз Это говоришь ты, Алешенька, значит, правда, — почти шепотом проговорила она. — Почему же ты раньше не сказал мне о басне? Ведь тебя-то я поняла бы. Во мне столько плохого…
— Я рад, Надя, что ты это осознала. Но тебе придется выдержать самое серьезное испытание — предстать перед товарищеским судом.
— Перед судом?! Ни за что! — Пронина вскочила, нервно заходила по комнате. — Боже мой, позор, какой позор! — Она заплакала. — Алеша, прошу тебя, отправь меня сегодня отсюда, я уеду в Москву… Все равно, программа экспедиции закончена…
— Пойми, Надежда, я не могу этого сделать, не имею права.
Пронина зарыдала и убежала в свою комнату.
Товарищеский суд был назначен на вечер. Пронина до полудня не показывалась из своей комнаты. Колчанов занимался с бригадой на опытных нерестовиках, когда к нему туда прибежала Верка Лобзякова. Смущаясь, она сказала:
— Алексей Петрович, вас просит Надежда Михайловна…
— Что такое? С ней плохо? — Колчанов испуганно посмотрел на Верку.
— Она собирается уезжать. Просит, чтобы вы зашли к ней.
Он нашел Пронину в лаборатории, та упаковывала пробирки с образцами бентоса. Одетая по-дорожному, она с подчеркнуто деловым видом сказала:
— Алеша, вот я написала тебе заявление об освобождении меня от работы в экспедиции. Либо ты меня отправь, либо я уйду пешком отсюда.
— Но вечером — товарищеский суд, ты обязана явиться.
— Су-уд?! Ах, как страшно! И сколько лет мне дадут, как вы думаете, Алексей Петрович? — зло спросила она. — Плевала я на ваш суд! Так и передайте своим судьям.
— У меня такое впечатление, Надежда, что ты сошла с ума, — сказал Колчанов, спокойно наблюдая за Прониной.
— Да! Да! Я сошла с ума, скорее несите смирительную рубашку и отправьте меня в психиатрическую больницу!
Колчанов молча вышел из лаборатории. Он разыскал Абросимова в леднике за работой.
— Трудная ситуация, — сказал Петр Григорьевич, выслушав Колчанова. — Как глубоко может быть испорчен человек! Гоша, пригласи-ка сюда Владика, — попросил он Драпкова.
Вскоре в леднике появился Владик. Совет длился недолго. Все пришли к единодушному решению — не чинить препятствий выезду Прониной.
— Но из ребят никто не придет провожать ее, — решительно произнес Владик. — Пусть она почувствует, что это не просто отъезд, а изгнание.
— И еще, Алексей Петрович, — заметил старый учитель, — как хотите, а я от имени бригады напишу в профсоюзную организацию факультета о ее поступке. Пусть там ей сделают необходимое внушение. Может быть, хоть что-нибудь поймет.
— Что ж, это правильно, — согласился Колчанов.
Отвезти Пронину в Средне-Амурское снарядили Шурку Толпыгу. Толпыга подготовил моторку и пошел звать ее. В коридоре услышал за дверью плач Прониной и голос Колчанова и, остановившись, невольно прислушался.
— Не могу жить без тебя… Ты же сильный человек. Алеша, — долетали до него слова Прониной, произносимые сквозь плач. — Ну помоги! Помоги мне исправить мой характер, милый… Не смотри так на меня…
«Все, не состоялась моя поездка, — с огорчением подумал Шурка, возвращаясь на крылечко. — Ну и морока…» Он постоял здесь в раздумье и хотел уже идти к лодке, как дверь отворилась, и он увидел Колчанова с чемоданом в руке.
— Готова моторка?
— Все готово, Алексей Петрович.
— Помоги там Надежде Михайловне донести ящички с пробирками, — Колчанов направился к берегу.
Пронина тщательно вытирала глаза, когда в лаборатории появился Толпыга.
— Шура, мы успеем до вечера приехать в село? — как ни в чем не бывало спрашивала она.
— До вечера можно два раза съездить, — холодно-безразличным тоном отвечал Толпыга.
— А дождь нас не застанет в дороге?
— Я в небесной канцелярии не был, не знаю.
Пронина деланно рассмеялась, хотя в ответе Толпыги не было и намека на шутку.
Провожать ее никто не пришел. Верка Лобзякова — и та где-то спряталась.
— Ну, Алеша, до свидания. — Пронина встала против Колчанова, грустно глядя ему в глаза. Пожитки ее были уложены в лодке. — Надеюсь, ты все-таки будешь писать мне?
— Не знаю, — Колчанов задумчиво смотрел мимо нее, куда-то в даль лугов. — Хотя, конечно, мы еще многого не сказали друг другу. А впрочем, время покажет. До свидания, Надя, садись.
В глазах Прониной отражалась глубокая, совсем не наигранная тоска. Сердце Колчанова больно сжалось при виде ее грустно склоненной головы; на минуту он вдруг забыл обо всем неприятном, и Надя показалась ему близкой, родной, необходимой в жизни… Неужели он теряет ее навсегда?..
— Как мне тяжело уезжать от тебя, Алеша, — прошептала Пронина, и слезы снова заблестели на ее глазах. Но она тотчас же вытерла их и тихо сказала: — До свидания, Алешенька… Помоги мне сесть.
Он помог ей пройти, с силой оттолкнул моторку от берега и мрачно наблюдал за тем, как она уходит по инерции все дальше и дальше. Но вот мотор взревел, и легкая лодочка, набирая скорость, помчалась в направлении Нижней протоки. Пронина махала платочком, но с берега ей никто не отвечал, кроме Колчанова.
…По мере того как лодка уносилась от стана, Пронина испытывала все более тягостную тоску. Ничего подобного с ней никогда не бывало, даже когда она покидала Москву, отправляясь на Дальний Восток. Что бы это значило, почему так жестоко гложет ее душу это неизведанное, тревожное и вместе с тем светлое чувство? «Что это? Что со мной? — думала она, отрешенно глядя на привольный простор Амура и прислушиваясь к внутреннему голосу. — Что я наделала!..» Совершенно в новом свете вдруг увидела она все, что происходило в эти три месяца в ее жизни, и особенно события вчерашнего дня. «Признайся хоть самой себе, почему ты так
поступила?»
Пронина все время видела перед собой глаза Колчанова: черные, немного грустные, направленные, кажется, в самую ее душу. Они осуждали с тоской и болью, а ей так хотелось, чтобы они сияли в счастливой улыбке, как было когда-то.
Чувство раскаяния все сильнее терзало Пронину. С беспощадностью самого строгого судьи бичевала она себя буквально за все, в чем мало-мальски находила проявление эгоизма. И чем строже она судила себя, тем яснее видела благородство и красоту души Колчанова.
Где-то на половине пути у нее вдруг родилась мысль вернуться на Чогор. Вернуться, мужественно предстать перед товарищеским судом, честно покаяться перед этими светлыми и чистыми ребятами и начать жить по-новому… Хлудков? Пусть порадуется. Но зато как очистится ее совесть. Эта мысль все больше захватывала ее, она представлялась единственным спасением от терзающих душу угрызений совести. На душе посветлело. Решение принято — она возвращается на Чогор! Она повернулась к Толпыге, сделала знак, чтобы он приглушил мотор, шум которого мешал говорить. Толпыга убрал газ, и лодка резко сбавила бег.
— Шура, — Пронина мило и откровенно улыбалась, — ты только не смейся тому, что я тебе скажу: я хочу вернуться на Чогор. Я не могу уезжать, не извинившись перед бригадой…
— Не могу, Надежда Михайловна, — мрачно сказал Толпыга, отводя глаза в сторону.
— Почему?
— Петр Григорьевич не разрешил.
— Как не разрешил? — у Прониной от изумления поползли вверх тонкие дуги бровей.
— Да так, не разрешил — и все. Сказал, чтобы я не возвращался, если вы попросите повернуть назад…
Лицо Прониной как-то сразу поблекло.
— Боже мой… Старый учитель… — прошептала она и отвернулась от Толпыги.
Мотор взревел с новой силой, и лодка помчалась по шершавой ряби волн, поднимаемой легким верховым ветерком.
24. По приговору совести
Показалось Средне-Амурское — россыпь изб по горбатому увалу, подернутому прозрачной голубизной. Толпыга держал моторку посередине Амура, прочерчивая, словно по линейке, длинную полосу на воде. Вскоре он заметил под правым берегом встречный катер — голубой, со стройно вытянутым корпусом. «Не к нам ли разъездной идет?» — подумал он и повел моторку на сближение с катером. Катер тоже сменил свой курс и пошел навстречу.
Еще издали Шурка разглядел на палубе катера Лиду Гаркавую. Она стояла прямо, лицом навстречу ветру; за спиной, словно крылья, трепетали полы накидки; ветер зачесывал назад и трепал ее кудри. Она, должно быть, узнала колчановскую лодку и замахала рукой. Толпыга лихо, как истинный моряк, сделал крутой вираж позади катера и с ходу, точно подвел лодку к его правому борту, выключив мотор. Лида чуть сощуренными глазами внимательно посматривала на Пронину, пока расспрашивала Толпыгу, куда и зачем они едут. Потом спросила Пронину:
— А как ваши успехи? Нашли что-нибудь интересное на Чогоре?
— Нашла то, чего иной человек не находит за всю жизнь…
— Я вас не понимаю, Надежда Михайловна.
— А вы даже знаете меня по имени-отчеству? — Пронина посмотрела на Гаркавую, кокетливо склонив голову.
— Что же тут удивительного? Мы ведь учились с вами на одном факультете. Но вы, кажется, о чем-то умалчиваете? — почти вызывающе продолжала Гаркавая.
— О том, дорогая Лидия Сергеевна, — так кажется? — что называется «фиаско». Но сейчас не время и не место говорить об этом. Вы на Чогор?
— Да. Завтра мы проводим районный комсомольский актив, посвященный опыту работы молодежной бригады рыбаков-рыбоводов. На активе будет присутствовать вся бригада…
Пронина, сдерживая волнение, спросила:
— Скажите, а мне можно присутствовать?
Гаркавая с откровенным подозрением посмотрела в лицо Прониной. В вопросе ей послышалась ирония. Но нет, на лице Прониной не видно и тени иронии; наоборот, в глазах проглядывает глубокая печаль.
— Почему же нельзя? — просто сказала Гаркавая, продолжая откровенно изучать Пронину. — Вы же комсомолка?
— Была, но, кажется, давно выбыла механически, как это часто случается с комсомольцами моего возраста.
— Должно быть, не возраста, а характера, — с беспощадной прямотой сказала Гаркавая. — Это плохо…
— У меня теперь все плохо, Лидия Сергеевна… Но мы, кажется, задерживаем вас?
— Поезжайте, — сказала Лида. — А ты, Шура, дожидайся бригаду в селе.
Явившись утром в райком, Гаркавая была немало удивлена: здесь ее ожидала Пронина. Смешанное чувство охватило Лиду при этой новой встрече. То, что узнала она вчера на Чогоре, возмутило ее до глубины души. Нужна была поистине железная выдержка, чтобы оставаться сейчас спокойной.
— Вы ко мне? — Лида сухо поздоровалась.
— Да, если не оторву вас от дела. — Пронина была смущена, видимо незнакомая обстановка сковывала ее.
— У меня еще есть время до начала актива, проходите.
С завистью смотрела Пронина на Гаркавую. Сочетание строгости и девичьего обаяния, манера держаться свободно, но не развязно, проницательный, умный взгляд, наконец, строгое и вместе с тем нарядное ярко-синее платье, хорошо облегающее ее сильную фигуру, — все было в ней гармонично.
Немало усилий стоило Прониной владеть собой и не оказаться перед Гаркавой жалкой и беспомощной просительницей.
— Я хочу, чтобы вы правильно поняли меня, Лидия Сергеевна, — заговорила она.
— Постараюсь.
— Я буду откровенной и прошу вас ответить мне тем же.
— Принимаю ваше условие.
— Вы, разумеется, плохо думаете обо мне?
— Да, после того, что услышала о вас на Чогоре, — очень плохо.
— Вы правы. Я тоже так думаю о себе.
— Знали, что плохо делали, и все-таки делали?
— Да, я знала, что это бестактно, но не представляла всей глубины…
— Теперь представляете?
— О, дорогая Лидия Сергеевна! — воскликнула Пронина. — У меня нет слов, чтобы высказать все, что творится сейчас у меня в душе.
— Но чем я вам могу помочь?
— Вы неправильно поняли меня. Я шла к вам не за помощью. Я… Я…
Лида вся насторожилась, ожидая услышать что-то важное и интересное. Но Пронина никак не могла подобрать нужных слов. И вдруг на ее глазах блеснули слезы. Нет, это не были «дежурные» слезы. От наметанного взгляда комсомольского вожака не ускользнуло глубокое внутреннее смятение Прониной. Это обстоятельство как-то обезоруживало Гаркавую. Скорее девичьим чутьем, чем рассудком, понимала она, что в душе Прониной идет какой-то трудный и мучительный процесс, и оставаться безучастной к нему Лида не могла даже при всей своей неприязни к этой красавице. По-видимому, не так уж все было беспросветно в Прониной, как показалось Лиде вчера на Чогоре, когда Петр Григорьевич и Владик рассказывали ей о поведении «научницы». Не желание утешить, а тревога за трудную судьбу человека заставила сейчас Гаркавую ломать голову над тем, какое участие требуется от нее.
— Я, возможно, неправильно выразилась, Надежда Михайловна, — сказала она, глядя в глаза Прониной открыто и дружелюбно. — Я понимаю, что не мое утешение и не мое сочувствие нужны вам сейчас. Но чем я могу быть полезной вам?
— Я еще не все сказала вам, Лидия Сергеевна.
— Пожалуйста, слушаю.
— Вы любите Алексея Петровича?
— Да, он мне нравится, — просто сказала Лида, хотя вопроса этого не ожидала и не готовилась отвечать на него.
— Спасибо за честность и прямоту. Я завидую ясности вашего характера.
— Но я хочу разъяснить вам одно важное обстоятельство, — перебила ее Гаркавая. — Алексей Петрович не любит меня, и я это знаю.
— Он вам об этом сказал?
— Мы никогда не говорили с ним об этом. Мне и не нужен такой разговор. Но какое отношение это имеет к нашей беседе?
— Я и сама толком не знаю, — Пронина как-то болезненно улыбнулась и с откровенной беспомощностью посмотрела на Гаркавую. — Я просто испытывала потребность поговорить с вами…
Она умолкла, и Лида заметила на ее лице какую-то внутреннюю борьбу. По-видимому, Пронина о чем-то умалчивала. Лида попыталась помочь ей.
— Надежда Михайловна, — сказала она мягко, — вы первая поставили условие говорить откровенно. Так уж оставайтесь до конца верной этому условию.
— Вы, должно быть, думаете, что я веду какую-то хитроумную игру, Лидия Сергеевна?
— Нет. Я просто кое-чего недопонимаю в вас и объясняю это вашим волнением, возможно очень трудным душевным состоянием.
— Боже мой, какая вы умница, Лидия Сергеевна! — искренне воскликнула Пронина. — Мне удивительно легко с вами разговаривать. Мне хочется сказать вам все так откровенно, как никогда и никому я не говорила. Вы хорошо меня понимаете. Мне действительно сейчас ужасно тяжело. Каждый раз прежде, когда у меня бывали неприятности, я искала причину в ком-то другом, и всегда оправдывала себя. Возможно, этому способствовало то, что все ошибочно отождествляли внешнюю красоту с внутренней. Нечто подобное думала и я сама о себе. Мне только теперь ясно, сколько неприятностей доставляла я близким мне людям. Я всегда и всех обманывала, лицемерила. Это ужасно, что я вам скажу, но я не могу не сказать, раз уж решила пойти к вам. Первое время я не любила Алешу, а только делала вид, что люблю…
Пронина замолкла и, наклонив голову, нервно теребила платочек. Лида широко открытыми глазами смотрела на собеседницу.
— Но потом это чувство пришло ко мне, — продолжала Пронина, — чувство, которое теперь сжигает мне душу. И вот видите, когда все это случилось!.. — со стоном воскликнула она.
— Что же, вы хотите, чтобы я вас реабилитировала перед Колчановым?
— Я сама не знаю, чего я хочу, милая Лидия Сергеевна, — грустно произнесла Пронина. — Мне просто хотелось перед кем-нибудь раскрыть свою душу, облегчить свои страдания. В вас я увидела человека, который сможет меня понять.
— Вы считаете, что Колчанов разлюбил вас?
— Он мне не сказал об этом, — сдавленно ответила Пронина, — но я почти уверена, что разлюбил…
— Да-a. Тут уж вам, по-видимому, никто и ничем не сможет помочь, — холодно ответила Гаркавая.
— Да, да, я понимаю, — Пронина покачала головой. — Есть в жизни вещи, на которые действуют законы, совсем не подвластные нам. Я не знаю, что мне делать, но я думаю…
Ей не дали договорить: раздался стук в дверь, и на пороге появился Колчанов. На какую-то долю секунды на его лице мелькнула растерянность, но он тотчас же овладел собой, поздоровался, довольно официально спросил:
— Я не помешал?
— Заходи, заходи, Алексей Петрович, — с подчеркнутой деловитостью сказала Гаркавая, стрельнув глазами на Пронину. — Доклад готов?
— Подготовил тезисы. Не хочу говорить по-писаному…
— Добро, но ты все-таки дашь мне взглянуть на них? У меня тут есть кое-какие мыслишки.
Пока Гаркавая листала ученическую тетрадь с тезисами доклада, сам Колчанов присел на стул против Прониной, рассеянно посмотрел на нее и спросил вполголоса:
— Ну, как доехала?
— Спасибо, Алексей Петрович, хорошо.
— Ночевала в гостинице?
— Да.
Они умолкли. Побарабанив пальцами по столу, Колчанов все тем же безразличным голосом спросил:
— В Хабаровск когда?
Пронина помедлила с ответом, потом грустно посмотрела на Колчанова и сказала:
— Думаю завтра утренним пароходом, а возможно, сегодня вечером…
— Хорошо, согласна, — сказала между тем Гаркавая, пробежав тезисы. — Есть только одно замечание… — Лида замялась, мельком взглянула на Пронину. — Стоит ли вообще говорить на районном активе о поступке Надежды Михайловны? Тем более, что она не член нашей организации?
Колчанов исподлобья посмотрел на Пронину:
— На этом настаивает вся бригада…
— Я говорю к тому, — пояснила Лида, — что Надежда Михайловна сама уже достаточно строго осудила свой поступок.
— Но бригада настаивает, чтобы ее поступок был осужден перед лицом всего комсомольского актива! — пояснил Колчанов. Глаза его холодно сверкнули. — Об этом же говорят и члены экспедиции. Она подорвала в глазах бригады авторитет ученого!
— Алексей Петрович прав… — Пронина печально опустила глаза.
…Собрание актива началось в двенадцать часов. Пронина тоже присутствовала на нем. Внимательно слушая доклад Колчанова, она с окаменевшим сердцем ожидала момента, когда он заговорит о ее проступке. И вот настал он, этот ужасный момент.
— Без науки в наше время немыслим труд человека, — говорил Колчанов. — Человек науки сейчас вышел из привычной тиши лабораторий и стал рядом с человеком производства, чтобы совместно применить на практике положения науки. Наука давно перестала быть областью только избранных. Но есть люди, которые этого не понимают. Я хочу сказать о присутствующей здесь научной сотруднице университета товарище Прониной…
Зал пришел в движение.
— Я думаю, — пояснил Колчанов, — товарищ Пронина найдет в себе мужество выступить с этой трибуны и дать объяснение своему поступку, о котором я сейчас расскажу.
Рассказывал он не только о «поступке», — вся ее деятельность в экспедиции подвергалась беспощадному анализу. Слова: «барство», «высокомерие», «пренебрежение», «эгоизм» градом ударов, один другого больнее, сыпались на нее. Пронина готова была вскочить и выбежать из зала, но внутренний голос твердил: «Выдержи все, выдержи…» И она держалась. Горели уши, лицо, шея, она слышала, как стучит кровь в висках. «Казнь», как думала она, слушая речь Колчанова, закончилась рассказом о случае со стенгазетой.
Зал загудел, раздались возмущенные выкрики: «Исключить из комсомола!», «Товарищеский суд устроить!», «Пусть покажется!..»
Оглушенная всем происходящим, Пронина закрыла лицо руками. Был миг, когда она хотела крикнуть Колчанову, Гаркавой и всем этим орущим: «Подлецы!» и гордо выйти из зала. Но она тут же отмела эту мыслишку; разве она не предвидела такого оборота, решаясь на это трудное «чистилище»?
Во время перерыва, очень подавленная, она подошла к Гаркавой и спросила:
— Лидия Сергеевна, удобно ли мне будет первой выступать? Просто извиниться перед бригадой?
Лида помедлила с ответом:
— Знаете, Надежда Михайловна, неудобно открывать прения подобным выступлением. Я дам вам слово где-нибудь третьей или четвертой, хорошо?
Прониной предоставили слово третьей. Шорох поднялся в зале, когда она направилась к трибуне. Еще сильнее зашелестело по рядам, когда она поднялась над трибуной. А потом в зале все замерло.
— Дорогие товарищи, — она запнулась, помолчала, опустив глаза, повторила: — Дорогие товарищи! Я знаю, что вы ненавидите меня…
— Не ненавидим, а осуждаем, — крикнул кто-то из первых рядов.
— Ну хорошо, я знаю, что вы осуждаете меня за все, о чем здесь сообщил товарищ Колчанов. Все это правда. Но этого больше не будет! — она чуть повысила голос. — За то, что я сорвала стенгазету, я приношу глубокое извинение бригаде… А также и за свое отношение к бригаде… Этого никогда больше не повторится. Вот что я хотела сказать.
Растерянная, смущенная, она немного постояла молча у трибуны и пошла со сцены.
…В тот же вечер она уехала в Хабаровск, не повидавшись больше ни с Лидой, ни с Колчановым. Через три дня покинула Чогор экспедиция московских студентов.
25. Бивуак на Бурукане
К концу августа вода в Амуре поднялась настолько, что достигла плотины главного нерестовика. К этому времени мальки сазана стали уже достаточно резвыми, и Колчанов распорядился открыть водоспускное отверстие в плотине. Вода из нерестовика ушла, а с нею отправились на вольный выпас сазаны-производители и их потомство. Контрольный отлов на выходе показал, что в Амур было выпущено не менее двадцати пяти миллионов мальков.
Из-за сильной прибыли воды промысел рыбы в пойме Амура почти ничего не давал. Бригада, по совету Колчанова, решила перебазироваться на Бурукан и там вести лов тайменя и ленка. Заодно можно заняться закладкой аппаратов Вальгаева.
Бригада в полном составе погрузилась в лодки и на буксире мотобота и колчановской моторки отбыла по Бурукану.
Стояла ранняя пора бабьего лета. В лодке, которая шла на буксире мотобота, всю дорогу раздавались музыка и песни. Трио составляли: Владик — на аккордеоне, Гоша — на балалайке и Кешка Гейкер — на гитаре. Против Владика сидела Верка и не сводила с него откровенно влюбленного взгляда. Иногда она тихо подпевала чистым, задушевным голосом, в ее полузакрытых серовато-зеленых глазах теплилась легкая задумчивая грусть. Владик, весь поглощенный музыкой, лишь изредка встречался с ней взглядом, тогда глаза ее ласково щурились, улыбка трогала милое лицо.
Во второй половине дня лодочный караван достиг устья Сысоевского ключа. Вся бригада дотемна занималась оборудованием бивуака. Устраивались капитально и надолго. Программа предстоящих работ на Бурукане включала не только промысел «туводных» рыб — тайменя, ленка, хариуса и чебака, но и постройку садка-ловушки для нерестовой кеты на устье Сысоевского ключа, установку аппаратов Вальгаева и закладку в них икры на инкубацию. Кроме того, до подхода осенней кеты предстояло обловить Сысоевский ключ с тем, чтобы в нем меньше осталось хищников, истребляющих лососевую икру и малька лосося, и вообще закрыть им доступ из Бурукана. В дело пустили ставные трехстенные сетки — от крупноячеистой до мальковой. Ими заставили все ближайшие заливы и протоки, в двенадцати местах перегородили Сысоевский ключ, в том числе четырежды — мальковой сеткой на гольяна — конкурента в питании лососевой молоди. Переборкой сетей занимались преимущественно девушки. Ребята рубили зимовье — небольшую сторожевую избушку на зиму, а Сергей Тумали и Тереха помогали Колчанову вязать бревенчатые рамы для инкубаторов икры.
В один из дней Верка и Васена — они работали на пару — проверяли свою партию сеток. Верка, достаточно хорошо научившаяся перебирать сеть, стояла на корме лодки и искусно перехватывала балберы. Поднимая полотнище над водой, она быстро выпутывала рыбу. Васена сидела за веслами, придерживая лодку кормой к сетке. В лодке уже трепыхалось десятка два ленков, а до конца сетки оставалось метров пятнадцать, как вдруг сильный рывок выбил из Веркиных рук верхнюю подбору, а сама рыбачка чуть не вывалилась из лодки.
— Васена, подгребай! — завизжала Верка. — Подгребай скорее, там таймень!
Пока Васена вновь подвела корму лодки к сети, Верка наполовину перевесилась через корму и судорожно тянулась вперед руками, стараясь поймать пляшущие впереди балберы. Наконец ухватилась, закричала:
— Хватит, скорее ко мне!
У Васены еще не было рыбацкого опыта: работая поварихой, она редко бывала на промысле. Поэтому теперь с бойкостью завзятого рыбака командовала Верка. Вскоре они подобрались к рыбине, но она оказалась крупной и с такой силой тянула сеть под лодку, что вытащить ее у девушек не хватало сил.
— Что же будем делать, а? — Верка старалась вытереть о плечо пот, градом катившийся по лицу. Пестренькое ситцевое платьице на ней было мокро, глаза поблескивали озорно и лихорадочно. — Ага, придумала! — воскликнула она. — Ты держи у кормы, да смотри, крепко держи! А я переберусь на нос и там тоже перехвачу сеть.
Решение было правильное — рыба оказалась между кормой и носом лодки.
— Теперь слушай команду! — бойко распоряжалась Верка. — Как скажу «три», поднимаем сетку и кидаем рыбину в лодку.
Так и сделали. Но не рассчитали броска: лодка круто накренилась, и обе рыбачки полетели за борт. К счастью, воды оказалось по грудь, а течение было очень слабое, и вскоре Верка, а за ней и Васена с визгом и хохотом снова вскарабкались в лодку, в которой, запутанный в дель сетки, трепыхался таймень по меньшей мере в рост Верки. Боясь упустить диковинную добычу, девушки не стали выпутывать ее, а сняли всю сеть, сложили ее в лодку и изо всех сил налегли на весла. Вскоре они были на бивуаке, где вызвали настоящую сенсацию своим уловом. Когда взвесили тайменя, в нем оказалось тридцать два килограмма! В бригаде еще никому не выпадало такого рыбацкого счастья. До самого вечера Верка не чуяла под собой ног.
Этот ли эпизод, или рыбацкий «настрой», начавшийся когда-то раньше, дали толчок исподволь дремавшему хорошему честолюбию, и с этого дня Верка «заболела» тайменями. Она досаждала вопросами сначала Толпыге, а потом Колчанову относительно того, какие еще есть способы ловли тайменей.
С тех пор девушки, используя время между переборками сетей, исколесили в лодке не только все ближние протоки, но и отдаленные. Однако мест, сходных с тем, где был пойман таймень, оказалось только два. Туда немедленно были поставлены сети.
Как-то Шурка нашел на сучке мертвую белку-летягу. Этот зверек имеет перепонки между передними и задними лапками и может парить в воздухе, перепрыгивая с дерева на дерево. Видимо, зверек стал жертвой соболя, который по какой-то причине не успел съесть свою добычу. Толпыга снял шкурку с летяги и высушил ее. Верка, узнавшая, что ленок и таймень ловятся на чучело мыши или на мышь, потратила весь вечер и сшила из шкурки летяги два маленьких чучела, искусно заделав в них крупные крючки-тройники.
Васена не разделяла этих увлечений своей напарницы, но и не отговаривала. Это была трудолюбивая, тихая и скромная девушка с коренастой фигурой и грубоватым голосом. Она стеснялась своей внешности, всегда держалась как-то в тени, говорила тихо, но зато на работе была на редкость старательна и добросовестна. На нее в любом деле можно было положиться.
Верке не терпелось скорее испробовать новую снасть — чучело мыши. Она попросила Толпыгу показать, как это делается на практике. Толпыга вырубил длинные удилища, привязал к ним ссученные втрое капроновые лески с чучелом мыши на конце и повел рыбачек к устью Сысоевского ключа. Здесь был удобный для забрасывания лески поворот и быстрина. Шурка кидал леску как можно дальше вниз по течению, а потом медленно, так, чтобы чучело мыши чертило поверхность воды, подтягивал его против течения. Создавалось впечатление, будто по воде плывет мышь. Так обычно плавают полевки, обитающие по берегам таежных рек. Урок был недолгим, на «мышь» в этот раз ничего не поймали, но это нисколько не обескуражило Верку.
В тот день на переборке сетей Верка не переставала высматривать подходящие места для рыбалки на «мышь». Такое место было найдено на Бурукане, в километре выше бивуака. Идти туда на лодке против течения — дело нелегкое, но это не остановило Верку. Сдав двух тайменей и около полусотни ленков сеточного улова и наскоро перекусив, Верка заторопила Васену:
— Пойдем, Васеночка, скорее, вон ведь как рыба играет…
Через полчаса девушки были на облюбованном месте. Здесь стремнина Бурукана делала крутой изгиб влево, а затем уходила к обрывистому подножью правобережных скал. На самом острие поворота течение набило огромный залом — гору коряг и плавника. Из-под залома с грозным ревом вырывались клокочущие потоки, вода пучилась буграми. Потом она словно бы срывалась с места и бешено мчалась к подножью правобережных скал. С трудом преодолев течение, девушки привязали лодку к залому в том месте, где образовалась тихая заводь. Через минуту Верка расторопно карабкалась по коряжинам, сотрясаемым могучим потоком. Скоро она была на самой последней коряге, нависшей над бурным потоком. Васена побоялась лезть туда и выбрала себе место поближе к берегу.
И вот «мыши» уже чертят поверхность воды. Один бросок, другой, третий, а нет и признаков подхода рыбы. Так прошли полчаса, час. Минувшей зимой Верка не могла просидеть с «махалкой» у лунки и четверти часа, а сейчас ее фигура казалась окаменевшей, и только быстрые глаза следили за приманкой.
— Ничего мы, однако, не поймаем тут, — скучно говорила Васена, — больно коловерти большие. Разве мышь сможет по ним плавать!
— Подожди, Васена, подожди, — отвечала Верка, не спуская глаз с «мыши».
Просидев еще минут десять, Васена отправилась искать новое, более подходящее место. Вскоре Верка услышала истошный крик напарницы. Оглянувшись, она увидела Васену на берегу, там, где стремительный Бурукан образовал небольшой плес. В руках у Васены трепыхался довольно крупный ленок. Верка тотчас же выхватила свою снасть из воды, кинулась по корягам на берег и бегом — к Васене. Лишь мельком глянув на ленка, она тут же рядом стала забрасывать свою удочку. Не успела Васена снять с крючка рыбу, как Верка рывком потянула к себе удилище. У конца лески вода взыграла, и там отчаянно забултыхалась какая-то крупная рыбина. Попытка Верки выкинуть ее из воды не увенчалась успехом — удилище согнулось в дугу, а рыбина с такой силой рванулась в сторону, что едва не выхватила удилище из Веркиных рук. Тогда девушка перекинула удилище на плечо и бегом бросилась прочь от берега. Она не видела, что произошло сзади, но Васена успела разглядеть, как у самого галечника метровый таймень перевернулся на спину, блеснул белым брюхом и, оставляя огромный бурун, в мгновение ока исчез из виду. Верка чуть было не упала. Потом в отчаянии бросила оземь удилище и заплакала. Возможно, помогли ее слезы: через четверть часа она вытащила на берег ничуть не меньшего тайменя. Говорят, хищная рыба идет на всплеск. Вскоре выхватила и Васена килограммового ленка. Потом покрупнее взялся ленок на Веркину удочку. На этом рыбацкий триумф девушек оборвался. Они терпеливо кидали удочки, но, как говорят рыбаки, даже ни одного «подхода» не было.
— Давай разойдемся — ты туда, а я сюда, — предложила Верка.
Васена отошла метров на тридцать вниз по течению, поближе к залому, а Верка примерно на столько же подалась в противоположную сторону. На третьем же броске Верке попался очень крупный ленок. Не успела она посадить его на кукан, как опять услышала крик Васены.
— Скорее! Верочка, скорее! — повторяла та, стараясь удержать удилище в руках.
Судя по тому, какие коловерти ходили на конце лески, Васене попалась редкостная добыча. Вцепившись в удилище рядом с Васеной, Верка удивилась: как это ее напарница одна могла сдержать такую силищу?
— Подожди, подожди, Васена, — стараясь отдышаться, говорила она. — Давай подумаем, как лучше сделать… Пусть она попрыгает еще…
Потом они долго сидели на галечнике, отдыхая и любуясь своей добычей. Красивая и могучая рыба — таймень. У него иззелена-черная спина, белое брюхо, а туловище брусковатое, немного заостренное к голове. К хвосту оно оканчивается мощным и энергичным обрубком; хвост широкий, красноватый. Таймень — представитель лососевых, но он постоянно живет в горных речках с холодной и прозрачной водой и только на зиму уходит в Амур. Подобно щуке, он всю зиму хищничает, поедая главным образом рыбью молодь. В горно-таежных реках таймень встречается довольно часто, но из-за обилия в реке коряг поймать его почти ничем нельзя, кроме как на блесну или приманку.
Посадив тайменя на кукан, девушки еще часа полтора рыбачили, но попадались им только ленки. Два крупных тайменя и свыше трех десятков ленков — таков был результат рыбалки на эту нехитрую, но «добычливую», как говорят рыбаки, снасть — чучело мыши.
На бивуак девушки возвращались в самом хорошем расположении духа. Судя по всему, Васена, подобно Верке, тоже «заболела» тайменями.
Общая страсть к какому-либо делу сближает людей, вызывает их на самые откровенные разговоры. Верка и Васена, хотя и учились в одном классе и знали друг друга с самого детства, но никогда не были в дружеских отношениях — мешали слишком разные характеры. Только здесь, на Бурукане, они стали обнаруживать все больше общих интересов, а сегодня, после столь удачливой рыбалки, возвращались истинными подругами. Может, поэтому Васена и решилась открыть свою глубочайшую душевную тайну.
День был по-осеннему ясный и холодный. Васена, как всегда, сидела на веслах, Верка рулила. Но грести почти не нужно было — течение само довольно быстро несло лодку.
— Вера, я тебе открою одну тайну, — сказала Васена после того, как воспоминания о подробностях борьбы с тайменем были исчерпаны. — Только дай мне слово, что никому не скажешь…
— Честное комсомольское, не скажу, — без особой уверенности протараторила Верка, и в быстрых ее глазах засверкало любопытство.
— Тогда слушай, Вера, — тихо и нерешительно продолжала Васена. — Ты любишь Владика?
— Ой, Васеночка, я так его люблю, так люблю, — с жаром заговорила Верка, — что для меня на всем белом свете нет милее и дороже человека!
— Я тоже люблю одного человека…
— Ну-у?! Васеночка, кого?
— Шуру… — тихо сказала Васена.
— Толпыгу?..
— Его.
Верка долго молчала и широко открытыми глазами смотрела на подругу. Потом сказала:
— А что, он ведь тоже хороший. Грубоватый только маленько.
— Я и за это его люблю…
— А он знает?
— Ой, что ты! Я никогда не скажу ему, — со страхом проговорила Васена.
— А почему, Васеночка?
— Боюсь, возненавидит он меня. А так мне хорошо-хорошо, когда он ничего не знает и не подозревает, а я сижу неподалеку от него или рядом и всей душой ласкаю его. А когда он со мной разговаривает или пошутит, я тогда и вовсе чувствую себя самой счастливой. Только, Вера, не вздумай кому-нибудь сказать…
Но Верку, видимо, недаром в свое время окрестил кто-то кличкой «От черта шмат». Вскоре она придумала хитроумную ситуацию, которая прояснила отношения Васены и Шурки.
26. Веркин триумф
С той поры не проходило дня, чтобы девушки не привозили на бивуак двух — трех крупных тайменей и нескольких ленков, пойманных на «мышь». Трудно сказать, у кого теперь было больше рыбацкого азарта — у Верки или у Васены. Тайменями «заразились» и Тамара Вельды с Лизуткой Калинкиной, хотя такого успеха они пока не имели.
В дни наибольшего рыбацкого триумфа Верки и Васены бригада закончила строительство зимовья. На прибрежном обрывчике среди могучих старых тополей выросла просторная охотничья избушка. Неотесанные бревна, зеленые пряди мха в пазах, крытая берестой крыша и три подслеповатых окна без наличников придавали ей довольно экзотический вид. Пол и потолок были настланы из расколотых бревен, из них же поставили и перегородки, разделившие избушку на кухню-прихожую, лабораторию и спальню.
Ребята, строившие под руководством Петра Григорьевича избушку, с нетерпением ожидали завершения работ — Веркины и Васенины таймени не давали им покоя ни днем, ни ночью. Ведь за это время Шурка Толпыга дважды отвозил на Чогор в ледник по полной лодке превосходной рыбы, пойманной одними девушками, а больше — Веркой и Васеной.
Так стихийно возникло состязание между девушками и ребятами: кто больше поймает тайменей. Этому предшествовала форменная охота на полевок и летяг. Кроме того, по инициативе Шурки Толпыги ребята наделали себе еще и блесен из консервных банок, одна искуснее другой.
…Бурукан! Поистине это нехоженая целина среди могучей и удивительно колоритной дальневосточной природы. Если не считать лесозаготовителей, которые работали здесь около двадцати лет назад, он был от века необитаем. Подобно другим таежным рекам, несет он свои холодные прозрачные воды в Амур, собирая их в западных отрогах Центрального Сихотэ-Алиня. Вода — родина всего живого. Не потому ли так льнет к ней все многообразное население тайги — пернатые и четвероногие? Птицы вьют гнезда и выводят птенцов в прибрежных зарослях; здесь же в дуплах старых деревьев нашли себе приют белка, бурундук, соболь, куница, колонок, летяга; в глухом буреломе укладывается на зимнюю спячку медведь; в кедраче и дубняках пасутся стада диких кабанов. А по вечерам, когда сумерки окутают таежную глухомань, на галечники речки или к светлоструйным ключам выходят на водопой осторожные изюбры, косули и чуткая, стремительная, как птица, кабарожка.
Можно найти некоторую аналогию в жизни обитателей тайги и водной среды, в их характере, в том, как они приспособились к окружающим условиям. Если маленький и шустрый гольян, обитающий в заводях и протоках, напоминает бурундука, чебачок — колонка, а хариус своей красотой, осторожностью и стремительностью — соболя, то ленка можно сравнить с вездесущей росомахой, а тайменя по характеру — с медведем. Таймень — хозяин таежных рек. Он не имеет себе здесь равных или достойных соперников в могуществе и способностях добывать пропитание. Он охотится не только за всеми рыбами, обитающими в таежной реке, но не прочь воспользоваться и зазевавшейся птицей — уткой, аляпкой или трясогузкой, подкараулить переплывающих речку мышей, белку или даже колонка. Вот почему он, может быть, так самоуверенно ведет себя, а промысел его там, где он водится в изрядных количествах, — поистине увлекательнейшее занятие.
И то, что Верка, пусть случайно, первая открыла для себя, а потом и для всей бригады этот чудесный промысел, несомненно будет записано летописцем Гошей Драпковым как блистательная победа девушки, потому что до подхода первых гонцов кеты к Сысоевскому ключу, — а это было в первой декаде сентября, — бригада отправила на Чогор около ста центнеров ценнейшей рыбы, выполнив почти полтора месячных плана.
Когда в окрестностях бивуака крупные таймени перестали попадаться, молодые рыбаки на мотоботе стали забираться на двадцать — тридцать километров вверх по Бурукану, открывая все новые и новые скопления ленка и тайменя.
Однажды Верка и Владик рыбачили в устье какого-то безымянного ключа километрах в двадцати от бивуака. Остальные удильщики поразбрелись окрест — кто вверх по ключу, кто переехал на ту сторону Бурукана. До этого Верка все просила Владика рассказать что-нибудь интересное: она любила слушать его рассказы, почерпнутые преимущественно из книг, с них-то, собственно, и началась их дружба, а потом и любовь. Убедившись, однако, что поблизости никого нет, Верка, как бы между прочим, спросила:
— Владик, скажи, пожалуйста, что за человек Шурка Толпыга? Я вроде давным-давно его знаю, а никак не могу понять его характера…
— Шурка-то? — Владик осторожно вел против течения блесну, не спуская с нее глаз. — Это очень хороший и действительно своеобразный парень. По-моему, он в будущем станет отличным охотоведом или рыбоводом. Ведь ты же знаешь, он с детства бродит с ружьем по тайге или пропадает на рыбалке. Есть у нас такие люди — «ушибленные» тайгой. Я думаю, что никто у нас в бригаде так превосходно не знает тайги, вообще нашей природы, как он, даже лучше, наверное, чем Петр Григорьевич. Правда, он немного молчалив, немного грубоват, но очень хороший парень. Культуры ему еще не хватает, а так он очень любознателен…
— А скажи, Владик, он кого-нибудь любит? — тем же наивнейшим голосом спрашивала Верка. — Я это спрашиваю потому, что никогда не видела его ни с одной девушкой. И потом, он вроде бы смелый, а начнет кто из девчат шутить с ним, сразу краснеет и робеет…
— Вот уж чего не знаю, того не знаю.
— Как же это ты так, Владик: комсорг, а не знаешь? — обратила свой хитроумный вопрос в шутку Верка. — Неужели он тебе никогда ничего не говорил? Вы же друзья.
— Несешь ты, Верка, какую-то ахинею.
— А он Васену не любит, не знаешь? — заговорщически спросила Верка.
— Но откуда я знаю? Что ты пристала ко мне с этими вопросами?
— Владик, не обижайся. Я не для праздного любопытства спрашиваю, — честно сказала Верка, переходя на полушепот. — Я хочу открыть тебе, как комсоргу бригады, один секрет: Васена ужасно влюблена в Шурку. Она вся исстрадалась по нему. Только ты смотри, ни слова никому об этом! Васена призналась мне в этом под большим секретом, а я обещала ей никому не говорить…
— Так зачем же сказала мне?
— А затем, Владик, что ты единственный, от которого у меня нет никаких секретов.
Но Владик, по-видимому, не слышал этих слов — у него взялась на блесну какая-то рыба. Он ловко вывел ее к берегу, а потом сильным рывком выкинул на галечник. Это оказался ленок. Посадив его на кукан, Владик снова забросил удочку и сказал, словно раздумывая вслух:
— А между прочим, по-моему, Шурка тоже неравнодушен к Васене… Я это приметил еще зимой, когда мы с ним вместе дежурили однажды по кухне. Он так усердствовал, помогая Васене, что мне это показалось подозрительным…
— Владечка, миленький, — Верка подошла к Владику, бесцеремонно обняла его за шею и громко чмокнула в щеку. — Ну сделай доброе дело, выведай у него — любит он Васену или нет? А? Мне жалко Васену, она же такая славная девушка. Сделаешь? — Она ласково посмотрела ему в глаза.
— Ну ладно, Вера, — Владик осторожно отстранил ее. — Иди рыбачь, а то как бы кто не нагрянул…
После этого разговора Верка не давала покоя Владику, все допытывалась — беседовал ли он с Шуркой. Наконец через два дня Владик пригласил Верку пройтись на Сысоевский ключ и там сообщил о своем разговоре с Шуркой.
— И что же ты теперь будешь делать, хитрая сводня? — спросил он, ехидно улыбаясь.
— Я и сама не знаю, Владик, — со вздохом сказала Верка и очень естественно пригорюнилась.
Пожалуй, даже самый искусный психолог не догадался бы сейчас, глядя на Верку, что у нее давно уже готов свой план. Если и создавалась видимость, что она ломает над чем-то голову, то это были поиски способа: как втянуть Владика в разработанную ею «операцию» и как заставить его играть в этом деле главную роль.
— Владечка, а ты хочешь, чтобы Шурка и Васена стали такими же друзьями, как и мы? — совершенно невинным тоном спросила она.
— Хм… Что ж, это была бы ладная пара, — согласился он, беспечно бросая камешки в воду. — Оба они настоящие комсомольцы, скромные, честные и трудолюбивые.
И Верка пошла в подготовленную ею атаку — она честно раскрыла Владику свой хитроумный план.
А вскоре представился великолепный случай для претворения этого плана в жизнь.
Было воскресенье. После завтрака ребята разбрелись кто куда; Колчанов с Петром Григорьевичем уехали на Чогор — туда должен был прийти катер за рыбой и подъехать Вальгаев, чтобы участвовать в закладке икры в инкубаторы.
У Васены было свободное время. Она сидела в лаборатории за своим любимым занятием — у микроскопа. С недавних пор она пристрастилась к энтомологии, прочитав несколько книжек, которые были оставлены Прониной. Теперь она не переставала собирать всяких жучков, букашек и прочих насекомых и подолгу рассматривала их под микроскопом.
Только Верка была занята по горло. Она спрашивала, кто куда идет, советовала, где можно полюбоваться чем-нибудь диковинным — старой елью, коловертью на Бурукане, или указывала, в каком направлении идти, и говорила, что видела там много дикого винограда и лимонника. Ей нужно было, чтобы на бивуаке никого не осталось, кроме нее, Васены, Владика и Шурки Толпыги. И когда она увидела, что Шурка тоже собирается куда-то с ружьем, она всплеснула руками и воскликнула:
— Шурка, ты посмотри-ка на себя, какой ты ужасно небритый! Так тебя ни одна девушка ни в жизнь не полюбит. И как тебе не стыдно!
Толпыга смутился, провел ладонью по щекам и с удивительной покорностью согласился, что он действительно оброс. Наверняка Шурке было далеко не безразлично — полюбит его девушка или нет.
Когда к нему в палатку пришел Владик (все ребята жили в общей большой палатке), Толпыга уже наводил бритву на ремне.
— А ты чего здесь собрался бриться? — спросил Владик. — Пойдем в комнату Алексея Петровича, там зеркало хорошее и стулья есть. Кстати, я побрею тебя, а ты — меня.
Вскоре Владик мылил подбородок Толпыги и говорил:
— У тебя борода тоже жесткая, как у меня. Мне бриться — прямо пытка.
— На хорошей почве — хорошая растительность, — шутил Толпыга, подставляя подбородок под помазок и выпячивая острый, смуглый кадык.
Когда одна щека уже была выбрита, Владик вдруг спросил:
— Вот ты, Шурка, говоришь, что тебе нравится Васена. Я тоже по уши влюбился в Веру. А за что тебе нравится Васена?
— Ну как — за что? — удивился Шурка. — За красоту. — Он помолчал, потом, пока Владик вытирал бритву, скороговоркой объяснил: — Понимаешь, она мне нравилась с самого детства. Такая тихая, скромная и простая. А очень умная девушка. Понимаешь? — слово «понимаешь» он повторял обычно тогда, когда ему трудно было что-то объяснить.
— А ты говорил ей об этом? — с укоризной спросил Владик.
— Не умею я, понимаешь. — Шурка сокрушенно вздохнул. — Вот иной раз думаю: пойду, отзову прогуляться и скажу, а когда до дела доходит, у меня начинают, понимаешь, поджилки дрожать.
Владик рассмеялся:
— Видно, плохо любишь, если тянешь. Гляди, кто-нибудь уведет ее у тебя из-под носа.
— Да? Надо, понимаешь, что-то делать, — покорно согласился Шурка. Дождавшись, пока Владик выбрил ему подбородок, он усмехнулся, сказал: — Знаешь, чего я боюсь? Выслушает, посмеется и даст от ворот поворот. Вот будет обидно. А мне больше никого не надо…
Потом он брил Владика, прикусывая нижнюю губу и посапывая. Когда дело было закончено, Владик предложил:
— Отнеси зеркало в лабораторию, оно оттуда.
Дверь в лабораторию вела из кухни-прихожей. Едва открыл Толпыга ее, как сразу же и остановился; там у микроскопа сидела Васена… Отступать было поздно, и Толпыга смело перешагнул порожек. Лицо его полыхало румянцем.
— Слышала?.. — опуская глаза, тихо спросил он.
— Слышала, Шура, все слышала…
Только теперь Толпыга увидел на ее глазах слезы.
— Ты чего, Васена? — с испугом спросил он, — Я тебя обидел?
— Нет, Шура…
Она решительно встала и смело подошла к нему. Лицо ее сияло счастьем и было такое светлое, такое бесконечно дорогое Шуркиному сердцу…
27. Страда
Осень роняла в реку золото кленовых и березовых листьев. Холодные, хрустально-прозрачные потоки Бурукана, играючи, ткали из них на коловертях ковры, а потом, в ближайшей заводи, выбрасывали на галечник. Вороха былого наряда прибрежных лесов лежали теперь ненужной рухлядью по берегам реки. Но в иной день вся река вновь покрывалась яркой пестрядью листвы, и тогда зеркальная гладь воды не столько отражала пламень разряженной тайги, сколько сама как бы надевала свой последний предзимний торжественный убор.
На Сысоевском ключе страдная пора — идет закладка икры в аппараты Вальгаева. У сооружения, похожего на миниатюрные шлюзы, спускающиеся двумя уступами вниз по течению, копошится почти вся бригада. Из палатки, стоящей рядом на берегу и громко называемой «цехом», то и дело выносят тазы с
оранжевым горохом «набухшей» икры. Икру высевают в воду на галечник, толстым слоем рассыпанный по металлической сетке. Сев ведут только двое — Вальгаев и Колчанов. Из-под галечника, едва заметно, бьют ключики прозрачной как слеза воды. Такой она стала после того, как прошла у верхней стенки «шлюза» через фильтр — толстый слой песка. Вальгаев работает молча, только громко сопит. В болотных сапогах-бахилах он по-медвежьи бродит вокруг «шлюзов» выше колен в воде, горсть за горстью искусно бросая оранжевые зерна в воду. Следом идет Владик с ведром, засыпая икру ровным слоем галечника, — так это делает рыба. Тереха и Дундук — на подноске галечника.
Из «цеха» то и дело слышится голос Кешки Гейкера или Сергея Тумали:
— Кончилась кета!
Они и Лизутка Калинкина под руководством Петра Григорьевича заняты тем, что извлекают из кетин икру и молоки, перемешивают в небольшом деревянном лотке и выдерживают ее там до «набухания». Рядом с ними Шурка Толпыга; ловко орудуя ножом, он вырезает у кетин жабры, а рыбу укладывает в бочонок и посыпает солью. Васена и Верка подносят кету от садка-ловушки к «цеху».
Садок-ловушка — на самом устье Сысоевского ключа. Это нехитрое сооружение сделано так, что кета, заходящая в ключ, никак не минует садка — туда ее направляют два ряда вбитых в дно кольев. Медленно накапливается кета в садке. Слишком мало ее заходит в Сысоевский ключ, чтобы можно было бесперебойно засевать икрой инкубаторы, — ведь каждый из них рассчитан на два миллиона икринок. У садка-ловушки все время дежурят Гоша Драпков и Тамара Бельды — неразлучная пара. Детская непосредственность и беззаботность в их отношениях сразу бросаются в глаза, если понаблюдать со стороны за ними. Вот они сидят рядышком на корме лодки, склонив головы над водой. Говорок, то и дело пересыпаемый смехом, журчит, журчит, как веселый поток звонкоструйного ключа.
— Зашла! Кетина зашла! Тише! — шипит Гоша.
В прозрачном потоке видна крупная рыбина, которая, как тень, скользит в треугольной загородке садка. Она прошлась вдоль ряда кольев и, заметив движение вверху, бешено заметалась. Гоша и Тамара замерли, и кета успокоилась.
— Самка, — шепчет Тамара. — Уже восемьдесят третья, — добавляет она, записывая в тетрадь. — А самцов — сто два…
— Значит, если считать по три тысячи икринок в кете, — рассуждает Гоша, — то заложили уже двести пятьдесят тысяч икринок. А нужно шесть миллионов, — озабоченно вздыхает он. — Не наберем тут…
На этом деловой разговор кончается. Тамара подперла ладонью подбородок, в упор влюбленно смотрит в лицо Гоши, спрашивает:
— Гошенька, почему у тебя один глаз уже, а другой — шире?
Гоша растерянно моргает глазами, с удивлением смотрит на Тамару.
— Не-ет, у меня правильные глаза, — уверяет он. — Это, должно быть, от солнца…
Тамаре, может, и в самом деле так показалось, но ей хочется смотреть на него, и ее миловидные темные глаза останавливаются на каждой черточке Гошиного лица.
— Еще, еще кета… — шепчет Гоша, беря за руку подругу. — Тише!
На этот раз в садок заходят сразу три кетины, за ними следует еще небольшая стайка рыб. Им становится тесно в садке, они мечутся в поисках выхода, тычутся между кольями, пытаются подкапывать грунт.
— Хватит, ловить надо, — говорит Гоша. — Кричи девчатам, чтобы шли за кетой.
Ловко орудуя сачком, он начинает выхватывать из садка одну рыбину за другой. Серебряный блеск чешуи, каскады брызг. Вскоре в лодке трепыхается горка рыбы. Не дожидаясь, пока лодка причалит к берегу, Верка и Васена почти по пояс входят в воду и торопливо тащат лодку к берегу. Удивительно удачно спаровались в труде Верка и Васена. Кажется, никто в бригаде не работает так энергично, как эти две разнохарактерные девушки. С тех пор как началась закладка икры, которая требует четкой и слаженной работы, девушки делали все бегом. Вот и сейчас, быстро покидав рыбу в носилки, они почти бегом направились к инкубаторам, находившимся метрах в ста пятидесяти. Кета очень, как говорят, «квелая» рыба: она быстро засыпает, вынутая из воды. А ведь в цехе нужно определить — созрела ли она. Если нет, ее опускают в небольшой садок возле инкубатора, где она «дозревает». Но еще не было случая у Верки и Васены, чтобы они принесли снулую рыбину.
Третий день идет закладка кеты на инкубацию, а заложено мало. Колчанов, который и раньше предполагал, что лососей-производителей, заходящих в Сысоевский ключ, не хватит на все аппараты, заранее предусмотрел отлов кеты сетями в русле Бурукана, чтобы оттуда доставлять ее в живорыбнице к инкубаторам.
Русло Бурукана перегородили в двух местах ставными сетками. Каково же было удивление ребят, когда в сети попало за первый день пятьдесят кетин, а на следующий — всего двадцать восемь.
— Ясно, — сказал Колчанов за ужином, когда все гадали, почему так мало кеты. — В устье орудуют браконьеры.
Тут же на бригадном совете решили завтра на колчановской моторке выслать к устью Бурукана разведку, чтобы выяснить, есть ли там браконьеры. Если есть, то пройти в Амур, съездить в Средне-Амурское, сообщить в рыбинспекцию или в милицию и с их помощью задержать браконьеров. Операцию поручили Владику, Шурке Толпыге и Гоше Драпкову, как уже имеющим опыт борьбы с браконьерами.
К вечеру друзья собрались в дорогу.
— На моторке будете идти только до перекатов, — напутствовал Колчанов. — Там, у начала перекатов, заглушите мотор и ждите наступления темноты. Потом спускайтесь самосплавом до самого устья. Если не обнаружите сразу, поживите на стане денька два, понаблюдайте. Только лодку на день прячьте, а сами старайтесь не показываться на берегу.
Мотор, как всегда в Шуркиных руках, завелся с первого же оборота. Владик и Гоша вытолкали шестами лодку на самый стрежень реки. Юркая лодочка легко заскользила по водной глади, прочерчивая на ней длинную пенную линию.
28. С поличным
Любил Шурка направлять стремительный бег моторки. Три с небольшим месяца прошло с тех пор, как он, с разрешения Колчанова, впервые взялся за руль-мотор, а ему кажется, что он всю жизнь плавает на этой лодочке. В каких только переплетах не бывал он на ней в нынешнее беспокойное лето! Штормы на Амуре, лабиринты проток, стремительные перекаты — все испытал он на этом великолепном суденышке. Гоша, с его так и непреодоленной робостью и фанатичной решимостью во что бы то ни стало научиться преодолевать эту робость, во многом уже преуспел с Шуркиной помощью. Но мчаться вот так на головокружительной скорости по узкой, извилистой, быстрой речке, когда за рулем сидит Толпыга, он до сих пор боялся. Вот и сейчас, нахлобучив до ушей свою кепчонку, давно утратившую первоначальные цвет и форму и прожженную в нескольких местах искрами от ночных костров, он сидел, сжавшись в комочек. Вид у него был довольно жалкий. На кривунах он всем телом прижимался ко дну лодки. В таких случаях Толпыга недовольно хмурил широкие брови, сердито прикрикивал:
— Ну, опять замандражил! Чего жмешься-то, как кролик? — И еще нарочно делал такой резкий поворот рулем, что лодка опасно кренилась на один борт, грозя опрокинуться. Тогда вступался Владик — старший группы:
— Потише, Толпыга, потише!
Отношения между Шуркой и Гошей, в сущности закадычными друзьями, не все понимали в бригаде, кроме, разве, Петра Григорьевича. На первый взгляд могло показаться, что Толпыга подавляет Гошу своей волей и бесстрашием и Гоша попросту подчиняется его грубой силе. Но стоило поближе присмотреться к Гоше, чтобы убедиться: не такой уж он беспомощный, чтобы беспрекословно терпеть чью-то грубую власть над собой. Однажды на рыбалке волной опрокинуло возле берега живорыбницу. Ребята бросились спасать рыбу. Вадим Тереха, этот «классический сачкун», как метко окрестил его Толпыга, попытался командовать Гошей, но тот с такой лихостью послал его ко всем чертям, что у Терехи исчезло раз и навсегда желание помыкать этим на вид робким пареньком. Ничего подобного никогда не случалось в отношениях между Шуркой и Гошей, хотя бывало не раз, что Толпыга покрикивал на Гошу. Но грубость Шурки была просто ширмой — он очень не любил сентиментальностей. Гоша великолепно понимал это и, может быть, именно за эту показную грубость и любил Шурку. Ведь в душе-то Гоша был к себе человеком суровым до беспощадности, и рядом с Шуркой он становился сильнее.
Лучшей группы для выполнения столь ответственного задания трудно было подобрать в бригаде, особенно если учесть собранность и дисциплинированность Владика.
Вскоре ребята пристали к берегу выше перекатов, километрах в двух от Изюбриного утеса. Солнце только что скрылось за левобережной грядой сопок, но до темноты было еще далеко, и ребята решили пешком пройти по Черемуховой релке до конца перекатов. Там, у Изюбриного утеса, река делала крутой поворот вправо и хорошо просматривалась чуть ли не до самого устья.
Через полчаса они были у конца релки, против Изюбриного утеса — огромной скалы, поднявшейся у самой воды на правом берегу. За релкой начинался довольно длинный залив. Едва только высунулись ребята из зарослей обсыпанной ягодами черемухи, как сразу же увидели в самом конце залива две лодки — моторную и весельную, спрятанные под тальником. Людей не было видно.
— Лодка-то та самая, — прошептал Владик. — Она в Потаенной протоке была… Навесной «томоно».
— И на том же самом месте, что в прошлом году, — добавил Шурка Толпыга, — когда мы на вертолете пролетали тут. Что будем делать?
— Наблюдать, — вполголоса сказал Владик, набивая полный рот переспелых ягод черемухи.
Устроившись неподалеку под раскидистой старой черемухой, ребята не спускали глаз с лодок. Через полчаса там появились люди. Их было двое — невысокий сутуловатый молодой человек в сплющенной кепке и кряжистый дядя с черной, во все лицо, бородой. Они столкнули весельную лодку и направились в сторону Бурукана. Чернобородый греб, молодой рулил. Вот они достигли русла Бурукана. Сутуловатый нагнулся и поднял какую-то палку, плавающую на воде.
— Конец ставной сетки, — прошептал Толпыга.
Да, это был конец сетки. Сутуловатый быстро стал перебирать ее, воровски озираясь по сторонам. Сетка пересекала все русло речки. Почти через каждый метр сутуловатый выпутывал из сетки крупных рыбин и бросал на дно лодки.
— Негодяи! — ворчал Владик. — Что делают, а?!
Браконьеры перебрали сетку, почти до половины нагрузив лодку крупной кетой. Начинало смеркаться, когда они вернулись в свое убежище и стали перетаскивать рыбу куда-то в кусты.
— Сделаем так, — сказал Владик, когда браконьеры стаскивали рыбу на берег. — Незаметно подберемся к их стану и понаблюдаем из кустов. Нужно все-таки выяснить, что это за люди. Потом вернемся к лодке, ночью незаметно спустимся в Амур и махнем в село.
Под покровом сгущающихся сумерек они незаметно подобрались к становищу браконьеров. На круглой полянке, укрытой сверху пышными кронами старого разнолесья, стояла небольшая палатка. Рядом бежал, позванивая, ручей. Браконьеры торопливо вспарывали лососей, извлекали розовые ястыки икры и бросали их в небольшое решето-грохот. У некоторых рыб, по-видимому тех, что пожирнее, они отрезали брюшки, кидали их в бочонки, а остатки рыбьих туш бросали в яму, выкопанную неподалеку от ручья. Работали они молча, только изредка перебрасываясь короткими отрывистыми фразами.
— Скоро подойдут, а мы не готовы, — произнес бородатый. — Опять он будет лаяться…
— Ничего, впотьмах могут постоять, — ответил басок сутулого.
— Не забыть потом тушки закопать, — снова начал бородатый. Помолчав, он выругался и сердито плюнул. — Мыслимо ли дело, — два бочонка икры! Так мы и себе ничего не заработаем.
— Не ной, Степаныч, не ной! Я сказал, заработаем, — значит, заработаем, — уверял басок сутулого. — Не первый раз промышляю тут. В прошлом году он содрал с меня то же самое — два бочонка икры по десять кило и бочонок брюшков на полцентнера. И то заработал, хотя ход был куда хуже. А нынче, вишь, только начался ход, а уж у нас два бочонка икры есть. Хороший, видать, будет ход. Вот только бы Колчанов не появился со своей шатией…
Они замолчали, слышалось только, как шлепаются рыбьи тушки, бросаемые в яму.
— А что мы лежим? — сердито шептал Толпыга. — Давайте встанем и арестуем их! Улики-то вот они — истребляют рыбу только ради икры.
— Ты что, с ума сошел? — зашипел на него Владик. — Ты же слышишь, что к ним кто-то должен приехать за икрой? Надо узнать…
Совсем уже стемнело. Браконьеры закончили работу и развели костер. Бородатый — человек средних лет, с хмурым лицом и большими загрубелыми ладонями — принялся готовить ужин, а сутулый, с физиономией, напоминающей мордочку хорька, стал перетирать икру на грохоте, поставленном над небольшой лоханкой.
Ребята лежали метрах в двадцати от браконьеров и молча наблюдали за каждым их движением. Ныли бока и колени, голод давно мучил их, но они терпеливо ждали. Светящийся циферблат Владиковых часов показывал начало двенадцатого, когда браконьеры закончили ужин.
— Ну что ж, Андрей, не приедут они, должно? — спросил бородатый. — Спать будем?
— Сетки сначала проверим, — твердо ответил сутулый тоном хозяина. — А то к утру столько наберется, что не подымешь…
Они подбросили в костер несколько коряжин и пошли к лодкам. Вскоре с берега послышалось удаляющееся громыхание уключин.
Со стороны берега костер укрывался зарослями настолько тщательно, что не только с Бурукана, но и с залива его не было видно.
— Пошли, — поднялся Владик, когда скрип уключин затерялся в ночи.
Глазам ребят предстала довольно живописная картина. Рядом с ручьем стояло несколько бочонков самых различных размеров. В одних, более мелких, краснела икра, в других, покрупнее, серебрились брюшки или целые тушки кеты. Яма, в которую браконьеры бросали преимущественно тушки самцов, уже была закидана галечником. Неподалеку от ручья, почти у костра, стояла наготове лоханка с решетом-грохотом, на котором браконьеры приготавливали икру. Видно было по всему, что дело у них поставлено на широкую ногу, с настоящей воровской расчетливостью.
Толпыга подошел к одному из бочонков с икрой, бесцеремонно захватил горсть оранжевых зерен и сунул в рот.
— Хороший посол, — сказал он. — Надо взять на ужин.
Владик и Гоша последовали его примеру, и вскоре все с аппетитом уплетали икру.
— Сетки сушатся, — вдруг сказал Толпыга. — Вон, за палаткой. Давайте заберем!
— Ни в коем случае! — возразил Владик. — Мы же так спугнем их. Вот мотор на время испортить, чтобы не смогли уйти отсюда, — это другое дело, — говорил он в раздумье.
— А что, я в один момент! — воскликнул Толпыга. — Винт сниму…
Он быстро сбросил брюки и, оставшись в одних трусах, кошкой шмыгнул к берегу. Не прошло и десяти минут, как он вернулся к костру, неся в руках два гребных винта — один бронзовый, отливающий при свете костра золотом отшлифованных лопастей, другой — стальной.
— А откуда второй? — удивились ребята.
— Запасной тяпнул, — улыбаясь до ушей, отвечал Толпыга. — Такой пройдоха без запасного не ездит. Я сразу сообразил.
— Вот хватятся! — ликовал Гоша.
Обстоятельно осмотрев становище, ребята снова укрылись в своем убежище. Они решили выяснить, кого ждут браконьеры.
Едва они вновь устроились под разлапистой елью на мягкой подстилке из мертвой хвои, как с низовьев Бурукана послышался дробный перестук мотора. Все затаили дыхание, вслушиваясь в этот новый звук. Шурка, который по шуму мотора мог узнать любой катер в Средне-Амурском, твердо определил:
— Катер рыбинспекции…
— Уж не Кондакова ли ждут браконьеры? — высказал догадку Владик.
— Очень даже возможно, — согласился Гоша. — В Потайной протоке этот пьяница тоже не ловил браконьеров, а кутил с ними.
Вскоре у берега послышался скрип уключин и приглушенные расстоянием голоса: возвращались браконьеры. А потом показались из кустов и они сами, нагруженные тяжелыми мешками с рыбой. Высыпав рыбу в стороне от палатки, сутуловатый сказал:
— Ты, Степаныч, перетаскивай остальную, а я поеду встречу, не то катер в залив не зайдет.
Они снова ушли к берегу, и через минуту ребята услышали, как по галечнику загремело днище лодки: видимо, столкнули на воду моторку. Потом зажужжал руль-мотор, и сквозь его шум послышался громкий голос сутулого:
— Оттолкни меня подальше от берега.
Толпыга, усмехаясь, проговорил:
— Послушайте, как сейчас мотор заорет. Включит скорость, ну и завоет!..
Шурка не успел договорить, как мотор действительно завыл так, что у ребят даже закололо в ушах, но тотчас же перешел на нормальный режим, а потом и вовсе заглох.
— Что там у тебя? — послышался голос бородатого.
— Винт потеряли! — сутулый выругался.
— Что же будем теперь делать?
— Запасной поставим.
Толпыга, усмехаясь, проворчал:
— Ага, вот так ты сейчас возьмешь и поставишь…
С берега долго не доносилось голосов, лишь иногда гремели железины, должно быть, перебрасываемые с места на место. Потом послышался сердитый голос сутулого:
— Слышь-ка, Степаныч, ты не уносил на берег запасной винт?
— А на кой он мне! — недовольно проворчал бородатый и крякнул, по-видимому взваливая на спину мешок с рыбой.
Бородатый принес рыбу на становище, высыпал ее в кусты и снова ушел к берегу, а на заливе все продолжали звенеть железины и время от времени слышались взрывы брани.
— Вот, Шурка, попался бы ты ему сейчас с винтами, — шептал, похихикивая, Гоша. — Он бы из тебя сделал отбивную.
— Из меня?! — удивился Толпыга. — Да я его…
С берега раздался сердитый голос бородатого:
— Да поезжай ты на веслах, а то уж они вон почти подошли к заливу!
— Ишь ты, поезжай, — огрызнулся сутулый. — У меня нечем к берегу прибиться! Давай сюда лодку с веслами.
Прошло несколько минут. Браконьеры, видимо, подтянули моторку к берегу, и вскоре раздался энергичный плеск весел: сутулый поехал встречать «гостей».
Он не возвращался минут сорок. Наконец послышались голоса, громыхание уключин. Лодка пристала к берегу. Уже по голосу ребята угадали, что с браконьерами теперь был Кондаков. А вскоре при свете костра они увидели и самого рыбинспектора. В своих неизменных болотных сапогах и поношенном дождевике он тяжело прошагал к костру и уселся на чурбан, услужливо подставленный бородатым.
— Ну, угощайте свежей икоркой, — распорядился Кондаков, доставая из кармана бутылку и ставя ее на опрокинутый вверх дном пустой бочонок, принесенный сутулым из лодки.
Скоро на бочонке появились алюминиевая миска, доверху наполненная икрой, краюха хлеба, ложки и две кружки. Для себя Кондаков достал из кармана стакан. Он сам разливал водку.
— Ну, что ж, за хороший улов, — сказал он, поднимая стакан.
— С богом, Трофим Андреевич, — заюлил сутулый. — За нашу с вами старую дружбу.
Закусывали икрой, черпая ее полными ложками.
Первым нарушил молчание бородатый.
— Там у вас не слышно про эту бригаду… шайка-лейка? — спросил он Кондакова.
— Я уже говорил Андрею Федотовичу, — отвечал Кондаков, — чтобы днем не показывались пока на речке. Колчановская фифа приехала на стан, так что они со дня на день могут появиться тут. Переходите на ночной лов. И вообще побыстрее свертывайтесь: там, вверху, могут заметить, что рыбы мало…
— Так мы же для себя еще ничего не поймали! — с затаенной обидой воскликнул бородатый. — Пока что на вас только работали…
— Ты, борода, не проливай тут крокодиловых слез, — со смехом, но властно заметил Кондаков. — Креста, видать, на тебе совсем нет. Уж я знаю, сколько вы поймали. Самому тоже надо совесть иметь. Можно сказать, наживаешься, а благодаря кому? И еще плачешься!
— Да я ничего, — поспешно сдался бородатый. — Я вообче…
Когда бутылка и миска были опорожнены, Кондаков грузно поднялся.
— Ну, где там мои бочата? — спросил он, сыто выпячивая живот, и эффектно щелкнул портсигаром, достав из него папиросу.
— Вы пока посидите, посидите, Трофим Андреевич, — лебезил сутулый, суетливо направляясь к бочонкам. — Мы их сами постаскаем. Степаныч, бери тот, а я этот. А потом откатим брюшки.
Кондаков снова уселся на чурбан, сладко потягивая папиросу.
Ребята лежали, как на иголках. Гоша и Толпыга порывались либо угнать лодки и этим лишить Кондакова возможности попасть на катер, либо просто выйти к костру и, как предлагал Гоша, объявить всем, что они арестованы. Только Владик оставался спокойным и молча грозил другим кулаком: «Перестаньте!» Но едва браконьеры ушли от костра, он приказал:
— Пошли!
Они легко перепрыгнули через ручей и предстали перед озадаченным рыбинспектором.
— Здравствуйте, — спокойно сказал Владик.
— Здравствуйте, — нехотя процедил Кондаков. Он старался казаться равнодушным, но в подпухших его глазах читался страх. — Что скажете, друзья? — спросил он, с огромным усилием овладевая собой.
— Скажем то, чтобы вы, гражданин Кондаков, завтра же сдали на рыбозавод икру и брюшки, которые хотели присвоить, — ровным ледяным голосом сказал Владик.
— A-а, шпионите, сопляки! — с негодованием рыкнул Кондаков. — Сидели подслушивали?!
— Ошибаетесь, не шпионили, а ловили браконьеров, в том числе и таких титулованных, как вы.
— Пошли вон отсюда, негодяи, иначе я перестреляю вас! — взревел Кондаков, хватаясь за правый карман дождевика. — Я вам покажу, как устраивать слежки за рыбинспекторами!
Но никто из ребят даже с места не тронулся, хотя Гоша почувствовал, что у него дрожат колени.
— Всех не перестреляете, — проговорил Владик. — Нас охраняет вся бригада.
Кондаков вдруг захохотал с деланной веселостью.
— Фу ты, да я же пошутил, ребята. Думаю, дай-ка проверю, струсят мои орлы-общественники или нет. Молодцы! Объявляю вам благодарность, завтра отмечу в приказе по району.
Ребята широко открытыми от недоумения глазами смотрели на перевоплощение Кондакова. А тот продолжал:
— Колчанов тоже здесь, в засаде?
— Да, он на берегу, — соврал Владик.
— Молодец! — воскликнул Кондаков. — Недаром я его натаскивал столько лет. Ну, что ж, мне пора. — Он поднял руку и посмотрел на часы. — Половина второго.
— Прошу вас немного задержаться, — как ни в чем не бывало сказал Владик. — Вы подпишете акт о расхищении всенародной собственности — наших природных богатств.
— Э-э, тут уж вы превышаете ваши полномочия, ребята, — весело возразил Кондаков. — Когда на месте задержания браконьеров находится сам главный районный инспектор рыбвода, инспекторам-общественникам делать нечего, он сам в состоянии управиться.
На шум из кустов выбрались браконьеры. Они угрюмо смотрели на невесть откуда взявшихся ребят.
— Браконьеров поймали не вы, а я, — продолжал между тем Кондаков, — и я волен поступать с ними так, как того требует закон.
Владик достал из кармана ученическую тетрадь, примостился у костра и, не обращая внимания на Кондакова, сел писать акт. Вместо Владика вступил в разговор Толпыга.
— А разве закон требует, чтобы вы брали калым с браконьеров? — спросил он мрачно.
— Калым? — изумился Кондаков. — Я вижу, ты совсем рехнулся, Толпыгин. Я изъял продукцию у браконьеров! Понятно тебе? — повысил он голос.
— Зачем же вы обманываете? — не выдержал Гоша. — Мы же все слышали и видели.
Между тем Владик написал акт. Так как браконьеры отказались назвать свои фамилии, Владик записал те имена, которыми они называли друг друга.
— Прочтите и подпишите, — сказал Владик, протягивая тетрадь Кондакову.
Тот долго читал написанное, вымученно усмехнулся, потом спокойно разорвал тетрадь пополам и бросил в огонь.
— Вот так, понятно? — спокойно резюмировал он.
Владик так же спокойно сказал:
— Ну что ж, завтра будем объясняться в райкоме партии. Пошли, ребята.
Они скрылись в лесу, не сказав на прощанье ни одного слова. Только под елью, где они остановились, Владик возбужденно прошептал;
— Скорее на моторку и в село, за милицией. Браконьеры без винтов не уйдут никуда.
Через полчаса они уже мчались на своей лодочке вниз по течению темного Бурукана, оглашая ночную тишину ровным жужжанием мотора.
29. Беспокойное утро
А тем временем на Чогоре произошло событие, которому немало подивились бы ребята из бригады, а еще больше, наверное, сам Колчанов, будь все они здесь: попутным катером сюда приехала Надя Пронина.
Сторож рыбацкого стана Савелий Никитич, в единственном числе встретивший гостью, конечно, не был особенно удивлен — мало ли кто приезжает на биологический пункт! Он сообщил, что все на Бурукане, отдал Прониной ключи от домика под утесом, помог ей донести два чемодана, а сам занялся своими делами — ремонтом бригадной конюшни. Что касается гостьи, то она вошла в колчановскую комнату, упала на раскладушку и разрыдалась. Нет, это не были слезы горечи. Это были слезы радости, облегчающие душу после стольких страданий, оставшихся позади.
Решение вернуться на Чогор зародилось у Нади Прониной еще в тот трудный день, когда она так нелепо покидала его. Окончательно созрело это решение в Хабаровске. Там и решился вопрос: подводная энтомофауна озера Чогор, как и Бурукана, — «неразрезанный том творений природы», как сказал бы Николай Николаевич Сафьянов. Поэтому потребовалось только одно слово Прониной, чтобы тотчас же в институте согласились послать на Чогор энтомолога.
Но что же главное? Колчанов или энтомофауна? Надя не отдавала себе отчета в этом. Видимо, то и другое было главным, потому что ее неотразимо тянуло на Чогор.
Никогда еще не чувствовала Надя себя такой одинокой и забытой всеми, как в те четыре дня, когда ожидала оказии в верховье Бурукана. Она была, в сущности, одна на Чогоре, потому что Савелий Никитич где-то что-то делал, куда-то уезжал и показывался на берегу только в сумерки.
Говорят, человеку иногда необходимо уединение: оно обогащает его душу. Пронина не любила уединения, побаивалась его. Но сейчас, вынужденно оказавшись в одиночестве, она тяготилась своим положением лишь первые два дня. Потом в ней как-то все притихло, и состояние величайшего покоя овладело всем ее существом.
Она жила в колчановской комнате, спала на его раскладушке, пользовалась теми же предметами, которыми постоянно пользовался он. В какой-то степени это скрашивало ее одиночество. Она перекладывала его книги, примеряла его меховую зимнюю куртку и щеголяла в ней по дому. Она попришивала к куртке все недостающие пуговицы, зашила распоровшиеся швы на рукаве и под воротником, постирала и заштопала несколько пар его носков. Как-то взяла с полки книгу И. И. Кузнецова «Кета и ее воспроизводство» и увидела на полях множество пометок, вопросительных и восклицательных знаков, целых фраз, написанных знакомым и теперь особенно дорогим ей почерком. Она не заметила, как перелистала всю книгу и заодно узнала множество любопытных сведений о дальневосточной кете.
Так, не увидев еще Колчанова, она уже встретилась с ним и жила его думами. Впервые с такой остротой она поняла смысл жизни Колчанова на Чогоре, окунувшись в мир его вещей и интересов, и этот мир показался ей вдруг до боли в сердце теплым, родным и до осязаемости близким, полным большого, высокого жизненного содержания. И тогда родилась цель, подчинившая себе всю ее волю: полюбит ли ее вновь Колчанов или нет, она останется жить здесь, на Чогоре, чтобы, подобно Колчанову, начать с этого свою настоящую научную биографию…
…На пятые сутки утром ее разбудил стук в дверь. Сердце радостно сжалось, когда она увидела Владика, Шурку Толпыгу и Гошу Драпкова. Она соскучилась по ним. Почерневшие лица их выглядели крайне утомленными, но ребята были возбуждены и держались бодро. С Прониной они поздоровались довольно сухо, а Владик официальным тоном проговорил:
— Мы едем на Сысоевский ключ. Что передать Алексею Петровичу?
Пронина готова была расцеловать этих милых скромных парней, но официальный тон Владика заставил ее держаться тоже суховато.
— К Алексею Петровичу я никакого отношения не имею, — сказала она. — Я приехала по заданию института с собственной темой, связанной с закладкой аппарата Вальгаева. Поэтому я тоже поеду с вами на место работы. А пока, ребята, попрошу вас выйти на минутку в коридор, мне нужно одеться.
Уже в коридоре Толпыга прошептал, косясь на дверь:
— Знаем мы эту твою минутку. Считай, полчаса пройдет, пока она будет там прихорашиваться…
Прогноз Толпыги не оправдался. Прошло немногим больше пяти минут — ребята специально засекли время — и дверь распахнулась.
— Садитесь, пожалуйста, — гостеприимно пригласила ребят Надя. — Вы, должно быть, голодны. У меня есть консервы, булки, хоть и довольно зачерствелые. Хотите?
Ребята многозначительно переглянулись.
— Ну, чтобы булки совсем не зачерствели, — полушутя-полусерьезно сказал Владик, — давайте…
Толпыга и Гоша дружно рассмеялись, и этот смех как-то незаметно растопил ледок официальности. Ребята и Пронина стали держаться проще.
Вскоре на столе появились две банки говяжьей тушонки, городские сайки, варенье. Пока ребята открывали банки, Пронина разожгла керогаз и поставила кипятить чай.
Завтракали все вместе. По тому, как ребята с жадностью набросились на тушонку и впивались зубами в булки, Пронина поняла, что они были по-настоящему голодны.
— Где это вы были, что так проголодались? — спросила она. — Да и вид у вас довольно усталый.
— Мы вторые сутки не спим, — ответил Владик. Глаза его лихорадочно поблескивали. — За ночь успели выследить браконьеров и съездить в Средне-Амурское, в милицию, а сейчас еще ездили на Бурукан смотреть, не сбежали ли браконьеры.
— Ну и что же, не сбежали? — заинтересованно спросила Пронина.
— А куда они сбегут? — самодовольно ухмыльнулся Толпыга. — Мы у них гребные винты стащили.
— Вот сейчас ждем милицию, — объяснил Гоша. — И Кондакова разоблачили, — поспешил сообщить он, сверкнув глазами.
— Кто такой Кондаков? Браконьер?
Ребята весело расхохотались.
— Рыбинспектор, — пояснил Владик.
— А-а, — вспомнила Пронина, — это такой мужлан? Ужасно противный тип.
Завтрак подходил к концу, когда на озере у Нижней протоки показался катер милиции.
— Давайте собираться, Надежда Михайловна, — сказал Владик. — Сейчас поедем. Только по пути сделаем небольшую остановку, покажем милиции базу браконьеров…
Сборы не отняли много времени — Пронина давно была готова ехать. Поэтому, когда милицейский катер подошел к стану, все уже находились в лодке.
К удивлению ребят, на палубе катера оказался и Кондаков. Он весело разговаривал с человеком в милицейской форме. Но вот там появился новый человек. Кто это? Да это же Леня Жигарев — секретарь рыбозаводской комсомольской организации и начальник штаба сельской дружины по охране общественного порядка. Значит, Лида Гаркавая, которую ребята ночью подняли с постели, не осталась безучастной к их делу.
— Готовы? — спросил Кондаков с видом хозяина положения.
— Да, готовы, — недовольно буркнул Владик.
— У входа в залив мы станем на якорь, а вы подойдете, — приказал Кондаков. — Мы пересядем к вам.
— Ладно, — хмуро ответил Владик, отталкивая лодку от берега.
Через полчаса они достигли Изюбриного утеса, откуда в левобережье реки вдается залив. Лодки браконьеров, теперь уже незамаскированные, стояли на старом месте. Прежде чем подойти к катеру, Толпыга высадил своих на берег возле становища браконьеров, так как все не могли уместиться в моторке. Шум моторки разбудил браконьеров. Заспанные, они показались из палатки.
— Опять явились? — недовольно прохрипел сутулый. На его почти облысевшей узкой голове дыбился редкий пушок. — Ну чего вам тут нужно?
— Сейчас узнаете, — безразлично сказал Владик, осматривая обстановку.
Видно, браконьеры не ожидали этого визита, потому что на стане все оставалось в таком же виде, в каком было с вечера: бочонки, грохот и лохань для икры стояли на прежнем месте.
Пока Толпыга подвозил пассажиров катера, Владик и Гоша, вооружившись палками, раскапывали яму, в которой были зарыты рыбьи тушки. Браконьеры остолбенели, когда увидели ребят за этим занятием. Потом бородатый зло сплюнул, выругался, не стесняясь Прониной, и проворчал:
— Черт меня дернул связываться с тобой, паразит. «Заработаем, заработаем»… — передразнил он сутулого. — Заработали!
Появление из кустов человека в милицейской форме повергло его в уныние.
— Ну, здравствуйте, братья-разбойнички! — весело говорил оперуполномоченный — молодой франтоватый лейтенант милиции. — Значит, говорите, влипли?
Он по-хозяйски обошел становище, заглянул во все уголки, в бочонки, приговаривая: «Та-ак, та-ак». Потом подошел к яме, из которой ребята выгребали последний галечник.
— Что это? — спросил он глуховато. — Зарытая рыба? Это зачем же? Прятали?
— Не прятали, а выбросили, — мрачно пояснил Владик. — Икру вынули, а рыбу выбросили.
— Ах, сукины сыны! — искренне возмутился лейтенант. — Такой продукт — и в землю, а?! Ну, что будем делать, Трофим Андреевич? — обратился он к Кондакову.
— Судить подлецов, чего же еще! — отозвался тот, как ни в чем не бывало.
— Суди-ить? — вдруг взъярился бородатый и медленно шагнул к Кондакову. — Это за то, что мы тебе оброк платили икрой да брюшками? Извиняй, дорогой гражданин начальник, уж коли судить, то сидеть нам на этой скамье придется рядышком.
— Постой, постой, это какой оброк? — с довольно неестественным любопытством спросил лейтенант милиции. Чувствовалось, что он уже хорошо знает об этом. — Это что еще за оброк, Трофим Андреевич?
Кондаков еще какое-то время сохранял самоуверенность, но уже было заметно, как где-то под спудом он уже жалко мечется в поисках выхода, пойманный с поличным.
— Наговоры, — проворчал он, отводя в сторону воровато мигающие глаза. — Никакого оброка я не брал, хотели купить меня, подсовывали…
— Неправда! — вдруг заорал, не владея собой, Гоша Драпков. — Мы все видели и слышали!..
После составления акта, который подписали все, за исключением Кондакова, лейтенант милиции сказал Толпыге:
— Теперь можешь отдать им винты.
Шурка метнул вопросительный взгляд на Леню Жигарева.
— Отдай, отдай, Шурка, — ответил тот, улыбаясь. — Теперь они никуда не уйдут.
30. «Свои или чужие?»
Ребята, внимательно наблюдавшие за Прониной на протяжении всего пути до устья Сысоевского ключа, все больше удивлялись тому, как она изменилась за это время. Войлочную шляпу с бахромой теперь заменяла простенькая синяя косынка в белый горошек. Не было густо намазанных ресниц. Держалась и разговаривала Пронина сдержанно и просто, и в этой новой Прониной порой было трудно узнать ту манерную и самовлюбленную женщину, которую ребята знали прежде.
Владик говорил ребятам:
— Видно, добре-таки жизнь проучила «научницу»! Все канареечные перья с нее обсыпались…
Что касается самой Прониной, то всю дорогу она с некоторым внутренним страхом и трепетом ожидала момента, когда моторка подойдет к Сысоевскому ключу. Особенно пугала ее встреча с Колчановым. На его расположение она не рассчитывала, хотя в глубине души, почти втайне даже от самой себя, надеялась встретить его таким же, как прежде.
Моторка пристала к берегу против зимовья. Здесь только одна тетя Гриппа — новая повариха бригады.
— На аппаратах все, — пояснил Владик Прониной и посмотрел на часы. — Скоро придут на обед.
Ребята перенесли ее вещи в зимовье и сложили их в лаборатории.
Неожиданно из леса, со стороны Сысоевского ключа, послышалась звонкая девичья песня. По голосам нетрудно было угадать Верку Лобзякову и хохотунью Лизутку Калинкину. Песня приближалась, и вскоре показалась пестрая вереница людей. Ее возглавляли девушки в прорезиненных фартуках, в кирзовых сапогах, в лихо сбитых на макушку косынках. Сердце Прониной дрогнуло — за девушками показались чуть сгорбленный Колчанов, Вальгаев, Петр Григорьевич. У нее не хватило мужества встретиться лицом к лицу со всей бригадой, и она ушла в зимовье. Уже оттуда девушка слышала, как Колчанов и Абросимов расспрашивали Владика о ночном рейде, поблагодарили их.
— Подходы кеты увеличились в три раза, — доносился до Прониной грудной бас Колчанова. — Теперь недостатка у нас не будет.
Потом они поговорили о чем-то вполголоса, видимо о ней, и Пронина с содроганием сердца услышала топот сапог в прихожей зимовья. И вот на пороге лаборатории появился Колчанов, за ним Вальгаев.
— Ну, здравствуй, Надежда, — весело пробасил Колчанов, подавая ей руку. — Какими ветрами?
— Что же это ты, Надежда Михайловна, прячешься? — здороваясь, спрашивал Вальгаев. — Или боишься, что сглазят тебя?
Они уселись против Прониной за грубым препараторским столом, накрытым белой простыней, долго расспрашивали об институтских и городских новостях. Как ни старалась Пронина держаться деловито и сохранять независимый вид, от глаз Колчанова и Вальгаева не ускользнула ее какая-то внутренняя растерянность и натянутость. Когда Вальгаев грубовато спросил, не из-за Колчанова ли она приехала сюда, лицо ее зарделось румянцем.
— Удивляюсь, все-таки, — говорил Вальгаев, — как это ты, Надежда, решилась на такую зимовку на Бурукане!
— Люди же живут в таких условиях, — ответила Пронина.
— Так это люди закаленные, — заметил Колчанов, — а тебе, Надя, будет трудно.
— Ничего, закалюсь и я.
— Так-то оно так, но куда же мы пока поселим тебя, Надежда? — озабоченно говорил Колчанов. — Где тебе больше нравится — в палатке с девчатами или здесь, в лаборатории?
Пронина подумала с минутку, потом сказала тихо:
— Мне все равно, Алексей Петрович. Буду жить с девчатами…
— Только учти, ночи уже прохладные.
— Я взяла с собой теплое одеяло да еще спальный мешок.
— Что же, устраивайся и привыкай, а мы пойдем подсчитывать наш сегодняшний посев.
Да, случилось самое страшное, чего опасалась Пронина: Колчанов подчеркнуто равнодушен к ней. «Процесс необратимый», — вспомнила она чьи-то слова. В тайнике ее души погасла даже та робкая, маленькая мечта, что еще теплилась до встречи с Колчановым. «Я еду искать не любви Алексея Петровича, а жизненного и научного опыта», — вспомнилось ей то, что еще так недавно говорила она себе. И все-таки обидно, боже мой, как обидно! Уронив голову на стол, она всплакнула тихонько, чтобы не слышали за перегородкой, откуда доносился разговор Колчанова, Вальгаева и Абросимова.
Но впереди еще одно испытание — встреча с бригадой. И вот за дверью слышны чьи-то быстрые шаги, осторожный стук. Пронина насухо вытерла глаза, подумала: «Верочка», — и сказала с неприятной хрипотцой в горле — от слез:
— Войдите!
Пришла Верка Лобзякова.
— Здравствуйте, Надежда Михайловна! — бойко протараторила она. — С приездом вас!
Только легкий румянец выдавал Веркино смущение.
Пронина встала из-за стола, поцеловала Верку в щеку, сказала:
— Как ты похорошела, Верочка! Как твои дела?
— Очень хорошо, Надежда Михайловна! — с энтузиазмом воскликнула Верка. — Лучше не надо! Это правда, что вы к нам насовсем, Надежда Михайловна? Ребята говорят, а мы не верим…
— До весны, Верочка, а там будет видно. Но хочется насовсем. Я так полюбила эти места…
— Как хорошо-то, Надежда Михайловна, что вы будете опять с нами!
Едва ли Верка лицемерила, когда с жаром произносила эти слова. Она в самом деле полюбила Пронину. «Фиаско», которое потерпела Пронина на Чогоре, Верка переживала чуть ли не с такой же остротой, как и «научница». Но если Пронина сама извлекла урок из своих ошибок, то Верке помог это сделать Владик. Они обе чувствовали перемены, происшедшие с ними, и это по-новому связывало их, может быть, даже крепче, чем прежде. О Прониной уже знала вся бригада — Гоша и Толпыга во всех подробностях расписали свою встречу с ней, о том, как она выглядит и держится теперь. Большинство молодых рыбоводов относилось к этим внешним переменам недоверчиво.
— По поручению бригады, — торжественно сказала Верка, — приглашаю вас обедать.
— Спасибо, Верочка, — Пронина как-то сразу посветлела, заметно приободрилась. Лучшего способа встречи с бригадой и придумать нельзя было. — Идем, я тоже изрядно проголодалась.
Ребята уже сидели за грубо сколоченным из двух расколотых бревен подобием стола и гремели алюминиевыми мисками, когда перед ними появилась Пронина в сопровождении Верки.
— Здравствуйте, ребята! — Пронина улыбнулась, обводя медленным взглядом всех сидящих за столом.
Ребята ответили вразнобой, но громко и весело.
— Вам место вот здесь, Надежда Михайловна, — сказал Владик, показывая на импровизированную скамейку из жердей рядом с собой. — Пожалуйста, садитесь.
Милые, скромные юноши, сколько такта и понимания проявили они, пока Пронина преодолевала неловкость своего положения. Они молчали, когда нужно было молчать, оживленно переговаривались между собой, отвлекаясь от Прониной, когда их внимание смущало ее, и дружно смеялись, когда этот смех поддерживал Пронину. Контакт с бригадой, который был ей так необходим в это трудное для нее время, был найден. Только гораздо позднее узнала она от Верки, что все это было сделано Владиком. В пути он внимательно присматривался к Прониной и понял, как нелегко ей сейчас. Тогда и родилось это благородное побуждение помочь ей.
А после обеда, переодевшись, Пронина вместе со всеми отправилась на «аппараты», как теперь называли в бригаде инкубаторы.
Спать она ложилась бок о бок с Веркой и Васеной в удивительно хорошем расположении духа. Она не слышала разговора, который в это время происходил между Вальгаевым и Колчановым.
— А ты не заметил, Алексей, — спрашивал Вальгаев, раздеваясь, — что твою Наденьку будто подменили?
— Конечно, заметил, — отвечал тот, листая у лампы книгу. — Но при чем тут «твоя Наденька»? Между нами все кончено.
— Ка-ак? — Вальгаев даже приподнялся на локоть на своем топчане.
— Ты же знаешь, при каких обстоятельствах она сбежала с Чогора.
— Ну?
— Вот тебе и ну! На этом «любовная лодка разбилась о быт».
— Э-э, а
я-то думал…
— Ладно, спи, Матвей! Пускай конь за тебя думает, у него большая голова, как говорит наш Толпыга.
— Ну и дурак ты, — заключил Вальгаев. — От такой девушки тебе не следовало бы отказываться. Она все-таки хорошая.
— Это не по моей части, Матвей…
…В последних числах сентября закончилась закладка последнего, двенадцатого миллиона икринок в аппараты Вальгаева. На Сысоевском ключе выросло три искусственных двухступенчатых порога из бревенчатых срубов с крышами-навесами из пихтовых лап. А еще через полторы недели ниже каждой пары инкубаторов поднялись небольшие плотники — запруды из бревен, камней, галечника и глины, создавшие подпор воде; инкубаторы находились на глубине двух метров и им не угрожало промерзание. В будущем, когда мороз скует Сысоевский ключ и выпадет снег, на инкубаторах будут созданы искусственные сугробы, которые, словно шубой, прикроют лед. Это — дополнительная гарантия того, что запруды не промерзнут даже в самые лютые холода. Для наблюдения за икрой решено использовать акваланг и гидрокостюм.
В середине октября бивуак опустел. Колчанов и Вальгаев уехали в Хабаровск. Петр Григорьевич во главе бригады переселился на Чогор проводить осенний промысел рыбы. В зимовье остались лишь Владик с Шуркой Толпыгой — наблюдать за аппаратами — да Надя Пронина — следить за состоянием икры в инкубаторах. Для Прониной начиналось время, труднее которого она не знала во всей своей жизни.
31. Трое в зимовье
Во второй половине октября начало все сильнее чувствоваться дыхание близкой зимы. Короче становились дни, сумрачнее делалось в долине Бурукана. Исчезли в лесу горластые сойки и кедровки, улетели на юг веселые певчие птицы, тихо и пустынно стало в тайге. Неприветливым, свинцовым выглядел Бурукан. Если летом шум его ласкал слух приятным перезвоном воды, всегда напоминающим о возможности освежиться в прохладе или утолить жажду, то сейчас от него веяло леденящей душу суровой стужей, а рокот воды в прибрежных камнях был неприветлив и как бы угрожающ.
Для Прониной потянулись дни, похожие один на другой, — серые, однообразные, ничем не примечательные, как слинялый ситец. Утром — завтрак, поход с Толпыгой или Владиком к аппаратам, в полдень — обед, снова прогулка на Сысоевский ключ, иногда — книги, вечером — то скучные, то веселые беседы, а уже в десять или одиннадцать часов — сон.
Когда-то еще в детстве Пронина немного увлекалась «Робинзоном Крузо», читала книги о каких-то отшельниках, уединяющихся среди диких гор, о зимовщиках Севера, борющихся с долгой полярной ночью. Что она окажется в таких условиях, ей и в голову не приходило никогда. Она, разумеется, совершенно не была подготовлена к такой жизни.
Но перед нею были хорошие примеры: Владик и Толпыга. С первых же дней жизни в зимовье Владик установил себе режим, которого строжайше придерживался: в семь часов утра подъем, зарядка, потом получасовая прогулка в лес или по берегу Бурукана, завтрак, потом — до обеда — работа с Прониной на аппаратах, а после — учебники, конспекты, рисование. Вечером — иногда чтение, иногда общие беседы или аккордеон. Музыка великолепно скрашивала их жизнь, особенно в самое нудное время — вечернее.
По-иному строил свой режим Шурка Толпыга. Утром он просыпался вместе с Владиком, делал зарядку, но потом у него начинались свои дела. Время, свободное от работы на аппаратах, Толпыга проводил в тайге. Повсюду окрест он расставил капканы и плашки на колонка, куницу или белку, петли на зайца или кабаргу. В редкий день он возвращался из тайги без богатой добычи. Прихожая вся провоняла звериными шкурками, и Пронина не выдерживала здесь больше пяти минут. Этот запах, несмотря на катастрофический расход одеколона, преследовал теперь ее и в ребячьей комнате, и в лаборатории, где у нее была спальня. Зато она с удовольствием ела приготовленных Толпыгой по-охотничьи рябчика, глухаря или жаркое из нежного и душистого мяса кабарги. Боровую дичь Шурка добывал в неограниченном количестве — сколько требовалось, столько и приносил.
Но он до отвала снабжал обитателей зимовья не только мясом. Вся лаборатория, которая служила и общей столовой, была заставлена банками с ягодами дикого винограда, лимонника, клюквы, брусники, в углу громоздился ворох кедровых шишек, который не убывал, а увеличивался с каждым днем, хотя по вечерам все грызли кедровые орехи. А однажды утром, вступая на дежурство по кухне, Толпыга сказал Прониной, что вечером угостит ее настоящими сливками. Всю вторую половину дня из кухни доносилось потрескивание кедровых орехов. Потом Шурка жарил ореховые ядрышки на противне, толок их в кастрюле, превратив орехи в густую маслянистую массу. Сидя в лаборатории, Пронина с подозрением прислушивалась к этому «колдовству» на кухне. А когда Шурка принес в стакане для пробы густоватую жижицу, напоминавшую по цвету томленое в русской печи молоко, она не без опаски попробовала ее на язык, будто хотела определить, насколько ядовито это снадобье. Каково же было ее удивление, когда она почувствовала во рту знакомый и очень приятный вкус настоящих сливок! Да что там обычные сливки, эти были вкуснее! Скорее похоже на «поджаренные» сливки, которые снимают с сильно перекипяченного молока. Добавленные в чай, они делали его ароматным и очень аппетитным.
А как-то вечером Шурка, вернувшись из тайги, спросил, весело ухмыляясь:
— Надежда Михайловна, хотите медвежатины? Медвежью берлогу сегодня нашел…
— Шура, ну не порть мне, пожалуйста, аппетит, — Пронина болезненно сморщилась. — Мы уж, кажется, объяснялись с тобой на этот счет летом, помнишь?
— Помню, но тогда дело было другое, тогда вы были не такой, как сейчас…
— А какой я стала сейчас? — Пронина с любопытством посмотрела на Толпыгу. — Ты хочешь сказать — не такой щепетильной?
— Наверно, — неопределенно ответил Шурка.
Эти слова — «тогда вы были не такой» — долго потом звучали в ушах Прониной. Почему она стала «не такой»? Она все думала и искала ответа на этот вопрос. Пронина видела перед собой цель, стремилась к ней. Что касается каких-то перемен, то она их попросту либо не замечала, либо не придавала им значения. Шурка и Владик были как бы барометром, по которому, она судила о своей «погоде», — где правильно и где неправильно она ведет себя.
В последних числах октября выпал первый снег, за ним наступили сначала ночные заморозки, а потом морозы. Скоро на Сысоевском ключе и на Бурукане стали появляться забереги, которые в несколько дней соединились, надолго заковав ледяной броней реку и ее притоки. С первыми снегами и морозами Прониной с новой силой овладело чувство оторванности. В иные минуты ей казалось, что она уж больше никогда не вырвется из плена этой суровой, леденящей душу глухомани. Но она крепилась и не подавала виду ребятам.
Как-то Пронина в сопровождении Владика отправилась к аппаратам. Пока Владик брал пробу икры, спустившись под лед в гидрокостюме, Пронина стояла возле проруби и наблюдала за ныряльщиком; сквозь темную воду едва просматривались причудливые очертания человека, похожего на какой-то страшный подводный призрак. Вдруг до ее слуха долетел шорох из лесу. Оглянувшись, она оцепенела: метрах в двадцати от Сысоевского ключа под старой елью стоял медведь — темно-бурый, очень мохнатый, со светлыми подпалинами. Высоко подняв морду, он водил черным пятачком носа, узкие ноздри его ловили воздух. Пронина даже крикнуть не могла, вся скованная ужасом. Только в ту секунду, когда из проруби показался Владик, — Прониной показалось, будто прошла целая вечность, — она закричала. Владик услышал ее даже сквозь маску гидрокостюма и торопливо выбрался из проруби. Видимо, появление нового человека вспугнуло зверя, медведь круто повернулся на задних лапах и в несколько скачков скрылся в чаще леса. Владик не видел медведя, но по выражению бледного лица Прониной понял, какой страх только что пережила она. Схватив ружье, которое стояло возле опоры навеса, он бросился в лес, но медведя уже и след простыл.
Пронина еще долго не могла прийти в себя.
— Я чуть не умерла от страха, — рассказывала она Владику, когда тот снял гидрокостюм. — И, оказывается, напрасно, — такой страшный зверь и убежал!
Она потом всю дорогу до зимовья не переставала рассказывать в мельчайших подробностях историю появления и бегства медведя.
Толпыга, узнав о медведе, был немало обрадован.
— Это шатун. На запах воды пришел, — объяснил он причину появления медведя. — А все-таки этот зверь опасен, Надежда Михайловна…
— Да? Тогда я больше не хотела бы встречаться с ним, — испуганно говорила Пронина. — Как же я теперь буду ходить на аппараты?
— Ничего, Надежда Михайловна, — успокоил ее Толпыга. — Я выслежу его и убью.
— А он тебя не задерет? — у Прониной округлились глаза. — Ты ведь говорил летом, что раненый медведь бросается на охотника…
— Я постараюсь не ранить его, а бить наповал, — без бахвальства отвечал Толпыга. — Мне не первый раз…
Четверо суток выслеживал Толпыга медведя. В трех местах он положил приманку — ободранные тушки зайцев, пойманных петлями, в двух местах, на незамерзших еще перекатах Сысоевского ключа, набросал несколько кетин. Но зверь был очень осторожен и не подходил к приманкам. Только рано утром на пятые сутки голод привел его к рыбе. Шурка Толпыга был в засаде именно у этой приманки. Он сделал только один выстрел жаканом. Пуля попала чуть ниже правого уха, уложив зверя наповал. Медведь был еще не стар, но довольно тощ.
Ликованию и восторгам Прониной не было конца, когда Толпыга привел ее и Владика к убитому медведю.
— Оказывается, все это не так страшно, как мне представлялось, — говорила она, сверкая сияющими глазами.
— Ну вот, — сказал Толпыга, принимаясь свежевать медведя, — а шкурку подарю вам, Надежда Михайловна. Вы первой увидели его и вам за это от меня подарок.
— Ой, что ты, что ты, Шура! Ведь это такая ценность! — возразила Пронина. — Уж лучше ты подари ее Васене.
— Для Васены у меня припасена другая шкура, — неумело подмигнул Толпыга. — Та, что еще в берлоге…
Вечером Толпыга приготовил великолепное жаркое из медвежатины, истомив его в наглухо закрытой кастрюле. Вид и аромат блюда были настолько соблазнительны, что Пронина не удержалась и все-таки попробовала жаркое. А уже через минуту она с удовольствием ела его.
— Как многого я не знала и как все превратно понимала, когда впервые попала сюда летом, — откровенничала она за ужином. — Мне казалось, что жизнь в такой глуши — нечто ужасное. А вот сейчас пожила и вижу, что ничего страшного нет…
Но Владик и Толпыга хорошо видели, какой ценой доставалось ей это приближение к суровому быту в зимовье, через какие страхи и отчаяние приходила она к пониманию той простой истины, которую теперь высказывала. И ребята все больше проникались уважением к ней. Взять хотя бы тот же запах звериных шкур, которым пропиталась кухня-прихожая. Ребята да и сама Пронина не заметили, когда она перестала обращать на него внимание. Может быть, это случилось тогда, когда хорошо промороженная с солью, а потом подсушенная и отмятая шкура медведя легла ей под ноги и Пронина не могла нарадоваться подарку, или в другой раз, — но в один прекрасный день Пронина не стала замечать этого запаха.
Происходили в ней и другие перемены. Незадолго до Октябрьских праздников как-то вечером она сказала:
— Ну, мальчики, сегодня у нас санитарный день. Покажите свое постельное белье. В каком оно у вас состоянии?
Она пришла в ужас, когда увидела грязные простыни ребят. В тот же вечер в одной из ванн, в которых осенью оплодотворяли икру, кипятилось белье ребят. Почти весь следующий день она стирала, убирала зимовье. Праздник ребята встретили в чистом, словно обновленном своем жилище.
А в тот день, когда Толпыга принес медвежью шкуру, девушка, не зная, как его отблагодарить, предложила читать по вечерам для ребят лекции по энтомологии и основам биологии.
Так день ото дня все больше крепла хорошая, большая дружба между Прониной и ребятами. На долгие годы оставит эта дружба теплые воспоминания у трех обитателей зимовья. Что касается Прониной, то для нее эта дружба означала глубокую, коренную перестройку характера и наклонностей. Давно сказано, что человек познается в трудностях. Так-то оно так, да только к этому надо бы еще прибавить: познается и исправляется, если есть в нем воля.
32. Сила любви
Лошадь устало тащит по рыхлому снегу тяжело груженные сани-розвальни. Снег еще не успел отвердеть, сани тонут в нем. В санях — Гоша Драпков и Колчанов. Гоша правит лошадью, Колчанов лежит на куче жердочек с пучками сена на концах. Это — вешки. Иногда Колчанов сходит с саней и ставит одну из них рядом со следом, оставленным санями. Там, где Бурукан делает крутой поворот или покажется полынья, Колчанов уходит вперед искать безопасный путь.
Так и движутся они, оставляя позади нескончаемую цепочку вешек, отмечающих безопасный проезд по Бурукану.
Чиста и бела снежная целина. Лишь кое-где она расписана самыми различными почерками звериных следов — заячьих, лисьих, соболиных, енотовых. А по краям полыней видны следы выдры: посредине прямая линия — след хвоста, а по бокам — ровный пунктир круглых точек — след лап.
Но Колчанов давно перестал обращать внимание на следы. Всю дорогу у него не выходит из головы Пронина. Его одолевают сомнения — правильно ли он поступил, так грубо и жестоко порвав отношения с ней. В первое время, вгорячах, он не брал под сомнение правильность этого поступка, но новый приезд Прониной на Бурукан пошатнул его убеждение.
Потом, за горячей страдой закладки аппаратов Вальгаева, ему было не до нее, у него попросту не хватало времени, чтобы как следует присмотреться к Прониной. Впервые он подумал об этом всерьез по возвращении на Чогор, когда обнаружил на своей раскладушке аккуратно сложенную стопку постиранных и заштопанных носков. Долго ломал он голову над тем, кто бы это мог сделать? «Неужели Надя? — думал Колчанов. — Что-то не похоже на нее… Надо спросить при встрече». Он хорошо знал, что во время летнего пребывания на Чогоре Пронина даже себе не стирала, нанимала Верку Лобзякову.
В Хабаровске ему опять напомнили о Прониной.
— Что у вас там случилось, Алеша? — делая страшные глаза, спрашивала его в приемной директора института секретарша. — Она ужасно переживала, пока была здесь.
То ли из-за напоминаний о Прониной, то ли по иной причине, но Колчанов никогда еще не чувствовал себя так одиноко, как в Хабаровске. Он понял: ему не хватает Нади. Снедаемый тоской, он зашел в парфюмерный магазин и купил флакон самых дорогих духов, а потом в гастрономе — коробку конфет, шоколадный набор. Для чего? Возможно, для Нади…
Вернувшись на Чогор, он стал собираться в зимовье, и снова был тронут, взяв свою меховую куртку. Он хорошо помнил, что у нее были оторваны две верхние пуговицы, распороты швы. На душе у него стало тепло-тепло. «Надя, больше некому. Она это сделала», — растроганно подумал он.
Так по крупице собиралось и вновь складывалось в единое целое большое чувство, разрушенное в один роковой день, — любовь к Наде Прониной. Но Колчанов был уже достаточно научен горьким опытом. В памяти время от времени еще возникала картина бегства Прониной с Чогора, и тогда появлялось недоверие: а не ошибается ли он и на этот раз?
С такими противоречивыми чувствами подъезжал Колчанов поздним зимним вечером к затерявшемуся среди дикой и суровой глухомани зимовью.
Они заметили красноватый глазок окошка издали, и у Колчанова дрогнуло сердце. Лошадь почувствовала близость жилья, заметно приободрилась и прибавила шагу.
В тот вечер Владик и Толпыга занимались английским языком. Пронина им помогала. В подслеповатое окошко смотрела черная таежная тьма. Оцепенелая зимняя тишина лишь изредка нарушалась потрескиванием деревьев. Толпыга бормотал английские слова, переписывая их в тетрадь, — они переводили с английского на русский. Внезапно он вскинул голову, посмотрел на окно, прислушиваясь.
— Едут! — вдруг заорал он, насмерть перепугав Пронину. — Наши едут! — С этими словами он опрометью кинулся в дверь. За ним — Владик и Пронина, наспех накинувшая на плечи свою дорогую беличью шубу.
Сердце девушки тревожно билось, когда она ловила в глухой тишине и этой пугающей темени скрип саней, пофыркивание лошади, человеческие голоса.
— Крикнуть? — спросил Шурка.
— Покричи, Шура, покричи, — шептала Пронина, — а то вдруг проедут мимо…
— Ого-го-го-о! — загорланил Толпыга.
— Ого-го-го-о! — ответил, как эхо, голос из темноты.
— Ясно, — бодро сказал Шурка. — Алексей Петрович едет.
Прониной показались вечностью минуты, пока сани приближались к зимовью. Когда в темноте на фоне снега показались очертания санной упряжки, Толпыга, а за ним остальные бросились навстречу.
Если б даже между Колчановым и Прониной никогда не было любви и дружбы, больше того, будь они просто товарищи по труду, — встреча в таких условиях все равно была бы большой радостью. Тот, кому доводилось подолгу жить в глухих местах, в уединении, хорошо знает это. Пронина и Колчанов пожали друг другу руки. Что-то уже передалось через рукопожатие, потому что Пронина робко шагнула к Колчанову и прислонилась головой к его плечу, словно ища у него защиты. Колчанов немного неуклюже погладил ее по шелковистым, в снежинках, волосам, глуховато спросил:
— Как ты тут, Наденька?
Этого было вполне достаточно для Прониной, чтобы почувствовать себя счастливейшим человеком на свете.
Весь вечер она не спускала глаз с бесконечно дорогого ей лица.
Пока ребята переносили из саней в избушку продукты, Пронина хлопотала у печки. Колчанов еще никогда не видел ее в роли стряпухи и теперь тайком присматривался к ней. На душе у него становилось как-то спокойно и уютно — рушились последние его представления о Прониной, как о праздной белоручке. А она в тот вечер прямо-таки вдохновенно исполняла роль поварихи. Не успели ребята раздеться, как на плите все кипело, запах поджариваемого мяса перемешивался с душистым ароматом кофе.
— Знаешь, Надя, а ты совсем хорошо выглядишь, — вполголоса говорил Колчанов. — Ты даже похорошела. А я-то, грешным делом, думал, что ты здесь захиреешь.
— Спасибо, Алеша, за комплимент, — отвечала Надя, румяная не то от печного жара, не то от смущения.
— В тебе появилось что-то новое, — продолжал Колчанов. — Что именно — не пойму.
— Не знаю, тебе виднее, Алеша…
— А как чувствуешь себя? Сильно скучаешь о Москве?
— Нет. Привыкаю…
— Да… А вот я так скучал о тебе.
Он вышел и скоро вернулся с подарками. Пронина тщательно вытерла руки о полотенце и осторожно приняла упакованные коробочки. Ей хотелось выглядеть спокойной, но это оказалось не под силу в такую минуту. Выдали глаза — слишком горячо блестели они, когда она распаковывала коробки. И вот перед нею ярко раскрашенные, изящные, такие милые ее сердцу предметы из того большого мира, который она бесконечно давно покинула.
— Спасибо, Алешенька, — тихо сказала она, потрясенная столь неожиданным вниманием.
— Надя, ты останавливалась в моей комнате, когда ехала сюда? — спросил Колчанов.
— Да. А что?
— Я там нашел следы доброй феи, — Колчанов улыбнулся. — Не ты ли их оставила?
— Не понимаю, Алеша, о чем это ты?
Она не притворялась, она просто не думала о том, что сделала, и теперь не понимала, о чем идет речь. Только услышав о носках и куртке, она беззаботно рассмеялась и сказала:
— Если сделала плохо, извини, Алеша. Но я испытывала потребность сделать что-нибудь для тебя. Ты доволен?
— Доволен — не то слово, Наденька.
Ужинали в лаборатории — там было просторнее. И тут еще один знак нежданного и трогательного внимания к Прониной: Колчанов поставил на стол бутылку муската — любимого вина Нади.
Через два дня санная подвода ушла на Чогор. С нею уехал Владик — его заменил Гоша. Раз в неделю подвода теперь будет приходить сюда, чтобы поддерживать связь бригады с зимовщиками и привозить продовольствие.
С приездом Колчанова Пронина перестала замечать, как бегут дни, будучи всегда чем-нибудь занята или увлечена. Она стала полноправной хозяйкой на кухне и уверяла, что это ей доставляет удовольствие. По ее же настоянию мужчины срубили рядом с зимовьем курную баньку, и каждая суббота теперь была «банным» днем.
Никогда еще в жизни Прониной счастье не было таким полным, как в эти дни. Тайга перестала пугать ее своей дикостью и суровостью, а оторванность не только не тяготила, но, казалось, придавала зимовке особую романтичность. Пронина и Колчанов вместе ходили проверять инкубаторы, могли подолгу оставаться вдвоем, вдоволь любоваться красотой зимних пейзажей, говорить обо всем вволю.
Однажды они возвращались с Сысоевского ключа. Стоял ослепительно солнечный день, снег искрился так ярко, что больно было глазам; легкий морозец приятно пощипывал и румянил щеки. Вдруг Колчанов остановился и с улыбкой посмотрел на Пронину:
— А не пора ли нам в конце концов пожениться, а?
Эта мысль пришла к нему уже больше недели назад, и теперь он просто воспользовался подходящим моментом.
— Я давно готова к этому, Алешенька, — она встала против него, спрятала в отвороты его куртки лицо и разрыдалась. — Не обижайся на меня, милый, — сдавленно шептала она. — Это от счастья. Я ведь так боялась потерять тебя навсегда…
Колчанов бережно взял в свои огрубевшие ладони ее раскрасневшееся хорошенькое личико, посмотрел в мокрые от слез глаза-васильки и стал целовать их.
— А свадьбу сделаем здесь, в зимовье? — спрашивала она, задыхаясь в его тисках.
— Я думаю, лучше на Чогоре. И под Новый год. Идет? Там ведь вся бригада, а мне еще хочется и Филимоныча со старухой пригласить.
— Я согласна, Алешенька, но успеем ли мы подготовить все? До Нового года осталось ведь немного.
— Успеем. Послезавтра придет с Чогора подвода. С нею мы уедем на Чогор, а оттуда — в Средне-Амурское, чтобы купить необходимое для такого случая.
Шурка Толпыга, узнав, что у Колчанова и Прониной предстоит свадьба, сказал, улыбаясь:
— А что, Алексей Петрович, может по этому случаю все-таки выкурим моего медведя из берлоги?
— Идея, Шура! — с энтузиазмом воскликнул Колчанов; он уже давно не бывал на охоте. — Завтра же утром!
Надя пришла в ужас от этого разговора. Она долго уговаривала Колчанова не ходить на медведя. Но он был непреклонен. Еще бы, такой удобный случай!
— Тогда и я пойду с тобой! — решительно сказала она.
— Но при одном условии, Надежда, — серьезно предупредил Колчанов: — во время охоты от меня ни на шаг! Будешь стоять только там, где я тебе скажу.
— Хорошо, Алеша, я согласна…
…Утро выдалось пасмурное, в воздухе кружились снежинки, почти неслышно касаясь лица. На охоту вышли все, включая и Гошу Драпкова.
Берлога находилась километрах в пяти от зимовья, вверх по Сысоевскому ключу. Тропинка шла только до верхнего аппарата, а дальше начиналась снежная целина. Идти стало трудно, через каждые пятьсот метров садились отдыхать. Колчанов несколько раз предлагал Наде вернуться, но она, улыбнувшись, продолжала упорно идти вперед.
Наконец Шурка Толпыга остановился, вполголоса сказал:
— Осталось метров двести, вон в том буреломе. — Он показал в сторону темного распадка.
— Тогда — отдых, и никаких шумов! — шепотом объявил Колчанов. Он смахнул валенком снег с толстой колодины и все уселись на ней.
Охотники еще раз проверили в казенниках своих дробовиков заряженные жаканами патроны, рассовали по карманам запасные.
— Какой план примем, Алексей Петрович? — шепотом спросил Толпыга.
— Самое удобное, я думаю, стать с боков от лаза и бить. А Гоше поручим шуровать шестом. Не боишься, Гоша? Ну, тогда отдай ему, Шура, шест.
И вот перед ними берлога. У охотников наготове ружья, у Гоши — длинный шест. Хозяин тайги выбрал себе убежище в довольно укромном уголке. Когда-то ветром повалило старое дерево. Падая, оно выворотило вместе с землей все свои корни. На это дерево упали другие деревья, их оплели лианы лимонника, актинидии, а теперь еще завалило снегом. Свою берлогу медведь устроил под самым комлем выворотня.
Подходы к берлоге Толпыга давно уже исследовал. Переговариваясь знаками, охотники быстро заняли свои места: Колчанов — со стороны корневища, Толпыга — с противоположной стороны. Пронина послушно и пугливо стала за спиной Колчанова. Гоша приготовился орудовать шестом.
— Ну, давай, Гошка! — скомандовал Толпыга, видя нерешительность друга.
Руки у Гоши тряслись, когда он стал засовывать в лаз острый конец шеста. Долго он возился, пока шест прошел под выворотень. Неожиданно он уперся во что-то мягкое.
— Медведь, должно… — дрожащим голосом прошептал Гоша.
— Да шуруй ты, шуруй сильнее! — заорал на него Толпыга.
Заметно робея, Гоша стал тыкать сильнее, но вдруг, бросив шест, в панике кинулся за Колчанова: в берлоге что-то затрещало, оттуда донесся глухой рык. В ту же секунду снег у лаза зашевелился и высунулась большая бурая голова с мохнатым загривком, вся обсыпанная снегом. Выстрелы прогремели почти одновременно. Медвежья голова ткнулась носом в снег.
— Держать ружья наготове, а я попробую его стволом, — сказал Колчанов Толпыге. Но зверь уже не подавал признаков жизни, его открытые глаза остекленели.
Пронина, с замиранием сердца наблюдавшая из-за спины Колчанова за происходящим у лаза, спросила шепотом.
— Все? Убили?
— Все, убили, — прошептал Колчанов, комично подражая невесте, и все дружно рассмеялись. — Но выходить еще рано, — заметил он. — В берлоге может оказаться второй медведь. Бывает, что целым семейством забираются.
Но сколько ни шуровали они в берлоге, оттуда больше никто не показывался.
Вытащив медвежью тушу из лаза, охотники принялись орудовать ножами. Вскоре была снята шкура, вырезано несколько лучших кусков мяса, нутряной жир, печенка и желчь, которую в народе ценят как лечебное средство.
К обеду охотники были уже дома. А назавтра, когда в зимовье пришла подвода, Толпыга съездил верхом на лошади к берлоге и привез вьюком всю медвежью тушу.
В воскресенье Колчанов и Пронина покинули зимовье. Последние дни года были заполнены у них заботами, совсем не похожими на прежние, — покупки, покупки. Колчанов даже слетал из Средне-Амурского в Хабаровск за новым костюмом себе и подарками для Нади.
Свадьба состоялась, как и наметили они, под Новый год — веселая, с песнями, музыкой и состязаниями плясунов. Это был большой праздник для всей бригады.
33. Буруканская весна
Раньше обычного пришла весна на Бурукан. Уже к концу марта снег на реке и прибрежных галечниках сошел совсем, а наледи изъели ледяную броню не только на притоках, но и в самом русле Бурукана.
На аппаратах Вальгаева наступала самая ответственная пора — выход мальков кеты из своих убежищ. С утра до вечера не покидали теперь зимовщики Сысоевского ключа. Весна наступала дружно, лед на запрудах, где находились аппараты, почти совсем уже растаял, а начавшаяся прибыль воды могла в любую минуту смыть наскоро сооруженные плотники. Чтобы этого не случилось, нужно было все время спускать из запруд излишек воды. Правда, личинки кеты давно уже вылупились из икры превратились в мальков, способных передвигаться, но они еще недостаточно развились и в случае прорыва плотинок могли погибнуть.
Многие мальки уже рассосали «желточные» мешочки, содержащие запас питания, вышли из аппаратов, и теперь целые тучи их носились в прозрачной воде запруд. Назрела еще одна проблема — пропитание этого несметного потомства. В естественных условиях заселенность нерестилища мальками позволяет каждой рыбке найти себе еду. К тому же возле нерестовых бугров обычно до весны лежат и разлагаются остатки рыб-производителей, которыми и питаются мальки. По совету Вальгаева с осени было оставлено у каждого инкубатора по два десятка рыбин, но хватит ли этого питания малькам, было еще неизвестно. Поэтому еще зимой сюда было завезено несколько мешков трухи из рыбных отходов, приготовленной по рецепту Вальгаева. Теперь зимовщики все время высевали в каждую запруду по нескольку килограммов этой трухи.
Однажды утром — это было в первых числах апреля — обитатели зимовья вышли из избушки, чтобы идти на аппараты, как вдруг услышали характерный шум мотора где-то в низовьях Бурукана.
— Похоже, вертолет, — сказал Толпыга. — Уж не к нам ли?
Вскоре из-за сопок действительно показался вертолет. Он летел на высоте не более двухсот метров над самым руслом реки. По мере того как вертолет приближался к зимовью, он все более снижался. Когда он повис над берегом рядом с избушкой, грохот мотора и бешеный ветер от лопастей винта заставили всех укрыться за углом избушки. Вертолет приземлился в том же месте, где садился в прошлом году, когда вылетал на поиски Колчанова.
— Николай Николаевич! — вдруг закричал Колчанов и бросился к вертолету.
Да, в окошке машины показалась весело ухмыляющаяся физиономия профессора Сафьянова. Но он был не один. Из открытой дверцы вертолета вылезал Званцев. За ним показался Вальгаев, а потом сошел на землю и профессор Сафьянов.
— Ну, как вы тут, не одичали еще? — весело гудел он, обнимая своими ручищами одним захватом Колчанова и Пронину. — Еще не стали людоедами?
— Нам медвежьего мяса хватает, Николай Николаевич, — шутила Пронина.
— Ишь ты? Так-таки хватает? — гремел профессор. — Уж не Надежда ли Михайловна охотится за ними?
— Бывает, что и она, — ответил Колчанов.
— Впрочем, одного медведя, упромышленного ею, я уже вижу — вот он! — Сафьянов ткнул своим длиннющим пальцем в грудь Колчанова, и все громко расхохотались.
— Но какими судьбами вы здесь, Николай Николаевич? — нетерпеливо спрашивал Колчанов, когда улегся шум встречи.
— История длинная. Потом расскажу, Алешка, — отвечал профессор, кладя руку на плечо Колчанова. — Короче говоря, участвовал в зональной конференции Восточной Сибири и Дальнего Востока по производительным силам. Ну и решил заглянуть к своим аспирантам-заочникам, поблагодарить тебя за толковый отчет о работе экспедиции, а вас обоих — поздравить. Молодцы, что поженились!
Пока гости осматривали зимовье, восхищаясь тем, как хорошо здесь устроилась дружная четверка зимовщиков, Вальгаев нетерпеливо досаждал Колчанову своими вопросами:
— Ну как, Алексей? Ну хоть одно слово! Много погибло?
— Подожди, пойдем сейчас, сам увидишь…
— Да ты хоть одно слово скажи, черт!
— В двух аппаратах сапролегния погубила до тридцати процентов икры. Не доглядели мы тогда, а Терехин и Феропонтов засыпали в фильтры загрязненный песок. В другой паре отход составит, наверное, процентов десять, — откуда-то глина попала. А в третьей — вообще никакого отхода в икре, вот только малька теперь нужно уберечь…
— Та-ак, — в раздумье произнес Вальгаев, почесывая затылок. — Тогда вот что, Алексей, — решительно сказал он. — Дай мне гидрокостюм и акваланг, я побегу. Пока ты тут будешь занимать важных гостей, я слазаю, сам посмотрю…
Отговаривать Вальгаева в эту минуту было все равно, что перешибать плетью обух. Получив ныряльное снаряжение, он ринулся в сторону Сысоевского ключа. Пока пришли туда гости в сопровождении Колчанова и Гоши Драпкова, Вальгаев побывал уже под водой в двух запрудах. Похожий в подводном облачении на марсианина, он вылез из воды второй запруды. Подошли Сафьянов, Званцев, Колчанов и Гоша.
— Ну, как оно там? — спросил Сафьянов, когда Вальгаев снял маску.
— А вы полезайте туда сами, Николай Николаевич, — с обычной своей грубоватой прямотой пробубнил Вальгаев. — А то еще не поверите мне.
— Верю, верю, дорогой дружище, — отвечал профессор, весело ухмыляясь. — Лезть под воду мне не с руки, да и незачем. Я и так вижу, — он показал на мелкую заводь, на дне которой на сугреве кишмя кишела лососевая молодь. — И сколько их здесь, этих крошек? — спросил он Колчанова, обняв его за плечи и по-отечески заглядывая ему в лицо.
— По моим подсчетам, Николай Николаевич, не меньше десяти миллионов.
— Да ну?! — воскликнул Званцев. — Десять миллионов?! Ай да молодцы, молодцы, ребята! Спасибо, товарищ Вальгаев, спасибо, Алеша, — он крепко пожал им руки. — Этак вы же целую революцию сделаете в нашем рыбном деле…
— Уже, кажется, сделали, дорогой Иван Тимофеевич, — раздумчиво сказал профессор Сафьянов.
В праздничном настроении возвращались все с Сысоевского ключа. А в зимовье их ожидал вполне соответствующий этому настроению обед, в меню которого, к величайшему удивлению профессора Сафьянова, и в самом деле оказалась тушеная по-охотничьи медвежатина.
— Это тот самый медведь, Николай Николаевич, в охоте на которого принимала участие Надя, — сообщил Колчанов, когда мясо было разложено по мискам.
— Если в этом есть хоть десятая доля правды, — гремел Сафьянов, посылая в рот душистый кусок, — я ничего не понимаю в современной молодежи…
Ему никто не возразил, только Надежда Михайловна весело рассмеялась:
— Десятая не десятая, Николай Николаевич, а сотая есть.
— Как с Кондаковым решили, Иван Тимофеевич? — спросил Колчанов, когда за столом стало тихо.
— А разве ты не знаешь? — Званцев с удивлением посмотрел на него. — С работы снят, из партии исключен, осужден условно на два года.
— Кто вместо него?
— Пока никто, — отвечал Званцев. — Но это один из вопросов, которые мне предстоит решить здесь. Лидия Сергеевна предлагает назначить районным рыбинспектором Александра Толпыгина.
Толпыга покраснел:
— Что вы, Иван Тимофеевич, разве я гожусь?
— Годишься, Шура, очень годишься, — сказал Колчанов. — Дело ты знаешь ничуть не хуже Кондакова.
— Лучше, — поддержал секретарь райкома. — Ведь Кондаков — профан в рыбной науке.
— Я — за! — одобрительно пробасил Колчанов.
— И еще есть предложения, — продолжал Иван Тимофеевич. — Райком комсомола создает сейчас во всех рыболовецких колхозах рыбоводно-рыболовецкие молодежные бригады по чогорскому образцу. Некоторые товарищи из вашей бригады должны стать их организаторами и руководителями. Вот кого мы рекомендуем. — Званцев достал записную книжку. — Старикова Владислава, Драпкова Георгия, Тумали Сергея, Гейкер Иннокентия, Лобзякову Веру и Феропонтова Андрея.
— Я против Феропонтова, — возразил Колчанов. — Человек он инертный, ихтиологии почти не знает и к тому же весьма недобросовестный. По вине Феропонтова и Терехина в два аппарата был засыпан в фильтровальный колодец заиленный песок, в результате получился большой отход икры.
— Отвод принят, — согласился Званцев.
— И у меня есть замечание, — вмешался Толпыга. — Стариков и Лобзякова весной поженятся, так что их надо намечать вместе.
— Причина веская, принимается, — под общий одобрительный гул сказал секретарь райкома. — Может, еще кто-нибудь женится из тех, кого мы распределяем?
— Есть такие, — произнес Толпыга и покраснел. — Мы с Васеной Свиридовой женимся…
Пронина захлопала в ладоши, за нею захлопали все сидящие за столом.
— Что ж, поздравляю, Шура, — тепло сказал Званцев под одобрительные возгласы. — Да-а, — продолжал он. — Бригаду-то на Чогоре придется довольно крепко доукомплектовать. Но у нас резерв для этого есть — очень много среднеамурских ребят просятся на Чогор.
Двое суток прожили гости в зимовье. За это время в плотинах запруд были сделаны свободные проходы, и уровень воды понизился на целый метр. Теперь паводок не угрожал размывом плотинок. По настоянию профессора Сафьянова Колчанов и Пронина выезжали в Хабаровск для отчета, так как на аппаратах вполне могли управиться Шурка Толпыга и Гоша Драпков.
Сначала вертолет вывез в Средне-Амурское Званцева, Сафьянова и Вальгаева, а во второй половине дня прилетел за Колчановым и Прониной. Они уселись на своих местах в вертолете. Мотор взревел, и машина оторвалась от земли.
— Ой, Алешенька, — Надя слегка вздрогнула.
— Что такое?
Он посмотрел ей в лицо. Взгляд Нади застыл в каком-то неопределенном выражении — она к чему-то прислушивалась. Потом склонилась к нему и, тихо смеясь, прошептала:
— Шевельнулся…
Колчанов притянул ее к себе, долго гладил по голове. А под вертолетом все шире расстилалась величественная долина Бурукана. Синяя весенняя дымка пронизала весь воздух, скрадывая очертания скал, деревьев, галечных берегов.
— Как я сроднилась с этими местами, Алешенька, — говорила ему на ухо Пронина. — Только тут я поняла смысл слов Петра Григорьевича. Помнишь, как он сказал однажды летом, имея в виду, конечно, меня: «Смысл жизни не в том, что мы умеем красиво ходить по тротуарам. Смысл — в нашем умении пробираться сквозь любые дебри, через горные кручи и бурные реки, через любые ухабы — к цели!»

А. М. ГРАЧЕВ
Александр Матвеевич ГРАЧЕВ родился в 1912 году на хуторе Меркуловском Вешенского района Ростовской области в бедняцкой казачьей семье. В детстве батрачил у кулаков. Четырнадцати лет вступил в комсомол, принимал активное участие в коллективизации донского казачества.
В 1932 году, после демобилизации из Красной Армии, приезжает на строительство города юности — Комсомольска-на-Амуре. К этому времени относятся его первые корреспонденции в местных и центральных газетах, первые очерки и рассказы. Романтика Дальнего Востока, размах социалистического строительства, — все это увлекает А. М. Грачева. Герои его произведений — энтузиасты великой стройки, люди, с которыми писатель ежедневно общается. Тогда же рождается замысел романа о строителях Комсомольска-на-Амуре «Первая просека».
А. М. Грачев — автор повестей «Тайна Красного озера», «Падение Тисима-Ретто», «Сторожка у Буруканских перекатов», романа «Первая просека», многих рассказов, очерков, публицистических статей. Ныне он с увлечением работает над новым романом.
Ряд его произведений переведен на иностранные языки и языки народов братских республик.

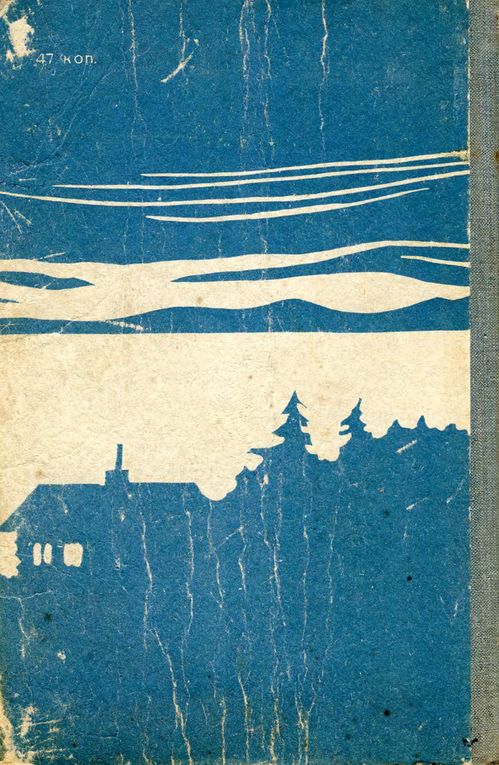
Оглавление
1. Экспедиция профессора Сафьянова
2. На поиски Колчанова
3. Происшествие на Бурукане
4. Это не нравится профессору
5. Разлад
6. Предложение Гаркавой
7. На Чогор!
8. На распутье
9. Идет-гудет Зеленый Шум…
10. День сюрпризов
11. Новые знакомства
12. Хитрость Званцева
13. В гости к Вальгаеву
14. Разговор в ресторане
15. Так приходит любовь
16. Каждый познается по-своему
17. Когда преследуют подозрения
18. Экспедиция отправляется на Бурукан
19. Испытания
20. Подводная находка
21. Последнее испытание
22. Встреча в Потайной протоне
23. Изгнание
24. По приговору совести
25. Бивуак на Бурукане
26. Веркин триумф
27. Страда
28. С поличным
29. Беспокойное утро
30. «Свои или чужие?»
31. Трое в зимовье
32. Сила любви
33. Буруканская весна
А. М. ГРАЧЕВ


 1. Экспедиция профессора Сафьянова
1. Экспедиция профессора Сафьянова