Томас Мертон. Философия одиночества

От переводчика

По свидетельству самого Томаса Мертона, в эссе об одиночестве он сказал самое главное, быть может, единственное, что он вообще должен был сказать. Написал он его между 1953 и 1955 гг., вступая в пору творческой и монашеской зрелости.
Мертон ушёл в монастырь в 1941 г., двадцати семи лет от роду. К шестому году монашества он закончил знаменитую внушительного объёма автобиографию «Семиярусная гора». Спустя ещё два года – первую редакцию «Семян созерцания», ставших духовной классикой. Если учесть, что он ещё вёл дневник, писал стихи, книги для ордена, готовился к принятию сана и наравне с остальной братией подвизался в самом строгом католическом (траппистском) монастыре, то станет ясно, почему он так устал к началу 50-х. Говорят, Мертон был тогда на грани срыва. «Восхождение к истине», книгу о духовности горячо им любимого св. Иоанна Креста, он писал уже из последних сил.
В 1953 г. аббат отдал Мертону заброшенный сарай в полумиле от монастыря и разрешил ему оставаться там до ужина. В своём временном скиту Мертон стал медленно оправляться от духовного и творческого кризиса и снова заплодоносил. В 1955 г. был издан прекрасный сборник эссе о духовной жизни «Нет человека, который был бы как остров». «Одинокие думы» напечатали в 1958 г., но писал их Мертон, как и публикуемое эссе «Заметки о философии одиночества», в том же скиту. Эссе раскрывает многое из того, что в «Одиноких думах» лишь обозначено.
Перед тем, как эссе вышло в 1960 г. в сборнике «Спорные вопросы», Мертон ещё раз его переработал, чтобы дополнить и подправить те места, которые особенно задевали придирчивых орденских цензоров. Годом раньше Мертон написал «Внутренний опыт». Тема двух «я», истинного и ложного, перешла оттуда в заключительную часть эссе и потом – во вторую редакцию «Семян созерцания».
Заинтересованный читатель сможет больше узнать о творческом и духовном пути Мертона из публикуемой в этом сборнике статьи о. Иакова Коннера, его ученика и соратника, а о самом эссе – из статьи о. Уильяма Шеннона, автора нескольких книг о Мертоне, основателя Международного общества Томаса Мертона и его первого президента.
К сожалению, русский перевод не смог до конца вместить авторское различие между «человеком, любящим уединение» (solitary) и «отшельником» (hermit). Мертон использует слово
solitary в основном в первой, скорее философской, части эссе, подчеркивая, что внутреннее одиночество присуще каждому из нас. Подробнее об этом пишет в своей статье о. Уильям Шеннон.
«Философия одиночества» была актуальна тогда, когда Мертон её писал, но актуальна она и сегодня, потому что подобные тексты не стареют. После того, как на русском изданы биография Мертона и две его книги, где тема одиночества затронута, но до конца не раскрыта, к счастью, пришёл черёд и этого эссе, которое многие считают одним из его лучших.
Андрей Кириленков.
Москва, Пасха 2007.
Переводчик благодарен о. Уильяму Шеннону и о. Иакову Коннеру за разрешение напечатать их статьи; Энн Маккормик, члену Попечительского совета наследия Томаса Мертона, – за помощь с получением прав на публикацию и дружескую поддержку; Полу Персону, директору Центра Томаса Мертона в Луивиле, – за разрешение работать в архиве Центра и помощь; брату Полу Квеннону, брату Патрику Харту, монахам Гефсиманского аббатства, – за поддержку и рассказы о Мертоне, которые помогли переводчику войти в его мир и лучше его понять.
Томас Мертон. Заметки о философии одиночества

Заметки о философии одиночества[12]
«Un cri d'oiseau sur les recifs...»
Сен-Жон Перс

I. 3АСИЛИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
1. Зачем я пишу об одиночестве? Определённо, не для того, чтобы его проповедовать, ведь подобные проповеди нелепы. Те, кому было суждено, уже уединились. В худшем случае они ещё не разобрались в себе, и тогда им нужно в этом помочь. Суть же дела в том, что все мы одиноки. Только большинство из нас одиночество страшит, и мы делаем всё, чтобы поскорее о нём забыть. Как нам это удаётся? Главным образом, благодаря развлечениям,
divertissement, как их называл Паскаль, – делам и удовольствиям, которые общество угодливо преподносит своим членам, дабы окончательно избавить их от самих себя.
Человек связан с обществом гораздо глубже, чем это кажется на первый взгляд. Тот же, кто заявляет, что выживет сам по себе, часто сам отчаянно от общества зависит. Его претензия на одиночество – только проявление несвободы, иллюзия индивидуалиста.
Помимо того, что общество охраняет нас, предоставляя нам самим решать свою судьбу, оно помогает нам стать личностью, перерасти самих себя в служении ближним. Однако, все время предаваясь развлечениям (в смысле
divertissement), личностью не станешь. Скорее – уснёшь, утонешь в теплом, оцепенелом равнодушии коллектива, который, в свою очередь, ищет только хлеба и зрелищ. Развлечения бывают вульгарны и глупы, а бывают фальшиво серьёзны, как, например, в тоталитарных режимах. Наше общество тяготеет к глупым, не препятствуя, впрочем, своим членам с угрюмой серьёзностью гоняться за деньгами и общественным положением и во всех грехах винить не себя, а тех, кто живёт при ином строе.
2. В таком обществе, как наше, одиночество многих тяготит и даже искушает. Изменить это я, наверное, не смогу, но поддержать искушаемых попытаюсь, поскольку о внутреннем одиночестве я знаю не понаслышке. Смею предположить, что если люди не находят покоя и в самых ярких развлечениях, которыми их задаривает общество, то не стоит искать
такого покоя. Не пора ли всем понять, что развлечения не столь необходимы, как о том упрямо и самодовольно твердят всевозможные дельцы? Не пора ли отвернуться от ловцов человеческих душ, которые весь свой талант посвятили культу рекламы? Свою жизнь вполне можно строить и без них. Не обещаю, впрочем, что дельцы перестанут нас донимать.
Не обещаю я и зажечь публику оптимизмом, разрешив все горькие трудности и сомнения внутреннего одиночества. О трудностях я ещё напишу, но об одной скажу сразу: нам очень нелегко принять собственную нелепость. Мы шарахаемся от мысли, что под нашей, казалось бы, понятной, «хорошо упорядоченной», разумной жизнью лежит бездна иррационального, беспорядка, бессмыслицы, самого настоящего хаоса. Это-то бездна и откроется нам, если мы откажемся от развлечений. Иначе и быть не может: отвергая развлечения, мы отвергаем и то безобидное на вид удовольствие, которое получали, предаваясь мечтам о себе и своём маленьком мире. Мы берём на себя всю тяготу своего положения и поворачиваемся лицом к сонму непостижимых вещей, которых прежде не замечали. К слову сказать, настоящая вера возможна лишь тогда, когда действительно принимаешь очевидную нелепость жизни. Если этого не сделать, то и вера превратится в развлечение, духовную забаву, игру в высокие и умные слова без всякой заботы об их истинном смысле и применимости к жизни.
3. Внутреннее одиночество требует от нас прежде всего веры и решимости самим отвечать за свою внутреннюю жизнь, готовности предстать перед её тайной в присутствии невидимого Бога. Мы должны в одиночку, непостижимым и невыразимым путём, пройти сквозь мрак своей собственной тайны и открыть, что она сливается с тайной Бога в одну – и единственную – реальность. Мы должны увидеть, что Бог живёт в нас, И мы – в Нём. Как это бывает, словами передать Невозможно, потому что слова не могут охватить реальность.
Только слова Бога, собирающие всех верных в «одно Тело», способны выразить тайну нашего одиночества и нашего единства во Христе. Только они способны указать нам путь во мрак и дать нам хоть немного света. Правда, при этом они теряют форму слов и становятся неизреченным биением Сердца в сердцевине нашего бытия.
4. Каждый человек одинок, крепко связан неумолимой одиночностью. Лучшее тому подтверждение – смерть, ибо она забирает людей поодиночке. В буквальном смысле колокол звонит только по тому, кто умирает сейчас. Но он звонит и «по тебе», ибо смерть – и твоя доля. Люди умирают
одинаково, хотя и в разное время. Когда живые собираются вокруг постели умирающего, их соединяет не только тайна смерти, но и тайна одиночества. Оказывается, единство может внятно и поверх слов говорить людям об их отделённости друг от друга. Каждый из нас умрёт, и умрёт
один. Значит, каждый должен и
жить один. (Почему люди никак этого не поймут?) Не забудем, что Церковь – это и общение, и одиночество. Умирающий христианин един с Церковью, хотя и в одиночку переживает ту же предсмертную муку, что и Иисус в Гефсиманском саду.
Очень немногие способны посмотреть этой правде прямо в глаза. Да и не многим это дано. Нужно иметь особое призвание, чтобы взять на себя всю тяготу одиночества. Предсмертная мука – именно такая «тягота». Умирающие несут бремя одиночества. Несут его и живые. В этом состоит «мука жизни». Если кто-то призван к одиночеству (хотя бы только внутреннему), то он должен делать одно, и одно с него спросится: он должен оставаться физически или духовно один, вести своё понятное единицам сражение. Его служение, общественное и духовное, состоит в том, чтобы пребывать одному в своей «келье», в настоящей или духовной келье своей непостижимой пустоты, чтобы, как говорили отцы-пустынники, «келья научила его всему».
5. Человек, действительно любящий уединение, – не просто беглец, которому опротивело общество. Бегство, отступление ведут к одиночеству нездоровому, бессмысленному, бесплодному. Отшельник, о котором я говорю, призван перерасти общество, а не вырваться из него: не убежать от общения с людьми, а отвергнуть видимое, мифическое единство в развлечениях, чтобы соединиться с людьми на более высоком, духовном уровне – в мистическом Теле Христовом. Отшельник отвергает единство, стоящее на вожделении, домыслах, привычках того или иного сообщества. Но поступая так, он достигает глубинного, невидимого, таинственного единства, которое делает людей «одним Человеком» в Христовой Церкви вопреки сообществам, чьи мифы и лозунги подчиняют человека разделению.
Итак, человек, любящий уединение, следует таинственному и, казалось бы, бессмысленному Призванию к сверхъестественному единству. Он внутри себя ищет единство духовное и простое, способное вобрать в себя всех людей, преодолеть разделения, противоречия, расколы. Человечество только тогда снова станет «Одним», когда каждый из людей будет «одно». Поэтому человек, любящий уединение, понимает, что образы и мифы того или иного сообщества, а попросту проекции общих идеалов, стремлений и грехов, могут поработить его и расколоть его на части.
Многое говорит в пользу иллюзий и домыслов, которые питает человеческое стремление самоутвердиться в том или ином сообществе, но многое говорит и против них. Освобождая человека от личной ограниченности, они помогают ему, до известной степени, перерасти самого себя. В совершенном сообществе это шло бы на пользу всем. В несовершенном – человек перерастает себя ровно настолько, чтобы стать послушным и безответным рабом коллективных потребностей, идеалов, страстей. Общество воспитывает человека, даёт ему знания, но оно же калечит его и развращает. Светское общество всегда несовершенно, всегда смешивает добро и зло, стремясь выдать одно за другое.
6. Сам по себе человек никогда не совершил бы тех преступлений, которые он охотно и браво совершает во имя общества, убедившего его (слишком легко), что зло оправдано, если творить его «ради общего блага». Взять, к примеру, расовую ненависть и травлю. Им потакают люди, которые считают, что они добры, терпимы, цивилизованны и даже гуманны (возможно, от части они действительно таковы). Но, растворившись в сообществе, они потеряли совесть. Такова плата за забвение, за то, что они пытаются изгнать из своей жизни одиночество, как экзорцист изгоняет беса из одержимого.
7. Отшельник призван сделать едва ли не самый трудный для человека выбор. Он должен совсем покинуть тех, кто тягу к развлечению и самообману принимает за зов истины и готов мобилизовать целую армию предрассудков, дабы отстоять собственную правоту. Этим отшельник обрекает себя на страдания и тяжкий труд ради верности Богу, мистическому Христу, всему человечеству, а не идолу, которому предлагает поклоняться общество. Он должен отвергнуть мнимое благо подручных иллюзий, позволяющих человеку легко предавать его глубинное «я», внутреннюю истину, или – образ Божий в его душе.
Расплата за такую верность – крайнее смирение, иначе говоря, – пустота сердца, в котором нет места самоутверждению. Ибо если отшельник не пуст и не целостен в глубине своей души, то он – просто индивидуалист, а его несогласие с обществом – не что иное, как бунт: подмена общественных идолов и иллюзий на те, что придумал он сам. Это, несомненно, величайшая из опасностей. Это тупик и безумие. Это путь в погибель.
Меньшим злом было бы приносить людям хоть какую-то пользу, забыв о себе, насколько позволяет общественный миф, чем жить мифом доморощенным, – не жить, в сущности, а спать. Как говорил Гераклит: «Не следует действовать и говорить подобно спящим... Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос; из спящих же каждый отвращается в свой собственный». Значит, настоящее одиночество – это не самовлюблённость и не сладкий сон, навеянный религиозными переживаниями. Это
полное пробуждение, разрыв со всеобщей дремотой, с чехардой снов, где очень мало по-настоящему полезного и плодотворного.
8. С самого начала должно быть ясно, что человек, действительно любящий уединение, живёт не среди доморощенных домыслов и иллюзий, а в пустоте, смирении, чистоте, вне досягаемости для лозунгов и тяги к развлечениям, отчуждающим его от Бога и от самого себя. Такой человек живёт в единстве. Его одиночество – это не спор, не обвинение, не упрек и не проповедь. Оно существует само по себе. Оно
есть, и потому не привлекает к себе внимания. Да оно и не хочет этого делать, оставаясь, в сущности, совершенно невидимым.
9. Теперь должно быть ясно, что я не собираюсь писать об одиночестве вычурном, упадочном, требующем признания; об одиночестве, которое, выделившись из толпы, с ещё большим удовольствием собирает внимание на самом себе. Я постоянно твержу об этом, но, к сожалению, меня не слышат. Те, кому моё предостережение нужнее всего, глухи. Они думают, что одиночество обостряет самосознание, помогает человеку получать больше удовольствия от самого себя, что оно – более тайное и более совершенное развлечение. Эти люди хотят не скрытой от внешних глаз метафизической муки отшельника, а шумного самовосхваления, ребяческой жалости к самим себе. В конечном счете, они хотят не пустыни, а материнской утробы.
Индивидуалист, на поверку, целиком принимает общественные домыслы, только использует их как выгодный фон, на котором отчетливей Видны домыслы, взращенные им самим. Не будь этого фона, он бы тут же забыл всё, что себе напридумывал.
II. В ГИБЕЛЬНОМ МОРЕ
1. Нет нужды повторять, что призвание к одиночеству (пускай только внутреннему) сопряжено с риском. Это знает всякий, испытавший одиночество на себе. Мука почти безграничного риска и образует суть этого призвания. Безопасным оно кажется только лжеотшельнику. Но его одиночество не настоящее; иначе говоря, оно построено на образе, всё том же общественном образе, с которого стерты привычные черты. Лжеотшельник воображает, будто он один, хотя он, как и прежде (если не сильнее), зависит от общества. Оно необходимо ему, как чревовещателю – подставное лицо. Он переносит свой голос на людей, и эхо доносит до него восторги, любовь, заверения в том, что его отделённость оценена или, по крайней мере, замечена.
Даже общественное осуждение радует и развлекает лжеотшельника, потому что в нём он слышит свой собственный голос, напоминающий ему об его отделённости, дорогой ему утехе. Но настоящее одиночество – это не отделённость, а путь к
единству.
2. Истинный отшельник ценит в отношениях с людьми всё самое существенное, человеческое. Он глубоко един с ними, потому что не связан их мелочными заботами. Он отверг расхожие представления и пустые символы, которые будто бы делают отношения искренней и плодотворней. Он порвал с распущенностью и тягой к развлечениям, с пустыми претензиями на общность, которые норовят подменить собой общность настоящую, неумело маскируя внутреннюю порчу, безответственность и эгоизм. Он удалился от шума вокруг общих успехов и достижений, который поднимает общество, стремясь польстить человеку, убедив его в том, что и он что-то значит.
Человек, находящийся во власти того, что я назвал «общественным образом», подмечает и взращивает в себе только то, что предписано обществом, как полезное и похвальное для его членов. Соответственно и осуждает он (обычно в
других) только то, что осуждает общество. Он тешит себя надеждой, что «думает сам», но его мысль – не более чем игра: он прячет подальше собственный опыт и использует слова, лозунги и понятия, которые ему навязаны. А точнее, общественные штампы незаметно прорастают в нём как семена, выдавая себя за его собственный «живой опыт». Может ли такой человек быть действительно «общественным»? Он находится в плену у иллюзии и отрезан от живого общения с ближними. Вот только «одиноким» он себя не чувствует!
3. Человек, любящий уединение, прежде всего гонит от себя общественные образы. Если его страна побеждает в войне или запускает ракету, он не гордится этим и не воображает, будто он к этому причастен. Если его страна богата и высокомерна, он не чувствует себя счастливее, честнее, сильнее, чем граждане стран «отсталых». Мало того, он отвергает войну и не видит большого смысла в полетах на Луну, а его доводы против всего этого так глубоки, непривычны, даже разрушительны, что общество не способно их принять. Иными словами, он презирает преступное, кровожадное высокомерие своей страны и своего класса не меньше, чем высокомерие «врага». Он ненавидит своекорыстную агрессивность в себе не меньше, чем в политиках, притворяющихся, будто они борятся за мир.
4. Большинство людей не могут полноценно существовать без домыслов. Если лишить их мифологии, которая объясняет их поступки, они придумают себе новую, менее действенную, но ещё более запутанную и примитивную. Говоря, что отшельник становится богом или зверем, древние имели в виду, что он либо достигает редкой духовной и умственной свободы, либо попадает в ещё худшее рабство. Отшельник легко может забрести в пещеру мрачную, населённую призраками гаже, и нелепей самых нелепых общественных образов. Страдание, которое выпадет тогда на его долю, не спасёт его и не возвысит. Оно его погубит.
5. В моих заметках вы не найдёте свода правил, по которым можно определить, годен тот или иной человек к одиночеству или нет. Но вот что я всё-таки скажу: тот, кто действительно призван к одиночеству, не должен воображать себя отшельником, не должен притворяться и строить иллюзии, будто он какой-то особенный – одинокий и совершенный. Он призван к пустоте. И в этой пустоте ему не на что опереться, чтобы сравнивать себя с другими. Мало того, он сознаёт, хотя и смутно, что вступил в
одиночество, которое действительно разделяют все. Совершенно неважно, одинок ли он сам и живут ли все остальные в обществе. Важно, что все люди одиноки, хотя общественный символизм и помогает им перехитрить их одиночество, сгладить его. Отшельник отвергает не единство с другими людьми, а обманчивые домыслы и ущербные символы, которые подменяют собой настоящее единство, создают его видимость, не соединяя людей на должной глубине. Взять, к примеру, возбуждение и фальшивую преданность футбольных фанатов. Ну и, конечно же, нельзя забывать, что христианский отшельник – это целиком и полностью человек Церкви.
Даже будучи физически одинок, отшельник един с другими. Он живёт в глубокой общности с людьми, но эта общность мистическая. Люди думают, что он разделяет их пустые заботы и предрассудки, их поверхностное совместное бытие. Он же сознательно разделяет с ними только опасность и муку их одиночества – не индивидуального, а корневого,
неотъемлемого, того одиночества, которое взял на Себя Христос и которое в Нём мистически стало одиночеством Бога.
6. Отшельник – это тот, кто сознаёт своё внутреннее одиночество как неотъемлемую и неотвратимую человеческую реальность, а не как нечто, затрагивающее его одного. Значит, его одиночество – это основа для глубокого, чистого, сердечного сострадания людям, независимо от того, понимают они, сколь трагична их участь, или нет. Более того - это путь, которым отшельник входит в тайну Бога, а потом своей любовью и смирением приводит к ней других.
7. Пустота настоящего отшельника предполагает, что он крайне прост. Даже если его жизнь внешне противоречива, он прост всё равно. Если он очень сдержан, то его простота обязательно проявит себя в какой-то особой искренности. В этом одиночке живёт какая-то мягкость, глубокое сострадание к людям, хотя внешне он бывает угрюм. В нём горит сильная и чистая любовь, хотя он и не торопится проявлять её и не посвящает себя целиком деятельному милосердию. Общественные образы его ещё беспокоят, но он старается жить без них, равно как и без умозрительных построений. Если познакомиться с ним поближе (иногда это возможно), то можно увидеть, что он не ищет одиночества, а скорее уже его нашёл, или что одиночество его нашло. Поэтому его главное дело – не искать то, чем он уже обладает, а понять, что ему с этим делать.
8. Тому, кто открыл в себе внутреннее одиночество или вот-вот его откроет, может понадобиться серьёзная духовная помощь. Мудрый человек, знающий, какова доля новоиспеченного отшельника, может точным и вовремя сказанным словом избавить того от долгих и мучительных размышлений. Разве размышления нужны тому, кто открыл, что значит быть человеком и что одиночество – не духовная роскошь, а тяжкая и смиряющая ноша, обязанность быть духовно зрелым?
9. У одинокой жизни есть свой словесный обиход и свои условности, но и они скудны. Какой смысл утешать человека, пробудившегося к одиночеству? Зачем учить его умным рассуждениям, которые только оскверняют его пустоту? Самооправдание не должно становиться ещё одной утехой. Пусть одиночка сам встретит свою пустоту; пусть привыкнет к тому, в чём его радость и судьба. Как часто мы стремимся любой ценой увести его подальше от того, что нам кажется краем пропасти. Впрочем, он действительно стоит на краю пропасти. Только он призван безопасно перешагнуть через неё, ибо, в конце концов, пропасть – это всего лишь он сам. Винить его в этом нельзя, потому что его одинокое и пустое сердце вмещает одиночество ещё более непостижимое. На самом деле человеческое одиночество – это одиночество Бога. Вот почему человеку так важно найти его и научиться жить в нём. В одиночестве он открывает, что един с Богом, что Бог так же одинок, как и он, что Бог хочет быть один в нём.
Когда человек поймёт это, он увидит, что его долг быть верным одиночеству, а тем самым – и Богу. Верность решает всё. Придёт время, и она воздаст человеку истиной, силой, светом, мудростью. Тайна всей его жизни заключена в его внутренней безымянности и пустоте. Предав их, он погибнет.
10. Как и всё прочее в христианской жизни, призвание к духовному одиночеству можно понять только в свете Божией милости к человеку, явленной в Воплощении Христа. Если и существуют христианские отшельники, то у них должна быть своя роль в мистическом Теле Христовом – роль скрытая, духовная и потому жизненно важная. Будем, однако, помнить, что, поскольку она должна оставаться невидимой, ей непозволительно отвлекать одинокого созерцателя от его главного дела. Отшельник служит христианской общине парадоксальным образом, самой своей отделённостью от неё. Сознаёт он это или нет, но своей жизнью он свидетельствует о целиком неотмирной тайне нашего единства во Христе.
Отшельник заставляет нас насторожиться. Он напоминает нам о том, что мы слишком увлеклись видимым, общественным, общинным в христианской жизни; что мы чрезмерно активны и погружены в жизнь светского, нехристианского общества. Верно, что христианин живёт в мире сем, будучи сам не от мира сего. Но что если он об этом забыл или – хуже того – никогда этого не знал? Тогда ему нужны люди, которые окончательно отреклись от мира и которые одновременно не в мире и не от мира сего. В наши дни, когда «мир сей» повсюду, даже в пустыне, где он куёт и испытывает свое секретное оружие, отшельник играет всё ту же неповторимую и таинственную роль. Быть может, иногда он идёт противоречивым путём, но где бы он ни оказался, даже там, где он невидим, он свидетельствует о мистических узах, связывающих христиан в Святом Духе. Видят его другие или нет, он возвещает единство во Христе, лично стяжав полноту христианской любви.
В самом деле, египетские пустынники привлекали к себе людей не столько строгостью подвига, сколько любовью и даром рассуждения. Чудо этих подвижников в том и состояло, что они были полны любви Христовой, хотя и жили вне видимой христианской общины, вне обычного литургического ритма. А главное, они были совершенно пусты. Значит, призвание к одиночеству – это одновременно и призвание к молчанию, нищете, пустоте. Только пустота здесь нужна, чтобы наполниться благодатью. Если хотите, цель уединенной жизни – созерцание, но не то, которому учат язычники, – не тайное просвещение ума после специальной аскезы. Созерцание христианского отшельника – это осознание Божественной милости, которая преображает его пустоту, наполняя её совершенной любовью.
Христианин может, и не питая никакой ненависти, покинуть общество, даже общество собратьев по вере. Духовная, мистическая природа Церкви такова, что человек, отказываясь от брака, чтобы стать священником или монахом, бывает плодовит в более высоком и духовном смысле, если, конечно, соблюдёт верность обетам. Как ни странно, христианский отшельник часто ближе к сердцевине Церкви, чем те, кто с головой ушёл в апостольские труды. Жизнь и единство Церкви видимы и должны быть таковыми. Но это нисколько не умаляет невидимого, духовного труда тех, кто посвятил себя молитве. Невидимая, мистическая молитвенная жизнь
необходима Церкви. Необходимы ей и отшельники!
11. Удалиться от людей можно и по любви к ним. Нельзя отторгать человека или общество. Но можно тихо и смиренно отвергнуть мифы и домыслы, которые неизменно наполняют общественную жизнь, особенно нынешнюю. Разувериться в общественных иллюзиях и масках, которые люди носят, не снимая, совершенно не значит разувериться в самом человеке. Скорее это значит явить любовь и надежду. Ведь любя кого-то, мы не можем мириться с тем, что уродует и разрушает любимого. И если мы любим человечество, можем ли закрыть глаза на постигшую его беду? Вы скажете: в беде надо помочь. Да, но не все могут сделать это явно, включившись в общественные дела. Есть люди, способные лишь на безмолвное свидетельство, тайное, иногда невидимое, выражение любви, на одиночество взамен общественных домыслов. Не изобличает ли нас наша привязанность к домыслам, политической болтовне и разного рода демагогии? Не говорит ли она о том, что мы давно потеряли надежду на человека и даже на Бога?
12. Христианская надежда на Бога и на жизнь будущего века – это обязательно и надежда на человека, по крайней мере –
ради него. Слово Божие воплотилось ради спасения каждого из нас, поэтому мы не вправе терять веру в людей. Христианская надежда была и остаётся незыблемой и безупречно чистой. Она отстаивает себя в хаосе противоречивых устремлений, в мире, где правит эгоизм, а для этого облекается в образы и символы. Если же эти образы и символы наполняются светским содержанием, то сама вера начинает страдать от домыслов, а христиане стремятся вернуть ей непримиримую чистоту.
И в наше время есть люди, ищущие ясности в одиночестве и молчании, – не потому, что они знают всё лучше других, а потому, что хотят взглянуть на жизнь в ином свете. Они бегут от шума и неразберихи, чтобы терпеливо слушать Святого Духа и собственную совесть. Их молитва и верность невидимо обновляют жизнь всей Церкви. Те, кто «остался в миру», ощутят это на себе: они смогут яснее видеть, острее и глубже воспринимать христианскую истину. Свой апостольский труд эти люди продолжат с новой серьёзностью и верой, отринув фальшивое усердие ради искренней, самоотверженной любви. Сегодня, когда мир, кажется, вот-вот станет одним чудовищным и нелепым домыслом, когда вирус лицемерия проник в каждую клетку общественного тела, безнравственно и противоестественно молчать и бездействовать. Открытый протест – вполне здоровый отклик на происходящее с миром, но будем помнить, что одиночество не терпит бунтарей. Весь бунт отшельника в его подвижнической духовной жизни. Он должен печься о внутреннем, личном и быть строгим прежде всего к самому себе. Иначе он превратит одиночество в развлечение и свяжет себя домыслом, куда худшим, чем тот, которым связали себя все остальные. Более того, он превратится в самого безрассудного и самонадеянного из лжецов, потому что начнет врать самому себе. Одиночество не терпит таких людей и очень скоро их отторгает. Благоволит же оно к тому, кто отверг фальшивые светские ценности, чтобы полагаться только на милость и присоединиться к тем милостивым, которые будут помилованы. Настоящий отшельник потому так хорошо знает пороки ближних, что сначала познал их в самом себе. Им движет не горечь или досада, а жалость ко всей вселенной, преданность человечеству. Он бежит в целительное молчание пустыни, в нищету и безвестность не для того, чтобы проповедовать другим, а для того, чтобы в себе залечить раны всего мира.
13. Весть о милости Божией к человеку должна быть проповедана. Слово истины должно быть возвещено. Отрицать это невозможно. И всё же немало людей начинают понимать, как бессмысленно пополнять и без того бурный поток речи, который повсюду, с раннего утра и до глубокой ночи, бесцельно изливается на каждого из нас. Чтобы речь стала осмысленной, ей необходимо молчание, пауза, отделяющая слово от слова, фразу от фразы. Тот, кто замолкает, не обязательно ненавидит речь. Скорее наоборот – любит и уважает её. Нельзя ведь донести милость Божью словами, пока не ощутишь её в молчании, до и после сказанных слов.
14. Всегда были и будут люди, которые одиноки в обществе, хотя сами не знают - почему. Они давно свыклись с тем, что их характер и обстоятельства жизни обрекли их на одиночество. Однако говорю я не о них, а о тех, кто жил в обществе деятельно и ярко, не порвал со старым и ушёл в пустыню. Такую пустыню можно найти даже среди людей, но ни горячее стремление, ни идея тут не помогут: на неё мистически указует перст Божий.
15. Всегда были и будут люди, которых чистое и простое сердце с ранней юности влекло к отшельнической, созерцательной жизни в каком-нибудь ордене. Их призвание просто и ясно, но не о нём я хочу говорить. Эти люди с малых лет знают, что их удел – келья картузианцев или кальмадулов. Каким-то безошибочным чутьём они находят дорогу туда, где будут одни; Церковь же без колебаний принимает их в ту «защищённую»
(umbratilis), мирную жизнь, которую хранит для своих самых любимых чад. Они проводят свои дни в мире, молчании и одиночестве, целиком признанном, одобренном и защищённом высшей церковной властью. Они не знают обычных для одиночества страданий и трудностей и живут спокойно и невозмутимо, как подобает тем, кто следует этому редкому призванию.
Повторюсь, что я говорю не о них, а об отшельниках противоречивых, терзаемых внутренней болью, не нашедших своего места. Я говорю о людях, не столько избравших одиночество, сколько настигнутых им, о тех, кого ведут в пустыню не простота и невинность, а горькие страдания и крушение иллюзий.
Не нужно думать, что тот, кто «настигнут», избран одиночеством, ничего сам не сделал. Одиночество, о котором идёт речь, ложно и незрело, пока его не выберешь сердцем. Оно может кого-то избрать, отделить для себя, но его нужно добровольно принять. Другого пути нет. Однако и самая отчаянная решимость бесплодна, если ты не поставлен перед выбором. Дверь одиночества открывается только изнутри – равно внешнего и внутреннего. Как бы кто ни был одинок, если он не позван внутренним одиночеством, если сам не вышел ему навстречу, то он ещё не
monachos в моём понимании, не отшельник. Тот же, кто сделал выбор и верен ему, одинок даже в толпе. Нет, такой человек не замкнут в себе и не считает себя каким-то особенным. Его одиночество совершенно иного рода. Оно не утверждает никакого «я». Оно вообще ничего не утверждает. Оно – пусто и универсально
(universal). В нём человек один благодаря своему внутреннему, духовному единству, а не потому, что отрезал себя от общения с людьми. Такое внутреннее единство – это единство со всеми. Нужно ли говорить, что оно – непознанная тайна? Даже обретшие его знают его путём «незнания».
Теперь должно быть ясно, что если искать одиночества, отделяя себя от других, самоутверждаясь, всё острее сознавая свое «я», только удалишься от цели. Напротив, если ты настигнут одиночеством, приглашен в него и свободно его принял, то попадаешь в пустыню так же легко, как срывается с ветки спелый плод. Населена эта пустыня или необитаема, она всё равно окажется бескрайней пустотой, принадлежащей всем и никому, – тишиной, где Бог прорекает слово. В этом слове проречены Он Сам и всё сущее.
16. Нередко, став одиноким и пустым, человек не сразу находит чистую тишину. Он идёт то по одной дороге, то по другой. Он забредает в места, чуждые его складу и призванию. Он противоречит сам себе и своей внутренней истине. Он, кажется, стал противоречив по природе и толком не годен
ни к одному из призваний. Но в конце концов он оказывается один. Его путь – не иметь никакого пути. Его удел – нищета, пустота, безвестность.
17. Несомненно, каждый, кто ещё не утратил здравый смысл, время от времени приходит в себя и видит, как глупы и ничтожны наши условности. Но одно дело мечтать о свободе, и совсем другое – презрев все тяготы, жить до конца честно, вне условностей, а значит, – безо всякой поддержки. Посмотрите, как сходятся вместе хиппи, эзотерики, почитатели разного рода кумиров, охотники за чудесами, последователи восточных религий. Свой разрыв с большим сообществом они восполняют вступлением в малое. Они бегут не в одиночество, а в протестное меньшинство. Наверное, они поступают честно и даже, в каком-то смысле, достойно, но при этом они сильно гневят «правомыслящее большинство» и получают от него свою долю насмешек и издевательств. В сущности, малые сообщества с нетерпением ждут этих насмешек и потому очень скоро начинают разлагаться и обрастать ложью. Отвергнув иллюзию, навязанную всем, они создали свою, годную только для избранных. Они сделали выбор, но лишили себя полноты, которую получаешь, выбрав реальность.
18. Настоящий отшельник призван не к иллюзии, не к созерцанию самого себя как одиночки, а к наготе и голоду более простого и честного положения. Он призван быть чужаком
(xeneteia), скитальцем, который, повинуясь тайному зову, покидает знакомые края, чтобы мучительно искать края, неведомые.
Впрочем, не будем лицемерно строги к отшельнику. У него могут быть свои странности! Бывает, и он спасовав по немощи перед трудностью, находит нелучший выход. Нельзя судить человека за неудачу в деле, за которое сам не дерзаешь браться.
Одинокая жизнь – это безотрадное и суровое очищение сердца. Блаженный Иероним и Евхерий Лионский восторгались цветущей пустыней, но первый был самым занятым из отшельников, а второй – епископом, издалека умилявшимся леринскими монахами.
Eremi cultores, фермеры пустынь, мало говорили о себе. Они были измотаны сухостью. Их воспалённые уста с трудом выговаривали слова.
19. У того, кто общается с людьми лишь по поводу самых простых и необходимых вещей, – особая и трудная роль. Он призван быть, в некотором роде, невидимым и очень скоро перестает ощущать свою значимость для остального мира. Однако значимость его велика. Сегодняшний мир унизил человека и презрел одиночество, в котором душа встречает живого Бога. Поэтому отшельник значим для мира, как никогда.
20. В нашем беспринципном обществе отшельник всегда слыл изгоем. Таковым он и должен быть, потому что он нам совершенно ни к чему; ему нет среди нас места. Он вне наших проектов, планов, сообществ, движений. Если он – мечта или домысел, мы ему сочувствуем. Если же он реален, мы начинаем возмущаться тем, сколь он ничтожен, нищ, убог, неприкаян. Нередко даже монахи втайне презирают отшельника, потому что он лишен той благородной основательности, умственной глубины, того художественного чутья, которые дороги его более учёным и почтенным собратьям.
21. Во все времена считалось, что оставлять всё и следовать за Христом бессмысленно и бесполезно. Разумно это только для тех, кто судит по духу. Иногда материальная польза прямо противоположна сверхъестественной мудрости, как плотские помышления – духовным. Это не значит, что дух нетерпим к материальному и временному. Это значит, что дух никогда не ограничивает себя временной целью. Его плоды – порядка высшего, духовного, а потому, конечно же, утаённого. Практическая полезность коренится в здешней жизни, а сверхъестественная мудрость – в «жизни будущего века». Мудрость всё взвешивает на весах вечности, поэтому для людей «практичных» всё духовное невесомо. Уединённая жизнь для них легче пуха. Она – «ничто», не-сущее. Как говорит апостол: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее» (1 Кор. 1:27-28).
Зачем? «Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 Кор. 1:29). Настоящая слава невидима. Пустота уединённой жизни помогает привыкнуть к свету, который совершенно затмевают миражи многозаботливой жизни.
22. Отшельник, бесполезный в жизни и, казалось бы, не приносящий видимого плода, самим фактом своего бытия напоминает общежительным монахам, что и они должны быть мало значимы для мира, а то и совсем не значимы. Они мертвы для мира и не должны ему угождать. И мир для них мёртв. Они в нём странники, одинокие свидетели иного царства. Такова плата за жалость ко всему творению, за сострадание ко всем. Чем монах непрактичней и неуспешней, тем он сострадательнее. Тому же, кто рвется к успеху, соперничая с другими, некогда жалеть других.
Монах потому так важен для мира, что ему нет в мире места.
III. ДУХОВНАЯ НИЩЕТА
1. Отшельников часто винят в том, что даже в молитве они «непродуктивны». Уж если кто уединился, думают многие, тот быстро восходит к видениям, мистическому браку, во всяком случае – к чему-то поражающему воображение. Но отшельник
и в молитвенной жизни беднее общежительного монаха. Он – существо слабое и неуверенное. У него больше тревог и сомнений. Он пытается уберечь себя от мелких бед и порой – безуспешно. Его нищета духовна. Она наполняет его душу и тело; в конечном счете неуверенность – его единственное достояние. Он радуется скорбям, духовной, умственной нищете последнего бедняка. Уединение чем-то сродни юродству. Иначе оно не настоящее – не жизнь в прямой зависимости от Бога, во мраке, сомнении и чистой вере. У отшельника нет видимой поддержки, потому что он действительно нищ.
2. Конечно, в этом деле нельзя ни преувеличивать, ни впадать в крайности. Крайность может превратиться в «богатство», «заслугу». Кроме того, у каждого – своя мера строгости. Когда человеческая немощь не позволяет отшельнику жить в строгости, он даёт себе послабление, которое лишь подчеркивает его нищету. Что если у отшельника, как у простого смертного, открылась язва? Тогда ему придётся пить молоко и даже глотать таблетки. Болезнь окончательно вычеркнет его из списка героев. Подобно всем остальным, отшельник испытывает тревогу, причём его тревога острее, чем у кого бы то ни было. Беззаботной одинокая жизнь кажется лишь тем, кто о ней ничего не знает.
3. Вспомним, что Робинзон Крузо – это великий миф
среднего класса, коммерческой цивилизации XVIII и XIX веков. Это образ прагматического индивидуализма, а не отшельнического уединения. Крузо – символическая фигура эпохи, когда каждый считал свой дом крепостью, был расчётлив, изобретателен, умел соблюсти свою выгоду и поторговаться с кем угодно, даже со смертью. Крузо был беззаботен и счастлив, потому что на всё имел готовый ответ. Настоящий отшельник скуп на ответы.
4. Верно, что одинокая жизнь (если она действительно христианская) должна протекать в молитве и богомыслии.
Monachos в нашем понимании – это исключительно человек Божий. Тогда как же он молится? Внутренняя молитва питает его как хлеб и вода! Отшельник и тут нищ. Часто он не может ни молиться, ни надеяться, ни видеть. Нет, он не впадает в сладостное бездействие, которое превозносят в книгах. Он продирается сквозь слепящую песчаную бурю. Бывает, он изнемогает от сомнений, и тогда в этом – всё его созерцание. Не поймите меня превратно. Это не сомнение разума, не растерянность перед богословской, философской или какой-то ещё истиной. Это нечто иное: своего рода незнание самого себя, сомнение, колеблющее самые основы бытия, крадущее смысл жизни и поступков. Оно-то и погружает отшельника в безмолвие, где он больше не задаёт вопросов и обретает уверенность в том, что Бог присутствует в его ничтожности, как единственная реальность. Впрочем, ни назвать, ни осязать её он не может.
Словом, отшельник молчит и делает своё дело. Он терпелив (может, и нет – кто знает?) и спокоен. Покой его неотмирен. Он счастлив безо всяких развлечений. Он знает, куда идёт, но не уверен, «правильной ли дорогой». Он просто идёт. Дороги перед собой он не видит, а когда доходит до места, понимает, что пришёл. Чем ближе он к цели, тем дальше он от всего, что напоминает ему о «пути». Таков его путь. Отшельник его не понимает. Не понимаем и мы.
5. Во всём том и сверх того он владеет одиночеством, сокровищами пустоты, внутренней бедности. Впрочем, разве это владение? Это установленный факт. Это есть. Это достоверно и, в сущности, неотвратимо. Это – всё. Это вмещает Бога, обступает его в Боге, погружает его в Бога. Нищета его так глубока, что он и Бога не видит: сокровища его так велики, что он забылся в Боге и забыл самого себя. Он никогда не удаляется от Бога настолько, чтобы посмотреть на Него со стороны, как на объект. Он поглощён Богом, если можно так сказать, и потому никогда Его не видит.
6. Несмотря на всю свою нищету, отшельник счастлив, потому что обрёл-таки одиночество, а главное – потому что перестал противопоставлять себя тем, кто живёт в обществе. Он просто
есть. То, что он по воле Божией обнищал и отделился от людей, – не признак отличия, а простой факт. Одиночество иногда пугает его, а иногда тяготит, но оно ему дороже всего на свете, потому что в нём для него воля Божия, – не нечто, одобренное Богом, не повеление какой-то далёкой силы, а наполняющая его жизнь чистая явь, воля Божия, как реальность всего реального. Одиночество для отшельника – просто реальность. Он не сможет расторгнуть его уз, даже если захочет. Но быть узником Божией воли и любви – значит быть свободным, очутиться в преддверии рая. Поэтому уединённая жизнь – это жизнь в любви, не ждущей утешений; жизнь, связанная волей Божией, переполненная ею и потому плодотворная. Всё, пропитанное волей Божией, в высшем смысле значимо, даже если иногда это кажется совершенно бессмысленным.
7. Ужас одинокой жизни – это тайна и неизвестность, которые томят душу, вверившую себя воле Божией. Куда спокойней и безопасней жить, когда эту волю преподносит нам общество, человеческие установления или чьи-то приказы. Принять её со всей её непостижимой и обескураживающей тайной сможет лишь тот, кого прикровенно хранит и направляет Святой Дух. Не дерзайте на это, пока не убедитесь, что вы действительно призваны к этому Богом, и, конечно же, пока вас не поддержат ваши духовники и старшие. Общественная утроба должна бережно и терпеливо выносить вас, прежде чем вы родитесь для одиночества. Не уединяйтесь опрометчиво и самовольно. Без водительства Церкви вы пропадёте.
8. Одинокий человек – это пророк, которого не слышат, глас вопиющего в пустыне, знамение пререкаемое. Мир всегда отвергал таких, как он, а заодно – и пугающее одиночество Бога. Бог не такой, как мы. Он совершенно чужд мирскому прагматизму, а Его таинственная неотмирность бесконечно возвышает Его над лозунгами, рекламой и политикой. Именно за это мир и негодует на Бога. Не будь рядом отшельника, который напоминает людям об одиночестве Бога, им было бы гораздо легче сотворить себе бога по собственному образу и подобию, идола, покорно вторящего их лозунгам. Одинокому Богу тесно в чисто человеческом сообществе, и Он призывает людей к иному общению, к общению с Собой через страдание и Воскресение Христа, через одиночество Гефсимании и Голгофы, через тайну Пасхи и одиночество Вознесения, наконец, через сошествие Духа на Пятидесятницу.
9. Обязанность одинокого человека – пребывать в одиночестве, оставаясь таким же нищим и отверженным, как нищ и отвержен Бог в душах столь многих людей. Мало кто его слышит, когда он напоминает людям, что, как только они найдут внутреннее одиночество и оценят его, они найдут Бога и узнают (уже по Его слову к ним), что каждый из них – действительно личность.
10. Часто говорят, что внешнее одиночество не только опасно, но и совершенно не нужно; что главное – это сохранить одиночество внутреннее.
В этих словах есть своя правда, но тот, кто их произносит, не представляет, как страшна эта правда и сколько в ней скрыто иронии.
11. Если Бог призвал вас к одиночеству, вы будете одиноки, даже живя в общине. Вас будет окружать забота и внимание ближних, но нити, связывающие вас с ними в обыденной жизни, будут рваться одна за другой; иными словами, вы перестанете черпать силы из рутины коллективной жизни. Слова и восторги ближних потеряют для вас всякий смысл, но презирать или сторониться ближних вы не будете. Вы постараетесь их принять и поймёте, что слова в вашем положении ничего не значат. Единственное, что вам поможет, – это глубокое, безмолвное общение в искренней любви.
В такое время великим утешением бывает простой труд, общее дело или служение, когда можно общаться с ближним не своим и не ею словом, а священными жестами Бога. Слово Божие обретает невыразимую чистоту и силу для тех, кто видит в нём единственный путь к одиночеству ближних – одиночеству, которое сами они ещё не сознают.
В такое время человек понимает, что любит ближних сильнее, чем прежде. Возможно, он впервые по-настоящему их любит. Смирившись, он благодарит Бога за дело, сведшее его с людьми, но всё равно остаётся один. Нет большего одиночества, чем то, которое суждено человеку, ставшему орудием Бога и сознающему, что ни служение, ни слова – даже слова Божий – не избавят его от одиночества, хотя они и соединяют его с ближними поверх разделения на «твоё и моё».
12. Итак, к чему мы пришли? К тому, что одиночество, о котором мы до сих пор говорили и которое свойственно истинному
monachos, человеку одинокому, не себялюбиво и таковым быть не может. Оно совершенно иного свойства. Оно – смерть человеческого «я». Но какого «я»? В пустоте одиночества исчезает «я» поверхностное, общественное, ложное; исчезает образ, сотканный из предрассудков и прихотей, плод позёрства, фарисейского эгоизма и фальшивой преданности, наследие ограниченного и несовершенного общества.
Рождается же другое «я» – истинное, достигающее зрелости в пустоте и одиночестве. Конечно, это «я» растёт в действенной, жертвенной и творческой самоотдаче, в полноценном общественном бытии. Но заметьте: чем больше в человеке любви к ближнему, тем больше в нём и внутреннего одиночества.
Без одиночества того или иного рода не бывает и зрелости. Если человек не станет пустым и одиноким, он не сможет отдать себя в любви, потому что не обладает глубинным «я», единственным достойным любви даром. Спешу, впрочем, добавить, что глубинным «я» нельзя
обладать. Оно не «нечто» обретаемое или «достижимое» после долгой борьбы. Оно не моё и не может стать моим. Оно не «вещь», не «объект». Оно – «Я».
Владеть можно поверхностным, индивидуальным «я». Его можно развивать, совершенствовать, ублажать; ему можно потворствовать. Оно – центр наших стремлений к наживе и удовольствию – материальному или духовному. Напротив, глубинным «я» духа, одиночества и любви «владеть» невозможно. Его невозможно развивать и совершенствовать. Оно может только
быть и
действовать по глубоким внутренним законам, не выдуманным людьми, а исходящим от Бога. Это законы Духа, который, как ветер, веет, где хочет. Внутреннее «я» всегда одиноко и всегда универсально, ибо в нём моё собственное одиночество встречает одиночество других людей и Самого Бога. Это «я» выше разделений, границ и самоутверждения. Только это внутреннее и одинокое «я» по-настоящему любит любовью и духом Христа. Это «я» – Сам Христос, Который живёт в нас. Но и мы живём в Нём, а через Него – в Отце.
О. Иаков Коннер. ТОМАС МЕРТОН – СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ МОНАХ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК[31]

В Гефсиманское аббатство я
поступил в 1949 г. В том же году Томас Мертон был рукоположен в священники. С тех пор я, по милости Божией, девятнадцать лет жил и трудился рядом с ним. Он был одним из величайших даров в моей жизни. Повторять это я не устану никогда. Мертон не только научил меня монашеству, но и помог мне понять, кто я такой и к чему меня призывает Бог. У него был дар оставаться человеком. Конечно, он был духовным человеком, но он никогда не жертвовал своей человечностью ради искусственной духовности. Неудивительно, что одной из книг, которую он всем рекомендовал читать, была «Святость и целостность». Для Гефсимании она значила очень много, потому что на реформу Ла Траппе, Траппистский орден в целом и саму Гефсиманию сильно повлиял французский янсенизм. Монашескую жизнь все считали скорее покаянной, чем созерцательной.
За годы учебы в Колумбийском университете и преподавания в колледже св. Бонавентуры Мертон привык обращаться к самым истокам изучаемого предмета. Эта способность пригодилась ему и в монастыре. Хорошо зная латынь и французский, Мертон мог читать ранние тексты о монашестве и духовности, поэтому Дом Фредерик Данн, его первый аббат, поручил ему написать несколько статей о цистерцианских святых и благочестивых мирянах. В 1950 г. следующий аббат, Дом Иаков Фокс, попросил Мертона провести несколько бесед с послушниками (их наставником тот тогда ещё не был). Материалом для бесед послужили ранние монашеские тексты. Мертон сумел
увлечь слушателей не только материалом, но и тем, как живо он его подал.
Спустя несколько месяцев наставник послушников обвинил Мертона в том, что тот пренебрегает традицией. На самом деле невольно пренебрегал ею он сам. Как, впрочем, и весь орден, непомнивший о своих корнях и впитавший духовность, близкую к той, что несла св. Тереза из Лизье. Орден почти забыл о созерцании, но прекрасно помнил о покаянии и аскезе. Не обошлось и без зависти: наставника послушников задевало то, что его подопечные так увлеклись новым лектором.
В июне 1951 г. Мертона назначили наставником тридцати гефсиманских «студентов», и он почувствовал себя как рыба в воде. Он словно воссоединился с семьёй, которой ему всегда не хватало. В шесть лет он потерял мать, в шестнадцать – отца. (Впрочем, мать и при жизни не давала ему должного тепла – позже он сетовал на её излишнюю строгость). Когда матери не стало, отец то брал Тома с собой, то оставлял с бабушкой в Нью-Йорке. Собственный сын занимал его меньше, чем живопись и роман с Ивлин Скотт.
О том времени Мертон писал: «Я остался без семьи, без школы, без церкви и совершенно забыл про совесть и Бога». В сущности, все его выходки школьных и студенческих лет – это неуклюжие попытки восполнить недополученное им в семье. Монастырь со строгим молчанием и одиночеством тоже не мог до конца исцелить его прежних ран. Теперь, в новой должности, Мертон стал отцом и братом для молодых монахов, которые вверили ему свои души.
Начав новое служение, Мертон писал: «Я стал духовником и должен выйти за пределы самого себя, чтобы жить в душах тех, кого мне вверил Бог». Чуть позже он размышлял о происходящих в нём переменах:
«За прошедшие полгода я успел заглянуть в сердца своих „студентов" и разделить с ними их тяготы. Не знаю, чему они научились, любят ли они Бога больше прежнего, помог ли я им обрести себя (или потерять себя – это одно и то же). Знаю только, чему научился сам: служение, которое я считал помехой одиночеству, оказалось единственным верным путём к нему. Я забрел в неведомую мне доселе пустыню,.. имя которой –- сострадание. Она безгранична. В ней я живу один, принадлежа всем и никому, потому что Бог со мной, и Он восседает на руинах моего сердца, благовествуя нищим. Вы думаете, у меня есть духовная жизнь? Ошибаетесь. Я – скудость, молчание, нищета, одиночество. Я отрекся от духовности, чтобы найти Бога. Это Он громко проповедует из глубин моего недостоинства. Сострадание, я избрал тебя своей госпожой. Я взял тебя в жены, как св. Франциск – нищету. Ты – царица отшельников и мать нищих».
Сострадание наполнило сердце Томаса Мертона и не покидало его все последующие годы, проявляясь во всём, что он писал, чему учил. Ещё через шесть месяцев он составил одну из своих лучших медитаций:
Голос Божий слышен в раю:
Низкое стало драгоценным. Драгоценное никогда не было низким. Жестокое стало милостивым. Милостивое никогда не было жестоким. Я держу тебя под покровом Своей милости, Иона, и бездушие Мне неведомо. Разглядел ли ты Меня, Иона, сын Мой? Я – милость, милость и милость. Я простил весь мир, потому что не знаю греха.
Нищее стало безграничным. Безграничное никогда не было нищим. Я знаю нищету только как безграничность, а богатство ненавижу.
Хрупкое стало прочным. Я люблю всё самое хрупкое. Я призрел на ничтожное. Я коснулся не сущего. В том, что ещё не стало, – Аз есмь.
Мертон касается здесь того, что он называл «парадоксом» своей жизни. В другом месте он пишет:
Я обрел великую уверенность в самом парадоксе, в противоречии, которое было и остаётся причиной сомнений. Я убедился, что противоречие для меня – знак милости Божией... Удивительно: я обрел мир, хотя остаюсь неудовлетворен. Подавленность и отчаяние всегда были начатком чего-то нового. Жизнь питает тайна, полная парадоксов и противоречий, но коренящаяся в милости Божией.
Даже незадолго до своей гибели, выступая на Аляске, Мертон вспоминает слова Мартина Бубера о «сложном и противоречивом человеке»:
Поскольку я и сам таков, я мог бы рассказать о нём очень многое. Как ни горька его доля... он не должен считать себя обреченным на вечную сложность и противоречия. Как писал Бубер, Божественная сила может, коснувшись его души, изменить его, примирить противоречия. Она может собрать нас воедино. Бубер уверен, что так бывает, когда мы позволяем действовать в нас Богу.
Мертон хорошо понимал, как парадоксален и противоречив он сам, и потому был прекрасным наставником молодых и противоречивых монахов.
В числе его первых «студентов» был и я. Нашу первую беседу я помню очень хорошо. В те времена полагалось стоять на коленях, пока духовник или аббат благословляет тебя и что-то говорит. Мертон, благословив меня, сказал: «А теперь садитесь». Рухнули все устои! Он уважал каждого из нас, считая нас братьями и детьми. (Спустя какое-то время его примеру последовали остальные духовники.) Мертон спросил меня, как мои дела, и я посетовал на тогдашние трудности. Каждый вечер нам давали тему для медитации, чтобы мы подготовились к утренней молитве. Темы в основном были из Евангелия, и мы, следуя методу Игнатия Лойолы, должны были вжиться в евангельские события и откликнуться на зов Господа. Как я ни старался, медитация шла из рук вон плохо. Я стал падать духом и всё рассказал Мертону. Тот ответил: «Что ж, видимо, тут вмешался Святой Дух». У меня словно камень упал с плеч. Бог, наверное, хочет, чтобы я молился иначе, проще, подумал я. В этом эпизоде был весь Мертон. Он умел принять человека, как он есть, и помочь ему разглядеть в себе движения Духа. Он никогда никого не лепил по своему образу и подобию, но каждому помогал найти его путь к Богу, его место в монашеской жизни.
Раз в неделю Мертон проводил беседу со своими «студентами». Он каждый раз тщательно готовился, беря за основу монашескую традицию и добавляя что-нибудь злободневное. Несколько недель кряду он говорил о св. Бернаре и ступенях смирения. Мертон тогда размышлял о сострадании и говорил, что ступени св. Бернара – это ступени опыта, узкие врата сострадания, сквозь которые мы восходим от собственной ничтожности к величию Бога. Ключ к состраданию – Христос. Тайна Христа важна здесь прежде всего. Только живя в ней, строя в ней отношения с ближними, мы восходим к созерцанию.
Объясняя, как Христос «страданиями навык послушанию», св. Бернар ссылался на Послание апостола Павла к Евреям (5:8). Мертон говорил, что именно Иисус, через сострадание
познавший нашу ничтожность, вводит нас в мистическую жизнь. Иисус – Истина и Жизнь. Он посылает нам свет для самопознания и нисходит к нам, становясь нашим путём к Отцу. Сострадание – это и Его приход к нам, и наш путь к Богу. Возвращаясь к Отцу, мы должны быть едины со Христом. Иначе мы никуда не придём. Но со Христом нас соединяет не столько сострадание к НЕМУ, сколько само Его сострадание. Мы едины с Ним в сострадании к ближним, в той же любви друг ко другу, какой Он нас любит. Далее св. Бернар переходит к мистическому Телу. Иисус в Своём мистическом Теле постоянно «дарит милость», чтобы члены Тела научились тому, что Глава познал на собственном опыте. Так мы приходим к трём ступеням опыта. Первая: переживание собственной ничтожности, «Истина в нас», самооценка в свете Истины. Вторая: познание ничтожности ближнего, «Истина в ближнем», единство с Истиной в братской любви. Третья: познание самой Истины, единство с Богом в чистой любви. Согласно св. Бернару, Истина сначала открывается нам через других и только потом – внутри нас самих. Милостивые упомянуты в заповедях блаженств раньше чистых сердцем. Поэтому в общинной жизни нужно не просто
терпеть немощи и недостатки ближних, но в каком-то смысле
разделять их. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12:5). Тот, кто не соединился с братьями через сострадание, будет их осуждать и станет обличителем грехов. Такой человек не познал истину и ослеплён гордыней, необузданной любовью к собственным достоинствам. Восходя по ступеням истины, мы приближаемся к Богу. Когда мы соединяемся с Ним, познавая самих себя, Он – наш Учитель. Когда мы соединяемся с Истиной в братьях и становимся им другом и братом, Он Сам – наш друг и брат. Наконец, когда мы соединяемся с самой Истиной, Он – наш Возлюбленный.
Вслед за св. Бернаром, Мертон учит, что так и нужно восходить к созерцанию: через сострадание – к истине в других, а от неё – к истине в Боге. Сострадание готовит нас к преображающему единству. Прежде мистического единения с Богом мы должны нравственно соединиться с ближним. Это подтверждает и апостол Иоанн: «Кто говорит: „я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). Одно ведёт к другому: любовь к ближнему очищает душу, готовя её к мистическому единству.
Темы для своих бесед Мертон подбирал самые разные. Время от времени он рассказывал нам о поэзии, литературе и даже ставил нам пластинки с классической музыкой. Он не хотел, чтобы мы развивались однобоко. Во время бесед его можно было прервать и о чём-то спросить. Когда мы увлечённо спорили, он радовался, но бывал строг с теми, кто хотел показаться умнее других. Говорил он очень живо и много шутил. Если хотите узнать настоящего Мертона, послушайте записи его бесед. Когда кто-то из монахов умирал, он посвящал ему всю беседу. Недостатки и странности усопшего он умел подать так, что тот становился всем ближе и понятней, и мы ещё раз убеждались, как много было в Мертоне сострадания и как хорошо он понимал своих собратьев.
Мертон учил нас не только словом, но и примером. Он очень любил молитву и одиночество, ради которых думал даже оставить свой орден и стать картузианцем. Несколько лет он разрывался между желанием уйти и необходимостью остаться. Он стал лучше понимать боримых помыслами молодых монахов и научился извлекать выгоду из того, что имел в Гефсимании. В 1952 г. аббат отдал ему сарай, расположенный в лесу за монастырём. Свое временное пристанище Мертон назвал скитом св. Анны. Он уединялся там на часть дня, чтобы молиться, читать и писать. Позже, когда молодым монахам позволили после ужина выходить за ограду, он брал с собой в лес всех желающих (таковых, правда, было немного). Однажды я спросил его, не посягаем ли мы на его одиночество. «Нет», – не задумываясь ответил Мертон. Он действительно радовался, видя, что одиночество (хоть и краткое) идёт нам на пользу.
По праздникам, когда нет общих работ, он брал грузовик и увозил нас на дальние холмы. Там, в большом лесу, сажая молодые деревья, мы снова могли быть одни.
Одиночество Мертон любил не потому, что боялся раздоров в общине. Будучи человеком ранимым, он остро переживал разногласия с братьями, но это не помешало ему написать в 1953 г.:
Разногласия с ближними потому так важны, что они учат нас жертвовать собой и улаживать всё без гнева. Выясняя отношения с другими, нужно вернуться к себе; нужно разглядеть в себе грехи, немощи и страсти, которые лишь на время засыпают в «покое» одиночества... Я на себе испытал, как полезны «разногласия» в монашеской жизни, и понял, что их нужно принимать, а не бояться. Мы должны учиться на своих и чужих ошибках, а чтобы дорасти до одиночества, нужно осознать, что никакие ошибки, грехи, немощи не могут отлучить нас от любви Христовой и что любовь смывает все обиды и излечивает от всех недугов.
Труднее всего Мертону было ладить с аббатом, Дом Иаковом Фоксом. Два сложных и одарённых человека часто не находили общего языка. Как писал биограф, отношение Мертона к аббату «было глубоко противоречивым. Непокорный от природы, прирождённый критик, преобразователь, Мертон тем не менее всегда искал мира... Это был бунтарь, достигший высот послушания... Дом Иаков никак не походил на деспота, а Мертон – на жертву. Каждый из них был на своём месте, и монах никогда открыто не противоречил аббату. Дом Иаков, в свою очередь, избегал громких ссор, отвращая гнев улыбкой, а вражду и соперничество – благостным великодушием. Правда, эта благостность иногда доводила Мертона до отчаяния... Дом Иаков мягко стелил, но спать было жёстко».
Мертону было сложно с аббатом не просто потому, что тот имел «власть». Несомненно, послушание давалось ему нелегко, как и многим его собратьям. Но главное, Мертон видел, что власть аббата посягает на его внутреннее одиночество. Он писал:
Внутреннее одиночество требует от нас прежде всего веры и решимости самим отвечать за свою внутреннюю жизнь, готовности предстать перед её тайной в присутствии невидимого Бога. Мы должны в одиночку, непостижимым и невыразимым путём, пройти сквозь мрак своей собственной тайны и открыть, что она сливается с тайной Бога в одну – и единственную – реальность. Мы должны увидеть, что Бог живёт в нас, и мы – в Нём. Как это бывает, словами передать невозможно, потому что слова не могут охватить реальность.
Только слова Бога, собирающие всех верных в «одно Тело», способны выразить тайну нашего одиночества и нашего единства во Христе. Только они способны указать нам путь во мрак и дать нам хоть немного света. Правда, при этом они теряют форму слов и становятся неизреченным биением Сердца в сердцевине нашего бытия («Заметки о философии одиночества». Ч 1, пар. 3).
Мертон стремился к внутреннему одиночеству, чтобы в его жизни всё решалось по велению «Сердца в сердцевине нашего бытия». Он понимал, что рискует, но ощущал в себе призвание рисковать:
Мука почти безграничного риска и образует суть этого призвания [к одиночеству]... Как часто мы стремимся любой ценой увести его подальше от того, что нам кажется краем пропасти. Впрочем, он действительно стоит на краю пропасти. Только он призван безопасно перешагнуть через неё, ибо, в конце концов, пропасть – это всего лишь он сам. Винить его в этом нельзя, потому что его одинокое и пустое сердце вмещает одиночество ещё более непостижимое. На самом деле человеческое одиночество –
это одиночество Бога («Заметки о философии одиночества». Ч. 2, пар. 1, 9).
Несомненно, будучи воспитан на правиле св. Бенедикта, Мертон знал, как важно и ценно послушание аббату и монастырю. Но знал он и то, как опасно стеснять чью-то свободу. В наши дни люди подавлены обществом, его ожиданиями и риторикой.
Человек, находящийся во власти того, что я назвал «общественным образом», подмечает и взращивает в себе только то, что предписано обществом, как полезное и похвальное для его членов. Соответственно и осуждает он (обычно в других) только то, что осуждает общество. Он тешит себя надеждой, что «думает сам», но его мысль – не более чем игра: он прячет подальше собственный опыт и использует слова, лозунги и понятия, которые ему навязали. А точнее, общественные штампы незаметно, прорастают в нём как семена, выдавая себя за его собственный «живой опыт». («Заметки о философии одиночества». Ч. 2, пар. 2).
Хотя Мертон и критиковал общество, равнодушным к нему он не был. Свидетельством тому – происшедшее с ним в 1958 г. в Луивиле: он вдруг увидел проходивших мимо него людей во свете Премудрости. О своём тогдашнем опыте он писал: меня «внезапно переполнила любовь ко всем этим людям. Я понял, что принадлежу им, а они – мне; что, хотя мы все мы очень разные, мы не замкнуты каждый в себе и не чужие друг другу». Он считал, что в тот момент «пробудился от сна – от сна отделённости, „особого” призвания. Моё призвание не делает меня особым. Я остаюсь одним из рода человеческого – есть ли на свете судьба счастливее этой? Ведь и Слово стало плотью, разделив судьбу человека».
Познав единство Христа с человеческим родом, Мертон стал писать иначе. Он опытно убедился в том, что все люди едины во Христе, и через это открыл для себя общественное измерение христианства и монашеского призвания. Ведь и на Страшном суде с нас, по слову Иисуса, спросится только одно: сделали ли мы добро «одному из сих меньших» (Мф. 25:45). Почему же мы не исполняем заповедь Христа и не любим ближних, как Он нас любит? Мертон пишет: «Корень войны – страх». Но страх – это и корень насилия и несправедливости. Мертон читал о Ганди и поражался его способности соединять священное и светское, деятельность и созерцание. Ганди понимал, что «на земле не будет мира, пока люди не опомнятся и не придут в себя». «Прийти в себя» – значит обрести ум Христов, освободиться от страха, насилия и несправедливости. Понимая это, Мертон стал больше писать о расизме, ненасилии, ядерном оружии и войне во Вьетнаме. Он много переписывался с теми, кто был вовлечен в миротворчество. Спустя какое-то время глава ордена запретил Мертону публиковать свои заметки о войне. Тот подчинился, но продолжал рассылать свои тексты друзьям. Оправдала его энциклика Папы Иоанна XXIII
Расет in terris.
К сожалению, многое из того, что Мертон писал в 1960-е гг., актуально и по сей день. Мало что изменилось (если изменилось вообще) в нашем отношении к справедливости, миру, войне, вооружению, ненасилию. Мир всё так же в плену у страха. Люди всё так же воюют – с той лишь разницей, что теперь они стремятся искоренить терроризм. Мертон и сегодня мог бы сказать:
В это трудное время долг христианина – все силы, всё разумение, всю веру, всю надежду на Христа, всю любовь к Богу и людям отдать делу, которое нам сегодня поручил Бог. Мы должны искоренить войны. Дело это великое и неимоверно сложное. Даже Церковь не знает точно, как к нему подступиться. А ведь именно она должна вести нас к ненасильственному разрешению противоречий и постепенной отмене войн, потому что насилием нельзя примирить ни страны, ни части общества. Христиане должны как можно больше делать и до последнего стоять за мир.
В 1965 г. Мертону было разрешено окончательно переселиться в скит. Но и там он продолжал писать книги, статьи, письма, беседовал с людьми. Начался самый напряженный и противоречивый период его жизни. С одной стороны, исполнилось его заветное желание – он обрел одиночество. А с другой, следуя внутреннему зову, он не прекращал общения с миром. К 1966 г. напряжение сказалось на его душевном, духовном и физическом состоянии. Некоторые даже думали, что он находится на грани срыва. Именно в это время он прошёл через самые серьёзные в его монашеской жизни испытания.
В июле 1965 г. Мертон вспоминал девушку, с которой познакомился ещё в Англии. Он вдруг увидел в ней «символ настоящей женственности, то, чего я так и не познал, живя в миру, и без чего я до сих пор ущербен». Эта ущербность его тревожила. Он не был до конца уверен, что способен по-настоящему любить, что другие любят его по-настоящему и что, в конечном счете, его одиночество неподдельно, а сам он не пытается убежать от самого себя. Божественная любовь может заменить любовь человеческую, но у Мертона хватало внутренней честности, чтобы не рассчитывать на это. Потому-то он и был так открыт в общении и любви ко всем, кто его окружал: к гефсиманской братии, к друзьям, к тем, кого он знал только по переписке. Но целиком исцелить «ущербность» не удавалось.
Исцелила её Марджи, медсестра больницы св. Иосифа в Луивиле. Мертон понимал, что любит её, а она – его. На этот раз внутренняя честность подвела его, и он не рвал отношений с Марджи, несмотря на всю нелепость и безвыходность положения. Он метался между любовью и призванием.
«Кто не любил, живя в одиночестве, тот ничего о нём не знает. Любовь и одиночество должны испытать друг друга в человеке, который собрался жить один: они должны слиться в нём воедино – иначе он так и останется ущербным».
В конце концов дело перешло в чужие руки: кто-то из братьев услышал, как Мертон говорил с Марджи по телефону, и доложил аббату. Один из биографов писал: «Мертон был сильно расстроен, хотя и почувствовал облегчение. Тайное стало явным, и он смог трезво взглянуть на вещи. Он начал сознавать, что был не прав». Друзья помогли ему всё уладить, и они с Марджи решили больше не встречаться. Разлука глубоко ранила Мертона. Что чувствовала Марджи, мы не знаем. За все последующие годы она не проронила ни слова, и это, безусловно, делает ей большую честь. Мертон убедился на опыте, что может по-настоящему любить и быть любимым. Он чувствовал, что стал внутренне свободней.
Тяжелыми выдались и следующие два года в скиту, последние годы жизни. Виной тому – многочисленные посетители: старые друзья, друзья по переписке, деловые партнеры, паломники и многие другие. Гости порой сваливались к нему как снег на голову. Чтобы избавиться от них, Мертон на большую часть дня уходил в лес. В конце концов он стал думать, где бы ещё уединиться.
Когда пришло приглашение на монашескую конференцию в Бангкоке, новый аббат дал Мертону свободу всё решать самому, и тот решил ехать. Многие недоумевают, почему он не ограничил число посетителей и не остался в скиту. Кто-то другой, наверное, так бы и сделал, только – не он. Мертону нужен был опыт. Познав одиночество и любовь, он хотел познать, как готовятся к одиночеству восточные монахи. Он говорил, что едет на Восток не смотреть, а набираться опыта. Удар током прервал его поиск, приобщив его к совершенному одиночеству и к совершенной любви.
Томас Мертон, или отец Людовик, был редким человеком. Скажу прямо: знать его и жить рядом с ним было для меня величайшим даром. Его слово воздействует на людей и сейчас, спустя сорок лет после его смерти. А это значит, что он действительно жил тем одиночеством, о котором писал, – одиночеством, вводившим его не только в его собственное сердце, но и в сердце каждого из тех, с кем он был един во Христе.
Внутреннее «я» всегда одиноко и всегда универсально, ибо в нём моё собственное одиночество встречает одиночество других людей и Самого Бога. Это «я» выше разделений, границ и самоутверждения. Только это внутреннее и одинокое «я» по-настоящему любит любовью и духом Христа. Это «я» – Сам Христос, Который живёт в нас. Но и мы живём в Нём, а через Него – в Отце («Заметки о философии одиночества». Ч. 3, пар. 12).
Монсеньор Уильям Шеннон[51]. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭССЕ ТОМАСА МЕРТОНА «ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФИИ ОДИНОЧЕСТВА»[52]

В 1933 г. восемнадцатилетний Том Мертон путешествовал по Европе и на пути из Рима домой ненадолго заехал во Флоренцию. Художник, у которого он остановился, позвал его на фильм с Гретой Гарбо. Мертон, недолго думая, принял приглашение, потому что очень любил эту актрису. Фильм назывался «Королева Кристина». Позже, сыграв ещё несколько главных ролей, Грета Гарбо заявила, что «хочет быть одна», и удалилась в свой знаменитый затвор, никем так и не нарушенный.
Мертона тоже влекло в затвор, но мотивы у него были иные. Он стремился к одиночеству большую часть своей монашеской жизни, но получил его только в 1965 г., прожив в монастыре почти четверть века. В скиту неподалеку от Гефсиманского аббатства он поселился в день памяти св. Бернара.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭССЕ
Об одиночестве Мертон писал много. Сначала – в «Знамении Ионы», позже – в «Одиноких думах» (напечатаны в 1958 г.) и, наконец, в пространном эссе «Заметки о философии одиночества», вошедшем в сборник «Спорные вопросы». Последнее было Мертону очень дорого. В неопубликованном дневнике 1965-1966 гг. он цитировал Рильке: «Произведение только тогда хорошо, когда создано по необходимости», и далее писал, что «Философия одиночества» – именно такое произведение. 20 декабря 1962 г. в письме Джону By он говорил: «Рад, что Вам понравилась „Философия одиночества”. В ней я высказал всё самое главное, быть может, единственное, что я должен был высказать». Наконец, в последний год жизни он делился с Джун Янгблат, исследовательницей его трудов: «„Заметки о философии одиночества” – самое существенное в „Спорных вопросах”».
Орденские цензоры думали иначе. Они сочли, что Мертон слишком рьяно защищает одинокую жизнь (иначе говоря – отшельничество) и разрушает основы жизни общинной. Не понравились им и «прямые нападки на начальство, духовников и исповедников», и то, что эссе учит человека самостоятельно распознавать волю Божью, а следовательно – «не доверять установленной Богом власти».
О противоречиях с цензурой Мертон рассказывал сестре Терезе Ленфер в письме от 30 мая 1960 г.:
Мою заметку ругают так, будто это непристойный роман. Орден лихорадит от одного лишь намёка на одиночество. Наша традиция неприглядна. Мы почему-то решили, что общинная жизнь – это пе plus ultra, и стоим до последнего. Что за вздор! Вместо того, чтобы следовать истине и традиции Церкви, орден, как и всякий институт, плодит шаблоны. Ну и в переплёт же я попал.
В том же письме он сообщил и кое-какие подробности:
Я переписывал текст трижды. Первый вариант появился в 1955 г. (или чуть раньше) и опубликован только на французском [
«Dans le desert de Dieu»]
и итальянском [
«Nel Deserto»]
. Никто, кроме наших цензоров, не нашёл в нём ничего крамольного. Когда же я всё окончательно вычистил, цензор заявил, что я «нападаю на орденское начальство и авторитет Церкви». Он ухватился за что-то вроде: «те, кто говорит, что достаточно одного внутреннего одиночества, не понимают, что говорят», и решил, что речь идёт о начальстве, как будто никто другой такого не скажет.
В другом месте [sic] я написал, что главная мука одинокой жизни в том, что отшельника никто не направляет, и воля Божия открывается ему напрямую. Цензор же, не обратив внимания на слова о муке, выдернул остаток фразы и заявил, что я проповедую непослушание, отвергаю духовное руководство и призываю жить прямым водительством Духа Святого. Что за нелепость! Глава ордена [
Габриэль Сортэ]
, прочтя отзыв, пришёл в ярость и заклеймил меня как упрямого еретика.
Пока цензоры спорили об эссе, Виктор Хаммер опубликовал его на свой страх и риск под названием «Одинокая жизнь» (Е2 по моей классификации. –
См. прим. 62). Тираж был маленький, всего 50 экземпляров.
Как ни странно, распря с цензорами пошла Мертону на пользу. Внося правки, он заново всё продумал, и текст от этого выиграл. 17 сентября 1960 г. он писал Марку ван Дорену:
Благодарю тебя за отклик на брошюру об одиночестве [
«Одинокая жизнь», ограниченное издание]
. Я знал, что она тебе понравится и что ты её поймёшь. Посылаю тебе «Спорные вопросы», куда вошёл тот же текст, только немного дополненный. Цензоры заставили меня говорить яснее прежнего. Вот, поистине, – прелести цензуры! Вне Церкви этого не понимают. Цензоры невольно похлестывают автора, распаляют его, делают его текст более внятным, сжатым и, в конце концов, вынуждают его сказать то, что иначе осталось бы невысказанным.
Переписав эссе по замечаниям цензоров, Мертон полагал, что сделал его лучше, но, по-моему, это не совсем так. Дело в том, что в первой (французской) версии он просто защищал отшельничество, а в последней (полное эссе из «Спорных вопросов») – значительно расширил тему и стал писать об одиночестве как таковом, не обязательно монашеском. Это объясняет, почему он использует то слово «отшельник» (эремит,
hermit), то – «человек, любящий уединение»
(solitary). Слово «отшельник» встречается девять раз и только во «французской» части эссе (версии E1, E2. -
См. прим. 62). Возможно, Мертон плохо отредактировал окончательный вариант. (Ему вообще было гораздо интереснее творить новое, чем дорабатывать уже написанное. Правда, машинописные тексты редактировать гораздо сложнее, чем набранные на компьютере.) Но возможно, что он намеренно оставил слово «отшельник», пытаясь выразить две вещи. Во-первых, что отшельник – это прообраз всякого любящего уединение. А во-вторых, что отшельничество никак не противоречит порядкам Траппистского ордена. Частые стычки с цензорами научили Мертона разным уловкам, помогавшим ему сохранить свободу.
ПОДХОД К МАТЕРИАЛУ
Должен признать, что я очень долго не мог подступиться к эссе. Все прочие тексты Мертона легко раскрывали мне свои секреты, но на этот раз всё было по-другому. Я пытался подытожить эссе, но заметки получались длиннее оригинала, а главное – не складывалась общая картина. В мысли Мертона не было сквозной логики; одна мысль часто не вытекала из другой, и ничто методично не вело меня от начала к концу.
Честно говоря, я был озадачен и расстроен. Эссе, которым я восхищался, казалось неприступным. Наконец, я не понял, что упускаю из виду два очевидных обстоятельства – название эссе и его структуру. В оглавлении «Спорных вопросов» стояло: «Философия одиночества», а в самом тексте:
«Заметки о философии одиночества». Значит,
стройной системы не было, а были всего лишь заметки. Кроме того, текст разбит на части и пронумерованные параграфы (9 – в части 1, 22 – в части 2 и 12 – в части 3). Та же структура была и у вышедшего в 1955 г. сборника «Нет человека, который был бы как остров». Мой сборник, писал Мертон тогда, «не полный свод всего самого важного, а заметки о том, что считаю важным я сам».
Не следовало искать у Мертона стройной
философии одиночества, выверенной последовательности идей. Он переходил от мысли к мысли, часто повторяясь, и не подводил читателя к определённому выводу. Как и в «Нет человека, который был бы как остров», он просто размышлял, не претендуя на полноту.
Коль скоро Мертон писал от опыта, то и я решил ничего не подытоживать, а поделиться с читателем тем, что почерпнул из эссе я сам. Я решил раздать людям золото, которое добыл на этом прииске, и помочь им добыть свое. Используя другой образ, скажу, что эссе Мертона похоже на алмаз, но ещё грубый, не прошедший через руки искусного мастера.
ЭССЕ
Вариант, вошедший в «Спорные вопросы», начинается с длинного примечания и поделён на три части: «Засилие развлечений», «В гибельном море», «Духовная нищета».
Во вводном примечании Мертон поясняет, что эссе написано не только и не столько для монахов или верующих, принесших те или иные обеты, сколько для одинокой души вообще, поскольку одиночество – неотъемлемая часть человеческого бытия и присуще каждому из нас. «В моих заметках человек, любящий уединение (solitary), вполне может быть мирянином, очень далеким от монашеской жизни, как, например, Туро или Эмили Дикенсон».
Часть первая. «Засилие развлечений»
Для меня в этой части были важны следующие темы.
А)
Уединённость и общество. Одинок каждый человек. Но далеко не каждый любит
быть один или
чувствовать себя одиноким (последнее случается и с теми, кто находится в обществе). Уединённости не избежишь, даже если захочешь. Оно присуще человеку. Как бы общительны мы ни были, мы всё равно бываем одни (и довольно часто). Ночью, например, когда нам не спится. Тот, кто спит рядом, не нарушает нашего одиночества. На ум приходят самые разные мысли: мелкие и случайные, глубокие и неясные. Мы с ними – один на один. Даже в толпе можно быть одиноким, если нас ничто с ней не связывает. Уединённость сопровождает нас по жизни и во всей полноте проявляется тогда, когда та подходит к концу. Сколько бы нас ни окружало дорогих нам людей, свою смерть мы встречаем одни. Каждый из нас умирает в одиночку.
Уединённость, одну из сторон человеческой жизни, дополняет другая сторона – общение с людьми, принадлежность к обществу. Если бы общество было
общиной, оно превратило бы нашу уединённость в истинное одиночество, где мы опытно переживаем своё единство с братьями и сёстрами. Но чаще всего оно вырождается в
коллектив, которому одиночество чуждо и который противится ему изо всех сил.
Б)
Развлечение. Общество как коллектив не может полностью оградить нас от одиночества, поэтому оно делает всё, чтобы мы о нём забыли. Оно вовлекает нас в придуманную, оторванную от реальности жизнь, порабощает нас развлечению. Первая часть эссе Мертона так и называется: «Засилие развлечений». Как я уже говорил
(см. прим. 62), она есть только в окончательном варианте эссе. Её внушительный объём говорит о том, что Мертон считал эту тему очень важной.
Термин
развлечение Мертон заимствовал у Паскаля, который понимал его как
divertissement, постоянную и намеренную рассредоточенность, позволяющую, как пишет Мертон, «окончательно избавить человека от самого себя». Развлечение – это пустое и отупляющее времяпрепровождение, поверхностные и бессмысленные действия, отрывающие человека от настоящей жизни. Мы вправе говорить о «засилии»
развлечений, потому что они подчиняют нас себе, лишают нас свободы быть теми, кто мы есть на самом деле.
Чтобы объяснить, к чему ведёт развлечение и откуда оно рождается, Мертон использует слова: «иллюзия», «домысел», «оцепенение», «безразличие». Они рисуют образ человека, грезящего наяву, выпавшего из реальности. Не спорю, такой человек может быть очень успешен в вещах поверхностных. Но глубин жизни он никогда не коснется, потому что развлечение отгородило его от них. «Развлечения для того и нужны, – пишет Мертон, – чтобы усыпить человека, погрузить его в тёплое, оцепенелое равнодушие коллектива, который, в свою очередь, тоже хочет только забав» (ч. 1, пар. 1). Мыльные оперы и смешные сериалы вполне могут привязать к себе человека. Они заменили нам «хлеб и зрелище» древнего Рима. Поскольку римское общество было весьма неблагополучно, императоры помогали людям забыть, как пошло и бессмысленно их существование, предлагая им хлеб и зрелища. Наше общество делает то же самое, только с помощью современных технологий.
В)
Отшельник, отметающий развлечения. Человек, любящий уединение, – это тот, кто отказался от развлечений. Он не хочет бежать от реальности, но намерен найти её и жить ею, чего бы это ему ни стоило. Он принимает жизнь, как она есть, во всей её нелепости. Он открыт мучительному «осознанию того, что под нашей, казалось бы, понятной, хорошо упорядоченной, разумной жизнью лежит бездна иррационального, беспорядка, бессмыслицы, самого настоящего хаоса» (ч. 1, пар. 2). Человек, любящий уединение, развеивает иллюзию самодостаточности, которую рабы развлечений питают в отношении себя и своего мирка. Он готов принять непостижимость жизни и не хочет притворяться, будто её нет.
Г)
Вера истинная и вера ложная. Чтобы принять реальность, как она есть, нужна настоящая вера. «Во внутреннем одиночестве, – пишет Мертон, – едва ли не самое главное – это вера, с которой человек берёт на себя ответственность за свою внутреннюю жизнь» (ч. 1, пар. 3). Вера погружает нас в тайну жизни. Если же она принимает традиционные формулы, не желая вникать в их смысл, то
она сама может стать развлечением. Вера, которая не идёт дальше готовых ответов на главные вопросы жизни, и есть развлечение. Настоящая же вера, пишет Мертон, заставляет человека «повернуться лицом к собственной тайне и в одиночку, непостижимым и неописуемым образом идти сквозь её мрак, чтобы открыть, что его тайна и тайна Бога сходятся в одну – и единственную – реальность» (ч. 1, пар. 3). Реальность же состоит в том, что Бог живёт в нас, а мы – в Боге, что наше сердце бьётся в Его сердце. В Калькутте Мертон говорил: «Мы открываем не новое, а старое единство. Мои дорогие братья, мы уже едины, хотя нам кажется, что это не так... Мы должны стать теми, кто мы уже есть».
Человек, любящий уединение, не удаляется от общения с людьми, а отрекается от мнимого единства, чтобы достичь истинного в Боге. Он призван к сверхъестественному единству, которое глубоко и нерасторжимо. «Он ищет внутри себя самого единство духовное и простое, которое, если он его находит, становится, как это ни странно, единством всех людей – поверх разделений, противоречий и расколов» (ч. 1, пар. 5).
Д)
Итоги. Мертон пишет, что мы можем жить на трех уровнях. Первый уровень – «феноменальный», поверхностный, когда нам удается отвлечь себя от дисгармонии, отгородиться от всего, что досаждает нам, тревожит и тяготит нас. Это уровень развлечений. Здесь не живут реальностью. «Большинство людей не могут полноценно существовать без домыслов», – пишет Мертон (ч. 2, пар. 4).
Второй уровень человеческого существования – экзистенциальный, когда мы перестаем скользить по поверхности и соприкасаемся со сложностью жизни, её дисгармонией, абсурдностью, противоречиями. Отсюда начинает свой путь человек, любящий одиночество и отказавшийся от развлечений.
Третий уровень – созерцательный. Человек, любящий уединение, начинает ощущать себя созерцателем, проходит сквозь мнимую бессмысленность бытия и вступает в тайну истинного «я» и одновременно – в тайну Бога. Именно на этом уровне жизнь перестаёт быть абсурдной, а её, противоречия разрешаются. В одной из своих книг Мертон называл это «эсхатологической тайной» Иулиании Норвичской. «Всё будет исцелено», – писала она. Господь придёт к нам с окончательным ответом на нашу муку. «Последний день» – это не разрушение и месть, а милость и жизнь. «Все мелкие чаяния будут отменены, и всё будет исправлено».
Мертон так подытоживает первую часть своего эссе:
Человек, действительно любящий уединение, живёт не среди доморощенных домыслов и иллюзий, а в пустоте, смирении, чистоте, вне досягаемости для лозунгов и тяги к развлечениям, отчуждающим его от Бога и от самого себя. Такой человек живёт в единстве. Его одиночество – это не спор, не обвинение, не упрек и не проповедь. Оно существует само по себе. Оно есть, и потому не привлекает к себе внимания. Да оно и не хочет этого делать, оставаясь, в сущности, совершенно невидимым (ч. 1, пар. 8).
Часть вторая. «В гибельном море»[71]
Первая часть рисует нам идеальную картину: человек, любящий уединение (solitary), становится созерцателем и преодолевает бессмысленность и нелепость жизни, которую отказываются видеть рабы развлечений. Он подходит к тайне истинного «я» и открывает Бога, единство с Ним и со всем сущим. Казалось бы, всё легко и просто. Но на самом деле путь от поверхности в глубь бытия, где мы находим самих себя, полон опасностей и ловушек.
На мой взгляд, вторая часть эссе очень неоднородна. В ней много блестящих отрывков, но много и повторов, и стилистических недоработок. Часть «В гибельном море» говорит о трудностях, которые ждут человека в уединении, и о том, как с ними справиться.
А)
Ложное одиночество. Если отшельник отделяет себя от общества, чтобы подчеркнуть собственную индивидуальность, то его одиночество ложное. На самом деле он нуждается в обществе и ждёт от него одобрения. Даже если общество враждебно по отношению к нему, он утешается тем, что общество его замечает. Притворное одиночество требует к себе постоянного внимания.
Мертон хорошо знал, кто такой «ложный отшельник». В июле 1956 г. он был в Коллегвиле, на конференции в Университете св. Иоанна. Там он беседовал с Грегори Зилбургом, известным психиатром, недавно обратившимся в католичество, и тот высмеял его (более мягкого слова я подобрать не могу), заявив, что его стремление к одиночеству патологично и что на самом деле он хочет быть «отшельником на Таймс-Сквер», чтобы над его скитом висела огромная надпись «ОТШЕЛЬНИК». Но Мертон лучше Зилбурга понимал, что неправильное отношение к одиночеству ведёт к отделённости от людей и становится ещё одним развлечением.
Б)
Настоящий отшельник. Настоящий отшельник не отрекается от людей. Он «ценит в отношениях с другими людьми всё самое существенное, человеческое... Отвергает же... пустые претензии на общность, которые норовят подменить собой общность настоящую, неумело маскируя внутреннюю порчу, безответственность и эгоизм» (ч. 2, пар. 2).
В)
Ответственность за свою внутреннюю жизнь и путь к тайне Бога. Человек, любящий уединение, берет ответственность за свою внутреннюю жизнь и потому отвергает поверхностные общественные представления, которые заставляют его «видеть и взращивать в себе только то, что предписано обществом, как полезное и похвальное для его членов» (ч. 2, пар. 2). Он не хочет терять опыт в обмен на слова, лозунги и понятия, которые предлагает ему общество, и «презирает преступное, кровожадное высокомерие своей страны и своего класса не меньше, чем высокомерие „врага”» (ч. 2, пар. 3).
Настоящий отшельник ненавидит агрессивность и в себе, и в своекорыстных политиках. Но свою ненависть он не переносит на тех, кто живёт общественными домыслами. Отшельник разделяет свое одиночество со всеми. Он един со всеми не в домыслах и пустых символах, которые часто подменяют собой настоящее единство, и не в пустых интересах и устремлениях поверхностного общественного бытия, а в опасности, грозящей каждому из людей, в уготованной им муке. Значит, «одиночество – это основа для глубокого, чистого, сердечного сострадания другим людям, независимо от того, понимают они, сколь трагична их участь, или нет. Более того – это путь, которым отшельник входит в тайну Бога, а потом и других приводит к этой тайне силой своих любви и смирения» (ч. 2, пар. 6).
Г)
Свидетельство отшельника. У человека, любящего уединение, полагает Мертон (здесь он почему-то использует слово «отшельник»,
hermit), есть своя роль в обществе. Будучи внешне отделён от общества, он свидетельствует о первичном, духовном, мистическом характере Церкви. «Христианский отшельник часто ближе к сердцевине Церкви, чем те, кто с головой ушёл в апостольские труды» (ч. 2, пар. 10).
В варианте, переданном цензуре (Е4), Мертон далее пишет: «Жизнь и единство Церкви видимы и должны быть таковыми. Но это не значит, что они исключительно и преимущественно видимы». Один из цензоров обратил внимание на эту фразу и счёл, что она подчеркивает невидимый аспект Церкви, принижая видимый, и может навести на мысль, что «нет нужды принадлежать Церкви видимой», поскольку «личное просвещение от Духа Святого важнее всего». Мертон эту фразу вычеркнул, и в напечатанный вариант она не вошла. И всё-таки он настаивает на том, что отшельник, прислушиваясь к Духу Святому и собственной совести, может дать обществу новые ценности. Он помогает забыть о том, насколько продуктивно или практически полезно то или иное, и ставит во главу угла любовь, сострадание, заботу о всём народе Божием. Отшельник не просто усердно молится о тех, кому некогда молиться. Он свидетельствует о пустоте домыслов, которые навязывает нам развлечение, пытаясь нас ослепить и отгородить от реальности.
Часть третья. «Духовная нищета»
А)
Нищета отшельника. Размышление об общественном свидетельстве отшельника подводит нас к третьей части эссе, где сказано о духовной нищете. Быть одиноким не значит быть великим созерцателем, свободным от тревог и дел, не значит вести беззаботную жизнь. Напротив, молитва отшельника может быть гораздо суше молитвы тех, кто живёт в сообществе. Как и все смертные, отшельник иногда болеет, его гложут сомнения, но не в вероучительных истинах, а в том, что касается самых корней существования и смысла избранной им жизни.
Именно это сомнение погружает отшельника в молчание. Тогда, перестав задавать вопросы, он действительно познаёт, что Бог присутствует как единственная реальность посреди его сомнений и ничтожности. Он знает, куда идёт, но не уверен, «правильной ли дорогой». Его путь непонятен ему самому, но когда он доходит до места, понимает, что дошёл. «Чем ближе он к цели, тем дальше он от всего, что напоминает ему о „пути”. Таков его путь. Отшельник его не понимает. Не понимаем и мы» (ч. 3, пар. 4).
«Поэтому уединенная жизнь – это жизнь в любви, но без утешений. Она плодотворна, потому что объята и переполнена волей Божией, а всё, в чём Его воля, исполнено значимости, даже если иногда кажется совершенно бессмысленным» (ч. 3, пар. 6).
Б)
Воля Божия. Размышления Мертона о воле Божией вызвали негодование цензоров. Особенно вот это: «Ужас одинокой жизни состоит в непосредственности, с которой душе открывается воля Божия. Куда спокойней и безопасней жить, когда её преподносят нам общество, человеческие законы или чьи-то приказы» (ч. 3, пар. 7). Цензор усмотрел здесь недоверие к установленной Богом власти, которая направляет нас и помогает отличить Божию волю от воли человеческой или дьявольской. В ответ Мертон заменил «непосредственность» на «тайну и неизвестность, которыми воля Божия томит душу», и добавил, что познать её помогают «духовники и старшие». По сути дела, он сдался, отказавшись от своих слов, но другого выхода у него не было. Цензор же, заканчивая свой отзыв, заискивающе писал главе ордена:
Таковы, Ваше преподобие, мои мысли. Оставляю их на Ваш суд. Ничего не могу поделать, но в этом MS, равно как и во многих других текстах отца Людовика, я усматриваю склонность к непослушанию, к неприличествующей монаху строптивости. Я очень хотел бы ошибиться, но всё время думаю о том, что, если бы отец Людовик следовал цистерцианскому призванию во всей его полноте, если бы он получил всю его благодать и помощь, то не нашёл ли бы он всё, что искал; не сделал ли бы он гораздо больше для Церкви, чем он делает теперь, отвлекаясь на эти свои писания и на духовные проблемы людей за стенами монастыря?
В)
Внешнее одиночество. Защищая внешнее одиночество, Мертон ещё раз досадил цензуре и вынужден был вернуться к самому первому, французскому варианту, где он писал об отшельнической жизни как части цистерцианской традиции. В окончательном варианте он пишет: «Часто говорят, что внешнее одиночество не только опасно, но и совершенно не нужно; что главное – это сохранить одиночество внутреннее» (ч. 3, пар. 10). А потом добавляет, что, хотя в этих словах есть доля истины, их неправильно понимают.
Истина же состоит в том, что если Бог призвал человека к одиночеству, то он будет одинок, даже живя в общине. Мертон, несомненно, имеет в виду самого себя. Он был одинок задолго до того, как переселился в скит (это произошло в 1965 г.). Продолжая свою мысль о внешнем одиночестве, Мертон пишет: «В этом легковесном утверждении есть правда, куда более страшная, чем могут себе представить те, кто его делает, пытаясь оправдать свою наполненную развлечениями жизнь». Цензор, процитировов отрывок, заключает довольно резко:
В этих сентенциях мне видится прямое противление начальникам, духовникам, исповедникам, вообще всем, чей долг – рассудить, действительно ли тот или иной человек призван к одиночеству. Автор не уважает установленную Богом власть, через которую нам, как правило, и открывается воля Божия.
После такой критики Мертон вынужден был выразиться иначе: «В этих словах есть своя правда, но те, кто их произносит, не представляют, сколь эта правда страшна и сколько в ней скрыто иронии» (ч. 3, пар. 10). Тот, кто призван к одиночеству Богом, но живёт в общине, одну за другой рвет нити, связывающие его с ближними. Он перестаёт «черпать силы из рутины совместной жизни», чтобы жить связями более глубокими, безмолвным общением в искренней любови. Одиночество понуждает человека любить ближних сильнее, чем прежде, быть может, – впервые в жизни любить по-настоящему.
Заключение
Двенадцатый и последний параграф третьей части эссе есть только в окончательном варианте из «Спорных вопросов». Не подумайте только, что Мертон схитрил и приписал его после того, как договорился с цензорами. Последние три абзаца эссе – это великолепное крещендо на тему, начатую им годом раньше во «Внутреннем опыте» и продолженную годом позже в «Семенах созерцания». Это тема постепенного исчезновения преходящего «я» и становления «я» вечного. Погружаясь в одиночество, человек теряет себя: «В пустоте одиночества исчезает «я» поверхностное, общественное, ложное, образ, сотканный из предрассудков и прихотей, плод позерства, фарисейского эгоизма и фальшивой преданности, наследие ограниченного и несовершенного общества» (ч. 3, пар. 12).
Глубинным, истинным «я» невозможно обладать. Его невозможно приобрести. Это вообще не объект, не вещь. Оно не моё и не может быть моим, потому что оно не пустое «я» индивида и не средоточие наших стремлений к успеху и обладанию. Это глубинное «я» духа, одиночества и любви, которое «может только
быть и
действовать по глубоким внутренним законам, не выдуманным людьми, а исходящим от Бога» (ч. 3, пар. 12).
Внутреннее «я» всегда одиноко. Но оно и универсально, едино с миром и людьми. Как и всё сущее, оно исходит от Бога. Мертон пишет: «...в нём моё собственное одиночество встречает одиночество других людей и Самого Бога» (ч. 3, пар. 12). Внутреннее «я» выше разделений, границ, самоутверждения: «Только это внутреннее и одинокое «я» по-настоящему любит любовью и духом Христа. Это «я» – Сам Христос, Который живёт в нас. Но и мы живём в Нём, а через Него – в Отце» (ч. 3, пар. 12).
Как я уже сказал, этот волнующий заключительный параграф есть только в окончательном варианте. Он был написан летом 1960 г. и вышел 26 сентября в «Спорных вопросах». Спустя короткое время, в начале 1961 г., Мертон начал серьёзную правку своей старой книги «Семена созерцания». Он добавил к ней две новые начальные главы, где писал, что созерцание, как и одиночество, – это опыт обретения истинного, внутреннего «я». Так последняя часть «Философии одиночества» подводит нас прямо к ставшим духовной классикой «Новым семенам созерцания».
Мертон очень поэтично пишет об одиночестве, поэтому и свои размышления я хотел бы завершить его стихом из сборника
Emblems of a Season of Fury, напечатанного в 1963 г. Вполне возможно, что стих вышел из-под его пера в одно время с эссе.
Песнь: Если ты ищешь...
Если ищешь небесный свет,
Я, уединение, – поводырь!
Я веду тебя в пустоту;
Неземную зарю бужу,
Открываю окна
Твоих сокровенных покоев.
Когда я, одиночество, дам знак,
Тихо следуй за мной; иди, куда я маню!
Не бойся, малодушный упрямец,
Слово и зверь:
Я, уединение, – ангел,
Молящийся за тебя.
Взгляни на пустую, щедрую ночь,
На скитальцев луну!
Я – назначенный час,
«Ныне», что мечом
Рассекает время.
Я – внезапная вспышка
За пределами «нет» и «да»,
Предтеча Божиего Слова.
Иди по моей дороге
К златовласым солнцам,
Логосу и музыке, чистой радости,
Что вопросов не любит
И ответов не ждёт.
Ибо я, одиночество, – твоё «я»,
Я, ничтожность, – всё для тебя,
Я, молчание, – твой Аминь.
Фото А. Кириленкова. Ноябрь, 2006 г.
 Вид на Гефсиманию со стороны алтаря церкви
Вид на Гефсиманию со стороны алтаря церкви
 Вход в Гефсиманию (Аббатство Девы Марии Гефсиманской, Орден траппистов)
Вход в Гефсиманию (Аббатство Девы Марии Гефсиманской, Орден траппистов)
 Гефсимания, монастырское кладбище.
Гефсимания, монастырское кладбище.
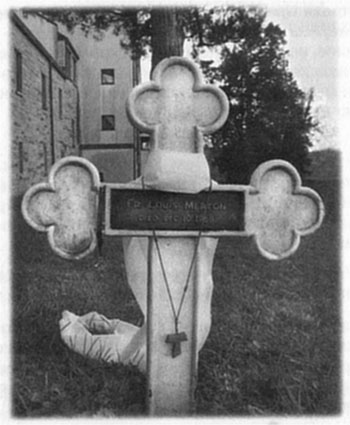 Могила Томаса (о. Людовика) Мертона на монастырском кладбище, Гефсимания.
Могила Томаса (о. Людовика) Мертона на монастырском кладбище, Гефсимания.
Примечания
1
The Seven Storey Mountain. 1948.
(обратно)
2
Вторая редакция, изданная в 1963 г., напечатана в русском переводе в 2006 г. издательством Общедоступного Православного университета, основанного прот. Александром Менем.
(обратно)
3
The Sign of Jonas. Дневники первых лет монашества. Напечатаны в 1953 г.
(обратно)
4
Сборник «Thirty Poems» опубликован в 1944 г. Первая из напечатанных книг Мертона.
(обратно)
5
A Man in the Divided Sea – 1946 г. The Tears of the Blind Lions; The Waters of Siloe – 1949 r.
(обратно)
6
«The Ascent to Truth» напечатана в 1951 г.
(обратно)
7
No Man Is An Island.
(обратно)
8
Издательство францисканцев. М., 2003.
(обратно)
9
Disputed Questions.
(обратно)
10
The Inner Experience. Книга впервые издана в 2004 г.
(обратно)
11
Когда фразу не удавалось построить с громоздким словосочетанием «человек, любящий уединение», приходилось использовать слово «отшельник», звучащее по-русски слишком специально.
(обратно)
12
Если бы слово «монах», происходящее от греческого
топаchos, означало просто одинокого, живущего отдельно от всех остальных человека, то я бы назвал свои заметки «Философия монашеской жизни». Но поскольку это не так, и, говоря о «монахе», сегодня чаще представляют тот или иной институт чем человека, то этого слова я старался избегать. Пишу же я об одиноком духе, предмете, важном для монашеской жизни, но не только для нее, равно как и не только для людей, принесших те или иные обеты и посвятивших себя Богу. Таким образом, хотя я и пишу о
monachos в традиционном понимании, о людях, любящих уединение, я намеренно избегаю всего, что способно вызвать в уме читателя образ облаченного в мантию насельника средневековой обители. При этом я ни в коем случае не унижаю и не отвергаю монашество как институт: я просто обхожу всё внешнее и второстепенное, чтобы идти в глубь предмета, к самому в нём существенному. В моих заметках человек, любящий уединение, вполне может быть мирянином, очень далёким от монашеской жизни, как, например, Typo (Thoreau) или Эмили Дикенсон (Emily Dickenson).
(обратно)
13
Крик птицы на рифах
(фр.). Здесь и далее – прим. пер.
(обратно)
14
Французский поэт (1887-1975). Имя Сен-Жон Перс (Saint-John Perse) – псевдоним, составленный из имени апостола Иоанна и древнеримского поэта-сатирика. Настоящее имя – Алекси Леже (Leger).
(обратно)
15
One's own absurdity.
(обратно)
16
Apparent – это одновременно и «очевидный, явный, несомненный», и «кажущийся, мнимый, обманчивый».
(обратно)
17
Пер. с древнегреческого М. А. Дынника.
(обратно)
18
Sympathy. Возможный перевод: «для глубокой ... общности с другими людьми»
(обратно)
19
Candor – искренность, откровенность, прямота, но и беспристрастность. Оба значения возможны в этой фразе.
(обратно)
20
У автора: completely empty of himself, т.е. «совершенно пуст от самого себя». Возможный перевод: «совершенно не заняты собой». Но при таком переводе выпадает ключевое слово «пустота».
(обратно)
21
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7).
(обратно)
22
Eucherius, ум. ок. 450 г. н.э., латинский христианский писатель.
(обратно)
23
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном» (Рим. 8:5).
(обратно)
24
Не has more cares, he is more insecure. Возможен другой перевод: «у него больше забот, он хуже защищен».
(обратно)
25
The pressure, upon his own life, of that pure actuality. Дословно: «давление на его жизнь чистой актуальности».
(обратно)
26
«Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк. 1:3).
(обратно)
27
Sing of contradiction. В синодальном переводе: «се, лежит Сей на падение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк. 2:34). «Предмет» – не очень точный перевод греческого simeion (знамение, знак). «Пререкание» же происходит от греческого глагола antilego (пререкаться, противоречить, спорить, прекословить).
(обратно)
28
Sacramental gestures of God. Это довольно необычное выражение переведено дословно. В следующем предложении Мертон говорит о слове Божием, из чего можно заключить, что для него в этом контексте «жест» и «слово» синонимичны. Трапписты проводят значительную часть года в молчании, объясняясь по работе и богослужению языком жеста, поэтому, возможно, для них жест и слово – почти одно и то же.
(обратно)
29
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
(обратно)
30
Аллюзия на слова ап. Павла «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3).
(обратно)
31
Fr. James Conner, OCSO. Thomas Merton – a monk of compassion–a man of paradox. Доклад на первой международной конференции памяти Томаса Мертона в Испании «Seeds of Hope: Thomas Merton's Contemplative Message», Авила, 27-29 октября, 2006 г.
(обратно)
32
Holiness and Wholeness.
(обратно)
33
Гефсимания – сокращённое название монастыря, монахом которого был Томас Мертон. Полное его название – Аббатство Девы Марии Гефсиманской (Abby of our Mother of Gethsemani). Монастырь находится в США, в штате Кентукки, примерно в 100 км от Луивиля, одного из трех главных городов штата. Основан – в 1848 г. Сайт монастыря:
http://www.monks.org.
(Прим. пер.).
(обратно)
34
Французский город, где появился первый пореформенный монастырь. Этот город дал название и всему ордену: «траппистский». Именно этому ордену принадлежит Гефсимания.
(Прим. пер.)
(обратно)
35
Students: в католических монастырях – монахи, готовящиеся к рукоположению и проходящие соответствующий курс обучения.
(Прим. пер.)
(обратно)
36
Entering the Silence. Vol.2. Journals of Thomas Merton. Harper, San Francisco. 1966. P. 463.
(обратно)
37
Ibid. P. 488.
(обратно)
38
First and Last Thoughts: An author's Preface. A Thomas Merton Reader. Ed. Thomas P. McDonnell. Garden City. N.Y. Doubleday Image. 1974. P. 16-17.
(обратно)
39
Thomas Merton in Alaska. New Directions Book. N.Y. 1988. P. 150.
(обратно)
40
An Introduction to Cistertian Theology. Unpublished notes of Lectures given to the Scholastics. Abbey of Gethsemani. P. 71.
(обратно)
41
Именно в этом скиту-сарае, между 1953 и 1955 годами, Мертон написал «Одинокие думы» и «Заметки о философии одиночества». (
Прим. пер.)
(обратно)
42
A Search for solitude. Vol. 3 of the Journals of Thomas Merton. Harper. San Francisco. 1996. P. 40.
(обратно)
43
Michael Mott. The Seven Mountains of Thomas Merton. Houghton Mifflin Co. Boston. 1984. P. 279-280.
(обратно)
44
Thomas Merton. Conjectures of a Guilty Bystander. Doubleday Image. 1968. P. 156.
(обратно)
45
Thomas Merton. A Search for Solitude. Op.cit. P. 181 -182.
(обратно)
46
Thomas Merton. Gandhi on Nonviolence. N.Y. New Directions. 1965. P. 20.
(обратно)
47
The Catholic Worker. October, 1961.
(обратно)
48
Thomas Merton. A Vow of Conversation. Journals 1964-65. Farrar, Straus, Giroux. New York. P. 194.
(обратно)
49
John Howard Griffin. Follow the Ecstasy. Latitude Press. Forth Worth. 1983. P. 84.
(обратно)
50
Ibid. P. 101.
(обратно)
51
Монсеньор Уильям Шеннон – основатель и первый президент Международного общества Томаса Мертона, автор нескольких книг о Мертоне.
(Прим. пер.).
(обратно)
52
William H. Shannon. Reflections on Thomas Merton's Article «Notes for a Philosophy of Solitude». Cistertian Studies. Vol. 29.1. 1994. P.83-99 (печатается с письменного разрешения автора).
(обратно)
53
Thomas Merton. The Sign of Jhonas. Дневник первых лет монашества.
(обратно)
54
Томас Мертон. Одинокие думы. М., Изд-во францисканцев, 2002 г.
(Прим. пер.).
(обратно)
55
Thomas Merton. Disputed Questions.
(обратно)
56
Неопубликованный дневник 1965-1966 гг., запись от 18 декабря 1965 г.
(обратно)
57
Thomas Merton. The Hidden Ground of Love. P. 624.
(обратно)
58
The Hidden Ground of Love. P. 642.
(обратно)
59
Censor's «Reflection on the Ms. „Notes for a Philosophy of Solitude”». (Цензорские «Размышления о „Заметках о философии одиночества”»). Архив Центра Томаса Мертона в Луивиле.
(обратно)
60
Высшее достижение
(лат.).
(обратно)
61
Thomas Merton. The Road of Joy. P. 235 - 236.
(обратно)
62
Французский текст был опубликован в Temoignages (Paris, 48, March, 1955. P. 32-36), журнале французских бенедектинцев. Английской версии этого текста не сохранилось. Мой перевод с французского опубликован в одном из весенних выпусков The Merton Seasonal. Текст примерно соответствует заключению второй части эссе из «Спорных вопросов», особенно § 21 и 22, и всей третьей части. Как писал Мертон, прежде чем эссе опубликовали в «Спорных вопросах», он его несколько раз переписывал по-английски. Я пометил версии так:
Е1
– Колумбийская версия. Хранится в архивах Колумбийского университета, передана туда сестрой Терезой Ленфер и названа «Призвание к одиночеству»
(Vocation to Solitude). На титульной странице стоит: «Призвание к одиночеству – часть первой версии “Заметок о философии одиночества”». Текст начинается с середины второй части опубликованного эссе (§.12) и далее следует версии французской, но с некоторыми добавлениями.
Е2 –
Белларминовская версия, 13 машинописных страниц. Хранится в архиве Центра Томаса Мертона в Беллармин Колледже, Луивил. Е1 – это, по сути, Е2 без двух первых страниц. Текст приложен к сборнику «Спорных вопросов» и назван «Призвание одиночества»
(Vocation of Solitude). В авторской правке от 5 мая 1960 г. название изменено на «Призвание к одиночеству»
(Vocation to Solitude). Текст начинается с § 10 второй части полного эссе из «Спорных вопросов».
Дело усложняется тем, что Виктор Хаммер напечатал в обход цензоров 50 экземпляров версии Е2 под названием «Одинокая жизнь»
(The Solitary Life). Позднее, в 1977 г., когда цензоры уже не играли роли, версия Е2 была опубликована в
The Monastic Journey под редакцией брата Партика Харта (Kansas City. Sheed, Ward, and McMeel. 1977). Версия E2 появилась и в номере
The Critic весной того же года, «Одинокая жизнь»
(The Solitary Life) содержит два отрывка, вызвавшие недовольство цензоров. Сравнивая §7 и 10 части 3 эссе из «Спорных вопросов» с §2 и 4 из
The Monastic Journey, можно понять, что было вычеркнуто в угоду цензуре.
ЕЗ – текст в 24 машинописных страницы, названный «Заметки о философии одиночества». На первой странице Мертон приписал от руки: «неполная версия – не для публикации». Этот текст больше всего похож на напечатанный в «Спорных вопросах». Он начинается с ч. 1, §4, полного эссе.
Е4 –
версия, посланная цензорам. Найти ее мне не удалось. Но я знаю, что она существует, по крайней мере, – существовала, потому что цензоры в своем отчёте приводят отрывок, которого нет ни в одной из известных версий.
Е5 – текст, напечатанный в «Спорных вопросах». Он содержит большую часть французского текста и версии El, E2, ЕЗ. Нового в нём – начало (ч. 1, §1-3) о «развлечении» и заключение (ч. 3, §12).
Полное эссе похоже на поезд, в котором первый вагон – это французский текст, а далее идут Е1 и ЕЗ. Тянет этот поезд паровоз (раздел о «развлечении»), а в его хвосте – тормозной вагон (ч. 3, §12).
(обратно)
63
Едва ли Мертон справедлив к главе ордена. Письмо Дом Габриэля от 28 апреля 1960 г. (именно его Мертон имеет в виду) было твёрдым, но мирным. Дом Габриэль писал: «Вы сетуете на цензуру, которая будто бы оправдывает название Вашей последней книги – „Спорные вопросы”. Это хорошая шутка, и я готов посмеяться вместе с Вами. Но не потрудитесь ли Вы посмотреть на все это с другой стороны и понять, почему цензоры недовольны Томасом Мертоном?» «Я пишу это, – продолжал аббат, – не для того, чтобы оправдать критиков (кстати, они Вас любят и старательно делают свое дело), а для того, чтобы напомнить Вам, что „трудности”, которые у Вас возникли с цензорами, вероятно, говорят о богословских погрешностях Томаса Мертона. Вы снова и снова пишете о том, что монашество и Церковь, как видимый иерархический институт, – это ещё не все и что нужно сознавать присутствие Духа. Приемлемое утверждение. Но: при этом Вы институт слишком резко противопоставляете Духу, Которым Церковь рождена и Которым Она все ещё, несмотря ни на что, живёт.
То, что Церковь в её внешней, видимой форме есть учреждение человеческое, – более чем очевидно. Но есть ведь и тайна, и наша вера в освящающее действие Духа, Который – по обетованию Христа – пребудет с Церковью до конца времен. Легко говорить дурное о ближних, тем более – о друзьях или братьях, которых хорошо знаешь. Не совращает ли их это с правого пути? Когда речь идёт о Церкви и институтах, Ею одобренных, такие вещи особенно опасны. Трудно оставаться преданным Церкви и одновременно быть Ей судьей.
Опасно различать, а тем более разделять и противопоставлять, верность Церкви и верность Духу, ставя во главу угла личную честность, которая не всегда объективна. Диалог с некатоликами совершенно необходим: с этим я охотно соглашусь. Но вести его должна Церковь, потому что Ей Христос обещал водительство Духа. Церковь не может допустить того, чтобы Дух был отделён от Неё или противопоставлен Ей. Поэтому Церковь – благоразумная (именно благоразумная, не испуганная) Супруга Господа. Всегда ли Вы, сын мой, благоразумны? Судя по тому, что Вы пишете, – не всегда. Цензура – ваш добрый помощник. Или Вы видите в ней только досадную помеху? Не так она и строга, как Вам кажется, – я уже писал об этом Дом Иакову. При данных обстоятельствах Вам не следует удивляться тому, что Вас пытаются предостеречь, когда Вы начинаете „диалог” с некатоликами.
Однако это ни в коем случае не значит, что Вы находитесь под подозрением. Скорее Вам пытаются помочь, чтобы Вы мыслили и верили глубже во всем, что касается Ваших отношений с Церковью. Если все сказанное действительно Вам поможет, то – я убеждён – от этого выиграют все: Вы – в первую очередь, потом – Ваши читатели и, наконец, эти страшные и презренные цензоры».
Дом Габриэль далее пишет, что
imprimi potest (официальное разрешение церковной власти,
лат.) последует, как только он прочтёт отзыв цензоров о двух отрывках из рукописи. 16 апреля 1960 г.
imprimi potest было дано на публикацию «Заметок о философии одиночества».
В самом конце Дом Габриэль приписал от руки, что перечитал свой текст и не хочет, чтобы Мертон счёл его резким. «Я очень Вас люблю», – заключил он.
(обратно)
64
Thomas Merton. The Road of Joy. P. 39.
(обратно)
65
Thomas Merton. No Man Is An Island.
(обратно)
66
No Man Is An Island, XIV. Стоит отметить, что эта книга сначала называлась «Точка зрения» (Viewpoints), а потом «Сентенции» (Sentences). 13 января 1959 г. Мертон послал рукопись «Сентенций» сестре Терезе Ленфер со словами: «Думаю, что эти отрывочные мысли лучше, чем законченная, но нудная и многословная книга».
(обратно)
67
«Заметки о философии одиночества», примечание к названию.
(обратно)
68
Thomas Merton. Asian Journal. P. 308.
(обратно)
69
Удивительно, но все это очень похоже на три уровня глубины из «Знамения Ионы» (Thomas Merton. Sign of Johnas. P. 338-340).
(обратно)
70
Thomas Merton. Conjectures of a Guilty Bystander. P. 212.
(обратно)
71
Эта часть входит в Е3, но первые 9 параграфов добавлены к Е2, Белларминовскому варианту, который начинается с §10, со слов «Как и всё прочее в христианской жизни...». Е1 (Колумбийский вариант) начинается ещё позже, с середины §12, со слов: «Сегодня, когда мир, кажется, вот-вот станет одним чудовищным и дурацким домыслом». [Точнее, это уже §2 Колумбийского варианта. Первый же параграф вошел не буквально и в несколько расширенном виде в вариант Белларминовский.]
Стоит отметить, что там, где начинается Е2 (Белларминовский вариант), Мертон часто употребляет слово
hermit, «отшельник»: 9 раз на 10 страницах. В других местах в вариантах Е1 и Е2 он, хоть и непоследовательно, заменил
hermit на
solitary.
(обратно)
72
Mott. The Seven Mountains of Thomas Merton. P. 297. Официальная биография Томаса Мертона.
(обратно)
73
Людовик – монашеское имя Мертона.
(Прим. пер.)
(обратно)
74
Интересно сравнить разные варианты этого отрывка. Французский текст: «В этом утверждении есть истина более пугающая, чем это могут себе представить те, кто его делает: истинное одиночество, предполагающее мистическую привязанность к Богу,
нельзя путать с самовлюбленной отделённостью».
Е1 (Колумбийский вариант): «В этом легковесном утверждении есть истина, куда более страшная, чем могут себе представить те, кто его делает, пытаясь оправдать свою жизнь вне одиночества, молчания и молитвы». В отличие от французского варианта, здесь Мертон скорее критикует общинную жизнь, чем оправдывает уединенную.
Е2 (Белларминовский вариант) и ЕЗ идентичны Е1.
Е4 (текст, посланный цензорам): «В этом легковесном утверждении есть истина, куда более страшная, чем могут себе представить те, кто его делает, пытаясь оправдать свою полную развлечений жизнь». Е5 (текст из «Спорных вопросов»): «В этих словах есть своя правда, но те, кто их произносит, не представляют, сколь эта правда страшна и сколько в ней скрыто иронии» (ч. 3, пар. 10)
(обратно)
75
Thomas Merton. The Inner Experience. Книга впервые напечатана в 2004 г. (
Прим. пер.)
.
(обратно)
76
Thomas Merton. New Seeds of Contemplation. На русском языке:
Томас Мертон. Семена созерцания. Издательство Общедоступного православного университета, основанного прот. Александром Менем. М., 2006. (
Прим. пер.)
(обратно)
77
См. предыдущее примечание. (
Прим. пер.)
(обратно)
Оглавление
Томас Мертон. Философия одиночества
От переводчика
Томас Мертон. Заметки о философии одиночества
Заметки о философии одиночества[12]
I. 3АСИЛИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
II. В ГИБЕЛЬНОМ МОРЕ
III. ДУХОВНАЯ НИЩЕТА
О. Иаков Коннер. ТОМАС МЕРТОН – СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ МОНАХ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК[31]
Монсеньор Уильям Шеннон[51]. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭССЕ ТОМАСА МЕРТОНА «ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФИИ ОДИНОЧЕСТВА»[52]
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭССЕ
ПОДХОД К МАТЕРИАЛУ
ЭССЕ
Часть первая. «Засилие развлечений»
Часть вторая. «В гибельном море»[71]
Часть третья. «Духовная нищета»
Заключение
Песнь: Если ты ищешь...
Фото А. Кириленкова. Ноябрь, 2006 г.
*** Примечания ***






 Вид на Гефсиманию со стороны алтаря церкви
Вид на Гефсиманию со стороны алтаря церкви
 Вход в Гефсиманию (Аббатство Девы Марии Гефсиманской, Орден траппистов)
Вход в Гефсиманию (Аббатство Девы Марии Гефсиманской, Орден траппистов)
 Гефсимания, монастырское кладбище.
Гефсимания, монастырское кладбище.
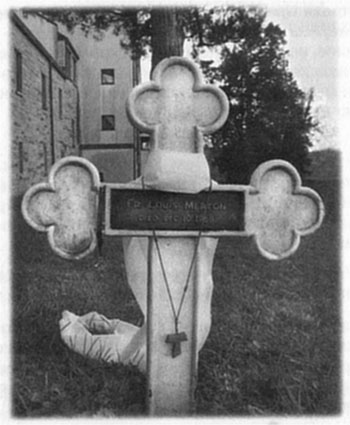 Могила Томаса (о. Людовика) Мертона на монастырском кладбище, Гефсимания.
Могила Томаса (о. Людовика) Мертона на монастырском кладбище, Гефсимания.