Лабиринты свободы

Часть первая
НАЧАЛО ПУТИ
I
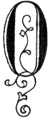
хотники прислушались к лаю собак: где-то недалеко натасканные опытными псарями четвероногие помощники человека гнали зверя прямо к месту их последней смертельной схватки. Наконец, прямо на Людвига Костюшко и Юзефа Сосновского выскочил огромный секач, а за ним все его перепуганное семейство: кабаниха и четыре подсвинка. На секунду секач вдруг остановился, почуяв опасность, и резко свернул в сторону густого кустарника, уводя за собой кабаниху с поросятами. Но этот путь оказался для них кратчайшей дорогой к смерти, которую человек заранее приготовил для отступления именно в этом направлении.
Загнанный в непроходимую чащу, окружённый собаками, загонщиками и охотниками, секач повернулся своими огромными и острыми клыками в сторону своих убийц. С налитыми кровью глазами, он готовился стоять насмерть, защищая свою лесную семью. Расправа длилась недолго: люди оказались сильнее и хитрее зверей, и вскоре всё стадо после короткого и кровопролитного сражения пало под выстрелами мушкетов и ударами пик.
Уже около недели Людвиг Костюшко гостил в поместье у своего соседа и друга молодости Юзефа Сосновского, писаря Великого княжества Литовского. За это время ими было немало выпито хорошего французского вина и домашней крепкой настойки, обсуждено злободневных столичных и местных новостей. Сосновский же, благодаря своей должности, хорошо был осведомлён обо всём, так как постоянно находился в гуще всех политических событий, происходящих в Речи Посполитой и за её пределами.
Но всему приходит конец на этом свете, и дорогой гость собрался уезжать домой, оставляя хозяина коротать короткие зимние дни и длинные вечера со своими слугами и женой. Теперь пани Сосновская будет требовать от мужа, чтобы они вернулись назад в Варшаву. Его супруга так не хотела покидать столичное общество и, пусть не на долгое время, перебираться в деревенскую глухомань.
Утром, когда снег уже начинал искриться под лучами зимнего солнца, на крыльцо усадьбы, закутавшись в дорогую медвежью шубу, вышел сам хозяин поместья и всей округи. После вчерашней выпивки у него болела голова, и он с радостью втягивал в себя морозный свежий воздух, чувствуя, что головная боль с каждым глубоким вдохом проходит. В тридцать пять лет Юзеф Сосновский от частых застолий с хорошей выпивкой и перееданием уже имел приличный животик, который он затягивал широким кожаным ремнём, но ограничивать себя в чём-то он не хотел. Писарь любил шумные компании, охоту и душевные беседы с друзьями, с которыми он часами мог говорить о войне, о политике и о своей молодой жене, которую он искренне обожал и боготворил.
Сосновский посмотрел, как слуги загружают тяжёлую тушу секача на повозку Людвига Костюшко, и обратился к своему другу, который вышел за ним из дома, застёгивая на ходу свою старую, местами потёртую волчью шубу:
— Смотри, Людвиг, какой красавец! Не зря мы с тобой охотились пять дней: наконец-то удача и нам улыбнулась.
Юзеф Сосновский с удовольствием вспомнил вчерашнюю охоту, довольный проведённым временем со старым другом.
— А что, дружа, может, ещё побудешь у меня пару дней? Что тебе зимой дома делать среди своей малочисленной челяди и жены с детьми? Да и мне веселей. А там, смотришь, и до весны недалеко, — со смехом предложил гостеприимный хозяин. Он ещё надеялся, что в последний момент Людвиг махнёт на всё рукой и останется хоть на пару дней у него погостить. Иначе жена не даст ему погрешить хорошей выпивкой. Хотя и правильно делает — в этой глуши одному без дела и спиться недолго.
Людвиг Костюшко улыбнулся на предложение Сосновского. Посмотрев на свою повозку, ответил ему:
— Надо ехать. Дома уже неделю не был, да и Тэкля должна скоро родить, сам знаешь, срок подходит.
Сосновский сразу перестал улыбаться и уже серьёзным голосом добавил:
— Ну, тогда с Богом... А жене передавай от меня привет. Кого ждёте: мальчика или девочку?
Людвиг задумался. Он хотел сына. Две дочки у него уже бегали по дому, а младший сын Иосиф только-только начал ходить.
— Да кого Бог пошлёт, скоро уже узнаем, — ответил он своему другу, задумчиво глядя куда-то вдаль, в сторону дороги, по которой должен был сейчас уехать домой.
— Так ты мне сообщи тогда, пришли весточку соседу, — попросил участливо Юзеф.
— Ты будешь первый, кто узнает об этой новости, — пообещал Людвиг. — А пока прощай. Спасибо за хлеб и соль.
Друзья юности обнялись, хлопая друг друга по плечу, и Сосновский, погладив ладонью свои пышные усы, подозвал стоящего рядом слугу. Тот уже давно ждал зова хозяина и с готовностью поднёс серебряный поднос с двумя кубками, наполненными крепкой настойкой, и тарелку с кусками мелконарезанной домашней колбасы и мяса.
— Ну, давай на посошок, — предложил другу выпить перед расставанием хозяин.
Выпив и закусив перед дорогой, Людвиг подошёл к повозке. Внимательно осмотрев тушу секача, лежащего в повозке, он сел на место возницы, укрыл себе ноги овчинным тулупом и, взяв в руки вожжи, слегка ударил плетью коня.
Конь пошёл с места лёгкой трусцой, и вскоре повозка скрылась за поворотом, а огорчённый отъездом друга Сосновский вернулся в дом, чтобы отоспаться после ночных хмельных разговоров.
До усадьбы Костюшко было вёрст десять, и поэтому у Людвига было достаточно времени подумать и поразмышлять о суете сует своей жизни. Прикрыв слегка веки от непривычно яркого зимнего февральского солнца и белого снега, Людвиг вспоминал о весёлых днях молодости и о тяжёлом положении в его хозяйстве, думал о детях и беременной жене, которая готовилась стать матерью уже в четвёртый раз. А вокруг стеной стояли заснеженные деревья, и было так тихо, как бывает в лесу только в сильный мороз. В такое время все звери и птицы, спрятавшись в укромных норах и гнёздах, терпеливо в полусонном состоянии ждут прихода весны и тёплых дней.
Постепенно темнело, но Людвига это не смущало: он уже подъезжал по лесной дороге к деревне Сехновичи, крестьяне которой были его собственностью. Только хороших доходов всё его хозяйство со всеми крепостными крестьянами не приносило. У Людвига постоянно болела голова о том, где взять денег на обустройство самой усадьбы, на покупку хороших лошадей и на поддержание всего хозяйства, которому постоянно требовались внимание и всё новые финансовые вложения.
Соседи-помещики считали, что Людвиг бывает слишком добрым к своим крепостным. Он не применял к ним телесных наказаний, не продавал их за долги и даже собирался заменить барщину простым налогом. В душе Людвиг понимал, что в этом мире существует разница в социальном статусе людей, и даже считал, что рабский труд непроизводительный. Когда у него было хорошее настроение, во время застолья в кругу равных себе небогатых шляхтичей, он мог похвастаться, что собирается дать «вольную» своим крепостным, и доказывал, что пришло время менять отношения между холопами и их хозяевами. Однако на следующее утро Людвиг трезвел и своё намерение так и не претворял в жизнь: боялся остаться совсем без доходов. Может быть, именно из-за нерешительности и мягкости он ничего не мог поправить в своём хозяйстве, как ни старался. Снова и снова Людвиг Костюшко брал ссуды, закладывая усадьбу, а потом вынужден был забирать у крепостных крестьян часть их урожая, чтобы погасить закладную. И так повторялось из года в год.
Где-то в лесу завыли волки, и лошадь, услышав звуки, устрашающие всех представителей её породы, без понукания и плётки резво ускорила свой бег. Людвиг, вслух вспомнив чёрта и всех святых одновременно, с опаской посмотрел в сторону леса. Волчий вой доносился из глубины стоящих стеной деревьев, и вряд ли волки смогли бы по глубокому снегу за короткое время нагнать повозку, даже если бы они прямо сейчас выскочили из-за деревьев. До дома оставалось ещё версты три, и, немного успокоившись, Людвиг опять вернулся к своим размышлениям.
В гости к Костюшко давно уже никто не приезжал, да и сам Людвиг гостей не приглашал. В округе его считали обедневшим шляхтичем, и «вельможное панство» не особо стремилось с ним общаться. Только друг молодости Юзеф Сосновский, который занимал при королевском дворе такую важную должность, приглашал по-соседски поохотиться вместе да попить вина, изредка приезжая из Варшавы или из Вильно
[1] в своё поместье. Тогда они вспоминали весёлые времена молодости, судачили о прошедших годах, о красивых паненках, в которых были тайно влюблены, и обсуждали прошлое, настоящее и будущее Великого княжества Литовского и Польши. При этом открыто ругали то короля, то вольнолюбивую и неуправляемую шляхту, которая постоянно находилась с ним в оппозиции.
По всей Речи Посполитой шли непрекращающиеся войны между враждующими партиями, которые создавали конфедерации, стремясь захватить власть и диктовать свои права на сеймах. Магнаты, которые имели большинство голосов на сеймах, преследуя личные интересы, пытались оказывать влияние на короля Августа III и на всю внутреннюю и внешнюю политику страны. Сам же король в своём правлении страной опирался на силу оружия русских гарнизонов, расположенных по всей Речи Посполитой. Фактически территория страны постоянно находилась в огне гражданской войны, которая то временами затихала, то вновь разгоралась с новой силой.
Польша по сути являлась военным государством, и главной реальной силой в ней была армия, в которой служила в основном шляхта. Она-то и определяла в свою пользу отношение к верховной власти. Воспитанная поколениями в духе своей исключительности и независимости, шляхта добилась таких свобод, что вполне законно могла создать конфедерацию и организовать вооружённое восстание против правительства и короля. Для этого достаточно было только объединить вокруг себя недовольных политикой короля, опубликовать свои недовольства и выдвигаемые при этом требования, подписать конфедерационный акт и предъявить его в присутственном месте. И сразу вооружённое восстание получало законность, а конфедерация под командованием своего маршала начинала военные действия против существующей в стране власти.
А недовольные в Речи Посполитой были всегда! И это явственно было видно во время сейма, который собирался один раз в два года. При этом для проведения в жизнь на таком представительном собрании какого-нибудь решения требовалось только единогласие всех присутствующих депутатов. Поэтому любой продажный депутат, получив от заинтересованной партии определённую сумму, мог сорвать сейм и принятие решения, используя знаменитое право liberum veto, то есть провозглашение своего несогласия.
— Ты понимаешь, что они, пся крев, творят! — возмущённо грохотал Сосновский после выпитого очередного кубка с вином. — Да за последние 10 лет все сеймы были сорваны из-за какого-нибудь идиота, который считает, что очередным законом его права будут чем-то ущемлены.
Сосновский в сердцах стукнул огромным кулаком по столу и позвал к себе слугу:
— Принеси ещё вина. Видишь, мой кубок опустел, — потом повернулся опять к Людвигу и уже тихо сказал: — Надо срочно что-то менять в Речи Посполитой. Но изменить положение можно только в союзе с сильными и влиятельными людьми, лучшими представителями шляхты. А сильные у нас кто?
Сосновский внимательно испытующим взглядом глядел на Людвига. Захмелевший Людвиг также посмотрел на товарища и вместо ответа спросил:
— Кто?
Сосновский повертел головой по сторонам, как будто он находился не дома, а в каком-нибудь многолюдном месте, перегнулся через стол, правой рукой притянул к себе голову Людвига и прошептал ему на ухо:
— Чарторыские, — и, отпустив голову друга, уже громким и утверждающим тоном добавил: — Только они сегодня являются той силой, которая сможет короля «поставить на место» и провести тот исторический сейм, где будет определено будущее родины. Пора идти в ногу со временем, а не плестись на задворках Европы, оглядываясь то на Россию, то на Францию.
Они ещё долго о чём-то говорили, спорили, но прошлое не переделаешь и вспять время не повернёшь.
Чуть более десяти лет назад, в октябре 1734 года, епископ Гозий под охраной русского генерала Ласси объявил под деревней Каменем избрание Августа III королём Польши. Это историческое событие сопровождалось грохотом тридцати русских орудий. Их залпы подтверждали одобрение Россией принятого решения и в то же время являлись предупреждением инакомыслящим. А незадолго до этого примас Фёдор Потоцкий приглашал шляхту единогласно высказаться на сеймиках и отдать своё голоса за Станислава Лещинского. Этот магнат уже давно пытался завладеть польской короной, однако все его попытки не увенчались успехом.
Сам же Фёдор Потоцкий ненавидел Россию так же сильно, как и немцев, хотя и был в родстве с царским домом, а до крещения пребывал при дворе русского царя Алексея Михайловича. Русские и немцы были для него злейшими врагами, с которыми он собирался сражаться всю свою жизнь. Но это сражение он всё-таки проиграл: российская дипломатия сумела его обыграть в этом политическом противостоянии, и Август III на долгие годы стал королём Польши. А Станислав Лещинский вместе с примасом и главнейшими сенаторами бежал сначала в Гданьск, а затем в Крулевец под защиту прусского короля, надеясь на помощь своего зятя — французского короля Людовика XV.
Французы «услышали» Лещинского и даже объявили войну Австрии, обнадёжив обиженного в восстановлении его в правах на польскую корону. Однако надежды несостоявшегося короля остались только надеждами. Вместо того, чтобы стремиться к захвату Саксонии и к соединению с солдатами Лещинского, две французские армии ограничились занятием пограничных провинций, которые Франция впоследствии собиралась прирезать к своим территориям. Французы не смогли устоять перед натиском русской армии и саксонскими пушками, да особенно и не стремились ввязываться в долгую затяжную войну.
Результатом этих вооружённых столкновений стал Венский трактат 1735 года. Этот исторический документ обязал Лещинского отречься от притязаний на престол в обмен на уступку ему в пожизненное владение Лотарингии и Бара. По смерти же Лещинского эти территории будут присоединены к Франции. Да здравствует международная дипломатия! Все участники этого конфликта остались довольны конечным результатом. Остался ли доволен Лещинский? Конечно, нет. Ведь он-то рассчитывал на польскую корону.
Созванный в 1736 году сейм заплатил за русское вмешательство в данный внутригосударственный конфликт своей конституцией, которая признала за новым королём право распоряжаться Курляндией после смерти последнего Кеттлера. А сам Август III без лишних слов и дискуссий передал Курляндию России, выполнив свои обязательства по трактату, который он заключил с петербургским двором...
Про все значащие события, которые происходили в стране, Людвиг Костюшко узнавал на поветовых сеймиках или при общении с Юзефом Сосновским. Его друг молодости смог дослужиться до высокой государственной должности и был в курсе всех событий. Он неоднократно выступал на сеймах маршалком и был ярым сторонником семьи Чарторыских и проводимой ими политики. При этом Сосновский служил им верой и правдой и был предан «семье», как собака, за что был у них в особой милости и являлся их доверенным лицом.
Будучи участником или просто свидетелем политических интриг, которые развивались при дворе польского короля и на сеймах, Сосновский обсуждал с Людвигом все события, которые там происходили. При этом друзьями выпивалась не одна бутылка хорошего французского вина или крепкой домашней наливки. Все политические новости и просто сплетни других европейских дворов, о которых Сосновский узнавал через дипломатический каналы или в высшем обществе Речи Посполитой также становились предметом обсуждений двух таких разных людей, как литовский писарь и обедневший шляхтич.
При последней встрече у них было много времени поговорить друг с другом о политике, о личной жизни, о проблемах, которых хватало у обоих. Но Людвиг мало жаловался на свою жизнь старому другу а всё больше слушал. Ему не хотелось, чтобы Юзеф Сосновский узнал именно от него о бедственном положении семьи. Наверняка он стал бы предлагать Людвигу свою помощь, а гордость шляхтича и личные амбиции не позволяли ему унижаться и просить помощи у других. Вот взять деньги под залог хозяйства Людвиг Костюшко мог, а пойти по миру с протянутой рукой — никогда.
Людвиг хорошо знал и помнил своё родословное древо: как-никак, а его прапрадед Константин был нотарием великого князя литовского Жигимонта Старого. Дипломатические документы, которые выводил Константин своим красивым почерком, умиляли князя. Может быть, за эти способности молодого нотария либо за природную смекалку и красоту молодого человека старый князь по-своему любил Константина и ласково называл его Костюшко, откуда и пошла их родовая фамилия.
Когда же его молодой и красивый слуга встретил свою будущую жену, которая ответила ему взаимной симпатией, то в личной жизни Костюшко князь Жигимонт решил принять самое активное участие. По его инициативе и при личном посредничестве Константин посватался ни к кому-нибудь, а к дочери князя Гольшанского! Сложно сказать, чем руководствовался князь Гольшанский, отдавая свою дочь за безродного, но красивого нотария. Однако свадьба всё-таки состоялась, и через этот брак простой нотарий Константин Костюшко породнился с королевской династией Ягайловичей.
Больше подобных браков в роду Костюшко не было. Остальные представители этой фамилии занимали скромные должности в местах, где они проживали. Дед Людвига, Амбражей Костюшко, служил писарем в земском суде, а его внук дослужился только до мечника Брестского воеводства. Имея звание полковника (хотя в армии никогда не служил), Людвиг всю сознательную жизнь жил как помещик на своей усадьбе.
Помещиком он был с очень скромными, по сравнению с соседями, доходами. Да и какие доходы могли принести Людвигу его крепостные крестьяне в деревне Сехновичи, в которой насчитывалось всего 19 дворов. А тут ещё постоянные проблемы в стране: непрекращающиеся междоусобные войны среди шляхты, которые довели государство до нищенского состояния. Неразбериха на сеймах, где представители различных партий находились в постоянном конфликте, усугубляла политическое и экономическое состояние Речи Посполитой. В последнее время депутаты сейма никогда не приходили к единому мнению, а польский король попал в зависимость от «дружеской» помощи государств-соседей.
А все государственные проблемы оказывались проблемами всего народа Речи Посполитой: жить становилось всё труднее, налоги всё ощутимее. То тут, то там вспыхивали стихийные крестьянские бунты, которые заканчивались обычно поджогом поместий. Но большинство крестьян на открытое выступление против своего хозяина не решались, так как понимали, что их положение было бесправным и безнадёжным. Поэтому ропот недовольных ограничивался чаще ворчанием и жалобами в кругу своих семей или в корчме за кружкой хмельной браги, распиваемой с такими же горемыками.
Уже на въезде в деревню на повороте Людвиг увидел цыганскую повозку. Видно было, что в ней сломалась ось: пожилой цыган что-то пробовал сделать с колесом, но со злостью ругнувшись на своём языке, бросил колесо и закурил трубку. Возле повозки застыла цыганка неопределённого, как и многие цыганки, возраста, а рядом с ней стояли два цыганёнка лет 12—13. Увидев приближающуюся повозку Людвига, цыганята побежали к ней навстречу, а цыганка, кутаясь от холодного ветра в тёплый короткий кожушок, расшитый цветными нитями, направилась за ними. Однако походка её была неспешная, а лицо выражало спокойствие и, казалось, полное безразличие к окружающему миру.
Подъехав к цыгану, Людвиг придержал коня и спросил:
— Ну что, ромалэ, не выдержал твой тарантас дальней дороги?
Цыган ничего не ответил пану, но к Людвигу подошла цыганка, метя снег широкой цветастой юбкой, и смело и одновременно загадочно обратилась к нему, сверкая карими глазами:
— Ясновельможный пан, давай погадаю: расскажу, что было и что будет, а ты, красавец, дашь денежку для малых детишек.
— Нет у меня сегодня денег для тебя и твоей детворы. Что было — я знаю, а что будет только Богу известно, — ответил цыганке Людвиг.
Но упрямая дочь полей и дорог, подруга вольного ветра не отступала:
— Окажи милость, дай руку, — настойчиво просила она.
Цыганка протянула Людвигу свою руку, предлагая ему сделать то же самое.
— А впрочем, держи, гадай, — ответил Людвиг наглой бабе и, ухмыляясь, снял рукавицу с левой руки и протянул ей руку.
Цыганка взялась двумя руками за кисть, повернула её ладонью вверх, поводила своим указательным пальцем по бороздкам и тихо проговорила:
— Вижу, пан, что не просто тебе живётся, хоть и дом у тебя есть, и холопы, и семья. Но главное — гость у тебя в доме дожидается. — Цыганка подняла глаза на Людвига и добавила: — Гость этот — большим человеком будет... Великие люди будут гордиться, что знакомы с ним, и будут добиваться его дружбы. Уважение и почёт будет он иметь в этом мире.
Людвиг, продолжая ухмыляться, отдёрнул ладонь и надел рукавицу.
— Гостей дома не жду, да и сам я давно дома не был, а именитые и знаменитые ко мне давненько уже не приезжали. Да и что им делать в этом забытом Богом краю, — ответил он жёстко, как отрезал. — Ну, спасибо тебе, ромалэ, развлекла меня немного. А теперь отойди от коня, а то зашибу или покалечу.
Махнув в сторону окраины деревни, где была видна кузница, Людвиг добавил:
— Езжайте к кузнецу, скажите ему, что Людвиг Костюшко приказал починить вашу кибитку. А что будет, только Бог знает.
Последние слова Людвиг произнёс уже в движении. Он слегка ударил плёткой лошадь, и та с какой-то радостной прытью, чувствуя близость дома и полагаемого ей корма, рванула с места.
Цыганка ещё некоторое время смотрела на удаляющуюся повозку, а потом промолвила тихо, качая головой:
— Езжай, пан, встречай своего гостя... — и направилась назад к старой кибитке, подметая снег широкой и длинной юбкой, покрикивая на разгулявшихся цыганят на своём непонятном обычному человеку языке.
II

экля с волнением ждала возвращения мужа. Людвига она любила, но иногда у неё появлялся страх за детей, за себя, за всю семью, за хозяйство, которое постепенно приходило в упадок. Это был не просто какой-то человеческий страх перед чем-то ужасным, а скорее волнение перед неизвестным будущим, которое могло бы стать причиной изменения того образа жизни, к которому она привыкла с детства.
Тэкля родилась в семье православных зажиточных помещиков Ратомских. Семья была большая, а крепкое хозяйство вызывало уважение и зависть у соседей. Её же отец, за свою рассудительность и деловую смекалку, в округе, где они жили, заслуженно имел репутацию добропорядочного семьянина и рачительного хозяина. И всё-таки местное панство вскоре нашло повод поговорить о делах семьи Ратомских в кругу представителей женского пола. Эта вечная, как сама жизнь, тема долго обсуждалась на «девичниках» не только среди солидных мамок, имеющих многочисленное семейство, но и среди молодых паненок, которые были на выданье.
А повод для таких пересудов всем предоставил красивый польский шляхтич Людвиг Костюшко, который прислал сватов в дом Ратомских. «Купец» был уже в солидном для жениха возрасте, когда все решения принимаются самостоятельно: где и с кем жить, что и сколько сеять и кому предложить стать его спутницей в этой грешной жизни. Но когда сваты прибыли к месту назначения за «товаром», то родители Тэкли, молодой 18-летней красавицы, не хотели открывать ворота для таких гостей. Причина же такой неприязни к сватам была только одна — все члены семьи Костюшко были католиками, а все предки Ратомских до пятого колена были православными.
Такая религиозная неприязнь обычно не выражалась открыто между семьями различной веры, проживающих в одной местности. Однако в душе каждого католика или православного сидел маленький чертёнок, который мутил религиозную воду, Этот бес не давал душам людей спокойно принимать тот факт, что люди перед Богом все одинаковы и равны. Даже несмотря на их веру и на то, как они крестятся: справа налево или наоборот. А тут ещё ксёндзы с одной стороны, а православные священники с другой стороны не совсем лестно отзываются друг о друге на воскресных проповедях. Разжигая религиозную неприязнь к инакомыслящим, «святые отцы» лишний раз давали повод простым смертным косо смотреть на своего соседа, призывая помнить о вере, которую каждый из них преподносил как единственно правильную и истинную.
Где Людвиг познакомился с Тэклей и встретился с ней в первый раз, когда успели они договориться между собой, об этом, к большому сожалению местных сплетниц, никто толком пояснить не мог. Стремление влюблённых связать себя узами брака было обоюдное и желанное, но как же не хотел отец семейства Ратомских отдавать свою дочь замуж в семью католиков! Однако ему пришлось всё-таки смириться перед грозным предупреждением дочери, что она примет подстриг и уйдёт в монастырь, если отец не даст своего согласия на этот брак. Да и подобные смешанные браки в Польше были не редкость. То тут, то там слышались пересуды по поводу очередного брака, когда молодой жених и молодая невеста воспитывались в семьях, исповедующих различные религии. Но если подобное происходило среди «ясновельможных» панов, то что уж тут осуждать простых смертных.
Достаточно много времени прошло с того часа, когда Людвиг и Тэкля стали мужем и женой, и две их дочки и сын уже заполнили их счастливую жизнь. В семье царил полный патриархат: если Тэкля и делала какое-нибудь предложение по поводу обустройства их хозяйства, то последнее слово чаще всего оставалось за Людвигом, её мужем. Но если серьёзные семейные разногласия становились неразрешёнными, а никто из супругов не шёл на уступки, то Людвиг уезжал из дому на охоту на несколько дней к кому-нибудь из соседских помещиков или направлялся в Вильно. Там он любил походить по городу, посетить друзей, выпить с ними чарку-другую, обсуждая последние новости в государстве и свои личные проблемы. После того как заканчивались деньги, а обсуждать больше было нечего, Людвиг возвращался домой. Спокойно, как ни в чём не бывало он продолжал свою помещичью жизнь, и к неразрешённой проблеме по молчаливому согласию супруги больше не возвращались.
Людвиг подъехал к крыльцу двухъярусного с камышовой крышей дома. От спины лошади валил пар, и Людвиг серьёзно забеспокоился, чтобы не застудить коня. Внезапно двери дома отворились, и к повозке подбежала кормилица его детей. Радостно улыбаясь, на ходу поправляя наброшенный в спешке полушубок, она почти прокричала своему хозяину:
— Наконец-то, пан Людвиг! Радость-то у нас какая! Пани Тэкля родила сына!
Людвиг бросил поводья подбежавшему к нему конюху и быстрым шагом вошёл в дом.
В доме везде горели свечи, освещая каждый тёмный угол. Его возвращения давно уже ждали с волнением. Тем более, что на это была серьёзная причина. Жена хозяина не только родила ему сына в его отсутствие, но и крестила новорождённого в православной церкви. Вопрос, какой веры будет их будущий ребёнок, послужил причиной спора и яблоком раздора между Тэклей и Людвигом ещё до его рождения. Именно по этой причине Людвиг в очередной раз уехал на несколько дней на охоту к своему соседу и другу молодости Юзефу Сосновскому.
Пани Тэкля, провожая мужа в поместье Сосновских, намекала ему, что надеется на благосклонность Людвига к православию (ведь разрешал же он ей ходить в православную церковь и не требовал от жены менять вероисповедание на католическое), предлагала крестить будущего младенца в православной церкви. Однако Людвиг был категорически против этой затеи жены и считал это женской блажью. Он настаивал на том, что крестить ребёнка следует только по католическим обрядам. Тэкля была женщиной с характером и всё равно сделала по-своему в отсутствие мужа. Вот об этой новости никто, кроме самой пани Тэкли, сообщить хозяину не решался, зная его вспыльчивый характер.
Людвиг прошёл в спальню жены уже не торопясь, спокойно. В полумраке комнаты стояла детская кровать, в которой лежал маленький живой комочек. Рядом с детской кроваткой сидела его жена и стояла кормилица. Увидев вошедшего мужа, Тэкля медленно, с достоинством поднялась ему навстречу. Людвиг, поцеловав в щёку жену, подошёл к кроватке с новорождённым.
— Когда родила? — его вопрос был ожидаем, но всё равно для Тэкли он стал определённым испытанием.
— Шесть дней прошло... Людвиг, я хочу тебе сказать...
Тэкля робко начала свою оправдательную речь, уже не ожидая ничего хорошего от своих признаний.
— ...я хочу тебе сказать, что мы уже крестили малыша и назвали Анджеем-Андреем.
Людвиг хмуро повернулся к жене. Кормилица застыла в ожидании гнева хозяина. Да и Тэкля чувствовала, что муж сейчас может на неё повысить голос, выказывая тем самым своё недовольство оттого, что сделала жена в его отсутствие (как это было раньше, когда кто-нибудь совершал какой-нибудь поступок, с которым Людвиг не хотел соглашаться). Но вспышки гнева от хозяина, на удивление всех присутствующих в доме, не последовало, но прозвучал от него новый вопрос:
— В своей православной церкви?
— Да, в церкви, к которой я принадлежу душой, — услышал Людвиг от жены немедленный ответ. В её тоне звучал вызов.
Однако Людвиг не стал ругаться с супругой. Он только сказал ей тоном, по которому стало всем понятно, что всё равно будет так, как он решил:
— Нет, дорогая, этот младенец родился литвином. Поэтому он будет креститься в том храме, в котором был крещён его отец.
Людвиг замолчал, ожидая возражений жены. Однако Тэкля была мудрой женщиной: она опустила голову и промолчала, а её муж, видя покорность жены, продолжил:
— А на крещение надо позвать наших кумовьёв: старосту кушлицкого Казимира Наркусского и пинского Протасевича, да и к госпоже пани Суходольской пошли кого-нибудь с приглашением.
Людвиг осторожно принял младенца от кормилицы. Та с радостью, что хозяева так мирно уладили такой совсем не простой семейный вопрос, осторожно передала отцу его сына. Не желая портить себе и своей жене настроение, Людвиг действительно сдержал свой гнев. Да и что он мог сказать той, которая раньше родила ему сына и двух дочек, а этот младенец у него на руках был уже четвёртым посланцем от Господа в его семье? Ведь это он оставил беременную жену и уехал к другу покутить и поохотиться. Вот она и воспользовалась его отсутствием, крестила сына без него. С характером его жена, ох с характером... Но и сам Людвиг тоже не подарок. Так что надо теперь достойно выходить из сложившейся ситуации.
— Вот чёртова цыганка, нагадала мне. Ну, здравствуй «гость», — тихо прошептал отец на ушко своему младшему сыну, низко нагнувшись к его красному личику. Малышу это движение отца, видимо, не очень понравилось: он начал морщиться, открывать срой маленький ротик, как будто хотел выразить свой младенческий протест на то, что его неожиданно разбудили и почему-то не дают есть. А какой-то непривычно большой и усатый дядька носит его на руках и пугает малыша, поднося к своему небритому и ещё холодному с мороза лицу.
В комнату вошли, слегка подталкиваемые в спину кормилицей, старшие дети: Ганна и Екатерина. Они робко смотрели на отца в непривычной для них обстановке, когда в небольшой комнате собралось так много народа. Людвиг поднёс новорождённого к старшим дочерям, повернул его к ним лицом и произнёс назидательно:
— Смотрите, дети, вот ваш братик. Любите его и берегите, не обижайте. Скоро, очень скоро он станет большим человеком.
Людвиг засмеялся, вспомнив гадание цыганки, а Тэкля с удивлением посмотрела на мужа, никак не ожидая от него такой реакции после своего признания. А её супруг, продолжая улыбаться и качать младенца, шептал ему на ухо:
— Ну, герой, начинаем жить и совершать подвиги?
Но малыш его уже не слышал. Опять засыпая и сопя маленьким носом, он находился в той своей младенческой дремоте, когда сны ещё не снятся, а если и снятся, то большим взрослым людям о том ничего не известно.
Не прошло и недели, как в морозный февральский день в небольшом коссовском костёле, недалеко от дворца графа Пуловского в Меречевщизне, уже священник-католик, преподобный отец Раймунд Корсак, крестил повторно младенца Людвига Костюшко. Во время крещения приглашённый в качестве свидетеля этого обряда староста Казимир Наркусский, наклонив голову к уху стоящей рядом с ним пани Суходольской, тихо прошептал ей:
— Назвали в честь святого Бонавентурия
[2].
Тэкля стояла рядом с мужем тихая и покорная.
Она понимала, что ничего уже не сможет сделать или поправить. Да и надо ли это делать... «Бог один, — утешала она сама себя, — и он разберётся со всеми на том свете: кто прав, а кто нет».
Сам же виновник торжества вёл себя во время крещения смирно: не кричал, не плакал и не капризничал. Он как будто понимал важность совершаемых священником действий и не нарушал детским голосом торжественность момента.
III
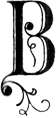
жизни каждого человека происходят события, которые по какой-то причине навсегда врезаются в его память. Он до самой смерти не забывает о них и вспоминает даже те мелочи, которые могут показаться совсем незначительными по сравнению с крутыми поворотами его судьбы. События же того летнего дня 1754 года в памяти маленького Тадеуша почему-то останутся не какими-то расплывчатыми воспоминаниями детства, а отпечатаются в его сознании с чётким ходом всего, что мальчик видел и слышал.
Прошло восемь лет после того, как младенец Тадеуш получил второе крещение. Жизнь в усадьбе Костюшко шла обычным чередом и мало чем отличалась от жизни шляхтичей, подобных Костюшко. В тот день во дворе слышался радостный голос старшего брата Иосифа, которого отец усадил на самую спокойную лошадь в хозяйстве и сегодня обучал его правильно держаться в седле. Людвиг гонял лошадь по кругу, держа в своих сильных руках длинный повод, и внимательно следил за сыном, подбадривая его голосом.
А Тадеуш в это время сидел в маленькой, но уютной комнате, читая библейские рассказы о том, как Господь сотворил Землю за шесть дней. Он никак не мог понять, как это можно сделать, и всячески пытался представить себе огромного человека, который, сидя у себя дома на Небесах, что-то делает своими тоже огромными руками, в результате чего появляется земной шар. Ведь его мать говорила, что Земля, на которой живут все люди, похожа на большой шар, а вот этого Тадеуш никак не мог понять. Почему же люди не скатываются по нему, и почему Земля всё-таки круглая — ведь сколько ни смотрел вдаль восьмилетний Тадеуш, он видел только плоские поля, засеянные пшеницей, и кое-где вдали были видны небольшие холмики, покрытые редким лесом.
Во дворе громко вскрикнул Иосиф. Лошадь дёрнулась в сторону, и мальчик чуть не свалился, теряя равновесие. Уцепившись за холку лошади, ему удалось удержаться в седле. Тадеуш услышал испуганный крик брата и выглянул в окно. Как же ему хотелось оказаться сейчас на месте Иосифа! Но отец не торопится обучать Тадеуша верховой езде, говорит, что ещё маловат. А ведь он давно читает и пишет лучше старшего брата, а математические примеры вообще Иосифу не поддаются для решения. А Тадеуш решает их быстро и правильно.
В комнату тихо вошла мать. Увидав, что Тадеуш уже не читает книгу, а внимательно смотрит во двор, она спокойно и как-то ласково спросила сына:
— Хочется погулять?
Тадеуш молча кивнул, ожидая её разрешения, и мать также кивнула, давая согласие на его прогулку.
— Иди погуляй, — добавила она. — А вечером мы продолжим урок, и ты расскажешь, что понял из того, что прочитал сегодня.
Тадеуш опять кивнул и уже через минуту стоял во дворе рядом с конюхом Яном. Внимательно наблюдая за всем, что происходило во дворе поместья, Ян одновременно степенно, не торопясь выполнял свою работу, которой всегда хватало в хозяйстве Людвига Костюшко. Вот и сейчас он сидел на небольшой лавке и клепал косу маленьким молоточком. Делая небольшой перерыв в монотонной работе, Ян сосредоточенно осматривал её, а потом опять начинал тихо постукивать по тонкому металлическому телу крестьянской трудяги.
Наконец, Людвиг остановил лошадь, подошёл к ней и помог Иосифу соскочить на землю. Посмотрев на Тадеуша и увидев в его глазах немую просьбу, Людвиг махнул рукой, подзывая к себе сына. Мальчик, ещё не веря своему счастью, робко подошёл к отцу. Сильные руки Людвига подхватили маленькое тельце, и через секунду Тадеуш уже держался за холку лошади.
«Как всё-таки высоко я сижу, и как далеко находится земля», — подумал мальчик, с гордостью осматриваясь вокруг. И вдруг его взгляд упал на толпу крестьян, которая приближалась к поместью.
Толпа была небольшая: человек шесть-семь. Это были крестьяне из деревни Сехновичи, уполномоченные от крестьянской общины, которые пришли в поместье к хозяину как просители. Крестьяне тщательно готовились к этому «походу». Они надели чистые длинные льняные рубахи с отложенными воротниками, которые их заботливые жёны украсили белой вышивкой. Широкие нарядные штаны в сборку, сшитые из разноцветных полосок, были заправлены в кожаные сапоги с мягкими голенищами. Головы «парламентёров» украшали чёрные фетровые шляпы с высокой головкой, а у некоторых были надеты мягкие круглые шапки, вытканные из белой овечьей шерсти.
Во главе этой процессии шёл неопределённого возраста бородатый мужик, староста общины. Он-то один и решился подойти к хозяину, предварительно сняв со своей лохматой, подстриженной «под горшок» головы шапку. Остальные также последовали его примеру и, смиренно опустив головы, ожидали, когда начнёт говорить их староста. А староста стоял, переминаясь с ноги на ногу, мял в руках свою шапку и не знал, с чего начать разговор с хозяином. Все слова, которые он готовился сказать по пути сюда, вылетели из головы. А ведь он должен был передать «пану Костюшко» всё, что было решено на сходе крестьянской общины. Не дождавшись объяснений от уполномоченных, первым начал разговор Людвиг:
— Ну и что это за делегация ко мне пришла? — обратился он к крестьянам, грозно сдвинув брови. — По какому поводу явились в мой двор без приглашения? А может, я приглашал, да что-то позабыл?
Интонация и слова, сказанные хозяином, не предвещали ничего хорошего для «делегатов». Некоторые уже были не рады, что согласились идти на эти переговоры. Но было уже поздно: они стояли во дворе, и хозяин ждал от них ответа на свой вопрос.
Внезапно старосту словно подменили: он перестал мять в жилистых руках шапку, расправил плечи и гордо поднял голову. Глубоко вздохнув и набрав в лёгкие больше воздуха, он коротко и громко сказал:
— Пане, не присылай больше в деревню за налогом. Сколько можно отдавать?! И так во многих семьях детям к зиме есть нечего будет.
Людвиг задумался. Он потёр свой заросший щетиной подбородок и посмотрел на «делегатов». Людвиг понимал, что крестьянам сложно выживать, когда год выдался неурожайным. Ну а кому сейчас легко?.. В то же время не ожидал, что крестьяне, к которым он относился с такой лояльностью, осмелятся прийти к нему домой с какими-то ещё требованиями. Он подошёл вплотную к старосте, скрестил на груди руки и громко, чтобы все слышали, сказал:
— Не мне отдаёте, а государству, которое вас, холопов, защищает от прусских баронов и русских генералов. А может, вы хотите, чтобы солдаты Речи Посполитой ходили в бой голодными?
Крестьяне молчали. Они почесали свои затылки и, задумавшись, смотрели друг на друга.
— Идите, идите с миром, — увещевал их Людвиг. — Ступайте к своим бабам, а то ведь я найду, куда вас направить. Прусским генералам солдаты тоже нужны, — с угрозой предупредил он, и крестьяне испуганно начали пятиться со двора. Надев головные уборы, они быстро ретировались, на ходу обсуждая, что лучше: голодать или быть проданным в какую-нибудь армию в рекруты.
Людвиг, ещё сердито пыхтя, подошёл к лошади, на которой сидел его младший сын.
Ничего не говоря, он легко вскочил на коня сзади мальчика, и лошадь тихой рысью выбежала со двора. Тадеуш со всей силы ухватился своими маленькими ручонками за холку жеребца. Он затаил дыхание от восторга новых ощущений и одновременно от чувства опасности свалиться с лошади. Отец поддерживал его правой рукой, и постепенно ощущение страха у мальчика ушло, а лошадь, проскакав через толпу общинных делегатов, вскоре довезла обоих седаков до кузницы.
Кузнец, крепкий плечистый мужчина с чёрными, как у цыган, волосами не был собственностью Костюшко. Будучи свободным человеком, он пришёл в Сехновичи откуда-то с южных окраин Польши и прижился в этих местах. Кузнецом он был отменным, а работу свою делал монотонно и добротно, чтобы не было стыдно перед заказчиками. Перед Людвигом он не заискивал, спину не гнул, по всегда здоровался первым с уважением и при этом с какой-то независимостью. В его поведении не было той рабской покорности, характерной для крепостных крестьян.
— Здравствуй, Фома, — поздоровался с кузнецом Людвиг. — Посмотри лошадь, а то что-то она хромает на левую ногу. Может, подкову надо поменять? — попросил он.
Людвиг спрыгнул на землю, приподнял Тадеуша и поставил его перед собой.
Кузнец кивнул в ответ и, осмотрев две ноги коня, отрицательно помотал головой:
— Нет, пан Людвиг, с подковами всё в порядке. А вот на левой ноге небольшая опухлость в суставе, — сделал заключение Фома. — Видимо, где-то ударилась лошадка. Но не сильно, — успокоил кузнец, — скоро пройдёт, если не нагружать скотину.
Посмотрев на Тадеуша, кузнец вернулся в кузницу и через короткое время вышел оттуда с небольшой саблей без рукоятки.
Нижняя часть лезвия сабли была обмотана тряпкой. Так и подал её кузнец мальчику.
— Держи, панич, для тебя ковал. Пан Людвиг просил сделать тебе такой подарок как будущему генералу Речи Посполитой, — сказал торжественно и серьёзно кузнец, посмотрев на Людвига, и тот одобрительно закивал: мол, всё правильно.
Тадеуш крепко ухватился за саблю, а вернее за место, где в будущем должна была быть её рукоятка, и высоко поднял её над головой.
— Я могу её забрать прямо сейчас? — спросил он отца, повернувшись к нему, блестя счастливыми детскими глазами. Он уже представлял себе, как будет завидовать ему Иосиф. Ведь у него нет такой сабли!
— Пока оставь её здесь. Сначала ты пойдёшь в школу, и если будешь хорошо учиться, она станет твоей навсегда, — ответил Людвиг сыну и забрал у него саблю, а потом добавил: — Этот подарок надо ещё заслужить.
Людвиг передал саблю кузнецу, подхватил расстроенного мальчика и, посадив его в седло, сам вскочил на лошадь. Махнув на прощание кузнецу рукой, Людвиг дёрнул поводья, и лошадь неторопливо последовала в сторону дома.
Школа в городке Любешово Пинского уезда была одним из местных центров образования, где дети шляхтичей, проживающих не так далеко от её месторасположения, могли получить достойное по тем временам образование. Обычно организацией подобного рода школ занимались священнослужители наиболее распространённой в данном регионе религиозной конфессии. На территории Речи Посполитой наибольшее количество населения (так уж сложилось исторически) придерживалось католического вероисповедания. Многие католические священники уделяли внимание не только проповедям и своим прямым обязанностям, связанным с их саном в церковной иерархии. Они старались сделать всё возможное, чтобы выявить способную молодёжь и дать ей достойное образование. Получив разносторонние знания, наиболее талантливая её часть могла бы служить своей стране и обществу и приносить определённую пользу. Тем более, король всегда приветствовал такие действия католической церкви и производил пожертвования на открытие и содержание подобных учебных заведений. Магнаты Речи Посполитой, стараясь подражать королю, также часто принимали участие в финансировании таких благотворительных мероприятий.
Любешовский центр образования принадлежал монашескому ордену пиаров, благочестивые отцы которого принимали на себя помимо обетов чистоты и послушания ещё и обет бесплатного обучения детей. Местная шляхта отправляла туда своих отпрысков набраться ума-разума, научиться азам грамматики, латыни и математики. Ну а если проявлялись у кого-то способности к иностранным языкам, то священнослужители, которые были в данном учебном заведении учителями, всегда были готовы заниматься с такими детьми дополнительно. Конечно, в школе преподавали и обыкновенные учителя-иностранцы, но такое случалось не часто: содержание учителя обходилось ордену дорого, а одних пожертвований от шляхты на такое богоугодное дело явно не хватало.
Иностранных учителей для домашнего обучения своих детей приглашали в основном в богатые поместья, владельцы которых могли хорошо заплатить какому-нибудь французу, чтобы он научил их детей галантным манерам и произносить несколько фраз на его родном языке.
Ранним утром конюх Ян запряг в повозку коня для дальней поездки и уже ожидал, когда выйдет хозяин. Тэкля ещё с вечера приготовила Иосифу и Тадеушу всё необходимое, что могло бы им понадобиться в школе: тёплое бельё, запасные рубашки, по две запасные пары обуви: приближалась осень, а за ней придёт холодная зима. Так что всё в своё время пригодится.
Людвиг прикинул, сколько он может пожертвовать денег для любешовской школы: это пожертвование как бы являлось и оплатой за обучение его сыновей. Да, сумма получалась небольшая, но больше выделить из скудного бюджета семьи Людвиг не мог — закладная до сих пор не была погашена, а деньги вскоре уже надо возвращать, а их-то всё время и не хватает.
Иосиф с Тадеушем тоже уже сидели в своей небольшой комнате в ожидании, когда их позовёт отец. Они скромно позавтракали (с утра есть никогда не хочется), а все узелки с их вещами лежали в ожидании молодых хозяев здесь же в комнате.
— Ну, с Богом! — сказал Людвиг и поцеловал жену. — Выводи детей, пора в дорогу.
На глазах Тэкли навернулись слёзы. Как она не пыталась сохранить спокойствие, но не получилось. Всё-таки дети уезжают не на день и не на неделю. Практически до следующего лета она их не увидит. Но Тэкля понимала, что эта поездка необходима детям, особенно Тадеушу. Во время обучения дома он показал себя способным мальчиком. Наиболее ярко эти способности проявились во время уроков по арифметике, когда Тадеуш быстро решал задачи, которые для старшего сына Иосифа были тяжёлым испытанием работы его мозга. При этом Тэкля сама поражалась таким различием своих сыновей: дети одних родителей, но такие разные по темпераменту и способностям.
Людвиг сам уселся за возницу, а Тэкля подвела детей к повозке. Перекрестив и поцеловав каждого в лоб, она помогла им забраться в возок, а Ян в это время закрепил сзади повозки большой баул с вещами и книгами, которые Тэкля намеревалась передать в школьную библиотеку как свой личный подарок. Наконец, Людвиг ударил поводьями по спине лошади, и та легко побежала по просёлочной дороге.
Тэкля осенила крестом отъезжающих и ещё долго смотрела им вслед, думая о чём-то своём, но мысли эти были известны только ей, а делиться ими Тэкля ни с кем не собиралась.
Повозка с Людвигом и его сыновьями въехала во двор школы ближе к полудню. Во дворе слонялись дети, ученики школы, разного возраста: от десяти до шестнадцати лет. Они с интересом рассматривали приезжих мальчишек, которые, наверно, будут учиться вместе с ними.
За учениками внимательно наблюдал служка, скрестив на своём выпирающем из-под рясы животе холёные руки. Он внимательно посмотрел в сторону приезжих и, подождав, пока Людвиг Костюшко привяжет лошадь, медленно с достоинством направился к нему. Подойдя к приезжему шляхтичу, служка поклонился и поздоровался:
— День добрый, пан!
— День добрый! — ответил Людвиг и тут же обратился к нему со встречным вопросом:
— А что, пан директор в школе?
— Так, пан, у себя в кабинете. Если желаете, я провожу вас к нему. — Служка поклонился Людвигу и его детям.
Людвиг кивнул в знак согласия и пошёл за служкой, махнув сыновьям, чтобы они следовали за ним.
Здание школы в Любешове представляло собой двухэтажную пристройку к хозяйственным помещениям, которые, в свою очередь, являлись частью всех построек при костёле, окружённых кирпичным забором. Рядом со зданием школы находилось второе двухэтажное здание. В нём располагались комнаты учеников, где они спали, и столовая, где они питались. Там же располагалась и библиотека, в которой ученики могли получить необходимые книги, бумагу и готовить уроки.
Небольшой, но уютный кабинет директора располагался на втором этаже школы. У стены, напротив входной двери, стоял дубовый стол, за которым в кресле из дуба же восседал сам директор. Это был католический священник лет сорока пяти с блестящей лысиной на голове, выпирающим из-под рясы ранним брюшком и пухлыми руками. На стене, как раз над его головой, висел большой крест с распятым на нём Христом, а рядом с ним — икона с изображением Божьей Матери с младенцем — Христом на руках.
Войдя в дверь кабинета директора с детьми, Людвиг перекрестился на распятие и подошёл к столу. Священник вышел к нему навстречу, протягивая руку для поцелуя. Людвиг в поклоне слегка прикоснулся к ней губами и резко выпрямил спину.
— Привёз своих сыновей, падре, — сообщил Людвиг о цели своего приезда в Любешово вместо слов приветствия, указывая на стоящих за его спиной Тадеуша и Иосифа. — Очень надеюсь, что у вас они смогут получить достойное образование.
Директор подошёл к детям, оценивающе оглядывая каждого и протягивая им для поцелуя руку.
— Так вы говорите, что ваш младший сын способный мальчик и имеет большое желание учиться? Уже умеет читать и писать по-польски? — спросил директор, медленно растягивая слова, опять усевшись в своё кресло. Всем своим видом и тоном священник показывал Костюшко, что он ему неинтересен.
— Не только читать и писать: Тадеуш неплохо для его лет овладел арифметикой и быстро решает задачи. Я же дома уже ничему его не научу. Лучше, чем здесь, в вашей школе в Любешове, ему не будет. — Людвиг вопросительно посмотрел на директора.
«Интересно, сколько надо будет пожертвовать школе, чтобы приняли сыновей в это учебное заведение?» — подумал он, рассматривая обстановку кабинета.
— Мой сосед, писарь Великого княжества Литовского, пан Юзеф Сосновский, — Людвиг сделал паузу и посмотрел на директора, — говорил мне, когда мы охотились с ним этой зимой, что учителя вашей школы могут достойно преподавать в Вильно и в Варшаве.
Людвиг надеялся, что упоминание известного имени положительно подействует на директора и поможет решить ему вопрос о зачислении его детей в эту школу. Такой дипломатический ход себя оправдал: священник сразу заулыбался и заговорил с Людвигом совсем другим тоном:
— Хорошо, хорошо, пан Людвиг, — закивал согласно он своей лысой головой и быстро поднялся с места. — Если ваш сын действительно такой способный, как вы говорите, то мы зачислим ваших детей в нашу школу с испытательным сроком.
Подойдя к Тадеушу, священник погладил мальчика по голове и неожиданно больно схватил его за ухо, приговаривая:
— Но если ваши сыновья будут лениться и плохо учиться, то мы заставим их много, очень много работать, чтобы они знали, что бесплатной учёба не бывает.
Людвиг, довольный услышанными словами, заулыбался, а директор отпустил ухо ребёнка и продолжил свой монолог:
— Езжайте домой, пан Людвиг, и не волнуйтесь за сыновей, — директор приостановил свою витиеватую речь, подошёл к Людвигу и внимательно посмотрел ему в глаза. — А при встрече с паном Юзефом Сосновским передайте ему моё приглашение посетить нашу школу, — добавил он, надеясь, что Людвиг Костюшко выполнит его просьбу, а школа, возможно, получит дополнительные финансовые поступления.
— Благодарю вас за вашу милость. — Людвиг поклонился и поцеловал повторно протянутую ему руку. Он сам не ожидал такой удачи и понимал, чего от него ждал теперь этот представитель монашеского ордена пиаров. Вот что значит иногда ходить на охоту с человеком, приближённым ко двору польского короля.
Людвиг погладил по голове Иосифа, потом Тадеуша. На глазах у этого взрослого мужчины навернулись слёзы. Людвиг не был сентиментальным, но теперь, стоя перед двумя мальчишками, которым предстояло остаться здесь, далеко от дома, среди чужих им людей, он понимал, как им будет нелегко привыкнуть к новой обстановке. К тому же перед ним стояли не просто мальчишки — это были его сыновья, его кровь.
«Теперь у них начнётся новая жизнь. Детство для них скоро закончится, и закончится оно здесь, в этих стенах, за кирпичным забором среди чужих людей», — эти мысли промелькнули у него в одно мгновение. Чтобы дети не заметили в этот момент его выражение лица и заблестевшие от слёз глаза, Людвиг, кивнув на прощание священнику, быстро вышел из кабинета, оставив там сыновей.
А Иосиф и Тадеуш продолжали стоять в своих скромных костюмах посреди кабинета директора, растерянные внезапным уходом отца. Они посмотрели на дверь, через которую только что он вышел, потом перевели взгляд на неизвестного им священника. Они ещё не знали, что видят отца в последний раз. Он так и останется в их памяти: уходящим от них навсегда.
С этого момента человек, который остался с ними в этой комнате, в течение нескольких лет будет главным распорядителем их жизни. Он заменит им отца и мать и станет тем, кого они должны будут беспрекословно слушаться. Только что по воле их родителей этот человек в монашеской рясе получил все права на их наказание или поощрение в зависимости от их поведения и его настроения.
IV

танислав Понятовский возвращался в своё поместье Волчин вместе с Антонием Тизенгаузом из Гродно, где местная шляхта собиралась для выдвижения из числа своих депутатов достойного представителя в сейм Речи Посполитой. И хотя усилиями и влиянием своих родственников Чарторыских место депутата там для Станислава было «забронировано», но следовало соблюсти формальности, чтобы не дать возможности кому-нибудь из оппозиции Чарторыских усомниться в законности присутствия молодого Понятовского на главном сейме государства.
Уже недалеко оставалось до поместья, родового гнезда Понятовских, когда карета миновала стены, почерневшие от огня большого пожара 1748 года, которые когда-то представляли собой дворец магната Михаила Сапеги. Станислав был ещё тогда совсем мальчишкой, но хорошо помнил, сколько шума и пересудов наделал этот пожар в высшем свете. Так никто до сих пор и не выяснил, отчего однажды ночью загорелся дворец и кто был виноват, был ли это умышленный поджог или просто чьё-то небрежное обращение с огнём. Факт остаётся фактом: в одну из летних ночей, когда хозяева крепко спали, их разбудили громкие крики придворных слуг. Выглянув в окно и увидев, как языки пламени вырываются из окон его дворца, могущественный магнат сразу всё понял. Но каким бы он ни был могущественным, Михаил Сапега ничего не мог сделать с силой и безумной пляской огня, пожирающего всё на своём пути. Выскочив из тёплой и уютной постели в ночной сорочке, он вместе со своей семьёй через минуту уже был в парке дворца, откуда с горечью и обречённостью наблюдал, как бушующая стихия уничтожает его детище...
Воспоминания детства Станислава прервал Антоний Тизенгауз. Он с молодой горячностью продолжал рассказывать Понятовскому о том, как сделать Речь Посполитую развитым современным государством: сильным и влиятельным во всей Европе.
— Пойми, Станислав, сила любого государства прежде всего в его экономической независимости, — доказывал он свою теорию. — А когда государство имеет развитую экономику, тогда появляются деньги на содержание сильной армии, на развитие культуры, на обустройство всего общества...
Станислав Понятовский повернулся к Тизенгаузу. Всю дорогу он со вниманием больше слушал его, чем говорил сам. Прошло уже два года, как Антоний Тизенгауз, окончив школу иезуитов, впервые появился в родовом поместье Понятовских. Молодому Станиславу сразу понравился обаятельны! и общительный иезуит, и первое впечатление его не обмануло. Вскоре они сдружились и проводили вместе много времени, по молодости лет горячо обсуждая различные события в Речи Посполитой, мечта о её будущем. Не пропускали друзья в разговорах на тему личной жизни многих именитых людей, посещали званые балы и собрания, которые проводил! известные всей Речи Посполитой фамилии, а также местная зажиточная шляхта. Постепенно между этими разными по виду и положению молодым! людьми установились настолько доверительные отношения, что Станислав иногда ловил себя на мысли, что Антоний стал близок, как брат.
В то же время они были совершенно разными, С одной стороны, Станислав Понятовский, отпрыск знаменитой фамилии, родственник князей Чарторыских, слегка надменный, умный и осторожный в словах и действиях молодой повеса. С другой — обыкновенный шляхтич Антоний Тизенгауз, который своим обаянием и энергией покорил Станислава. По этой же причине молодой Понятовский сделал всё, чтобы уже через короткое время его товарищ стал кандидатом на получение звания хорунжия, о чём сам Тизенгауз ещё и не догадывался.
— А как ты думаешь, понравится ли нашим соседям, той же Пруссии или России, иметь рядом со своими границами такое независимое и сильное государство? — перебил Понятовский будущего «преобразователя» Речи Посполитой. И сам же ответил на свой вопрос, который поставил в тупик Тизенгауза. — Не понравится, и эти соседи будут делать всё, чтобы этого не произошло, — спокойно пояснил Станислав и дружески похлопал Антония по плечу.
Тизенгауз обиженно замолчал и задумался о словах Понятовского. Он был ещё далёк от большой политики и многого не понимал по молодости лет. Да и сам Станислав Понятовский только делал первые шаги в своей карьере, которую ему уже приготовили его близкие родственники. Станислав прекрасно понимал, что пройдёт ещё немного времени, и он надолго, если не навсегда, расстанется с Антонием. У каждого из них своя дорога жизни, но Понятовский хорошо запомнил слова товарища и где-то в глубине сознания включил его в список людей, которые ему в будущем смогут принести хоть какую-нибудь пользу.
Переехав мост через реку с красивым и странным названием Пульва, карета въехала в Волчин и вскоре остановилась возле костёла Святой Троицы. Это было строение в стиле позднего барокко, не похожее на обычные близлежащие в округе костёлы. Будучи творением итальянского архитектора, этот костёл, построенный через год после рождения Станислава Понятовского, представлял собой здание с четырьмя равносторонними стенами и достойно возвышался над домами простых мирян. В то же время костёл не подавлял их величием и органически вписывался в окружающую его местность.
Со стен божьего храма за житейской суетой мирян наблюдали четыре массивные статуи евангелистов, а на оригинальной башне часы-куранты боем периодически сообщали тем же мирянам, что время их жизни на этой грешной земле истекает. Они как бы предлагали задуматься о суете мирской жизни и покаяться в своих земных грехах до второго пришествия Спасителя.
Антоний Тизенгауз вышел из кареты и направился к костёлу, чтобы помолиться о судьбе своей родины. Понятовский же продолжил путь к поместью в одиночестве, глубоко о чём-то задумавшие! А задуматься было о чём: пройдёт совсем немного времени, и Станислав Понятовский окунётся в новую для себя жизнь и столкнётся с массой новы людей. Некоторые из них станут для него большими мостами или маленькими мостиками к его
будущему возвышению, а кто-то выбьет из-под ни: опоры и подтолкнёт Станислава к невозвратном падению.
При общении молодой Станислав Понятовский мог казаться обыкновенным молодым повесой и ловеласом. Однако в глубине мыслей он рассуждая трезво и ясно, давая оценку каждому своему и чужому слову, тому или иному событию. В своих жизненных планах Станислав Понятовский видел себя в будущем не меньше чем канцлером Речи Посполитой. Он неоднократно в разговоре с родственником Адамом Чарторыским намекал на желание проявить свои способности в решении внешних политических вопросов при каком-нибудь европейском дворе. Но опытный и мудрый глава рода не торопил события. Конечно, Адам Чарторыский имел свои виды на Станислава Понятовского, не считал, что всему своё время, и «подготовил» племяннику для первого испытания место депутата в сейме Речи Посполитой.
Сейм оказался хорошей школой жизни для будущего короля. Станислав Понятовский сразу был замечен как сторонниками Чарторыских, так и их оппозицией. Он присутствовал на всех заседаниях сейма и отличался от многих депутатов ораторский талантом, убедительной уверенной речью, а также своими вопросами, которые молодой Понятовский задавал оппонентам.
Начиная карьеру депутатом сейма Речи Посполитой с 1752 года, Станислав Понятовский оправдал доверие фамилии Чарторыских и уже через пару лет вёл праздную жизнь дипломата при французском королевском дворе, которая его вполне устраивала. Родина с её вечными проблемами находилась где-то далеко, зато рядом было высшее французское общество, очаровательные молодые француженки из того общества, любовные и политические интриги... Что ещё надо молодому и обаятельному поляку-дипломату?
Но в 1757 году Понятовский был вызван в Варшаву на аудиенцию к польскому королю Августу III как кандидат на дипломатическую службу при русском дворе. Поговорив для соблюдения правил приличия и этикета со Станиславом Понятовским в присутствии Адама Чарторыского, король одобрил его кандидатуру на столь ответственную должность и отправился на охоту. Адам Чарторыский не последовал за королём, а подошёл к племяннику и сделал ему по-родственному напутствие:
— Ну, дерзай, Станислав! Родину помни и всё делай ради её блага. Пусть даже тебе придётся делать то, чего никогда бы ранее не сделал.
Молодой дипломат понимающе кивал головой, хотя плохо соображал, что хотел сказать его дядюшка. Но главное он уяснил: про вольную французскую жизнь ему надо забыть, однако его карьера продвигается в нужном направлении и цель стать ведущим политиком Речи Посполитой приобретает всё более чёткие контуры. Его ждёт загадочная и холодная Россия с её не менее загадочным народом. Чем закончится его дипломатическая карьера при российском дворе императрицы Елизаветы Петровны, Понятовский даже не предполагал.
Прошло уже несколько лет после того, как Тадеуш со старшим братом покинули родные им Сехновичи, чтобы постигать новые для них науки и развивать те знания, которые заложили в них отец с матерью. За это время в поместье Костюшко мало что изменилось, в том числе и в лучшую сторону По-прежнему поместье было заложено за долговые обязательства Людвига Костюшко, а значительно меньший, чем в прошлом году, урожай не позволял ему рассчитаться с кредиторами.
Сложная ситуация в хозяйстве была не только у Костюшко. Междоусобные войны, которые велись между различными партиями за власть и за депутатские места в сейме Речи Посполитой, безволие короля, неспособного сплотить нацию, создавали политическую нестабильность в стране. От такого положения дел страдала экономика, как государства, так и финансовое положение мелких и средних хозяйственников-помещиков. Всё чаще в стране стали проявляться недовольства крестьян, выражавшиеся в местных стихийных выступлениях против своих хозяев. Народ находился в состоянии сухого пороха, который расположен рядом с источником огня. Малейшая искра — и может произойти взрыв.
Сехновичи, к сожалению для семьи Костюшко, не остались в стороне от подобных волнений.
Корчма старого еврея Изи стояла на краю Сехновичей возле самой дороги. Изя правильно выбрал место для корчмы: не только местные крестьяне в свободное от работы время втайне от своих жён забегали выпить вина, которое делал сам Изя со своей женой Цилей по каким-то старинным рецептам, но и случайные путники, проезжающие мимо, также не брезговали еврейской корчмой, останавливаясь в этом заведении, чтобы выпить и хорошо подкрепиться. А Циля умела вкусно приготовить и красиво подать гостю.
В один из таких деревенских вечеров в корчме за не очень чистым деревянным столом сидели два крестьянина, потихоньку попивая из глиняных кружек домашнее вино Изи. Разговаривали они между собой вполголоса. По их лицам было видно, что этот разговор был невесёлый. Беседа шла вяло, да и какое могло быть у этих крестьян настроение: их жёны давно уже ждали своих мужей, чтобы в очередной раз пожаловаться на то, что приходится на всём экономить. А чем будут питаться их дети в холодные долгие зимние вечера? Вот и вчера опять приходил в деревню управляющий пана Людвига Костюшко, предупреждал, что барщина будет увеличена, а часть собранного в этом году урожая надо будет отдать для погашения долга хозяина. Так как же жить дальше, когда придёт весна, а кормить детей уже будет нечем? Всё уйдёт в панскую усадьбу, а что может сделать крестьянин, если и его самого могут продать или отдать, как скотину, другому пану за долги хозяина?
— Я слышал, что некоторые помещики заменили барщину чиншем, — услышал часть разговора Изя. — Тогда хоть можно рассчитать, сколько надо отдать хозяину, чтобы самому потом было чем питаться, — проговорил один из сидящих за столом.
— Да что там рассчитать, тогда можно и на своём поле больше поработать, чтобы ещё что-то осталось на ярмарку в Вильно отвезти, — поддержал разговор его товарищ по столу. — Надо собрать делегацию от общины и направить её к хозяину. Сколько можно обирать нас?
Одним из собеседников был новый староста деревни Сехновичи Тихон. Мужик он был спокойный, рассудительный, мог сказать своё слово в нужное время. Его в деревне уважали за хозяйственность и за большую семью, которую он умудрялся прокормить даже в самые тяжёлые неурожайные годы.
— А ещё поговаривали на рынке, что крестьянам разрешили создавать общественную кассу и проводить самим крестьянские суды. Нет, надо что-то делать, — сделал заключение Тихон и отпил очередной глоток вина из кружки. — Соберём завтра собрание общины и выберем повторно делегатов пану. Тянуть больше нечего.
Корчмарь Изя тихо сидел в своём углу за стойкой и прислушивался к разговору посетителей. Что-то он не расслышал, что-то не понял, но реши, всё-таки сообщить управляющему поместьем Костюшко, что крестьяне высказывают недовольств! хозяином. А с хозяином Сехновичей и с их управляющим у Изи должны быть хорошие отношения.
На дворе стоял уже второй месяц осени 1760 года. В октябре листья деревьев приобрели пёструю окраску, и в тихий осенний и солнечный день деревья радовали глаз красивым цветным убранством. Это было то время года, когда листья сохранял ещё свою жизнь и не отрывались от родных веток Деревья же замерли в ожидании наступления первых заморозков и дождей, оживляя природу ярким жёлтым и красным цветом.
Тадеуш засмотрелся на эту картину осенних красок, сидя у окна в классе. Однако вспомнив, что ещё не прочитал заданный урок по французскому языку, опять раскрыл лежащую перед ним книгу. Внезапно его чтение было прервано: внимание Тадеуша отвлёк звук въезжающей во двор школы крытой повозки. Она сразу подъехала к зданию школы, и из неё вышла женщина с очень знакомым лицом. Всмотревшись в очертание приезжей, он чуть не вскрикнул от удивления: это была его мать!
Женщина была одета во всё чёрное, и это было тоже удивительно — ведь Тэкля не любила чёрный цвет, а тем более чёрный платок, который сегодня был наброшен на её голову. Тадеуш выскочил из класса во двор и бросился навстречу матери. Тэкля, увидев сына, тоже поспешила к нему. Обнявшись, мать и сын так и стояли некоторое время, пока Тадеуш не поднял к матери глаза, в которых читался уже известный им обоим вопрос.
— Горе у нас, сынок. Осиротели мы, — услышал Тадеуш от матери страшные слова. Тэкля всхлипнула, и слёзы покатились из её больших красивых глаз. — Отец погиб, и я приехала за вами. Тяжело мне сейчас одной за хозяйством смотреть, помощь ваша, дети, нужна, — продолжила она, гладя Тадеуша по голове и целуя его одновременно.
Тадеуш ничего не мог сказать матери в ответ, растерянный от услышанной новости. Как гром среди ясного неба стали для него слова матери. Его отец погиб?! Как такое могло случиться? Это значит, что он больше никогда-никогда не увидит отца, не поговорит, не поедет с ним на охоту, как он обещал, когда вёз его с Иосифом на учёбу в Любешово? В голове Тадеуша всё смешалось: учёба, сообщение матери о смерти отца, мысли о его дальнейшей судьбе и о будущем всей семьи.
Тэкля заметила растерянность сына и пожалела, что сразу, без подготовки рассказала ему о смерти Людвига. Слишком юн был ещё её сын, и слишком близко к сердцу воспринял он известие о смерти отца.
Тэкля вытерла слёзы, поправила платок на голове и спросила:
— А где Иосиф? Где можно увидеть пана директора?
— Иосиф в библиотеке, а пан директор у себя. Пойдём, я тебя отведу к нему, — ответил сразу Тадеуш и, взяв мать за руку, повёл её в здание школы.
Директор был извещён о приезде Тэкли и о смерти её мужа ещё неделю назад. Тэкля прислала письмо в Любешово и сообщила директору, что в связи со смертью супруга собирается забрать из школы сыновей. Директор не стал отговаривать её, понимая, как ей сейчас тяжело одной. Хотя про себя он сожалел, что дети Тэкли не полностью окончили учебный курс школы. Особенно жаль было, что младший из её сыновей сейчас прекращает учёбу, может быть, даже навсегда. Тадеуш действительно отличался от Иосифа тем, что быстро усваивал материал, был более способный, чем его старший брат, к изучению иностранных языков и особенно радовал учителя математики. Мальчик быстро понимал и легко решал математические задачи, которыми дополнительно нагружали учеников, особенно тех, кто быстро их решал на уроке в основное время.
Священник после получения письма от Тэкли не стал говорить ничего детям, так как об этом просила их мать. Он встретил её в кабинете и первым подошёл к ней, протягивая для поцелуя руку. Потом перекрестил её и посадил перед собой на стул.
— Так вы всё-таки решили забрать сыновей? — спросил он Тэклю, сочувственно кивая головой. — Это ваше право. Однако я дам вам совет: если получится, то отправьте со временем младшего сына на учёбу в Вильно или Варшаву.
Директор школы говорил искренно: он внимательно наблюдал за учёбой этого мальчика и даже предполагал со временем дать тому рекомендации для дальнейшей учёбы в университете столицы. Но, видимо, не судьба.
— Очень уж способный у вас сын, — продолжал он хвалить Тадеуша. — Другие мальчишки еле высиживают своё время на уроках, выбегают во двор помериться там силой, таская друг друга за вихры, а ваш всё время что-нибудь читает.
Тэкля слабо улыбнулась, представляя подобную картину.
— Спасибо вам за всё: за детей, за участие, — ответила тихо она. Ей было неловко при сыне рассказывать директору школы о том, как погиб муж. Но священник уже и так всё знал не только из её письма: пару дней назад у него гостил воевода. Он и рассказал все подробности убийства Людвига Костюшко его собственным крестьянином.
В тот злополучный день делегация от крестьянской общины пришла в имение Костюшко с очередной челобитной, но разговор с хозяином опять не получился, а все делегаты были выгнаны им со двора. В тот же день Людвиг Костюшко сам прибыл в Сехновичи для разбирательства, прихватив с собой пару слуг.
Во дворе одного из его крепостных крестьян Петра Немировича слуги Людвига слишком недвусмысленно стали приставать к его красавице жене. Пётр не выдержал таких оскорблений и палкой избил обоих. Когда на крики слуг прискакал на коне сам Людвиг, то увидел Петра с вилами в руках.
— Не дури... Брось вилы... — попробовал он успокоить крестьянина.
— Не брошу, пан. Лучше забирай своих собак, пока я с них шкуру не содрал, — хриплым голосом предупредил Пётр, кивая на побитых слуг.
— Ты что творишь? Или забыл, кто перед тобой? — не сдержался Людвиг от такой дерзости. Всё-таки он хозяин, а Пётр — его крепостной, Людвиг Костюшко — шляхтич, а перед ним его холоп.
— Пся крев! Брось, я тебе сказал, — с угрозой в голосе повторил Людвиг, поднял нагайку и шагнул навстречу смерти.
— А-а-а-а... — заорал Пётр в каком-то исступлении и вилами, как ружейным штыком, проткнул живот Людвига.
Ещё не веря в то, что с ним произошло, Людвиг схватился руками за древко страшного крестьянского оружия и с недоумением посмотрел вокруг. Ноги его подкосились, и он замертво рухнул на землю.
Прибывшие вскоре в Сехновичи жолнеры схватили убийцу. Разбирательство было коротким: Пётр без утайки рассказал обо всём, покаявшись перед крестьянской общиной и перед Тэклей, которая в один час оказалась вдовой. Но Тэкля удивила всех шляхтичей-соседей и своих крепостных крестьян, когда на суде простила покаявшегося в убийстве её мужа Петра, а одного из его сыновей взяла в своё поместье, исполнив одну из заповедей Иисуса Христа. Она прекрасно понимала, что жена Петра не сможет в одиночку прокормить всех детей после того, как суд вынесет мужу приговор. А приговор был в таких случаях один — смертная казнь. Холопы должны знать своё место и понимать, что у них есть хозяин, жизнь которого для них неприкосновенна.
Обо всём этом священник знал и поэтому не стал уточнять подробностей тех событий, за что Тэкля была ему благодарна. Быстро собрав сыновей и дорогу, она, исповедуя всю жизнь православие, низко поклонилась священнику-католику, который принял участие в жизни её детей, и отправилась в тот же день с ними домой. А католический священник благословил православную женщину, перекрестив её вслед, желая ей благополучно добраться до своего поместья и справиться со всеми трудностями, которые легли на хрупкие женские плечи в это нелёгкое и смутное время.
V

осле блистательного общества при французском дворе и бурной парижской жизни, полной любовных романов, Станислав Понятовский направлялся в столицу России, грустно посматривая в тусклое окно кареты. Небольшие русские деревни, болотистая местность и пёс, стоящий сплошной стеной, тем более не могли улучшить его плохое настроение. «Скорее бы добраться до Санкт-Петербурга», — думал Понятовский, уныло разглядывая необъятные российские просторы. Ему не терпелось скорее прибыть к месту назначения и окунуться в новую для него среду, блистать (Станислав был уверен, что так и будет) уже в новом обществе.
Старанием влиятельных родственников Чарторыских, которые внимательно следили за дипломатической деятельностью Станислава Понятовского, он получил должность литовского стольника при дворе российской государыни Елизаветы Петровны и принял её как необходимость для продолжения своей карьеры. При этом Станислав Понятовский понимал, что попасть ко двору российской императрицы ему было не так просто. Именно там велась большая политическая игра и плелись клубки дворцовых интриг, существенно влияя на европейскую политику в целом. Поэтому молодой карьерист понимал, что Чарторыские возлагают на него большие надежды, направляя его в Россию. Именно здесь, в этой загадочной для многих европейцев стране Станислав Понятовский сможет приобрести тот опыт и связи, которые помогут ему получить корону, о которой в то время молодой дипломат даже и не Думал.
Но в должности литовского стольника Станислав пробыл не долго: благодаря своему уму, образованию и внешности, которой он покорял женские сердца (Станислав Понятовский был красивый мужчина с особой элегантностью и изяществом светского вельможи), вскоре он становится секретарём при английском посольстве в Петербурге.
Станислав был очень доволен новым назначением: частые светские приёмы, балы и разного рода придворные развлечения позволяли ему много общаться не только в рамках дипломатического этикета, но и налаживать полезные контакты с лицами женского пола, которые принадлежали к высшему российскому светскому обществу. Через такие связи он черпал в изобилии нужную ему информацию, плетя свои нити политического шпионажа, или просто пользовался ими в своё мужское удовольствие.
На одном из таких светских приёмов Станислав встретил женщину, которая в его дальнейшей жизни постоянно будет играть основную роль. Это она приведёт его к правлению государством в самом центре Европы, это благодаря её влиянию и желанию Станислав Понятовский станет королём Польши, а позднее по её же воле потеряет навсегда корону, станет изгнанником до конца своих дней и умрёт вдали от родины.
В то утро Станислав был весел и бодр. Он с удовольствием вспоминал вчерашний бал в Петродворце. В его воспоминаниях возникало лицо одной из фрейлин императрицы Елизаветы, с которой он сблизился в тот вечер, а потом и другие части её тела, которые предстали перед Станиславом уже после бала в одной из многочисленных укромных комнат дворца.
На балу присутствовало много иностранцев, а также дипломатов со своими секретарями и переводчиками. Не обошла вниманием это светское мероприятие и молодая пара супругов — наследник российского престола Пётр с великой княгиней Екатериной, бывшей принцессой Анхальт-Цербстской. Понятовский сразу обратил внимание на их отчуждённость: они как будто совершенно чужие сидели на своих местах, наблюдая за присутствующими на балу. Рядом с великим князем стояли несколько бравых гвардейских офицеров, с которыми он о чём-то весь вечер болтал. Не стесняясь в выражениях, он указывал пальцем на фрейлин государыни и, видимо обсуждая их женские прелести, противно хихикал при этом. А великая княгиня Екатерина сидела рядом, не обращая внимания на подобное поведение своего супруга, и делала вид, что она ничего не слышит и не видит.
У неё было грустное лицо и такие же грустные глаза, которые блестели от наполнявших их слёз. Понятовский понимал её: молодая красивая женщина должна делить ложе с этим... Станислав даже затруднялся подобрать слово, характеризующее великого князя. Все придворные прекрасно знали, что государыня не раз вела разговоры с князем о его проблемах как мужчины. Ей нужен был следующий наследник российского престола, желательно при её жизни.
А вместо того, чтобы решать этот вопрос с молодой и красивой женой, выполняя свой супружеский долг на благо отечества, великий князь уединялся в большой комнате для игры с солдатиками или общался с гвардейскими офицерами из охраны, пьянствуя с ними и пошло обсуждая свои несуществующие победы над женщинами. И так продолжалось долгих десять лет!
Впрочем, одну победу он всё-таки одержал: любовницей наследника престола стала фрейлина государыни Екатерина Воронцова, поведение которой вызывало умиление у великого князя: она ругалась нецензурно и курила табак. Будущий император, уже никого не стесняясь и не скрываясь, спал с ней и по-своему был привязан к этой дурочке: всё-таки это была его первая женщина.
Но когда наконец-то 20 сентября 1754 года у великой княгини Екатерины родился долгожданный ребёнок и будущий наследник российского престола Павел, государыня Елизавета сразу отобрала ребёнка у молодой матери и передала его под присмотр и на воспитание придворным мамкам.
— Даже и не думай об этом, — заявила государыня Елизавета Петровна великой княгине, когда та попыталась дать ей понять, что она всё-таки родная мать младенцу Павлу и имеет право лично заниматься сыном. — Твоё дело родить ещё одного ребёнка. А как это у вас получится, думай сама. Не маленькая, потрудись на благо государства российского, — добавила, как отрезала, матушка-государыня, и на этом весь разговор о правах и обязанностях великой княгини закончился.
Про все эти события двора российской императрицы Станислав Понятовский был наслышан от разных особ женского пола, а также от своих информаторов, которых он успел приобрести среди окружения императрицы Елизаветы и приближённых ко двору русских вельмож. Во время хорошего застолья в присутствии красивых и избалованных придворных барышень при разговоре у многих дворцовых чиновников развязывался язык. Они теряли осторожность и выдавали столько информации для Станислава Понятовского о жизни высшего русского общества, что он чувствовал себя при императорском дворе Российского государства, как рыба в воде.
Станислав Понятовский посмотрел на себя внимательно в стоящее напротив его кровати зеркало. Это было большое прекрасное зеркало венецианских мастеров. В нём он увидел отражение лица молодого красивого мужчины с носом древнеримского кесаря с небольшой горбинкой. И хотя это лицо было немного опухшее после бессонной ночи и выпитого вина, но в целом смотрелось неплохо. У этого мужчины была благородная фигура и достойная осанка, добрый и меланхолический взгляд, который почему-то привлекал внимание многих женщин. А красивые руки и серебристые волосы делали Понятовского просто неотразимым среди женского общества.
Сладко потянувшись, молодой дипломат позвонил в колокольчик.
— Принеси мне воду, буду умываться, — сказал вельможа слуге, вошедшему на его зов. Потом, присев на кресло рядом с венецианским зеркалом, Понятовский начал расчёсывать густые длинные волосы. Занимаясь своим туалетом, Станислав опять вспомнил про Екатерину: высокая брюнетка с ослепительно-белой кожей, нос греческий, красивые руки и тонкая талия, лёгкая походка.
«А ведь красивая женщина и, наверно, умна, — подумал он. — И как она достойно ведёт себя при таком муже. Правда, ходят слухи при дворе, что её тайно посещает один гвардейский офицер...»
Понятовский наморщил аристократичный лоб, вспоминая его фамилию, которую слышал недавно от одной из своих любовниц.
«Да, кажется, Сергей Салтыков
[3]. Хотя вряд ли это может быть. Это было бы достаточно рискованно при её положении. Так быстро можно попасть в немилость к императрице, — продолжал размышлять Понятовский. — Достаточно было великой княгине просто ласково заговорить с кем-то из молодых офицеров или вельмож, как сразу же фрейлины разносят по всему российскому двору новости о новом любовнике Екатерины, наушничая государыне о каждом её шаге».
Так думал молодой дипломат, который уже привык к дворцовым интригам российского императорского двора, научился ничему при этом не удивляться и делать для себя определённые выводы, предполагая, какие выгодные для себя действия он может предпринять в дальнейшем.
Наблюдая за жизнью великой княгини Екатерины и её поведением в различных жизненных ситуациях, Станислав Понятовский заметил, как она умело располагала к себе не только приближённых к ней людей, но и иностранных монархов, дипломатов, учёных и военных. Будучи не очень любимой государыней, она избегала открытых конфликтов с Елизаветой, не обостряя тем самым с ней отношения. В то же время её супруг Пётр у всех на глазах терял свой авторитет год от года.
«А ведь Екатерина умна, очень умна. С ней надо бы поближе сойтись при возможности», — ещё раз про себя отметил Станислав Понятовский достоинства великой княгини. И в его голове стали рождаться варианты, при которых он бы мог стать если не доверенным лицом великой княгини, то хотя бы войти в круг её приближённых.
Прошло не так много времени, когда фрейлины императрицы Елизаветы в молодом и красивом дипломате нашли новый объект для обсуждения последних придворных новостей. Всё чаще Понятовский Станислав стал появляться в обществе, где присутствовала великая княгиня, всё чаще их стали видеть вместе при беседах, длительность которых не ограничивалась одним часом. А поговорить им было о чём: оба были молоды и хороши собой, оба родились вдали от российской земли и получили европейское образование. Сын краковского каштеляна, Станислав Понятовский
настолько сумел расположить к себе за это время будущую российскую императрицу, что благодаря её хлопотам Бестужев
[4] выпросил для него у польского короля Августа III по дипломатическим каналам место саксонского посла при петербургском дворе и орден Белого Орла.
Однажды, когда они прогуливались вдвоём по многочисленным аллеям придворного сада, беседа великой княгини и будущего польского короля стала настолько доверительной, что Екатерина, вплотную подойдя к Станиславу Понятовскому, посмотрела ему внимательно в глаза таким пронизывающим взглядом, что он сразу понял: предстоит очень серьёзный разговор.
— Как вы относитесь ко мне? — спросила Екатерина, положа ему на грудь свою горячую ладонь.
Станислав не нашёлся сразу, что ответить: её жест и открытый прямой вопрос смутили даже его.
— А что вы хотели бы от меня услышать? — вопросом на вопрос ответил он после небольшой паузы.
Екатерина отняла ладонь от его груди и уточнила:
— Кого бы вы хотели видеть во мне: великую княгиню и жену великого князя Петра или российскую императрицу?
Станислав опешил. Такого поворота в их беседе он даже не мог предположить.
«Надо ей что-то ответить, чтобы она не заметила моё смущение», — подумал он.
Оглянувшись вокруг себя (не видно ли где поблизости слишком любознательных наблюдателей), Понятовский сделал умное лицо и загадочно проговорил:
— Я всегда буду с вами, даже если я буду далеко от России.
— И всё-таки... — Екатерина настаивала на конкретном ответе. Она уже понимала, что зашла в разговоре с Понятовским слишком далеко. Однако ей нужно было уточнить для себя в этот момент, что собой представляет этот аристократ. Она чётко хотела определить, чьи интересы он будет защищать, если возникнет ситуация, когда ей понадобится помощь не только от военных и приближённых к ней лиц. Поддержка политиков и дипломатов иностранных королевских дворов при дворцовых переворотах могла сыграть если не главную, то весьма существенную роль.
— Я всегда буду на вашей стороне. И чем выше будет моё положение в обществе и влияние, тем большую поддержку я смогу оказать вам при любой ситуации и в любое время, как только это вам будет нужно, — большего из себя молодой посол выдавить не смог. В то же время своей речью, придуманной им в промежутке между вопросами великой княгини, Станислав Понятовский остался доволен. Ответ прозвучал достаточно обнадёживающим и при этом ни к чему конкретному его не обязывающим.
Его спутница в свою очередь осталась довольна услышанным ответом. Она улыбнулась ему и тихо проговорила приятным голосом, приблизив красивое лицо к его груди:
— Благодарю вас. Я надеялась, что услышу от вас что-то подобное. Знайте же, что я тоже сделаю для вас всё, что смогу... в зависимости от того, — Екатерина наклонилась ещё ближе к Понятовскому, посмотрела пронзительным взглядом ему в глаза и почти шёпотом произнесла последнюю фразу, — какое положение при российском дворе буду в дальнейшем занимать.
Прошептав эти слова Станиславу Понятовскому, она игриво слегка ударила его веером по груди и, круто развернувшись, пошла в сторону дворца. Её же собеседник, задумавшись на секунду, поспешил за ней, на ходу размышляя о только что услышанном от этой удивительной женщины...
Через несколько дней гастролирующая труппа итальянских актёров прибыла ко двору императрицы Елизаветы Петровны. Их выступление она приурочила к годовщине рождения младенца Павла, а после выступления итальянских лицедеев Елизавета приказала всем готовиться к очередному балу, которые она так любила проводить. К балу-маскараду готовился весь царский двор, а придворные сады были открыты для широкой публики, кроме матросов, ливрейных господских лакеев и «подлого народа». Во дворец на данное торжество, по обыкновению, были приглашены дипломаты от европейских дворов, среди которых был и Станислав Понятовский.
Долгие пешие прогулки и уединённые беседы великой княгини и молодого красивого саксонского посла не остались без внимания дворцовых сплетников. И сейчас, во время представления итальянских актёров, взоры наиболее любопытных и внимательных придворных были обращены в сторону объекта последних дворцовых пересудов.
Станислав Понятовский стоял недалеко от кресла, на котором сидела великая княгиня Екатерина Алексеевна, бывшая принцесса Софья Фредерика Августа и будущая императрица государства Российского. Она сидела в нарядном, но простом белом платье. Ленты и один цветок составляли все её украшения. В то время, когда гардероб императрицы Елизаветы Петровны составлял около пятнадцати тысяч платьев, такой скромный наряд не мог не обратить на себя внимание. Ещё в начале торжества императрица Елизавета обратилась к Екатерине и нашла, что такой наряд ей идёт. Но как можно, чтобы на лице Екатерины не было ни одной мушки?! Елизавета достала из своей коробки с мушками одну и лично сама налепила её на лицо молодой женщины.
Сидя на балу и наблюдая за представлением в этом скромном наряде с мушкой на лице, великая княгиня Екатерина чему-то улыбалась, хотя с ней никто не разговаривал, а актёры играли совсем не комедийную сцену. Более внимательные придворные, присутствующие на спектакле, также заметили направление её взгляда и выражение лица. Им уже было известно, что Екатерину и Понятовского связывали тесные отношения, не ограниченные придворным этикетом. Понятовский стал героем новых дворцовых сплетен как очередной фаворит великой княгини. Поэтому следившие в этот момент за ней могли заметить, что Екатерина улыбается не просто из чувства такта, искусно изображая хорошее настроение, чтобы угодить императрице Елизавета. Она улыбалась и была радостной искренне и от души. И улыбка эта адресовывалась Станиславу Понятовскому, который в этот момент смотрел на неё и тоже улыбался ей в ответ. И только им, этим двум молодым и полным жизненной энергии людям, был понятен этот бессловесный разговор, а остальные могли только догадываться о его содержании и смысле.
Отношения Станислава Понятовского и великой княгини не остались без внимания императрицы Елизаветы. Дочь Петра Великого была ярой сторонницей и защитницей старых семейных устоев и нравственности своих подданных, тем более членов своей семьи. Она даже допускала (и открыто об этом говорила), чтобы муж учил свою жену не только словами и уговорами, но и другими, силовыми методами. Проще говоря, русская императрица допускала в качестве средства воспитания непокорной жены обыкновенное рукоприкладство со стороны «мужа-воспитателя».
Когда же доброжелатели сообщили своей государыне о поведении её невестки и ухаживаниях поляка-дипломата, то озабоченная данным фактом Елизавета стала интересоваться её очередным фаворитом не только через расспросы своих придворных. Для защиты морального облика членов царствующей фамилии Елизавета подключила главные государственные силовые структуры.
Тайная канцелярия государыни-императрицы под её контролем работала тихо, но достаточно эффективно. Это она раскопала сведения, что молодой чрезвычайный посланник саксонского двора стал активно вести переговоры с Бестужевым, а заодно и с английским послом сэром Чарльзом Гербертом Вильямсом. Англии не нравилось, что императрица Елизавета Петровна, будучи женщиной миролюбивой, почему-то постоянно воевала, и русская армия оказывала существенную помощь Австрии против Пруссии в Семилетней войне. А воспитанный в той же Англии Бестужев был образован и умён и в то же время известен европейским дворам как продажный министр и человек интриги. Ещё в царствование Анны Иоанновны он сумел добиться большого влияния при российском дворе, стал доверенным лицом самого Бирона и даже получил от него 30 000 рублей за содействие в предоставлении ему регентства. При Елизавете хитрый царедворец опять выступил на первый план и продолжал служить иностранной политике за деньги, которые систематически получал за оказанные им услуги.
Надеясь разрушить политическую систему, созданную Елизаветой за годы правления, послы двух государств объединили свои усилия, привлекая в паутину своих интриг всем известного своей продажностью Бестужева. Главной целью этих двоих было низложение императрица Елизаветы в пользу наследника престола великого князя Петра, который был ярым поклонником прусского короля Фридриха И. В то же время сам Бестужев имел намерение в случае успешного окончания дворцовой интриги добиться передачи власти в России малолетнему Павлу, опекуном которого он являлся в это время.
После доклада тайной канцелярии об активной деятельности Станислава Понятовского и Вильямса совместно с Бестужевым императрица Елизавета решила не создавать у себя в России подобных союзов, и тройка заговорщиков была ею расформирована». Понятовский вынужден был срочно вернуться на родину, а Вильямс остался в одиночестве. При этом он вёл себя тихо и мирно, ограничиваясь только передачей информации о жизни российского двора в свою далёкую островную страну. Третий участник — Бестужев был отстранён от должности, лишён всех чинов и званий и сослан в деревню. Однако он мог считать себя в безопасности и вполне обеспеченным человеком. Ведь за годы службы при российском дворе он сумел «заработать» себе пенсию сразу от нескольких иностранных правительств
[5].
В 1758 году бывший посол Понятовский возвратился на родину со славой любовника великой княгини. Теперь он открыто стал заявлять о своих планах примерить на своей голове польскую корону, что не очень нравилось его покровителям Чарторыским. Его дяди по матери лелеяли мечты о короне для князя Адама, генерала подольских земель, или для Михаила Огинского, польного литовского писаря, зятя канцлера. Теперь же молодой и рьяный племянник путал им все планы. Но в целом все Чарторыские остались довольны возникшими отношениями между ним и великой княгиней, так как эта связь могла подбросить им свои политические козыри в будущей борьбе за власть.
Пока во дворцах монархов плелись дворцовые интриги и зрели международные заговоры, на полях Европы проходили сражения, которые являлись результатами той большой политики, участниками которой становились сами монархи и их дипломаты. Тысячи солдат, сотни генералов и офицеров в сражениях добывали себе славу или терпели поражения, погибали либо чудом оставались живыми после кровопролитных сражений, исполняя свой воинский долг и волю своих королей.
В этот летний августовский день 1759 года русские войска медленно отходили за Одер. Солдаты тяжело передвигали ноги, уставшие после длительных переходов и сражения, в котором им совсем недавно пришлось участвовать.
Премьер-майор Суворов тоже выглядел усталым и хмурым. Но когда, сидя на своём жеребце, он проезжал вдоль солдатской колонны, контролируя её движение, то старался бодрым голосом с шутками и разговорами с солдатами поднять их настроение. Хотя настроение у него самого тоже было хуже некуда.
Да, они нанесли поражение Фридриху Великому у Франкфурта. Двадцать шесть прусских знамён, два штандарта, сто семьдесят две пушки и более десяти тысяч ружей стали трофеями русской армии в тот день. Ощутимый урон Фридрих понёс и в своей разбитой армии: только на поле боя было похоронено 7637 неприятельских тел.
Бравые прусские солдаты тоже дрались с ожесточением, обожая своего короля-солдата.
Фридрих Великий, как они его называли, решив взять реванш за проигранное перед этим сражение у деревни Пальциг, двинулся к Кунерсдорфу тремя колоннами, намереваясь неожиданно напасть с тыла на русскую армию, возглавляемую главнокомандующим Петром Салтыковым
[6]. Но Салтыков правильно всё рассчитал и принял соответствующие меры, расставив на выгодных позициях многочисленную артиллерию и войска.
Правым крылом русской армии командовал князь Александр Михайлович Голицын, центром — уже ставший знаменитым и известным всей Европе своими победами на полях сражений Румянцев, а передовым войском в этой битве командовал генерал-поручик Вильбуа. Союзники-австрийцы под предводительством барона Лаудона определились позади правого крыла русских.
Фридрих понимал, что он идёт на риск: всё-таки 50 000 его солдат выступали против объединённой русско-австрийской армии в 70 000 человек. Но он был оптимистом и знал, что сражения можно выиграть не только численным перевесом, и это не раз доказывал в своей бурной жизни короля-воителя.
В ходе этого исторического для всех стран-участниц сражения прусский король Фридрих подвергал постоянно свою жизнь опасности. Но пули-дуры и осколки от рвавшихся вокруг него снарядов не тронули его королевское тело. Под ним были убиты две лошади, прострелен ружейной пулей мундир, а он пытался всеми силами остановить отступающих под напором неприятельских сил своих солдат. Но своя жизнь всегда дороже чужой, пусть даже королевской, и прусские солдаты не внимали крикам и мужественному примеру командующего. Они бегом покидали поле боя, не желая угодить под огонь русской артиллерии или пасть от удара штыка русского или австрийского солдата. В ярости и отчаянии Фридрих Великий кричал: «Неужели ни одно ядро не поразит меня!». Но русские ядра и шальные пули пролетали мимо прусского короля. Капитан Пигвиц, видя, в какой серьёзной для жизни опасности находится его обожаемый Фридрих, с гусарами и его адъютантами, желая спасти командующего от унизительного пленения или от смерти в этом аду, рискуя жизнью, бросились к нему на помощь. Схватив поводья уже третьей лошади Фридриха, они увели её вместе с всадником с места сражения, чему их король не сильно-то и сопротивлялся.
Урон русских войск был более ощутимый, чем в разбитой ими прусской армии: около 13 000 человек убитыми и ранеными, в том числе князь Голицын, два генерала, три бригадира и 474 офицера. Но не только из-за большого количества потерь был расстроен Суворов, несмотря на победу над неприятелем. Он понимал, что союзной армии после выигранного ими сражения открыта дорога на Берлин. 14 когда последовал неожиданный приказ главнокомандующего Салтыкова отвести армию обратно за Одер, Суворов открыто сказал в присутствии штабных офицеров, не боясь насмешек и доносов с их стороны: «А я бы прямо пошёл к Берлину».
Но Салтыков «проявил характер» и, возмутившись, что граф Даун, находившийся в это время в Лузации, не стал содействовать общему наступлению двух армий, решил отвести свою армию обратно и Познань. Таким образом, из-за разногласия этих двух военачальников, а также из-за возникших трудностей в связи с недостатком продовольствия граф Салтыков дал приказание переправиться за Одер. Русская армия вернулась в Польшу, а барон Лаудон, отделясь от русских войск, переправился в Моравию на зимние квартиры. Что касается Фридриха, то он так и не понял, почему его оставили в покое и дали возможность избежать присутствия на подписании позорного для него мирного договора.
А Берлин будет всё-таки взят, но только через год. Лавры завоевателя этого города достанутся в 1760 году генералу Тотлебену. Александр Суворов также окажется в числе русских войск, входящих в Перлин в качестве победителей, так как в это время уже будет служить под командованием этого генерала.
VI

конце декабря 1761 года во дворце русских императоров на Мойке в Санкт-Петербурге было необычно тихо. Не было шумных балов и маскарадов, не было слышно шуршания новых платьев на императрице Елизавете и её фрейлинах, не бегали в примерочные и кавалеры, готовясь удивить императрицу новыми нарядами. Старой и больной Елизавете Петровне уже было не до этого: она тихо готовилась отойти в мир иной, а такое душевное состояние не терпит мирской суеты и шума.
Митрополит Новгородский Дмитрий Сеченов находился в покоях, которые располагались рядом с комнатой, где готовилась к встрече с Всевышним императрица Елизавета. В тихом и укромном помещении вместе с ним находился великий князь Пётр Фёдорович, который почему-то не желал исполнить свой долг и посетить умирающую тётушку.
— Пойдите к императрице и будьте внимательны к ней, — умолял митрополит будущего императора Петра III. — Вы и только вы станете наследником российского престола... Отдайте же должное пока ещё живой императрице, — уже не уговаривал, а настаивал служитель Господа, повышая голос.
— А если тётушка назначит другого наследника? — возразил неуверенно великий князь.
— Да кого, как не вас? Даже мысль об Иоанне Антоновиче
[7] надо оставить: умственные способности бывшего императора-младенца угасли навсегда, и нельзя даже думать о возведении его на престол, — продолжал свою речь митрополит.
Будущий император тяжело вздохнул и направился в покои, где лежала на смертном одре дочь великого Петра I. Намереваясь посетить тётушку на короткое время, он неожиданно задержался у неё. Сидя у её изголовья, Пётр Фёдорович вдруг расчувствовался и заплакал. Он долгое время вытирал рукавом камзола набегающие слёзы и не отходил от императрицы до тех пор, пока она была в сознании. В последние минуты жизни Елизавета Петровна с удивлением впервые увидела у племянника искренние чувства сострадания, и её ладонь коснулась головы Петра. Передавая великому князю царствование над огромным по европейским меркам государством, умирающая Елизавета попросила Петра о главном: позаботиться о его же маленьком сыне Павле.
Наконец 25 декабря 1761 года, после долгой болезни, не стало императрицы Елизаветы Петровны, но с этого дня на российском престоле воцарился император Пётр III, о чём поспешил провозгласить сенатор Трубецкой. Король умер. Да здравствует король!.. Но царствование его оказалось недолгим.
Караульный солдат, стоя возле траурной комнаты, где лежало тело покойной Елизаветы, заметил двух мужчин, по виду похожих на иностранцев. И он не ошибся. Начальник караула, который в это время шёл навстречу этим двум господам со сменой караула, уступил им дорогу и отдал честь. При этом караульный услышал от одного из иностранцев следующие слова на русском языке, но с сильным акцентом:
— Вот что значит, когда у них третий день царствует немецкий принц.
Со смертью дочери Петра Великого при русском дворе началось засилие немецкого образа жизни, который Пётр III считал за образец. В коридорах дворца повсеместно можно было ощутить запах табака, выкуриваемого здесь же немецкими офицерами. С ними большую часть времени общался обладатель российского престола, а вечерами устраивал пьяные оргии. Во время таких застолий он открыто высмеивал всё русское и с ненавистью вспоминал свою супругу, которая, наоборот, стала сторонницей и защитницей обиженных Петром III русских придворных.
За короткое время молодой император настроил против себя не только простых русских чиновников и слуг. Против него настроена была и вся гвардия: Пётр III называл гвардейцев янычарами, утомлял их муштрой и учением по немецкому образцу. Когда же русский император отказался от прежних завоеваний России в пользу Фридриха II, то возмущение военных достигло предела. Достаточно было только искры, и пламя не заставило бы себя ждать.
Вся внешняя политика России рассматривалась и согласовывалась с прусским дипломатом Гольцем, который сумел стать почти полным распорядителем действий русской дипломатии.
За полгода правления Пётр III настолько настроил всё русское общество против себя, что практически своими руками положил ковровую дорожку своей супруге к русскому престолу. Оставалось только определить, кто и когда поведёт великую княгиню к вершине царствования. Она же давно готовилась к такому повороту событий.
В тайной переписке с английским послом в России Чарльзом Гербертом Вильямсом жена великого князя сообщала, что решила «погибнуть или царствовать».
С одной стороны, после смерти императрицы Елизаветы Россия имела вполне законного царя, с другой — этот царь Россию не просто не любил, а ненавидел. Он считал себя иностранцем на этой земле. И в этом Пётр III был совершенно прав: будучи по крови внуком царя Петра I, по духу и своему сознанию он был чужим России.
С детства будущего русского императора Петра III окружали военные немецкого двора, он учился в Голштинии только французскому языку, а по прибытии в Россию отказывался изучать Закон Божий у православных священников, посвящённый в правила лютеранства. В свою очередь, учителя по русскому языку сами перестали с ним заниматься, видя его отрицательное отношение к этому предмету. Пётр III не любил Россию и русских, постоянно окружая себя немцами, и даже не пытался скрыть это. Будучи страстным поклонником прусского короля Фридриха II, он носил перстень с его портретом и считал за честь числиться лейтенантом его армии даже тогда, когда между Россией и Пруссией началась война.
Его жена, великая княгиня Екатерина, напротив, обожала всё русское с того момента, когда пересекла границы России. Когда она тяжело заболела через год после обретения своей новой родины, Екатерина просила прислать к ней православного духовника, хотя её мать настаивала на духовнике протестантской церкви. По ночам она твердила уроки русского языка, задаваемые учителем, чтобы понимать речь русских людей, а также молиться и приобщиться к православию, чем радовала императрицу Елизавету.
Екатерина навсегда отреклась от своего немецкого прошлого. Она стремилась забыть те унижения, которые переносила на родине, ожидая, когда же появятся в её семье хоть какие-нибудь деньги. Ни за что на свете великая княгиня не хотела вернуться к той жизни, где ещё не так давно маленькая принцесса Анхальт-Цербстская существовала на подаяния своих более богатых родственников. Германии и родственников для Екатерины больше не существовало. Когда умерла её мать, которую она не любила (эти чувства у них были взаимны), то Екатерина не оплатила даже её долги, хотя и могла это сделать.
На своего брата, которого она также не любила за его мотовство и распущенность, Екатерина старалась не обращать внимания и просто мирилась с его существованием. В общем, с Германией её связывали только воспоминания о не очень радостном детстве и такой же юности, полной унижений и ощущения своей зависимости от других людей и обстановки, которые она тогда не могла изменить.
Но вот судьба сжалилась над полунищенским существованием принцессы и преподнесла ей подарок стать женой великого князя. Поэтому, переехав в Россию, она всем своим существом впитывала всю информацию, поступающую к ней от совершенно нового для неё мира и людей, окружающих её в этом мире.
Бывшая немецкая принцесса, а ныне великая княгиня интуитивно чувствовала, что её будущее величие связано именно с Россией, и поэтому она приняла эту полуазиатскую страну как свою новую родину. Екатерина стала всецело принадлежать ей и постепенно, но уверенно входила в эту новую для себя жизнь. Она старалась как можно больше читать книг на русском языке, общаться с русскими людьми и приближать к себе тех из них, кто принимал её не как немецкую принцессу, а как русскую Великую Княгиню. Простой русский быт Екатерине был также интересен, и она постоянно изучала его, стараясь запомнить всё, что узнавала о нём, до мельчайших подробностей. Все стороны реальной русской жизни стали для Екатерины теми источниками нового бытия, которые питали душу бедной немецкой принцессы, волей судьбы ставшей и одночасье великой княгиней этой ранее загадочной для неё страны.
Те русские, которые замечали в ней происходившие перемены и воспринимали её как свою, стали первыми приближёнными Екатерины и её доверенными людьми. Это они впоследствии поддержали великую княгиню в борьбе за власть, за корону великой империи и в июле 1762 года возвели её на трон. Это был очередной государственный переворот в России, когда главной жертвой заговора стал сам российский самодержец. Пётр III был убит заговорщиками, о планах которых была хорошо осведомлена его жена. Не пройдёт и сорока йот, и сценарий этого государственного переворота повторится, но только с другими действующими лицами.
VII

ес в эту жаркую июльскую пору замер под палящими лучами солнца. Тадеуш Костюшко, возвращаясь домой, остановился и прислушался, как птицы переговаривались между собой на только им понятном языке. Птахи беззаботно щебетали, если было всё спокойно, или немедленно прекращали свои птичьи переговоры, если слышали голос сородича, извещающий им о возможной опасности.
По лесной тропе рядом с Тадеушем молча шагал четырнадцатилетний подросток Фома, или Томаш, как его все звали в семье Костюшко, который жил в усадьбе со дня смерти отца Тадеуша, выполняя различную мелкую работу по дому. Мальчишка был сыном именно того самого Петра, который семь лет назад убил Людвига Костюшко. После того как казнили Петра за убийство хозяина, в его семье осталось пятеро детей. Тэкля пожалела вдову и предложила отдать в услужение её семилетнего сына Томаша. Всё-таки одним ртом в семье станет меньше.
Вдова не заставила себя долго уговаривать: остаться без мужчины в доме в крестьянской семье с кучей детей на руках — врагу не пожелаешь такого. К тому же она, как и все крепостные крестьяне Костюшко, с уважением относилась к Тэкле, за глаза ругая при жизни её мужа. Маленький Томаш переехал в усадьбу Костюшко и довольно быстро свыкся со своим новым местом жительства. Тем более, что все относились к мальчишке с пониманием, работой по дому сильно не загружали и отцом, который поднял руку на хозяина, не попрекали.
Особенно маленький Томаш привязался к Тадеушу и всегда с радостью выполнял его мелкие поручения. Тадеуш тоже с симпатией относился к этому смышлёному мальчишке и в свободное от работы по дому время учил того грамоте, с удивлением наблюдая, как быстро ученик начинает читать свои первые предложения.
Вот и сегодня Томаш увязался за Тадеушем и сейчас нёс за плечами двух куропаток, которые попали в силки, ловко им расставленные недалеко от их гнезда. Выйдя из лесной чащи на просёлочную дорогу, они увидели приближающуюся карету, которую сопровождали несколько верховых гайдуков. В карете сидела женщина лет 30, а рядом с ней — две девочки лет 10—12, одетые в нарядные светлые платья. Все трое держали в руках небольшие зонтики с кружевами. Эти чудные предметы роскоши, которые польские аристократки недавно стали приобретать во Франции, защищали их головы и нежную белую кожу от жарких солнечных лучей.
Тадеуш узнал карету с гербом и догадался, кто в ней едет: карета принадлежала Юзефу Сосновскому, а женщина и девочки, вероятнее всего, были его женой и дочерьми. Карета поравнялась на мгновение с Тадеушем, и все сидящие в ней обернулись к юноше, застывшему как изваяние перед увиденной им картиной. Женщина была удивительно красива. Тадеуш успел разглядеть её в течение тех мгновений, когда карета проезжала мимо него. Когда же карета отдалилась от молодого человека, он тряхнул своей лохматой головой с застрявшими в его полосах сосновыми иголками, кивнул Томашу и быстрым шагом поспешил с ним домой.
Уже прошло почти семь лет с того времени, как Тадеуш с Иосифом вернулись из школы в Любешове. С тех пор они полностью посвящали свои будни домашним заботам. А их было столько, что молодым парням просто не хватало дневного времени, чтобы сделать всё, что они планировали с вечера. Материальное положение их поместья ещё больше ухудшилось, а Тэкля не смогла заменить своего покойного мужа. Ей было тяжело справляться со всеми обязанностями хозяйки поместья, и она постепенно передала сыновьям в руки всю заботу о хозяйстве, помогая им, чем могла.
За эти годы Тадеуш вырос, возмужал, стал красивым и стройным девятнадцатилетним парнем. Он не раз ловил на себе внимательные взгляды молодых девушек, когда ему приходилось бывать в Сехновичах или в поле во время жатвы. Когда же он замечал, как смотрят на него стеснительно девушки или прямым оценивающим взглядом женщины, Тадеуш начинал краснеть и отворачиваться в другую сторону, чтобы они не видели его пылающего юношеского лица и красных ушей.
Его родные сёстры вышли замуж за местных шляхтичей. Они были счастливы уехать из дому, где командовал и заправлял всем хозяйством Иосиф. Он по праву мужчины и старшего брата принял на себя всю ответственность за судьбу поместья. Тадеуш же исполнял все его указания, не споря с ним и понимая, что в доме должен быть один хозяин, чтобы вести все дела, как это делал когда-то отец. Иосиф был похож на отца не только внешне: походка, манера разговаривать и давать указания тоном, который не оставлял даже желания сказать что-либо против, — во всём старший сын напоминал покойного Людвига Костюшко.
Когда солнце стояло уже в зените, Тадеуш подошёл к крыльцу дома и встретил пожилую кухарку, которая отвечала и за все дела в доме.
— Вот, Софья, вся наша добыча за день, — сказал Тадеуш кухарке, снимая с плеча Томаша и передавая в её полные руки двух куропаток для решения их дальнейшей судьбы.
Софья приняла куропаток, подняв их вверх перед глазами, осмотрела и вынесла свой приговор:
— Не очень, конечно, но хороший суп из них на обед я успею приготовить.
Довольно быстро для своего возраста и комплекции кухарка развернулась и пошла на кухню готовить обед, а Тадеуш, ладонью ударив по входной двери, открыл её и вошёл в полумрак дома. В одной из комнат он увидел Иосифа, который сидел за столом, хмуро уставившись в хозяйственную книгу, в которой он делал только ему понятные расчёты и записи.
Кивнув вошедшему в комнату брату, Иосиф с иронией спросил:
— Ну, добытчик, много принёс дичи? Оставил хоть что-нибудь в лесу для развода?
— Да особенно хвастаться нечем, но на обед нам хватит, — в тон ему ответил Тадеуш. — А что у тебя случилось: вид у тебя такой, словно сегодня тебе сообщили самую плохую новость в жизни?
Иосиф нервно вскочил с места, отшвырнув в сторону стул.
— А ты как будто не знаешь, что поместье заложено за 20 000 злотых, а мы не можем в срок рассчитаться с этим долгом. Мы на грани разорения. А может, — продолжил он с сарказмом, — у тебя, такого умного, есть какие-нибудь предложения, пак нам выпутаться из этой ситуации?
— Что ты мне ставишь это в укор? Я чем могу, тем тебе и помогаю по хозяйству. Ты же старший брат и всё взял в свои руки после смерти отца! — Тадеуш заговорил с братом, постепенно повышая голос. Ему очень не нравилось, когда Иосиф в таком тоне, подобно отцу, начинал разговаривать с ним или с кем-нибудь из слуг. И теперь Тадеуш проявил характер и дал понять Иосифу, что тот не прав.
Иосиф, почувствовав в интонации брата противостояние, махнул обречённо рукой:
— Да уж, на твою помощь мне рассчитывать нечего.
Тадеуш отвернулся от Иосифа и подошёл к окну. Осматривая двор, он вдруг вспомнил недавнюю встречу в лесу.
— Когда я возвращался сегодня домой, то встретил по дороге карету Юзефа Сосновского с его женой и дочками, — сказал Тадеуш тихо, как будто про себя. — Я слышал, что Юзеф Сосновский в большом почёте и служит при дворе короля у канцлера Михаила Чарторыского. А ведь наш покойный отец дружил с ним в молодости, — продолжил он свои размышления, уже повернувшись лицом к брату.
Иосиф непонимающе уставился на Тадеуша.
— А какой нам прок от их прежней дружбы? Может быть, ты предлагаешь пойти на поклон к нему, попросить, чтобы выручил детей друга в тяжёлое для них время? — Иосиф засмеялся тому, что он же только что произнёс.
Тадеуша осенила какая-то мысль, и он поближе подошёл к Иосифу. В волнении от того, что эта идея не пришла ему в голову раньше, он пояснил брату:
— Ну, не скажи: я слышал, что Юзефу Сосновскому предложили должность воеводы. А кое-кто поговаривает, что именно он станет гетманом Великого княжества Литовского. Как ты думаешь, составит ли пан Сосновский мне протекцию в Варшаве?
Тесно мне здесь, Иосиф, учиться хочу в Вильно или Варшаве... или на службу устроиться куда-нибудь.
Иосиф задумался о том, что только что сказал ему младший брат. Он тоже начал вспоминать, что имя Юзефа Сосновского часто произносилось в семье Костюшко в разговоре родителей, и всегда о нём говорили только хорошее.
— Ты думаешь, он вспомнит тебя или меня после стольких лет? А впрочем, почему и нет? Ты, в отличие от меня, не склонен к тихой сельской жизни. — Иосиф внимательно посмотрел на Тадеуша и прямо спросил его: — Когда думаешь ехать в Варшаву? Ведь Юзеф Сосновский, насколько я знаю, там в сейме заседает?
— Да завтра же и поеду, а чего ждать? Прикажу конюху приготовить коня и всё, что надо в дорогу. Если ты дашь мне немного денег, то коня, когда доберусь до Варшавы, продам. На первое время денег хватит. Пусть это и будет моя доля в наследстве, — Тадеуш говорил быстро, будто боялся, что брат передумает и не разрешит ему оставить родительский дом.
Но Иосиф и не думал об этом. Наоборот, отъезд брата в Варшаву его вполне устраивал. «Если Тадеушу удастся устроить свою личную жизнь в Варшаве, то он наверняка уже больше не вернётся в Сехновичи, и я останусь одним хозяином в поместье. А если бы Юзеф Сосновский помог ещё и с деньгами... Пусть едет, ведь действительно парень он умный, способный к наукам», — подумал Иосиф и согласно кивнул:
— Сам сказал, я тебя за язык не тянул. Езжай завтра в Варшаву. Только матери сообщи.
Но Тэкля слышала весь разговор сыновей, находясь в соседней комнате. Поздно вечером она позвала Тадеуша и вручила ему письмо для Сосновского. В письме Тэкля просила в память о покойном муже помочь сыну, устроить Тадеуша на службу и быть ему покровителем в этом сложном мире.
На следующий день рано утром крестьяне деревни Сехновичи, вышедшие отрабатывать барщину в поле, увидели своего молодого господина верхом на лошади, к седлу которой были подвязаны два баула с вещами и провизией. Тадеуш Костюшко направлялся в Варшаву на встречу со своей судьбой, которую готовила ему жизнь. Какой бурной она будет у него, он даже не догадывался. Да и что мог предположить простой шляхтич, у которого в кармане были только мелкие деньги да старая лошадь, которую в последние годы было жалко запрягать для тяжёлой лошадиной работы.
Правда, была ещё голова на плечах и амбиции, но такого добра на просторах Европы хватало в достаточном количестве. События же, происходившие в это время в Речи Посполитой и в других странах Старого Света, — вот что главным образом предопределило дальнейшую судьбу молодого шляхтича, который сейчас мирно покачивался в седле. Он мечтал лишь о каком-нибудь скромном месте на государственной службе среди чиновников Речи Посполитой или видел себя в рядах солдат её армии. Но какое именно место в истории он займёт в ближайшие десятилетия, Тадеуш не мог предположить.
Именно после смерти русской императрицы Елизаветы Петровны последовали события, которые на протяжении долгих лет потрясали европейские государства. Они-то и оказались судьбоносными в жизни девятнадцатилетнего Тадеуша Костюшко.
VIII

еликий Фридрих II был доволен последними новостями, поступившими к нему из его дипломатического отделения в России. Ещё бы! На российском престоле воцарился молодой император Пётр III, его горячий поклонник, с которым он вёл тайную переписку при жизни Елизаветы даже тогда, года Россия объявила Пруссии войну.
А женой молодого российского императора была воспитанница французской гувернантки Гардель, бывшая принцесса Анхальт-Цербстского дома Софья Августа, ставшая после замужества и принятия православия великой княгиней Екатериной. Это историческое событие, кстати, также произошло не без участия прусского короля. По этой причине Фридрих II был уверен, что великая княгиня русского двора тоже будет поддерживать своего венценосного супруга во всех его начинаниях, и особенно в тех областях европейской политики, где присутствуют интересы Пруссии.
Фридрих II был тонкий политик и умело пользовался обстоятельствами, которые возникали независимо от него или, что случалось довольно часто, при его непосредственном участии. В то же время Фридрих II был прагматиком и реалистом и поэтому не высоко ценил способности своего обожателя императора Петра III, ставшего его союзником после смерти своей тётки Елизаветы Петровны.
Великий Фридрих предполагал, что у его «юного друга» будут определённые трудности в период его царствования ввиду скверного характера молодого российского императора и неопытности в государственных делах. Однако в планы прусского короля никак не входило, что только что вступившего на российский престол Петра III свергнет его собственная жена, которая впоследствии станет именоваться императрицей Екатериной И. Тем более прусский король не предполагал, что эта амбициозная особа станет ярой сторонницей России со всеми её особенностями жизни. После получения сведений о смерти Петра III Фридрих II с горечью сказал графу Сегюру, который возвращался в это время во Францию из Петербурга: «Отсутствие мужества в Петре III погубило его: он позволил свергнуть себя с престола, как ребёнка, которого отсылают спать».
Екатерина II, вступив на российский престол, на долгие 34 года взяла бразды правления огромным государством в свои руки. Она даже и не думала передавать хоть толику власти в этой удивительной стране никому другому, в том числе ни сыну, ни своим фаворитам. В её руках оказалось государство с огромной территорией. Россия в это время представляла собой гремучую смесь, состоявшую из структуры государственного устройства и европейских преобразований, которые остались от Петра I, с одной стороны, и пережитков старого жизненного уклада с сотней народностей, языков и обычаев дикой Азии, с другой. Но больше всего проблем было у молодой императрицы в самом порядке управления государством и отсутствием денег в казне, которая была уже пуста в годы правления Елизаветы Петровны.
«Польский вопрос» также был одним из главных направлений в будущих преобразованиях, которые наметила Екатерина II в самом начале своего царствования. Противостояние различных партий в сейме Речи Посполитой, жалобы православного духовенства на притеснение от католиков, создание конфедераций и узаконенные вооружённые выступления вызывали беспокойство молодой российской императрицы. Она понимала, что король Польши Август III не контролирует ситуацию в стране. Придворной партии короля во главе с министром Брюлем и его зятем Мнишеком противостояла партия князей Чарторыских, оказывающих сильное влияние на сейм и имеющих много своих сторонников. Обе партии понимали, что у Августа III плохое здоровье и что дни его на исходе. Поэтому каждая сторона готовилась к тому моменту, когда надо будет представить своего кандидата на польский престол.
Молодая российская императрица в начале своего правления нуждалась в серьёзной поддержке и помощи. В «польском вопросе» одним из главных её союзником был Фридрих II, с которым она поддерживала «тёплые и доверительные» отношения. Прусский король также устал от войн и нуждался как в деньгах, так и в новых территориях. Поэтому начав переписку со своей ранее опекаемой принцессой, а ныне российской императрицей, Фридрих старался быть с ней «ласковым и добрым дядей», предвкушая наступление того часа, когда Екатерина всё-таки вспомнит его не только добрым словом.
«Вы достигнете своей цели, — писал он Екатерине II, уверяя её в своей поддержке. — Вы посадите на польский престол короля по Вашему желанию и без войны... Крики поляков — пустые звуки... Надобно их усыпить, чтоб они не приняли мер, могущих повредить Вашим намерениям», — давал мудрые советы Фридрих II будущей Екатерине Великой. И она доверительно предупреждала его о своей демонстрации силы, направленной в сторону Полыни: «...Ваше Величество, не удивляйтесь движениям войск на моих границах... Я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно».
Когда же Фридрих II высказался о своей уверенности на мирное избрание Понятовского на польский трон «как на дело решённое», Екатерина от такой любезности с его стороны расчувствовалась и выслала ему в подарок астраханских арбузов.
Россия действовала против брюлевской, или саксонской, партии, противодействуя её стремлению после смерти Августа III короновать его сына, курфюрста Саксонского. Екатерина II была иного мнения по этому вопросу и имела свои планы по кандидатуре будущего короля Польши и великого князя литовского. Сразу же после свержения своего мужа с престола она сообщила о намерениях саксонской партии своему бывшему фавориту Станиславу Понятовскому. При этом Екатерина обещала польскую корону ему либо тому представителю семейства Чарторыских, кого они определят в своём узком кругу (с обязательным согласованием с нею). Проявив свой имперский характер в начале своего правления, она послала приказание российскому послу при польском дворе Кайзерлингу: «...Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кенингсштейн кого-нибудь из друзей России [Екатерина имела в виду Чарторыских], то я населю Сибирь моими врагами и спущу Запорожских казаков».
Одновременно молодая российская императрица в одном из своих писем тому же Кайзерлингу дала следующие указания и инструкции: «В последнем моём письме я приказывала вам удерживать друзей моих [партию Чарторыских] от преждевременной конфедерации; но в то же время дайте им самые положительные удостоверения, что мы их будем поддерживать во всём, что благоразумно, будем поддерживать до самой смерти короля, после которой мы будем действовать, без сомнения, в их пользу».
Чарторыские, получив такую поддержку со стороны России, заняли прочную позицию относительно польского двора. Они рассчитывали при помощи русского войска захватить власть и всё-таки устроить конфедерацию для низвержения Августа III с престола. Однако известие о смерти предпоследнего польского короля, душа которого покинула его тело 5 октября 1763 года в Дрездене, предупредило возникновение новой междоусобной войны в Речи Посполитой.
Опытные в государственных и политических интригах и имеющие
множество сторонников, Чарторыские намеревались завладеть сеймом и, получив поддержку большинства его депутатов, приступить к реформам, которые смогли бы со временем преобразовать Речь Посполитую в экономически развитое европейское государство. А это значило стать политически независимым от своих соседей: Пруссии, Австрии и, главное, России. Но сделать это можно было только в том случае, если бы на королевском троне Польши восседал представитель их фамилии и именно тот, на кого они укажут.
Победив своих внутренних врагов, претендующих на польскую корону (гетмана Бранивицкого и виленского воеводу Радзивилла), Чарторыские уже предвкушали победу на выборах на королевский престол Польши для своего кандидата. По их мнению, на польскую корону могли претендовать князь Август или его сын, генерал подольных земель Адам Чарторыский. И вот здесь-то Чарторыские столкнулись с препятствием, которое они предвидеть не могли. Пруссия и Россия внимательно следили за развитием событий в Речи Посполитой через своих послов Бенуа и Кайзерлинга и на этот счёт также имели свои планы.
В это сложное для принятия верных решений время старый граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
[8] был вызван Екатериной II на аудиенцию. Ей нужен был совет опытного царедворца по «польскому вопросу», по которому она уже советовалась с Никитой Паниным и почти приняла решение. Однако для полной уверенности в правильности выбора кандидата на польский престол Екатерина II хотела узнать мнение бывшего канцлера, который долгое время в годы правления императрицы Елизаветы Петровны возглавлял всю внешнюю политику России.
И вот теперь, стоя перед ней на больных от подагры ногах, ветеран Коллегии по иностранным делам высказывал императрице своё видение развития дальнейших событий в Речи Посполитой:
— Матушка-государыня, вы знаете моё отношение к этому вопросу, — начал издалека хитрый лис, — лишь бы на пользу всё было государству Российскому.
Молодая императрица улыбнулась. Умён и хитёр старик. Об этом предупреждал свою государыню Панин и просил быть осторожным в разговоре с ним. Мало ему было, что Екатерина II возвратила опального Бестужева из ссылки в его деревне со странным названием Горетово, восстановила ему все звания и чины, присвоила чин генерал-фельдмаршала и назначила пенсион в 20 000 рублей! Бестужев настоял, чтобы был издан отдельный Манифест о восстановлении его чести и достоинства, который позднее и был обнародован по всей России. Но звание канцлера вернуть себе уже не мог и активной роли в решении государственных дел не играл. Уважая опыт старого политика и его знания европейской дипломатии, Екатерина II в начале своего правления обращалась за советом к Бестужеву, сама набираясь опыта в общении с ним: «Батюшка Алексей Петрович, прошу приложенные бумаги рассмотреть и мнение Ваше написать», — просила она его, иногда ублажая самолюбие старика.
Вот и сейчас Екатерина взвешивала все «за» и «против»: мнение каждого опытного политика ей было важно.
— И всё-таки вопрос достаточно важный и может иметь серьёзные последствия для всей Европы, — подводила Бестужева к конкретному ответу императрица.
— Полякам для коронации нужен поляк, и подставить свою голову под корону Польши способны два претендента, которые и нам могут быть полезны: Адам Чарторыский или его родственник Станислав Понятовский, — начал обсуждение кандидатур на предстоящую коронацию Бестужев.
— Ну а кому из них вы отдаёте предпочтение? — спросила его «ученица».
— Если королём станет первый, то, будучи финансово независимым от внешних долгов, он со временем захочет проводить самостоятельную политику в Речи Посполитой. Тогда нам сложнее будет как-то влиять на короля и на сейм, где он имеет много сторонников своей фамилии, — высказал своё мнение по первому кандидату Бестужев.
— Ну а Понятовский? Что скажете о нём? — внутренне насторожилась Екатерина II.
— Этот беден и будет постоянно просить то денег, то солдат, на содержание которых у него этих денег нет. Таким образом, Россия сможет не только держать его на «коротком поводке», давая какие-то суммы для поддержания Понятовского на троне, но и регулировать тем самым численность польской армии, — почти закончил своё рассуждение по «польскому вопросу» Алексей Бестужев. — В то же время, — Бестужев сделал паузу, — я бы рекомендовал на польский престол сына Августа III как будущего курфюрста Саксонского...
— И на чём основаны ваши рекомендации? — опять напряглась Екатерина.
— Ещё Пётр Великий с прозорливостью усматривал пользу для России, если польская корона в саксонском дворе останется, — хитро намекнул Бестужев на значимость его предложения, которое могло быть принято во внимание императрицей в память о преобразователе и реформаторе Российского государства.
«Не зря я встретилась с ним, — подумала Екатерина после такой «консультации», — старик знает, что говорит, и смотрит далеко вперёд, не упуская своих выгод даже сейчас». Но вслух она сказала Бестужеву:
— Спасибо, Алексей Петрович. Мы с Паниным примем во внимание ваши доводы и посоветуемся, как нам поступать далее, но главное решение определит Совет.
Бестужев немного поморщился, услышав имя своего ученика, который занимал то место, на которое рассчитывал Бестужев после возвращения из ссылки и своей полной реабилитации. Но его ученик был умён и, главное, моложе Бестужева, а последним качеством тот похвастаться уже давно не мог. Поэтому Никита Панин, а не мудрый и опытный Бестужев стал канцлером и закрыл ему дорогу к вершине карьеры в государстве Российском.
На один из светских приёмов, которые устраивали Чарторыские для своих сторонников, были приглашены послы различных государств, в том числе России и Пруссии. Кайзерлинг и Бенуа с удовольствием приняли данное приглашение, так как это был хороший повод для открытой, а не тайной встречи, чтобы обменяться своими впечатлениями о происходящих событиях в мире. В данном же случае, в приятной обстановке с бокалом вина им представилась возможность выразить друг другу точки зрения своих государей и выработать единую политическую позицию в отношении Речи Посполитой.
— Наступает очень серьёзный момент, когда борьба за польский трон идёт к завершению. Вы не находите, что Чарторыские уже практически празднуют победу?
Этот вопрос от Кайзерлинга прусский посол ждал уже давно. И ответ им был загодя заготовлен и согласован с прусским королём:
— Полностью с вами согласен, — кивал Бенуа. — Получив поддержку большинства на сейме, они уже без особых сложностей продвинут на трон своего ставленника. А получив поддержку короля в своих будущих действиях, они получат неограниченную власть, которую уже частично имеют, устранив своих конкурентов штыками солдат наших же армий.
Кайзерлинг внимательно выслушал долгую речь коллеги и высказал главное, ради чего он завёл этот разговор с прусским послом:
— Императрица России Екатерина желает, чтобы на польском троне сидел поляк, которого она хорошо знает и которому доверяет.
— Вы можете назвать мне это имя. Я думаю, что мнение вашей императрицы полностью совпадает с мнением моего короля, — ответил второй заранее приготовленной фразой Бенуа.
— Литовский стольник Станислав Август Понятовский — вот тот, кто будет угоден на польском троне как моей императрице, так и вашему королю, — высказал наконец русский посол требование Екатерины II.
— Ваша императрица ещё раз демонстрирует свою политическую дальновидность. Скажу больше, король Пруссии уже послал Понятовскому орден Чёрного Орла. А этот орден жалуется только государям. Так что предлагаю выпить за будущего польского короля, от которого мы не будем ждать неприятных для нас неожиданностей, — подвёл итоги переговоров Бенуа.
Оба посла отрепетированно улыбнулись и подняли бокалы с вином, которые им угодливо наполнили стоящие рядом слуги. Как же они ошибались, эти опытные дипломаты и их государи, в своих прогнозах на будущее Речи Посполитой и спокойную службу в этом государстве!
После того, как Кайзерлинг и Бенуа тайно сообщили о волеизъявлении своих монархов Чарторыским, последним пришлось смирить свою гордыню и согласиться с желанием основных игроков на поле европейской политики. Тем более, что императрица России Екатерина II категорически высказалась за избрание королём Польши своего прежнего фаворита, связанного родословной с семейством Чарторыских. А с этим желанием «фамилия» не могла не согласиться.
Наверное, ещё не раз, собираясь на своём семейном «форуме», Чарторыские высказывали сожаление, что путь к короне Польши Станиславу Понятовскому когда-то открыли именно они, несколько лет назад направив в Россию тогда ещё молодого и неопытного аристократа, ставшего за короткое время опытным и осторожным политиком.
Известие об ожидаемой кончине польского короля Августа III всколыхнуло всю Европу. Кто теперь станет королём Польши? Этот вопрос, который волновал монархов всех европейских государств, уже был решён Екатериной II на Совете и согласован с Фридрихом II.
«Не смейтесь мне, — писала российская императрица Панину, — что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля Польского; король Прусский из-за стола вскочил, как услышал». И было из-за чего! Мысль об увеличении своих владений за счёт польских земель никогда не покидала короля Пруссии, а теперь при новом короле Польши эти мечты могли претвориться в реальность. Финансово опустошённый Семилетней войной Фридрих II больше не мог силой оружия прусской армии и своего полководческого таланта решать подобные вопросы на полях сражений. Стареющий, но не теряющий ясности мышления хитрый прусский монарх выбрал единственно правильный для себя путь, направленный на политический союз с Россией в поддержке её кандидата на польский престол. И, как оказалось в дальнейшем, он не проиграл, сделав такой политический реверанс в сторону когда-то враждебной ему России.
А Россия уже подтянула к границе с Речью Посполитой армию в 30 000 солдат и ещё 50 000 держала в полной боевой готовности. Так, на всякий случай.
На элекцию
[9] прибыло около пяти тысяч шляхты (ожидали, конечно, больше). После проведения принятой процедуры избрания депутатов сейм, на котором маршалом был литовский писарь Юзеф Сосновский, признал титул «императрицы всея России». Тогда же сейм определил и срок коронации на день 25 ноября, который совпал с днём именин той же императрицы. И наконец-то, после выполнения обычных в таких торжественных случаях формальностей, 7 сентября 1764 года произошло ЕДИНОГЛАСНОЕ избрание Станислава Августа Понятовского
[10] на польский престол.
После того, как избрание Станислава Августа Понятовского королём и великим князем литовским стало свершившимся историческим фактом, часть депутатов сейма и магнатов, ранее недовольных его кандидатурой, включая и гетмана Броницкого, смирилась с данным событием и перешла на сторону Чарторыских. Однако, будучи в это время за границей, главный оппозиционер Чарторыских виленский воевода Радзивилл продолжал возмущаться вероломством «фамилии» и добивался понимания и помощи европейских дворов. Но европейские дворы приняли выжидательную позицию и почему-то скромно помалкивали.
Вся процедура коронации уже носила чисто формальный характер. Согласно постановлению конвокационного сейма осталось только возложить корону Болеслава Храброго на голову будущего короля, и это действие должно было совершиться в Варшаве. Станислав Понятовский всю процедуру коронации тоже воспринял как простую формальность. Он явился на коронацию не в панцире, как это было принято ранее, и даже не в польском костюме, а в иноземном, старонемецком одеянии. Произошёл конфуз, который усилился ещё и тем, что на голове бывшего литовского стольника, а ныне короля Польши не держалась корона из-за его пышных и густых волос.
— Что будем делать? — спросил при этом в замешательстве Юзеф Сосновский Михаила Чарторыского.
— Что делать, что делать?.. Да подложите в корону ваты и делу конец, — нервно ответил глава «фамилии» литовскому писарю.
Только после того, как подложили вату в корону Болеслава Храброго, процесс возложения короны на голову последнего короля в истории Речи Посполитой продолжился, и коронация получила своё логическое завершение. В этот день сбылись предсказания астролога
[11], про которого сам Станислав Август Понятовский в этот момент даже не вспомнил.
После избрания Станислава Августа Понятовского королём Польши Екатерина II с удовлетворением написала главному российскому куратору международных отношений Никите Панину: «Поздравляю вас с королём, которого мы сделали». И в этом заявлении российская императрица была без лицемерной маски: искренней, циничной и откровенной.
Последний король Польши Станислав Август Понятовский, обладая большими способностями от природы, развил их, получив приличное по тем временам образование. С молодых лет он пребывал при различных королевских особах европейских дворов, а благодаря путешествиям был знаком и поддерживал хорошие отношения с представителями известных всей Европе фамилий. Станислав Понятовский, тогда ещё молодой продолжатель известного старинного рода, изучил в совершенстве светские приличия и получил знания, которые помогли ему не только обрести корону. Долгое время с переменным успехом ему приходилось вертеться между великосветской шляхтой и российской императрицей Екатериной II, проводя политику, направленную на обретение государственной независимости своей страны.
В беседе с оппонентом Станислав Август Понятовский мог убедительно доказать свою правоту, показав здравый смысл действий и намерений. В обществе король был остроумен, представителен, полон обаяния и светского достоинства как наследник древнего шляхетского рода. Этим он покорял людей и подчинял их, вовлекая в свою, только ему известную и понятную политическую игру.
В то же время в решении некоторых государственных и политических вопросов Станислав Август Понятовский был осторожен и не поддавался эмоциям. Он прекрасно сознавал, что получить корону ему помогли, а удержать её на голове — это уже его задача. А сделать это гораздо сложнее: среди его противников всегда были желающие примерить её на себя. Поэтому в некоторых ситуациях королю необходимо было быть особенно предусмотрительным и дальновидным.
Возможно, по этой причине он был даже излишне осторожен и излишне предусмотрителен, а под чьим-то отрицательным или положительным воздействием у него быстро менялось настроение. Также быстро король менял свои решения, склоняясь перед чьей-то волей, которая была более сильной, чем у него. Довольно часто Станислав Август Понятовский без особого сопротивления принимал и чужие условия, хотя такое поведение можно было расценить как лишь временное отступление от своих целей под воздействием каких-то вновь возникших обстоятельств или как дипломатический ход, который необходимо было сделать именно в этот исторический момент. Будучи королём около тридцати лет, он всё время находился между двумя жерновами: российской империей в лице Екатерины II, «сделавшей» его королём, и оппозицией, жаждавшей его свержения. Но и российская императрица могла «изъять» у Понятовского корону, если бы он не был послушным орудием в её руках.
При этом Станислав Понятовский любыми путями пытался сделать Речь Посполитую самостоятельным и независимым государством и был готов согласиться даже на ограничение своей королевской власти ради достижения этой цели. А для этого необходимо было принять конституцию и установить форму государственного правления в виде конституционной монархии. Но главным препятствием в развитии страны оставалось Liberum veto, закон, благодаря которому вольнолюбивая шляхта превращала сейм в собрание анархистов.
Последний в истории Речи Посполитой король избрал путь выжидания. Такая политическая стратегия была вынужденной, но не пассивной. Он подбирал» нужных ему людей, определял своих сторонников на государственные должности, помогал им получить место депутата в сейме, добивался от того же сейма выделения денег на экономическое развитие страны и готовил кадры для новой армии Речи Посполитой. Эта армия рано или поздно должна будет противостоять тем силам, которым не понравится тот факт, что государство, королём которого был Станислав Август Понятовский, станет самостоятельным, сильным и, следовательно, независимым.
IX

о прибытии в Варшаву Тадеуш Костюшко в первую ночь остановился на постоялом дворе на окраине города. За ночлег здесь брали немного, да на что ещё он мог рассчитывать при своих-то деньгах.
Рано утром, заплатив хозяину за ночлег и за корм для лошади, Тадеуш направился на ближайший рынок, где, долго не торгуясь, продал свою лошадку какому-то цыгану. Оставшись без лошади только с одним баулом, в котором лежали его вещи, Тадеуш долго бродил по городу, с удивлением наблюдая за его шумной жизнью. Двухэтажные каменные дома казались ему, жителю деревни, монументальными сооружениями, а возле трёхэтажных построек он останавливался на несколько минут, всматриваясь в окна, размышляя о том, каким образом можно выстроить такие здания и сколько нужно для этого денег и людей.
Костюшко удивляло всё в Варшаве: и большое количество добротных каменных домов, карет и людей, суетливо куда-то спешащих, и немалое количество нищих и попрошаек, протягивающих за подаянием свои грязные руки.
«Господи, и где мне среди такого количества народа найти Юзефа Сосновского?!» — думал Тадеуш, глядя вслед очередной карете с гербом какого-то магната в сопровождении нескольких конных польских улан.
Предполагая, что такой человек, как Юзеф Сосновский, должен жить где-то в центре города, Костюшко направился в сторону королевского замка, спрашивая по пути дорогу у прохожих. Ходить пришлось не так долго: дом Юзефа Сосновского ему указал какой-то шляхтич, к которому обратился Тадеуш, когда тот садился в карету.
Наконец Тадеуш добрался до цели и молоточком ударил в ворота, извещая служку, что к Юзефу Сосновскому прибыл гость, и сразу же за высоким забором громко залаяла собака. Служка немедленно открыл смотровое окошко, как будто сидел и ждал этого стука.
— Что пан желает? — спросил служка, внимательно осматривая через маленькое окошко молодого человека в скромной одежде деревенского шляхтича с баулом через плечо.
Тадеуш поставил баул на землю, выпрямил спину и спросил немного охрипшим от волнения голосом:
— Здесь живёт пан Юзеф Сосновский?
— Да, здесь. А что пану надо? — последовал встречный вопрос.
Голос совсем не хотел выполнять свою функцию, и язык от волнения превратился в неповоротливое полено.
— Если пан Юзеф Сосновский дома, то передайте ему, что Тадеуш Бонавентура Костюшко просит принять его, — наконец-то смог проговорить молодой человек.
Служка ещё раз критически осмотрел юношу. Окошко закрылось, и Костюшко услышал удаляющиеся шаги. Прошло несколько минут томительного ожидания, и калитка в воротах отворилась, и какой-то шляхтич лет 35 с саблей на боку предложил Тадеушу следовать за ним. Служка же, поклонившись проходившему мимо него Костюшко, остался на своём месте у ворот.
Тадеуша ввели в просторную комнату на втором этаже дома. Комната представилась Костюшко настолько большой, что её площадь могла сравниться с площадью всего дома Костюшко в Сехновичах. У одной из стен комнаты стоял массивный дубовый шкаф, наполненный книгами в толстых переплётах. Напротив дубового шкафа стоял такой же массивный стол с двумя креслами, между которыми втиснулся небольшой в восточном стиле столик. На нём возвышалась бутылка вина с двумя серебряными кубками, лежала жареная индейка на большом блюде, а на красивой вазе была уложена гора фруктов.
Тадеуш, оробев от окружающей его обстановки, стал искать глазами самого хозяина, плохо представляя, как он вообще выглядит. Внезапно дверь напротив Костюшко отворилась, и быстрым шагом в комнату вошёл среднего роста мужчина с лихо закрученными усами, лет около 45.
— Ну, здравствуй, Тадеуш! — мужчина раскрыл объятия, обхватил Костюшко за плечи и прижал к себе. Потом, оттолкнув его немного от себя, внимательно осмотрел оробевшего от такого приёма молодого человека.
— А ведь похож, чертяка, похож на отца. Я таким его в молодости и помню. Ну, садись, садись, чего стоим, как чужие, — Сосновский (а это был именно он) подтолкнул Тадеуша к креслу и чуть ли не насильно усадил его.
— Здравствуйте, пан Юзеф. А я вот к вам по делу, — еле смог проговорить молодой человек в ответ на слова хозяина дома, достал письмо матери и протянул ему.
Сосновский взял письмо, вскрыл его и бегло почитал. Потом он опять внимательно посмотрел на юношу, затем на лежащий рядом баул с вещами. Сосновский глубоко вздохнул, небрежно махнул рукой, и слуга тут же налил в кубки вина.
— О делах потом. Давай выпьем, помянем твоего отца, царствие ему небесное. Хороший был у меня товарищ в молодости. Жаль, что всё так получилось, — проговорил с грустью Сосновский, поднял кубок, сделал несколько больших глотков и стал закусывать крупным яблоком.
Тадеуш тоже выпил вино и вскоре почувствовал, как в голове немного зашумело. Он быстро стал утолять голод, проглатывая большие куски мяса, не обращая внимания, что сам хозяин дома почти ничего не ест. Пока Тадеуш закусывал, Сосновский, сидя напротив, внимательно всматривался в него. Опытный царедворец, общающийся каждый день со многими людьми, он быстро сообразил по его внешнему виду, что собой представляет этот молодой человек. Перед ним сидел типичный представитель мелкопоместной шляхты, который впервые оказался в большом европейском городе, прибыв сюда из сельской местности.
Внезапно Юзеф Сосновский перестал жевать, задумался на пару секунд и спросил:
— Я так понял, что тебе в чём-то нужна моя помощь?
Тадеуш также перестал жевать, от волнения засопел и произнёс, еле ворочая языком с непережёванной пищей:
— Нужна. Мне бы на службу устроиться к кому-нибудь... — И Костюшко с надеждой посмотрел на своего будущего покровителя. — Или на службу в армию.
— Я слышал, что тебя отец отправлял в школу, что в Любешове? — продолжал выпытывать Сосновский у Костюшко, быстро размышляя, куда бы его пристроить.
— Так, пан Юзеф. Пять лет я проучился там со старшим братом Иосифом, — ответил Тадеуш. Голос его стал более послушным, а тон увереннее.
— И как ты там учился, что изучал, каких успехов достиг в этой школе? — опять задал вопрос Сосновский.
— Да много чего: математику, историю, латинский и французский язык.
Сосновский резко встал, отодвинул кресло и подошёл к книжному шкафу. Постояв минуту возле него, он снял с верхней полки какую-то книгу, поднёс её к Тадеушу, хитро прищурился и предложил:
— Ну-ка прочти первую страницу.
Тадеуш осторожно взял протянутую ему книгу и открыл её. Книга была старая и тяжёлая с текстом на латинском языке. Юноша сразу освоился со шрифтом текста и стал практически без запинки читать, пока Сосновский, с удивлением глядя на него, не остановил чтение:
— Довольно. А я смотрю, ты малый не дурак. Хорошие учителя, видимо, были в Любешове. Так ты говоришь, что и в математике ты разбираешься?
Тадеуш, слегка захмелев от выпитого на голодный желудок вина, искренне возмутился:
— Я был лучшим учеником в классе, пан Юзеф.
Сосновский встал с кресла и, заложив руки за спину, подошёл к окну. О чём-то размышляя, он простоял так пару минут, потом развернулся и сел на своё место.
— Значит так, не пойдёшь ты ни на какую службу, — коротко сказал Сосновский.
Тадеуш сразу протрезвел от неожиданной фразы хозяина и привстал с кресла. Но Сосновский положил ему свою тяжёлую руку на плечо и усадил на место.
— Будешь учиться в Рыцарской школе, — продолжал говорить Сосновский. — Там учатся сейчас дети известнейших в Речи Посполитой фамилий.
Тадеуш снова обрёл дар речи.
— Да как же я туда попаду?
— А это уже не твоя забота, — ответил ему литовский магнат. — Януш! — позвал он слугу, который привёл к нему Тадеуша. — Возьми этого молодца и отведи его переодеться. Завтра мы поедем на приём к начальнику школы. А это и это, — Сосновский показал рукой на лежащий на полу баул и на одежду, в которую был одет Тадеуш, — отдай слугам на кухню. Они пусть решат сами, что с этим делать.
На этом аудиенция у Юзефа Сосновского была закончена. Тадеуш, ещё плохо соображающий, что здесь только что решилась его судьба, взял под мышки свой баул и послушно пошёл за Янушем.
После того, как 7 ноября 1764 года произошло избрание Понятовского, сейм возложил на него обязанность основать Рыцарскую школу, уважать народные правами привилегии, а также утвердить постановления конвокационного сейма.
По задумкам и по планам короля Станислава Понятовского и других прогрессивных его сторонников выпускники Рыцарской школы должны были посвятить свою жизнь служению Отечеству на военном поприще, занимая офицерские должности в армии Речи Посполитой. Предполагалось, что эти молодые люди, являясь лучшими представителями нового поколения и гордостью нации, смогут слупить не только в армии. Государственный аппарат также нуждался в обновлении, а выпускники Рыцарской школы могли бы с честью занимать важные государственные должности. Рыцарская школа а Варшаве по своей сути являлась кузницей новых кадров для нового современного по тем временам государства.
По окончании учёбы кадеты должны были получить отменное образование, включая знание нескольких иностранных языков, математики, истории, теологии, физики, государственного устройства различных стран и так далее. Преподавать в Рыцарской школе приглашали лучших педагогов и специалистов не только из Речи Посполитой, но и из других европейских стран.
Именно в эту, только что основанную вновь избранным королём Рыцарскую школу и прибыл Тадеуш Бонавентура Костюшко следующим утром в сопровождении самого Юзефа Сосновского. Будучи приближённым к семье Чарторыских, он без долгих проволочек устроил Костюшко в эту школу, и совершенно новая жизнь в качестве кадета школы для Тадеуша началась.
Костюшко ещё не верил в то, что он так быстро определился с местом в Варшаве. Да ещё с каким! Всё произошло так стремительно, что только утром, проснувшись в хорошо обставленной комнате, Тадеуш начал понимать реальность новой жизни. Ещё два дня назад он был простым сыном обедневшего шляхтича, проживая в деревенском доме за счёт ведения собственного подсобного хозяйства и труда нескольких крепостных крестьянских семей. А сегодня он уже был кадетом Рыцарской школы, а его покровителем стал известный в Речи Посполитой магнат. Он принимал активное участие в работе сейма, был человеком, который каждый день видит короля Польши, занимаясь оформлением различных документов, имеющих государственную значимость. Для Тадеуша Костюшко, провинциального юноши из какой-то деревни, Юзеф Сосновский стал добрым ангелом, который определил для молодого человека его дальнейшую судьбу.
Продолжая лежать в постели, Тадеуш стал вспоминать события вчерашнего дня. Следующим утром, после того как Тадеуш в первый раз переступил порог дома Юзефа Сосновского, будущего кадета приодели в новый костюм и переобули в новые сапоги. После плотного завтрака хозяин дома посадил в карету рядом с собой Костюшко и направился с ним в Казимировский дворец, где размещалась Рыцарская школа
[12]. Переговорив с кем-то за закрытыми массивными дверями одного из многочисленных кабинетов (Тадеуш остался в коридоре, в волнении ожидая решения своей судьбы), Сосновский, широко улыбаясь, вышел через полчаса в сопровождении самого князя Адама Казимира Чарторыского, коменданта этого знаменитого учебного заведения.
— Ну вот и всё. Поздравляю! С сегодняшнего дня ты — кадет этой школы, — громко провозгласил Сосновский и ободряюще хлопнул Тадеуша по плечу. — Быть в её стенах и хорошо учиться — почётная привилегия и обязанность тех, кто попал сюда, — назидательно пояснил он молодому шляхтичу. Потом хитро прищурился и добавил, высоко подняв указательный палец куда-то вверх: — А попасть учиться в эту школу желали бы многие.
— Не знаю, как и благодарить вас, пан Юзеф, — начал было свою речь Костюшко, но Сосновский не дал ему возможности говорить дальше, а обратился к коменданту школы:
— Ну так я оставляю вам этого молодого человека, — просящим тоном обратился он к родственнику короля. — Надеюсь, что он здесь быстро освоится и в будущем станет достойным кадетом и офицером, — Сосновский внимательно посмотрел на своего протеже. — Даже несмотря на то, что юноша, ваша светлость, приехал в Варшаву впервые.
Князь всё понимал и кивал головой в знак согласия, одновременно критически рассматривая Костюшко с ног до головы. Он не мог отказать начальнику штаба литовского войска
[13] и прекрасно понимал, что этот шляхтёнок никогда бы не попал сюда просто по одному своему желанию. Но раз Юзеф Сосновский ручается, что из-за этого юноши не будет проблем... Кроме всего прочего, если он уже имеет определённый уровень знаний и подготовки, то почему бы не зачислить этого молодого человека в кадеты. Ну а смогут ли ходить по одним коридорам и учиться в одном классе сын известного магната Казимир Сапега и этот Костюшко, время покажет.
Сосновский откланялся на прощание Адаму Казимиру Чарторыскому, потрепал по плечу Тадеуша и пошёл стремительным шагом по гулкому коридору вечно спешащего по государственным делам человека.
В тот же день Тадеуша Костюшко определили в класс, где он будет в дальнейшем учиться, и поселили в комнату, где уже жил Иосиф Орловский, один из вновь поступивших кадетов. И теперь Тадеуш смотрел в потолок этой комнаты, и вновь и вновь чувства радости и счастья от всего, что произошло с ним в эти дни, переполняли его разум, который ещё не совсем воспринимал реальность происходящего.
Тадеуш Костюшко быстро привык к своей новой жизни и увлечённо занимался, впитывая новые знания. Он проживал в одной комнате с Иосифом Орловским, с которым в последнее время близко сошёлся, помогая ему решать математические задачи и обсуждая простые житейские вопросы. Иосиф, так же как и Костюшко, не мог похвастаться древностью своего рода или богатым поместьем. Однако его отец долгое время служил у Михаила Чарторыского. Через ходатайство последнего, учитывая заслуги отца за прошлые годы, Иосиф Орловский попал на личное собеседование с начальником Рыцарской школы. После непродолжительной беседы молодой, хоть и не знатный шляхтич был зачислен в списки счастливчиков, перед которыми открывались хорошие перспективы для военной карьеры в армии Речи Посполитой.
Каждый прожитый в Рыцарской школе новый день приносил Костюшко новые впечатления, новые встречи и знакомства, которые не всегда были ему приятны. Конфликтные ситуации всё-таки иногда возникали между кадетами школы. Да иначе и быть не могло: по уставу школы все кадеты были на одинаковом положении. Но молодые горячие головы, разные уровни происхождения и воспитания иногда создавали между молодыми людьми ситуации, когда они готовы были хвататься за сабли и рубиться между собой до смерти на дуэли, защищая свою честь шляхтича. С одной стороны, если бы о такой дуэли узнал начальник привилегированной школы, то оба участника дуэли подлежали бы отчислению. С другой стороны, отказ от дуэли кадеты считали за трусость, и уклонившийся от защиты своей чести мог оказаться в роли презираемого своими бывшими товарищами.
В один из осенних дней Костюшко шёл с Орловским по длинному коридору здания школы, направляясь в библиотеку. Навстречу им двигалась компания кадетов из трёх человек, одним из которых был Казимир Сапега. Проходя мимо Костюшко, Сапега грубо толкнул его, задев плечом.
От неожиданного толчка Костюшко выронил учебник по французскому языку, который нёс в руке, и нагнулся его поднять. Неожиданно над собой он услышал голос Сапеги и слова, от которых кровь прилила к лицу Тадеуша.
— Смотреть надо перед собой, а не в учебник, — тихо прошипел Сапега, но эту фразу услышали не только Костюшко и его друг, но и стоящие рядом с Сапегой кадеты.
Резко выпрямившись и посмотрев на обидчика, Костюшко ответил:
— Если вас устроит, то сегодня вечером на пустыре возле монастыря. Если сможете, то возьмите секундантов.
Это был вызов. Причём Сапега не ожидал такой резкости и прямоты от этого Костюшко, который только пару месяцев назад приехал, по словам секретаря школы, из какой-то провинции.
«Ну что же, проучу шляхтёнка. Пусть будет ему наука на будущее, как связываться с магнатами. Каждый должен знать своё место», — подумал Сапега-младший, но вслух ничего не сказал, а только кивнул Тадеушу в знак согласия.
Вечером того же дня пошёл мелкий осенний, дождь. Костюшко вместе с Иосифом Орловским, набросив на плечи плащи, подходили к назначенному месту, где их уже ожидал Казимир Сапега. Рядом с ним стояли те же два кадета, которые были свидетелями возникшего конфликта. Больше никого вокруг не было видно, что способствовало сохранению тайны о происходящей дуэли от посторонних любопытных глаз, и это было на руку дуэлянтам и их секундантам.
По правилам, установленным самими кадетами Рыцарской школы, поединки подобного рода проходили на шпагах до первой крови. При даже лёгком ранении одного из дерущихся дуэль немедленно прекращалась, и обе стороны считались удовлетворёнными, а честь защищённой. Все участники таких дуэлей понимали, что может произойти если ранение окажется тяжёлым или, не дай Бог смертельным. В лучшем случае последует исключение из Рыцарской школы, в худшем — королевский суд.
Если бы Тадеушу Костюшко пришлось участвовать в подобном поединке ранее, то он наверняка был бы поражён соперником. Но к моменту этой дуэли он шёл на встречу со своим обидчиком более уверенным в своих силах. Кроме плановых занятий по фехтованию на шпагах, которые проводил в Рыцарской школе один из опытных фехтовальщиков Франции, Костюшко брал дополнительные уроки по овладению этим холодным оружием у одного из шляхтичей и за это короткое время сумел добиться неплохих результатов. Этого учителя Тадеушу предоставил по его же пожеланию из своей личной охраны Сосновский. Причём Юзеф Сосновский сделал это с радостью, так как уже в этой просьбе молодого человека он увидел его стремление достичь максимального результата не только в изучении различных предметов и чтении книг.
— Настоящий шляхтич должен быть рыцарем как в душе, так и в своих действиях, — сказал Костюшко его покровитель, когда тот изложил ему свою просьбу.
И теперь Костюшко решительно шёл на встречу со своим обидчиком, хотя внутри всё-таки сидел холодок того страха, который испытывает любой человек, совершающий впервые в своей жизни какой-то значимый поступок: первое свидание и первый поцелуй, первый бой и первая дуэль.
Подойдя поближе к Сапеге и его секундантам, Костюшко кивком головы выразил готовность приступить к дуэли. Оба соперника сбросили плащи, обнажили шпаги и стали в стойку, готовые начать поединок. За это время никто не произнёс ни слова: ни дуэлянты, ни их секунданты. Все находились в ожидании разрешения конфликта.
Сапега первый сделал несколько выпадов, проверяя, насколько Костюшко владеет шпагой. Почувствовав от него уверенный отпор и твёрдость ответного удара клинком, Сапега на мгновение пожалел о том, что стал инициатором поединка. Он хотел публично унизить этого простого шляхтича, который непонятно каким образом оказался среди избранных, и надеялся разделаться с ним у всех на виду быстро и красиво. Но соперник оказался не таким простым, как представлял себе сын магната.
Клинки скрещивались и отскакивали друг от друга, соперники меняли положения, передвигаясь с места на место, иногда спотыкаясь на мокрой траве. В один из таких неприятных моментов Костюшко поскользнулся, потерял равновесие и упал, не выпуская из правой руки шпаги, опершись о землю левой рукой. Сапега не стал использовать удобный для себя момент и благородно подождал, пока Тадеуш поднимется и будет готов вести поединок дальше.
Поднявшись с земли, Костюшко благодарно кивнул Казимиру Сапеге и выразил готовность продолжить поединок. Но продолжение было коротким: в какой-то момент клинок Костюшко скользнул по клинку Сапеги и задел его руку. Рукав поражённого соперника обагрился кровью, и дуэль была мгновенно остановлена. Рана была не опасная, и все присутствующие облегчённо вздохнули.
Перевязав рану и остановив кровь, бывшие соперники вновь подошли друг к другу. Сапега первым протянул Костюшко руку:
— Я полагаю, этот поединок останется для всех в прошлом, — сказал Сапега, огладываясь на своих товарищей. Те с готовностью закивали в ответ. — Ну а тебе вот моя рука как предложение дружбы. Надеюсь, что все обиды забудутся, и моё предложение не останется без ответа.
— Принимаю предложение с радостью, — ответил Костюшко в ответ и пожал протянутую ему руку, глубоко вздохнув с облегчением, и на его лице появилась красивая и искренняя улыбка.
Возвращались бывшие дуэлянты в здание школы порознь, заранее об этом договорившись, чтобы не привлекать внимание служащих и кадетов. Ведь на рукаве у Казимира Сапеги, будущего магистра польских масонов, ещё проступало красное пятно от полученной на дуэли раны.
X

а окном было темно, и до рассвета оставалось ещё много времени, когда Костюшко сбросил с себя одеяло и встал с кровати. Поднявшись с постели, он подошёл к столу, под которым стоял тазик с холодной водой, заранее им поставленный ещё с вечера.
Запалив свечу и присев за столом, Тадеуш поставил ноги в тазик и открыл учебник по французскому языку.
Костюшко, поступив в Рыцарскую школу, в начале учёбы по успеваемости отставал от других кадетов, так как был зачислен в то время, когда занятия уже шли полным ходом. Да и тех знаний, которые получил Тадеуш в школе в Любешове, явно не хватало. Поэтому и приходилось навёрстывать упущенное, изучать материал в дополнительное время, которое он мог выкроить только в такие ранние часы. А чтобы быть бодрым с рассветом и не заснуть над учебниками, Тадеуш ставил ноги в тазик с холодной водой. Так делал шведский король Карл XII, жизнеописание которого Костюшко изучил досконально, часами просиживая в библиотеке.
Для Тадеуша этот король и его судьба стали открытием. Оказывается, бывают и такие короли, которые не только ведут в сражение армии, побеждают своих врагов, но и живут иной, скромной повседневной жизнью, принимая ту пищу, которую едят солдаты его армии, спят на жёсткой постели и встают с рассветом, чтобы успеть за день закончить максимальное количество государственных дел.
Прочитав жизнеописание Карла XII, Костюшко с восторгом рассказывал потом о нём своим товарищам, с которыми сошёлся за время учёбы в Рыцарской школе. За его такие рассказы и пример, которому он следовал, подражая своему кумиру, Тадеуша по-доброму прозвали Шведом, на что он не обижался, а, скорее, гордился этим прозвищем.
Молодой кадет из провинции, который не мог похвастаться древностью рода, выучил почти наизусть Кодекс чести кадетов Рыцарской школы (Prawidla moraine dla szkola rycerskiey), который составил для них сам Адам Казимир Чарторыский. За годы учёбы в этом привилегированном учебном заведении Костюшко, к удовлетворению и гордости Юзефа Сосновского, проявил свои способности в полной мере и по многим предметам стал одним из лучших кадетов. За успехи в учёбе и положение лидера, которое Тадеуш достойно занимал среди своих товарищей, он был замечен и поощрён ещё задолго до окончания школы. Он был назначен на должность подбригадира с окладом в 72 злотых в месяц, а в 1769 году после присвоения ему звания капитана он получал уже 200 злотых в месяц. А в те времена такая сумма считалась хорошим доходом.
Кроме успехов в учёбе, Тадеуш Костюшко уже тогда приобрёл авторитет и среди тех, кто в ближайшем будущем станет элитой армии Речи Посполитой. Казимир Сапега, Иосиф Орловский, Потоцкий и другие кадеты школы, представители известных фамилий, считали Костюшко своим товарищем, а впоследствии, через много лет с гордостью вспоминали и рассказывали своим детям и внукам, что несколько лет учились вместе с ним.
Однако наступило время, когда на Костюшко обратили внимание не только его преподаватели.
Однажды во время перерыва между занятиями к Костюшко подошёл Казимир Сапега, с которым он поддерживал хорошие, дружеские отношения после злополучной дуэли. Сапега предложил Костюшко встретиться в укромном месте после занятий, пояснив, что разговор предстоит серьёзный и требует особой конфиденциальности.
— Перед тем, как я сообщу тебе то, зачем пригласил на этот разговор, дай мне слово шляхтича, что всё, что ты услышишь сейчас, останется между нами, — начал тихо и загадочно говорить Сапега, когда они с Костюшко уединились после занятий вечером в одном из учебных классов.
— Клянусь честью шляхтича, — ответил товарищу Костюшко, насторожившись от таинственности, с которой начал разговор недавний обидчик и соперник.
— Ты когда-нибудь слышал о неком тайном обществе вольных каменщиков? — задал вопрос Сапега после произнесённой его товарищем клятвы.
Костюшко сразу вспомнил недавний разговор с Иосифом Орловским, когда тот в один из вечеров в их небольшой комнате, где никого, кроме них, не было, почти шёпотом поведал Костюшко о том, что многие известные лица в Речи Посполитой, включая приближённых самого короля, являются членами тайного масонского общества, называя себя вольными каменщиками. При этом около часа они обменивались теми сведениями, которыми владели об этом обществе и целях его деятельности. Слухи о масонах ходили среди кадетов разные, но никто толком о них не знал. Да что могли знать эти юноши, не будучи сами посвящёнными в
члены этой таинственной организации. Но, как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
— Да, слышал, и, наверно, не я один, — ответил Тадеуш, ожидая от Сапеги нового вопроса.
— А что ты слышал о членах этого общества? — задал, как и ожидалось, ещё один вопрос Сапега.
— Да много разных разговоров идёт по школе, — уклончиво начал говорить Тадеуш. — Слышал, что эта организация создана влиятельными в государстве людьми.
— А что ещё? — продолжал допытываться Сапега.
— Ну, слышал, что целью масонских обществ является объединение усилий её членов для оказания помощи нуждающимся и создание нового сообщества людей, занимающихся благотворительной деятельностью. Вот и всё, что я могу тебе сказать.
Костюшко замолчал и внимательно посмотрел на Сапегу. Тот тоже молчал и, в свою очередь, также уставился на Тадеуша.
— А сам я с этими вольными каменщиками не знаком и общаться с ними не приходилось. А почему ты спрашиваешь меня о них, Казимир? — теперь уже Костюшко начал спрашивать у своего товарища. Ведь не просто так, из праздного любопытства, Сапега закрылся с ним в этом классе.
Сапега напустил на себя важный вид, приосанился, выдержал паузу и сказал:
— Тадеуш Бонавентура Костюшко! Я, Казимир Нестор Сапега, уполномочен от имени братьев вольных каменщиков сделать тебе предложение о вступлении в наше братство. Что ты скажешь по этому поводу?
Костюшко задумался. Предложение было неожиданным, и он немного растерялся. Он никак не предполагал, что Казимир Сапега может быть членом этого таинственного общества. Если его отец или кто-то из его родственников-магнатов, то это понятно. Но молодой человек — сын пусть даже известной в Речи Посполитой фамилии.
— Казимир, давай поговорим об этом не так торжественно и проще. Если это шутка, то не очень остроумная, а если ты серьёзно... — Тадеуш посмотрел на Сапегу, сохраняющего на своём лице выражение важности момента. Костюшко понял: это не розыгрыш. Такими вещами Сапега шутить не будет. Мысли проносились в голове у Тадеуша, но он не мог понять, почему именно он получил такое предложение.
«А может, многим кадетам уже это предложили, а кто-то даже вступил в братство? Я же об этом просто ничего не знаю. Наверно, теперь наступил и мой черёд принять решение», — подумал Костюшко и вопросительно посмотрел на товарища.
Казимир Сапега заметил, что Тадеуш в растерянности и не может ему ничего сказать. Он вспомнил себя на его месте, когда год назад получил такое же предложение от одного из братьев, и решил помочь Костюшко принять решение.
— Тадеуш, я уже почти год являюсь членом братства. Поверь, это достойные люди, которые желают только добра и делают многое, чтобы жизнь в нашем отечестве изменилась к лучшему. Наши братья есть не только в Речи Посполитой. Они живут во многих странах по всей Европе. И не только в Европе... — начал свои пояснения Сапега.
— Ну, почему всё-таки я? Почему твои братья обратили внимание на меня, молодого кадета из скромной семьи шляхтича? Я, в отличие от тебя, не могу похвастаться древностью рода. Я не богат и не имею за душой практически ничего? Ты же знаешь меня, Казимир, объясни, — спросил Тадеуш Казимира Сапегу, пытаясь одновременно привести свои мысли в порядок.
— У тебя есть ум, понятие о чести шляхтича, своим старанием в учёбе ты показал своё желание добиться в жизни гораздо большего, чего мог бы себе позволить простой шляхтич. И главное, ты был замечен и отмечен братьями среди многих тебе подобных, — достаточно подробно объяснил причину выбора его товарищ. — А это уже лично твоя заслуга, а не твоей родословной. Теперь тебе понятно, почему я разговариваю сейчас именно с тобой? — спросил Сапега, в упор смотря на Костюшко и следя за его реакцией.
Пока Сапега говорил, мысли в голове у Костюшко пришли в порядок, и он мог сосредоточиться и спокойно анализировать ситуацию. Он понимал серьёзность момента и то, что ответ ему Сапеге всё-таки надо давать.
«Интересно, кто из братьев меня выделил из всех курсантов школы? Кто ещё входит в братство из тех, кого я знаю и кто хорошо знает меня? Юзеф Сосновский? Орловский? Начальник школы? Он недавно долго разговаривал со мной, расспрашивая о моих успехах в учёбе, о моих планах и взаимоотношениях с другими кадетами», — размышлял Костюшко, одновременно обдумывая вариант ответа Сапеге.
— Предложение очень неожиданное, чтобы я дал тебе сразу ответ. Мне надо подумать, — ответил наконец он.
— Я понимаю. Иначе не могло и быть. Я даже рад, что ты не сразу принял решение. Это ещё раз подтверждает твою серьёзность в принятии решений по важным вопросам. Два дня тебе хватит, чтобы дать мне ответ? — Сапега радостно улыбнулся и похлопал дружески товарища по плечу.
— Хватит. Через два дня встретимся в это же время и на этом месте, — предложил Костюшко Сапоге, и тот кивнул в ответ. На этом будущие братья расстались.
Через два дня после уроков по верховой езде и фехтованию они вновь встретились в условленном мосте. Костюшко, к радости Сапеги, согласился стать членом тайного общества, а Сапега в свою очередь коротко объяснил ему процедуру посвящения в братство с пояснением проводимых при этом обрядов и определил время и место их проведения.
В ночь перед посвящением в члены братства мольных каменщиков Костюшко не спалось. Он ещё смутно представлял себя в качестве члена братства, но интуитивно принимал тот их образ жизни, который Тадеуш мог себе представить к тому времени из того, что он знал о масонах.
Масонские союзы возникли в Польше не так давно, во время правления Августа III. И если сначала король лояльно смотрел на данное новое течение общественной жизни Речи Посполитой, то вскоре ему пришлось высказать своё отрицательное мнение к масонам по требованию духовенства, которое осуждало деятельность этих союзов и по-своему подвергало преследованию их членов.
По этой причине общества масонов в Речи Посполитой в начале своего становления развивались слабо. К тому же основателями таких общественных объединений при правлении Августа III были в основном прибывающие в страну иностранцы, которых поддерживало в основном молодое поколение — дети магнатов. Поэтому молодые Огинские и Потоцкие следовали в деятельности по распространению масонства в своей родине тем же иностранным французским и немецким образцам.
Но с момента вступления на престол Станислава Августа Понятовского давление католической церкви на общества вольных каменщиков в Польше ослабло, и их дальнейшее развитие уже продолжилось с участием более широких слоёв польской и литовской шляхты. Вскоре появилось несколько отделов, которые из-за многочисленности членов масонских союзов делились на польский, немецкий и французский
[14]. А общие совместные собрания, которые проводились масонами на территории Речи Посполитой, где они обсуждали наиболее важные свои вопросы, назывались «Великой варшавской ложей».
Среди польских масонских союзов была чётко определена их организационная структура и порядок деятельности, функции и отношения главной варшавской ложи к провинциальным. Устав масонов устанавливал чёткие правила и способы выбора должностных лиц отделов и варшавской ложи, определял их обязанности и обязанности членов организации, а также регламент заседаний.
Во главе польских масонов стоял великий магистр (мастер). В начале этого нового для Польши общественного движения одним из первых этой чести удостоился генерал Андрей Мокроновский. Позднее великими магистрами становились представители известных в Речи Посполитой фамилий. Членами этой тайной организации были многие представители польского королевского двора, включая короля Станислава Августа Понятовского.
Всего этого по молодости лет Костюшко мог и не знать к моменту его посвящения в братство вольных каменщиков. Но он знал главное — масоны своей целью ставят борьбу с предрассудками и искоренение религиозной нетерпимости, открывают приюты для стариков и нищих, организуют другие благотворительные мероприятия. Этого было достаточно, чтобы Тадеуш Костюшко принимал масонов душой и относился к ним с симпатией. Так что предложение молодого Сапеги легло на благодатную почву, и Костюшко духовно уже был вместе с новыми братьями.
Костюшко ввели в большую просторную с высоким потолком комнату кубической формы, напоминающую древнее святилище, в которой находились несколько мужчин, братьев, одетых в белые накидки с капюшонами, в поясах и белых перчатках. На груди у братьев мерцали церемониальные медали, а их лица были прикрыты капюшоном. Вся комната освещалась множеством свечей. У стены напротив входной двери стоял массивный трон, а вдоль стен расположились деревянные скамьи. На стене Костюшко успел заметить изображения символических знаков, напоминающих калейдоскоп символов Древнего Египта, Древнего Израиля, астрономические чертежи и что-то тому подобное.
Посреди квадратной комнаты размещался массивный алтарь чёрного цвета, на котором лежал двуручный меч.
Все присутствующие в комнате стояли, кроме одного, сидящего на троне с высокой спинкой — магистра «Великой варшавской ложи». Костюшко узнал в нём генерала Мокроновского, несмотря на то, что капюшон скрывал частично его лицо (генерал ранее несколько раз посещал Рыцарскую школу и даже читал лекции кадетам). Перед великим магистром стоял небольшой столик, на котором возвышалась украшенная изумрудами золотая чаша, наполненная красным вином.
Всё это бросилось в глаза Костюшко перед тем, как великий магистр поднялся при его приближении к трону. Стоящий рядом с генералом брат передал ему меч, лежащий на алтаре. Костюшко стоял перед алтарём с непокрытой головой в свободной, распахнутой на груди белой рубашке, левая штанина была закатана до колена, правый рукав подвернут до локтя, на шее висела петля — «вервие». Один из братьев, стоящий ближе к Костюшко, подошёл к нему, завязал ему глаза бархатной повязкой и вернулся на своё место.
Костюшко встал перед великим магистром на одно колено. В соответствии с установленным ритуалом тот поочерёдно на каждое плечо Костюшко положил лезвие меча. Тадеуш услышал от магистра вопрос, которого ожидал, и диалог посвящения в братство начался:
— Отвечай, по доброй ли воле и без принуждения становишься ты нашим братом?
— Да.
— Не имеешь ли корыстных или иных нечестивых помыслов, приобретая знания и становясь посвящённым в тайны братства?
— Нет, не имею.
— Тогда принеси обязательство, которое приносит каждый из нас, вступая в братство.
Великий магистр взял чашу с вином и поднёс её Костюшко. Кто-то из братьев развязал ему глаза, и Тадеуш, увидев перед собой чашу, произнёс:
— Пусть это вино станет для меня смертельным ядом, если я когда-нибудь при любых обстоятельствах осознанно нарушу своё обязательство.
Проговорив клятву, Костюшко поднёс ко рту чашу и медленно выпил вино. Перевернув чашу, показывая, что она пуста, под одобрительное кивание братьев Тадеуш протянул её великому магистру.
Великий магистр принял чашу, поставил её на прежнее место и вернулся к трону. Усевшись, он сделал рукой едва уловимый знак, и Костюшко на плечи надели плащ ордена масонов. В тот же миг зазвучала откуда-то из стены органная музыка. Ритуал посвящения в братство был завершён, и Костюшко сопроводили на его место рядом с Казимиром Сапегой, одетым в такой же, как у его друга, плащ с капюшоном.
На следующий день Тадеуш Костюшко и Казимир Сапега шли рядом по коридору школы и о чём-то мирно беседовали между собой. На безымянном пальце правой руки Тадеуша появился перстень со странным изображением, который ему передал Сапега после торжественного посвящения в братство вольных каменщиков. С этого памятного дня перстень станет для Тадеуша талисманом, который он не будет снимать до конца своей жизни.
Никто из преподавателей школы или кадетов, которые видели их в данный момент, не могли даже предположить, что эти двое молодых симпатичных людей ещё вчера вечером стали братьями в тайном обществе вольных каменщиков. Тем более никто из окружающих не мог даже подумать о том, что потомки навечно впишут их имена в историю Речи Посполитой.
XI

ороль Польши сидел за столом и просматривал список офицеров — выпускников Рыцарской школы 1769 года. Отдельным списком были выделены несколько фамилий, отличившихся в учёбе, на которых возлагались особые надежды со стороны государства. Все офицеры из второго списка должны были в ближайшее время отправиться во Францию для дальнейшего прохождения учёбы в престижных военных институтах. При этом финансирование их учёбы должно было осуществляться из казны Речи Посполитой.
— Не много ли офицеров мы собираемся отправить в Париж? — спросил Станислав Август Понятовский стоящего рядом Михаила Чарторыского, который составил и принёс этот список для утверждения королю.
— Это самые лучшие офицеры, за которых нам не будет стыдно в Европе, — ответил искренне Чарторыский.
Он-то прекрасно понимал важность данного события. Первые выпускники Рыцарской школы едут в Париж повышать уровень своих знаний. Четыре года их обучением в Варшаве занимались исключительно светские профессора, в большей части приглашённые из иностранных европейских университетов. И теперь их ожидает почётная миссия представлять в ведущей европейской стране свою родину и показать союзникам, какие достойные офицеры будут служить в армии Речи Посполитой. Чарторыский был уверен в этих молодых людях и в том, что они смогут за границей продемонстрировать свои знания, способности и уровень подготовки. Они были лучшие.
Рыцарская школа являлась детищем не только польского короля Станислава Августа Понятовского, но и князя Михаила Чарторыского. Князь лично составил для своих воспитанников «Кадетский катехизис», в дальнейшем ставший прообразом нравственной науки, которую обязали изучать в польских школах и университетах вместо Закона Божия. В этот труд были включены положения о нравственности, основанной не на религиозном догматизме, а на чувстве чести и достоинства, на обязательствах гражданина перед своим Отечеством.
Эта наука должна была побуждать человека к совершению добрых поступков. Причём они должны совершаться им не из корыстных ожиданий награды за добрые дела в земной жизни и не перед страхом наказания в будущей, после смерти. Совершенствование человека как личности, познание добра и зла через добродетель и пороки — вот основная идея нравственной науки, которая получила своё развитие через «Кадетский катехизис».
Понимая важность естественных наук, Михаил Чарторыский выписал из-за границы и разместил и здании Рыцарской школы машину, которая во время работы представляла траекторию движения небесных тел в соответствии с учением Коперника. И тогда будущие офицеры смогли увидеть, как велик окружающий их мир, и представить, к своему огорчению, как малы они по сравнению с ним. При участии этого государственного деятеля и по его инициативе вышли в свет ряд школьных учебников но истории, географии, грамматике, латинскому языку и другим предметам, которые преподавали в Рыцарской школе и в общеобразовательных замещениях Речи Посполитой.
Поэтому Михаил Чарторыский, стоя перед королём, как бы давал отчёт за проделанную им работу за последние пять лет. Именно с того момента, когда сейм обязал вновь избранного короля основать Рыцарскую школу, князь активно совмещал должность литовского канцлера и куратора этой школы. Результаты такой деятельности были налицо: канцлеру было чем гордиться.
— Надеюсь на ваш опыт и дальновидность и на то, что в этом списке достойные юноши. Я попрошу вас лично встретиться с каждым из них в отдельности и поговорить об их будущем, — попросил Чарторыского король.
Эта просьба была чистой формальностью. Король не знал, что Михаил Чарторыский уже провёл такое собеседование с выпускниками школы из второго списка и только после этого окончательно убедился в правильности своего выбора. Список офицеров, первых лучших выпускников Рыцарской школы, которым предстояло в ближайшее время прибыть во Францию для дальнейшей учёбы в военной академии, был полный и окончательный. И среди прочих в этом списке стояли фамилии Тадеуша Костюшко и Иосифа Орловского.
— И ещё, — Станислав Понятовский на секунду задумался, — пусть разумно расходуют те средства, которые казна им выделяет для учёбы за границей. Всё-таки я их понимаю: оказаться в Париже в их возрасте... Слишком много соблазнов, слишком много, — сказал король, вспоминая свои молодые годы. Взяв перо и обмакнув его в чернила, он решительно поставил подпись на бумаге, утверждая тем самым своё решение.
В честь окончания Рыцарской школы и присвоения офицерских званий её первым выпускникам в Варшаве в самом здании школы был устроен бал. На это торжественное мероприятие собрались представители известнейших фамилий со всей Речи Посполитой: Сапеги, Огинские, Потоцкие, Любомирские и, конечно же, Чарторыские. Станислав Август Понятовский собирался также принять участие в этом торжестве, и все ожидали в ближайшее время его прибытия. Но короля так и не дождались. Вместо него прибыл Михаил Чарторыский и дал указание начать торжественный вечер без коронованной особы.
Бывшие кадеты, а ныне офицеры армии Речи Посполитой исполнили «Гимн любви к Родине»
[15]. К пению гимна присоединились все, кто присутствовал в зале:
— Святая любовь к дорогому Отечеству,
Ты свойственна лишь благородным умам... —
неслись ввысь слова, наполнявшие душу гордостью за свою Родину. То ли от избытка чувств, то ли от воспоминаний давно прошедшей молодости кто-то из пожилых офицеров смахивал невольно набежавшую слезу. Молодые паненки восторженно смотрели на выпускников школы, а их матери держали под руку своих мужей, гордясь такими защитниками.
В торжественной обстановке начальник Рыцарской школы зачитал список выпускников, которым были присвоены офицерские звания и чины, а Михаил Чарторыский произнёс речь. Он поздравил бывших кадетов с блестящими результатами и выразил надежду, что все выпускники с честью выполнят свой долг перед Родиной, будут её защитниками и гордостью нации.
На этом торжественная часть была закончена. Музыканты заиграли, и шляхта начала веселиться и танцевать. В зале было душно от летнего тёплого вечера, от множества горящих свечей, освещающих овальный зал, и от большого количества разгорячённых танцами людей. Но несмотря на это, музыка не прерывалась, партнёры меняли партнёрш, и слуги не успевали подносить прохладительные напитки и вино отдыхающим после очередного танца господам.
Жены магнатов, которые прибыли на бал со своими мужьями и дочками, с нескрываемым интересом высматривали среди танцующих молодых людей достойную партию для своих чад. Выбрав взглядом кого-то из бывших кадетов, кто им больше всего понравился, они приставали с расспросами к своим мужьям по поводу того или иного офицера. Если же те не могли ничего пояснить своим жёнам, то в свою очередь, по настойчивому требованию тех же жён, пробовали собрать нужную для них информацию у кого-нибудь из знакомых или преподавателей, которые присутствовали здесь же на балу.
Два молодых и симпатичных офицера в капитанском звании стояли у колонны и наблюдали за общим весельем, спокойно беседуя между собой. Они обсуждали предстоящую поездку в Париж и с нетерпением ждали того момента, когда придёт ответ из Франции на запрос военного ведомства Речи Посполитой по поводу их учёбы.
На них иногда обращали внимание молодые паненки, бросая в их сторону застенчивые взгляды, полные ожидания, что эти молодые люди вдруг заметят их, таких красивых и «одиноких», и пригласят на очередной танец. Но их мамки, уточнив у своих мужей и светских подруг происхождение этих офицеров, дёргали своих дочерей за рукав, обращая их внимание на более достойных кандидатов.
Тадеуш Костюшко и Иосиф Орловский никого не приглашали на танцы, увлёкшись беседой, но сразу прервали разговор, когда кто-то из присутствующих сообщил, что на бал прибыл король Польши Станислав Август Понятовский. Через минуту прекратила играть музыка, танцующие пары разошлись по своим местам, и в зал вошёл король в сопровождении Михаила Чарторыского. Они двигались через весь зал. Король, кивком головы отвечая на приветствия своих подданных, прошёл в соседнее помещение и скрылся от любопытных глаз вместе с сопровождающим его канцлером.
«Королю сейчас не до балов», — подумал Костюшко. Получая знания в Рыцарской школе, Костюшко постепенно начал понимать и ту непростую политическую ситуацию, которая сложилась и государстве. Он уже не был обыкновенным деревенским парнем, пусть даже шляхтичем, проживающим свою жизнь в деревенской глуши вдали от событий, которые происходили на его родине. Наоборот, попав в Варшаву, где вся политическая жизнь бурно обсуждалась не только на сеймах, но и во всём столичном обществе, кадеты Рыцарской школы не могли быть вне этих процессов.
Музыка вновь заиграла, и кавалеры опять направились по заранее намеченному маршруту приглашать на очередной танец дам. Веселье продолжалось, но Костюшко что-то было не радостно.
— Да, не очень удобное время для наших зарубежных вояжей, — как бы продолжил вслух его мысли Орловский.
Костюшко посмотрел на товарища и сказал:
— А ты можешь отказаться от поездки в Париж. Предложи канцлеру послать вместо тебя кого-нибудь другого, более достойного.
Костюшко, заметив в глазах товарища замешательство от неожиданного предложения, обаятельно улыбнулся и успокоил друга:
— Да пошутил я. Просто у нас с тобой одни мысли. Пока мы будем учиться в военной академии в далёком Париже, здесь могут грянуть события, в которых мы не сможем принять участие. И с этим надо смириться.
— Но вернувшись на родину через несколько лет, мы сможем занять достойное место, — Орловский бодро и с каким-то искусственным весельем продолжил тему разговора.
— Вот это и успокаивает меня. Раз нас направляют во Францию, значит им (Тадеуш кивнул в сторону только что скрывшихся за дверью короля и канцлера) виднее. А пока иди пригласи какую-нибудь панёнку на танец. Смотри, сколько их глядят на нас своими красивыми глазами.
Орловский не стал себя долго упрашивать и лёгкой быстрой походкой направился к одной из стоящих в ожидании паненок, которую выбрал себе для танца ещё во время разговора с другом. А Костюшко остался стоять у колонны, продолжая свои размышления о событиях, которые происходили в эти годы в Речи Посполитой.
Прошедшие четыре года с момента избрания королём Станислава Августа Понятовского были, пожалуй, наиболее сложные в его жизни. Получив в правление Речь Посполитую благодаря требованию российского двора и лично императрицы Екатерины II, король получил дополнительно ещё и всю старую систему государственного управления и сейм Речи Посполитой, в котором постоянно между его депутатами велась внутриполитическая борьба за власть, за влияние на короля, за сближение с Россией или против неё.
Россия через своего посла тридцатилетнего Николая Репнина, который заменил предшественника, умершего Кайзерлинга, всячески старалась воздействовать на политику Речи Посполитой и на короля, который по желанию русской императрицы должен был стать послушным исполнителем её ноли. Вследствие этого часто решения по важным государственным вопросам король принимал под давлением России, которая диктовала ему условия через своих дипломатов-политиков. А генерал-майор Репнин был одной из ярких политических фигур, представлявшей интересы России в Речи Посполитой, и службу свою нёс умело.
Россия могла позволить себе повелевать по двум причинам: первая — русские военные гарнизоны размещались по всей территории Речи Посполитой, вторая — православная церковь имела свои интересы на данной территории. И хотя церковь открыто не вмешивалась в государственные дела, король не мог не считаться со всеми религиозными направлениями, которые существовали в его стране.
Николай Репнин состоял в родстве по линии жены с главой дипломатической канцелярии российского императорского двора Никитой Паниным. После смерти в сентябре 1764 года Кайзерлинга (Репнин был в это время его помощником) молодой генерал быстро вошёл в курс всех дел своего предшественника, касающихся отношений России и Речи Посполитой. Пользуясь поддержкой короля, который только что получил корону благодаря вмешательству российской императрицы Екатерины II. используя деньги, интриги, а порой и угрозы, он часто добивался своих целей, а точнее выполнял задания и указания российского двора.
Чтобы внести очередной раскол в деятельность депутатов сейма и не допустить их единства, Екатерина II через Репнина поднимала для рассмотрения те спорные вопросы, при решении которых просто не могло быть общего согласия. Уж слишком разное среди депутатов было к ним отношение. На этих различиях в умах избранных слуг народа Речи Посполитой умело разыгрывала свою политическую игру российская дипломатия.
Одним из таких камней преткновения стал вопрос о диссидентах. Он неоднократно поднимался на сейме, когда надо было укротить тех или иных политиков, которые в своей деятельности хотели добиться самостоятельности и независимости. Чарторыские, владея огромным богатством и властью, имели много сторонников и существенно влияли на политическую жизнь Речи Посполитой. Кроме этого, их какое-то время поддерживала Россия, которая держала всю деятельность сейма под контролем. Через дипломатический корпус Россия постоянно вмешивалась в его работу, если видела угрозу своим интересам. А русские войска, расположенные в разных регионах страны, могли в любой момент «выступить в защиту нарушенных прав для восстановления порядка и закона». Для этого нужно было только создать определённые условия и ситуацию.
Но пришло время, когда Чарторыские добились такой власти и силы, что пожелали отказаться от помощи России и от её влияния. Российский двор уловил этот момент и понял, что такая расстановка сил в Речи Посполитой ему не выгодна. И тогда русская императрица сделала ставку на короля и его сторонников, которые на сейме вступали в политические дебаты с партией Чарторыских, часто просто ничем не заканчивающиеся.
Для создания внутриполитической неразберихи на сейме самое активное участие принимал Николай Репнин. Ловкий и хитрый дипломат, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, умело вбивал клин между партиями сейма, сторонниками и противниками короля. Такая политика русской дипломатии не давала возможности противостоящим сторонам прийти к какому-нибудь соглашению, что было выгодно России.
Станислав Август Понятовский против своего желания вынужден был поддерживать Репнина в его действиях, подтверждая свою благодарность и преданность российскому двору. Он хотел сохранить корону на своей голове и опасался создания конфедерации. Кроме этого, король постоянно нуждался в русских деньгах, которые периодически получал по указанию Екатерины II. В то же время он с большим удовольствием вступил бы в переговоры с Чарторыскими, и, весьма вероятно, обе стороны пришли бы к соглашению (цели короля и «семьи» всё-таки были одни), но совершить подобное он пока не решался. Ещё не пришло время.
Так, на осеннем 1766 года сейме при рассмотрении диссидентского вопроса Репнин открыто заявлял, что в Польшу войдёт 40 000 русских войск, если сейм не удовлетворит желания Екатерины II. Хотя это и был чисто политический ход, но одно только это заявление вызвало бурю протестов среди оппозиции и негодование шляхетских масс.
Такая реакция была направлена против Чарторыских и подрывала их влияние на депутатов. Ведь это они первоначально были сторонниками введения в страну русской армии. С другой стороны, в сознании депутатов сейма укреплялась мысль о силе и могуществе Российской империи. А открытое выступление против воли российской императрицы могло спровоцировать начало военных действий. Ни король, ни армия Речи Посполитой к этому пока не были готовы. Находясь в разных политических лагерях, король и Чарторыские пытались по-своему реформировать страну, добиться её независимости и единства нации. Но Россию, Пруссию и Австрию сильная и самостоятельная Речь Посполитая никаким образом не устраивала.
Шляхта же являлась непостоянной и необузданной силой. Она склонялась, в зависимости от обстоятельств, то в одну, то в другую сторону. Она могла поддерживать тех же Чарторыских или, наоборот, выступать против них и короля как сторонников России, поднимая вооружённые волнения по всей стране. Главной целью таких вооружённых выступлений была борьба против российского вмешательства в государственные дела Речи Посполитой, а следовательно и против самой России.
Главным инициатором вооружённого восстания против России и идеологом этого движения являлся каменецкий епископ Адам Красиньский. Избегая мести Репнина за свои открытые выступления против российской политики, он сбежал за границу, где вступил в сговор со своим единомышленником Иосифом Пуласким, варецким старостой. Они выработали совместный план действий по созданию конфедерации против короля, тем самым выступили и против России. В соответствии с этим планом Иосиф Пулаский с Михаилом Красиньским, братом каменецкого епископа, отправились во Львов собирать вооружённую шляхту, а его сыновья — Казимир, Франциск и Антон помогали отцу в других регионах страны.
29 февраля 1768 года в небольшой крепости Бар в Брацлавском воеводстве, где собралась вооружённая шляхта на защиту своих прав, свобод и религии, был составлен и подписан акт конфедерации. Фактически с этого момента началась гражданская война на территории Речи Посполитой, которая продолжалась в то время, когда Тадеуш Костюшко стоял в размышлении о событиях последних месяцев, а его бывшие сокурсники в это время танцевали мазурку с молодыми паненками.
Размышления Костюшко прервал знакомый голос Юзефа Сосновского:
— Ты что здесь спрятался? А мы тебя уже обыскались. Ну, здравствуй, Тадеуш. Что стоишь, не танцуешь?
Тадеуш, увидав своего покровителя, встал по стойке «смирно». С Сосновским была красивая женщина, его жена, которую Костюшко сразу вспомнил, хоть видел её только однажды несколько лет назад в лесу, когда возвращался домой с Томашем и двумя куропатками. Как это было давно и в то же время недавно.
— Пока не выбрал, кого пригласить, — ответил в тон Сосновскому Костюшко.
Сосновский с удовольствием представил жене молодого офицера:
— Вот, дорогая, это и есть тот самый сын Людвига Костюшко, которого я рекомендовал в Рыцарскую школу. И он не подвёл меня! Молодец! — Сосновский с гордостью так активно начал расхваливать все достоинства Костюшко, что тому стало неудобно, но он корректно помалкивал и не перебивал.
— Капитан, военный инженер. И теперь его как одного из лучших выпускников Рыцарской школы отправляют во Францию для продолжения учёбы за границей, — закончил свои хвалебные речи Сосновский.
— Ну что же, весьма похвально, молодой человек, — наконец прозвучал мелодичный голос пани Сосновской. — И когда вы собираетесь выехать в Париж? — уточнила она у Тадеуша.
— Немедленно, как только поступит письменное согласие военного министерства о том, что нас готовы принять во Франции, — ответил Костюшко.
Наступила неловкая пауза. Чтобы разрядить обстановку, Костюшко спросил у литовского писаря:
— Разрешите приступить к исполнению своих прямых обязанностей?
Сосновский в недоумении посмотрел на Тадеуша. Тогда Костюшко, улыбаясь, пояснил:
— Разрешите отлучиться и пригласить на танец одну из паненок.
— Конечно, конечно, — засмеялся Сосновский, поняв, о чём идёт речь.
Костюшко, щёлкнув каблуками, кивнул головой, прощаясь с четой Сосновских, и поспешил пригласить на танец симпатичную паненку, на которую уже давно обратил внимание.
— Перспективный молодой человек, — начал было опять говорить Сосновский жене хвалебные речи о Костюшко, но женщина перебила его в самом начале монолога:
— Хорош-то он хорош, но не для наших дочерей. Даже и не думай об этом. Нашим дочерям нужны состоявшиеся, а не перспективные... не эти безродные шляхтюки.
Сосновский ничего не ответил жене, а только покрутил свой длинный ус и кивнул головой в знак согласия. Осмотревшись вокруг и увидев знакомую княгиню Любомирскую с мужем, жена Сосновского подхватила супруга под руку и потянула его в их сторону.
А через несколько дней Тадеуш Костюшко и Иосиф Орловский, получив деньги и подорожную, уже ехали в Париж, пересекая поля и леса родной отчизны, куда они вернутся только через несколько лет. За время их отсутствия на их родине произойдут такие изменения и события, которые коренным образом повлияют на их дальнейшие судьбы.
Примерно в это же время будущий генералиссимус русской армии 39-летний Александр Суворов уже имел чин бригадира. Он командовал бригадой из Смоленского, Суздальского и Нижегородского пехотных полков, которая по распоряжению российской императрицы Екатерины II двигалась по болотистым местам Польши. Главной целью этого военного похода было подавление сопротивления Барской конфедерации. За плечами Суворова уже было участие в нескольких важных сражениях и авторство его первого военного произведения под названием «Полковое учреждение».
Станислав Август Понятовский не мог своими силами справиться с движением конфедератов, которое ширилось по всей территории Речи Посполитой. В это движение вовлекались всё новые и новые вооружённые формирования, а во главе их иногда стояли представители известнейших фамилий государства, которые ранее воздерживались от такого участия в нём или вообще относились к нему равнодушно. Так, зять канцлера Чарторыского Михаил Огинский, великий литовский гетман, возмутившись активным вмешательством России во внутренние дела Речи Посполитой, взялся за оружие, но воевал он не долго, и вскоре был разбит Суворовым в 1771 году под Стволовичами.
Конфедератов активно поддерживала и Франция, направляя на территорию Польши своих офицеров в качестве военных советников. Французские волонтёры становились во главе армии конфедератов и их партизанских отрядов, обучая их правилам ведения войны, и сами принимали в ней активное участие. Вся Речь Посполитая находилась в огне гражданской войны, которая разрушала страну, как тяжёлая болезнь разрушает человеческое тело, подводя его к смерти.
Ввиду сложности возникшей ситуации, опасаясь потерять корону, Станислав Август Понятовский обратился к Екатерине II за помощью. Российская императрица не заставила долго себя упрашивать, и такая помощь была немедленно оказана в виде русских солдат под командованием князя Волконского, который вскоре был заменён бароном Сальдерном. На территорию Речи Посполитой были введены дополнительные воинские формирования русских войск, от которых зависело спокойствие в стране, и в то же время вся страна становилась зависимой от российской политики. Российская императрица никогда и ничего не делала просто так.
В том же 1769 году 15 августа в небольшом доме в городе Аяччо на острове Корсика, где у небольшого причала рыбаки продают только что выловленную рыбу, произошло рядовое событие, которому никто особенно не придал значения. Только местный католический священник в тот день сделал важную для истории запись.
В скромно обставленной комнате мужчина лет 35, одетый в потёртый камзол, нервно ходил из угла в угол, сжав свои ладони и читая молитву. В этой же комнате на лавке сидели четверо маленьких детишек разного возраста от 2 до 10 лет. А в смежной комнате уже около двух часов бабка-повитуха колдовала над роженицей, женой этого мужчины.
И когда наконец-то раздался долгожданный крик младенца, счастливый отец вошёл в спальню, где только что произошло чудо рождения ребёнка. Повитуха передала ему на руки маленькое синюшного цвета тельце малыша, завёрнутого в белую простыню, и скромно отошла в сторону роженицы.
Родившийся только что на свет божий младенец морщил своё личико и смотрел глазками-пуговками на неизвестный ему мир. Он махал своими ручонками и чувствовал, что попал совсем в другую среду, отличную от утробы матери. И наконец поняв, что в этом, совершенно новом для него мире он стал чувствовать себя не так комфортно, как это было несколько минут назад, малыш закричал от возмущения на своём младенческом языке. Родители же только улыбнулись этому крику, который был понятен и привычен каждому из них в этой большой корсиканской семье.
В этот день в дворянской семье небогатого, но многодетного (всего в семье было 8 детей: пять мальчиков и три девочки) адвоката Шарля и Летиции Бонапарте родился будущий полководец и император Франции Наполеон I Бонапарт. Он навсегда войдёт в историю всех стран Европы и многих стран мира. Одни будут его прославлять и боготворить как героя, другие — проклинать и ненавидеть как завоевателя и разжигателя войн, в горниле которых погибнут сотни тысяч людей.
XII

а площади перед собором Парижской Богоматери стояли два молодых человека. Высоко задрав головы, они рассматривали скульптуры святых, установленные на этом дивном архитектурном творении. А вокруг бурлила жизнь большого города, столицы крупнейшего в Европе государства. Здесь же перед величественным собором проезжали кареты, бегали мальчишки, ходили женщины в белых чепчиках, служанки из господских домов выбирали овощи, мясо и вино, чтобы приготовить для своих хозяев завтрак, обед или ужин. В небольшой кузнице молодой кузнец делал мелкий ремонт, раздувая меха, а точильщик на переносном точильном камне точил ножи и топоры всем желающим. Торговцы овощами, мясом и разным бытовым товаром приглашали прохожих подойти именно к их лавке посмотреть лежащий на прилавке товар. Ну а купят у продавца что-либо или нет — это уже зависело от его мастерства и опыта.
— А не вернуться ли нам в гостиницу? — спросил на польском языке один молодой человек другого. — Скоро полдень, а нам надо ещё зайти к секретарю, узнать, когда нас примет министр.
— Посмотри, Иосиф, какая красота, какая архитектура... — ответил другой. — А впрочем, ты прав, пора. Пойдём, а сюда забредём как-нибудь в другой раз.
Костюшко и Орловский (именно они были этими молодыми людьми) быстрым шагом направились в соседнюю улочку, уступая дорогу карете с гербом какого-то французского аристократа. Уже второй день они бродили по Парижу, осматривая город и его здания, восхищались творениями рук человеческих и сравнивали их с аналогичными архитектурными шедеврами Варшавы и Вильно.
Через два дня после приезда в Париж и размещения в гостинице Костюшко, Орловский и другие офицеры, выпускники Варшавской рыцарской школы, прибыли в военное министерство Франции. Здесь каждый из них имел небольшую аудиенцию с военным министром этой страны, в ходе которой задавались похожие вопросы. После приёма у министра они были направлены к его секретарю. Чиновник военного ведомства уточнил предметы, которым приехавшие офицеры-иностранцы хотели бы уделить больше внимания, и новая жизнь для них началась.
Костюшко одним из первых попал на такое собеседование. В приёмной министра кроме него и его друзей толпились какие-то люди и бегали чиновники, таская бумаги с гербовыми печатями. В углу приёмной задумчиво сидели два старых аристократа в напудренных париках. Они опирались подбородками о свои трости с набалдашниками из слоновой кости и как будто всецело погрузились в свои воспоминания далёкой молодости. Казалось, что старики дремали, вспоминая прежние баталии, поражения или победы, в которых они принимали участие.
Тадеуш Костюшко внимательно изучал окружающую его обстановку и иногда бросал взгляд на этих стариков-аристократов, пока он и его товарищи ожидали приёма. Молодой офицер с какой-то жалостью смотрел на них, этих свидетелей былой истории и уходящей эпохи величия и расцвета Франции. Они уже все в прошлом, а у него всё впереди, в будущем, и это будущее казалось ему прекрасным, каковой и должна быть жизнь.
— Тадеуш Бонавентура Костюшко! — громко провозгласил секретарь военного министра, и Тадеуш отвлёкся от своих размышлений. Он поправил на себе камзол, машинально провёл ладонью по волосам и, держа треуголку в левой вытянутой руке, направился к двери. Первое, что бросилось в глаза Костюшко, когда он вошёл в большой овальный зал, было огромное, на всю стену полотно неизвестного ему художника. На нём был изображён эпизод какого-то сражения, на котором конные средневековые рыцари в доспехах поражали своими копьями противников — мавританских всадников. Под картиной за большим столом из тёмного дерева сидел маленький человек, военный министр Франции герцог Эгийон де Ришелье.
— Итак, молодой человек; — обратился к нему скрипящим и неприятным голосом сидящий, оторвавшись от чтения какой-то бумаги, — у вас отличные рекомендации. И чему вы хотите обучаться в Париже и вообще каковы ваши планы на время пребывания во Франции?
— Я бы хотел брать уроки по военной архитектуре, артиллерии и тактике. Меня также интересуют предметы, связанные со строительством мостов, шлюзов и дорог, каналов и плотин, — выпалил в ответ Костюшко и в упор, не моргая, посмотрел на министра.
— Всё это замечательно и похвально. Но я хочу вас предупредить, что вы находитесь во Франции, в её сердце — Париже, — министр внимательно посмотрел на молодого человека, раздумывая, как ему продолжить свою глубокую и важную мысль, — ...в месте, куда, к сожалению, стекаются все вольнодумцы Европы: Монтескьё, Руссо и им подобные.
— Я собираюсь в Париже только учиться, — Костюшко начал понимать, куда клонит этот государственный чиновник.
Военный министр встал из-за своего стола, подошёл к молодому человеку, застывшему как изваяние. Он медленно обошёл его, осматривая с
ног до головы, и, подойдя вплотную к Костюшко, проговорил, почти не разжимая своих губ:
— Ну, тогда желаю вам успеха, молодой человек. Всю информацию о предстоящей учёбе вы будете получать у моего секретаря. Вы свободны.
Костюшко откланялся и развернулся к выходу.
— Но будьте бдительны и осторожны в выборе друзей в Париже, — уже в спину проговорил ему министр, и польский офицер чётким строевым шагом вышел из кабинета.
Костюшко быстро освоился с бурной жизнью большого города. Уже через пару месяцев учёбы в военной академии Франции он свободно гулял с друзьями по Парижу, отвечая улыбкой на игривые и призывные взгляды молодых парижанок. Он не боялся бродить по большому городу и в одиночестве, свободно ориентировался в нём, двигаясь по узким и кривым улочкам. Во время таких прогулок он размышлял о событиях последних дней, о прочитанной им недавно книге Руссо, мечтал о любви и женщине, которая станет матерью его детей (не меньше четырёх!), и о многом другом, о чём может мечтать мужчина в его годы.
Денег на проживание и питание, которые польские офицеры получили из королевской казны, было не так много, чтобы позволять себе излишества. Но, к счастью, у некоторых товарищей Костюшко были богатые родственники. Они периодически баловали своих чад дополнительными денежными суммами, которые шли в общую кассу для организации шумных пирушек. Не редко такие пирушки заканчивались дуэлями с французскими аристократами или офицерами.
Костюшко также принимал активное участие во всех подобных мероприятиях, но отличался спокойствием и рассудительностью даже после того, как выпивал не одну бутылку хорошего бургундского вина. Однако даже при всей своей рассудительности он никому не уступал, если дело касалось его чести, и поэтому не раз принимал участие в дуэлях и как секундант, и как дуэлянт.
По прошествии нескольких месяцев учёбы в Париже Костюшко из-за скудности своего прожиточного бюджета (отъезжая в Париж он получил 213 злотых и ещё 400 ему дал брат Иосиф) не стал завсегдатаем известных столичных салонов. В то лее время его уже узнавали во многих маленьких кофейнях, куда он заходил выпить чашку кофе
[16] и съесть французскую булочку.
Постоянные посетители таких заведений, молодые французские аристократы и офицеры, дружески улыбаясь и поднимая в приветствии свои бокалы, обычно приглашали его за свой столик. Они много говорили о политике, обсуждали деспотическую королевскую власть, критиковали существующую в стране систему правления, открыто высказывали идеи Вольтера, Монтескьё, Руссо... Порой такие дискуссии переходили в серьёзные споры, которые иногда заканчивались очередным вызовом оппонента на дуэль.
Костюшко всё чаще становился не просто слушателем, но и участником подобных дискуссий, политических споров и просто обсуждений работ известных вольнодумцев, кумиров французской молодёжи. При этом он регулярно высказывал своё мнение по какому-нибудь вопросу и давал оценку тем или иным цитатам предвестников Французской революции. Находясь в Париже, Тадеуш в совершенстве овладел французским языком и читал произведения популярных философов в оригинале. Именно здесь, в Париже, среди революционно настроенной молодёжи и офицеров, с которыми Костюшко учился в военной академии, он обрёл новых друзей и проникся республиканскими идеями, которым уже не изменит на протяжении всей своей жизни.
Войдя в небольшое кафе на берегу Сены, Костюшко за одним из столиков заметил группу знакомых офицеров из военной академии. Вместе с ними сидели два аристократа, с которыми он тоже был знаком и даже участвовал в каком-то диспуте о высших идеалах человека. По разгорячённым лицам присутствующих Костюшко догадался, что он опять попал на очередной спор, но его желудок требовал пищи, а мозг отказывался принимать участие в подобном мероприятии, не удовлетворив первого.
За соседним столом также сидели офицеры, это были швейцарские гвардейцы, среди которых Костюшко тоже имел хороших знакомых. Один из швейцарцев, капитан Питер Цельтнер, заметил его и приветливо помахал рукой, приглашая присесть за свой стол. Рядом с Питером уже сидел молодой человек, по виду богатый аристократ.
Все сидящие за столами кивнули Костюшко как старому знакомому, а он не заставил себя долго уговаривать и через пару секунд уже пристроился на стуле между Питером и молодым аристократом, заказывая себе скромный ужин.
— Знакомься, мой младший родной брат Франц, — представил Питер, указывая Костюшко на молодого человека, сидящего рядом с ним. — Кстати, будущий скульптор, берёт уроки в Королевской академии живописи и скульптуры.
Симпатичный, невысокого роста, немного полноватый юноша привстал и поклонился Костюшко. Вежливо откланявшись в ответ и усевшись на своё место, Костюшко поневоле слушал очередную дискуссию за соседним столом, которая была в самом разгаре.
— Ещё старик Вольтер отмечал, что социальное равенство — это и наиболее естественная, и наиболее химерическая идея, — широко размахивая правой рукой продолжал свою речь один из молодых аристократов. — На нашей несчастной планете люди, живущие в обществе, не могут не разделяться на два класса: на богатых, которые распоряжаются, и бедных, которые им служат. Это закон общества и закон любого государства. И я считаю, что это справедливо.
— Ещё бы, — вдруг вставил своё слово с сарказмом Питер Цельтнер, который также прислушивался к разговору, — «самая жестокая тирания — это та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости».
Костюшко, услышав ответ Питера, наморщил лоб. Он уже где-то читал или слышал эту фразу.
— Не декламируйте мне Монтескьё, — парировал первый спорщик, напоминая Костюшко имя известного автора цитаты, которую произнёс только что старший Цельтнер. — Он сам противоречит себе в своих высказываниях о свободе, законах и справедливости. Именно он представляет свободу как право делать всё, что дозволено законами. Кстати, сам же и отмечает, что свобода личности и свобода гражданина не всегда совпадают.
И здесь спокойным голосом вступил в разговор Костюшко, заметив по тону голосов спорщиков, что они не скоро остановятся и, возможно, очень скоро перейдут на взаимные оскорбления. А это уже никак не входило в его планы: он не успел утолить свой голод и не собирался в очередной раз выступать в роли секунданта, лишаясь при этом хорошего ужина среди своих друзей.
— Друзья мои, успокойтесь, — миролюбиво начал говорить Костюшко, и все присутствующие повернули свои головы в его сторону. — Все мы находимся под властью законов, законов Божьих и законов государства. И прислушайтесь к мудрому Руссо: «если Высшее существо не сделало мир лучшим, значит оно не могло сделать его таким». — Костюшко сделал паузу и посмотрел на главного, как ему казалось, спорщика. — «И если общественная польза не сделала правилом нравственную справедливость, она может сделать из закона орудие политического тиранства», как это бывало раньше и что мы имеем сейчас.
Все за столом приумолкли, обдумывая последнюю фразу и размышляя, что можно добавить к сказанному. Но Костюшко не стал ждать продолжение философской беседы, а повернулся к хозяину кафе, который стоял за стойкой в ожидании очередного заказа.
— Хозяин! Подайте бургундского и ещё чего-нибудь поесть, — попросил он.
— И для всех. Плачу за всё я, — вдруг заявил младший Цельтнер к удовольствию всех присутствующих.
На этом все споры по поводу республиканских идей французских философов закончились, и разговоры потекли о последних новостях французского двора.
Ужин прошёл в спокойной и дружеской обстановке. Костюшко поближе познакомился с Францем Цельтнером. Оказалось, что этот молодой человек, решив посвятить свою жизнь созданию великих скульптурных творений, уже полгода проводил все дни в мастерских академии художеств. Но, к сожалению, он не смог найти свою музу в этом направлении и решил вернуться к себе на родину в Швейцарию в Салюрн, где его отец, судя по всему, привлечёт его к торговым делам.
— Он сразу был против моего увлечения, — объяснял Костюшко позицию своего отца Франц. Помолчав немного, он глубоко вздохнул и печально добавил: — А я, глупец, не слушал его. Побывав в Италии и увидев великие творения Микеланджело, я возомнил, что смогу создать хоть что-либо подобное у себя на родине и тем самым увековечу своё имя.
— А я тебе сразу сказал, что отец прав: делом надо заниматься, отцу помогать, — подключился к разговору Питер.
— Да, ты тоже был прав. Если таланта нет, то его в мастерских не вырастишь, — грустно сделал заключение несостоявшийся скульптор.
— Ну наконец-то дошло до тебя, — Питер Цельтнер безобидно улыбнулся широко и нежно, по-родственному обнял младшего брата и предложил: — Езжай домой, Франц, и жди меня. Я закончу свою службу, вернусь в Салюрн генералом, — Питер задумался о чём-то, а потом добавил: — Если не убьют в каком-нибудь историческом сражении.
— Не болтай дурного, — прервал товарища Костюшко. — Вот увидите: всё у вас будет хорошо. Франц будет помогать отцу и станет банкиром, продолжателем дела, а ты вернёшься домой живым и здоровым в генеральских эполетах со славой героических побед твоей армии, командовать которой тебе уготовано судьбой.
— Твои слова да Богу в уши, — довольный таким предсказанием своей судьбы заключил Питер. — Тадеуш, друг! Если тебе понадобится в жизни помощь, ты только скажи. Мы с братом всегда откликнемся.
Питер начал хмелеть от выпитого вина. Он почти ничего не ел, а только раз за разом прикладывался к кружке с бургундским.
— В самом деле, Тадеуш, я присоединяюсь к словам Питера, — поддержал своего брата Франц. В отличие от брата, он почти ничего не пил, но с удовольствием с завидным аппетитом объедал очередную куриную ножку. — И наш отец, и я, и брат — мы всегда будем рады видеть вас в нашем доме. Друг моего брата — мой друг.
У Тадеуша от умиления набежала слеза. Ему приятно было находиться среди таких замечательных людей. Он с сожалением вспомнил своего старшего брата Иосифа: никогда ничего подобного он не говорил своему младшему брату, никогда Тадеуш не слышал от него ласкового слова и слов поддержки родного человека.
«Как хорошо иметь таких друзей! Как здорово, что я встретил их в этой стране», — думал Костюшко, также немного захмелев от выпитого вина.
Выйдя поздно вечером из кофейни, Костюшко с братьями Цельтнер ещё долго бродил вдоль Сены, наслаждаясь тёплым вечером, красотой реки и тем приятным общением друг с другом, когда в разговоре с друзьями всегда чувствуется взаимопонимание и единство взглядов. Все трое надеялись на то, что всё лучшее ещё впереди, что жизнь только напирает свои обороты и преподнесёт ещё всем немало приятных неожиданностей, интересных событий, богатства и славы, красавиц жён и кучу прелестных ребятишек в семье.
Чётко планируя по устоявшейся привычке вечером свой следующий день, Костюшко умудрялся обучаться не только в военной академии Франции. По предложению Франца Цельтнера он начал посещать Королевскую академию живописи и скульптуры, где успевал брать платные уроки по рисованию. Иосиф Орловский, будучи более ограниченным в своих желаниях, не поддержал своего друга в его стремлениях как можно больше увидеть, услышать, познать и научиться, пока они находятся в Париже. Он проще относился к существующей действительности и больше занимался собой и развлекался, насколько позволял ему его бюджет. А позволял он ему значительно больше, чем Костюшко, так как Орловский периодически получал денежные переводы от своего отца, чего не имел Тадеуш. Этот факт также стал ещё одним поводом к тому, что друзья понемногу теряли между собой ту связь равенства и братства, которая существовала между ними в тесной комнате Рыцарской школы.
Когда же Костюшко начал открыто говорить Орловскому о республиканских идеях, высказывать свои предположения о возможных грядущих преобразованиях во Франции и в Европе, то друг его слушал без интереса. Он не поддержал эту тему разговора и только однажды спросил Костюшко, подойдя вплотную к нему и внимательно посмотрев ему в глаза:
— Ты это серьёзно?
— Серьёзней не бывает, — ответил уверенно Костюшко товарищу и по его реакции, выразившейся в скептической улыбке, вдруг понял, что Орловский не разделяет его новое мировоззрение. Более того, он даже не пытается понять Костюшко и разобраться в причинах, которые привели его друга к новым идеалам.
После этого короткого разговора Тадеуш и Иосиф продолжали снимать одну комнату на двоих, ходили вместе на занятия и участвовали в совместных пирушках с друзьями. Однако того чувства молодого братства, откровенности и дружбы между ними уже не было. Что-то невидимое и чужое стало между бывшими неразлучными друзьями, и это изменение и отчуждение в их отношениях было принято обоими по взаимному молчаливому согласию.
XIII

осле того, как Екатерина II приняла решение о введении на территорию Речи Посполитой дополнительных воинских подразделений для подавления движения конфедератов, а Пруссия и Австрия через своих дипломатов поддержали её инициативу, конфедераты попали в сложную ситуацию. Тогда они поменяли тактику ведения войны: для активизации движения и военных действий против русских войск их отряды повсеместно начали применять методы партизанской войны. При этом уже в ближайшие месяцы они добились значительных успехов.
Многие области Речи Посполитой перешли под контроль конфедератов, и вскоре встал вопрос о взятии ими Кракова, занятого русскими войсками. Лидерам восстания казалось, что вот-вот наступит перелом и вся шляхта поднимется на борьбу с королём и русскими гарнизонами, расположенными на территории страны. К тому же в помощь восставшим на место Демурье прибыл барон де Виоменил с небольшим штатом советников, французских офицеров. Кроме них барон прихватил с собой и приличную сумму денег, предполагая с пользой потратить их на чужой территории (подкуп депутатов сейма, покупка оружия и оснащение новых вооружённых формирований конфедератов).
По мнению многих наиболее активных конфедератов, достаточно было взять Краков, устроить там избирательный сейм, и можно считать, что дело сделано: власть перейдёт в их руки, а короля Польши можно будет просто объявить низложенным. Однако более дальновидные понимали, что сам король не подпишет отречение от престола, а у него ещё достаточно сторонников. А если добавить к этому поддержку русскими солдатами и деньгами, то предполагаемый краковский сейм мог вызвать только новый виток гражданской войны.
Тогда наиболее активными конфедератами была выдвинута совсем простая идея, которая при её претворении в жизнь смогла бы коренным образом изменить ситуацию распределения власти в Речи Посполитой. А идея была стара, как весь мир человеческий: просто похитить короля и силой заставить его подписать отречение от короны. А если не согласится, то...
Шляхтич Стравиньский, уже известный тем, что 9 августа 1770 года он вручил королю в Варшавском замке акт бескоролевья, был приглашён Казимиром Пуласким на совещание в Ченстоховскую крепость. Это собрание заговорщики проводили в узком кругу: они обсуждали вопрос о возможном физическом устранении короля Польши. Неожиданно Стравиньский снова обратил всеобщее внимание на свою персону, заявив собравшимся:
— Панове! У меня на примете есть несколько шляхтичей, которые преданны мне и пойдут за мной в огонь и в воду. Поручите мне всё организовать, и очень скоро король будет сидеть за этим столом и собственноручно писать отречение от престола.
— А умеют ли твои люди держать язык за зубами? — спросил его Казимир Пулаский. — Ведь это не какой-то рейд организовать по тылам русской армии, а дело, которое может решить дальнейшую судьбу отчизны.
— Я знаю, что говорю, — с обидой ответил Стравиньский, — а за своих людей ручаюсь и отвечаю за них. Я организую с ними вылазку в Варшаву и попытаюсь через своих людей выследить Станислава Понятовского. А дальше... что Бог даст.
— Ну что же, сам сказал, за язык никто не тянул. Пусть будет по-твоему, — немного подумав, подвёл итоги совещания Пулаский.
Повернувшись к висевшей на стене иконе и широко перекрестившись, он произнёс:
— Матка Боска! Помоги в нашем святом деле. Пошли удачу твоим детям.
Все присутствующие последовали его примеру, после чего начали расходиться. Пулаский, оставшись со Стравиньским наедине, шёпотом сказал:
— Если не получится доставить короля к нам живым, то сам знаешь, что надо делать.
Стравиньский согласно кивнул в ответ. Больше слов не понадобилось: каждый из них и так понимал, что в случае провала операции их будущее и будущее Речи Посполитой станет уже совсем неопределённым.
У Стравиньского всё получилось: 7 ноября 1771 года, пробравшись тайно в Варшаву, он через своих людей выследил короля Польши и захватил его, когда тот возвращался в сопровождении улан по улице Медовой от канцлера Чарторыского. Успешному проведению операции способствовала и осенняя погода: стоял густой туман, и сообщникам Стравиньского не составило большого труда укрыться, а потом без потерь с их стороны перебить немногочисленную охрану Станислава Августа Понятовского.
В то же время, к счастью для короля, этот же туман в дальнейшем сыграл дурную шутку с напавшими на него заговорщиками. Отъехав недалеко от Варшавы с драгоценным трофеем, Стравиньский и его люди из-за густого тумана заблудились в прилегающем к городу лесу. Они еле различали силуэты своих товарищей и были вынуждены всё время ехать совсем рядом друг с другом. При этом было строго запрещено громко переговариваться и окликать всадника, двигающегося впереди.
В какой-то момент король оказался рядом со Стравиньским.
— Вы понимаете, что вы сейчас делаете? С этого момента для всей Речи Посполитой вы — предатель, — шёпотом обратился Станислав Понятовский к командиру похитителей, цепляясь за последнюю надежду на спасение. Стравиньский хоть и заговорщик, но всё-таки шляхтич. А честь для шляхтича дороже жизни.
— Попрошу вас замолчать и тихо следовать за нами, — услышал в ответ король и понял, что надежда действительно умирает последней. — А то сами понимаете, вдруг кто-то выстрелит из мушкета, а пуля — она дура, — тихо, но с угрозой добавил Стравиньский на возмущение короля. — Тем более в таком густом тумане.
Король понял намёк и замолчал. Стравиньский же отъехал от него посмотреть дорогу, по которой они смогли бы следовать дальше. Сейчас, когда Станислав Август Понятовский находился в его руках, Стравиньскому и его людям совсем не хотелось нарваться на охрану короля. Наверняка о его похищении уже стало известно, и все занялись розыском похитителей.
Станислав Понятовский осмотрелся. В густом тумане перед ним маячила фигура только одного охранника Кузьмы. Остальные похитители были где-то совсем рядом: слышались их тихие голоса, но самих не было видно.
Король направил свою лошадь ближе к Кузьме и первым заговорил с ним:
— Ты знаешь, кто я?
— Мне не велено разговаривать с вами, — ответил охранник.
— Я — король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, — продолжал шептать заложник, не обращая внимания на ответ охранника.
По тому, как вытянулось лицо Кузьмы, король понял, что, назвав себя, он привёл того в замешательство. Другой же реакции не могло и быть: Стравиньский, соблюдая секретность захвата в плен коронованной особы, не сообщил своим людям истинной цели этой партизанской вылазки. Поставив задачу каждому из них, определив им место и цель при нападении, он никому, кроме двоих приближённых и особо доверенных лиц, не сообщил, кто будет объектом их нападения.
— Я даю королевское слово, что ты будешь помилован и прощён мною, если сейчас просто отъедешь и сторону и «потеряешь меня из вида», — уговаривал Кузьму Станислав Понятовский. — Решайся: или прощение короля, или дыба.
Кузьма быстро сообразил, в какое попал щекотливое положение, и предпочёл первый вариант. Он слегка потянул поводья, и его конь медленно отъехал в сторону от лошади короля. Ещё пару лошадиных шагов, и пленник пропал из вида, растворившись в густом тумане.
Станислав Август Понятовский также потянул поводья своего коня. Медленно и тихо он начал удаляться в противоположную сторону от доносившихся сзади и впереди голосов. Вскоре король услышал громкое ругательство, крики, шум и топот лошадей, но, к его счастью, они от него удалялись, а не наоборот.
Через пару часов туман-спаситель немного рассеялся. Король выехал из леса на дорогу и перекрестился. Теперь ему надо было разобраться, в какую сторону продолжать путь. Внезапно он услышал громкое ругательство: «Пошла, пся крев!», храп пощади и скрип не смазанных колёс. Наконец из-за деревьев показалась сама лошадь и деревенская телега, которой управлял местный крестьянин, везущий хворост для своего скромного жилища. Он-то и указал «ясновельможному пану» направление на Прагу — предместье Варшавы, куда и продолжил торопливо свой путь странный всадник, который почему-то постоянно с опаской оглядывался по сторонам.
После того как удивительный пан скрылся из вида, крестьянин долго чесал затылок, вспоминая, где он его видел и кого он ему напоминает, но так и не смог вспомнить. Тряхнув вожжами и крикнув на гною старую лошадёнку для ускорения движения, крестьянин поехал дальше своей дорогой, оставаясь наедине со своими невесёлыми мыслями.
Прибыв ко двору, где уже царило беспокойство и растерянность по поводу его исчезновения, Станислав Август Понятовский немедленно сообщил о случившемся с ним во все европейские дворы. Мнение всех коронованных особ всей Европы было однозначным: шляхта совсем выжила из ума — покушается на святое святых, на королевскую особу! Такого же мнения был даже король Франции. Он, конечно, являлся сторонником свержения польского короля, но не таким же варварским способом.
Представив своё похищение как попытку уничтожить его физически, Станислав Август Понятовский тем самым окончательно развязал руки России, Австрии и Пруссии. Они только и ждали благоприятного момента узаконить свою интервенцию на территорию Речи Посполитой. И вот этот долгожданный момент наступил! Под девизом защиты монашеской особы и наведения порядка монархи этих трёх стран принимают решение о первом разделе Речи Посполитой.
Екатерина II получила письмо от Фридриха II с предложением о разделе территории на три части. Прочитав его, она обратилась к Панину, который только что вручил это письмо своей императрице:
— Ну, вот твоя либеральная политика по «польскому вопросу». Хотел, чтобы всё было прилично, достойно, а они вот что творят, — начала говорить возмущённо Екатерина II. — Что на это скажешь, Никита Иванович?
Канцлер склонил голову и молчал. Ему нечего было сказать в ответ. Для него самого это было неожиданностью, причём очень неприятной. В своей политике в отношении Речи Посполитой Панин предпочитал дипломатические приёмы, с помощью которых Россия могла бы добиваться своей цели «цивилизованно», без вмешательства армии и пролития крови. Но расширение вооружённого движения Барской конфедерации и эта попытка покушения на жизнь польского короля спутала все его политические карты. Теперь он стоял перед императрицей и усиленно думал, что же ей ответить.
— Ну чего молчишь? А ведь отвечать своей императрице всё-таки придётся, — настаивала Екатерина II.
— Государыня, а я согласен с Фридрихом, — вдруг бодро начал говорить Панин. — Раз поляки пошли на такое гнусное преступление и замахнулись на жизнь королевской особы, то у нас другого выхода нет, как только их взять под свой жёсткий контроль.
— Именно жёсткий. Так ты согласен, что раздел Речи Посполитой пойдёт им на пользу? — императрица положила письмо Фридриха II на стол перед стоящим канцлером.
— Я думаю, что вы уже приняли решение, и оно будет как всегда верным, — ответил в поклоне придворный вельможа.
— Да, я приняла решение. Я немедленно вышлю ответ прусскому королю о своём согласии с его предложением, — решительно заявила Екатерина II. — А нашим войскам надо активизировать военные действия против конфедератов и разогнать их. Сколько можно с ними возиться?
Императрица старалась говорить спокойно, но это ей удавалось уже с трудом. Её раздражало, что командующий частями русской армии, расположенными в Польше, не смог до сих пор уничтожить партизанские подразделения конфедератов. Теперь придётся вводить на территорию Речи Посполитой ещё одну армию, а прусские и австрийские генералы опять будут пожинать плоды побед русского оружия. Но что поделаешь, политика есть политика: часто на дипломатическом поприще можно одержать более весомые победы, чем на полях сражений.
6 февраля 1772 года в Петербурге между Россией и Пруссией была подписана конвенция о разделе Польши. Император Австрии, Иосиф II, также не заставил себя долго ждать, и уже через несколько дней после этого события, а именно 19 февраля, присоединился к конвенции Пруссии и России. Польский пирог в виде дополнительных территорий к его королевству был как нельзя кстати. Тем более без особых усилий со стороны его армии и казны.
После того, как факт попытки похищения и покушения на жизнь короля Польши стал общеизвестным, многие сторонники конфедератов отошли от этого шляхетского движения и приняли позицию сторонних наблюдателей. Они опасались, что их имена будут склоняться рядом с именами Казимира Пулаского и Стравиньского. Ситуация для тех, кто продолжил борьбу, осложнялась ещё и тем, что конфедераты не знали о петербургских соглашениях. Они не ожидали такого быстрого вступления на территорию Речи Посполитой австрийских и прусских войск, которые активно начали занимать территории, отошедшие этим государствам по конвенции.
Суворов своими успешными военными победами практически завершил разгром конфедератов. Он осадил Краков, который не так давно был захвачен ими с помощью французов, и сделал в его стенах два пролома. Под угрозой наступления голода защитники древнего города вынуждены были сдаться. Сдача русским войскам Кракова явилась началом конца гражданской войны в Речи Посполитой.
После того как Казимир Пулаский, обвинённый в участии в покушении на жизнь короля, оставил крепость в Ченстохове, Суворов и здесь быстро занял её со своими солдатами. Лянцкорона и Тынец сдались уже австрийцам. Фактически на этом и закончилось движение Барской конфедерации, родившееся под лозунгами в защиту Отечества в феврале 1768 года.
Результаты этого героического шляхетского движения, полного политических ошибок, были для всей Польши плачевны. После первого раздела Речи Посполитой государство потеряло почти третью часть своих территорий с четырьмя миллионами населения. Оккупация её земель войсками союзников не встретила сопротивления ни среди шляхты, ни среди простого народа: люди устали от четырёхлетней гражданской войны. Материальная нищета и нищета духовная парализовали их, не вызывая никаких патриотических настроений. Все жаждали мира и были готовы подчиниться любому завоевателю, который бы остановил войну и навёл хоть какой-нибудь порядок в этом государстве.
Тысячи конфедератов были сосланы в Сибирь, а всего Речь Посполитая потеряла за эти годы около 100 000 мужского населения, способного оказывать вооружённое сопротивление и защищать свою родину. Из-за нищеты и разрухи тысячи польских семей искали для себя счастья и лучшей жизни в соседних странах. А тех мужчин, кто оставался на оккупированных Пруссией территориях, вылавливали и продавали, как скот, в прусскую армию.
Не лучшее положение было и на территории, оккупированной русскими войсками. Имения богатых конфедератов, которые были убиты во время этой войны или сосланы в Сибирь, подвергались разграблению со стороны русских офицеров и даже солдат. Опустевшие деревни, голодные скитальцы, дети-сироты.
А что же король Польши? Он оказался в сложнейшей для себя ситуации. С одной стороны, полная апатия общества, с другой — послы трёх стран-захватчиков навязали Речи Посполитой новую форму правления и новую конституцию. Она ставила своей целью установить такое положение в стране, которое бы обеспечивало её зависимость от России.
XIV

остюшко постоянно вёл переписку с Юзефом Сосновским в течение всех пяти лет своего проживания за границей. Он-то и сообщал Тадеушу в своих письмах обо всех событиях в стране и её проблемах. А так как армия Речи Посполитой вследствие последних событий была существенно сокращена, Сосновский рекомендовал Костюшко продолжать учёбу если не во Франции, то в любой другой стране Европы и даже предлагал свою материальную помощь.
Посоветовавшись с друзьями, Питером и Францем Цельтнерами, Тадеуш принял решение отказаться от очередной помощи Сосновского. Проживая в крупнейшей столице Европы, он начал давать уроки фехтования, так как на данный вид услуг в то время был большой спрос. Накопив немного денег, Тадеуш взял дополнительно ссуду у своих друзей и оправился с ними в Италию, а затем к ним домой в Швейцарию в Салюрн. Там Костюшко долго не задержался и поехал в Голландию и Англию, где пробыл около года. Эти страны в маршрут своих путешествий он выбрал не случайно: в Голландии Костюшко изучал мелиорацию и строительство каналов, а в Англии — возведение земляных укреплений, что в дальнейшем ему очень пригодилось.
Но пришла пора возвращаться домой. Во-первых, большего, чего достиг Костюшко во время своего зарубежного обучения, он получить уже не мог, а во-вторых, просто закончились деньги. И, наконец, Тадеуш по-настоящему заскучал по дому, по родине. Костюшко всё-таки надеялся, что с таким багажом знаний он всё-таки найдёт себе применение в армии Речи Посполитой, и был готов служить своей родине на любой должности. К тому же Юзеф Сосновский в своих письмах намекал ему, что на первое время Тадеуш может остановиться у него дома и обещал не оставить без дела.
За прошедшие годы обучения и зарубежных путешествий Костюшко из двадцатичетырёхлетнего молодого человека превратился в мужчину, имеющего солидный по тем временам багаж знаний и владеющего в совершенстве пятью языками. Но, к большому сожалению, этот красивый и образованный человек по-прежнему был беден и одинок, так как не встретил за это время ту, с которой он мог бы связать свою судьбу. Возвращаясь на родину, Тадеуш в душе надеялся, что фортуна опять ему улыбнётся, как это было ранее. Он был уверен, что найдёт себе место службы и ту единственную, которая пройдёт с ним эту жизнь до конца.
В один из тёплых летних дней 1774 года по лесной дороге ехала почтовая карета, в которой сидели четыре пассажира. Одним из сидящих в карете был будущий генерал армии двух, совершенно разных государств Тадеуш Бонавентура Костюшко. Карета только что пересекла уже новую границу Речи Посполитой, и Тадеуш жадно вглядывался в окружающий его мир, который он покинул несколько лет назад. Проезжая через одну из деревень, возница остановился на отдых и для замены лошадей. Все пассажиры вышли из кареты поесть и размять свои мышцы, затёкшие в долгой дороге.
Выйдя из кареты и осмотревшись вокруг, Костюшко обратил внимание на то, что большая с виду деревня была практически безлюдна. Он почти не встречал детей, не было видно и стариков, сидящих обычно в летние дни возле своих изб, согревая под тёплыми солнечными лучами свои старые кости. Только один мальчишка лет восьми, весь чумазый и худой, в старой и рваной рубашке до пят стоял перед каретой и с интересом смотрел на приезжих. Постояв минуту и заметив, что Костюшко тоже рассматривает его, мальчишка подошёл к нему и протянул руку.
«Может, дать ему мелкую монету», — подумал Тадеуш и достал свой кожаный кошелёк. Вынув оттуда монетку, Костюшко протянул её мальчику. Но тот даже не обратил внимания на деньги и продолжал держать руку ладошкой вверх. Только тогда до Костюшко дошло, что мальчик просит еды. Тадеуш быстро достал из дорожной сумки кусок хлеба и протянул его попрошайке. По той скорости, с какой мальчишка ухватился за хлеб и стал запихивать его в свой маленький рот, было видно, насколько он был голоден. Глаза мальчика вдруг стали злыми и колючими. Он с жадностью откусывал большие куски хлеба и глотал их, почти не жуя. При этом озирался по сторонам, словно боялся, что кто-нибудь сейчас подойдёт и отберёт у него этот кусок жизни.
На глазах у Костюшко навернулись слёзы: весь вид мальчика говорил, что его уже давно никто не кормил. Наверняка, он был либо сирота, которых в это время в Речи Посполитой стало достаточно много, либо он был из большой семьи, где всех накормить досыта не всегда удаётся. Тадеуш сразу почему-то вспомнил тех крестьян из своего далёкого детства, которые приходили к его отцу просить о милости. Они тоже хлопотали за свои семьи, за своих детей, но Людвиг Костюшко тогда прогнал их со двора. А вскоре крестьяне взбунтовались и пошли против своего пана.
— Панове, прошу садиться, — раздался голос извозчика, и все принялись поудобнее усаживаться в карете перед дальней дорогой. Тадеуш тряхнул головой, отгоняя воспоминания детства. С жалостью посмотрев ещё раз на мальчика, он хотел погладить его по голове, но мальчик уклонился от ладони, которая только что дала ему такой желанный хлеб. Развернувшись, он быстро побежал куда-то но пыльной деревенской дороге и вскоре скрылся за углом ближайшего дома.
— Прошу вас садиться, пане, — ещё раз обратился уже только к Тадеушу возница. Костюшко снова посмотрел в сторону убежавшего ребёнка, поправил камзол и направился к карете. Его спутники недовольно смотрели на него: сколько можно ждать, все уже давно готовы были ехать. Но Костюшко не обратил на это внимание, а всё ещё думал о мальчике и о том, как его встречает родина, в которой он уже начинал чувствовать себя чужим.
По прибытии в родные Сехновичи его встретил настороженно брат Иосиф со своей женой Марией. Но Тадеуш быстро их успокоил и подтвердил, что не претендует на наследство, как и обещал, покидая отчий дом почли десять лет назад.
В хозяйстве Иосифа Костюшко практически ничего не изменилось с того времени, как Тадеуш уехал из дому в Варшаву в поисках счастья и удачи. Вечером, сидя за столом, он долго рассказывал Иосифу и его жене о своей учёбе, поездках и людях, с которыми ему пришлось общаться в разных странах Европы.
Слушая брата, Иосиф тоскливо смотрел на своих троих детей, сидящих на лавке, которые, открыв рот, с удивлением рассматривали своего дядьку, приехавшего из далёких краёв. Тадеуш сидел среди них как чужестранник и понимал, что долго здесь не задержится. Уж слишком разными стали родные братья за эти прошедшие годы.
— Да, брат, повезло тебе. А мы вот тут барахтаемся, барахтаемся, — Иосиф налил себе полную чарку водки и залпом выпил. Его жена неодобрительно посмотрела на мужа, но ничего вслух не сказала.
«Наверно, выпивает Иосиф. А жена уже привыкла», — подумал Тадеуш, заметив, с каким осуждением смотрела сноха на своего мужа.
— Вот и всё. Остальное расскажу завтра. Устал, хочу отдохнуть, — поднявшись из-за стола, сказал Тадеуш. — Скажи кому-нибудь, пусть постелят на сеновале, — вдруг попросил он брата.
— Томаш! — громко позвал кого-то Иосиф, и в комнату уже через секунду на зов хозяина вошёл высокий красивый парень. — Постели пану Тадеушу на сеновале. Видишь, соскучился он по деревенской жизни.
Иосиф как-то криво улыбнулся на свои же слова и налил себе ещё рюмку, но выпить не успел. Мария быстро выхвалила чарку и вылила обратно в бутылку.
— Всё, хватит на сегодня, — коротко сказала она мужу.
— Хватит, так хватит, — вдруг миролюбиво согласился с ней Иосиф и пошёл, шатаясь, в соседнюю комнату с явным намерением завалиться спать.
— Пойдёмте, пане, за мной. Я вам быстро постелю, — предложил Томаш «пану Тадеушу» и повёл его за собой.
Тадеуш с интересом посмотрел на парня и спросил его:
— Ну а ты как поживаешь? Женился уже, наверное?
Томаш сразу как-то смутился, опустил голову и тихо ответил:
— Нет, пан Томаш, не женился.
Тадеуш ещё раз осмотрел Томаша с ног до головы: перед ним стоял молодой, здоровый мужчина, которого он ещё помнил четырнадцатилетним мальчишкой перед своим отъездом в Варшаву.
«А неплохой бы получился из него солдат, — подумал Тадеуш. — Интересно, почему он не женат?» Но от долгой дороги, усталости прошедшего дня и выпитого вина Тадеуша разморило и потянуло ко сну. Он больше ничего не спрашивал у парня, пока тот стелил на сеновале тёплое одеяло. Но прежде, чем отпустить слугу, Тадеуш придержал его за руку:
— Сын за отца не отвечает. Понял меня? — Тадеуш внимательно посмотрел на Томаша. Тот опять опустил голову и согласно кивнул. — Ну, тогда ступай и разбуди меня на рассвете. Рано утром мне нужна повозка. Отвезёшь меня в Варшаву, — приказал Тадеуш тоном хозяина.
— А пан Иосиф знает? — только и спросил Томаш.
— Знает и даже будет рад этому, — усмехнулся Тадеуш и полез спать на сеновал.
На заре следующего дня, сидя в повозке, которой управлял Томаш, Тадеуш Костюшко представлял, какую встречу ему устроит Юзеф Сосновский. В то же время он терялся в догадках, что тот собирался ему предложить вместо службы в армии.
Прибыв в Варшаву, Тадеуш сразу направился к дому Юзефа Сосновского. Постучав в знакомую калитку, он с ностальгией вспомнил тот день, когда впервые очутился в этом месте. Вот и сегодня на его стук двери открыл знакомый привратник и, без труда узнав Костюшко, заулыбался.
— С приездом, пан Тадеуш! Как добрались? Всё ли благополучно? — низко кланяясь, спросил слуга.
— Здравствуй, здравствуй! А ты всё такой же, Вацлав, время тебя не берёт, — похлопав дружески по плечу привратника, поприветствовал его Тадеуш как старого знакомого. — А пан Юзеф дома?
— Дома, дома, — суетливо заговорил Вацлав. — Уже предупреждал меня, чтобы я немедленно доложил ему о вашем прибытии.
— Ну, так веди меня к нему, докладывай, — подтолкнул привратника Костюшко, и они вдвоём пошли по садовой дорожке к дому.
Юзеф Сосновский как всегда был занят. Сидя в кресле в рабочем кабинете, поседевший и немного от этого постаревший, он что-то диктовал своему писарю, попыхивая трубкой с длинным мундштуком.
— Ну наконец-то прибыл, голубчик! — Радостно встретил Сосновский долгожданного гостя, встал с кресла и раскрыл свои объятия. Обнимая Тадеуша и похлопывая своей большой ладонью его по спине, Сосновский приговаривал: — А возмужал, возмужал, чертяка! Наверно, молодые паненки слетаются к тебе, как пчёлы на мёд?
Но заметив смущение Тадеуша от этих слов, Сосновский с удивлением спросил:
— Что? Неужели тебя до сих пор ни одна не приголубила?
Костюшко корректно промолчал. Но литовский писарь не унимался:
— Ну, присаживайся, рассказывай о своих заграничных приключениях.
— Да что рассказывать, я обо всём подробно нам писал, пан Юзеф, — наконец-то заговорил Костюшко. — Пять лет даром не прошли: многому научился, много повидал. А теперь — вот приехал домой, надо же отслужить родине и королю за его милость.
Хозяин и гость присели за большим столом, на котором уже стоял графин с вином и закуска.
— Королю сейчас не до тебя: сам знаешь, какие у нас события происходили, пока ты там по зарубежным столицам прогуливался, — проворчал недовольно Сосновский. Он выпил вино, и слуга тут же наполнил пустой бокал по одному движению пальца хозяина. — Нашу армию по требованию российской императрицы сократили в несколько раз, а российские дипломаты суют нос во все дела Речи Посполитой.
— А что король? — спросил, дождавшись паузы, Костюшко.
— Король? — повторил вопрос, как бы недоумевая, Сосновский. — Ему сейчас не позавидуешь: с одной стороны Россия, с другой — Австрия с Пруссией. Всё никак не могут успокоиться, всем им Речь Посполитая представляется в виде дойной коровы. А ведь если корову не кормить, молоко в какой-то момент может пропасть. Заметил уже, наверно, до чего страну довели?
— Заметил, — грустно ответил Костюшко. — Но ведь надо что-то делать, надо что-то предпринимать.
— Ладно, что-то мы не о том говорим. Давай лучше подумаем, чем тебя занять, — заговорил вдруг на другую тему Сосновский. — Так сразу в армию ты не попадёшь: нет сейчас для тебя места. Сегодня наши офицеры либо служат в чужих странах, либо покупают офицерский патент за деньги. Ты готов заплатить в казну за патент?
Костюшко отрицательно замотал головой. Он знал примерно, сколько это стоит, и не надеялся на свой тощий кошелёк.
— То-то же, — за него ответил Сосновский. — А поэтому я предлагаю тебе временно пожить у меня. Ну а чтобы ты не скучал без дела, пока я попытаюсь найти тебе должность, предлагаю послужить мне.
— Всегда готов, — радостно вскочил с кресла Костюшко.
— Да сядь ты. Я предлагаю тебе, — продолжил хозяин дома, — послужить у меня гувернёром.
Костюшко от неожиданности от такого предложения сел обратно в кресло.
— Я же офицер, а не гувернёр. Я — шляхтич, — с обидой напомнил Сосновскому Костюшко.
— Да пойми ты, я хотел для своих дочерей нанять французского учителя, — начал уговаривать его Сосновский. — А зачем мне в доме всякие вольнодумства в виде Руссо и Вольтера? А ты свой, земляк, и языки знаешь иностранные не хуже иноземцев.
Тадеуш на минуту задумался. Сосновский выпил ещё бокал вина, закусил куском мяса и снова завёл свою речь.
— Соглашайся, Тадеуш, ведь это недолго. Я через пару месяцев обращусь к королю, напомню о тебе. Смотришь, и определят тебя в какой-нибудь полк.
Сосновский был уверен, что Костюшко не откажется от его предложения. Ведь он столько сделал для этого молодого человека. Вот и сейчас даёт приют в своём доме.
— Хорошо. Пусть будет по-вашему, послужу гувернёром, — согласился Тадеуш и тяжело вздохнул. — А если я панночкам не понравлюсь? — спросил он и улыбнулся.
— Этого, дорогой, я не боюсь, а опасаюсь, чтобы не получилось наоборот, — то ли серьёзно, то ли шутя ответил Сосновский и погрозил пальцем Костюшко. — Поэтому веди
себя с ними строго, не позволяй им переходить грань дозволенного. Всё-таки ты старше их и мудрее, а они ещё дети по сравнению с тобой. Рано им о женихах думать.
— Когда вы собираетесь меня представить им? — уточнил начало своей новой «службы» Костюшко.
— Да сейчас и представлю. Янек, — позвал стоящего в стороне слугу, — пригласи паненок. Пусть придут в мой кабинет познакомиться с учителем.
Пока слуга ходил за паненками, Костюшко более подробно расспрашивал их отца о событиях последних лет, которые потрясали его родину и его отсутствие. Общая картина положения Речи Посполитой была ужасна: она попала в полную зависимость от России и от её союзников. Король же находился под контролем и влиянием российских политиков, которые диктовали ему волю своей государыни.
— Вот такие у нас дела, — с грустью завершил свой рассказ Юзеф Сосновский о бедах Речи Посполитой и причинах, приведших её к такому состоянию.
В это время двери в кабинет широко отворились, и слуга пропустил перед собой двух молодых и красивых паненок: Людовику и Екатерину. Они плавно и достойно вошли в кабинет и, увидев Тадеуша Костюшко, приостановились и поклонились ему в приветствии. Вскочив с места при их появлении, он также поклонился паненкам и по-офицерски щёлкнул каблуками.
— Ну, знакомьтесь, дочки. Это ваш учитель Тадеуш Бонавентура Костюшко, — представил Сосновский гостя. — Кстати, сын того достойного шляхтича Людвига Костюшко, с которым я дружил в молодости, — добавил он, многозначительно подняв указательный палец вверх.
Молодые люди несколько мгновений изучали друг друга, но это изучение было прервано хозяином дома:
— Это моя младшая дочь — Катерина, — представил он, подойдя к одной из дочерей и обняв за плечи. Тут же он переложил свою руку на плечо второй дочери. — А это моя старшенькая, Людовика. Так что прошу, пан Тадеуш (Сосновский повысил голос, стараясь показать свою строгость), отнестись к обучению этих двух милых особ со всей серьёзностью.
— Постараюсь оправдать ваше доверие, — с улыбкой ответил Костюшко и внимательно посмотрел на Людовику. Девушка заметила пристальный взгляд красивого шляхтича, и на её щеках загорелся ярким пламенем молодой девичий румянец.
Сосновский сразу заметил этот обмен взглядами между молодыми людьми и постарался спешно завершить аудиенцию, которую сам же и организовал.
— Ну, на сегодня хватит представлений, — начал он строго. — Ступайте к себе, — приказал он дочерям. — А тебе, Тадеуш, надо отдохнуть с дороги, привести себя в порядок. А завтра можешь приступать к своим обязанностям.
По тому, как быстро Людовика и Катерина вышли из гостиной, было видно, что дважды в этом доме Сосновский повторять не любил, а его дочери были воспитанными детьми и росли в строгости и послушании.
Костюшко также откланялся и вышел за Янеком. Слуга показал ему его комнату. Тадеушу она очень понравилась: небольшая и уютная, а окна выходили в сад, в глубине которого спряталась ажурная беседка. Костюшко умылся с дороги, разложил свои вещи и лёг на мягкую постель с намерением хорошо выспаться после дальней дороги. Но сон почему-то не шёл к нему. Он долго ворочался в кровати, пытаясь уснуть, но в его сознании постоянно вставал образ Людовики. Тадеуш догадывался, что в этот день произошла важная в его жизни встреча с судьбой. Катерины для Костюшко как будто не существовало, зато глаза старшей, её румянец, белые нежные руки девушки и её фигура — всё слилось в единый образ той, кого он искал и не нашёл в далёких странах. И вот случилось чудо: его судьба оказалась здесь, в доме его покровителя!
А ведь ещё пять лет назад, до отъезда за границу, изредка посещая дом Сосновских, Тадеуш видел мельком девушку-подростка в сопровождении матери. Но тогда Людовика представлялась ему ребёнком, а сейчас она стала той розой, которая неожиданно расцвела, и эта молодая красота и нежность заставили забыть Костюшко обо всём и обо всех за одно мгновение. Тадеуш понял, что он влюбился. Он долго ворочался в мягкой постели, размышляя о превратностях судьбы и о своём будущем. В голове рисовались радужные картины его возможной семейной жизни и жены, на месте которой могла быть только Людовика. В своих мечтах Костюшко видел себя если не генералом армии, то наверняка командующим полком, которого жена провожает на войну. А все смотрят на них и восхищаются ими, желают удачи и побед.
Наконец утомлённое молодое тело окончательно избунтовалось и потребовало отдыха. Костюшко забылся крепким сном. Однако рано утром по устоявшейся привычке его глаза открылись, и, уставившись в потолок, Тадеуш уже в мыслях планировал свой день в роли гувернёра.
XV

итовский писарь Юзеф Сосновский сдержал своё слово и во время ближайшей аудиенции у короля обратился к нему с просьбой принять и выслушать молодого и талантливого офицера Тадеуша Костюшко.
— А это не тот ли молодой человек, которого мы отправляли на учёбу во Францию? — задумчиво спросил король.
— У вас хорошая память, ваше величество. Это действительно он, — подтвердил Сосновский.
— И чего он хочет? Наверно, получить офицерский патент на службу в армию, которой практически не существует? — горестно проговорил Станислав Понятовский, обращаясь не столько к Сосновскому, сколько констатируя свершившийся исторический факт.
Сосновский парировал в ответ:
— Настоящий офицер польской армии останется навсегда офицером ПОЛЬСКОЙ армии и не пойдёт служить ни австрийцам, ни пруссакам, ни тем более русским.
Король задумался. Да, сейчас как никогда ему нужны были надёжные и преданные люди. Он устал от окружавших его карьеристов и просто оппозиционеров, которых интересовали только должности при дворе или в армии. Они, казалось, только и ждали момента, чтобы вырвать себе большой кусок от государственного пирога или попетушиться на сейме, голосуя против позиции короля и его сторонников.
Правда, среди приближённых к коронованной особе были и те, кто не бросил его в трудное время недавней войны с конфедератами, кто оказался рядом и поддержал короля, когда рвали его государство на части. Но их становилось всё меньше и меньше.
«Может, этот Костюшко станет в будущем моим активным сторонником и тем офицером, который понадобится мне в нужное время в недалёком будущем?» — размышлял король.
— Хорошо. Пусть он прибудет ко мне во дворец, — согласился монарх. — Я хочу лично побеседовать с ним. Только за несколько дней до аудиенции напомните мне о нём, — попросил он Сосновского.
Сосновский кивнул и удовлетворённый покинул кабинет. «Теперь надо будет обрадовать Костюшко. Жаль только, что недолго Тадеуш послужил в качестве гувернёра. Хотя, может, всё и к лучшему: что-то уж много времени он проводит с Людовикой», — размышлял про себя Юзеф Сосновский, вспоминая свой недавний разговор с женой, которая с самого начала была против его идеи сэкономить на учителе-французе.
— Как бы у них не появились определённые симпатии друг к другу, а это было бы нежелательно, — предупредила она мужа. — Костюшко хоть и достойный шляхтич, но для нашей дочери он не пара.
Юзеф Сосновский даже не подозревал, насколько жена была близка к истине.
Получив от Сосновского известие о предстоящей аудиенции у короля, Костюшко сначала очень обрадовался: он-то сумеет убедить его в своей преданности присяге родине. Надеялся он и на то, что сможет рассказать о своих возможностях и полученных знаниях, которые могут пригодиться в польской армии, несмотря на все сложности, связанные с её значительным сокращением.
«Но как быть с Людовикой? Ведь она не знает, как я её люблю. Возможно, она и догадывается о моих чувствах, а может — и сама неравнодушна ко мне?» — волновался Тадеуш. Он замечал на себе её внимательные взгляды, которые девушка бросала на него во время уроков, её нежный голос, когда он беседовал с ней... Это были взгляды, которые выражали не только внимание ученицы к своему учителю. Они вселяли в его душу надежду на то, о чём он мог только мечтать: на взаимную симпатию и ответные чувства.
Тадеуш твёрдо решил, что ему необходимо объясниться с Людовикой. И чем раньше, тем лучше. Вскоре случай для объяснения представился просто идеальный. Людовика сидела в беседке и рисовала по заданию Костюшко какой-то пейзаж, а Катерина уехала с отцом и матерью за очередными покупками нарядов. Никто не мешал молодым объясниться друг с другом.
Тадеуш осторожно подошёл со стороны к девушке и стал рассматривать наброски на холсте, которые она успела нарисовать. Делая вид, что не замечает Костюшко, Людовика продолжала смешивать кисточкой краски, с волнением ожидая, когда он заговорит с ней. Он же мучительно раздумывал, с чего начать разговор на довольно щекотливую тему.
Наконец девушке надоела эта молчаливая дуэль, и она первой спросила:
— И долго вы будете так стоять надо мной? Вы меня смущаете.
— Простите, но я не знал, что замечен вами, — ответил Костюшко, ругая про себя свою нерешительность и неловкость. — Я совсем не хотел вам помешать.
Людовика решительно отложила кисть, салфеткой вытерла руку от краски и повернулась к Тадеушу. Она намеревалась сделать ему какое-то замечание по поводу его неожиданного появления, но увидев его растерянное и бледное лицо, сама растерялась и тихо спросила:
— Чти с вами?
Тадеуш замялся ещё больше. Но на вопрос Людовики надо было отвечать, и он тихо произнёс:
— Наверно, я скоро покину ваш гостеприимный дом... И, думаю, надолго...
Теперь побледнела Людовика, и это было замечено Тадеушем. У него мелькнула сумасшедшая мысль: «А ведь я ей тоже небезразличен. Сейчас же скажу всё, и будь что будет».
— А... как же я? — непонятно почему произнесла растерянно молодая панночка. — А как же ваши уроки?
Слёзы навернулись на глазах Людовики. Тадеуш Костюшко за это короткое время, которое он проводил с ней, обучая живописи и французскому языку, покорил её неискушённое в любви сердце, и в своих девичьих мечтах она уже представляла себя в его объятиях. Но вспоминая о своём строгом отце и такой же строгой матери, она пугалась своих мечтаний. В то же время Тадеуш являлся для неё образцом польского шляхтича: умён, образован, офицер, красив... Что ещё родителям нужно?!
Людовика часто ловила на себе горящие и восторженные взгляды своего учителя и ждала от него каких-то слов признаний, готова была ответить на них, даже репетировала перед зеркалом в своей спальне. Но наступало время нового урока, а Костюшко так ничего и не говорил ей, не шептал на ухо горячие слова признаний в любви и тем более не пытался обнять.
Сегодня, когда сестры и родителей не было дома, девушка устроилась в беседке с мольбертом. Она-то была уверена, что Костюшко обязательно увидит её и подойдёт к ней, и, может, она дождётся от него желанных фраз. Но вместо слов признаний в любви она услышала слова прощания, и это её расстроило настолько, что она вмиг посчитала себя самой несчастной панночкой на свете и смогла вымолвить только последние три слова.
Но эти слова значили для Тадеуша, наверно, больше, чем книжные фразы о страсти и любовных признаниях. В этих словах девушки и в её голосе, которым она их произнесла, он услышал для себя надежду. Костюшко сразу понял, что он Людовике небезразличен и что она питает к нему те чувства, о которых он мечтал всё это время.
Тадеуш в порыве нахлынувших на него чувств встал перед девушкой на одно колено, нежно взял её правую руку своими ладонями и приложился к ней губами. Так они и замерли без слов на некоторое время. Им не нужны были слова, когда и без них всё было ясно. Они полюбили друг друга, а по-другому быть и не могло.
Эту лирическую картину с двумя влюблёнными наблюдал не только Господь Бог с небес, но и простой слуга Юзефа Понятовского Янек. Как верный раб своего хозяина он доложил ему обо всём, что видел, в тот же день, когда чета Сосновских вернулась домой.
— Больше ты ничего не видел? — спросил, нахмурившись, Сосновский.
— Нет, пане, больше ничего, — ответил преданный слуга и быстро удалился, когда взмахом руки хозяин приказал ему уйти.
Юзеф Сосновский серьёзно рассердился: Костюшко, которого он опекал с юных лет, ввёл в свой дом, доверил обучение своих дочерей, не оправдал этого доверия и решил соблазнить его любимую дочь Людовику! Сосновский вскочил с кресла и стал нервно ходить по кабинету. Первым желанием магната было немедленно вышвырнуть неблагодарного шляхтича из дома, но Сосновский вспомнил свой визит к королю и свою просьбу в отношении Костюшко.
«Нет, не буду пока его трогать и давать повода для сплетен и огласки, — подумал он, успокаиваясь. — Пусть всё идёт своим чередом. Скоро всё закончится».
Такие близкие отношения Костюшко и его дочери Людовики никак не входили в планы Юзефа Сосновского. В душе он привязался к этому молодому человеку и, может быть, в иной ситуации был бы не против брака дочери с этим шляхтичем. Но существовали две очень веские причины, по которым подобный брак был просто невозможен.
Во-первых, это жена, которая не раз предупреждала мужа о возможных проявлениях особых, отличных от отношений обычного учителя и ученицы, чувств со стороны Костюшко к одной из его дочерей. Она была категорически против затеи мужа с новым гувернёром-офицером.
Во-вторых, это последние крупные неприятности, которые произошли с Юзефом Сосновским и о которых (не дай бог!) не знает пока его жена. Дело в том, что не так давно он, проводя свободный вечер в одном заведении, которое посещает исключительно избранная шляхта, проиграл в карты князю Станиславу Любомирскому своё поместье.
— Всё, князь, теперь вы являетесь собственником трети моих владений. Сегодня Бог против меня. Простите, но я прекращаю игру, — решительно заявил Сосновский, бросая на стол карты. — Так можно и по миру пойти.
Он сидел, уставший от многочасового напряжения карточной игры, напротив Станислава Любомирского в небольшой уютной комнате, где никого больше, кроме них, не было. Расстроенный крупным проигрышем, Сосновский нервно встал из-за карточного стола и собрался уходить, когда князь Любомирский остановил его словами:
— Не переживайте, пан Сосновский. Проигрыш, конечно, вещь неприятная. Но от моего другого предложения, я думаю, вы не откажетесь.
Сосновский, находясь ещё под впечатлением только что свершившегося неприятного для него факта, резко повернулся к более везучему игроку.
— Нет, князь, даже и не предлагайте, больше в этот вечер за карточный стол я не сяду, — твёрдо повторил он.
Однако князь мягко перебил его:
— Да я не об этом. У меня предложение гораздо серьёзнее, чем эти карты.
Последние слова Любомирского заинтриговали Сосновского и одновременно насторожили.
— Я слушаю вас внимательно, князь, — ответил с готовностью проигравший.
— Знаете, я рад, что мне наконец-то удалось с вами поговорить наедине... Пусть даже в не совсем приятной для вас ситуации, — начал издалека Любомирский. — Ваша старшая дочь, Людовика, достигла того возраста, когда её родители должны уже подумать о её будущем.
— К чему вы клоните? — торопил с конкретным предложением Сосновский, и старый князь решил перейти сразу к делу.
— А не породниться ли нам, пан Сосновский? Я видел ваших дочерей на балу месяц назад: они прекрасные создания. Я же ищу сыну Иосифу достойную пару... — князь сделал паузу и внимательно посмотрел на собеседника. Тот хранил молчание и пока никак не реагировал на явный намёк князя.
— Вы являетесь представителем славного рода и занимаете видное положение в обществе. Наша фамилия также известна во всей Речи Посполитой и далеко за её пределами. Как вы смотрите на то, что образуется ещё одна достойная родовая ветвь из наших фамилий? — таким не совсем обычным образом Станислав Любомирский предложил Юзефу Сосновскому выдать замуж Людовику за его сына.
Сосновский с готовностью в тот вечер принял это предложение: его дочь станет княгиней, а проигрыш забудется, как кошмарный сон.
И вот теперь, из-за этого шляхтёнка Костюшко всё может в один миг рухнуть.
«Эти отношения нужно срочно прекратить. Предстоящий визит Костюшко к королю ускорит его отъезд из моего дома, — опять вернулся от воспоминаний Сосновский в реальность сегодняшнего дня. — Однако, от греха подальше, надо переговорить с Тадеушем и предупредить его, чтобы закончил всякие занятия с дочерьми. Пусть готовится к отъезду», — решил магнат и незамедлительно позвонил в колокольчик, вызывая слугу.
— Ты вот что, — начал говорить Сосновский Янеку, когда тот после непродолжительного отсутствия опять появился перед глазами грозного хозяина, — о том, что видел, никому ни слова. Не то язык вырву.
— Всё понял, пане, — ответил слуга.
— Тем более об этом не должна знать моя жена, — добавил Сосновский после некоторого раздумья. — А сейчас позови ко мне пана Тадеуша.
Через некоторое время в кабинет Сосновского вошёл Костюшко. Увидев грозно сдвинутые брови своего покровителя, он понял, что что-то произошло, и то, каким тоном начал говорить с ним Сосновский, сразу подтвердило, что он не ошибся в своих догадках.
— Ну, Тадеуш, расскажи, как идёт учёба с моими дочками? Какие они делают успехи?
— Рано говорить об успехах, но занимаются они с удовольствием, — ответил Костюшко, удивившись язвительному тону, которым был задан вопрос.
— А чему ты учил сегодня в беседке Людовику на виду у всей прислуги?! — взревел Сосновский, брызгая слюной от злости.
Но в душе Костюшко был готов к такой реакции отца своей возлюбленной. С вызовом взглянув на хозяина дома, он решительно сказал:
— Я люблю вашу дочь и прошу у вас её руки.
Сосновский опешил. Он не ожидал от Костюшко такого прямого признания, а твёрдость его голоса и решительность смутили Сосновского. Сделав паузу и обдумав щекотливое положение, в котором он оказался, Сосновский уже мягче спросил:
— А как Людовика? Она тоже?
— Да, она тоже любит меня, — в тон Сосновскому уже спокойно добавил Тадеуш.
— Слушай меня, сынок, согласия от меня, а тем более благословения ты не получишь. И запомни, — изложил причину отказа Сосновский, — голубки не для воробьёв, а дочки магнатов не для шляхтюков. Ты понял меня, пан Костюшко?
Костюшко сразу сник и потупился. Да, он всё понял и сейчас судорожно думал, как ему поступить в сложившейся ситуации. Но отвечать Сосновскому на вопрос надо было незамедлительно:
— Я всё понял. Разрешите идти? — почему-то по-военному спросил он.
— Ступай. И не забудь, что через два дня ты уедешь на аудиенцию к королю и, независимо от результата этой встречи, навсегда покинешь мой дом, — жёстко пояснил свою позицию Юзеф Сосновский.
Развернувшись на сто восемьдесят градусов, Костюшко быстро вышел. Мозг его лихорадочно соображал и обдумывал план дальнейших действий.
«Главное сейчас — это объясниться с Людовикой и рассказать ей о состоявшемся разговоре, а дальше... Дальше всё будет так, как решит она», — думал он, пересекая широким шагом длинные коридоры когда-то гостеприимного дома.
Вечером того же дня Костюшко встретился с Людовикой в условленном месте, о чём они договорились ещё до неприятного разговора с её отцом. Услышав о категорическом отказе отца, Людовика сама предложила:
— Я готова уехать с тобой хоть на край света.
На край света Костюшко увозить любимую не собирался, но предложил тайно уехать с ним из отчего дома и обвенчаться в каком-нибудь костёле. Людовика, не долго размышляя о последствиях такого побега, согласилась. Теперь Костюшко предстояло всё организовать и претворить свой дерзкий план в жизнь. Но сначала должен был состояться визит к королю, который поможет многое расставить по местам даже в этой ситуации.
XVI

назначенное королём Польши время Костюшко прибыл к нему на аудиенцию. Станислав Август Понятовский с интересом смотрел на молодого человека, которого он с Чарторыским отправлял на учёбу во Францию. Перед ним стоял среднего роста симпатичный молодой мужчина около тридцати лет, гладко выбритый и без усов, в отличие от многих шляхтичей. В осанке Костюшко была явно заметна военная выправка, а на пальце его правой руки сверкал драгоценный перстень со странной символикой. Костюшко смотрел прямо на короля, и было видно, что того ничуть не смущало, что перед ним стоит первое лицо в государстве.
На самом деле Костюшко сильно волновался, но старался не подавать вида. Он лихорадочно повторял про себя слова просьбы к королю и ожидал, когда же тот начнёт говорить с ним.
— Пан Юзеф Сосновский просил меня, чтобы я принял вас. У вас есть ко мне просьбы, предложения? Излагайте, у меня мало времени, — поторопил король.
— Ваше величество! В 1769 году после окончания Рыцарской школы и получения офицерского патента капитана я был направлен вами во Францию для продолжения обучения. Там кроме основных дисциплин, по рекомендации князя Чарторыского, я изучал строительство мостов, шлюзов, дорог и каналов. А в последний год учёбы, благодаря финансовой помощи моих друзей, продолжил обучение в Швейцарии и Голландии. Теперь же, после пятилетнего отсутствия на родине, у меня нет возможности применить свои знания на практике, так как я не могу за 18 000 злотых выкупить себе офицерский патент в армии Речи Посполитой.
— У вас всё? — спросил король, выслушав длинный доклад Костюшко. — Так что же вы хотите конкретно от меня?
— Назначение на службу в какой-нибудь полк, а лучше в артиллерийский корпус.
— Вы женаты? — задал ещё один вопрос король. Заметив смущение просителя, король уточнил: — Вы обручены?
— Ни то, ни другое. У меня есть любимая, но её отец против нашего брака, — смущаясь ещё больше, ответил Костюшко.
Станислав Понятовский заинтересованно посмотрел на Тадеуша. Он понял, что здесь кроется интрига, а это чувство было так знакомо королю.
— Интересно, интересно... И кто же ваша избранница, и кто этот жестокий отец? — продолжал расспрашивать монарх офицера.
Костюшко оказался в сложной ситуации. Король ждал ответа. «Будь что будет», — решил он с надеждой, что король примет участие в судьбе влюблённых, а ему не придётся совершать того, о чём он договорился с Людовикой.
— Моя любимая — дочь пана Юзефа Сосновского, — выпалил он, с надеждой ожидая следующих вопросов от короля.
— У него их две. Какая из них? — последовал ожидаемый вопрос.
— Старшая. Людовика.
Станислав Понятовский с жалостью посмотрел на Костюшко. Он понимал, что вряд ли Сосновский отдаст замуж за этого шляхтича свою дочь. Помочь же Костюшко он не мог, хоть и хотел. Юзеф Сосновский был сторонником семьи Чарторыских, а давление короля на литовского магната в таком щепетильном вопросе не входило в его планы.
— А она любит вас? — спросил Станислав Понятовский из интереса.
— Любит. Наши чувства взаимны, — ответил Костюшко. По тону, с каким был задан вопрос, он догадался, что король сочувствует ему. Однако сам Тадеуш не решался просить короля стать посредником в этом жизненно важном для него вопросе.
Основная цель встречи с королём уже отошла на второй план. Разговор как-то неожиданно для обоих приобрёл совсем другое направление.
— И что же вы собираетесь делать? Ведь ваш покровитель, возможно, никогда не даст своё согласие на ваш брак, если он так уже решил? — король продолжал спрашивать, но ответ, который он услышал, огорошил его.
— Тогда мы повенчаемся тайно, и её отец не сможет пойти против воли Бога, — тихо промолвил Костюшко и опустил глаза, как провинившийся школяр.
Прямота и честность Костюшко поразили короля. Он с осуждением покачал головой, и несчастный влюблённый обречённо понял, что король не на его стороне.
— Я советую вам одуматься и не совершать роковых поступков. По законам Великого княжества Литовского за подобные действия вас могут привлечь к серьёзной ответственности. Вы даёте себе отчёт в том, что намерены сделать? — строго спросил Станислав Август Понятовский. Он искренне хотел предостеречь Костюшко от его опасных планов, и Тадеуш пожалел о том, что он доверился этому человеку.
— Я подумаю, ваше величество, — ответил уклончиво он.
— Вот-вот, подумайте, а я подумаю о вашей военной карьере, — пообещал король, и Костюшко понял, что аудиенция закончена.
Откланявшись, Костюшко вышел из кабинета со смешанными чувствами. С одной стороны, надежды на офицерский патент у него есть, но с другой — непонятно было отношение короля к его планам относительно личной жизни. Одно было ясно: Станислав Август Понятовский ничего не станет делать, чтобы помочь ему. И тем более не станет разговаривать с Сосновским, чтобы тот разрешил двум влюблённым официально и открыто пожениться.
«Ну и пусть, — упрямо подумал Костюшко. — Всё равно от Людовики я не отступлюсь», — и решительным шагом направился к выходу.
Но Костюшко ошибся в своих предположениях: разговор короля с Юзефом Сосновским состоялся а тот же вечер. Станиславу Августу Понятовскому стало ясно из разговора с Костюшко, что тот не отступится от своей цели и, если ему удастся, тайно увезёт любимую девушку наперекор воле её отца. Но если при этом беглецы будут пойманы, то по законам Великого княжества Литовского опозоренный отец может требовать от королевского суда смертной казни для этого настойчивого молодого человека. И королевский суд удовлетворит этот иск.
«А ведь жалко офицера. Столько в него вложено, и всё может пойти прахом... Умён, дерзок... Такой может пригодиться в будущем», — подумал польский король и решил поговорить с Юзефом Сосновским о судьбе Костюшко. Правда, при этом он намеревался убить сразу двух зайцев: проявить себя поборником Закона и сторонником Сосновского (или Чарторыских), а также предотвратить гибель молодого и талантливого офицера из-за глупых любовных увлечений.
В тот же день Станислав Август Понятовский пригласил к себе Юзефа Сосновского для приватной беседы. Но прежде, чем состоялся этот разговор, король взял с него слово шляхтича, что Сосновский поступит так, как попросит его Станислав Август Понятовский. Удивлённый такой постановкой вопроса, магнат обещал королю, что исполнит его просьбу.
— Я хочу, чтобы наш разговор остался тайной. Это в ваших интересах, — пояснил монарх.
После того, как он всё рассказал, король потребовал от Сосновского выполнить определённые условия. Если Костюшко всё-таки совершит то, что задумал, отец девушки обязан проявить милость в отношении дерзкого похитителя, не предавать его в руки правосудия, а отпустить его с условием, что тот немедленно покинет пределы Речи Посполитой.
Юзеф Сосновский вышел от короля с лицом, покрытым пунцовыми пятнами. Он пытался сдержать свои эмоции в королевском кабинете, но дал волю чувствам, когда сел в свою карету.
— Что стоишь, пся крев, трогай и быстрее! — рявкнул он на кучера таким тоном, что тот сразу понял, что пан «не в себе», и хлестанул плетью по спинам запряжённых вороных коней. Лошади рванули с места, чуть не задавив какого-то проходящего рядом шляхтича.
В груди Сосновского сердце стучало так, что, казалось, готово выскочить через мгновенье наружу. Сосновский потёр виски: начала болеть голова, а в глазах светлый летний день покрылся какими-то тёмными точками. В таком состоянии он находился, пока карета не доехала до дома.
«Как же он посмел, змеёныш! Я его как сына пригрел, а он...» — распалял себя Сосновский, пока свежий встречный ветер не освежил его больную голову. Постепенно эмоции стали утихать, головные боли прошли, и он стал размышлять более спокойно о том, что ему стало известно в этот день. Сосновский выстроил в уме предстоящий разговор с дочерью и с Костюшко, решив, что выгонит его сегодня же из дома, а дочку со временем успокоит и подготовит к предстоящей свадьбе с сыном князя Любомирского.
«Но сначала надо поговорить с Людовикой», — решил Сосновский.
Однако получилось всё наоборот: выйдя из кареты, он встретил Костюшко, и кровь опять ударила в голову оскорблённому отцу.
— Зайди ко мне. Немедленно, — приказал он Тадеушу тоном, не терпящим возражений и не предвещающим ничего хорошего от предстоящей беседы.
Как только хозяин дома, а за ним и Костюшко переступили порог гостиной, а послушный слуга закрыл за ними двери, Сосновский резко повернулся к Костюшко и заорал на него:
— Сегодня же собирай свои вещи, и чтобы завтра рано утром тебя не было в моём доме.
Костюшко не трудно было догадаться, что отцу его любимой что-то стало известно об их планах. Он был даже уверен в том, кто выдал его сердечную тайну и боль.
На мгновение замявшись, Тадеуш выпрямился, гордо поднял подбородок и спокойно ответил:
— Я попрошу вас не разговаривать со мной таким тоном.
Юзеф Сосновский от такой наглости и спокойного голоса шляхтича опешил. Хватая ртом воздух, он нервно стал расстёгивать ворот рубашки. Отвернувшись от Костюшко, он сел за стол, для чего-то взял перо, опустил его в чернильницу, а потом бросил на лежащую там же бумагу.
— Я всё знаю. Как ты посмел?! Ты, кого я вывел к люди, помог войти в высшее общество... Оставь Людовику в покое, и чтобы завтра же ноги твоей не было в моём доме, — подвёл черту Сосновский и отвернулся от Тадеуша в сторону окна.
Костюшко не уходил и стоял перед своим недавним покровителем в смущении, не зная, как ему поступить. В его душе боролись противоречивые чувства: с одной стороны, чувство благодарности к атому человеку, с помощью которого он стал тем, кем он стал, с другой — одурманивающие чувства любви к его дочери, без которой он сейчас не представлял себе свою дальнейшую жизнь. Эти чувства рвали его душу на части, но авантюрный план побега и венчания с любимой взял верх над чувством благодарности.
«Бежать немедленно... Сегодня же ночью», — только эта мысль билась у него в голове, не давая одуматься и возвратиться воспалённому мозгу к здравому смыслу.
Сосновский взял со стола второе перо и нервно стал ломать его, скрывая за этими движениями дрожь в руках. Потом, посмотрев на то, что сотворил, он отбросил сломанное перо и, повернувшись к Тадеушу, тихо произнёс:
— Забудь её. И забудь навсегда. Она выходит замуж за сына князя Любомирского.
Тадеуш в изумлении посмотрел на своего недавнего покровителя, и тот увидел в его глазах столько боли и растерянности, что Сосновскому на секунду стало жаль Костюшко. Но подавив в себе чувства жалости, он повторил свои слова, как приговор:
— Людовика — птица не твоего полёта. Завтра тебе дадут лошадь и деньги, и ты покинешь пределы Польши.
— А Людовика об этом знает? — спросил Тадеуш, ещё не придя в себя от этой новости.
— Не знает, так узнает. Воля родителей — закон для моей дочери, — твёрдым голосом заявил Сосновский. — Ступай и до отъезда не смей с ней встречаться.
— Прощайте, пан Юзеф. Думаю, что на этом свете мы с вами уже больше не увидимся, — тихо промолвил Костюшко и, круто развернувшись, вышел из гостиной.
«Ну и характер. Весь в отца», — подумал Сосновский и позвонил в колокольчик, вызывая слугу, стоящего за дверью.
— Пригласи-ка ко мне Людовику. И скажи, чтобы пришла ко мне немедленно, — приказал хозяин.
Людовика, лёжа на широкой тахте, читала очередной роман о несчастной любви двух влюблённых, когда в дверь её комнаты тихо постучал исполнительный слуга. Выслушав от него указание отца, ничего не подозревавшая Людовика вскоре уже открывала двери его кабинета. Сосновский не стал проводить дипломатических бесед с дочерью и сразу начал на неё своё «наступление»:
— Это правда, что пан Тадеуш признавался тебе в своих чувствах?
Людовика сразу поняла, о чём будет разговор, и в ней внезапно проснулся дух романтических героев-любовников из прочитанных ею книг. Кроме этого, она была достойная дочь своего отца, которого искренне любила, и в то же время твёрдо решила, что никто не сможет разлучить её с любимым Тадеушем. Пусть даже отец будет против их любви. Глупышка, она не понимала, что существуют обстоятельства, которые в корне противоречили её пожеланиям.
Выпрямив гордо спину и подняв вверх свой изящный подбородок, Людовика, подражая трагическим героям из прочитанных ею романов, с пафосом произнесла:
— Да, признавался. И я тоже люблю его и хочу стать его женой!
— Ты с ума сошла, дочка! — зарокотал Сосновский. — Ты посмотри, кто ты, а кто он?! Ты — дочь самого Юзефа Сосновского! А он? Он простой шляхтич, каких в Речи Посполитой не сосчитать.
— Папа, я люблю его! — топнув своей ножкой но узорному паркету, крикнула Людовика.
— Да уже завтра он получит какую-нибудь должность, и ты его больше никогда не увидишь, — начал уговаривать дочь Сосновский уже более миролюбивым тоном. — Он военный человек, у него своя судьба. А тебя ждёт блестящее будущее в высшем обществе.
— Я люблю его, — упрямо твердила непокорная дочь, но Юзеф Сосновский попытался ещё раз по-хорошему уговорить её, успокоить и убедить выполнить его волю.
— Дочка, опомнись! Подумай о матери... И вообще завтра он уезжает в Варшаву, и я надеюсь, что ты не скоро с ним увидишься.
— Я уеду вместе с ним, — заявила вдруг Людовика, перебивая отца, и сама испугалась своих слов. Ведь тем самым она давала ему понять, что готова пойти на любые крайности ради своей любви. Однако в душе девушка сама ещё не была уверена, готова ли она поменять спокойную и роскошную жизнь дочери магната на неопределённое будущее с польским офицером.
— Что ты сказала? Ты кому перечишь, глупая? Отцу? — Сосновский начал повышать голос, но взял себя в руки и опять заговорил тоном отцовских наставлений. — Да, он умён. Но таких умных полно в Европе. А лучшие фамилии Великого княжества Литовского и Польши сочтут за честь породниться с нами.
Не дослушав отца, Людовика выскочила из кабинета и бегом возвратилась в свою комнату. Там, бросившись на широкую и мягкую кровать, она горько рыдала, дав волю своим чувствам, и вскоре заснула с мыслями о своей несчастной судьбе.
Разбудил её тихий стук в дверь комнаты. Не понимая спросонья, где она и почему лежит в одежде на кровати, Людовика подняла голову и прислушалась. В окне в сумерках виднелись очертания деревьев большого сада, и в её комнате царил полумрак. Стук повторился, и Людовика в мгновение всё вспомнила: и разговор с отцом, и своё возмущение его деспотизмом и непониманием её чувств.
Быстро соскочив с постели, девушка подошла к двери и тихо спросила:
— Кто там?
— Это я, панночка, Януш, — услышала Людовика голос самого старого в этом доме слуги. Он так давно служил в доме её родителей, что практически никто уже не мог точно сказать, сколько ему лет и откуда он взялся. Только Юзеф Сосновский смог бы рассказать историю этого старика, который служил молодым оруженосцем ещё его отцу. В одном из сражений, которое победоносно завершил с турками Ян Собесский, Януш спас Сосновскому-старшему жизнь, и с тех пор он жил на определённых льготных, по мнению других слуг, условиях.
— Чего тебе надо? — тихим, заговорщицким тоном спросила Людовика старика.
— Вам письмо от пана Тадеуша, — также тихо, говоря в замочную скважину двери, сообщил Януш.
Людовика осторожно открыла дверь, которая почему-то очень громко, как ей показалось, вдруг заскрипела. Януш стоял возле самой двери и держал в руке лист бумаги. Людовика выглянула в коридор: никого, кроме Януша, там не было. Тогда она взяла у слуги письмо и, поднеся его к окну, принялась читать.
Письмо было очень коротким: Тадеуш предлагал любимой в полночь выйти за ворота с самыми необходимыми вещами, где он будет ждать её с крытой повозкой, и бежать с ним.
— Подожди меня здесь. Я напишу ответ пану Тадеушу, и ты его отнесёшь ему, — тоном хозяйки приказала Янушу Людовика и быстро подошла к столу, где лежали перо и бумага. Написав дрожащей рукой своё согласие на побег, Людовика передала его Янушу и после его ухода начала лихорадочно собирать вещи.
Было уже около полуночи, когда Тадеуш Костюшко ожидал свою возлюбленную возле въездных ворот дома, где ещё не так давно ему были все рады. Рядом с ним, мирно жуя траву под старым вязом, стояла лошадь, запряжённая в крытую повозку, которую подготовил Костюшко без особого труда. Всё проходило слишком хорошо и гладко для столь рискованного и опасного мероприятия, что Тадеуша немного волновало. Но больше его тревожил вопрос, сдержит ли своё слово Людовика? Не отступится ли она в последний момент от своего намерения бежать вместе с ним? А тут ещё полная луна-предательница выглянула из-за туч, освещая окрестности, которые ещё недавно были закрыты темнотой ночи. Она никак не входила в планы Костюшко.
Шум приближающихся шагов и тяжёлое дыхание Людовики, несущей увесистый баул с вещами, прервал его размышления, и он поспешил ей на помощь. Но дальше всё произошло совсем не так, как ожидали беглецы, а примерно так, как и предполагал Станислав Август Понятовский. Тайное похищение Людовики было «раскрыто дальновидным паном Сосновским». Как только Костюшко встретил под лунным светом свою возлюбленную и взял у неё тяжёлый баул, неизвестно откуда на него налетели гайдуки хозяина дома и повалили на землю. Уже через минуту Костюшко лежал на земле лицом вниз со связанными руками, а Людовика стояла рядом с широко открытыми от ужаса глазами. Она молчала, прикрыв ладонью рот, чтобы не закричать, и ничего не могла сделать, чтобы прекратить это унижение дорогого ей человека. Гайдуки же распалили факелы, и прямо из темноты показался сам Юзеф Сосновский.
— Ну что, пан Тадеуш? Этому тебя научили в Европе — молодых паненок из дому воровать? — обратился он к лежащему Костюшко. — Поднимите его, — приказал он гайдукам. — А ты знаешь, что по закону Великого княжества Литовского за то, что ты сегодня хотел совершить с моей дочерью, королевский суд присудит тебе смертную казнь? — продолжал отчитывать Сосновский Тадеуша. — Благодари Нога, что твой отец был моим другом, иначе ты бы живым отсюда не ушёл.
Костюшко молчал, опустив низко голову, переживая своё унижение и состояние беспомощности. Он не жалел о том, что собирался совершить, но терзался от мысли, что ничего из этой авантюрной затеи с побегом не получилось. Теперь его любимая Людовика видит его в состоянии пленника, а это положение ранило самолюбие шляхтича, офицера и просто гордого человека.
Сосновский повернулся к дочери, чтобы высказать ей своё отцовское порицание, но так ничего и не смог ей сказать, увидев при свете факелов её лицо. Он понял, что Людовика переживала в этот момент. Она стояла перед ним и горько рыдала, размазывая по щекам слёзы. И тогда Сосновский с благодарностью вспомнил короля и своё обещание отпустить Тадеуша. В противном случае его дочь никогда не простила бы отцу казни Костюшко. А королевский суд полностью был бы на стороне опозоренного отца.
Сосновский опять повернулся к Тадеушу. Подойдя к нему вплотную, он тихо произнёс:
— Убирайся, пока цел. Уезжай назад в Европу или куда подальше, а в Польше, а тем более при дворе польского короля, даже духа твоего не будет, пока я жив.
— А вы подумали, что будет с Людовикой? Помигаете, что она вам будет благодарна за то, что вы сейчас творите? — попытался Костюшко ещё раз что-то сказать в свою защиту и в защиту Людовики.
— Не тебе, пся крев, указывать, как мне поступать и что делать, — не сказал, прошипел Сосновский на ухо пленнику. — Развяжите его, — приказал он слугам, — дайте ему коня, верните вещи и... пусть убирается.
Совершив такой благородный жест, Юзеф Сосновский опять подошёл к дочери и, обняв её за плечи, повёл в сторону дома. Людовика не сопротивлялась и покорно пошла с отцом. Только на мгновение она обернулась в сторону Костюшко, как будто хотела что-то ему сказать, но ничего так и не сказала, а только неловко махнула на прощание рукой.
Гайдуки развязали Костюшко, вернули ему вещи и посадили на коня, отвязав его от повозки. Кто-то из них громко свистнул, кто-то ударил лошадь плетью, и через минуту конь уже нёс своего всадника по ночной дороге. Опозоренный и униженный, Тадеуш возвращался домой, чтобы спокойно осмыслить произошедшее и решить, как ему жить дальше.
XVII

адеуш прискакал в Сехновичи на рассвете. Все ещё спали, когда он начал громко и настойчиво стучать в двери своего родного дома. Из домика для слуг первым выбежал Томаш и подошёл к Тадеушу, ожидая его указаний. Но тот продолжал молотить кулаком по входной двери, пока перепуганный и сонный Иосиф не появился перед ним в нижнем белье.
— Это ты? Что случилось? — только и успел спросить старший брат.
Ничего не объясняя, Тадеуш вошёл в дом и сел за большой обеденный стол в гостиной.
— Беда, брат. Выручай, дай мне другого коня и Томаша для сопровождения, а я тебе, как устроюсь на новом месте, всё верну стократ, — только и смог сказать Тадеуш, едва отдышавшись после ночных приключений.
Набросив на плечи большой платок, рядом с мужем стояла сонная невестка. Она испуганно смотрела то на мужа, то на грязного от дорожной пыли его брата.
— Ну чего стоишь? Принеси выпить и поесть, — набросился на жену Иосиф. — Видишь, плохо человеку.
Мария быстро убежала хлопотать на кухню, а Иосиф присел рядом с братом. Он видел перед собой не гордого и успешного в жизни офицера, а раздавленного каким-то тяжёлым горем человека. В грубой, непривычной к сентиментальным чувствам душе Иосифа вдруг проснулась жалость и зашевелилось неизвестное ему ранее чувство сострадания.
— Ну, давай рассказывай, что случилось? — участливо поинтересовался старший брат у младшего, с тяжестью проглотив подступивший к горлу комок.
И Тадеуш, положив голову на руки, рассказал без утайки о своей неудачной попытке похищения Людовики. Поведал он брату и о непонятной милости Юзефа Сосновского, проявленной им в отношении злоумышленника после того, как он был изобличён и пойман.
Первый раз в жизни братья душевно проговорили несколько часов, запивая горькие мысли такой же горькой выпивкой. Они вспоминали своё детство, свою добрую
мать и, в отличие от неё, жёсткого в общении с матерью и детьми отца. Братья, окончательно опьянев от большого количества выпитого, то громко стучали кулаками по столу, что-то с хрипотой в голосе доказывая друг другу, то через минуту уже целовались и обнимались, прося друг у друга прощение.
Рано утром следующего дня со двора поместья выехала повозка, запряжённая одной лошадью. В повозке сидел, задумавшись о своей злополучной судьбе, ещё не совсем трезвый после попойки Тадеуш Костюшко, а за кучера был Томаш, которого «передал» в услужение младшему брату Иосиф Костюшко. Кроме этого Иосиф так расщедрился, что ссудил Тадеушу небольшую сумму денег, чтобы ему хватило добраться до границы и на первое время его будущей жизни во Франции. Именно туда решил вернуться Тадеуш Костюшко, где он прожил несколько лет счастливой молодости. Именно там у него остались друзья, дружба которых была проверена годами совместной учёбы, весёлых пирушек и опасных дуэлей.
Томаш, довольный своим новым положением слуги при Тадеуше Костюшко, радостно и с каким-то озорством покрикивал на лошадь, если она сбавляла темп движения. Его новый хозяин не велел задерживаться и почему-то очень куда-то торопился. Но Томаша не волновал вопрос: зачем и куда. Главное для него — это смена обстановки и возможность покинуть поместье и его прежнего хозяина, который изрядно надоел Томашу своим ворчанием и придирками. А вот новый хозяин, пан Тадеуш, с самого начала понравился ему, и поэтому Томаш не задумывался сейчас о своём будущем, а поторапливал лошадь, чтобы до наступления темноты доехать до какого-нибудь постоялого двора.
Прибыв в Варшаву, Тадеуш сразу направился к своему давнему знакомому Казимиру Сапеге. К этому времени он уже являлся магистром варшавского ордена вольных каменщиков и был признанным руководителем и лидером всего масонского движения в Речи Посполитой.
«Главный масон Польши», пользуясь своим авторитетом и связями в Департаменте иностранных дел, быстро оформил все необходимые документы для Костюшко и его слуги для выезда за пределы Речи Посполитой. Уже через два дня после описываемых событий путешественники покинули Варшаву в почтовой карете, направлявшейся в сторону Германии. Конечной же их целью всё-таки была Франция.
После недолгого пребывания на родине Тадеуш Костюшко уже не в компании молодых выпускников Рыцарской школы, а один со своим верным слугой Томашем снова прибыл в Париж. Он уже не был молодым офицером, полным радужных надежд и веры в свою счастливую звезду, а изгоем. Горечь потери любимой, крушение иллюзий на удачную карьеру в польской армии — всё это сильно повлияло на формирование его характера. Он стал замкнутым, меньше говорил и больше слушал других, а о себе и своих планах на будущее никому не рассказывал. Костюшко пытался найти себя в этой суете жизни французской столицы и не находил.
Часами он бродил вдоль набережной Сены, размышляя о смысле бытия, посещал молитвенные дома различных религиозных конфессий, слушал там проповеди местных священнослужителей. Однако ничего за это время не тронуло его душу настолько, чтобы принесло ей успокоение и смирение перед судьбой, которая как бы испытывала его. Костюшко начал понимать, что фортуна не всегда к нему благосклонна, что может быть и всё наоборот. Правда, оставалась ещё надежда и немного веры в счастливый случай, который изменит его жизнь и запустит её на очередной виток.
Томаш же на деле оказался смышлёным слугой, и Тадеуш был рад, что не поддался первому порыву и не отказался от предложения старшего брата взять с собой в поездку этого парня. В свободное время (а его у Костюшко теперь было довольно много) он обучал своего слугу французскому языку. К большому удовлетворению учителя Томаш удивил Костюшко своей отличной памятью. Благодаря ей он стал быстро улавливать чужую речь и понимать смысл сказанного на ещё недавно чужом для него языке.
Находясь на чужбине, в сложной обстановке и в новых, непривычных для него условиях жизни, Томаш умудрялся создать некий уют в их скромном жилище, готовил еду для хозяина и для себя из продуктов, которые по дешёвой цене приобретал на рынке у молодых француженок. Эти озорные и бойкие торговки не могли устоять перед обаянием молодого поляка, который на ужасном французском языке пытался сторговаться с ними. Сверкая глазами и непроизвольно демонстрируя ему свои соблазнительные женские прелести, они всегда уступали и продавали ему продукты по более низкой цене.
Князь Любомирский и Юзеф Сосновский долго не тянули со свадьбой своих детей. После объявления о помолвке вскоре состоялась процедура венчания в одном из величественных костёлов Варшавы. Свидетелями торжественной процессии, впереди которой шли два молодых и прекрасных создания, стали многие известные люди Речи Посполитой. Сам король Польши Станислав Август Понятовский был приглашён на это торжество родителями молодых, и он с удовольствием принял это приглашение. А по-другому не могло и быть: как-никак, а к этому браку он имел непосредственное отношение.
Людовика со слезами на глазах стояла перед епископом, который благословлял их брак, словно по сне. Она почти не воспринимала реальность происходящего, и все её мысли были о том, кто сейчас находился далеко от неё. Людовика всю ночь перед венчанием не спала и думала о Костюшко, вспоминая их уроки, встречи и беседы в саду и, наконец, их неловкие признания в любви друг к другу.
В ту роковую ночь, когда мечта Людовики стать женой Тадеуша так и не превратилась в явь, когда она увидела, каким жестоким может быть её отец, молодая и ранимая девушка решила совсем оставить высший свет и уйти в монастырь. Но Юзеф Сосновский, просидев всю ночь возле постели неблагоразумной дочери, объяснил ей, что отпустив Костюшко, он подарил ему жизнь и свободу. После разговора с отцом Людовика изменила своё решение стать Христовой невестой, согласилась подчиниться воле отца и выйти замуж за земного сына князя Любомирского.
— Поздравляю вас! Отличная партия для вашей дочери, — обратился к Юзефу Сосновскому король после того, как была завершена процедура венчания и все присутствующие потянулись к выходу. — Теперь можно подумать и о будущем для вашей младшей дочери. Кажется, её зовут Катерина?
— Спасибо, ваше величество, за поздравления, — искренне поблагодарил Сосновский. — Я об этом подумаю. А пока пусть будет счастлива моя старшая дочь, а время младшей, наверно, ещё не наступило.
— Может, вы и правы: отцу виднее, — заключил Станислав Август Понятовский и в сопровождении нескольких придворных шляхтичей, выполнявших одновременно роль его личной охраны, направился к своей карете.
XVIII

ранцузский король Людовик XVI по традиции своей страны всегда противостоял во внешней политике Англии, самой мощной морской державе. Но в этой державе не всё шло гладко и хорошо. Первый предупредительный сигнал прозвучал из американских колоний. Там вспыхнул конфликт между простыми колонистами, английскими чиновниками и королевскими военными гарнизонами. Противостояние быстро набирало силу, и вскоре конфликт перерос в серьёзные военные действия. Колонистам потребовалась помощь, и Людовик XVI с удовольствием принял предложение молодого маркиза де Лафайета (тем более, что королевской казне это ничего не стоило) по сбору добровольцев-волонтёров в армию Вашингтона. Король Франции без особых возражений и расспросов дал своё согласие и благословление на этот международный благородный порыв 18-летнего искателя приключений.
— А из каких средств вы собираетесь финансировать свою экспедицию? — спросил монарх молодого аристократа, выслушав только что его предложение по оказанию помощи Континентальной армии.
— После смерти моего деда, маркиза де Ла Ривьер, я получил в наследство всё его состояние. Так уж получилось, что его смерть превратила меня в богача, — пояснил королю молодой маркиз. — Так что корабль, который поплывёт к берегам Америки, и вся его команда принадлежат мне.
— Похвально, похвально... — удовлетворённо кивнул головой Людовик XVI и тут же добавил, изобразив на своём лице выражение печали: — Поверьте, маркиз, я скорблю о кончине вашего деда. Он был одним из достойных генералов моей армии.
— А набор добровольцев я прошу организовать с помощью десятка французских офицеров, которые изъявят желание отправиться по моему призыву в Америку, — выразил таким образом маркиз королю свою просьбу.
— Ну что же, десяток офицеров мы вам выделим в качестве военных советников. Ну а если вы добьётесь определённых успехов, оказывая помощь Вашингтону, — Людовик XVI усмехнулся, произнеся последние слова, — то мы подумаем об увеличении числа наших солдат на американском континенте.
— Так я могу действовать? — спросил будущий маршал Франции своего короля, довольный результатом оказанного ему приёма.
— Да, конечно. И можете начинать хоть с сегодняшнего дня. Соответствующие распоряжения я дам военному министерству, — ответил ему, улыбаясь, Людовик XVI и махнул рукой, давая понять маркизу, что вопрос решён и дополнительного его обсуждения не требуется
[17].
Мари Жезеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Лафайет — вот полное имя молодого маркиза, которому повезло родиться в известнейшей французской семье аристократов. По отцу и по матери он принадлежал к так называемому дворянству шпаги, а из шести унаследованных им имён родители выбрали одно — Жильбер. Это имя родители определили в память о Жильбере де Лафайете, маршале Франции и соратнике деревенской девушки Жанны д’Арк, названной при жизни Орлеанской девой и ставшей после своей трагической смерти легендой Франции.
Своего отца, гренадерского полковника, кавалера ордена Святого Людовика Луи Кристоф Рок Жильбер дю Мотье, маркиза де Лафайета, маленький Жильбер не знал, так как тот погиб за пару месяцев до его рождения во время Семилетней войны с англичанами в сражении при Хастенбеке. Мать его тоже рано ушла из жизни, неожиданно скончавшись в возрасте 33 лет в 1770 году.
Оставшись сиротой, Жильбер уже через год после смерти матери в 13 лет был зачислен во вторую роту мушкетёров короля — элитарную гвардейскую часть, известную под названием «чёрные мушкетёры», и со временем дослужился там до звания лейтенанта.
Став богатым наследником после смерти деда, Жильбер де Лафайет в свои 18 лет вёл светский образ жизни, как и полагалось отпрыску знатного рода. Посещая светские салоны известнейших французских фамилий, он всегда находился в окружении таких же именитых сверстников. Эти молодые и богатые люди с интересом познавали жизнь во всём её многообразии и впитывали в себя, как губки, всё новое, что происходило во Франции и за её пределами. Расширяя свой кругозор, меняя своё мышление и восприятие окружающего мира, французская молодёжь высшего света изучала работы Руссо и Вольтера, грезила переменами и готова была принять участие в любой авантюре. Главное в чём-то заявить о себе и записать своё имя в историю.
И такой шанс у них появился в 1776 году, когда молодое парижское сообщество узнало о восстании в североамериканских колониях и принятии Декларации независимости, а также ознакомилось с содержанием этого документа. Именно тогда на одном из светских приёмов Жильбер де Лафайет со своими друзьями встретился и познакомился в Версале с доверенным лицом Вашингтона квакером и истым республиканцем Генри Ли. Он вместе с Бенджамином Франклином
[18] и Джоном Адамсом
[19] с дипломатической миссией был послан за помощью во Францию и справился со своей ролью блестяще
[20].
Тогда молодой американский патриот, появляясь в известных домах Парижа, отрыто высказывал спои республиканские взгляды и имел ошеломляющий успех у светской французской молодёжи. Под впечатлением этого знакомства богатый отпрыск известной аристократической французской фамилии и принял решение о своём участии в войне с английской короной за независимость нового государства. Удовлетворённый результатом проведённых переговоров с королём, де Лафайет подал просьбу о временном его увольнении с королевской службы в запас «по состоянию здоровья». Однако только в августе 1777 года уже на втором корабле, снаряженном на собственные средства, маркиз Жильбер де Лафайет смог прибыть на американский берег, где ему предстояло стать очередным героем Соединённых Штатов.
Перед отплытием в Америку он успел встретиться с Бенджамином Франклином и рассказал ему о своих планах по участию в войне против англичан. Но при этом он выдвинул дипломату два важных условия: все расходы по снаряжению военной экспедиции в Соединённые Штаты маркиз берёт на себя и отказывается от всякого жалованья и какой-либо иной материальной компенсации за свою службу. Франклин был искренне тронут благородным порывом молодого человека и не стал его отговаривать от данной затеи. Тем более что именно для этих целей американский дипломат и находился во Франции, оставив в Америке свою семью на целых восемь лет.
Уже через несколько дней после беседы короля с молодым маркизом не один десяток офицеров французской армии изъявили желание отправиться на поиски приключений на далёком американском континенте, но военный министр сразу ограничил их численность. Франция не могла так явно выступать в этой войне на стороне американских колонистов против английской регулярной армии. Подобная активность Франции могла быть расценена европейскими монархами как открытое вмешательство во внутренние дела Великобритании. А вот несколько французских офицеров в армии Вашингтона не будут являться поводом для объявления войны одной державой другой.
На многолюдных торговых площадях Парижа в эти дни можно было видеть бравых сержантов, которые собирали добровольцев в батальон маркиза де Лафайета. Они устанавливали плакаты, призывающие всех желающих получить возможность переплыть океан за чужой счёт. Кроме десятка кадровых офицеров французской армии в батальон записались добровольцы разных профессий, образования и происхождения. Но главным условием для получения бесплатного пропуска на корабль маркиза де Лафайета, отплывающего в далёкую и загадочную Америку, было умение владеть оружием и подписание контракта. Условия контракта были жёсткими: волонтёр-доброволец переходил в полное распоряжение командиров этого военного подразделения.
Маркиз де Лафайет был хоть и молод, но дальновиден: он не просто собирал с улиц всяких бродяг, готовых плыть куда попало, лишь бы хорошо платили (конечно, среди волонтёров попадались и такие). Желающих уплыть в Америку на корабле, где тебе выдадут денежное пособие, будут кормить и поить, было так много, что среди них пришлось делать специальный отбор. В батальоне должны были служить наиболее пригодные для данной экспедиции люди, понимающие основную её цель и державшие до этого в руках оружие. В результате такого отбора на палубе корабля маркиза де Лафайета подобрались в основном добровольцы, которые осознанно плыли в неизвестную им страну и готовы были принять на себя все тяготы жизни военного времени.
XIX

страивая свою жизнь на новом месте и в новых для себя условиях, Тадеуш Костюшко всё ещё терзался мыслями о Людовике и её потере. То, что она потеряна для него навсегда, он узнал после того, как получил письмо от брата Иосифа, где тот сообщил, что его любимая всё-таки вышла замуж за сына князя Любомирского.
«Ну что ж, значит, не судьба», — успокаивал себя Тадеуш, но по ночам иногда до утра ворочался в постели и часами не мог уснуть, вспоминая недавние события, из-за которых круто изменилась вся его жизнь.
Время пребывания Тадеуша Костюшко во Франции в 1776 году после его побега было не лучшим периодом в жизни бывшего капитана армии Речи Посполитой. Без денег, без постоянной работы или службы, не имея своей крыши над головой, он оказался в сложном положении. В Париже Костюшко восстановил свои старые связи с офицерами французской армии, с которыми учился в военной школе Мерсер. Узнав от него причины возвращения в столицу, эмоциональные товарищи помогли ему определиться с проживанием в большом городе и устроили в частную школу учителем фехтования. Теперь Костюшко мог обеспечить себя деньгами и не зависеть в этом плане от своих друзей. В то же время встреча со своим старым другом Питером Цельтнером, ставшим уже майором швейцарской королевской гвардии, оказалась для Костюшко судьбоносной.
— Недолго, однако, ты отсутствовал во Франции, — крепко обнимая Костюшко, радовался встрече, как ребёнок, Цельтнер. — Но всё равно я ужасно рад тебя видеть.
Он долго не отпускал Костюшко из крепких объятий, не веря своим глазам, что его друг вновь оказался в Париже. Когда же тот всё-таки освободился из его рук, то Цельтнер взял с него слово, что сегодня же вечером они навестят одно приличное заведение и отметят встречу.
Костюшко даже и не думал отказываться от такого предложения. Скорее наоборот, с удовольствием принял приглашение, и в тот же вечер за бутылкой хорошего вина долго рассказывал другу о своих «приключениях».
— Да, бывает, брат, всякое в этой жизни, — вывел аксиому Питер и приложился к кружке. — Ну и что ты будешь теперь делать? — полюбопытствовал швейцарец, задумавшись о чём-то на несколько секунд.
— Пока не знаю, — честно ответил Костюшко. — Но я не собираюсь всю жизнь учить отпрысков французских аристократов держать правильно в руках шпагу и наносить точно удары.
— И это правильное решение, — вдруг, радостно улыбаясь, заявил Цельтнер. — Ия тебе дам дельный совет, за который ты мне сегодня проставишь бутылку бургундского!
— Сначала совет, потом бургундское, — ответил Костюшко и приготовился слушать.
— Принимается, — одобрительно кивнул Цельтнер и сразу стал серьёзным. — Ты слышал, что в английских колониях в Америке сегодня неспокойно? Назревает война. Сам понимаешь, Великобритания не в восторге от того, что огромные территории её колоний вдруг станут независимыми.
— А управлять новым государством будут фермеры и охотники, — попробовал пошутить Костюшко.
— Точно. Теперь подумай, если начнётся война, то разве тебе не найдётся среди этих охотников достойное место?
Цельтнер сделал несколько больших глотков из своей кружки и продолжил:
— Своих солдат не хватает, как и денег... Сам понимаешь, какая у них может быть армия? — с насмешкой добавил гвардеец.
— Так ты предлагаешь мне отправиться в Америку? — уже вполне серьёзно спросил Костюшко.
— Советую. Кроме этого, я предлагаю там встретиться с одним умным человеком. Он был проездом в Париже несколько лет назад, но успел здесь за короткое время создать себе авторитет. Интереснейшая личность, скажу я тебе, — рассказывал Цельтнер своему другу.
— И как зовут эту «личность»?
— Бенджамин Франклин.
— И где я смогу с ним там встретиться? — усмехнулся Костюшко, понимая глупость своего вопроса и сложность своего положения.
— А это уж как тебе повезёт. А если повезёт, то тогда не волнуйся. Этот американец хоть и светский лев, но прост в общении, — с азартом игрока продолжал объяснять Цельтнер свой план. — В Париже он успел блеснуть в высшем обществе, посетить театр, посидеть за карточным столом, пообщаться с дамами.
Цельтнер поднял указательный палец вверх, намекая, что сейчас он приступит к самому главному.
— У меня есть очень хорошие связи в том обществе, где бывал этот джентльмен.
— И как зовут эту «связь»? — улыбаясь, спросил Костюшко.
— Мадам Анна-Катрин, вдова философа Клода Андриана Гельвеция. Я тебя с ней познакомлю. Удивительная женщина: красива, как Афродита, умна, не капризна, понимает всё с полуслова.
— Она мне даст рекомендательное письмо к этому американцу?
— Вряд ли. Но если тебе повезёт и ты с ним встретишься, то, я думаю, ты произведёшь на него впечатление. Заодно можешь обмолвиться, что лично знаком с мадам.
Цельтнер недвусмысленно снова поднял указательный палец вверх.
— Что ты можешь ещё про него рассказать? — как разведчик, начал выуживать нужные сведения у товарища Костюшко.
Цельтнер задумался на несколько секунд.
— Остроумен, умён, всеобщий любимец любого общества, республиканец, в Париже посещал масонскую ложу «Девять сестёр», какой-то учёный, — коротко изложил он основное и замолчал, раздумывая, что ещё может добавить к сказанному.
Костюшко задумался. Его товарищ предложил ему покинуть Париж и стать наёмником в далёкой Америке. «Ну и пусть. Может, это лучшее, что я могу себе позволить в моём положении, — подумал он. — Начну всё с начала, а там будет видно. Может быть, повезёт встретиться и с этим (как его там зовут) Бенджамином Франклином».
Пока Костюшко сидел в раздумье, Цельтнер с сочувствием смотрел на него и допивал своё вино.
«Жаль, конечно, с ним расставаться, — подумал он. — Но в его ситуации лучше начать свою военную карьеру с простого солдата, чем в какой-нибудь европейской армии офицером, где любой младший чин сможет попрекнуть его изменой своей родине. А ведь Тадеуш спуску никому не даст
и ещё до первого сражения может пасть от удара клинка более опытного дуэлянта».
Уже через несколько дней бывший капитан без проблем прошёл отбор в волонтёры, и имя Тадеуша Бонавентура Костюшко стояло в списке солдат батальона маркиза де Лафайета. В самое ближайшее время они должны были отплыть в Америку с благородной, как казалось Костюшко, миссией. Так как республиканские идеи Руссо и Монтескьё по-прежнему были ему близки, то он с волнением ожидал того момента, когда корабль унесёт его к берегам Нового Света. Волонтёру Тадеушу Костюшко уже не терпелось принять активное участие в защите нового государства, которое обнародовало и приняло такой документ, как Декларация независимости, с содержанием которого он был полностью согласен.
Когда же вопрос о времени отплытия был окончательно определён, перед Костюшко встал вопрос, как ему поступить с Томашем. За время их совместных путешествий он привык, что слуга был рядом, и ему было бы жаль расстаться с ним.
— Томаш, у тебя есть выбор: вернуться на родину или плыть со мной в Америку, — обратился Костюшко к парню. — Неволить не буду. Поступай, как знаешь.
— А я и сам собирался просить вас взять меня с собой на войну, — с готовностью ответил Томаш. — Что мне делать в Сехновичах? Никому я там не нужен. Да и здесь я чужак, — как-то грустно признался он.
— Ты пойми, там идёт война и тебя могут убить.
Томаш как-то грустно посмотрел на хозяина, потом улыбнулся и обречённо махнул рукой.
— Семи смертям не бывать, а одной не миновать, — подвёл он черту под своим окончательным решением.
Уже через неделю Костюшко вместе с Томашем стояли на палубе корабля, отплывающего из Марселя на американский континент. Вместе с другими добровольцами они смотрели на удаляющийся берег Франции, а Тадеуш вспоминал бурные события последнего года и только предполагал, что его ожидает в Америке не менее бурное будущее.
Часть вторая
ЗДРАВСТВУЙ, АМЕРИКА!
I

рогуливаясь по палубе, Костюшко наблюдал за морем, чайками, членами команды, которые занимались каждый своим делом. Он наслаждался морским видом и свежим воздухом, рисуя в воображении своё будущее. Капитан корабля на мостике о чём-то разговаривал с боцманом, отдавая ему какие-то приказания, и тот утвердительно кивал головой. У боцмана была кучерявая борода. Тут внимание Тадеуша привлёк ещё один человек: на палубу из каюты вышел офицер лет тридцати пяти в форме прусской армии, высокого роста с лихо закрученными кверху небольшими усами. Он подошёл к капитану, и уже втроём они стали живо обсуждать какой-то вопрос, не обращая внимания на шатающихся по палубе волонтёров.
Капитан взмахом руки отправил от себя боцмана, и уже через пару минут матросы установили бак с едой, к которому потянулись проголодавшиеся искатели приключений. Костюшко тоже получил свою порцию немудрёного обеда и устроился удобнее, чтобы подкрепиться.
— Интересная, однако, у нас собралась компания, — внезапно услышал он рядом с собой голос человека, который обращался, по-видимому, к нему на французском языке, но с ярко выраженным акцентом.
Обернувшись на голос, Костюшко увидел стоящего перед ним того прусского офицера, который несколько минут назад разговаривал с капитаном.
— Разрешите представиться: барон Дитрих фон Оттендорф, — отрекомендовался незнакомец и приложил два пальца к виску.
— Бывший капитан армии Речи Посполитой Тадеуш Бонавентура Костюшко, — спокойно ответил Тадеуш, продолжая держать в руках деревянную тарелку с деревянной же ложкой.
— И какими судьбами вас, бывшего капитана, занесло на этот корабль? — заинтересованно продолжал фон Оттендорф.
Костюшко почему-то не хотелось разговаривать с этим пруссаком. Наверно, эта неприязнь была вызвана тем, что этот офицер был всё-таки ПРУССКИМ офицером, выходцем из той страны, которая недавно приняла активное участие в захвате его родины.
— Вы можете говорить со мной на своём родном языке. Я в совершенстве владею не только французским языком, но и ещё тремя, включая немецкий, — заметил равнодушно Костюшко. — А на корабле я по той же причине, что и вы: плыву воевать в рядах армии Вашингтона. Или ваше присутствие на этом судне предполагает другие цели?
Фон Оттендорф уловил неприязнь в голосе Тадеуша. Догадываясь о причинах такого отношения к себе, пруссак присел рядом, немного помолчал, всматриваясь куда-то вдаль за горизонт, и заговорил с Костюшко уже по-немецки:
— Вы правы, я тоже сделал свой выбор и сейчас не марширую по польской земле в рядах армии Фридриха Великого, хотя ранее и служил в ней (фон Оттендорф сделал паузу и внимательно посмотрел на собеседника), а плыву в неизвестное, чтобы помочь какому-то Вашингтону создать новую американскую армию, которая станет в будущем (я так думаю) одной из лучших армий мира.
— Вы республиканец? — более миролюбиво спросил Костюшко, уже с интересом включаясь в беседу.
— Скажем так: мне близки республиканские идеи, но я военный и политикой не интересуюсь, — честно признался барон. — И вы, наверно, спрашиваете, зачем же тогда я плыву в далёкую Америку, когда и в Европе есть места, где я мог бы применить свои силы? Я прав? — фон Оттендорф ждал ответа, и Костюшко подтвердил предположение офицера:
— Правы. Мне непонятно ваше присутствие здесь, если вам всё равно, за кого и ради чего воевать.
— Всё гораздо проще, чем вы думаете. В Европе таких офицеров, как я, полно. Нас как пушечное мясо бросают наши короли в бой ради своих имперских желаний завоевать и прославиться, победить и оставить после себя память в истории. — Фон Оттендорф на какое-то мгновение приостановил свои откровения, обдумывая, стоит ли продолжать разговор с каким-то литвином. Но немного помолчав и не услышав от Костюшко новых вопросов, продолжил:
— А нашему брату-офицеру остаётся только молиться перед очередным сражением, чтобы пуля-дура или осколок картечи не ранили тяжело в бою, а лучше бы убили сразу, чтобы не мучаться потом всю жизнь инвалидом.
— Вы думаете, что в Америке будет по-другому? — ещё с большей заинтересованностью спросил Костюшко. Ему уже начинал нравиться этот философский разговор.
— Не совсем, но по-другому, — сразу ответил фон Оттендорф.
— Почему же? — Костюшко потерял интерес к еде и отставил свою миску в сторону.
— Да потому что там, — фон Оттендорф показал рукой на далёкий горизонт, — нет Фридрихов Великих, а среди бывших фермеров и охотников почти нет профессиональных военных, которые бы смогли из этой стихийно сформированной армии создать достойного соперника англичанам.
— И вы думаете, что сможете там, — Костюшко кивнул головой в ту же сторону, куда только что указывал рукой прусский офицер, — стать вторым Фридрихом, но уже американским?
— А почему бы и нет? Кстати, у вас есть точно такая же возможность, — улыбнулся барон и встал, чтобы попрощаться. — Так что желаю удачи. И помните, бывших капитанов не бывает. Если же, конечно, вы — настоящий капитан.
Фон Оттендорф приложил два пальца к треуголке и удалился от Костюшко в сторону своей каюты, где и скрылся через несколько секунд. А Тадеуш ещё долго сидел на палубе, размышляя о том, о чём только что услышал от этого странного прусского барона.
Все тринадцать английских колоний, расположенных вдоль Атлантического побережья северной части американского континента, представляли собой территорию, где более девяти десятых населения являлись фермерами. Причём аграрные отношения в центральных колониях развивались более активно, так как фермерские хозяйства там были крупные, а объём производимой продукции превосходил местные потребности. Избыток же сельскохозяйственной продукции английские купцы скупали у колонистов за бесценок, а продукцию, производимую в Англии, продавали местному населению но высоким ценам.
Кроме этого, метрополия облагала сельскохозяйственную продукцию разорительными для американских фермеров пошлинами, что также являлось предметом их постоянного недовольства. Возмущённое такой несправедливостью местное население сначала просто роптало. Однако со временем то тут, то там в колониях начали вспыхивать стихийные выступления против существующей экономической политики английских чиновников, которые порой перерастали в крупные движения фермеров.
Так, в 1768—1771 годах образовалась фермерская организация «Регуляторов», которая требовала снижения ренты и участия фермеров в колониальном управлении. Но подобные требования жестоко были пресечены губернатором Северной Каролины Тройоном с помощью доблестных английских солдат. И в дальнейшем подобные волнения и выступления фермеров, хотя и продолжались, но носили местный, локальный характер.
Кроме засилия английских купцов и английских чиновников к колонистам, а именно к крупным землевладельцам, пришла ещё одна беда: во второй половине восемнадцатого столетия цены на табак, основную сельскохозяйственную культуру американских плантаторов, начали стремительно падать, и в связи с этим наступил тяжёлый кризис плантаторского хозяйства. В то же время на этом кризисе хорошо наживались британские купцы, клавшие все прибыли от реэкспорта табака к себе а карман.
Метрополия, пользуясь разобщённостью колоний и экономической зависимостью от Англии, всячески препятствовала образованию в них единого рынка. Такое положение очень устраивало английскую буржуазию, но крайне не устраивало молодую американскую. В сознании молодого поколения американцев уже были посеяны ростки теории естественного права Мильтона, Вольтера и Монтескьё. Преклонение перед английской короной, основанное на вере в божественное происхождение королевской власти, было вытеснено новым прогрессивным мышлением.
Противостояние колоний и метрополии нарастало. Борьба американских колонистов за независимость начиналась с небольших недоразумений и разногласий, периодически возникавших между ними и английской администрацией. Довольно часто подобные разногласия заканчивались вооружёнными стычками с английскими солдатами. Похожие сюжеты боёв местного значения происходили на территории всех тринадцати колоний, как будто были написаны одним и тем же сценаристом.
Наконец, мыльный пузырь такого противостояния местного населения англичанам лопнул во время знаменитого «Бостонского чаепития». Основой первого крупного выступления колонистов стал конфликт между английскими чиновниками и американскими контрабандистами. Первые с выгодой для английских торговцев регулировали налог на ввозимый в Америку чай Ост-Индской компанией, а вторые ни во что не ставили интересы англичан и продавали чай по своей, более низкой цене.
В один из летних дней в бостонский порт вошли три корабля Ост-Индской компании «Дартмут», «Элеанор» и «Бобр», на борту которых находился товар из далёкой Индии. Узнав об этом, лидер бостонских заговорщиков «Сынов свободы» Сэм Адамс на средства контрабандистов организовал многотысячную демонстрацию протеста. Одни участники демонстрации, возмущённые высокими налогами, выкрикивали обидные слова в сторону англичан, другие — требовали равных с ними прав но выборам своих представителей в парламент.
Хорошо организованное «народное возмущение» напугало английских купцов не на шутку. В этой огромной массе людей они увидели новую силу, которая до этого времени себя так активно не прокалила. Однако губернатор штата Массачусетс Хатчинсон оказался упрямым чиновником и верным исполнителем воли английского короля. Он решил не допускать никаких послаблений смутьянам и предпринять против них решительные меры. При этом губернатор не нашёл ничего лучшего, как отменить и штате свободу собраний, а бостонский порт и вовсе по его распоряжению был временно закрыт.
Колонисты, а больше всего контрабандисты чаем, получавшие солидный доход от перепродажи индийского продукта и содержавшие на свои деньги всё бостонское революционное подполье, были искренне возмущены таким «ущемлением их прав и свобод». В ночь на 17 декабря 1773 года толпа бостонцев, переодетых в индейские костюмы, потрясая томагавками, захватили всё вышеупомянутые три корабля и выбросили за борт прямо в океанские волны сорок пять тонн дешёвого чая. Вместе с ним в воде оказались и английские солдаты, которые были приставлены охранять этот драгоценный груз. А так как весь чай затонул не сразу, бостонцы ещё долго выходили в море на маленьких лодках, чтобы пополнить свои запасы индийским продуктом и подготовиться к долгому чаепитию во время длинных зимних вечеров.
В ответ на такую наглость колонистов и в цепях наведения должного порядка в метрополии британские власти перевели своих солдат в категорию «неприкасаемых», которые стали неподсудны местным судам. При этом английские гарнизоны, расположенные во всех английских колониях, получили полную свободу действий. А такой документ, как «Акт о постое», изданный английской администрацией метрополии, обязывал колонистов располагать в своих домах на постой и содержание английских бравых солдат без всякой денежной компенсации.
Подобную реакцию и «наглость», но уже представителей английской короны, колонисты стерпеть не смогли. Противостояние нарастало с ростом случаев их открытых выступлений, которые носили уже чётко организованный характер. Англичане, в свою очередь, всё меньше ощущали себя в качестве хозяев американских территорий. Наконец пришло время, когда колонисты окончательно решили забрать власть в свои руки и создали временные революционные правительства колоний — Провинциальные конгрессы. Когда же количество подобных временных правительств составило число, равное чёртовой дюжине, было принято верное решение, и они объединились в Континентальный конгресс. По сути дела, без согласия английской короны был создан новый государственный орган, в котором были представлены депутаты от всех тринадцати английских колоний. В итоге в метрополии установилось двоевластие, которое не могло в таком виде существовать длительное время. И это время «Ч» наступило в 1775 году
[21].
Чтобы предупреждать агрессивные действия английской армии против повстанческих отрядов ополченцев, за короткий промежуток времени колонистами были созданы отряды быстрого реагирования «минитмены». Со временем они переросли в серьёзные боеспособные формирования, постоянно совершавшие нападения на регулярные английские войска. Британские солдаты были бессильны просив этих вооружённых отрядов, которые могли в кратчайшие сроки собраться в условленном месте, напасть на какой-нибудь английский отряд, обстрелять его, а затем «раствориться» среди местного населения в такое же короткое время. Ведению боевых действий в таких условиях ни английских солдат, ни их командиров никто не обучал, и они начали терпеть одно поражение за другим. Но это была ещё не война, а лишь её прелюдия.
II

нглийский король Георг III был возмущён открытым вооружённым противостоянием колонистов английским войскам. О Континентальном конгрессе он вообще высказался в весьма нелестных выражениях. Для наведения порядка и приведения колонистов в прежнее состояние подчинения законам Британии английский монарх послал в Америку подкрепление в виде дополнительного военного контингента. Это решение стало катализатором в развитии дальнейших событий, которые, в конце концов, привели Англию к потере колоний с огромной территорией.
В ответ на это решение английского короля 15 мая 1776 года Континентальный конгресс принимает резолюцию о преобразовании североамериканских колоний в независимые от метрополии штаты-республики. Республиканец Генри Ли уже 7 июня 1776 года на заседании Конгресса вносит «резолюцию независимости», на основе которой 4 июля этого же знаменательного года была составлена и принята Декларация независимости. А до этого исторического для всех Соединённых Штатов дня ещё 14 июня 1776 года II Континентальный конгресс принял постановление о создании регулярной армии и уже на следующий день избрал и утвердил её главнокомандующего.
Такое решение Конгресса оказалось как нельзя удачным: 44-летний богатый плантатор Джордж Вашингтон уже имел опыт участия в военных действиях
1. Как политик он прекрасно понимал важность момента и своевременность постановки вопроса о государственности и независимости колоний. Как плантатор Вашингтон предвидел, какую выгоду из этого получат деловые люди из числа коренных (исключая, конечно, индейцев) жителей всех штатов. Уже в первый год активного противостояния Англии и колонистов будущий главнокомандующий понял бесплодность попыток примирения с метрополией. Демонстративно облачившись в военную форму, Вашингтон появлялся на собраниях Континентального конгресса и ожидал своего часа. И этот час наступил.
После окончания заседания многие выходившие из зала депутаты подходили к своему коллеге от штата Виргиния Джорджу Вашингтону с поздравлениями. Но некоторые из них, собравшись в небольшие группы, стояли в стороне и обсуждали способности и возможности только что избранного главнокомандующего. Кто-то открыто выражал ему свои наилучшие пожелания, а кто-то мысленно сочувствовал ему. Ведь Вашингтону предстояло создать первую в истории Соединённых Штатов армию, которая в ближайшее время должна выступить против английских регулярных вооружённых сил. А это не так просто сделать, когда до этого времени твоим главным занятием в жизни была организация труда чернокожих рабов на своих плантациях.
— Я вас поздравляю, Джордж, — крепко сжимая Вашингтону ладонь, долго тряс его руку Томас Джефферсон. — Теперь все штаты надеются, что мы оправдаете их доверие и в ближайшее время надерёте задницу английским генералам.
Вашингтон уже устал принимать поздравления и слегка морщился от высокопарных слов поздравляющих и от зубной боли, которая его мучила в последнее время. Он старался меньше улыбаться, чтобы его коллеги-депутаты не замечали пустоту на месте одного из его зубов в верхней челюсти.
«Скорее бы домой, — думал Вашингтон, — срочно надо уладить все домашние дела, дать указания управляющему, так как я, наверно, уже не скоро займусь ими. Да и зуб надо поставить».
Вашингтон от рождения имел не очень хорошие зубы (сказывалась наследственность), и уже после сорока лет ему пришлось лишиться нескольких таких нужных маленьких частей в верхней челюсти. Дубной врач, рекомендованный Джорджу Вашингтону его соседом-плантатором, вместо удалённых больных зубов установил ему новые. Они были вырваны из челюсти какой-то лошади, отшлифованы и закреплены на штифтах в челюсть Вашингтона. Операция по замене зубов была сложная, неприятная и болезненная. Сначала больные зубы нужно было удалить, потом была длительная процедура подгонки и закрепления новых зубов.
Вашингтон вздрогнул от воспоминаний тех ощущений и боли, которые ему пришлось пережить, но собрался с мыслями и вернулся обратно к событиям, участником которых он только что стал. После недолгих дебатов собрание депутатов II Континентального конгресса большинством голосов проголосовало и утвердило Джорджа Вашингтона главнокомандующим вооружённых сил новой армии, которую ему ещё предстояло создать. И это сейчас больше беспокоило Вашингтона, чем его больной зуб. Ведь в ближайшее время на его плечи ляжет вся ответственность за то, какой будет эта война: успешной для нового государства или позорной с полным поражением и возвращением к прежним временам. Вашингтон только сейчас полностью осознал те последствия, которые могут наступить лично для него в случае, если он не сумеет сделать то, к чему его только что обязал Конгресс. Тогда уже у Джорджа Вашингтона ничего не будет: ни плантации, ни богатства, ни самой жизни. Победить или погибнуть. Существовало только два варианта его будущего, и Вашингтон был нацелен исключительно на первый, не допуская даже в мыслях наступления второго.
Вновь избранный главнокомандующий обладал всеми талантами, необходимыми для должности такого высокого ранга: организаторскими способностями, выдержкой, дальновидностью, умением быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать верные решения. Положительный результат этих решений со временем был очевиден всем: создав армию фактически на пустом месте, Вашингтон прошёл с ней долгий путь от осады Бостона в 1776 году до капитуляции английских войск у Йорктауна в 1781 году.
Правда, Континентальная армия пока не являлась армией в полном смысле этого слова. В начале своего создания она состояла из тех же многочисленных ополченцев и минитменов, вчерашних охотников и фермеров. Плохо
вооружённая и необученная, сражаться с регулярными британскими войсками на равных эта армия ещё не могла.
Новоявленные солдаты, бывшие охотники, прекрасно стреляли из-за укрытия, но дать серьёзный бой по всем правилам воинского искусства они ещё были не способны. Кроме этого, дисциплина у такой армии «из народа» была не на высоком уровне. Устав от войны и трудностей, солдаты дезертировали и возвращались на свои фермы. Только со временем из многочисленного ополчения, прошедшего тяжёлые испытания и испившего горечь поражений, перенеся голод и лишения, сформировался костяк американской армии. Он постепенно пополнялся и получал опыт побед, обретая силу и авторитет настоящей боеспособной армии нового независимого государства. Уже через несколько лет, благодаря упорству и энтузиазму Вашингтона, а также благодаря усилиям иностранных военных инструкторов-специалистов типа прусского офицера фон Оттендорфа (иначе говоря, профессиональным наёмникам-волонтёрам), Континентальная армия Соединённых Штатов стала заслуженно носить это название.
Видимо, так было надо, чтобы новая жизнь Костюшко началась с приключения на море. Корабль с флагом далёкой Франции на мачте и с волонтёрами на борту дал течь. После продолжительной болтанки на море и шторма, который потрепал судно, вода медленно, но упорно поступала в шхуну. Капитан чертыхался, но сделать ничего не мог: его корабль тонул. Это случилось уже недалеко от берегов Америки у острова Мартиника, что оставляло надежду людям на спасение. Напрягая все силы, матросы и пассажиры черпали воду из трюмов и выливали её обратно в море. Ведь берег был уже совсем рядом, а значит — было рядом и спасение.
Когда же корабль всё-таки доплыл до спасительного острова, капитан глубоко вздохнул и перекрестился.
— Ну, слава Богу! Теперь все будут долго жить, — проговорил он, веря, как все моряки, в приметы.
После того, как вся команда корабля и волонтёры высадились в бухте острова, отдых был коротким. Капитан и матросы принялись чинить своё судно, а пассажиры занялись поиском корабля, который бы доставил их к месту назначения. И им опять повезло: такое судно нашлось так быстро, как будто оно только и ждало прибытия волонтёров. Уже через несколько дней этот корабль доставил их в бухту Джорджтауна, близ городка Чарлстон, и сразу же по трапу побежали соскучившиеся по земле матросы, а будущие солдаты армии Вашингтона стояли у борта корабля и с интересом осматривали пристань. По ней торопливо сновали люди разного сорта: торговцы, грузчики, какие-то бродяги, охотники с длинноствольными старыми кремниевыми ружьями и до пояса обнажённые африканцы-рабы, спешащие куда-то по поручению своих господ.
После разгрузки корабля и освоения нового для себя берега часть отряда французских волонтёров была устроена на временный отдых в каких-то бараках, а офицеры оставались на судне. Им ещё предстояло преодолеть более пятисот миль, чтобы добраться до Филадельфии. После короткого отдыха волонтёры благополучно преодолели это расстояние за 40 дней и вскоре влились в ряды армии Вашингтона.
По прибытии в Филадельфию солдаты-волонтёры и французские офицеры были встречены самим Джорджем Вашингтоном.
— Мы приветствуем в вашем лице благородную помощь Франции, — такими словами встретил их будущий первый президент Соединённых Штатов, пожимая руку каждому из офицеров. — Надеюсь, добрались благополучно? Не пришлось встречаться с пиратами в нейтральных водах Атлантики?
— Попробовали бы они только сунуться к нам! Мы бы им показали, чего стоим, — с наигранным геройством ответил совсем молодой французский офицер, не видевший в своей жизни ни одного пирата.
— А я и не сомневаюсь, — в тон ему сказал Вашингтон и пригласил командиров отряда добровольцев отобедать.
К остальным прибывшим волонтёрам и будущим солдатам Континентальной армии подошёл настоящий майор этой армии, который ещё два месяца назад давал указания управляющим на своих плантациях. Теперь же он распоряжался обустройством «новеньких», которые должны были через несколько дней встать в ряды бравых американских солдат.
Как профессиональный военный Костюшко сразу отметил, насколько солдаты армии Вашингтона отличаются от регулярной европейской армии. Многие офицеры, которые состояли на службе в Континентальной армии, не были профессиональными военными, а большинство солдат никогда не маршировали в строю. Но у этих солдат были другие преимущества, которые позволяли им в дальнейшем победить одну из лучших европейских армий, в рядах которой состояли кадровые офицеры и генералы, побывавшие не в одном сражении и снискавшие уважение среди своих противников.
— Ну, вот мы с тобой и равны, — сказал Костюшко Томашу после того, как они получили от сержанта ружья, порох и пули на складе с оружием. — Теперь в одном строю будем бороться за независимость новой для нас земли.
Томаш с какой-то грустью и недоумением смотрел то на ружьё, то на Костюшко. Он никогда не держал в руках оружие и теперь растерянно крутил головой по сторонам, соображая, куда бы его пристроить.
Костюшко, заметив растерянность Томаша, не выдержал и засмеялся.
— Ну как? Ты ещё не передумал стать солдатом? — спросил он полушутя, полусерьёзно.
— Нет, этот вопрос был решён мною окончательно на французском берегу. Ведь я ещё тогда мог остаться во Франции или вернуться домой, — с обидой ответил Томаш. — Куда вы, туда и я.
Костюшко умилила простота ответа этого деревенского парня. Он за время их совместных скитаний по-своему привязался к нему. Костюшко было бы жаль расстаться с Томашем, если бы тот пожелал сделать иной выбор. Ведь он оставался единственной ниточкой, связывающей Костюшко с родиной.
— Тогда слушай меня и запоминай: я сделаю из тебя хорошего солдата. Ты веришь мне? — спросил Костюшко, посмотрев Томашу внимательно в глаза.
И когда тот утвердительно кивнул в ответ, Костюшко обнял его за плечи и повёл в сторону построения волонтёров, которые под командой строгого сержанта уже готовились на свой первый смотр.
Пока офицеры и сержанты армии Вашингтона принимали французское пополнение, их командиры обедали в самой лучшей в Филадельфии таверне с главнокомандующим Континентальной армией.
— От имени Соединённых Штатов я благодарю дружественную нам Францию и весь французский народ, который сочувствует нашей борьбе и окалывает нам помощь! — произнёс первый тост Вашингтон, после того как все приглашённые и сопровождающие его офицеры заняли свои места за большим столом.
Барон фон Оттендорф не остался в долгу и, высоко подняв бокал с вином, на плохом английском провозгласил тост за будущую победу Континентальной армии над британцами. Когда же торжественная часть была закончена, обед постепенно перерос в военное совещание.
— Ситуация у нас сложилась довольно сложная, — начал разъяснять положение Континентальной армии Вашингтон своим союзникам. — Ещё недавно под Бостоном я принял под своё командование армию из ,14 000 человек без вооружения, без боеприпасов, состоящую в основной своей массе из ополченцев, не знающих до этого времени ни об армейских порядках, ни о воинской дисциплине.
— И как вы справляетесь с этой массой людей? — вмешался в разговор фон Оттендорф. Он внимательно прислушивался к откровенным признаниям Вашингтона, несмотря на свой неуёмный аппетит, так как до сих пор не переставал жевать.
Главнокомандующий внимательно посмотрел на прусского офицера и спокойно ответил:
— Как видите, справляюсь. Правда, даётся мне это с трудом, — честно признался он. — Мне удалось навести некоторый порядок и дисциплину в армии, но нам приходится ограничиваться пока только обороной.
Французские офицеры после таких откровенных признаний от самого Вашингтона заметно приуныли. Им почему-то сразу вспомнилась старая добрая Франция, тихие поместья родителей и спокойная служба во французских гарнизонах. Они-то мечтали, что их ожидают чуть ли не триумфальные шествия по городам английских колоний и торжественные парады после очередных побед. А оказалось, что им надо будет претерпевать определённые неудобства и, скорее всего, отступление. Насчёт последнего они не ошиблись, а по поводу первых предположений даже не догадывались, в каких условиях они окажутся уже в ближайшее время.
Только фон Оттендорф лихо подкрутил свои усы и, тщательно подбирая английские слова, нагло спросил Вашингтона:
— Разрешите уточнить ближайшие ваши планы ведения боевых действий?
Вашингтон не стал уклоняться от ответа и честно признался:
— По моим сведениям, англичане получили подкрепление, а это значит, что моя армия, вероятнее всего, вынуждена будет пока отступить. Возможно, придётся оставить Нью-Йорк
[22].
Вашингтон осмотрел сидящих за столом офицеров, наблюдая их реакцию на его слова, и добавил, почему-то обратившись непосредственно к фон Оттендорфу:
— Этим я сохраню боеспособную часть армии от уничтожения, а на зимних квартирах пополню численность армии за счёт новых ополченцев и за счёт таких, как вы, волонтёров.
На этой не очень оптимистичной ноте закончился обед, и Вашингтон встал из-за стола. Он понимал состояние только что прибывших французских офицеров. Перед уходом ему хотелось что-то сказать им ободряющее, чтобы будущее не казалось им таким мрачным, но главнокомандующий не находил слов. Вашингтон кивнул на прощание всем присутствующим и отбыл по своим делам, а его офицеры занялись размещением своих союзников и решением их бытовых проблем.
III

сё время что Костюшко уже был в Америке, его не оставляла мысль, что он занимается не своим делом. Он находился среди солдат, ел с ними, из одного котла, спал в одной палатке и даже маршировал по Филадельфии в одном строю. Однако он же был офицером. И не просто офицером, а со знаниями военного инженера, каких в Континентальной армии, наверно, можно было сосчитать по пальцам одной руки!
Костюшко хорошо помнил совет Цельтнера, и однажды, набравшись наглости, заявился прямо к Бенджамину Франклину, найти которого в Филадельфии не составляло труда (в это сложное время этот джентльмен возглавлял Комитет безопасности Пенсильвании). Прикрыв за собой двери кабинета этого известного в Соединённых Штатах человека, Костюшко с порога сделал ему заявление на ломаном английском, что он французский волонтёр и желает воевать в Континентальной армии не просто солдатом, а офицером. Франклин оценил напористость молодого человека и даже уделил ему время, которого у него вечно не хватало.
Часто в жизни так бывает: встречаются два интересных человека, пусть даже разного возраста, и общение между ними, планируемое на несколько минут, затягивается на более длительное время.
Уже целый час Бенджамин Франклин расспрашивал обо всём Тадеуша Костюшко, и всё это время тот подробно рассказывал о своей жизни, учёбе, несостоявшейся карьере, о своих взглядах, идеалах, интересах и любви. Однако Костюшко ни словом не обмолвился, что идею этой встречи подсказал его друг Питер Цельтнер. Ни слова он не сказал и о мадам Анне-Катрин.
— А что это у вас такое? — неожиданно спросил Франклин волонтёра, заметив на его безымянном пальце правой руки перстень, подаренный братьями-масонами.
— Это мой талисман, — уклончиво ответил Костюшко.
«А ведь этот волонтёр совсем не прост», — подумал Франклин.
— Какое вы имели офицерское звание?
— У себя на родине я был капитаном, — начал свой доклад Костюшко. — Закончил Рыцарскую школу в Варшаве, учился в Париже в военной академии...
— И чему же вас там обучали? — продолжал опрос Франклин, уже понимая, что этот волонтёр больше никогда не будет простым солдатом.
— Во Франции изучал военную тактику и архитектуру, строительство земляных укреплений. Позже, уже в Голландии, — строительство каналов, шлюзов, мостов... — продолжал говорить Костюшко, но Франклин перебил его.
— Почему вы оказались в батальоне французских волонтёров? Разве в польской армии так много таких специалистов, как вы? — с удивлением задал он вопрос, на который Костюшко сложнее всего было ответить. Но отвечать надо было.
— Я должен был выкупить офицерский патент, а необходимой суммы у меня после возвращения на родину не было, — ответил полуправдой Костюшко. — Волей судьбы очутившись снова во Франции, я записался добровольцем в батальон и...
— Соединённые Штаты не забудут и достойно оценят ваш благородный поступок, — не дал договорить Франклин Костюшко.
Он вдруг встал со своего места и начал прохаживаться, как на прогулке, меряя пространство кабинета вдоль и поперёк.
Что-то было такое в этом джентльмене, что располагало Костюшко к откровенности. Бенджамин Франклин также немного рассказал о себе. Однако рассказ о тернистых путях его жизни сопровождался остроумными замечаниями, высказываниями и даже анекдотами.
— Поверьте мне, — говорил Костюшко этот большой человек, с приличным животом гурмана, любящего выпить и поесть, — трудностей у вас будет ещё предостаточно, но всё равно жизнь прекрасна. Не знаю, как ему это удалось, но Бог сотворил совершеннейшее существо на Земле, а человек этого не понимает и не ценит. Занимаясь всякими глупостями, он бессмысленно тратит самое драгоценное, что ему подарил Создатель, — это время.
— Время? — удивлённо уточнил Костюшко.
— Да, время. Оно у каждого своё, определённое, но уходит для всех одинаково и безвозвратно, — философствовал Франклин. Он так же, как и Костюшко, говорил по-французски, и они теперь хорошо понимали друг друга. — В отличие от других даже сейчас, когда я сижу в этой комнате и уже битый час слушаю вашу историю, я готовлю для Континентальной армии офицера. Надеюсь, мне не будет стыдно за вас перед Вашингтоном. Ведь вы собираетесь сражаться в рядах нашей армии до победного конца. Я прав?
Бенджамин Франклин внимательно посмотрел в глаза Костюшко, и тот выдержал этот прямой взгляд.
— Да, — уверенно ответил он, — собираюсь и хочу быть полезен ей своими знаниями и опытом.
— Мне осталось вас только благословить, — улыбнулся Франклин.
Он погладил свою лысеющую голову, никогда не знающую, что такое парик, и добавил:
— Я надеюсь, что своей службой в Континентальной армии вы докажете, на что способны. А Вашингтон, если вы попадёте в поле его зрения, не оставит вас без внимания, — Франклин посмотрел опять внимательно на Костюшко и, хитро улыбнувшись, сострил: — Если, конечно, вас не убьют в первом же бою или вы не станете дезертиром.
Похлопав по-отечески по плечу наглого волонтёра, Бенджамин Франклин вдруг стал серьёзным.
— Ну а пока вам надо пройти небольшой экзамен и подтвердить свои знания инженера, — заявил он. — Сами понимаете: слова — это просто слова.
— Я согласен.
— А у вас есть выбор? — опять сострил Франклин, и Костюшко, улыбнувшись в ответ этому обаятельному человеку, поднял руки вверх.
Франклин был в отличном настроении. Город готовился к обороне от атак британской армии, а специалистов, инженеров по строительству укреплений, среди защитников Филадельфии не было. А тут такая удача!
«Если этот поляк не авантюрист, а действительно тот, за кого он себя выдаёт, то нам здорово повезло, — подумал Франклин. — Само провидение привело этого волонтёра к нам. Его срочно необходимо направить к генералу Патнэму
[23] и дать возможность показать, на что он способен. Но сначала проверим его знания».
Костюшко без труда сдал «экзамен», и Франклин направил его со своей рекомендацией в военный департамент Конгресса. С его лёгкой руки, Костюшко уже через несколько дней делал то, чему его обучали в лучших военных учебных заведениях Европы. Его способности и знания пригодились во время защиты Филадельфии от атак английской армии, а позднее и в сражениях, которые принесли Костюшко славу и звание генерала американской армии.
В октябре 1776 года генерал Чарльз Ли посетил Филадельфию и осмотрел оборонительные сооружения, которые были возведены вокруг города. Выслушав доклад командующего обороной города, генерал Ли вскоре покинул город. А ещё через несколько дней председатель Конгресса Соединённых Штатов Джон Хэнкок сообщил Костюшко о присвоении ему звания полковника Континентальной армии с выплатой денежного вознаграждения в шестьдесят долларов в месяц.
IV

ашингтон внимательно рассматривал карту, на которой были помечены маленькими флажками территории, где располагались английские войска. Практически территорий, занятых за последние полгода британскими вооружёнными силами, становилось всё больше, и это угнетало Вашингтона. Он ничего не мог сделать, чтобы остановить разложение своей армии. Многим солдатам надоело воевать, их тянуло к жёнам и детям, к их родным полям и фермам. К тому же многие из них покидали Континентальную армию на вполне законных основаниях: у таких солдат заканчивался годовой контракт. Однако было много и простых дезертиров, что не придавало оптимизма главнокомандующему.
Вскоре после оставления Континентальной армией Нью-Йорка в середине сентября 1776 года у Брейвайл-Крик состоялась битва за Бруклин, в ходе которой с обеих сторон участвовало около 30 000 человек. Англичанам удалось окружить американцев, но не разгромить их. В то время, когда английское командование планировало осадить Вашингтона и принудить его сдаться, американские солдаты ночью переправились через реку на остров Статен и без дополнительных потерь ускользнули от противника, избежав позорного плена. Это было очередное поражение, но не разгром.
Вашингтон спас свою армию, которая, получив ещё один опыт войны, станет ядром той армии-победительницы, которую англичане так и не смогут одолеть. Бравый генерал Хоу в этом сражении упустил возможность разбить окончательно армию Вашингтона, прекратив её преследование после своей победы. Поступи он наоборот, то, возможно, эта война завершилась бы ещё в 1776 году в пользу Великобритании. Но назад время не повернёшь.
Вашингтон прекрасно понимал сложность сложившейся ситуации. А она в корне поменялась буквально за несколько месяцев не в пользу нового независимого государства.
«А как ещё недавно всё хорошо начиналось...» — вспоминал с сожалением и горечью Вашингтон. И действительно, уже в марте 1776 года британцы эвакуировались из Бостона, а к лету того же года во всех тринадцати колониях практически не осталось ни одного английского гарнизона. Все чиновники метрополии также покинули территории, подконтрольные Континентальной армии. А в ноябре армейские подразделения армии Вашингтона уже маршировали по Монреалю.
И если в начале 1776 года только четыре колонии приняли свои собственные конституции, провозгласив себя независимыми государствами (штатами), то уже 2 июля 1776 года Континентальный конгресс провозгласил независимость Соединённых Штатов, совершенно нового государства, объединённого союзом тринадцати бывших английских колоний. А Декларация независимости провозгласила миру о том, что «все люди созданы равными и наделены их Творцом определёнными неотчуждаемыми правами».
И вот наступил перелом.
Уже в начале сентября 1776 года английская армия под командованием генерала Хоу захватила Нью-Йорк, а в конце этого же месяца вошла в столицу североамериканских колоний Филадельфию. Потом было поражение у Джермтауна. Конечно, были и победы Континентальной армии при Трентоне и Пристоне, но они не могли коренным образом изменить ситуацию в пользу колонистов, хотя и поддержали их воинственный дух на некоторое время.
«Чёртовы гессенцы», — выругался Вашингтон. И у него была причина так ругаться. Половина армии Уильяма Хоу состояла из немецких наёмников. Ведь именно по просьбе английского короля несколько княжеств, расположенных на территории Германии, такие как Брауншвейг, Анхальт-Цербст, Аншпах, Гессен-Ганау и Гессен-Кассель «собрали» 29 160 человек и «продали» их в английскую армию, которую направили на войну с новым независимым государством в Америку. При этом князь Ганаусский лично выразил свою «верность» английской короне словами: «...в доказательство нашей постоянной преданности короля Великобритании и для содействия ему в присущей ему заботливости о спокойствии и благоденствии его великобританских владений». Ну что же, князей можно понять: Георгу III нужны были «дешёвые» солдаты, а немецким князьям очень нужны были деньги.
А гессенцев жаль: большинство из них никогда не вернулись на свою родину. Они пали под меткими выстрелами солдат Вашингтона, но это случилось уже позднее, а пока...
Вашингтон устало присел на деревянный стул. Он вспоминал первые месяцы войны, когда довольно легко и быстро тысячи людей «ступили на тропу войны» с англичанами для достижения такой благородной цели, как борьба за свободу и демократию. В то же время с чувством досады и горечи он осознал, что эти же люди с лёгкостью отказались от этой борьбы, когда добиться намеченной цели не получилось за короткое время. В его армии участились случаи дезертирства, падал боевой дух солдат, Континентальная армия уменьшалась с каждым днём.
Вашингтон вдруг вспомнил, что не посмотрел почту, которую ему доставили из Филадельфии. Вскрыв пакет от президента Конгресса Соединённых Штатов Джона Хэнкока, главнокомандующий внимательно его прочитал. Хэнкок сообщал, что 18 октября 1776 года Конгресс присвоил инженеру Тадеушу Костюшко звание полковника.
«Костюшко... Костюшко... — повторил про себя Вашингтон. Он уже не раз слышал об этом инженере-волонтёре, прибывшем из Франции. И вот опять это имя появилось у него в письме из Конгресса. — А ведь я до сих пор ещё не познакомился с этим человеком».
Вашингтон задумался. И было над чем. Командующий английскими войсками Уильям Хоу после захвата Нью-Йорка настойчиво пытался расправиться с остатками его разбитой армии, чтобы победоносно завершить кампанию до Рождества, а также доложить своему монарху о восстановлении порядка в американских колониях. Но сделать это ему никак не удавалось: всякий раз, когда английские солдаты пытались завершить разгром Континентальной армии, Вашингтон ускользал от них и, окончательно покинув Нью-Джерси, обосновался в Пенсильвании.
«Дисциплина — это душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу, приносит успех слабым и уважение всем», — всегда утверждал Вашингтон, но в успех сейчас верилось с трудом. У него осталось всего около пяти тысяч солдат, но и это количество в начале следующего, 1777 года могло стать намного меньше. Призыв в Континентальную армию осуществлялся всего на один год, и после Рождества две трети солдат Вашингтона могли спокойно вернуться к своим семьям.
Джордж Вашингтон поморщился от зубной боли, которая уже мучила его не первый день. Из-за плохого питания, хронического недосыпания, физических и нервных перегрузок его здоровье в последнее время пошатнулось. Он часто простывал, а верхняя челюсть потеряла ещё два зуба, которые в срочном порядке пришлось удалить самым варварским способом. Вашингтон опять потрогал ладонью щёку, прополоскал рот травяным отваром и подошёл к карте, лежащей на столе. Он ткнул в неё указательным пальцем и прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться.
«Нужно отступить и пока ограничиться обороной и внезапными нападениями на небольшие отряды британских войск, — решил он. — Ничего, ничего, джентльмены, — мысленно обращался Вашингтон в сторону англичан. — Война за независимость Соединённых Штатов только начинается».
Вашингтон ударил кулаком по карте в то место, где была обозначена территория, занятая армией противника, уселся за стол и вызвал секретаря писать ответ Хэнкоку.
V

зимний морозный день по лесной дороге двигался небольшой отряд регулярной английской армии с обозом. Но они, бедняги, ещё не знали, что в засаде за деревьями и кустами за ними давно наблюдали хорошо замаскированные меткие стрелки армии Вашингтона: бывшие охотники, бывшие фермеры, а сегодня настоящие солдаты. Через пару минут раздался ружейный выстрел, и английский офицер, который двигался на лошади впереди колонны, с тяжёлым ранением в грудь обхватил шею испуганного стрельбой животного. За одиноким выстрелом началась частая пальба с обеих сторон. Но ответные выстрелы англичан летели в пустоту и никакого вреда нападающим не наносили. Зато сами бравые британцы и гессенцы один за другим падали со стонами на мёрзлую землю, поражённые их противниками. Оставшись без офицера, солдаты английской армии вели себя, как стадо овец, оставшееся без вожака. Они с безумными от ужаса и близости смерти глазами озирались вокруг, но никого не могли ясно разглядеть в этом аду. Самые трезвомыслящие из них быстро сообразили, что их король далеко, а смерть — она рядом, и подняли руки вверх, побросав свои ружья на замерзшую землю.
Выстрелы стали раздаваться всё реже и реже, и наконец всё стихло. К стоящим с поднятыми руками и поэтому пока ещё живым английским воякам стали подходить меткие стрелки, держа их на мушке. Через полчаса все пленные были связаны между собой попарно, а ещё через некоторое время они дружно шагали в сторону лагеря, где разместили и обустроили свои зимние квартиры победители этого короткого и небольшого сражения.
Навстречу движущейся колонне с пленными верхом на лошадях подъехали три офицера. Они придержали своих лошадей и с интересом рассматривали ещё недавно грозного противника. Пленённые солдаты тоже с интересом поглядывали на эту троицу. По тому, как вытягивались и приветствовали этих троих всадников солдаты-победители, можно было понять, что перед ними важные персоны. Один из них, совсем ещё молодой мужчина, показывая рукой на пленных, сказал, обращаясь к старшему по возрасту всаднику, который двигался на лошади немного впереди:
— Смотрите, сэр, сколько пленных. Теперь их можно будет обменять на наших солдат.
— Согласитесь, как интересно всё происходит в этой жизни, — философски заметил второй всадник с заметным акцентом, — где-то в Америке мы меняем французов на немцев и англичан, которые давно уже хотят вернуться домой от этой ужасной войны.
— Да, барон, вы правы: война — это не лучшее, что могли придумать люди, чтобы выяснять между собой отношения, — сделал своё замечание молчащий до сих пор третий всадник. После короткой паузы он устало добавил: — И не удивляйтесь моим словам. Я хоть и главнокомандующий, но войну ненавижу. Но что поделаешь, видит Бог, мы этого не хотели.
Колонна с пленными продолжала движение, а Вашингтон, глядя на неё, думал о том, где достать еды для этих бедолаг. Зима оказалась в этом году суровая, холодная, а продовольствия не хватало даже для остатка его армии. Отбивая обозы у англичан, Континентальная армия удовлетворяла лишь частично свои потребности как в продовольствии, так и в обеспечении боеприпасами.
Английские войска пытались добить остатки армии Вашингтона, но всякий раз он уходил от них, навязывая свою тактику рассыпного боя. К таким манёврам противника британская армия не могла никак приспособиться и ничего ей противопоставить. Её же обучали вести боевые действия в классическом линейном построении. Генерал Хоу ничего не мог предпринять против такого метода ведения войны, и поэтому партизанские вылазки колонистов стали кошмаром для тех английских солдат, которые посылались в очередной рейд и попадали там в засаду.
Конец 1777 года был похож на конец 1776 года и стал тяжелейшим для Континентальной армии. За этот год армия Хоу сумела занять Филадельфию, а армия Вашингтона отступила в Вэлли Фордж. Голод, холод и болезни сократили численность и без того небольшого количества солдат. Однако была и надежда на возрождение армии, которая пополнилась новыми волонтёрами из Франции под командованием маркиза Лафайета. С ними в Америку приплыл и прусский офицер барон фон Штюбен. Благодаря им многие патриоты, которые остались с Вашингтоном, превратились в настоящих бойцов, которых нельзя было испугать больше ничем и никем. Это были уже не «зелёные» ополченцы или «минитмены». В рядах армии Вашингтона служили закалённые в военных трудностях и невзгодах солдаты, преданные тому делу, ради которого они рисковали своими жизнями, оставив жён и детей на волю и милость Всевышнего.
В пригороде Лондона в замке лорда Джорджа Джермейна, который занимал при английском королевском дворе пост министра колоний, шли приготовления к большой охоте на лис. Надев свой лучший охотничий камзол, стоя перед большим зеркалом, лорд Джермейн находился в состоянии лёгкого волнения от предстоящего мероприятия, которое он устраивал ежегодно в окрестностях своего замка. На эту охоту сегодня были приглашены члены известнейших английских фамилий, сторонники его партии и просто соседи, проживающие в своих замках вблизи Лондона, с которыми лорд позволял себе общаться.
Охота была знаковой: наконец-то сторонники лорда Джермейна, который состоял в оппозиции с первым министром королевства лордом Фредериком Нортом, торжествовали. Угодная королю политика репрессий в отношении к американским колонистам, которую всячески поддерживал лорд Норт, не оправдала себя. Все тринадцать колоний восстали против британского владычества в Америке, и теперь две крупнейшие английские армии генерала Джона Бургойна и генерала сэра Уильяма Хоу должны будут объединить свои усилия, чтобы навести там порядок раз и навсегда.
Конечно, лорд Норт был всего лишь ширмой и послушным орудием в руках короля, а стратегию такой политики в колониях проводил в жизнь именно сам король Георг III.
И теперь он как настоящий король-воитель любыми способами желал только одного: разбить Континентальную армию Соединённых Штатов и заставить колонистов снова подчиниться власти и законам Великобритании.
Первые успехи армии генерала Уильяма Хоу заслуживали признания и радовали английского венценосца: в Бункер Хилле «красные мундиры» победили американцев, хотя и ценой очень больших потерь. Бравый генерал захватил Нью-Йорк и победил американцев в Вайт Плейнсе и Брендивайне. Казалось, ещё немного — и ловушка, составленная из двух английских армий, захлопнется. Осталось только сделать небольшой демарш, указанный и утверждённый английским парламентом в плане, который и должен был передать лорд Джермейн на корабль под командованием графа Хоу, старшего брата Уильяма Хоу. На днях это судно должно было отплыть в Северную Америку с грузом оружия и боеприпасов для английских солдат.
Когда лорд Джермейн, надевая на свои холёные руки перчатки, раздумывал о том, кого бы послать в качестве курьера для доставки карты с планом боевых действий на корабль, в комнату вошёл дворецкий с докладом. Лорд повернулся в его сторону, чтобы отдать последние распоряжения, но увидев взволнованное лицо своего верного слуги, с недоумением и недовольством спросил:
— Что случилось, Генри? Американцы высадились на берегах Британии? — лорд сам рассмеялся остроте свой шутки, но тут же его лицо приняло серьёзное выражение. — Итак, я жду ответа: что случилось?
— Сэр... — Генри в волнении мялся и не знал, как начать разговор. — Сэр, ваш жеребец захромал, и он не сможет участвовать в охоте...
— Что ты сказал? — лицо министра колоний перекосилось от гнева. — Мой лучший жеребец захромал?! И мне об этом сообщают только сейчас?
Лорд Джермейн выбежал из комнаты, оттолкнув в гневе дворецкого. Во дворе его уже с нетерпением ожидали величественные всадники и егеря с двумя десятками лучших охотничьих псов. Но сам хозяин замка поспешил в конюшню, где у стойла с жеребцом в волнении стояли слуги. Убедившись в правдивости слов дворецкого и пообещав разобраться после охоты, кто виноват в том, что произошло, лорд приказал оседлать для него другую лошадь. Уже через несколько минут он возглавил длинную кавалькаду всадников, которая двигалась в сторону леса, сопровождаемая громким лаем охотничьих собак. А план боевых действий английских армий против Континентальной армии Вашингтона так и остался лежать в дорогой шкатулке министра колоний.
VI

весны 1777 года Костюшко служил под командованием генерала Филиппа Шуйлера в составе Северной армии, которая была сформирована для отражения вторжения британских войск со стороны Канады. Так как большая часть этой армии состояла из милиции Новой Англии и Нью-Йорка, то Костюшко пришлось потратить немало времени на обучение своего отряда и привить своим подчинённым понятие о воинской дисциплине. К тому же такому обучению способствовали постоянные боевые действия с английской армией. К сожалению, часто не в пользу американцев.
Контингент Северной армии был небольшим и постоянно отступал, уклоняясь от сражений с наступающей с территории Канады 10-тысячной английской армией под командованием генерала Джона Бургойна. Тем более что англичан поддерживал регулярный отряд из лоялистов и индейцев. За короткое время британцы захватили форт Тикандерога, а 10 июля 1777 года уже достигли Скенесборо и двинулись к фортам Эдварда и Анны.
Однако далее бодрое шествие армии Бургойна по американской земле резко замедлилось. Уклоняясь от прямых столкновений с главными силами британской армии, солдаты Северной армии строили завалы на и без того плохих дорогах, разрушали за собой мосты, устраивали засады и нападали на небольшие отряды противника. Кроме этого, английские солдаты и немецкие наёмники реально начали ощущать постоянное чувство голода. Безлюдные места и дикая местность, но которой двигалась армия Бургойна, не могла прокормить эту массу людей. Но Бургойн упрямо двигался за американцами, а те также упрямо отступали, чем приводили английского генерала и его офицеров в бешенство. Наконец британцы всё-таки достигли фортов Эдварда и Джорджа и решили передохнуть.
— Немедленно вместе с отрядом немцев отправляйтесь за провиантом в Беннингтон, — приказал Сургойн подполковнику Фредерику Бауму. — Постойте, — задержал подполковника генерал, когда тот собирался уходить. — Возьмите для поддержки с собой отряд местных лоялистов и индейцев. С ними, надеюсь, вам будет проще выполнить свою задачу, — посоветовал Бургойн, обрекая их на гибель.
— Ищите, ройте, стреляйте, делайте что хотите, но без провианта не возвращайтесь! — напутствовал подчинённого генерал.
— Есть, сэр! — с готовностью выполнять приказ командующего ответил Баум и... не вернулся в расположение армии из своего последнего похода. 16 августа 1777 года две тысячи милиционеров Новой Англии, ориентируясь на местности лучше своих противников, сумели их окружить и уничтожить. Аналогичная судьба постигла и второй отряд, посланный на помощь первому.
Неуловимые американцы в очередной раз отступили на юг к Саратоге, а командование Северной армией принял на себя Горацио Гейтс. Он отвёл её на высоты Бемис, которые контролировали дорогу Саратога — Олбани. Пружина противостояния двух армий сжималась. Противники предчувствовали, что развязка близка, и готовились к решающему сражению.
Тадеуш Костюшко в форме полковника Континентальной армии стоял на возвышенности и обозревал окрестности, оценивая стратегическое положение американской армии. Теперь он командовал строительством укреплений, а времени у него было чертовски мало для того, чтобы сделать всё, что требовалось для организации подобных работ. Пока британцы позволили себе расслабиться и отдохнуть, он торопился быстро и максимально больше построить оборонительных сооружений. Под командованием полковника Костюшко работали около тысячи человек, которые в срочном порядке производили земляные работы, строили блиндажи и копали рвы, ожидая, когда противник подойдёт к Саратоге. А этот момент должен был скоро наступить.
Костюшко опустил подзорную трубу и повернулся к стоящему рядом с ним сержанту.
— Значит так: меня не интересует, что у вас не хватает лопат, — тоном, не допускающим пререканий, отчитывал он сержанта. — Почему я об этом узнаю только сейчас?
Сержант виновато опустил голову. Он понимал, что допустил оплошность, и терпеливо выслушивал своего командира, к которому относился с большим уважением. Полковник никогда не повышал на солдат голос, но его тон не оставлял у них никаких сомнений, что командир прав, а они обязаны выполнить его приказ. Непривычные к интеллигентному обращению, солдаты и сержанты, которые попали в подчинение к Тадеушу Костюшко, вначале в разговоре между собой посмеивались над ним. Полковник никогда не чертыхался и не ругался бранными словами, чем грешили другие офицеры. Но вскоре все поняли, что за интеллигентностью и корректностью этого странного полковника скрывается железная воля и знание своего дела. А эти качества достойно ценили его подчинённые.
— Ступайте и решайте вопрос, — приказал Костюшко. — Для этого вы и сержант. Вам всё понятно?
— Так точно, сэр! — выкрикнул сержант и, отдав честь, побежал выполнять приказание.
А Костюшко, ещё раз осмотрев в подзорную трубу окрестности, голодный и злой, направился к своей палатке. В ней его уже ожидал Томаш, улыбаясь во весь рот. Рядом с ним стоял слуга Агриппа, умный и свободный негр, который был приставлен к Костюшко для оказания ему мелких бытовых услуг. Этот слуга был просто незаменим в таких делах, и в то же время он всё делал незаметно и быстро. Агриппа имел высокий рост и отличался большой силой, но по натуре был добрым малым. Он хорошо ладил с Томашем, и Костюшко вместе со своим ординарцем нежно называли его Гриппи. Слуга также сверкал своими ослепительно-белыми зубами и почему-то постоянно оглядывался.
— Чего улыбаетесь, как парижские торговки на базаре? — напуская на себя сердитый вид, спросил Костюшко. — Не видите, я голодный и потому сейчас не в духе, а вы тут растянули свои губы до ушей.
Костюшко расстегнул мундир, подошёл к столу, стоящему посреди палатки, и наклонился над картой местности и чертежами укреплений. Рассматривая только ему понятные обозначения, он вдруг услышал за своей спиной какое-то шуршание. Полковник незамедлительно оглянулся и посмотрел в сторону выхода. От увиденного у него перехватило дыхание: перед ним стояла миловидная девушка лет восемнадцати с тёмными волосами, лицом удивительно похожая на Людовику. Две полусферы, выделяющиеся под платьем, обозначали её красивую и упругую грудь. Брови, похожие на взмах крыла чайки, были приподняты в немом вопросе, голубые большие глаза смотрели ясно и открыто, алые губы ярко выделялись на её обветренном загорелом лице, а длинным ресницам могли бы позавидовать многие девушки.
Костюшко в замешательстве машинально стал застёгивать мундир. Он пытался сказать девушке какой-нибудь комплимент, но вместо этого обратился к Томашу:
— А... откуда это... всё? — и Костюшко рукой показал на корзинку с едой, которую в руках держала красавица.
— Добрый день, сэр! Меня зовут Мадлен. А это... — девушка поставила на грубо сколоченный стол свою корзинку, — это ваш обед. Надеюсь, он вам понравится.
Голос у Мадлен был мягкий, мелодичный, а её произношение на английском выдавало в ней скорее европейское происхождение, чем островное, британское. Одета она была в простое обычное платье с белым передником, а на голове надет был белый чепец, резко контрастирующий с её чёрными волосами.
Наступила неловкая пауза: Костюшко не знал, что ему делать с этой корзиной, полной какой-то вкуснятины, а девушка открыто, не стесняясь смотрела на него и ждала дальнейших указаний (всё-таки перед ней полковник Континентальной армии).
Заметив замешательство хозяина, инициативу в свои руки взял Томаш.
— Разрешите накрыть на стол, сэр? — многозначительно и с усмешкой спросил он командира.
— А? Да, накрывай, — не сводя взгляда с гостьи, ответил полковник. — Надеюсь, вы присоединитесь к нашему застолью? — наконец-то произнёс он, обращаясь к девушке.
— Нет, спасибо, — ничуть не смущаясь, без всякого жеманства ответила Мадлен. — Мне ещё другим офицерам нужно принести что-то подобное, — добавила она, показав рукой на продукты, которые доставал и выкладывал на стол Томаш.
Девушка ещё секунду постояла, как бы размышляя, остаться ей или нет, но потом всё-таки круто развернулась и быстро вышла.
— Где... где ты её нашёл? Откуда всё это? — опять обратился Костюшко то ли к Томашу, то ли к Гриппи. Он присел за стол и в недоумении рассматривал еду, которая уже была выложена на столе.
— Это Мадлен... — начал было объяснять Томаш.
— Я это уже понял, — перебил его Костюшко, — я тебя спрашиваю, откуда она взялась?
— Командующий распорядился всем работающим на строительстве укреплений обеспечить хорошее питание. Ну а Гриппи нашёл на кухне среди кухарок Мадлен, которая там готовит еду. Вот я и попросил её организовать нам сегодня скромный обед, — доложил все подробности ординарец.
— И это ты называешь скромным обедом? — Тадеуш показал рукой на лежащий на столе приличный кусок отварной говядины, а также на курицу, равную по размеру тому же куску говядины. Она также прошла испытание в кастрюле с кипящей водой и была готова к употреблению.
Томаш развёл руками, не понимая, как воспринимать вопрос полковника: как похвалу за его оперативные действия на армейской кухне или как укор в том, что это изобилие Томаш назвал скромным.
Костюшко махнул рукой и набросился на еду, схватив со стола большой кусок хлеба, лежащий рядом с мясом. Отломав от него половину, он кивнул Томашу и Гриппи:
— Чего стоите? Садитесь, ешьте.
Слуга и ординарец не заставили себя долго упрашивать: вытащив нож, Гриппи за пару секунд порезал всё мясо на куски, и через минуту все трое в полном молчании поглощали всё, что находилось перед ними на столе.
— И всё-таки, — оторвавшись от еды, начал опять пытать ординарца Костюшко, — откуда она взялась здесь, в армии, среди солдат, крови... Красивая девушка.
— Её отец
воюет в Континентальной армии уже несколько месяцев. И, насколько я знаю, до войны он был охотником, — ответил Томаш.
Неожиданно в палатку вошёл посыльный от командующего армией. Взглянув на обеденный стол полковника, солдат сглотнул слюну, которая мгновенно заполнила весь его рот, и доложил, насколько мог, по форме:
— Сэр, генерал Гейтс просил вас явиться к нему. Срочно.
После добросовестного выполнения поручения солдат не ушёл, а продолжал стоять у входа, глазами пожирая оставшуюся на столе пищу.
— Всё, заканчиваем обед, — произнёс огорчённо Костюшко. — А ты чего смотришь? — заметив направление взгляда посыльного, добавил полковник. — Подходи к столу, угощайся.
Костюшко вытер руки, надел треуголку и в сопровождении Гриппи вышел из палатки, а голодный, но радостный от предвкушения вкусного и сытного обеда солдат набросился на еду к явному неудовольствию Томаша.
— Тебя как зовут? — от нечего делать спросил он посыльного, пока тот наполнял свой желудок.
— Джонни. А что?
— Да так, ничего, — как бы между прочим пояснил Томаш. — А кем ты был до службы в армии, Джонни?
— Фермером, — улыбаясь во весь рот, ответил солдат.
Томаш для придания важности своей персоне (как-никак, а он ординарец полковника) надулся, как индюк, и, покровительственно похлопав Джонни по плечу, спросил:
— И как тебе служится, солдат?
Джонни перестал жевать и на секунду задумался. Потом опять расплылся в бесхитростной улыбке деревенского парня и искренне заявил:
— Отлично. В армии можно валяться в постели до 5 утра. А дома на ферме я никогда не мог себе такого позволить.
Солдат закончил скорый обед и поднялся, чтобы уйти, но явно не торопился.
— Ну, что стоишь? Больше мне нечего тебе предложить, — с сарказмом заявил Томаш.
Джонни ещё немного помялся, не решаясь что-то спросить, но потом выдавил из себя:
— А это правда, что твой полковник учился в Париже?
— Правда, — ответил удивлённый Томаш. — А тебе зачем это надо знать?
— Да какой-то он простой. Вот обедать меня пригласил. Чудно.
Томаш не нашёлся, что ответить этому парню. А посыльный не стал ждать ответа, дожевал кусок мяса и, неловко поклонившись Томашу, вышел из палатки.
VII
Бургойн потом спешил с кнутом,
Не ведая дороги,
Но храбрый Фрейзер пал при том,
В бою при Саратоге.
Роберт Бёрнс. Баллада об
Американской войне

рмейская разведка генерала Гейтса старательно собирала сведения о противнике. Проблем со сбором информации не было, так как она постоянно поступала через своих людей на территории, занятой английскими войсками. По их данным, к Саратоге приближалась армия генерала Джона Бургойна, насчитывающая около 6000 солдат, измученных тяжёлым переходом.
Генерал Джон Бургойн был толковым офицером армии его величества и одновременно слыл остроумным драматургом. А будучи ещё и дамским угодником (о чём было известно всей английской армии), он получил прозвище Джентльмен Джонни. Несмотря на своё прозвище и весёлый нрав, Бургойн служил в королевской армии достойно и мужественно переносил все сложности военного похода в Америке. Он стремился настигнуть армию противника, дать генеральное сражение и победить. Однако чем больше проходило времени, тем больше Бургойна мучили сомнения в окончательном успехе его армии.
По генеральному плану, утверждённому в Лондоне, навстречу армии генерала Бургойна должна была двигаться вторая английская армия генерала Уильяма Хоу. К сожалению для обоих генералов, этот план не был до них доведён, так как достопочтенный лорд Джермейн торопился на охоту и забыл отдать приказ об отправке необходимых бумаг. Таким образом, генерал Хоу ничего не узнал о том, куда ему следует двигаться, и поэтому вместо севера он направился на юг, надеясь разбить там армию неуловимого Вашингтона.
В то же время, вступив в лесистую местность, армия Бургойна потеряла все свои основные преимущества, манёвренность и боеспособность, которые прекрасно проявляются в открытом сражении с противником. Зато американцы при этой ситуации чувствовали себя как нельзя лучше: из-за засад, сооружённых из поваленных деревьев, они нападали на отдельные отряды, лишали противника источников снабжения и солдат. В конце этого провального похода из 10 000 человек в армии Бургойна осталось около 6000 вымотанных пехотинцев.
Разведка у англичан тоже была хорошая, и именно на основании только что полученных от неё сведений Джентльмен Джонни стоял в раздумье над картой прилегающей местности.
«Чёртовы колонисты, опять они оказались шустрее», — размышлял генерал, потирая в волнении свой заросший щетиной подбородок.
Куда только делся его генеральский английский аристократический лоск! Генерал устал, и, что самое неприятное, в последнее время он совсем перестал шутить и улыбаться. Он утомился от длительных переходов по лесным дорогам, от этих вездесущих колонистов с их длинноствольными старинными, но меткими ружьями, от холодных осенних ночей и союзников — краснокожих индейцев, которые почему-то стали сильно раздражать Бургойна. Кроме всего прочего, колонисты в последнее время активизировали свои действия, и 18 сентября 1777 года очередной отряд англичан попал в засаду. Окончательно выйдя из себя, уже на следующий день Бургойн решил с ходу штурмовать высоты Бемис. Однако его опередил американский полковник Бенедикт Арнольд, который нагло атаковал британцев у Фримене Фам. И хотя американцы как всегда отступили, эта атака сорвала намеченный Бургойном штурм.
В конце концов у высот Бемис под Саратогой измученная такой войной шеститысячная британская армия встретилась с восьмитысячной армией генерала Горацио Гейтса, которая была в гораздо лучшем состоянии, чем солдаты Бургойна. К тому же эти колонисты в кротчайшие сроки умудрились возвести укрепления на пути следования его армии по всем правилам военного искусства! Было от чего потерять чувство юмора: сейчас Бургойну было не до шуток и смеха.
«И когда только они научились воевать, эти фермеры? — продолжал удивляться он. — С одной стороны, эти дикари уклоняются от прямых сражений по всем правилам военной тактики и стратегии, с другой — строят совершенные укрепления, которые с ходу взять моим измученным солдатам будет довольно сложно. Но мы их всё равно возьмём», — решил упрямец и наметил своим офицерам время и место главного удара. Британия не поняла бы поведение своего генерала, если бы он поступил иначе.
Генерал Гейтс тоже не дремал и собрал военный совет в большой генеральской палатке. Данные о том, что приближаются англичане, подтвердились, и теперь надо было срочно решать, как «встречать гостей» с далёкого островного государства.
Костюшко быстрым шагом направлялся к палатке командующего армией, которая располагалась в середине всего лагеря. Моросил мелкий и холодный октябрьский дождь, везде горели небольшие костры, возле которых грелись солдаты и просушивали промокшее бельё и портянки, варили себе нехитрый обед.
Среди них выделялись хмурые охотники со своими длинноствольными ружьями в широкополых кожаных шляпах и куртках на меху из каких-то пушных зверей. Они пришли в армию Вашингтона ещё год назад и остались в ней, несмотря на все трудности, которые переживала Континентальная армия всё это время. В боях с англичанами, в которых приходилось участвовать этим простым и не обученным военному делу людям, они проявили себя как меткие стрелки. Их выстрелы уносили сотни жизней английских солдат, не привыкших к партизанским войнам и стрельбе из засад. Такая тактика ведения войны позволила выжить армии Вашингтона в самые сложное для неё время, и теперь она уже представляла собой грозную силу, способную достойно противостоять одной из лучших армий Старого Света.
Встречались в лагере и индейские вигвамы, в которых ютились те представители коренного населения Америки, которые приняли сторону восставших колонистов, но их было не так много. В то же время индейцы были незаменимы как проводники и разведчики. Кроме этого, во время войны они были идеальными почтальонами: всю необходимую оперативную информацию они носили в своей памяти и передавали её устно на языке местных аборигенов, которого не знал ни один враг-бледнолицый на всём американском континенте.
От реки неприятно тянуло сыростью. Сгущались сумерки. Из тумана, осевшего на лагерь армии генерала Горацио Гейтса, уже проступали очертания его большой палатки.
«А ведь генерал не просто так срочно вызывает меня. Наверно, есть какие-то новости об английской армии. Может, уже в ближайшее время придётся повоевать. Укрепления практически возведены, и армия готова встретить королевские регулярные войска. Только какую тактику выберет командующий?» — размышлял на ходу Костюшко.
Наконец он подошёл к своей цели и приостановился у входа в палатку. Часовой узнал Костюшко и приветливо кивнул, как бы приглашая зайти внутрь. Костюшко кивнул в ответ, снял с головы треуголку и вошёл, слегка пригнувшись, в палатку.
В ней уже находились почти все командиры полков и ополченцев, одетых в кожаные, по погоде, плащи с пистолями за поясом. Не было только полковника Бенедикта Арнольда, но и он не заставил себя ждать. Уже через минуту постовой впустил полковника, который, немного прихрамывая (последствия ранения в ногу), подошёл к столу, на котором лежала карта местности.
Ещё раз осмотрев присутствующих и убедившись, что все в сборе, Горацио Гейтс открыл совещание.
— Смотрите все сюда, — начал говорить генерал, указывая на карту, — здесь противник, а здесь мы. Бургойну ничего не остаётся, как в лоб идти на нас либо отступить. А отступать британские генералы не умеют. Значит... — Гейтс повернулся к офицерам, ожидая от них подсказки его дальнейшей мысли.
— Значит, мы их научим, — с бравадой вставил своё слово Бенедикт Арнольд. — Предлагаю атаковать «красные мундиры» до подхода к нашим позициям.
Костюшко криво усмехнулся, и эту скептическую улыбку заметил Бенедикт Арнольд. Он считал Костюшко чужим, пришлым со стороны человеком, которого непонятно за какие заслуги из простого солдата повысили в звании до полковника. Образование и интеллект в расчёт не брались. И поэтому скептическая улыбка Костюшко на его, Бенедикта Арнольда, предложение вывела полковника из себя. Ведь Арнольд — герой этой войны, доблесть и храбрость которого уже вошли в историю Соединённых Штатов. Его обожает вся армия. Да что он, этот Костюшко, себе позволяет?
— Я так понимаю, что «доблестному» полковнику Костюшко не нравится моё предложение атаковать противника? — с сарказмом спросил Бенедикт Арнольд, вызывающе и насмешливо разглядывая своего «конкурента».
— Атаковать пусть даже превосходящими силами регулярные британские войска я бы не рекомендовал, — спокойно начал высказывать своё мнение Костюшко по этому поводу. — Незаметно подойти на близкое расстояние к англичанам мы не сможем, а значит, не будет фактора неожиданности. Британцы быстро перестроятся и встретят наших солдат дружным огнём своих ружей и орудий. Погибнет много солдат.
Арнольда раздражало это наглое спокойствие недавнего волонтёра. Он не мог терпеть, когда ему перечат, да ещё какие-то выскочки, которые даже не участвовали ни в одном серьёзном сражении.
— Войны без потерь не бывает, — громко и вызывающе заявил он. — Стремительное наступление и храбрость наших солдат — вот путь к победе.
Закончив с таким пафосом свою короткую речь, Бенедикт Арнольд с гордо поднятой головой осмотрел присутствующих. Ему никто не аплодировал. Такое отношение лично к нему и к его горячей речи обидело бравого полковника. Генерал Гейтс тоже молчал и продолжал смотреть на карту, думая о чём-то своём. И ему не понравилось, когда полковник Костюшко не так давно настойчиво убеждал его выбрать высоты Бемис как наилучшую позицию для отражения атаки англичан. При этом разговоре присутствовали другие офицеры, и такая критика ранила самолюбие Гейтса, так как он был иного мнения. Хотя время показало, что Костюшко был прав, и первая попытка Бургойна захватить высоты Бемис провалилась. Не последнюю роль в этом сыграл и перекрёстный огонь орудий, которые устанавливал тот же Костюшко. Наконец Гейтс оторвал взгляд от стола и твёрдо сказал:
— Будем ждать, когда англичане опять начнут атаковать. Им некуда деться, а нас они ещё серьёзно не воспринимают. Вот здесь, — Гейтс ткнул указательным пальцем в точку на карте, — они упрутся в наши укрепления, и тогда у нас появится возможность для манёвра. А вам, полковник, — генерал перевёл взгляд на Арнольда, — тогда хватит времени, чтобы проявить свою доблесть и храбрость. В нужное время вы со своим отрядом и пехотой полковника Моргана контратакуете противника с правого фланга.
По наступившему молчанию стало ясно, что совещание закончено, но все ждали команды, и она через минуту прозвучала от командующего армией:
— Всем вернуться в свои подразделения и ждать моих распоряжений, — подвёл итог совещания генерал Гейтс, и все командиры как-то сразу дружно засуетились и направились к выходу. Костюшко отстал, чтобы всех пропустить, и вышел от командующего последним. По пути к своей палатке он заметил полковника Бенедикта Арнольда, который с какой-то целью остановился в ожидании, пока Костюшко поравняется с ним. Некоторое время они шли рядом молча, но первым начал разговор всё-таки Арнольд:
— Так вы сторонник оборонительного боя, полковник?
— Я сторонник здравого смысла и сражения с наименьшими потерями, — Костюшко был неприятен этот разговор, но он, однако, решил поставить на место этого бывшего торговца. — А атаковать маленькой флотилией английские корабли, как это сделали вы у форта Тикандерога, заранее обрекая их на погибель, — это образец бессмысленного мужества.
Арнольда так передёрнуло от такого оскорбления, что он не нашёлся сразу, чем ответить на слона обвинения в его бездарности как командира.
— Наши тонущие корабли и тогда не спустили американский флаг, — вызывающе заявил он и остановился.
Костюшко вплотную подошёл к Бенедикту Арнольду, стал напротив и негромко, но жёстко спросил:
— А солдаты? Кто теперь утешит их матерей и вдов?
— Выслуживаетесь? Мечтаете о генеральских погонах? — с иронией ответил тот вопросом на вопрос.
Костюшко повернулся и опять пошёл к своей палатке, но, удаляясь от Арнольда, обронил:
— Лучше остаться на всю жизнь полковником, чем получить генеральские погоны через бессмысленную жертву тысяч людей.
— У вас в Европе все такие миролюбивые? — почти выкрикнул вслед Костюшко задиристый Арнольд, но Костюшко не обернулся и не ответил. — Вот и возвращались бы в свою Польшу и там проповедовали бескровную войну, — не успокаивался хромой полковник, предполагая, что Костюшко на эти оскорбления также не ответит...
Костюшко с неприятным осадком в душе от недавнего разговора подошёл к своей палатке, где его уже с нетерпением ожидал Томаш. Однако увидев своего командира с мрачным лицом, он спросил его по-польски совсем не то, что хотел:
— Почему такой хмурый, пан Тадеуш?
— Да вот одному полковнику очень хочется стать генералом, — ответил Костюшко и посмотрел в сторону уходящего Арнольда.
— Я слышал, у него неприятности: его обвиняют в казнокрадстве, — продолжил тему разговора сообразительный ординарец.
— И откуда ты всё знаешь? — с искренним удивлением спросил его Костюшко.
В ответ на вопрос командира Томаш только развёл руками: мол, слышал, говорили.
— Дело этого полковника, скорее всего, будет рассматриваться в Конгрессе, — как бы продолжая мысль вслух или разговаривая сам с собой, произнёс Костюшко. — Поэтому генеральские эполеты и слава героя ему нужны позарез и любой ценой, — закончил он разговор и пошёл готовиться ко сну.
Ранним осенним утром 7 октября 1777 года, когда уже не спится, а солнце ещё только начинает всходить над землёй, в лагере английской армии наметилось оживление. Солдаты чётко и заученно выстраивались в линию по всему фронту согласно нормам и традициям, сложившимся на полях европейских войн XVIII века. Артиллеристы, быстро взбодрившись от прохлады утра после короткого и тревожного сна, разворачивали орудия в сторону противника — армии колонистов.
Со стороны же армии Гейтса не было видно похожей суеты. Скорее, наоборот, противник английской армии спокойно ожидал, когда британские солдаты двинутся ровным строем прямо под их ружейный огонь. В дальнейшем так оно и вышло: дважды Джентльмен Джонни бросал свои войска в атаку, и дважды, неся большие потери от метких выстрелов солдат Континентальной армии, британцы откатывались от укреплений, возведённых и кратчайшие сроки под руководством полковника Тадеуша Бонавентура Костюшко.
Жеребец под Арнольдом нервно перебирал ногами. Видимо, нетерпение самого полковника, стремящегося в бой, передавалось и его лошади.
— Смотри, — сказал сержант Том Вейн, кивая на полковника, своему соседу, стоящему вместе с ним в строю, готовясь ринуться в атаку на «красные мундиры», — сейчас наш бравый Арнольд вытащит из ножен саблю и поведёт нас в бой.
Несколько ядер со стороны английской армии с характерным свистом, предупреждающим о своём появлении, пролетели над головами солдат американской армии и шлёпнулись, не разорвавшись, в грязь где-то позади строя. Бенедикт Арнольд, заметив, что противник второй раз начинает медленно отступать под ружейным и артиллерийским огнём колонистов, решил использовать момент и наконец-то схватить удачу и славу за хвост. Обнажив саблю и дёрнув за поводья лошадь, направляя её на врага, с криком: «За мной! В атаку!» лихо поскакал впереди своего полка.
Солдаты не заставили себя долго ждать и ринулись за своим доблестным командиром. Но его картинное стремление в гущу боя было внезапно прервано свистом очередного ядра, выпущенного из английской пушки. Ядро разорвалось рядом с лошадью полковника, а осколок от него впился всаднику в ту же ногу, на которую он уже хромал из-за первого ранения. Со стоном от боли и досады за такое невезение Арнольд свалился с лошади на руки своих солдат. Перевязав окровавленную ногу своего командира, четверо из них понесли раненого в тыл своей армии, получив хороший шанс не попасть под пули англичан и остаться в живых в этом сражении. А дальнейшую победоносную атаку на ряды английских солдат повёл полковник Морган.
А англичане продолжали отступать... Генерал Бургойн, рассматривая в подзорную трубу свою отступающую армию, срочно дал указание окопаться на ближайших высотках к северу от Саратоги. Ситуация в корне изменилась: регулярная британская армия отступала, а армия Гейтса теперь её преследовала и окружала. Решение Бургойн принял сразу. Но для создания видимости его коллегиальности он собрал на совещание штабных офицеров.
— Ну что скажете, господа? У нас сложилась довольно пикантная ситуация, — начал свою речь генерал. — С одной стороны, мы — армия его величества, призванная навести порядок в американских колониях и усмирить бунтовщиков. С другой — вместо простых бунтовщиков нас встретила боеспособная армия, в количественном составе значительно превышающая нашу. Кстати, эти... — Бургойн не находил слов, чтобы выразить своё хорошо разыгранное возмущение, — эти фермеры соорудили на нашем пути укрепления по всем правилам военного искусства.
Молчание всех офицеров было ответом на его длинный доклад о текущем моменте, который был явно не в пользу британцев. С тревогой поглядывая в сторону более удачливого противника, никто не решился подать хоть какой-либо совет своему генералу. По сути дела, все были в шоке, не понимая происходящего. Только что их доблестная армия потерпела поражение от каких-то колонистов, которые ещё год назад вспахивали свои поля или отстреливали в лесах дичь. И они же, вступив в открытое сражение, заставили британских солдат окопаться на этих холмах у реки, чтобы сохранить себе жизнь!
Генерал Бургойн прекрасно понимал, что они в ловушке, из которой было только два выхода. Можно с достоинством встретить врага и попытаться пробиться через их строй. При этом шансов погибнуть или попасть в плен было больше, чем разбить противника. Или... с таким же достоинством капитулировать, предложив противнику свои условия капитуляции.
Командующий английской армией задумался о судьбе своих солдат, да и своё будущее ему было не безразлично. «Ив первом и во втором случае на родине меня не будут приветствовать как героя, — размышлял он. Очередное ядро, выпущенное со стороны армии Гейтса, со свистом пролетело над головами его офицеров и разорвалось в нескольких метрах от места совещания. — Но во втором не будут проклинать за бессмысленную смерть своих близких...»
Генерал Джон Бургойн выбрал второй путь, и 14 октября 1777 года в лагерь Континентальной армии с белым флагом направился штабной офицер с двумя солдатами и барабанщиком. Офицер имел конкретные предложения и чёткие инструкции от своего командующего по почётной капитуляции английской армии.
Выслушав условия капитуляции от английской стороны, генерал Гейтс недолго раздумывал, чтобы принять решение. У него ещё не было мании величия, которая иногда проявляется в таких случаях у генералов, одерживающих подобные победы над своими противниками. Поэтому генерал Гейтс согласился на «конвенцию», предложенную Бургойном, и уже 17 октября 1777 года важно восседал на барабане в окружении своих офицеров в назначенном месте для сдачи оружия англичанами. Все с волнением ожидали, когда грозная армия Великобритании начнёт эту непривычную для неё процедуру. При этом солдаты американской армии в большей своей части не стали свидетелями позора английской армии (по условиям «конвенции»). Английские солдаты дружно складывали свои ружья в порядке, оговорённом ранее враждующими сторонами, и при условии, что простые солдаты противника в это время будут находиться вне зоны видимости.
Под барабанный бой генерал Бургойн величественно подошёл к генералу Гейтсу.
— Я хочу выразить вам свою признательность, генерал, — сказал командующий английской армией, после того как отдал честь, приветствуя противника. И эти слова прозвучали просто и искренне.
— За что же, сэр? — не понял Гейтс.
— Вы согласились с условиями нашей «конвенции» и этим сохранили жизнь своим и нашим солдатам... А нашим офицерам честь, — пояснил Бургойн и встал рядом с генералом Гейтсом, наблюдая, как его солдаты становятся в строй, но уже без оружия.
Полковник Костюшко, который также находился в это время в окружении генерала Гейтса, с сочувствием смотрел на измученных английских солдат. Среди них было немало тяжелораненых, которых несли на носилках их товарищи по оружию, укрыв белыми простынями с бурыми пятнами крови. Они тихо стонали при малейшей тряске и тупо смотрели расширившимися от боли зрачками в серое небо. И тогда Костюшко впервые задумался о том, правильный ли он выбрал жизненный путь в этом мире. Ведь его жизнь боевого офицера будет постоянно сопровождаться подобными картинами смерти и страданий людей.
Позднее Джон Бургойн и его офицеры, не пожелавшие влиться в ряды Континентальной армии, по решению Вашингтона были отпущены домой. На родине их встретили с едкими насмешками и упрёками, которые они мужественно переносили или погибали в поединках, вызывая своих обидчиков на дуэль. Но были и сочувствующие, понимающие суть этой войны и условия, при которых английским солдатам приходилось сражаться вдалеке от родных берегов старой доброй Британии.
День 17 октября 1777 года стал знаменательным для новой армии нового государства, название которого после сражения под Саратогой узнали далеко за пределами Соединённых Штатов. С этого момента уменьшилась череда тяжёлых поражений Континентальной армии и настало время других её побед. А завершение этой войны ознаменуется признанием самой сильной на тот момент морской державой независимости её американских колоний.
Победа Континентальной армии в сражении при Саратоге подняла дух американской армии, солдаты которой до этого находились в состоянии обороны или отступления перед более опытным и более профессиональным противником. Имя же полковника Тадеуша Бонавентура Костюшко впервые становится известным не только в армии генерала Гейтса, но и во всех штатах.
В Версальском дворце французский король с хорошим настроением проводил совещание с министром иностранных дел. Ещё бы, сражение под Саратогой, в котором участвовали и французские волонтёры, показало, что не зря Франция помогала этим колонистам. Теперь после такого поражения англичан можно более открыто выступить на стороне Соединённых Штатов и оказать Континентальной армии дополнительную помощь деньгами, оружием и людьми. Король предполагал, что все затраты его казны вскоре стократ окупятся за счёт территорий новых колоний, которые пока ещё являлись частью владений Великобритании.
— Так каковы потери англичан в сражении под этой, как её, Саратогой? — спросил Людовик XVI своего всезнающего министра.
Министр замялся на какое-то мгновение и бодро ответил:
— Точно не могу сказать, сир, но известно, что только в плен сдались около 6000 английских солдат.
Французский венценосец с удовлетворением потирал руки. Он встал из-за стола и подошёл к окну. Задумчиво посмотрев на раскинувшийся пейзаж одного из лучших дворцовых садов Европы, Людовик XVI радостно заметил:
— Какой позор для английской армии! Я думаю, что англичанам теперь надо серьёзно задуматься о размерах своих колоний. — Потом, повернувшись к ожидающему министру, продолжил: — Теперь, уже официально признав Соединённые Штаты как новое самостоятельное государство, мы получим хорошего союзника в защите наших интересов в Новом Свете.
Король Франции даже не предполагал в тот момент, что некоторые из тех, кому он собирался так активно помогать, через двенадцать лет станут в ряды его врагов, сокрушивших его династию...
— И подготовьте проект договора с Соединёнными Штатами. Я ознакомлюсь и подпишу его в ближайшее время.
— Слушаюсь, сир.
— И ещё... — король на секунду задумался. — На помощь Континентальной армии надо послать экспедиционный корпус генерала де Рошамбо для закрепления успеха. Одних волонтёров маркиза де Лафайета теперь будет маловато. Но каков Вашингтон!..
Людовик XVI по-детски засмеялся, довольный развивающимися событиями на далёком американском континенте. Туда в феврале 1778 года через дипломатическую почту был отправлен новый договор о дружбе и оборонительном союзе, подписанный Францией и Соединёнными Штатами в лице дипломатического представителя этой страны Бенджамина Франклина.
Но не только Франция в эти годы приняла сторону молодого независимого государства. Ещё не высохли чернила на перьях дипломатов России, Дании и Швеции, подписавших совместный договор, провозглашавший принципы вооружённого нейтралитета, когда в российской столице также с удовлетворением восприняли последние новости о первой серьёзной победе армии североамериканских колоний. Суть этих принципов сводилась в противодействие морской блокаде Англией международных торговых отношений. Монополия Великобритании на перекрёстках морских путей никого уже не устраивала. Другие монархи также хотели использовать их в своих интересах, ограничивая возможности самой мощной морской державы.
Англия переживала не самый лучший период своей истории, грозивший перейти в глубокий политический кризис внутри страны.
VIII

а круглым столом в здании Конгресса с красными от напряжённого разговора лицами сидели несколько конгрессменов. Перед ними стоял, широко расставив ноги, как на палубе корабля, Джордж Вашингтон и докладывал членам специальной комиссии Конгресса о ходе военных действий:
— ...Исходя из полученного опыта военных действий, в частности при Саратоге, необходимо продолжать развитие строительства оборонительных сооружений на наиболее важных стратегических участках.
Вашингтон развернул на столе большую карту и указал пальцем на одно из отмеченных им обозначений:
— Хочу обратить внимание уважаемых конгрессменов на крепость Вест-Пойнт, которая может стать стратегически важной цитаделью при обороне в случае наступления противника, сдерживая и оттягивая на себя значительные его силы.
— А кого вы можете предложить в качестве главного инженера такого строительства? — задал ему вопрос один из членов комиссии.
— Полковник Тадеуш Костюшко прекрасно справился с этой работой при Саратоге. Иного мнения по этой кандидатуре, я думаю, ни у кого не будет.
— А кого предлагаете назначить комендантом крепости Вест-Пойнт? — спросил главнокомандующего председатель комиссии.
Вашингтон замялся с ответом. Заминка была вызвана вопросом, по которому единого мнения у присутствующих наверняка не было.
— При Саратоге отличился ещё один полковник — Бенедикт Арнольд, который во время сражения был тяжело ранен... — Вашингтон сделал паузу, осматривая лица конгрессменов, ожидая от них возражений по второй кандидатуре. — Я предлагаю наконец-то присвоить ему звание генерала и назначить командиром этой цитадели.
Вашингтон не ошибся в своих предположениях: конгрессмены зашевелились и начали шумно обсуждать предложенную им кандидатуру.
— Я хотел бы всем присутствующим напомнить, что специальная комиссия при Конгрессе расследует факты хищения государственных денег полковником Арнольдом Бенедиктом, — громко напомнил конгрессменам председатель.
— У вас уже готово обвинительное заключение? — парировал Вашингтон замечание председателя.
— Насколько я знаю, до обвинения ещё не дошло, — более миролюбиво ответил тот.
— Бенедикт Арнольд на свои средства построил маленькую флотилию для нашей армии, дважды был ранен в сражениях. Наконец, атака его солдат внесла коренной перелом в сражении под Саратогой, — с жаром доказывал право на жизнь своего предложения главнокомандующий.
— Но Бенедикт Арнольд при всех его заслугах часто путает свои деньги с казёнными, — не сдавался председатель.
При этом споре другие конгрессмены притихли
( и внимательно следили за дискуссией коллег.
— Арнольд имеет всеамериканскую славу отважного командира. Если мы и сейчас не присвоим ему генеральский чин, в армии нас не поймут, — выдвинул Вашингтон главную причину на присвоение генеральского звания Арнольду Бенедикту, и председатель «сдался».
— Ну что ж, сэр, Конгресс примет во внимание ваши рекомендации, — пообещал он, но от себя в конце добавил: — А время покажет правильность вашего предложения.
Председатель даже не предполагал, как он был прав в своём отрицательном мнении о новом генерале американской армии и насколько ошибался Вашингтон!
В этот летний день Костюшко чувствовал себя прекрасно, а настроение было отличным: Конгресс утвердил его кандидатуру в качестве главного инженера крепости-цитадели Вест-Пойнт. К её строительству полковник Костюшко приступил недавно и теперь ожидал прибытия коменданта цитадели. В мыслях он уже готовил ему доклад о проделанной за это короткое время работе. Правда, Костюшко не было ещё известно, кого назначат на эту должность, но ему это было уже не столь важно. Ведь он занимался любимой работой, в которой прекрасно разбирался, за что его и ценил Вашингтон.
Наблюдая за ходом проводимых работ с чертежами будущих укреплений в руках, Костюшко обратил внимание на двух всадников, приближающихся к воротам крепости.
«И кого это несёт?» — только и успел он подумать, как его хорошее настроение резко пошло на убыль: с большой досадой в одном из всадников он узнал «старого знакомого» Бенедикта Арнольда. Ещё с большим для себя удивлением Костюшко обратил внимание на его генеральский мундир. Но и этот удар был не самым неприятным для него в этот солнечный день.
Генерал Бенедикт Арнольд со своим адъютантом подъехал к Костюшко, но не спешился, а, саркастически улыбаясь, победно смотрел на Костюшко сверху вниз.
— Здравствуйте, полковник. Как проходят строительные работы? — спросил важный всадник главного инженера цитадели.
— А почему вас это так интересует? — с вызовом спросил Костюшко.
Не слезая с лошади, продолжая гарцевать перед полковником Костюшко, генерал Бенедикт Арнольд громко прокричал, чтобы услышали все проходившие в этот момент рядом офицеры и солдаты:
— Информирую вас, что с сегодняшнего дня я назначен комендантом Филадельфии и буду лично контролировать ход строительства крепости. Поэтому через час прошу вас с докладом ко мне. Где расположен штаб гарнизона?
Костюшко молча показал рукой на стоящее недалеко новое здание с флагштоком.
Бенедикт Арнольд резко дёрнул поводья и направил лошадь в сторону расположения штаба. Когда всадники скрылись за облаком пыли, Костюшко бросил на землю чертежи и ругнулся на родном языке. Однако ни солдаты, ни офицеры, которые слышали это ругательство, ничего понять не смогли, а только с удивлением посмотрели на своего командира.
В Филадельфии стояла чудная летняя погода, когда вечером не хочется идти домой, а появляется желание в одиночестве посидеть на скамейке в саду. Как хорошо послушать пение птиц и насладиться приятными чувствами маленьких радостей этой жизни, оставаясь, пусть и на короткое время, наедине со своими мыслями и природой.
Генерал Бенедикт Арнольд с трудом поднялся без трости со скамейки и потихоньку поковылял в дом, где его ждала на ужин молодая супруга Пэгги. Красивый дом генерала вызывал зависть многих соседей и одновременно давал повод поговорить на тему состоятельности его хозяина. При этом с иронией и осуждением они вспоминали скверный характер его молодой красавицы жены, которую пожилой генерал с трудом «отвоевал» у её отца, успешного торговца-квакера Шиппена из Филадельфии.
Когда отец Пэгги «сдался» на милость победителя и дал согласие на этот неравный брак (девушке было лишь 18 лет, а зятю — 39), Арнольд на радостях купил самый дорогой дом и обставил его с роскошью дворцов турецких султанов. В каждой комнате этого дома висели дорогие картины, дорогая и красивая мебель украшала интерьер большой гостиной, а завершал это великолепие изящный огромный камин, отделанный причудливыми изразцами. Правда, в этом доме хозяин бывал не так часто, как ему бы хотелось. Большую часть времени генерал Бенедикт Арнольд проживал в Вест-Пойнте, а в Филадельфию к дорогой супруге он наведывался раз в неделю, а иногда и реже. Однако Пэгги это не расстраивало, а скорее радовало: отсутствие мужа не мешало ей наслаждаться жизнью, при этом не приходилось выслушивать упрёки ревнивого мужа.
Слуга подал генералу его трость с белым набалдашником из слоновой кости, и Бенедикт Арнольд как можно бодрее вошёл в гостиную, где уже ужинала в одиночестве его жена.
— Какой чудесный вечер, дорогая, — начал с порога генерал, — ты не находишь?
Пэгги с невозмутимым лицом красивой аристократки повернулась на голос мужа и вдруг выругалась, как уличная торговка:
— Чёрт возьми! Я сегодня встретила на улице соседку, жену одного из штабных офицеров (не помню даже, как её зовут), так она со мной не соизволила поздороваться.
Бенедикт Арнольд, привыкнув к вспыльчивому характеру своей супруги, постарался успокоить её уязвлённое самолюбие:
— Не принимай это так близко к сердцу, дорогая, — Арнольд наклонился к жене, чтобы поцеловать её белоснежную и изящную шею, но Пэгги уклонилась от его ласки. — Просто они все завидуют тебе.
Генерал присел на стул, а негр-слуга незаметным движением принял от него трость и тут же подал ужин. Устроившись поудобнее, Арнольд с отменным аппетитом начал проглатывать пищу, а Пэгги угрюмо сидела за столом и уже ничего не ела. Наконец она первая не выдержала и предупреждающе прошипела:
— Я не хочу жить среди таких невежд и завистников. Они все дикари. Не то что англичане. Вот это цивилизованная нация.
Её супруг, продолжая жевать, насмешливо заметил:
— Ты сейчас хвалишь моих врагов.
— Да какие они тебе враги? — Пэгги вдруг встала со своего места, сама подошла к мужу и уже совсем другим тоном заметила: — Знал бы ты, как за мной ухаживал адъютант командующего английскими войсками майор Джон Андре, пока они находились в Филадельфии.
Генерала неприятно задели ностальгические воспоминания супруги. Ревность к жене, которая в два раза моложе его, рвалась наружу. Ему хотелось вскочить со стула, закричать на жену и даже, может быть, ударить её... Но Бенедикт Арнольд пересилил свои чувства оскорблённого мужа, хотя это ему далось с большим трудом. Он перестал жевать и отложил вилку. Пытаясь перевести этот неприятный разговор в шутливую форму, Арнольд криво усмехнулся и спросил:
— Может, он тебе до сих пор шлёт любовные письма?
Пэгги присела возле мужа, посмотрела на стоящих рядом в рабском ожидании слуг, наклонилась ближе к нему и тихо произнесла:
— Шлёт... Но только не мне, а тебе.
Наигранная улыбка мгновенно сошла с лица генерала. Он с искренним изумлением посмотрел на жену и смог задать только один вопрос:
— Объясни мне, пожалуйста, что ты сейчас сказала?
При этом хозяин дома махнул слугам, чтобы все вышли из гостиной. Когда супруги остались вдвоём, Пэгги в волнении встала из-за стола, подошла к камину и вернулась к мужу, держа в руке небольшой конверт, который она ткнула ему прямо в лицо.
— Вот это тебе, — тихо сказала она, внимательно наблюдая за его реакцией.
— Что это? — еле выдавил из себя Бенедикт Арнольд. — Откуда это?
— Оттуда, — Пэгги кивнула в сторону, где располагалась в этот момент английская армия. Пэгги сделала паузу и осмотрела гостиную, как будто её могли услышать посторонние. — Это письмо от командующего английской армией генерала Клинтона. Он предлагает тебе перейти к нему на службу, — закончила она свои пояснения и вручила конверт с письмом мужу.
Дрожащей от сильного волнения рукой генерал вскрыл конверт, вытащил письмо и начал его читать. Сначала строчки перед его глазами бегали и тряслись, но через несколько мгновений генерал пришёл в себя от неожиданных новостей, дрожь в руке прошла, и написанное чётким почерком, наконец, стало приобретать смысл.
— Дорогой, тебя в армии не ценят, — подливала масла в огонь Пэгги. — После твоего ранения тебя должны были назначить не командующим крепостью, а возглавлять армию.
— Но как оно попало к тебе? — допытывался Бенедикт Арнольд у жены, продолжая вертеть в руках письмо, осмысливая своим воспалённым мозгом его содержание.
— Через майора Джона Андре, — коротко ответила Пэгги, не вдаваясь в подробности организации самой встречи с посыльным и её предыстории.
Наконец Бенедикт Арнольд понял окончательно весь смысл послания и последствия, которые ожидают его, если он примет предложение английского командования. С одной стороны, большего, чем он достиг в армии Вашингтона, ему ждать уже нечего. Дважды раненный в одну и ту же ногу, он не мог активно выступать как командир большого армейского соединения. Максимально, что ему доверили, — это командование гарнизоном крепости Вест-Пойнт. А тут ещё проверка специальной комиссии Конгресса. Его передёрнуло от нервной дрожи, пробежавшей по телу, только лишь от одного воспоминания об этом. Он предполагал, что его может ожидать, если результаты проверки комиссии будут против него. Тогда его уже вряд ли спасёт генеральское звание, и героическое прошлое никто не зачтёт, если комиссия представит доказательства, выраженные в кругленькой денежной сумме. Лишение генеральской пенсии, арест счетов и имущества, позор и бедность... Таким Пэгги он не нужен, а значит, ещё и одинокая старость.
Арнольд сделал ещё слабую попытку возразить жене:
— Но ведь я генерал американской армии...
Но у Пэгги был заготовлен ответ на любые его сомнения:
— Дорогой, казначейство Соединённых Штатов уже потребовало, чтобы ты выплатил 2000 долларов правительству. По результатам расследования тебя признали виновным в растрате. Выбирай.
И здесь генерала прорвало:
— Негодяи! Я столько сделал для этого правительства, а они требуют с меня какие-то 2000 долларов! — театрально возмутился он, брызгая слюной.
Немного успокоившись и уже быстро взвесив все «за» и «против», он твёрдым голосом произнёс:
— Да, ты права. Надо направить англичанам письмо о моём согласии принять их предложение.
Пэгги сама не ожидала такой быстрой победы: она-то предполагала, что ей придётся «брать штурмом» своего дорогого муженька. При этом эта юная авантюристка заготовила различные веские, как ей казалось, аргументы, включая слёзы, гнев, обмороки и самое главное оружие (в крайнем случае) — свои ласки в супружеской постели. Но все её опасения оказались напрасными, и бравый генерал сдался при первой же атаке.
Пэгги подсела к мужу, прислонила свою очаровательную головку к его плечу и нежно проворковала:
— Ты напиши ответ, а я всё устрою.
Бенедикт Арнольд с умилением посмотрел на жену и подумал, что не зря всё-таки он так долго добивался у её отца согласия на этот брак. Пришло время, и эта очаровательная особа теперь подсказала ему путь, который выведет его из крайне неприятной ситуации, в которую он попал одаривая Пэгги дорогими подношениями. При этом генерал расходовал бесконтрольно деньги не только из своего кармана, но и из бюджета американской армии, за которые ему сейчас придётся отвечать.
И не всё ли равно, где он будет получать генеральскую пенсию: здесь, в Соединённых Штатах, что в сложившихся обстоятельствах было под большим сомнением, или в старой доброй Англии.
IX

омандующий английской армией Клинтон действительно сумел через бывшего адъютанта связаться с женой доблестного
американского генерала. Став начальником разведки, майор Джон Андре наладил с ней переписку, напоминая Пэгги о своих чувствах и их романтических встречах, когда английская армия хозяйничала в Филадельфии. Тогда-то ему и стало известно, что над генералом Бенедиктом сгустились тучи. Пэгги пожаловалась майору, что её прославленного мужа могут привлечь к ответственности за растрату государственных денег, которые тот с завидным постоянством использовал на личные нужды. При этом Андре прекрасно понимал, что большая часть этих сумм шла на удовлетворение повышенных требований и пожеланий его молодой, но амбициозной жены.
Однажды майор Джон Андре, томясь от безделья, с ностальгией вспоминал очаровательную Пэгги и приятное времяпровождение в её обществе. Неожиданно в его голову пришла мысль, от которой он забыл даже эту юную особу.
«А не переманить ли известного всей Континентальной армии генерала на свою сторону, пообещав ему генеральский чин, но уже в английской армии?» — подумал начальник английской разведки. Причём сначала эта мысль показалась самому Джону сумасшедшей. Однако он внимательно изучил историю жизни «бравого генерала» и все события, связанные с его активной службой в Континентальной армии со всеми поражениями и победами.
«А почему нет?» — задал майор себе ещё один вопрос и решил для начала наладить связь хотя бы с Пэгги. Но окончательное решение о начале операции он принял всё-таки после получения сведений о работе специальной комиссии Конгресса, расследующей обстоятельства растраты государственных денег объектом пристального изучения майора.
Форт, в котором располагалась вся английская армия, был построен недалеко от Нью-Йорка и был огорожен высоким частоколом, снаружи которого были установлены палатки для солдат английской армии. Кое-где среди солдатских палаток виднелись вигвамы индейцев, которые воевали на стороне англичан, надеясь во время военных действий разжиться новыми скальпами бледнолицых. Офицеры же и командующий жили в самом Нью-Йорке в лучших домах города, в одном из которых и размещался штаб английской армии.
В штабе командующего генерала Клинтона в этот день было необычно тихо. Только один майор Джон Андре сидел в небольшой комнате и нервно постукивал по голенищу сапога индейской плетью из конского волоса. Он с нетерпением ожидал генерала Клинтона, чтобы показать ему письмо Арнольда Бенедикта, которое было им получено от Пэгги. Сегодня ночью Джон Андре в очередной раз перебрался на другой берег реки на индейском каноэ и встретился с ней на окраине Филадельфии в заранее условленном месте.
Когда же он узнал, сначала от Пэгги, а затем из содержания письма, что генерал американской армии Бенедикт Арнольд принял предложение английского командования, то чуть не расцеловал Пэгги. В том случае, если получится всё так, как запланировал майор, и Бенедикт Арнольд перейдёт на сторону англичан, то он, Джон Андре, подготовивший и осуществивший эту операцию, станет легендой английской армейской разведки. Он мысленно даже нарисовал себе картину, как английские офицеры изучают историю этой операции в подробностях в военных английских школах.
Наконец показался генерал Клинтон. Он приближался к штабу в сопровождении молодого адъютанта, который занял место Джона Андре сразу после его назначения на новую должность. Отправив куда-то своего адъютанта, генерал Клинтон вошёл в дом и тут же заметил сияющее лицо Андре.
— Не может быть?! — воскликнул генерал Клинтон. — Он принял наше предложение?
Джон Андре утвердительно кивнул головой и передал письмо в руки своего командующего. Бегло прочитав бумагу, генерал Клинтон вдруг наморщил лоб и задумался. Джон Андре, заметив реакцию генерала, взволнованно спросил:
— Что-то не так, сэр?
— Да нет, всё просто замечательно. Даже слишком... — ответил тихо, как бы про себя, генерал.
— Даже слишком, — повторил он последнюю фразу и спросил Андре: — А нет ли здесь какой-нибудь ловушки?
Майор опешил: он никак не ожидал такого вопроса от генерала на свою новость. Он не знал, что ответить, но генерал Клинтон и не ждал от него ответа, а присел на стул, устало вытянул ноги и вдруг засмеялся.
— А ведь мы легко можем проверить искренность нашего нового друга, — предложил он.
— Осмелюсь спросить, сэр, каким образом? — поинтересовался заинтригованный майор.
— А предложите-ка ему встретиться лично и попросите при встрече передать нам схему укреплений цитадели Вест-Пойнт, — изложил свой план генерал Клинтон.
— Замечательная идея, — с искренней радостью заметил Джон Андре и уже представил себе историческую встречу в тылу врага, о которой он будет рассказывать своим внукам, будучи на заслуженном отдыхе.
— И пообещайте ему на словах, — добавил, усмехаясь, генерал Клинтон, — что если генерал выполнит нашу просьбу, то размер его будущей пенсии в Великобритании может быть рассмотрен в сторону значительного увеличения.
— О да! У него две страсти: деньги и жажда славы.
— Насчёт славы я не гарантирую, а вот деньги... Действуйте, майор. И ещё, — генерал с участием посмотрел на молодого человека, — будьте осторожны и не попадитесь в руки солдатам Вашингтона. Рекомендую провести вашу встречу где-нибудь на окраине города, где меньше риска нарваться на вражеский патруль.
Майор Джон Андре внял совету своего командира и через несколько дней в полнолуние встретился с Бенедиктом Арнольдом в небольшом посёлке Вест Хаверсроу, расположенном недалеко от Вест-Пойнта. Майор переоделся в гражданскую одежду и был похож на обыкновенного торговца, каких можно было встретить повсеместно. Однако военный остался военным: офицерские сапоги, до блеска начищенные его денщиком, предательски выдавали в нём далеко не гражданского человека. В последний момент перед тем, как отправиться на эту встречу, Андре решил не переобуваться в какие-то башмаки. А зря.
Луна предательски освещала место их встречи, что Арнольду очень не нравилось. Он хотел побыстрее расстаться с бывшим ухажёром своей жены и торопливо всунул ему в руки копию плана укреплений цитадели.
— Вот здесь то, что вы просили, — пробормотал Арнольд. — Теперь очередь за вами: определите мне мою новую должность в английской армии и назначьте время, когда я должен покинуть Вашингтона.
Джон Андре ликовал: план его удался, он получит повышение за эту операцию, которая войдёт в историю английской разведки и о которой, наверняка, напишут во всех английских газетах. Однако получив важные бумаги, он не торопился уходить. Андре развернул лист, и убедившись, что ему передали то, о чём он просил, благодарно кивнул и бодрым голосом заявил:
— Благодарю вас, генерал. Английское командование в лице генерала Клинтона достойно оценит нашу помощь.
— Надеюсь, — с сарказмом проговорил Арнольд. — А то ведь я знаю вашу английскую скупость и расчётливость.
Андре не обиделся на генерала. Ему даже было интересно беседовать с ним. В майоре вдруг проснулся психолог и ему захотелось поболтать с предателем-генералом, узнать, что побудило его перейти на сторону противника.
— Разрешите мне задать вам один вопрос, генерал?
— Ну что ещё вам от меня нужно? — нервно спросил Арнольд, ожидая момента, когда можно будет скрыться в ночи от лунного света и этого «любезного» майора.
— Скажите, ваше решение окончательное? Ведь вы же всё-таки генерал армии Вашингтона!
Эта фамильярность не понравилась Арнольду. Он не собирался раскрывать душу этому молокососу и объясняться с ним. Но вопрос серьёзно задел его за живое и заставил ещё раз обдумать то, что он в данный момент сделал. Арнольд задумался, посмотрел на луну и, неожиданно для Андре, ответил спокойно и цинично:
— Я перешёл этот Рубикон. Я не только генерал, я ещё и торговец. А это, — Арнольд показал на бумаги, которые держал в руке Андре, — просто очередная сделка.
Теперь задумался Андре, но не нашёлся, что ответить генералу. Свернув в трубку бумаги с важнейшей для английской армии информацией, он спрятал их в высокое голенище своего сапога. Арнольд усмехнулся и протянул Андре ещё один лист бумаги.
— Что это? — спросил с недоумением майор.
— Ваш пропуск на тот случай, если вас всё-таки остановит военный патруль, — пояснил генерал. — Теперь вы не английский офицер, а обыкновенный торговец Джон Андерсон. Запомните хорошо, на всякий случай, это имя.
Арнольд опять посмотрел на офицерские сапоги Андре с высокими голенищами и добавил:
— Хотя, беря во внимание ваши сапоги, я бы засомневался, что вы торговец.
Но Андре уже «понесло» от полноты острых ощущений, которые он получал во время своего визита в самое сердце вражеской армии.
— Не волнуйтесь, генерал. Всё будет в порядке, — с наигранной бравадой заверил он. — С пропуском от самого знаменитого и доблестного генерала американской армии меня никто не посмеет задержать.
Арнольду эта фраза польстила, и он немного приосанился.
— Ну, тогда с Богом! И... будьте всё-таки осторожнее, — пожелал он самоуверенному майору, давая тем самым понять, что ему пора возвращаться.
Изобразив на своём лице уверенность и серьёзность, Андре попытался успокоить этого хромого генерала.
— Не волнуйтесь. Я доставлю бумаги генералу Клинтону в целости и сохранности, — пообещал майор, одёргивая такой неудобный сюртук. — Прощайте. До встречи в Нью-Йорке...
Вернувшись домой после встречи с Андре, Бенедикт Арнольд, прихрамывая, подошёл к жене и хотел поцеловать её в щёку, но Пэгги уклонилась от поцелуя.
— Ну что? Всё в порядке? — спросила она мужа, взволнованно смотря ему в глаза.
Арнольд, задумавшись о чём-то своём, не сразу понял суть вопроса и рассеянно ответил:
— Что? Ах да... Всё отдал и отправил. Главное теперь, чтобы твой прежний воздыхатель добрался в расположение своей армии.
Пэгги не обиделась на Арнольда, но решила ответить колкостью на его замечание:
— Да, майор ухаживал за мной. Но моему отцу он не нравился. Кстати, так же, как и ты. Однако ты был настойчивее.
— Я обещал твоему отцу, что ты будешь счастлива со мной и что после свадьбы я куплю самый элегантный дом в Пенсильвании. И он дал согласие на наш брак.
Арнольд улыбнулся их общим воспоминаниям и ещё раз попытался поцеловать жену. На этот раз Пэгги не отвернулась, давая понять, что сегодня ночью он может рассчитывать на большее...
По тёмной улочке Тарритауна осторожно двигался всадник. Как назло, ярко светила луна, являя всему миру свою полноту, что очень беспокоило одинокого путешественника. По этой причине он старался направить лошадь ближе к деревьям, которые хоть немного прикрывали его от такого предательского лунного освещения. Наконец-то Джон Андре, кем и был этот загадочный и таинственный странник, завернул за последний дом и радостно расслабился от державшего его в напряжении чувства опасности. Однако насладиться чувством свободы и безопасной прогулки по окрестностям городка майору не пришлось. Внезапно он выехал прямо на армейский патруль, который проходил своим обычным маршрутом в эту лунную ночь. Неожиданная встреча привела в замешательство обе стороны, но Джон Андре, вспомнив, что он «торговец Джон Андерсон», приветливо улыбнулся и бодро первым произнёс:
— Привет, парни! И не лень вам ходить в такую ночь с ружьями наперевес! — поприветствовал английский майор своих врагов. — Может, лучше было бы сейчас проводить время в постели со своими крошками?
«Парни» были простые, но службу свою знали и поэтому не вняли предложениям странного всадника, а один из них спросил незнакомца:
— А ты кто такой, что даёшь нам советы, когда и с кем нам проводить время?
Говоривший был сержантом и, по-видимому, являлся старшим патруля, поэтому все переговоры сразу взял на себя. Он подошёл поближе к всаднику, внимательно осмотрел его с ног до головы и повторил вопрос:
— Какого чёрта ночью один здесь бродишь, когда добропорядочные люди давно спят? Слазь с лошади. Быстро.
Солдаты наставили на задержанного ружья, и Джон Андре быстро соскочил на землю. Он суетливо начал искать пропуск, который ему выдал совсем ещё недавно Бенедикт Арнольд, но чёртова бумага никак не находилась. Андре почувствовал, как на лбу выступили капли холодного пота, и на какое-то мгновение запаниковал. Однако через секунду, нащупав спасительный пропуск, он снова заулыбался, вытащил его и протянул старшему. Сержант принял протянутую бумагу и осторожно начал её разворачивать. Поворачивая лист к лунному свету, он попросил второго солдата:
— Слушай, я ничего не вижу. Посмотри, вдруг, ты сможешь прочитать, что здесь написано?
Второй солдат, приняв бумагу от своего старшего, сначала внимательно и, как показалось Андре, очень долго её рассматривал, пытаясь вникнуть в суть текста. Наконец и он оторвался от изучения листка и произнёс:
— Я тоже не могу разобраться. Попробуй прочитать ты, — обратился он к третьему солдату, совсем молодому юноше-новобранцу.
— А я вообще-то неграмотный, — робко ответил третий, и Джон Андре с ужасом сообразил, что его просто так, судя по всему, уже не отпустят. Он сделал ещё одну попытку договориться с этими тупыми фермерами в военной форме.
— Дайте мне, я вам всё прочитаю, — начал было он говорить и протянул нетерпеливо руку за бумагой, — ведь под светом луны всё видно.
Но старший патруля резко перебил его:
— Не беспокойтесь так, сэр. Мы и сами прочтём, но только не здесь. Пошли к капитану, там и разберёмся.
Джон Андре понял, что спорить с ними бесполезно, и покорно поплёлся между солдатами за сержантом, ведя за собой лошадь. В душе он ещё надеялся на благополучный исход событий, однако его надеждам не суждено было сбыться. Лишь только сержант доставил к сонному начальнику караула задержанного, тот оценивающим взглядом осмотрел его и обратился к сержанту:
— Ну и кого это вы мне привели?
Вместо ответа сержант протянул капитану бумагу.
— Так как вас зовут? — обратился капитан уже непосредственно к Джону Андре после прочтения пропуска.
— Джон Андерсон, торговец, — как можно спокойнее пытался ответить задержанный, но его голос от волнения сорвался и предательски дрогнул. — Я дал им прочитать пропуск, — Андре кивнул в сторону патрульных, — но они меня решили привести сюда.
— И правильно сделали, — рявкнул капитан. — До того, как взять в руки ружья, они всю жизнь с утра до вечера кормили бычков или овец на своих фермах. Поэтому их подопечные с таким же успехом смогли бы прочитать твой пропуск, как и их хозяева.
Капитан ещё раз внимательно прочитал содержание бумаги. Застёгивая мундир на многочисленные петли и надевая на лохматую голову треуголку, он продолжал отчитывать «торговца»:
— Вот поэтому ты здесь и торчишь. Нечего шляться но ночам по городу в военное время, когда порядочные граждане отдыхают.
— Так у меня пропуск... — начал было оправдываться Джон Андре, но капитан, казалось, его не слушал и продолжал допрос, одновременно обходя и осматривая задержанного со спины.
— А сапоги-то у тебя офицерские, — тихо произнёс капитан, и ноги у Андре вдруг стали ватные, а язык превратился в деревянное полено и не мог ничего внятно произнести в ответ.
— Да ты садись, садись, не стесняйся, — вдруг ласковым голосом с сочувствием произнёс хитрый капитан, заметив, как вдруг замер и напрягся «торговец».
Андре послушно присел на стоящую рядом скамью.
— А ну-ка сними сапожок. Я хочу посмотреть, какие носки связала тебе жёнушка, — также ласково попросил капитан, и Андре обречённо начал стаскивать с себя сапоги.
В голове у майора за несколько секунд пролетела вся его жизнь: счастливое детство в благополучной аристократической английской семье, красивые женщины, которых он любил, успешная военная карьера... И вдруг всё рухнуло в один миг из-за каких-то безграмотных патрулей... Джону Андре стало жалко себя: было обидно и досадно до слёз, что для него теперь всё кончено.
И он был совершенно прав в своих предположениях. Как только из голенища одного из сапог выпала схема укреплений цитадели Вест-Пойнт, капитану сразу всё стало ясно. Какая удача! Его парни доставили ему важную птицу, английского шпиона, который немедленно был препровождён в штаб армии для дальнейшего расследования данного инцидента.
Бенедикт Арнольд ночью спал плохо. После того, как Джон Андре скрылся в ночи, в душе генерала поселилась тревога. Он постоянно задавал себе вопрос, правильно ли поступил, принимая решение о переходе на сторону англичан. Но душа торговца, чувствующего выгодную для него сделку, взяла верх над здравым смыслом, честью и порядочностью. Арнольд, засыпая, всё-таки успокоил себя мыслью о том, что всё будет в порядке, а в жизни надо выбирать наиболее выгодные варианты, тем более, когда эта жизнь перевалила на вторую половину.
Было раннее утро, когда его разбудил звук колокольчика, который висел на входной двери дома и сообщал, что кто-то требует появления хозяина. Предчувствуя недоброе, Арнольд спустился к выходу в ночном халате и открыл двери. На пороге стоял посыльный из штаба армии. Увидев генерала с ночным колпаком на голове и в домашних тапках, солдат еле сдержал усмешку. Он отдал честь и передал, что командующий армией срочно вызывает генерала к себе на совещание.
У Бенедикта Арнольда от дурных предчувствий засосало под ложечкой.
— А что случилось? Командующий всех поднимает на ноги в такую рань? — спросил генерал посыльного.
— Точно не знаю, сэр, но слышал, что ночной патруль задержал в городе какого-то английского шпиона, — с готовностью ответил посыльный. — Разрешите идти, сэр?
— Да-да, ступай, — рассеянно ответил Бенедикт Арнольд, уже предполагая, кто был пойман и причину такого срочного вызова.
Как только посыльный отошёл от входной двери дома, Арнольд бросился в свою спальню и в панике начал складывать вещи в большой дорожный баул, бросая в него всё подряд: нижнее бельё, тяжёлый пистоль и какие-то ненужные личные вещи. Его трясло от волнения, и Арнольд раз десять обозвал себя полным болваном и идиотом за то, что послушал жену и связался с англичанами.
Услышав шум за стенкой, в спальню мужа заглянула полусонная Пэгги и большими от удивления глазами смотрела на непонятные действия супруга. В то же время сам Арнольд не обращал на свою любимую жёнушку никакого внимания. Наконец она не выдержала и обиженным тоном спросила:
— Может, ты объяснишь, что здесь происходит?
Арнольд на секунду остановил взгляд на Пэгги, мотом отставил баул в сторону и подошёл к жене. Он взял её за плечи, посмотрел внимательно ей в глаза и со злостью ответил вопросом на вопрос:
— Ты хочешь знать, что происходит? — Арнольд выждал мгновение, а потом произнёс такие слова, что Пэгги ничего подобного в жизни не слышала даже от простых грузчиков, которые работали на пристани, загружая товаром очередное судно её отца.
— Пэгги, ты дура! — Арнольд резко оттолкнул от себя жену и продолжил собирать вещи. Одновременно он пояснял недоумевающей и огорошенной таким неожиданным оскорблением супруге суть такого вывода. — А я ещё больший дурак, что послушал тебя. Твой английский ухажёр вообще идиот: умудрился попасть в плен даже с моим пропуском, — продолжал изрыгать из себя проклятия генерал, торопясь как можно быстрее покинуть расположение армии.
Наконец, когда дорожный баул был заполнен, Бенедикт Арнольд, переодевшись в старый гражданский костюм, опять подошёл к жене. Ему нечего было добавить ей к сказанному, хотя и очень хотелось. Арнольд взял трость, забросил ма плечи баул и направился к выходу. Обернувшись перед уходом на стоящую в каком-то оцепенении жену, он попытался как-то сгладить своё хамское поведение и, может быть, хоть немного успокоить её:
— Мне необходимо срочно бежать... Но ты не бойся, тебя никто не тронет. Ты можешь всё валить на меня. Джентльмены с женщинами не воюют.
На этой фразе Бенедикт Арнольд закрыл за собой навсегда двери этого дома. Осмотрев внимательно безлюдную улицу, генерал в помятых штанах и такой же куртке, быстро ковыляя, направился в конюшню. Оседлав лошадь, он быстро вскочил на неё и галопом поскакал в сторону реки. Там на берегу у небольшого причала стояла его прогулочная лодка, на которой он благополучно покинул ставшую опасной для него территорию.
Весть о предательстве известного генерала быстро разнеслась по всей армии, но Бенедикт Арнольд успел скрыться от возмездия. Переплыв на другую сторону реки и перебравшись в расположение английской армии, он оказался вне досягаемости для своих бывших соратников. Когда же Джорджу Вашингтону доложили, что тот, кого он рекомендовал как пример мужества и доблести, предал его, главнокомандующий побледнел и закрыл лицо ладонями. Обернувшись к своему секретарю Александру Гамильтону, Вашингтон с горечью смог произнести только одну фразу:
— Арнольд предал нас. Кому тогда мы можем верить?
Гамильтон, также обескураженный этой новостью, ничего не смог ответить своему главнокомандующему. Маркиз де Лафайет, присутствующий в это время в кабинете у Вашингтона, с сожалением пожал плечами и тоже никак не прокомментировал этот странный и необъяснимый с точки здравого смысла поступок.
Военный трибунал приговорил майора Джона Андре как английского шпиона к смертной казни, и в начале декабря 1780 года он был повешен. Надо отдать должное этому английскому офицеру: смирившись с судьбой, которая сыграла с ним злую шутку, он вёл себя достойно перед лицом приближающейся смерти. Своей выдержкой майор английской армии не только вызвал слёзы у дам, присутствующих при казни, но и заслужил уважение у тех, кто приводил в исполнение приговор.
Англичане не остались в долгу у своих противников и в ответ повесили в Нью-Йорке патриота-американца Натана Хейла. Бедняге просто не повезло, так как он оказался в заложниках всех вышеперечисленных событий, связанных с поимкой Джона Андре тремя неграмотными патрулями. Что поделаешь, значит, такая у него была судьба... В этом мире всё взаимосвязано.
Сам же главный виновник, Бенедикт Арнольд, получил за измену около пятидесяти пяти тысяч долларов и ещё почти полтора года сражался против тех, кто когда-то считал его своим кумиром. Когда же война закончилась, английское правительство назначило ему пожизненную пенсию в 500 фунтов стерлингов в год. Именно в такую сумму оно оценило предательство и утрату чести боевого генерала.
Перебравшись в Англию в 1782 году, Арнольд понял, что 500 фунтов в год для него будет недостаточно, и снова занялся предпринимательством, успешно проводя торговые операции в Вест-Индии. Однако из-за халатного отношения к расходованию нажитых средств он продолжал оставаться в долгах, от которых удалось избавиться только его вдове после смерти Бенедикта Арнольда в 1801 году.
Впоследствии время подтвердило слова Арнольда, брошенные им жене в день побега. Вашингтон оказался джентльменом и разрешил Пэгги с маленьким сыном уехать в Англию к мужу, где семья благополучно воссоединилась. Английское правительство не осталось равнодушным и к Пэгги: за участие в измене мужа ей и её сыну была также назначена пенсия в сумме, равной пенсии мужа...
Вскоре после предательства Бенедикта Арнольда в крепость Вест-Пойнт прибыл для проверки хода строительства укреплений Вашингтон с членами специальной комиссии. На протяжении всего дня пребывания главнокомандующего в крепости его сопровождал Костюшко и давал пояснения на все вопросы, которые Вашингтон задавал при осмотре сооружений.
— Ну, полковник, — заметил, кивая головой, главнокомандующий, — мы довольны состоянием оборонительных сооружений, которые вы успели возвести за такое короткое время. Сопровождающие Вашингтона члены комиссии также были удовлетворены результатами осмотра и теми комментариями, которые они услышали от главного инженера армии. В подтверждение оценки, данной Вашингтоном, они согласно закивали.
Джордж Вашингтон опять обратился к Костюшко и добавил:
— Вы проделали огромную работу за короткий срок. Может, у вас есть ещё какие-нибудь предложения или пожелания?
Указав всем присутствующим рукой в сторону реки на продолжающиеся вокруг строительные работы, Костюшко сделал ещё одно добавление:
— Кроме цитадели, четырёх фортов и семи редутов, река Гудзон перекрыта на всю ширину специально сконструированной для этой цели железной цепью. Эта цепь не даст кораблям противника подойти к цитадели на близкое расстояние и вести по ней с бортов прямой огонь из пушек.
Вашингтон молчал, что-то обдумывая, потом улыбнулся и заметил:
— Да я считаю, что англичане не решатся штурмовать цитадель.
Вашингтон действительно был доволен. Он благодарил провидение, что Костюшко оказался в нужное время и в нужном месте. Его знания военного инженера, его умение находить лучшие решения в создавшейся ситуации и налаживать отношения с людьми — все эти качества поднимали Костюшко в глазах Вашингтона. Он понимал, что этот человек может быть его соратником не только но время войны. А ведь эта война рано или поздно закончится.
«Такие люди, как этот Костюшко, мне будут нужны. Надо его поддержать и предложить Конгрессу присвоить ему звание генерала, — подумал Вашингтон. — Это звание он заслужил. Этот не предаст». Вашингтон нахмурился: он вспомнил, какую «оплеуху» он получил от Бенедикта Арнольда. Когда на последнем заседании специальной комиссии Конгресса обсуждался вопрос об измене известнейшего в американской армии генерала, Вашингтон кожей ощущал на себе взгляды депутатов. Кто-то молча осуждал его за прежнюю инициативу, а кто-то сочувствовал главнокомандующему. Ведь он был простым смертным и мог, как и все, ошибаться.
— Теперь ваша помощь нужна в Южной Каролине, — продолжил говорить главнокомандующий. — Основные силы англичан сегодня скапливаются именно там, под Чарлстоном. Командующим Южной армией Конгресс решил назначить генерала Гейтса.
Костюшко с удовольствием услышал эту новость. За время службы под командой генерала Гейтса он сдружился с ним. Их объединяло не только сражение под Саратогой. В то время, когда Костюшко ещё плохо говорил по-английски, Гейтс много общался с ним на французском языке, который хорошо знал. Именно тогда они стали не просто сослуживцами, а друзьями. И как бы в подтверждение этого факта Вашингтон добавил:
— Кстати, решение о вашем переводе мы приняли по его, генерала Гейтса, просьбе. Вы готовы поменять место службы?
Костюшко понял, что он сдал очередной экзамен на пригодность и принял указание Вашингтона как должное. Вытянувшись перед главнокомандующим и отдав ему честь, Костюшко бодро сказал:
— Так точно, сэр!
— Да ладно, полковник, не напрягайтесь, — Вашингтон улыбнулся и при всех по-дружески одной рукой обнял Костюшко. — Лучше ведите нас к столу: за время вашей экскурсии мы зверски проголодались.
И вся процессия двинулась в сторону палатки, где уже столы были накрыты чистыми скатертями и сервированы. Костюшко же осталось только дать знак, и сержант побежал предупредить поваров, чтобы они разогревали давно остывший обед...
Уже через несколько дней Джордж Вашингтон широкими шагами рассекал свой кабинет, двигаясь туда-сюда и обдумывая содержание очередного письма к Конгрессу. За столом сидел его секретарь, привычно наблюдая за своим начальником, которого боготворил. Он привык к тому, что Вашингтон так двигался по кабинету, принимая какое-то важное решение, и застыл в ожидании, чтобы записать очередную фразу.
— Так на чём мы остановились? — Вашингтон, наконец, перестал ходить по кабинету и подошёл к столу секретаря. Гамильтон приблизил к себе лист бумаги, на котором уже был записан черновик письма:
— «Хочу также добавить к вышесказанному, что...»
— Да, спасибо, — поблагодарил Вашингтон. — Итак, продолжим. Хочу также добавить к вышесказанному, что Костюшко является человеком науки и высших достоинств. Согласно с аттестацией, которая у меня есть о нём, он заслуживает, чтобы его иметь на примете в дальнейшем...
Вашингтон опять замолчал, о чём-то задумавшись. Потом подошёл к окну и, наблюдая за непрекращающимся движением жизни снаружи, как бы про себя, тихо произнёс:
— Как вовремя он у нас появился. Неисповедимы пути господни. — Не поворачиваясь к секретарю и продолжая смотреть в окно, Вашингтон приказал: — Сегодня же отправьте это письмо председателю Конгресса вместе со всей почтой.
— Слушаюсь, сэр, — ответил Гамильтон, и Вашингтон, удовлетворённый его ответом, кивнул. Отлично зная исполнительские качества своего секретаря, он не сомневался, что тот сделает всё как надо.
X

дaв дела в Вест-Пойнте майору Виллифранцу, Костюшко с Гриппи и Томашем направился в Филадельфию, где ему необходимо было сделать отчёт о проделанной работе в Вест-Пойнте и получить назначение к новому месту службы, в Южную армию Соединённых Штатов.
Южной армии противостояла английская армия под командованием генерала Корнуоллиса. Причём это противостояние было в пользу американцев. В связи с неудачами Гейтса Конгресс принял решение о его отстранении от командования Южной армией, и в декабре 1780 года его сменил генерал Натаниель Грин. Перед тем как Грин направился к своему новому месту службы, Вашингтон встретился с ним, чтобы сказать своё напутственное слово.
— Мне бы очень хотелось, чтобы вы прислушивались к советам главного военного инженера армии полковника Костюшко, — давал последние инструкции главнокомандующий генералу.
— Я много слышал хорошего об этом французе, — кивнул в ответ Грин.
— Он не француз, он бывший польский офицер. Однако это не имеет значения. Главное, что он отличный специалист. Благодаря его знаниям и настойчивости мы имеет такой надёжный форпост, как Вест-Пойнт.
Грин прекрасно понимал, что Вашингтон не зря предлагал ему внимательно присмотреться к полковнику. Когда же их встреча состоялась, то генерал с приязнью подал тому руку.
— Рад, очень рад, полковник, что вы находитесь в рядах моих офицеров, — радушно поприветствовал генерал Грин полковника Костюшко.
Они дружески пожали друг другу руки, после чего генерал пригласил его вместе пообедать.
— Надеюсь, что с вами мы сможем хорошо потрепать англичан, — выразил надежду на взаимопонимание Грин. — И не хуже, чем под Саратогой.
— Нельзя недооценивать противника. Он тоже нас бил, и не раз, — напомнил Костюшко генералу с намёком, что нельзя расслабляться даже на фоне явных успехов.
Грин поморщился: что было, то было. Сразу вспомнилось последнее крупнейшее поражение ополченцев под Кэмденом. Тогда генерал Гейтс совершил ужасную ошибку и позволил новому командующему английской армией генералу Корнуоллису втянуть себя в сражение на открытой местности. В результате армия Гейтса была разбита и рассеяна, а сам он едва спасся бегством.
— Мы дерёмся, нас бьют, мы поднимаемся и дерёмся снова, — обосновал перед Костюшко свою стратегию генерал Грин.
И такой ответ генерала сразу пришёлся по душе полковнику. Обсуждая за обедом последние новости, которые приходили из Конгресса и с полей военных действий, генерал Грин внимательно рассматривал собеседника. Перед ним сидел уже не молодой человек приятной наружности, подтянутый и загорелый, с обветренным лицом, на котором умудрялся проступать румянец. Грин заметил про себя, что Костюшко гладко выбрит, а тёмные, немного вьющиеся волосы с проблесками первой седины аккуратно причёсаны. Полковник не носил парик и не отращивал бороду, бакенбарды и усы, держался прямо, в разговоре не торопился с ответом на вопрос. А когда говорил, то тщательно взвешивал каждое сказанное слово.
«Да, непрост этот полковник», — подумал Грин, но чувства настороженности к Костюшко у него не было. Этот поляк по ходу разговора чем-то сумел расположить к себе командующего армией, а чем, он и сам не понял. Генерал Грин щепетильно относился к каждому новому офицеру, прибывающему под его командование, прекрасно понимая, что именно командный состав делает армию по-настоящему боеспособной. Грин лично проводил собеседование с «новичками» и делал для себя соответствующие выводы в отношении каждого из них. Имя же полковника Костюшко стало известным всем штатам после победы американской армии под Саратогой и упоминалось в разговорах с таким же уважением, как и имя Бенедикта Арнольда, имевшего в то время репутацию бесстрашного командира. Но Арнольд оказался двуликим Янусом, предал своих товарищей по оружию, опозорил Вашингтона и всю армию.
В конце «собеседования» командующий ещё раз выразил своё удовлетворение, что Костюшко служит в составе его армии. Он был доволен, что именно его Вашингтон назначил на должность главного инженера. Теперь у Грина появилось больше уверенности в том, что в случае наступления английской армии солдаты, которыми он теперь командовал, сумеют достойно встретить противника и дать ему хорошего пинка под зад.
— Я хочу поменять место расположения лагеря, — выразил своё первое пожелание Грин, — и поэтому поручаю вам подготовить предложения, — подвёл черту в разговоре генерал, и полковник, отдав честь своему новому командиру, удалился.
А на следующий день Костюшко вместе с солдатами уже направился на индейских каноэ обследовать русло реки вниз по течению, чтобы найти новое место для расположения лагеря Южной армии.
Последний год службы для Костюшко был напряжённым. Окончание строительства оборонительных сооружений цитадели Вест-Пойнт, предательство Бенедикта Арнольда, последний разговор с Вашингтоном, переезд в южный штат — всё это была обыкновенная рутина службы в армии. Однако полковник Костюшко чувствовал в последнее время какое-то неудовлетворение этой службой. Да, он не скакал впереди солдат на лихом коне, размахивая саблей, не одерживал громких побед, штурмуя вражеские бастионы во главе атакующих, не получал тяжёлых ранений и не приобрёл славы лихого и бесстрашного командира.
Но в то же время Костюшко выполнял порой незаметную для простых солдат и непонятную некоторым офицерам, бывшим плантаторам или торговцам, службу военного инженера. Он просто давал указания своим подчинённым, где копать, сколько копать, что и где устанавливать, и жёстко контролировал исполнение своих приказов. Иногда душу Костюшко начинал точить червь неудовлетворённой гордыни. Ведь он понимал, что делает нужное для американской армии дело, а ему до сих пор не присвоили звание генерала! Этому проходимцу и иуде Арнольду присвоили, а его отодвинули в сторону?!. Но Костюшко научился гасить в себе в самом зародыше подобные «душевные терзания», вспоминая, кем он прибыл на американский берег несколько лет назад и для каких целей.
XI

рошло около трёх лет, как Костюшко с Томашем и Гриппи освоились на новом месте под командованием генерала Грина, и служба шла своим чередом, к которой давно уже привык полковник. Ранний подъём и поздний отбой прерывались периодическими военными стычками с английскими войсками и сменой дислокации армии. Однако в последнее время британские войска не проводили активных наступательных операций, а Южная армия Соединённых Штатов также не торопила события. Костюшко большую часть времени занимался строительством оборонительных сооружений и в боевых действиях участия не принимал.
Костюшко подъехал на лошади совсем близко к реке, соскочил на землю и привязал коня к дереву. Осмотревшись по сторонам, он заметил невдалеке Томаша с Гриппи, которые сидели на берегу ниже по течению реки с удочкой и пытались поймать какую-нибудь рыбу на ужин. Он не стал их окликать, а отошёл в сторону густого кустарника. Там полковник быстро разулся, сбросил свой мундир, нижнее бельё и бросился в речку, «одетый» в те одежды, которые носил прародитель всего человечества Адам в раю.
Костюшко наслаждался прохладой, которую ему щедро дарила река в этот жаркий день. Чем глубже он нырял, тем контрастней становилась вода, приятно омывая его голое, полное жизненной энергии стройное тело. Запрокинув лицо к небу, Костюшко перевернулся на спину и позволил реке медленно относить себя вниз по течению. Наблюдая за облаками и вслушиваясь в обступившую его тишину, он ни о чём не думал, а только пытался ощутить себя соединённым воедино с этой рекой, стать её маленькой частичкой в огромной массе воды, которую она тысячелетиями несла в сторону океана.
Наконец Костюшко приподнял голову и заметил напротив себя Томаша и Гриппи. Они с удивлением вглядывались в плывущего по реке голого мужчину, пытаясь разобрать, кто это может быть. Но когда оба узнали своего командира, который «покорял» местные водные просторы, сразу успокоились и даже помахали ему рукой. Поплевав на самодельный крючок, «рыбаки» продолжили своё дело, применяя все хитрости и навыки по ловле рыбы, доставшиеся им в наследство от предков.
Костюшко, широко загребая воду своими сильными руками, поплыл к берегу, где стояла его лошадь. Однако когда он доплыл до нужного места, то обнаружил, что недалеко от его жеребца на берегу реки стояла и полоскала бельё девушка, которая, не стесняясь, рассматривала его обнажённое тело. Стараясь не привлекать к себе большего внимания неожиданной гостьи, Костюшко тихо подплыл к берегу. Неловко маскируясь растущими у реки кустами, он осторожно выбрался к тому месту, где оставил всю свою одежду. Тадеуш не стал надевать мундир, ограничив свой туалет нижним бельём, штанами, рубашкой и сапогами. В таком виде он появился перед девушкой, намереваясь завязать с ней разговор и тем самым узнать, кто она и откуда появилась в расположении армии. Каково же было его удивление, когда она обернулась! Костюшко узнал в ней Мадлен, ту красавицу, которая кормила его вкусным обедом перед сражением у Саратоги и была так похожа на Людовику!
— Вот это встреча! — только и смог воскликнуть он, подойдя к ней на расстояние нескольких шагов.
Девушка поправила волосы, закрывавшие её милое лицо, и уставилась на Тадеуша, соображая, что ей ответить на его восклицание. Наконец, когда оба осознали, что пауза затянулась, Мадлен решилась заговорить первой.
— А вы хорошо плаваете, сэр! — похвалила она Костюшко и опять замолчала, а Тадеуш вдруг почувствовал, что его уши начали светиться и гореть.
Девушка продолжала молчать, полоща бельё, и Костюшко понял, что теперь от него ждут хоть каких-нибудь слов в её адрес. Однако вместо этого он повернулся в сторону Томаша и громко крикнул:
— Томаш! Ко мне, бегом!
Пока Томаш, оставив Гриппи с удочками и выловленной рыбой, двигался на зов своего командира, полковник пытался собраться с мыслями, которые разбегались в голове, как тараканы по комнате. Наконец ему с трудом удалось это сделать, и осипшим голосом он произнёс:
— Какими судьбами, мэм, вы оказались здесь? Насколько я помню, наша первая и последняя встреча состоялась довольно далеко от этих мест?
Девушка неторопливо собрала бельё и подошла к Тадеушу. Она ему лучезарно улыбнулась, отчего у полковника с сердцем стало твориться что-то невообразимое.
«Как же она похожа на Людовику!» — ещё раз отметил он про себя, разглядывая её уже в упор. Но его мужской взгляд, казалось, совсем не смущал эту представительницу прекрасной половины человечества.
— Ничего удивительного в этом нет, — начала объяснять своё присутствие на этом берегу Мадлен. — Нас здесь около тридцати женщин. Или вы думаете, что каша для ваших солдат варится сама в котлах, а мужское бельё стирают те, кто его носит?
Наконец, перепрыгивая через прибрежные кочки, к ним подбежал Томаш. Он радостно и добродушно заулыбался, увидав знакомое лицо, и воскликнул:
— О, Мадлен! Вот какие чудеса случаются на этом свете!
Теперь уже три человека, удивлённые этой неожиданной, но приятной встречей, стояли напротив друг друга, и каждый ждал, кто продолжит разговор первым. Костюшко всё-таки взял инициативу в свои руки и предложил:
— Мадлен, вы прекрасно угостили нас когда-то вкуснейшим обедом. За нами долг: я приглашаю вас сегодня к нам на ужин, — Костюшко перевёл взгляд на ординарца, — который Томаш собирается состряпать из своего улова.
Мадлен опять улыбнулась. Она как будто специально медлила с ответом, заставляя волноваться полураздетого полковника.
«А вдруг она откажется? — с тревогой думал он. — И опять мы может разойтись в этом бурном жизненном море и теперь уже никогда не встретиться... А если это судьба?..»
Мадлен сразу ничего не ответила на приглашение и сделала попытку пройти между мужчинами. Потом, обернувшись к ним и озорно сверкнув своими карими глазами, она сказала звонким голосом:
— Ну, если только в качестве возврата долга, то вечером ждите, приду.
И Мадлен ушла, покачивая бёдрами и придерживая на голове корзинку с бельём. А полковник Костюшко ещё долго смотрел ей вслед, пока она не скрылась за ближайшими деревьями.
— Ну, так я пошёл, — промолвил Томаш, наблюдая за своим командиром. Он видел, что с Костюшко что-то происходит, и простой своей натурой понимал, с чем, а вернее, с кем было связано его душевное волнение. Горячая кровь бурлила в теле полковника и красными пятнами проявилась в этот момент на его лице.
Мадлен сдержала своё слово и на закате дня постучала в двери дома, где проживал Костюшко с Томашем и Гриппи.
— Заходите, открыто, — громко пригласил войти девушку хозяин.
Осторожно закрыв за собой двери, Мадлен вошла внутрь и остановилась на пороге, привыкая к полумраку комнаты и к обстановке, которая её окружала.
Комната, как и весь дом, была скромно обставлена, но в ней было всё самое необходимое, что требовалось жильцу для отдыха и быта, которому Костюшко уделял совсем мало времени. Две кровати, платяной шкаф, три стула и стол, стоящий посреди комнаты, — вот и вся спартанская обстановка, которой довольствовался полковник. А большего ему и не требовалось, так как с утра до вечера он был в разъездах, посещая различные участки строительства. Контролируя ход работ, раздавая указания, Костюшко часто обедал при
солдатской кухне либо, если выпадало время и случай, с офицерами какого-нибудь полка.
— А где же Томаш? — спросила Мадлен, увидев накрытый для ужина стол и не обнаружив того, кто это сделал.
— У моего ординарца вдруг появились неотложные дела, и он просил начинать ужин без него, — ответил Костюшко, прекрасно понимая, что Мадлен что-то подобное и ожидала. — Прошу, присаживайтесь, — предложил хозяин гостье и пододвинул к ней стул.
Мадлен медленно присела за стол. На нём уже стояла бутылка с вином и две кружки, а на большой медной тарелке лежала запечённая рыба непонятно какого вида. Хлеб грубого помола и какие-то овощи лежали здесь же, но на другой, деревянной тарелке.
— Так как я отпустил Томаша и слугу на все четыре стороны, разрешите я заменю их и весь вечер буду вам прислуживать, — попробовал пошутить Костюшко, присаживаясь напротив девушки и разливая вино в кружки.
Мадлен молча взяла кружку и внимательно посмотрела на полковника, склонив свою прелестную голову набок. От этого взгляда у него по телу побежали мурашки. А Мадлен, догадываясь своей женской интуицией, что сидящий напротив неё мужчина чувствует себя неловко, улыбнулась. Она понимала, что Костюшко не знает, как себя с ней вести, и решила помочь ему в таком щепетильном деле, как ухаживание за дамой.
— А давайте выпьем за нас, — предложила она тост. — За то, что провидению было так угодно свести нас снова вместе на берегу реки.
Хозяин и гостья подняли кружки и выпили. Костюшко неловко положил кусок рыбы в тарелку девушке, но сам к еде не притронулся, а продолжал смотреть на Мадлен. Он лихорадочно обдумывал своё дальнейшее поведение в сложившейся ситуации. С одной стороны, он офицер, шляхтич, джентльмен, с другой — он просто мужчина, человек, а всё человеческое ему не чуждо. Костюшко боялся показаться девушке грубым и при этом хотел обладать ею. Однако природная культура и отсутствие большого опыта в подобных свиданиях приводили его в замешательство перед этой красавицей.
— А почему вы не зажгли свечи? Ведь скоро совсем стемнеет, — тихо спросила Мадлен, как бы побуждая этого нерешительного мужчину к каким-то действиям.
Костюшко вскочил со стула и бросился к камину, который ещё хранил в себе остатки горящих углей. Он подпалил фитиль одной свечи и от неё дал жизнь всем трём светильникам, развешанным на стене дома.
Сумерки сразу отступили, и в комнате стало по-домашнему уютно. Тадеуш подошёл сзади к сидящей за столом Мадлен и обнял её за плечи. Она не отстранилась от него и не вскочила, а положила свою голову на его горячую ладонь, и он понял, что Мадлен ждала от него подобного поступка и теперь хочет продолжения.
Они лежали на кровати, отдыхая от той бури человеческих страстей, которые присущи представителям обоих полов, когда они питают друг к другу лучшие из тех чувств, которые даровал людям Господь. Голова Мадлен лежала на груди у Тадеуша, а он нежно гладил её волосы.
«Ну вот и всё. Это судьба, — думал Костюшко. — Теперь осталось только сделать ей предложение выйти за меня замуж и купить дом в каком-нибудь городке. А если Мадлен захочет, то я после войны подам в отставку, и мы уедем в какой-нибудь штат, построим там ферму. На земле не пропадём, земля прокормит и нас, и наших ребятишек...» — мечтал Костюшко, и от таких мыслей на душе у него стало спокойно и радостно.
— Знаешь, мне с тобой так хорошо и по-домашнему уютно. Даже запах твоих волос мне напоминает запах волос моей матери, — тихо прошептал он и посмотрел на Мадлен, слышит ли она его?
Она внимательно слушала, повернувшись к нему лицом. А он продолжал изливать этой девушке свою душу, несмотря на то, что видит её третий раз в жизни:
— Так хорошо мне было только с моей матерью в детстве в одной далёкой стране в моём родном доме сто лет назад. Мне сейчас кажется, что всё, что было тогда, это было не со мной, а с кем-то другим, но очень близким мне человеком... И даже совсем в другом мире... А где твой дом?
Тадеуш не мог видеть в сумраке ночи, как изменилось лицо Мадлен. Оно стало в этот момент неподвижным, как маска, а глаза уставились в одну точку на стене. Только голос девушки, когда она начала свою исповедь, настолько изменился, что Костюшко внутренне напрягся от неожиданности.
Но он продолжал слушать Мадлен, не перебивая и не прерывая её повествования.
— Моего дома давно нет, — начала она говорить жёстко и отрывисто. — Англичане пришли на нашу ферму и потребовали, чтобы мать накормила целую роту солдат. Они съели все припасы в доме. Но этого им показалось мало... А отца дома не было. Его часто не было дома, так как он уходил на охоту на 2—3 дня. Он был хороший охотник, известный на всю округу.
Мадлен замолчала. Тяжёлые воспоминания о событиях, которые перевернули её жизнь, видимо, до сих пор угнетали её. А Костюшко молчал, ожидая продолжения, и она решила ему рассказать всё.
— Английский сержант затащил меня в конюшню и пытался изнасиловать, но мать решила заступиться за меня и схватилась за вилы... Но сержант опередил её, заколов штыком ружья на моих глазах.
Костюшко понял, как тяжелы для Мадлен эти воспоминания, и прикрыл её губы ладонью. Но нельзя останавливаться на половине пути.
— А когда отец пришёл с охоты, то застал пепелище вместо фермы и меня у могилы матери, — уже тихим голосом, почти шёпотом досказывала она. — Тогда отец опять ушёл на охоту, оставив меня на соседней ферме, но с тех пор он охотился только на «красные мундиры»... Так что нет у меня дома, — закончила Мадлен повествование своей жизни.
— А отец? — не мог не спросить Костюшко.
— И отца нет. Он погиб в том бою под Саратогой.
Костюшко наклонился к Мадлен и поцеловал её с той нежностью, на которую в этот момент он был способен. Мадлен в ответ обхватила его шею и с жаром притянула к себе.
Ранним утром Костюшко открыл глаза, но Мадлен в доме уже не было. Зато на крыльце стоял верный Томаш, ожидая, когда проснётся хозяин, чтобы передать ему пакет, доставленный только что посыльным от генерала Грина.
Костюшко вышел на крыльцо и с удовольствием вдохнул в себя свежеть летнего утра.
«До чего прекрасна жизнь! — подумал он, вспоминая прошедшую ночь. — Надо срочно найти Мадлен и сделать то, что решил. Пора стать семейным человеком, ведь мне уже 37 лет».
— Ну что тут у тебя? Откуда? — спросил Тадеуш, указывая на пакет в руке Томаша.
Ординарец молча протянул послание. Разорвав пакет и прочитав содержание, Костюшко на минуту расстроился: это был приказ генерала Грина прибыть в штаб армии. Им предстояла совместная поездка в Филадельфию по приглашению самого Вашингтона. А ведь Тадеуш хотел обсудить все вопросы своей будущей семейной жизни с Мадлен... Придётся эту часть его биографии перенести на более поздний срок.
— Приготовь лошадей и собери всё необходимое. Поедим и отправимся, — приказал он Томашу, ничего ему не объясняя. Но тот давно уже привык к подобным приказаниям и всегда был готов тронуться в дорогу.
XII

огда ещё можно надолго оставаться наедине с собой и поразмышлять о смысле жизни; о счастье, о Боге и о многом другом, что может прийти на ум, как не во время долгой поездки. Только изредка твоё внимание отвлекут неизвестные путники на безлюдной дороге, спешащие по своим мирским делам, и опять наступает полное погружение в свои мысли.
Трясясь на лошади в сторону Филадельфии, Костюшко вспоминал прошедшие годы своей жизни в Америке и, особенно, последние события, непосредственным участником которых он стал...
...После позорного поражения англичан под Саратогой боевые действия противостоящих армий, Британии и Соединённых Штатов, в 1778—1780-е годы проходили с переменным успехом. Генерал Клинтон не смог выдержать натиска североамериканской армии, и в 1778 году оставил Филадельфию, сохранив при этом боеспособную армию, и сосредоточился на защите Нью-Йорка. В конце того же 1778 года англичане нанесли серьёзные удары в южном направлении по штатам Джорджия и Южная Каролина, захватили их, а позднее к своим победам приобщили и оккупацию Северной Каролины.
Южная армия генерала Грина не осталась «в долгу». Однако «вернуть долг» Грин смог только в 1781 году. Он заманил британские войска под командой генерала Корнуоллиса в Виргинию, где оставил их без снабжения, и британскому генералу ничего не оставалось делать, как только со своей армией в 9000 солдат закрепиться на оборонительных рубежах у Йорктауна.
Операцию по разгрому остатков английской армии готовили уже две объединённые армии Америки и Франции под командованием двух маркизов: Лафайета и Рошамбо. Кроме сухопутных войск, им помогала с моря французская эскадра адмирала де Грасса в составе 28 кораблей.
Когда английская разведка доложила своему главнокомандующему о таком неравном противостоянии, генерал Корнуоллис принял разумное решение, повторив поступок генерала Джона Бургойна под Саратогой. Таким образом, в ноябре 1781 года по его приказу британский экспедиционный корпус капитулировал, сохранив жизни многим солдатам: как своим, так и противника.
После такой убедительной победы Континентальной армии англичане больше не предпринимали активных военных действий, а Вашингтон также принял выжидательную стратегию. Противники встречались иногда в каких-нибудь небольших стычках, которые сражениями трудно было даже назвать. Подобные бои местного значения чаще всего заканчивались вничью, после чего обе армии обменивались пленными и возвращались на исходные позиции.
После такого затянувшегося противостояния английское правительство поняло, что не оправдало доверие своего короля. Премьер-министр Фредерик Норт получил вотум недоверия и 20 марта 1782 года ушёл в отставку. Не прошло и месяца после его досрочного ухода из большой политики, а уже в апреле палата общин проголосовала за прекращение военных действий в далёких от Англии североамериканских колониях.
Американская дипломатическая миссия в составе Бенджамина Франклина, Джона Адамса и Джона Джея
[24] не заставила себя долго ждать и 30 ноября 1782 года предложила свой проект предварительного мирного договора
[25]...
Приближаясь с генералом Грином к Филадельфии, Костюшко понимал, что вызов главнокомандующего в столицу восставших колонистов был вызван необходимостью, которую диктовали определённые условия или события. О причинах этой поездки Костюшко догадывался и предполагал, что его жизнь в ближайшее время может круто измениться. И не только его.
Совещание у Вашингтона не заняло много времени. На нём присутствовали в основном командный состав двух армий, приближённые и доверенные лица Вашингтона, в числе которых было несколько конгрессменов. После обмена приветствиями Вашингтон пригласил всех в небольшой зал Конгресса, где были уже приготовлены для всех гостей стулья и небольшая трибуна для Вашингтона. После того как каждый занял своё место, Вашингтон вышел к трибуне и произнёс короткую речь. Суть его выступления заключалась в том, что в ближайшее время Великобритания может подписать основной мирный договор. Вашингтон дал понять, что если ото всё-таки произойдёт, то он, выполнив свои обязательства главнокомандующего, возможно, подаст в отставку.
Сам Вашингтон понимал серьёзность своего заявления. Он просил не принимать свой уход с этой должности как что-то исключительное или как какой-то политический демарш. Те же, кто хорошо знал Вашингтона, понимали, что он просто устал от войны и собирается вернуться к мирной жизни, к своей семье, к своим плантациям. В заключение речи, которая являлась репетицией к выступлению в Конгрессе, Вашингтон напомнил всем присутствующим о патриотизме. При этом главнокомандующий просил быть всегда готовыми выступить на защиту своего Отечества, если опять возникнет в этом необходимость.
Костюшко слушал Вашингтона, но постоянно ловил себя на том, что мысленно он находится не в здании Конгресса, а в своём маленьком доме. Там ещё недавно он держал в объятиях прекрасную девушку, чувствовал запах её волос, ощущал биение её сердца в унисон со своим.
Костюшко провёл ладонью по лицу и вернулся от воспоминаний к окружающей действительности. Он понимал, что Соединённые Штаты, возможно, стоят на пороге новых событий, развитие которых сейчас сложно предугадать в случае ухода в отставку главнокомандующего. Всё-таки, обладая огромным авторитетом в Конгрессе и в армии, Вашингтон мог бы занять видное политическое положение в стране. Он просто мог использовать этот политический момент и стать если не новым монархом, то правителем, диктующим всем только свою волю. Но хорошо зная этого человека, Костюшко понимал, что Вашингтон так не поступит. Он навсегда останется в памяти граждан и истории своей страны как Джордж Вашингтон, человек-легенда, главнокомандующий первой армией первого демократического государства на американском континенте. И уже только за эти качества Костюшко уважал его и был готов пойти за ним туда, куда он укажет, и выполнить любое его поручение даже ценой своей жизни.
Вашингтон уже закончил своё выступление, и кто-то задал ему вопрос о будущем преемнике главнокомандующего и чем последний собирается заниматься. Вашингтон корректно уклонился от вопроса о новом главнокомандующем, объяснив, что решение о своей отставке окончательно не принял. При этом добавил, что если и оставит армию, то не собирается возглавлять какое-нибудь движение или партию, а просто хочет вести довоенный образ жизни.
— Ну а в конце своего выступления, джентльмены, — вдруг объявил Вашингтон собравшимся, — я хотел бы пригласить всех отужинать ко мне домой сегодня вечером.
Последняя фраза главнокомандующего вызвала шумное одобрение присутствующих в зале, и все потянулись к дверям, на ходу обсуждая выступление Вашингтона.
Вечером того же дня Костюшко с генералом Грином подъехали к дому главнокомандующего, который находился на одной из центральных улиц Филадельфии. За длинным столом, на котором стояли напитки и закуски, расположились человек тридцать. Среди них половина была военными, а другая половина какие-то неизвестные ранее Костюшко люди. Грин с Костюшко уселись рядом с Джоном Лоуренсом, который, как гора, возвышался над столом. Плантации его отца Генри Лоуренса, президента Континентального конгресса, располагались в Южной Каролине, и поэтому Джон Лоуренс считал себя человеком, приближённым к Вашингтону. На эти плантации ежедневно выходили на тяжёлую работу чернокожие рабы, и данный факт всегда смущал Костюшко, когда он начинал задумываться об этом. Но выполняя свои служебные обязанности в разных точках Соединённых Штатов, воюя с англичанами, Костюшко полностью посвящал себя службе. Пока он глубоко не вникал и суть социального неравенства граждан в стране, которой служил столько лет, имеющей демократическую конституцию.
Вот и сегодня, усевшись за стол, Костюшко просто решил поужинать и пообщаться со своим новым другом или с кем-нибудь из присутствующих знакомых военных. Пока Грин о чём-то оживлённо беседовал с Лоуренсом, к Костюшко немедленно подошёл верный слуга хозяина дома негр Том лет 25, которого он запомнил ещё по службе в форте Вилли Фодж. Это было, наверно, самое тяжёлое время для армии Вашингтона. В числе его двух тысяч преданных солдат, оставшихся под его командованием в сложнейших военных условиях, был и Том, которого Вашингтон взял с собой на войну, покидая поместье. Следуя за хозяином, он прошёл всю войну, оберегая его от бытовых проблем военных походов, мёрз в зимнюю стужу, голодал, когда в армии были перебои с продовольствием.
— Здравствуй, Том! — улыбаясь, первым поздоровался Костюшко, и Том, узнав говорившего, радостно закивал ему в ответ, улыбаясь во весь рот.
— Здравствуйте, сэр! — ответил слуга и с готовностью услужить гостям застыл в ожидании их пожеланий.
— Том, — попросил его Костюшко, — а не принёс бы ты нам что-нибудь выпить и поесть, а то в горле пересохло, да и желудок требует для себя работы.
Том согласно кивнул и ушёл на кухню, а через несколько минут на столе дорогих гостей уже стояли тарелки с кусками жареной индейки и хорошее вино с виноградников южных штатов. Джентльмены не заставили себя долго упрашивать и, как положено здоровым и голодным мужчинам, набросились на еду.
Покончив с индейкой и с выпивкой, поговорив с большим соседом по столу о возможном подписании договора о мире с англичанами и участии Франции в данном процессе, Костюшко заметил, что в их сторону направляется Вашингтон. Он подошёл к их столу и, поприветствовав каждого, предложил Костюшко прогуляться недалеко от дома и пообщаться без свидетелей.
— Как вы думаете, — спросил Вашингтон, когда они вышли за ворота и пошли вдоль тенистой аллеи, — зачем я собрал вас у себя дома?
— Наверно, чтобы попрощаться с нами, — дога дался полковник. — Когда заканчивается война, я думаю, пора подумать и о мирной жизни, — уклончиво ответил он, предполагая, что Вашингтон сейчас сообщит ему что-то важное.
— Мы сегодня переживаем не лучшее время, — начал откровенничать Вашингтон, — и вы об этом знаете.
— Простите, сэр. А можно конкретнее? — попросил Костюшко. — Вы можете мне полностью доверять.
Вашингтон внимательно посмотрел на стоящего перед ним с гордо поднятой головой Костюшко. Полковник смотрел ему прямо в глаза и ждал отпета. Вашингтон не выдержал его прямого взгляда и отвёл глаза, продолжая смотреть куда-то за спину Костюшко. Разговор явно не клеился, и оба чувствовали какую-то неловкость. Наконец Вашингтон собрался с мыслями и начал говорить собеседнику про то, что Костюшко уже либо знал, либо о чём давно догадывался.
— Понимаете, я за эти годы просто по-человечески устал.
Вашингтону всё больше нравился стоящий перед ним полковник. Он следил за его службой и видел в нём не просто военного в чине полковника. Таких в его армии было достаточно. Перед ним стоял человек высоких достоинств, наделённый от природы талантами, которыми он щедро делился на своей новой родине. Став известным в американской армии после сражения под Саратогой, Костюшко продолжал оставаться скромным полковником, который не привык бахвалиться заслугами перед отечеством и продолжал службу, вкладывая и неё всю душу. Всё это было известно Вашингтону, и он решил приблизить его к себе, позволяя разговаривать с ним не как главнокомандующий, а как простой смертный человек.
Их прогулка вылилась в длительную беседу. Вашингтон придерживался одних с Костюшко взглядов по многим проблемам, ставшим предметом их обсуждения. Он отмечал про себя, что мнение полковника часто совпадало с его мнением, а иногда простой разговор перерастал в небольшую дискуссию. У них было много общего, но в то же время Костюшко чувствовал, что в разговоре с ним Вашингтон не впускал его в свой внутренний мир и не допускал со своей стороны полной откровенности.
За это короткое время их общения Вашингтон настолько сумел расположить Костюшко к себе, что, уставший от одиночества, тот раскрылся перед этим человеком и откровенно рассказал ему о своей жизни. Его собеседник слушал «исповедь» полковника, привычно кивая головой. При этом сам высказывался конкретно и сжато, иногда задавал вопросы, однако сам говорил немного. Может быть, из-за этого Костюшко чувствовал какую-то недоговорённость со стороны Вашингтона и принимал эту закрытость как недоверие к нему.
Прогуливаясь по тенистой аллее, Костюшко решил поговорить с Вашингтоном о будущем американской армии, о своих предложениях по её преобразованию, а также о личной жизни, которую он собирался изменить в ближайшее время.
— Если вы оставите пост главнокомандующего, то кто займёт ваше место? Этот вопрос волнует сейчас многих военных, — высказался Костюшко по поводу того, что услышал от главнокомандующего на совещании. — А кто сегодня сможет достойно заменить вас на этом посту?
— Там будет видно, — уклончиво ответил Вашингтон. — Генералов у нас много, но армии всё-таки нужны профессионалы. Ну а вы? Что вы думаете по этому поводу?
Костюшко остановился, глубоко вдохнул в себя свежий прохладный воздух и внезапно улыбнулся.
— А знаете, армия для меня в ближайшее время отойдёт на второе место в моей жизни, — заявил неожиданно он, и Вашингтон с удивлением посмотрел на полковника.
— Интересно. А что же будет на первом?
— Не что, а кто, — пояснил Костюшко, продолжая улыбаться, с удовольствием разглядывая вытянувшееся лицо Вашингтона. — Я, наверно, подам в отставку, женюсь и уеду в какой-нибудь отдалённый штат.
— Ну конечно! — воскликнул Вашингтон. — Как я сразу не понял: только женщина могла так круто развернуть вашу жизнь. И кто же эта счастливая особа?
— Её зовут Мадлен. Она девушка из простой семьи. Очень красивая, и я её, кажется, люблю, — искренне признался Костюшко.
Он смотрел на Вашингтона широко открытыми глазами, в которых можно было увидеть, как там пляшут канкан чертенята. Ему вдруг захотелось обнять этого человека, хорошенько помять его и даже оторвать его тело от земли. Но Костюшко сдержал свои юношеские эмоции влюблённого зрелого мужчины, так как понимал, что такое его поведение может выглядеть неестественно.
— Да. Я вас понимаю.
Вашингтон как-то сразу замялся и некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Теперь вся подготовленная им речь не имела никакого смысла. Чтобы понять это, достаточно было видеть и слышать Костюшко. Выражение его лица в этот момент было такое, каким бывает у молодых юнцов, сорвавших неожиданно у молодой и красивой девушки свой первый в жизни поцелуй: влюблённым и, соответственно, глупым.
После признания Костюшко они продолжили свой путь по аллее в молчании. Каждый думал о своём, но всякая прогулка рано или поздно заканчивается. Обогнув дом, они вернулись к входным воротам и вновь оказались в окружении гостей.
Когда поздно вечером все гости начали расходиться, при расставании Вашингтон ещё раз уточнил у Костюшко:
— Вы окончательно решили оставить службу в армии?
— Да, окончательно, — решительно ответил тот. — Наверно, я тоже, как и вы, устал от войны. Мне уже тридцать семь лет, а у меня ни жены, ни детей. Пора, чувствую, пора.
Вашингтон участливо и с каким-то сожалением посмотрел на полковника.
— А ведь вы могли бы сделать блестящую карьеру... — с надеждой ещё попытался что-то доказать Вашингтон, но передумал и подал руку для прощания.
— Значит, не судьба, — продолжил за него Костюшко, крепко пожимая протянутую руку.
После рукопожатия Вашингтон снял с пальца перстень общества Цинциннати и вручил его Костюшко.
— Это вам, — произнёс он. — Пусть этот перстень станет началом признания ваших заслуг перед Соединёнными Штатами. — Я надеюсь, что вы примете моё предложение стать одним из нас.
После расставания у каждого осталось чувство недоговорённости, какой-то неудовлетворённости от этой встречи. Вашингтон хотел открыто поговорить с Костюшко о своих дальнейших планах после отставки. При этом планировал предложить Костюшко свою поддержку и поддержку своих сторонников, если бы кандидатура Костюшко рассматривалась на место депутата Конгресса. А, может быть, и на должность командующего одной из армий Соединённых Штатов. Однако услышав, что Костюшко решил подать в отставку, Вашингтон увидел его лицо и сразу понял, что разговаривать о дальнейшей карьере с ним сейчас просто бесполезно.
Ночью на постоялом дворе Костюшко плохо спалось. Он долго не мог уснуть, то вспоминая проведённый вечер в доме Вашингтона, то рисуя в своём воображении будущую семейную жизнь с Мадлен. А когда его веки глубокой ночью плотными завесами всё-таки опустились на глаза, среди мелькающих картинок сна он увидел брата Иосифа, почему-то очень сердитого и грозившего ему указательным пальцем. Затем брата заменил Бенедикт Арнольд в форме простого солдата, стоящего по стойке «смирно» перед входом в дом Вашингтона. А перед самым пробуждением вдруг явилась Мадлен, на которой было надето красивое бальное платье белого цвета. Она грустно улыбалась и постепенно удалялась от него. Костюшко протягивал к ней руки, желая обнять, но она почему-то всё время ускользала от него. Когда же Тадеуш сумел схватить её в объятия, то увидел перед собой не Мадлен, а лицо Людовики.
Проснувшись от ударов стучащего в волнении сердца, Костюшко некоторое время сидел на кровати, вспоминая каждое мгновение своего сна. Сердце понемногу наладило привычное ритмичное движение, и Костюшко, умывшись по старой привычке холодной водой, окончательно пришёл в себя. Разбудив Томаша и быстро позавтракав яичницей, услужливо приготовленной хозяйкой постоялого двора, он со своим ординарцем уже через час скакал за пределами Филадельфии к месту расположения своего гарнизона.
Дорога домой всегда кажется короче, чем дорога из дома. Костюшко, счастливый и радостный от предстоящей встречи с Мадлен, возвращался в гарнизон, с нетерпением ожидая, когда вновь заключит её хрупкое тело в свои объятия.
Мадлен тоже с волнением ожидала его приезда. В душе она надеялась, что та единственная ночь, проведённая с Костюшко, была не просто кратковременной вспышкой чувств, а получит своё продолжение. Ведь в душе каждой женщины, находящейся в обществе, где преобладают в основном мужские особи, теплится надежда, что среди всех этих мужиков найдётся для неё один-единственный и на всю жизнь.
Костюшко не тянул время с объяснениями и по возвращении сразу предложил Мадлен переехать к нему «на постоянное место жительства». Мадлен, ещё не веря своему счастью, не раздумывала и в тот же день перевезла вещи в его дом. Но недолго молодые люди радовались своим чувствам и отдавались друг другу в неге и ласках. Томаш, исполняя роль почтальона и разлучника, ранним утром опять тихо постучал в двери дома своего командира и передал ему очередной пакет, но уже не от генерала Грина, а лично от Вашингтона. Вскрыв с утренним раздражением пакет, Костюшко поменял гнев на милость. Вашингтон приглашал его срочно в Филадельфию на процедуру присвоения ему генеральского звания, а такая новость не могла быть неприятной. Только Мадлен выглядела огорчённой: ведь их медовый месяц был прерван почти в самом начале и неизвестно ещё, на какое время.
— Ну что ты, что ты, — успокаивал Костюшко погрустневшую девушку, заметив в её глазах слёзы. — Я скоро вернусь. Сама понимаешь, генеральские звания мне не часто присваивают.
Девушка улыбнулась сквозь слёзы. Тадеуш не понимал, что чем больших высот он достигает в армии, тем дальше она, простая девушка, отдаляется от него. Мадлен было грустно от нехорошего предчувствия, но она взяла себя в руки, чтобы не огорчать будущего генерала. Она быстро собрала еду в дорогу для него и Томаша (к его большому удовольствию) и через час уже стояла на перекрёстке, наблюдая, как они удаляются, на горизонте превращаясь в две маленькие точки.
В отсутствие Костюшко Мадлен продолжала заниматься своей повседневной работой: она, как и все женщины, которые «кормились» при армии, готовила еду для солдат и офицеров, убирала, стирала бельё, выполняла всю ту чёрную работу, которую не могли и не должны были делать тысячи солдат. Зато эти же солдаты должны были в любую минуту быть готовы идти в бой на смерть, если им прикажут их командиры.
Осторожно, чтобы не свалиться с небольшого мостика в реку, Мадлен склонилась к воде и начала полоскать бельё, когда её окликнул знакомый голос:
— Здравствуй, Мадлен! Что-то ты в последнее время избегаешь встреч со мной?
Мадлен обернулась и с большой неохотой поздоровалась с сержантом Вэйном. Когда под Саратогой погиб её отец, она чувствовала, что осталась совсем одна на этом свете, без защиты и опоры, и в это время к ней «подкатил» этот сержант. Они встречались недолго, пару месяцев. Ещё тогда Мадлен поняла, что ни о каких серьёзных отношениях Вэйн даже и не помышлял. Ему надо было только одно — её тело, а на всё остальное ему было наплевать. Мадлен порвала с ним, но не потеряла надежду найти того единственного, с кем она бы могла создать семью и обосноваться в каком-нибудь штате на небольшом клочке земли. Но все её дальнейшие знакомства с мужчинами заканчивались так же, как и с Вэйном. Она уже почти потеряла надежду на личное счастье, когда вдруг произошла эта неожиданная встреча с Тадеушем у реки.
Вэйн подошёл поближе и присел на корчагу. Он внимательно наблюдал, как Мадлен полощет бельё, и, наконец, сказал:
— Говорят, что ты скоро покинешь форт? Это правда?
— А тебе какое дело? — Мадлен не переставала делать свою работу. Ей не нравился этот разговор, и она старалась быстрее закончить стирку.
— Да так, никакого... Только с кем ты собираешься уехать? Неужели с самим полковником? Ну конечно, сержантами ты уже брезгуешь.
Мадлен сложила бельё в корзинку и повернулась к Вэйну. Она посмотрела на него тем своим прямым и жёстким взглядом, который не каждый мог выдержать. Вэйн отвёл взгляд, но никуда не ушёл, а остался на месте.
— Что ты хочешь, Вэйн? Между нами давно всё кончено и возврата к прошлому не будет. Уйди с дороги, не мешай мне жить.
— Ты же знаешь, что мне от тебя нужно, — Вэйн поднял глаза и в упор посмотрел на Мадлен. — Тогда полковник никогда не узнает, какая ты шлюшка, и вы уедете вдвоём, куда захотите.
— Ну и сволочь же ты, — Мадлен хотела ударить этого мерзавца, но сдержалась.
«А ведь он, скотина, прав. Ведь все мы, кто при армии, вроде шлюшек, ищем себе мужиков среди солдат, надеемся, глупые, на что-то», — подумала Мадлен. Она отвернулась от Вэйна, поставила корзину с бельём на плечо и пошла в сторону форта.
Вэйн проводил её взглядом мартовского кота, но не пошёл вслед за ней, а двинулся в другую сторону, где его ожидала очередная подружка.
На следующий день Мадлен, собрав все свои скромные женские пожитки в одну дорожную сумку, навсегда закрыла двери дома, в котором так недолго чувствовала себя счастливой. Она пошла на север в сторону большого города, и больше её в расположении армии никто никогда не видел.
XIII

онгресс Соединённых Штатов, приняв во внимание личные рекомендации Вашингтона и участие Тадеуша Бонавентура Костюшко в борьбе за независимость американских колоний, наконец-то присвоил ему генеральское звание. Это был один из знаменательнейших дней в жизни бывшего франко-польского волонтёра, а ныне бригадного генерала Континентальной армии. В тот день 13 октября 1783 года он стоял перед общим собранием депутатов Конгресса Соединённых Штатов, а главнокомандующий Джордж Вашингтон прикрепил к его груди самый значительный орден страны, ставшей независимой. Орден Цинциннати имели лишь несколько граждан Соединённых Штатов, и вручался он только за самые высокие заслуги. Учитывая малочисленность носителей ордена, но великую его значимость, было учреждено Общество ордена Цинциннати. Вашингтон же стал его председателем и одним из первых достойных, кому этот орден был вручён.
Джордж Вашингтон сделал еле уловимое движение рукой, и адъютант внёс в овальный зал коробку с пистолетами и шпагу и передал ему свою драгоценную ношу. Главнокомандующий вытащил из ножен шпагу и указал Костюшко на надпись, выгравированную на клинке. Находясь в сильном волнении, Костюшко напряг зрение и смог прочитать: «Америка и Вашингтон своему другу Тадеушу Костюшко».
— Будем справедливы, — закончил свою короткую поздравительную речь Вашингтон, — способности генерала Костюшко в военном искусстве принесли нам победу в Войне за независимость, поскольку это свершилось благодаря победе при Саратоге.
Новоявленный генерал был тронут до глубины души и чуть не заплакал. Все присутствующие в овальном зале депутаты встали и захлопали в ладоши. Костюшко горящими глазами оглядел зал: не гордыня — гордость светилась в его глазах. Ведь он стал участником исторических событий, в результате которых Соединённые Штаты добились независимости, была создана армия, достойная того, чтобы о ней заговорили с уважением во всех цивилизованных странах. И сегодня Конгресс за его заслуги присвоил ему звание генерала этой армии.
А главное, как ему казалось в этот момент, так это то, что именно в этой стране Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко почувствовал себя действительно нужным. Именно эта страна стала для него второй родиной, где он надеялся создать своё будущее, обрести семью. Здесь он собирался жить в обществе свободных людей, где уважают те права человека, которые были провозглашены в Декларации.
«Да, это моя судьба, это моя родина, здесь моё будущее», — так думал в этот момент генерал Костюшко и даже не предполагал, что может теперь быть по-другому.
Главнокомандующий армией Соединённых Штатов Джордж Вашингтон вышел после заседания депутатов Конгресса вместе с генералом Тадеушем Костюшко, обнимая его за плечи как своего близкого товарища. Они прошли по коридору, о чём-то оживлённо беседуя между собой, не обращая внимания на других депутатов, и никто из них не мог предполагать, насколько круто изменятся их судьбы в ближайшее десятилетие. Совершив в своей жизни немало достойных памяти человечества поступков, они уже вошли навсегда в историю страны, которая помнит и чтит своих героев.
Когда Костюшко не нашёл Мадлен в своём доме, он начал её поиски, ещё не догадываясь, что уже больше никогда не увидит эту девушку. Генерал приказал Томашу и Гриппи разыскать Мадлен или того, кто знает, где она. Однако никто не мог толком прояснить её местонахождение или причину её исчезновения. Костюшко вёл себя, как сумасшедший, расспрашивая всех офицеров о какой-то девушке, которых в гарнизоне был не один десяток, и никто из них не мог себе представить настоящую причину этих расспросов. Они даже не предполагали, что генерал мог так серьёзно увлечься какой-то прачкой, и с сочувствием и с жалостью смотрели на его растерянное лицо. Таким своего командира они никогда не видели даже в самые сложные времена прошедшей войны.
Река медленно, неторопливо несла воды куда-то далеко за горизонт. Берега реки, поросшие старым лесом, словно плотной стеной отгораживали русло от внешнего мира, и поэтому казалось, что вокруг больше никого и ничего не существует, кроме тебя и этой воды. Только ты и река... Кое-где на её поверхности вдруг раздавался всплеск, нарушая приятную тишину, а потом снова всё стихало на какое-то время, пока очередная хищная рыба в азарте погони за мелкой рыбёшкой не выскакивала из воды.
Костюшко долго не мог успокоиться, просидев на берегу реки несколько часов после того, как понял, что Мадлен покинула расположение армии навсегда. Он сидел на берегу в одной рубашке, без генеральского кителя, ломая хрупкие ветки прибрежного куста и в полном молчании бросая их в воду. Всё это время за ним внимательно наблюдал только Томаш, читая про себя все молитвы, которые он выучил за всю свою жизнь. Он просил Господа и Матку Воску о здравии командира, о спасении его души и тела и ещё о чём-то, что могло бы успокоить Костюшко и вернуть ему разум.
Наконец, наверно, молитвы были услышаны: Костюшко поднялся на ноги, набросил на плечи китель и повернулся в сторону Томаша. Увидев, что генерал зовёт его к себе, тот быстро подбежал к нему, с волнением ожидая приказаний.
— Приготовь на завтра лошадей, — неожиданно тихо и спокойно приказал Костюшко ординарцу, и Томаш услышал в его голосе какие-то чужие нотки, которые до этого ему не были знакомы. С одной стороны, это был голос очень уставшего человека, с другой — жёсткость и металл, присущий людям, привыкшим только командовать и повелевать и не допускающим того, чтобы их приказания кем-то оспаривались. — Рано утром едем на охоту, — коротко пояснил Костюшко и пошёл в сторону своего дома, а Томаш радостно перекрестился и побежал готовиться к завтрашнему дню.
XIV

акт признания Великобританией независимости Соединённых Штатов был подтверждён сторонами 3 сентября 1793 года подписанием второго основного мирного договора. В торжественной обстановке к большому удовлетворению американцев и неудовольствию англичан в Париже в Версальском дворце недавние противники подвели исторические итоги этой долгой войны.
Около года до этого события между армиями Соединённых Штатов и Великобритании не велись активные боевые действия. Обе стороны находились в состоянии ожидания, как поведёт себя новый английский кабинет министров, какое решение примет король и парламент.
Правда, между двумя датами подписания предварительного и основного мирного договора всё-таки произошло одно «военное недоразумение»: 20 июня 1783 года у Куддалора произошло морское сражение между британским и французским флотом. Командующие флотами просто не имели понятия и не были извещены о подписании первого договора 1782 года, прекратившего военные действия с момента его подписания. И это было действительно последнее сражение в Войне за независимость Соединённых Штатов.
Бенджамин Франклин вышел из овального зала Версальского дворца, заложил за спину руки и двинулся в задумчивости по длинному коридору. Он только что поставил подпись под договором о мире и с грустью понял, что его богемная, интересная жизнь в Париже в качестве посла от Соединённых Штатов подходит к концу.
За время пребывания во Франции с 1776 года им была проделана огромная дипломатическая работа, результатом которой стало подписание настоящего договора. Со своей миссией Бенджамин Франклин действительно справился достойно: за годы войны в Соединённые Штаты из Франции прибывали корабли с провизией и оружием, с французскими волонтёрами-добровольцами и пушками. К тому же страна-союзница предоставила колонистам долгосрочные кредиты. И вот наконец-то война с Великобританией окончилась признанием независимости Соединённых Штатов, а с чем остался Бен?
Жена Дебора умерла, не дождавшись повесу-мужа, который стал любимцем и баловнем французских женщин. Сын Уильям был освобождён из тюрьмы за свои выступления против правительства Соединённых Штатов и не простил дуализма своего отца
[26], дочь Сара вышла замуж и стала уважаемой матроной, рожая своему мужу детей.
Правда, у любителя женского общества всё-таки была безответная любовь к 53-летней вдове поэта и философа Клода Адриана Гельвеция. Стареющий Бен довольно часто посещал её дом, наслаждаясь обществом, которое там собиралось. При этом он не раз намекал этой обаятельной и умной женщине, что не прочь навсегда остаться в её шикарном особняке на улице Сен-Анн. Однако в ответ на его намёки Анна-Катрин отвечала, что она хранит верность покойному мужу и не собирается что-то менять в своей жизни.
«Чёрт бы побрал этого философа, — про себя ругался Бенджамин. — Неужели я не достоин заменить его». Он не мог допустить и мысли, что Анна-Катрин отказывает ему из-за большой разницы в возрасте, но это было действительно так, и никакая верность покойному мужу тут была ни при чём. Всё-таки за плечами у Бенджамина Франклина были уже 77 лет.
«Сегодня же пойду и сделаю ей официальное предложение», — решил американский дипломат и твёрдыми широкими шагами направился к выходу: в этом дворце ему делать больше уже нечего.
После подписания Версальского мира представители трёх государств готовились выйти из зала, где только что засвидетельствовали своими подписями результаты восьмилетней войны. В этот момент к главе английской делегации, министру иностранных дел Чарльзу Джеймсу Фоксу, подошёл его коллега, государственный секретарь по иностранным делам Франции граф де Верженн.
— Вы их только что отпустили, а между тем, вполне возможно, что эти тринадцать штатов в будущем создадут всемирную империю, — сказал с ухмылкой французский граф английскому министру, желая хоть как-то «уколоть» невозмутимого англичанина (де Верженн даже не предполагал, насколько он был близок к тому, чтобы стать в этот момент пророком). Однако лицо главы английской делегации осталось непроницаемым. Оно никак не проявило недовольства от такой наглости француза и от полученного оскорбления. Мудрый английский министр посмотрел на графа своим невозмутимым взглядом и точно парировал удар:
— Да, возможно. Но в этой империи все будут говорить по-английски.
Свидетелем данного разговора невольно стал юноша 15 лет. Благодаря своему совершенному знанию французского языка он оказывал на этих переговорах услуги переводчика, куда его определил отец — Джон Адамс. Молодой человек вёл свой дневник, и содержание этой беседы в тот же вечер нашло своё отражение как ещё один важный эпизод в его жизни. А подобных мировых исторических эпизодов, свидетелем либо непосредственным участником которых в будущем станет этот юноша, хватило бы на несколько человеческих жизней. Ведь имя молодого переводчика было Адамс Джон Куинси, впоследствии шестой президент США.
После окончания военных действий между недавними противниками для независимого государства наступило непривычное состояние мира. Когда конгрессмены и генералы американской армии стали «осматриваться» вокруг, то обнаружили, что находятся в новых для себя условиях. Их взору стали открываться и проявляться внутренние проблемы, которые замалчивались в конфедерации штатов ввиду сложностей военного времени. Тогда все работали на войну и для победы, на которую всё и списывали. Находясь в едином патриотическом порыве борьбы за независимость, участники этого процесса либо не могли предвидеть грядущих проблем, либо просто не хотели акцентировать на этом своё и чужое внимание.
В мирные дни прежде всего стал вопрос о деньгах, которых катастрофически не хватало для содержания армии. Сепаратизм отдельных штатов также мешал выработать правительству единую послевоенную политику внутри государства. А тут ещё в дополнение ко всему участились факты волнений среди колонистов. Они были недовольны положениями Ордонанса о северо-западе, регулирующими продажу и заявление новых территорий к западу от ограничительной линии, установленной ранее Великобританией. Но после подписания
Парижского договора 1783 года Британия отказалась от этих земель и передала их в ведение правительству Соединённых Штатов. С этого момента колонистам запрещалось просто занимать и осваивать эти земли, вытесняя с них коренное индейское население, и теперь они могли их только выкупить.
Несколько штатов также не отказались бы прирезать часть северо-западных земель к своим границам. Но больше всего претендовал на эти территории штат Виргиния. Мотивировка претензий была проста: в результате военных действий виргинская милиция в 1779 году сумела разбить английские войска и взять в плен самого губернатора Генри Гамильтона.
Индейцы не участвовали в подписании мирных договоров, напрямую касающихся раздела их исконных земель. Их никто и не собирался приглашать на эту процедуру. Некоторые племена индейцев продолжали вести военные действия против самих колонистов, чем также создавали определённые трудности для нового правительства Соединённых Штатов.
Напряжённость чувствовалась и в армии. Оставшись без идеи борьбы за независимость и без участия в активных военных действиях, некоторые генералы стали задумываться о своём будущем. Правда, уже не в качестве военных, а в качестве лидеров партий и движений, которые могли бы их привести к власти. Особенно часто среди офицеров обсуждалась личность Вашингтона как самого авторитетного человека в Соединённых Штатах. А ведь он, если бы пожелал, смог бы повести за собой и армию, и всех тех, кто захотел бы видеть его во главе нового государства. Вопрос был только в том, кем он мог бы стать в таком случае: демократически избранным главой конфедеративной республики, военным диктатором или новым монархом?
XV

который раз Костюшко с Томашем проделывали один и тот же путь от своего форта до Филадельфии. Всю дорогу они ехали молча, общаясь друг с другом только по необходимости, но Томаш уже привык к такому поведению генерала. С тех пор, когда Мадлен вдруг покинула форт и ушла в неизвестном направлении, Костюшко всё время посвящал себя службе, отправляясь рано утром из дому и возвращаясь поздно вечером. По вечерам, часами просиживая в своей комнате, он молча смотрел, как тает горящая свеча, или читал какую-нибудь книгу, которую доставал для него и подсовывал Томаш. И это при том, что книги в гарнизоне были редкостью и хранились в основном только у офицеров.
Наконец, на закате дня Костюшко с Томашем прибыли в город и остановились в новой небольшой, но аккуратной гостинице. Покрытый дорожной пылью, Костюшко не хотел ехать сразу в дом к Вашингтону, хотя ранее главнокомандующий предлагал ему и его ординарцу ночлег. Костюшко прибыл в Филадельфию к другу, чтобы встретиться с ним и принять окончательное решение, над которым он размышлял в последнее время.
Война между колониями и метрополией закончилась, Мадлен исчезла из его жизни, судя по всему, навсегда, а Костюшко всё чаще задавал себе вопрос: «А что же дальше?». Карьера политика его не интересовала, а в армии он стал тем, кем хотел когда-то стать. Правда, он продолжал заниматься своим делом, курируя строительство цитаделей и других оборонительных укреплений на новых границах Соединённых Штатов, но такая служба ему не приносила радости и удовлетворения, как это было раньше.
У него было генеральское жалованье и участок земли в штате Огайо, который ему выделил в собственность Конгресс за его заслуги, но жизнь фермера и землевладельца его уже не прельщала. «Что делать и как жить дальше?» — задавал себе вопрос Костюшко всё чаще и чаще и не находил на него ответа.
После переживаний, связанных с исчезновением Мадлен, он стал замкнутым и неразговорчивым. Если до этого случая Костюшко его подчинённые считали строгим, но справедливым командиром, то теперь его строгость в выполнении его приказаний проявлялась настолько, что между собой офицеры и солдаты иногда поругивали генерала. Однако чувство уважения к его качествам командира и специалиста своего дела оставалось.
Томаш с Гриппи старались не тревожить Костюшко по пустякам и пытались в чём-нибудь угодить ему, поднять настроение, но чаще всего их попытки им не замечались либо он на них никак не реагировал. В буднях повседневной службы с раннего утра до позднего вечера Костюшко старался отвлечься от воспоминаний о Мадлен, о Людовике, о смерти, которую он видел постоянно во время этой долгой войны. А в короткие часы забытья в его снах всё чаще стали появляться картины детства, стала сниться мать, и Костюшко воспринял свои сновидения как знак свыше.
Однажды во время очередной инспекции, которую генерал Костюшко проводил в одном из гарнизонов в Северной Каролине, он встретил молодого волонтёра-поляка, который год назад приплыл в Америку в поисках лучшей жизни. Однако не найдя себе пристанища на огромных территориях Нового Света, он решил записаться добровольцем в армию и успел уже поучаствовать в войне с индейцами. Случайно узнав в молодом белобрысом солдате своего земляка, Костюшко, к удивлению многих офицеров, целый час беседовал с ним, выспрашивая о далёкой родине. Вскоре Костюшко закончил проверку и оставил этот гарнизон, но разговор с солдатом он ещё часто вспоминал, как будто встретился с родным человеком, которого не видел долгие годы.
Может, именно с этого момента у Костюшко закралась мысль о возвращении домой, на родину. Однако он прекрасно понимал, что там его не будут встречать как генерала, а, вероятнее всего, ему придётся добиваться места в армии Речи Посполитой, как это было до его побега. Но он же всё-таки генерал, хотя и американской армии! И у него на родине, наверно, ещё остались друзья.
Однажды вечером Томаш вошёл в комнату, которая служила Костюшко и его ординарцу одновременно и спальней, и столовой. Картина, которая предстала перед ним, не была привычной для их походной жизни, что вызвало у него удивление и в то же время ожидание каких-то перемен. Костюшко стоял на коленях и горячо молился на икону Божьей Матери, которую они привезли из Польши в год побега и которая постоянно висела в углу комнаты. При этом генерал даже не повернулся в сторону своего ординарца, хотя прекрасно слышал, как тот вошёл в комнату. Никогда ранее Томаш не замечал за Костюшко такого активного проявления веры: обычно обращение к иконе ограничивалось крестным знамением при уходе из комнаты или по приходу домой. Но чтобы так, стоя на коленях!..
Томаш замер, боясь нарушить своим появлением священное действие молитвы. Через минуту Костюшко поднялся с колен, сел за стол и с аппетитом принялся поглощать еду, которую ещё до прихода Томаша выставил на стол Гриппи. По приглашению командира Томаш последовал его примеру. Закончив ужин, Костюшко впервые за последние полгода улыбнулся, подмигнул и по-дружески обратился к Томашу:
— Слушай, а ты не скучаешь по Сехновичам, по дому?
Томаш опешил от этого вопроса и вопросительно уставился на Костюшко.
— Ты что, не понял, о чём я тебя спросил? — продолжал пытать Томаша генерал.
Наконец тот обрёл дар речи, дожевал кусок хлеба и ответил:
— Не то что скучаю, но здесь другая жизнь и люди другие... Бывает вспоминаю.
Костюшко встал из-за стола и прилёг на кровать, не разувая сапог, запрокинув руки за голову. Томаш выжидательно молчал, нутром чувствуя, что сейчас хозяин принимает какое-то важное для обоих решение. И он не ошибся.
— Я подаю в отставку и возвращаюсь в Польшу, — Костюшко замолчал, наблюдая за реакцией Томаша на его слова. — Поедешь со мной или останешься в Америке навсегда? Повторяю, у тебя есть право выбора.
— Да куда я без вас, пане? — как-то с облегчением и радостно заговорил быстро Томаш. — Куда вы, туда и я... А когда едем?
— Скоро, очень скоро. Я только навещу одного своего друга — ив путь.
Давно не испытывал Томаш такого волнительного ожидания, как в последние дни их службы в гарнизоне. Он понимал, что решение о возвращении на родину возникло у генерала Костюшко не просто так и что после возвращения в Польшу их ждёт совершенно новая жизнь. Но какая, где? Об этом Томаш мог только догадываться.
Думал ли Тадеуш Костюшко над тем, что его ожидает на родине: почёт и уважение как известного американского генерала или преследование за неудавшееся похищении Людовики? Варианты развития событий были различны, но Костюшко принял решение, а приняв решение, он никогда его не менял.
Вернувшись домой после очередной инспекции, Костюшко подготовил письмо Вашингтону, предупредив его, что собирается в ближайшее время приехать в Филадельфию для важного разговора с ним. Вашингтон, получив это письмо, с нетерпением ожидал Костюшко, предполагая, что тот всё-таки прислушался к его совету сделать карьеру не только в армии. А то, что Костюшко не подал в отставку за прошедшие полгода после их последней встречи, только подтверждало предположение Вашингтона к его большому удовлетворению. Ему нравился генерал Костюшко за его знания, профессионализм и за ответственное отношение к своей службе. Костюшко заслуженно стал генералом американской армии, доказав преданность делу, которому он посвятил восемь лет жизни. Он не запятнал свой авторитет какими-то личными требованиями, пустой болтовнёй среди офицеров или, что хуже всего, участием в каких-либо офицерских союзах или заговорах. Костюшко просто честно нёс службу, а качество этой службы и его заслуги были достойно оценены как лично Вашингтоном, так и Конгрессом, который утвердил и присвоил ему звание генерала.
Вот и на этой предстоящей встрече Костюшко надеялся встретить понимание и получить от Вашингтона ту помощь, которую мог оказать этот влиятельный и известный в Соединённых Штатах человек.
XVI

а следующий день Костюшко с Томашем, оседлав лошадей, двинулись к центру города, где располагался Конгресс. Именно там Костюшко надеялся найти Вашингтона и не ошибся в своих предположениях. Проезжая по улицам столицы, он внимательно присматривался к жизни города. С приятным удивлением Костюшко замечал, как Филадельфия буквально на глазах меняла свой облик. Повсеместно велось строительство домов, каких-то строений, складов, магазинов и таверн. По довольно широким улицам ездили кареты и скакали всадники, у причала реки шла разгрузка баржи со строительным лесом, город бурлил новой послевоенной жизнью.
«Да, вот это жизнь... Не то что в нашем гарнизоне», — размышлял Тадеуш, представляя, каким станет город лет через десять.
Костюшко прекрасно понимал, что Вашингтон, скорее всего, сильно занят и наверняка не сможет уделить ему много своего времени. Работы у такого государственного деятеля точно было предостаточно, как и проблем, которые постоянно возникали в это время в государстве.
После того как английская палата общин в марте 1782 года одобрила внесённое парламентской оппозицией постановление, призывающее правительство прекратить активные военные действия в Новом Свете, начался период переговоров противоборствующих сторон, который закончился подписанием Парижского мирного договора, по которому Британия отказалась от всех своих североамериканских колоний и признала их независимость. И вот теперь Соединённым Штатам предстояло вести уже новую политику самостоятельного независимого государства в новых, мирных условиях.
При этом возникла проблема с армией, к которой Конгресс после победы над англичанами утратил интерес. Солдаты-победители оказались не у дел и стали открыто проявлять своё недовольство, грозившее перерасти в мятеж. Тогда личность Вашингтона со всеми его заслугами перед Отечеством опять стала предметом обсуждения некоторых американских политиков. Кое-кто представлял его как явного лидера, который мог бы, если бы захотел, возглавить этот мятеж и даже стать основателем новой династии монархов. Но надо отдать должное Вашингтону: ему не нужна была такая власть, и он отвергал любые предложения о мятеже и вооружённом захвате власти, что привело бы молодое государство к расколу, гражданской войне и новому кровопролитию.
Вашингтон, заранее подготовив общественное мнение Соединённых Штатов к своему уходу с должности главнокомандующего, выполнил обещание и подал в ноябре 1783 года в отставку. Во время своего последнего выступления в Конгрессе Вашингтон заявил, что он снимает с себя обязанности и полномочия командования Континентальной армией, а также всю ответственность за её дальнейшее существование. Некоторые конгрессмены после подобного заявления с облегчением вздохнули. Ещё огромен был авторитет этого человека, и пока он командовал всеми вооружёнными силами Соединённых Штатов, сохранялась опасность того, что Вашингтон соблазнится перспективой возглавить мятеж, свергнуть демократическое правительство и единолично стать во главе государства.
Другие конгрессмены, наоборот, были озабочены возможным развитием событий другого плана, которые также были связаны с авторитетом Вашингтона. Пока он возглавлял армию, никто не посмел бы предпринимать какие-нибудь действия, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и поднять армию на мятеж против правительства. А теперь с его уходом на политической арене могла возникнуть новая фигура в лице какого-нибудь генерала, вдруг возомнившего себя будущим основателем новой династии монархов либо пожелавшего возродить диктатуру. В случае возникновении подобной ситуации Англия вряд ли откажет себе в удовольствии поддержать деятельность такого генерала. Ведь взамен она смогла бы возвратить себе хотя бы часть утерянных ею территорий на американском континенте в результате последней войны.
После добровольной отставки Вашингтон сложил свои полномочия главнокомандующего и вскоре собирался отправиться к себе домой в штат Виргиния, чтобы вернуться к мирной жизни в Маунт-Верноне. Там его уже давно с нетерпением ожидали его жена Марта и дети, а также большое хозяйство в виде огромного дома, плантаций, конюшен и армии, но уже не солдат, а работников. Ведь Вашингтон в душе оставался всё-таки не военным, а плантатором и торговцем. Мирная жизнь на своей земле его устраивала больше, чем командование всеми вооружёнными силами Соединённых Штатов.
Часть генералов и офицеров американской армии, бывших фермеров, торговцев, охотников и плантаторов, подобных Вашингтону, также вслед за своим командующим оставили или собирались оставить службу и вернуться к привычной гражданской жизни. Используя новые возможности, которые открылись перед деловыми людьми Соединённых Штатов после обретения страной независимости, они по праву могли теперь заниматься своими делами, которые оставили несколько лет назад. Ведь они с оружием в руках отстояли свои права быть хозяевами на земле, на которой жили. И в это мирное время бывшие солдаты, сержанты и офицеры активно осваивали необъятные просторы штатов, постепенно вытесняя коренное население в безлюдные прерии.
XVII

ашингтон радостно раскрыл свои объятия, выйдя навстречу входящему в его кабинет Костюшко. Он искренне был всегда рад видеть его в Филадельфии и общаться с ним.
— Рад, очень рад, что заехали ко мне! — радушно приветствовал Вашингтон генерала. — Надолго ли к нам, будет время погостить в городе подольше?
Костюшко пожал протянутую руку Вашингтона и сел в стоящее перед столом удобное кресло. Всю дорогу в Филадельфию Костюшко продумывал, как начать разговор и как объяснить причину принятого им решения покинуть Америку. Поэтому, усевшись и положив треуголку себе на колени, Костюшко начал разговор сразу и без предисловий:
— Я пришёл проститься с вами. В ближайшее время я покидаю Соединённые Штаты.
Вашингтон, хорошо зная характер сидящего перед ним человека, готов был выслушать от него любые новости, но к этой он был явно не готов. Он ещё надеялся, что Костюшко даже после женитьбы и мирной жизни простого рантье вернётся рано или поздно к политической жизни Соединённых Штатов. Не таков этот человек, чтобы спокойно сидеть на какой-нибудь ферме с женой и детьми, занимаясь только сельским хозяйством. А свои люди, особенно с таким авторитетом и известностью, как у этого генерала, могли бы пригодиться Вашингтону. Пусть не прямо сейчас, а в недалёком будущем.
И вдруг он слышит от Костюшко такое заявление! Вашингтон сразу не нашёлся, что ему ответить, Некоторое время он молчал и внимательно смотрел на генерала. Костюшко также молчал и ждал, как отреагирует Вашингтон на его сообщение.
— И куда вы собираетесь направиться? — строгим тоном командующего наконец-то спросил хозяин кабинета.
— Сначала во Францию, а потом, наверно, вернусь на родину, — уточнил Костюшко.
— Какого чёрта, генерал?! — не выдержал всегда спокойный и уравновешенный Вашингтон. — Вы что, получили приглашение от какого-нибудь европейского монарха возглавить его непобедимую армию? Или пришло письмо из Польши, что без вас там просто не могут обойтись? — на повышенных тонах бросал он слова в лицо Костюшко, брызгая слюной.
Таким несдержанным и сердитым Костюшко ещё никогда не видел главнокомандующего. Конечно, он предполагал, что Вашингтону не безразлична его судьба, но только сейчас понял, насколько он беспокоится о его будущем.
— Нет, никто меня не ждёт и никаких приглашений я не получал.
— А как же ваша женитьба, семья, дети, спокойная жизнь землевладельца? — продолжал пытать Вашингтон, уже догадываясь, что ничего из того, что планировал Костюшко во время их последней встречи, у него не получилось.
И тот, играя желваками, подтвердил его догадку.
— С женой и семьёй я пока тоже повременю, — грустно подвёл он итоги своей неудавшейся семейной жизни, и ему вдруг очень захотелось выпить.
Вашингтон понял, что со своими вопросами он, кажется, переборщил. Словно прочитав мысли Костюшко, он подошёл к стоящему в углу небольшому шкафу и достал откуда-то из его внутренностей бутылку вина и два серебряных кубка. Поставив всё это «богатство» на стол, Вашингтон сказал:
— Ну тогда предлагаю отметить ваше убытие и начало новой жизни в Европе. Кстати, а когда вы собираетесь покинуть нас?
— В течение месяца сдам дела и первым кораблём отправлюсь во Францию, — пояснял Костюшко, медленно потягивая вино, наслаждаясь хорошим напитком.
— Жаль, честное слово, жаль. Я-то думал, что Соединённые Штаты стали для вас второй родиной, — откровенничал Вашингтон, слегка захмелев от выпитого на голодный желудок вина.
— И вы не ошиблись. Но судьба у меня здесь не сложилась, а во сне я вижу мать с отцом, родные места детства, — также откровенно отвечал Костюшко. — А здесь я чувствую себя уже ненужным, чужим, что ли.
— Зря вы так... А может, есть ещё что-то, из-за чего ваше возвращение на родину так необходимо? — Вашингтон сделал ещё одну попытку узнать истинную причину такой резкой перемены в жизни Костюшко и, возможно, удержать его от необдуманных решений.
Костюшко поставил на стол пустой кубок, и Вашингтон вновь его наполнил, не забыв сделать то же для себя.
— Знаете, у меня появилась сумасшедшая мысль, которая в последнее время не даёт мне покоя и заставляет меня подолгу ворочаться по ночам.
— Интересно, что это за мысль?
— А что если у меня на родине наш сейм примет свою конституцию, похожую на Конституцию Соединённых Штатов.
— А как же ваш король? И, наконец, как на это посмотрят европейские страны, в том числе Россия? — перечислял Вашингтон причины, по которым идея Костюшко не смогла бы претвориться в жизнь. — Это война, генерал... Такая же или похожая на нашу войну с Англией. Только где эта Англия? А ваша Европа — вот она, родная, вся помещается на небольшой территории моего глобуса.
Вашингтон подтянул к себе стоящий на краю стола глобус и ткнул в него указательным пальцем. Костюшко задумчиво сидел, уставившись в одну точку, и в какой-то момент Вашингтон подумал, что он сейчас вот-вот уговорит этого сумасшедшего генерала одуматься и остаться.
— Поздно. Рубикон перейдён: я своих решений не меняю, — твёрдо произнёс Костюшко и встал, чтобы проститься. — Спасибо вам за всё.
— За что? — удивлённо спросил Вашингтон, явно не желая так быстро прерывать такой душевный разговор.
— За то, что вы есть, и за возможность общаться с вами всё это время. За вашу дружбу и помощь.
Вашингтон был искренне тронут. От нахлынувших чувств и выпитого вина, усиливающего сентиментальность любого человека, у него на глаза навернулись слёзы.
— Бог мой! О чём вы говорите?! Вы столько сделали для этой страны, и если бы вы не уезжали от нас в полную неизвестность, то, может быть, могли сделать и совершить для неё ещё много нужного и достойного.
Костюшко также был тронут этими словами, и у него промелькнула шальная мысль всё вернуть на привычные места и остаться. Но эта мысль была только мгновение, и Костюшко, ничего не добавив к сказанному, протянул на прощание руку.
— Чем я могу быть вам ещё полезен? — спросил, прощаясь, Вашингтон. Ему хотелось в этот момент сделать для Костюшко хоть что-нибудь нужное для него, но он не знал, что ему ещё предложить, кроме хорошего вина.
— Прощайте, — тихо произнёс генерал вместо ответа. — Бог даст, может, ещё свидимся на этом свете.
По-мужски пожав друг другу руки, они расстались. Костюшко вышел из кабинета, а Вашингтон грустно посмотрел на недопитую бутылку вина, потом налил себе остатки в кубок и залпом выпил.
XVIII

огда Костюшко покидал Чарлстон, его провожали два генерала американской армии, с которыми он долгие годы делил горечь поражений и радость побед. Генерал Гейтс с грустными глазами смотрел на Костюшко, гадая, увидит ли он его ещё в этой жизни. А генерал Грин долго не выпускал из грубой ладони бывшего кузнеца ладонь своего недавнего подчинённого, как будто чувствовал, что видит его в последний раз
[27]. Он привязался к Костюшко за годы совместной службы и сильно переживал, что тот, вероятнее всего, навсегда покидает Америку. Своей сильной рукой, привыкшей держать кузнечный молот, он похлопал Костюшко по плечу, как бы подбадривая. Ведь его другу предстояла долгая дорога домой через океан и несколько европейских стран.
— Ну, с Богом! — пожелал в дорогу Гейтс.
— Пиши, — попросил Грин, думая поддерживать связь с Костюшко даже через океан. Они в душе надеялись, что прощаются друг с другом не навсегда.
Костюшко направлялся в Филадельфию, а оттуда, завершив все свои дела, он собирался из порта Нью-Йорка отплыть во Францию.
За бортом тихо и привычно плескались волны Атлантического океана, а солнце приятно щекотало тёплыми лучами лицо. Костюшко, прикрыв глаза, сидел на корме корабля, плывущего во Францию, а через его веки безуспешно пробовали пробиться солнечные лучики, оставляя в глубине его глаз разноцветные круги.
Костюшко было хорошо и спокойно. Он находился в том приятном состоянии ожидания, когда до цели его прибытия было ещё далеко, а непривычное для него ничегонеделание ему ещё не надоело и даже приносило какое-то удовольствие.
Томаш в первые дни плавания не знал, чем заняться. Он брался помогать матросам выполнять хоть какую-нибудь работу, не требующую особых навыков моряка. За эти качества вся команда корабля приняла его в свою компанию и приглашала на вечерние развлечения в виде танцев на палубе под дудки и барабаны или игр в кости. А по вечерам, когда на судне всё затихало, Томаш с грустью вспоминал Гриппи.
Он почему-то скучал без чернокожего друга. Костюшко, так же, как и Томашу, предоставил ему право выбора: остаться в Америке или уехать в Европу. Гриппи выбрал первый вариант. После отплытия судна, на котором Костюшко с Томашем возвращались на родину, слуга ещё долго стоял на берегу, пока корабль не скрылся за горизонтом. Потом большой и добрый чернокожий человек медленно побрёл к своему новому дому, который перед расставанием купил ему его прежний хозяин.
Костюшко открыл глаза, и сразу солнечные лучи ослепили его, радуясь, что наконец-то до брались до его зрачков. Когда глаза привыкли к яркому полуденному солнцу, Костюшко раскрыл книгу Томаса Мора «Утопия» и продолжил чтение, прерванное им на несколько минут для отдыха его уставшим глазам. Эта была одна из многих книг, которые Костюшко загрузил с собой на корабль. Изучая работы различных известных философов, начиная с древних времён, он заметил закономерность повторяющихся исторических событий, отличающихся друг от друга лишь своими сценариями, действующими лицами и временем происходящего. При этом Костюшко сделал для себя выводы, что если взять на вооружение основные принципы развития исторических процессов, то в будущем можно избежать многих ошибок, которые также повторяются известными личностями, оставившими свой след в мировой истории.
Костюшко ещё раз убедился в правильности своих выводов, изучив работу Никколо Макиавелли «Государь», в которой автор подробно расписывал некоторые принципы государственного устройства и правления, методы захвата власти и способы её удержания за собой, лишая конкурентов возможности занять своё место. Эти общие принципы могли быть применимы для любого времени в различных странах, если там созданы исторически соответствующие предпосылки и условия.
«Только республиканская форма правления, только демократическое устройство государства смогут свести на нет попытки установления в стране диктатуры одного человека и деспотизм. В то же время можно допустить создание сильного государства (республиканского, но с существенным ограничением монархической власти), опирающегося на поддержку народа», — размышлял Костюшко, прочитав очередную главу произведения известного итальянца. Обдумывая прочитанное, он с чем-то соглашался, а что-то не принимал для себя даже для обсуждения (например, замечания Макиавелли о необходимости «беспощадных решений» для достижения поставленных правителем целей).
Здесь, на этом корабле, оставаясь один на один со своими мыслями, когда его никто не тревожил, Костюшко впервые за восемь лет позволил себе расслабиться и «переключить» свои мозги с войны на мысли более мирные. Обустройство государства, где не существует диктатуры, где народ принимает участие в жизни своей страны через своих выборных представителей, уже не представлялось Костюшко таким утопичным, как это могло бы казаться во времена Томаса Мора. Внутри этого государства само общество должно «созреть», чтобы принять новые для себя условия жизни без монархов. А если с ними, то эти венценосные особы должны быть под контролем народа через тех же своих представителей. Соответственно, необходимо изменить законы и научить народ их правильно понимать и исполнять.
Много всяких мыслей роилось в голове американского генерала Костюшко, который в душе давно был республиканцем и воспринимал монархию как что-то устаревшее и отживающее свой век. Прожив в Америке восемь лет, он увидел своими глазами, что государство может быть создано и функционировать без монархических династий. А за основу закона своей страны необходимо взять лучшее из законодательства различных государств. Костюшко мысленно уже представлял, как можно применить американский опыт в Речи Посполитой. Однако вспомнив польские сеймы и сеймики, вспомнив слова Вашингтона во время их последней встречи, Костюшко невольно нахмурился. Да, Вашингтон был прав: Соединённые Штаты и Англия — это не Речь Посполитая и не Россия с Пруссией и Австрией. Соединённые Штаты — это особый случай в истории, но ведь он может повториться в каком-нибудь другом месте, если там будут созданы похожие условия.
Размышления Костюшко были прерваны торжествующими криками матросов, вытаскивающих на палубу большую акулу, которую им удалось выловить на приманку. Огромная туша самого опасного морского хищника ещё дёргалась в предсмертных конвульсиях после полученного ею удара топором по голове. Не дожидаясь, пока акула полностью перестанет агонизировать, один из матросов тем же топором раскроил ей брюхо, очищая его от внутренностей.
Костюшко неприятно было это зрелище. Насмотревшись крови и смертей на войне, он с неприязненностью относился к любым картинам жестокости, даже если это касалось не людей, а любого живого существа. Даже будучи человеком, прошедшим суровые испытания военного времени, в душе Костюшко оставался сентиментальным и мирным человеком, которому было чуждо всякое насилие. Но сентиментальность и миролюбие отходили в сторону, если вопрос касался защиты чести и достоинства человека, свободы и независимости народа. Все эти качества странным образом уживались в Костюшко и поэтому периодически вызывали удивление и в то же время уважение даже у его противников.
Каждый вечер на закате дня, когда солнце скрывалось за горизонтом, стоящий за штурвалом матрос мог видеть перед собой странного генерала. Он подолгу стоял, широко расставив ноги, на палубе и сосредоточенно смотрел в сторону заходящего солнца. Костюшко нравилось наблюдать картину вечерней зари и розовеющего небосклона, плавного перехода дня в ночь. Тогда в его душе просыпался художник, который зародился в нём при посещении уроков в академии искусств ещё во время учёбы в Париже. Как это было давно... В такие минуты ему хотелось взять мольберт и запечатлеть всю прелесть природного явления, остановив это чудное мгновение на холсте.
В один из таких вечеров к Костюшко осторожно подошёл Томаш и тихо встал рядом. Наконец Костюшко оторвался от созерцания заката и обратил на него внимание. Не оборачиваясь, продолжая смотреть куда-то вдаль, он спросил:
— Что-то случилось?
— Мне матросы сказали, что скоро прибудем в Лориан. Прикажете собирать вещи?
Костюшко задумался. Вот и всё, заканчивается плавание, и их ждёт новая жизнь в новых условиях, новые события и новые люди. Кто они, какие они? Кто их встретит? А ведь кто-то и не примет... Да, судьба... Она опять делает крутой поворот, а что ждёт их за этим поворотом?
— Завтра с утра начинай собираться. Делать тебе всё равно больше нечего.
Ещё долго они стояли рядом в молчании на палубе, любуясь светом заходящего солнца, выделяясь своими фигурами на фоне вечернего горизонта. Каждый думал о своём, надеясь на лучшее, вспоминая прошлое, мечтая о будущем, даже не догадываясь, какие сложные жизненные пути их ещё ждут впереди.
Часть третья
ВОЗВРАЩЕНИЕ
I

роехав в дорогом почтовом дилижансе по военным дорогам Францию и всю Германию, Костюшко с Томашем добрались до Познани, где и остановились в приличной гостинице в центре города. Рано утром после отдыха и лёгкого завтрака Костюшко обратился к хозяину гостиницы с просьбой найти для него какой-нибудь дилижанс или почтовую карету, на которой путешественники из далёкой Америки смогли бы добраться до Варшавы. Добродушный хозяин, которому понравился этот американский генерал своей щедростью, постарался выполнить его просьбу. На территории Польши почти не было почтовых карет и дилижансов наподобие того, на котором приехал в город Костюшко. Однако хозяин гостиницы всё-таки нашёл для него огромную немецкую коляску-брике, представляющую собой допотопный тяжёлый экипаж. Запряжённый четвёркой огромных лошадей макленбургской породы, он целенаправленно двигался в сторону Варшавы и делал вёрст по пятьдесят-шестьдесят в сутки. В этой коляске в полном молчании сидели четыре человека, рассматривающих лежащие вдоль дороги окрестности или незаметно (как им казалось) наблюдающих за своими попутчиками. Одна из пассажирок, светская дама лет тридцати, одетая в дорогое красивое платье, ехала в сопровождении молодой служанки. Она постоянно махала веером, спасаясь от жары, и с интересом рассматривала странного немолодого офицера, одетого в военный мундир непонятной ей армии. Офицер был симпатичным, гладковыбритым и почему-то безусым.
Военный также ехал в сопровождении своего слуги, который с интересом посматривал на служанку и нагло подмигивал девушке, если встречался с ней взглядом. У служанки при этом щёки покрывались ярким румянцем, и она с притворным возмущением посматривала на серьёзную хозяйку. Дама всё замечала, но упорно хранила молчание, соблюдая светские приличия, при которых представительница слабого пола не начинала первой разговор с незнакомыми мужчинами.
А офицер как будто и не замечал перед собой двух пассажирок и на протяжении долгого пути больше осматривал места, которые они проезжали. Во время коротких остановок на постоялых дворах или в деревнях, где кучер менял лошадей, офицер постоянно с кем-то разговаривал, включая холопов, по-прежнему игнорируя своих соседок по экипажу. Такое поведение офицера возмущало даму и как женщину, на которую не обращают внимания, и как пани, которая не опускается так низко, чтобы просто болтать с дворовыми слугами.
Стояла жаркая летняя погода, и после полудня стало настолько душно, что кучер останавливал экипаж чаще, чтобы пассажиры и лошади могли немного отдохнуть в тени деревьев. На одной из таких остановок Костюшко, чтобы хоть как-то нарушить молчаливую поездку, наконец-то галантно представился даме и обратился к ней с вопросом:
— Не подскажет ли мне любезная пани, где можно остановиться в Варшаве для отдыха?
Женщина, довольная тем, что теперь она сможет поговорить с этим неразговорчивым офицером, повернулась к нему и неожиданно мило улыбнулась.
— Вам следует остановиться в центре города, — пояснила она. — Рядом с ратушей лучшая гостиница в Варшаве.
Впоследствии, уже в дороге, Костюшко «разговорился» и задал ещё пару вопросов, и дама с именем покойной российской императрицы Елизаветы с большим удовольствием посвятила его во все последние светские новости. Она так увлеклась рассказами, что Тадеуш почти не спрашивал её, а лишь всё время слушал. Казалось, что пани Елизавета «накапливала» всю дорогу темы для своего монолога, и теперь её невозможно было остановить.
— А вы, наверно, давно не были в Польше? — наконец-то спросила и сама пани Елизавета офицера, заинтригованная его формой и вопросами, которые Тадеуш успел ей задать.
— Давно... Около восьми лет, — глубоко вздохнув, коротко ответил офицер.
— Да что вы говорите! — в восторге воскликнула дама, заинтригованная ещё больше. — И далеко вы служили?
— Далеко. В Америке, — опять сократил Костюшко своё повествование о службе в Континентальной армии до минимума.
Пани поняла, что Костюшко не намерен подробно рассказать ей о своих подвигах. Это её немного огорчило, но не смутило. Она решила продолжить монолог и посвятить генерала во все события последних лет, которые ей были известны и которые, как ей казалось, были бы интересны и сидящему напротив её офицеру.
А Костюшко действительно было интересно послушать эту светскую сплетницу. Пани Елизавета подробно с возмущением рассказала ему о том, что польские шляхтичи в последнее время теряют свою гордость и достоинство: они начинают заниматься торговлей, беря пример с некоторых ясновельможных господ. Да и чему здесь удивляться, когда сам польский король основал в Бельведере под Варшавой фабрику фаянса. Разве король может этим заниматься?..
Но Костюшко, вслушиваясь в возмущённые нотки попутчицы, сделал для себя определённые выводы. По-видимому, мирное время, в котором жила Речь Посполитая, принесло много положительного и нового, о чём там, за океаном, Костюшко не было известно. Король, как понял Костюшко из потока слов пани Елизаветы, серьёзно взялся за решение в своём государстве не только экономических вопросов, но и за вопросы улучшения самоуправления городов. По его указаниям в городах Речи Посполитой назначались комиссии хорошего порядка (boni ordinis) в лице воеводы или старосты с местной шляхтой. Главной задачей этих должностных лиц было обустройство городского хозяйства. Контроль за доходами и долгами, составление местных предписаний для организации безопасности и внутреннего порядка, обустройство благотворительных учреждений и школ, а также иные вопросы в жизни как больших городов, так и небольших городских поселений — это лишь краткий перечень той организационной работы, которую проводили подобные комиссии. Они добивались поступления денег в казну города и способствовали развитию в нём деловой жизни. К этой работе привлекались скарбовые комиссии, поддерживалось развитие ремёсел, торговли и промышленности.
Не доехав до Варшавы, пани Елизавета со служанкой навсегда покинула неразговорчивого генерала. Вместо неё на одной из остановок в экипаж сел ксёндз, который, в отличие от прежних пассажиров, предпочитал больше сидеть и читать, а не разговаривать. В руках он держал какой-то журнал, периодически перелистывая его страницы.
Заметив, что Костюшко внимательно присматривается к журналу, ксёндз спросил:
— Интересуетесь?
— Давно не был на родине. Мне всё интересно, — пояснил Тадеуш.
— Пётр Свитковский, — представился священнослужитель генералу.
— Тадеуш Бонавентура Костюшко, — в ответ назвал своё полное имя генерал.
Пётр Свитковский напряжённо наморщил лоб: где-то он слышал это имя, но не мог сразу вспомнить. Ксёндз протянул Костюшко журнал.
— Дорога дальняя, возьмите и почитайте, — предложил он попутчику. — Я думаю, что содержание моей статьи в этом журнале вам будет также полезно для размышления о настоящем и будущем нашей родины.
Заинтригованный, Костюшко взял журнал и прочёл название: «Политический и исторический мемуар». Полистав для начала страницы, он нашёл статью Свитковского и внимательно прочитал её. Статья была посвящена некоторым вопросам о причинах падения Речи Посполитой, а также о путях и направлениях экономического и политического развития страны.
Костюшко с уважением посмотрел на сидящего перед ним человека. Теперь он видел перед собой не просто священнослужителя, а гражданина, которому, как и Костюшко, была не безразлична судьба его родины.
Остальная часть пути до самой Варшавы прошла за разговорами, которые были для Тадеуша вроде бальзама на больное место. Он всё больше убеждался, что не зря покинул Америку и вернулся в Польшу. Дух предстоящих преобразований и изменений в обществе встречал его на каждом шагу, на каждой пройденной миле по земле его предков. Костюшко уже был уверен, что он нужен своей родине, что его знания, опыт, его энергия в ближайшее время найдут своё применение на этой земле. Ради этого он пожертвовал всем, что мог бы иметь в Соединённых Штатах.
Но как высоко поднялся в своих надеждах блудный сын Речи Посполитой при возвращении на родину, так и жёстко пришлось ему упасть, когда он столкнулся с реальной действительностью, которая существовала в это время в родном государстве.
К моменту возвращения Костюшко правительством Речи Посполитой был Постоянный совет, состоящий из короля, сенаторов и членов рыцарского сословия. Этот государственный орган после первого раздела 1772 года являлся детищем российской дипломатии. Её же представитель и главный создатель этой новой формы правления посол Штакельберг фактически прибрал в свои руки всю высшую власть в стране. О его влиянии на внутреннюю политику Речи Посполитой говорит тот факт, что русского посла называли вице-королём и считались с ним больше, чем с самим Станиславом Августом Понятовским.
А Станислав Август, сжав зубы, терпел это унижение, но ничего сделать не мог. Его деятельность полностью контролировалась тем же Штакельбергом, который опирался на силу русских штыков. Этот представитель России для удержания Польши в покорности на её территории имел в своём распоряжении военный гарнизон. Штакельбергу достаточно было приказать, и русские солдаты могли немедленно прибыть к месту назначения по первому его требованию.
Польский король при Штакельберге должен был всегда быть осторожен в своих действиях. В противном случае у последнего всегда находились средства, чтобы возбудить против Станислава Августа Понятовского оппозицию. Реально состояние и положение короля полностью зависело от русского посла. Станислав Август понимал это и принял покорный вид, за что вошёл в доверие к Штакельбергу и смог занять в Постоянном совете руководящее положение.
II

аконец доехав до Варшавы и тепло распрощавшись с Петром Свитковским, Костюшко с Томашем остановились на ночь для отдыха в одной из лучших гостиниц города. Рано утром, проигнорировав столицу своим вниманием, они наняли извозчика с двумя добрыми лошадьми, который согласился доставить их до Вильно. А оттуда он же сторговался довезти обоих американских путешественников до Сехновичей.
Крытая повозка с Костюшко, Томашем и вещами проезжала через знакомые с детства места. Сколько раз Тадеуш топтал своими ногами эти просёлочные дороги и пересекал пролески, гоняясь за дичью по лесам во время охоты! Наконец показалась знакомая с детства кузница, но у горна, стоящего прямо на открытом воздухе возле хозяйственных построек, Костюшко не заметил старого кузнеца. Он увидел молодого высокого парня, умело постукивавшего молотком по куску горячего металла.
Не останавливаясь возле кузницы, повозка выкатилась на возвышенность, откуда с волнением Тадеуш увидел Сехновичи, а за деревней уже можно было рассмотреть и родительский дом. Когда же повозка въехала во двор поместья, то никто, кроме двух дворовых собак, не встретил приехавших гостей. Псы с ленивым лаем подбежали к лошадям и также лениво отбежали от них, когда извозчик замахнулся на них плёткой. Тадеуш вышел из повозки и внимательно осмотрелся вокруг. Какое всё родное и в то же время пока ещё чужое... Эти два чувства бурлили в душе Тадеуша, как будто старались вытеснить друг друга из его сознания. Однако первое, родное, со временем побеждало второе по мере того, как он
находился здесь.
Но вот скрипнула дверь, и из проёма двери показалась лохматая голова старшего брата. Прищурившись от яркого дневного света, Иосиф приложил ладонь ко лбу, приглядываясь, кто это надумал приехать к нему в гости. Когда же через несколько секунд волнительного ожидания он узнал Тадеуша, то широкими шагами подошёл к нему и остановился в нерешительности, как вести себя дальше.
Тадеуш первым нарушил молчание:
— Ну, здравствуй, брат, — хриплым от волнения голосом сказал он, и братья обнялись.
Иосиф долго держал в объятиях Тадеуша, как бы проверяя реальность происходящего. Он обнимал брата, похлопывая его по генеральскому мундиру, и слёзы радости выступили на его глазах.
Наконец он оторвался от Тадеуша и внимательно посмотрел на него в упор.
— Я уже не думал с тобой встретиться на этом свете, — проговорил Иосиф, смахивая с ресниц слезу. — Ну чего мы стоим во дворе? Пойдём в дом.
Тадеуш махнул рукой Томашу, жестом поясняя, чтобы он разгружал вещи, и пошёл в дом за братом.
— Мария, где ты там? Смотри, какого гостя я привёл в дом! — громко позвал Иосиф жену, и располневшая за эти годы Мария появилась из кухни.
— Матка Воска! Тадеуш! — только и смогла она проговорить и уткнулась ему лицом в грудь.
Тадеуш обнял её трясущиеся плечи, успокаивая и приговаривая:
— Ну что ты, что ты... Всё хорошо, все живы и здоровы, и слава Богу.
Когда все успокоились и рассмотрели получше друг друга, Мария быстро организовала застолье, которое по традиции сейчас было просто необходимо. Надо же было отметить приезд Тадеуша и выслушать его рассказ о своей жизни за все эти восемь последних лет, а также рассказать ему о своих проблемах, которых, как всегда, хватало в хозяйстве.
«Постарел Иосиф, постарел», — думал Тадеуш, рассматривая брата, когда тот «докладывал» ему о том, как они жили все эти годы. А жизнь семейства Костюшко мало чем изменилась, пока Тадеуш воевал в Америке. Всё так же год от года выходили на поля крестьяне в Сехновичах, всё так же Иосиф считал каждый злотый, который надо было куда-то определить: на оплату долгов или на покупку чего-нибудь для семьи и детей, которых у Иосифа и Марии уже было трое. Племянники стояли тут же у стола и с любопытством и восхищением рассматривали своего дядьку и его красивую генеральскую форму. Тадеуш с нежностью гладил их по очереди по голове, в душе сожалея о том, что у него до сих пор нет своей семьи и детей. При этом родственные чувства близких ему людей одной крови так умилили его, что Тадеушу вдруг захотелось обнять их всех, сделать для них что-то хорошее и важное, защитить их и оберегать от всех невзгод этой жизни.
— И что ты собираешься делать в Польше? — спросил любопытный Иосиф. — Наверно, тоже пойдёшь на службу?
— Так я же больше ничего и не умею делать, как только служить. А как служить и кому?
Тадеуш задумался. По прибытии домой он хотел лишь немного отдохнуть и осмотреться в новой для себя ситуации. Ведь он вернулся на родину не как блудный сын к отцу, а как опытный военный, желающий теперь ей послужить. Правда, после сокращения армии Речи Посполитой, когда её численность дошла до 15 000 человек, офицерский патент стоил дорого. Тадеуш не рассчитывал на такую сумму, хотя и считал себя не обделённым деньгами. К тому же большую часть денег, которые он привёз с собой из Америки, Тадеуш решил отдать Иосифу, чтобы тот рассчитался с закладными. Он решил помочь брату и только что за этим столом пообещал ему сделать это. Однако денег было всё равно недостаточно: из-за дефицита бюджета Конгресс Соединённых Штатов при отъезде Костюшко на родину не смог выплатить ему всей суммы за службу. Была ещё надежда на помощь сестры Анны и её мужа Петра. Иосиф обратился к ним за помощью, и они также обещали дать ему денег для выкупа закладных.
— Для начала побываю в Варшаве и в Вильно, встречусь со старыми друзьями, если они будут готовы встретиться со мной, — ответил брату Тадеуш.
Он ещё хотел расспросить его о Людовике, но не знал, как задать ему этот больной для него вопрос, но Иосиф его опередил.
— А Людовика Любомирская у отца сейчас бывает редко, — просто так, как бы между прочим, сообщил он брату. — Сдал гетман, постарел, стал никому не нужен... В сейме другие, молодые сейчас правят.
— А что Понятовский? — сразу перевёл разговор на другую тему Тадеуш. — Как всегда: мечется между сеймом и Россией? — уточнил Тадеуш про короля.
— Ему не позавидуешь. Порвали нашу Речь Посполитую на части, — вдруг со злостью, скрипя зубами, взорвался Иосиф и ударил кулаком по столу. — Ему между двух огней крутиться приходится: с одной стороны — Екатерина со своим дипломатом Репниным, с другой — Чарторыские с оппозицией на сеймах грызутся. А чуть что — король виноват: и в том, что русские гарнизоны стоят в польских городах, и в том, что довёл страну до раздела.
— Ну а хорошее есть что-нибудь в этой стране, пока я был за океаном? — с горечью спросил Тадеуш, не выдержав сплошной чёрной полосы новостей.
Иосиф умолк и задумался, а потом изобразил на своём лице философские размышления и сделал заключение по текущему моменту:
— А знаешь, брат, по-моему, что-то произошло в головах у шляхты: во время этого временного затишья после войны с Барской конфедерацией шляхта начала «работать».
— Это как? — не понял Тадеуш.
— Да просто: шляхта взяла пример с самого короля, который занялся всякими там торговыми делами, как будто делать королю больше нечего.
— И что это за дела? — уже заинтригованно спросил брата Тадеуш.
— Ты знаешь, в Бельведере под Варшавой Понятовский открыл фабрику фаянса, а в Козеницах он организовал производство металла.
Иосиф налил себе полный кубок вина и оглянулся на жену, которая с неодобрением покачала головой, но ничего не сказала. Воодушевлённый таким нейтральным поведением супруги, Иосиф опрокинул содержимое кубка себе в рот, крякнул от удовольствия и продолжил свой монолог, закусывая выпивку солёным огурчиком:
— А шляхта? Чем она хуже? Тоже приобщилась к торговле. Да что там говорить, если друг короля сам Антоний Тизенгауз создал поселение, где изготавливают всё, начиная с булавок и кончая каретами и всякими там кружевами, А князья Чарторыские также не отстают: имеют где-то на Волыни фабрики сукна да всяких там шляп.
Костюшко хорошо помнил этого приближённого к королю человека — Антония Тизенгауза. Вступив на королевский престол, Станислав Август Понятовский понимал, что внести изменения в политическую и экономическую систему Польши и Великого княжества Литовского ему одному будет не по силам. Для этого ему нужно было объединить своих политических единомышленников и, главное, уничтожить liberium veto, дать возможность всем слоям населения страны равные права проявить себя в предпринимательстве, в торговле. Вот тогда молодой король и вспомнил про друга молодости Антония Тизенгауза. Как настойчиво и красочно расписывал тот молодому Понятовскому в Волчине свои планы по развитию экономической независимости Речи Посполитой!
Станислав Август Понятовский вызвал в Варшаву Антония Тизенгауза, который в то время уже занимал должность гродненского старосты. Король неожиданно для многих приближённых вдруг наделил его особыми полномочиями и выделил из государственного бюджета огромные средства. Эти деньги должны были пойти на развитие Гродно
[28] и прилегающих к нему мелких городков, и Антоний Тизенгауз рьяно взялся за претворение в жизнь своей мечты. Он хотел создать экономически развитый регион страны, чтобы на его примере развивать всю экономику Речи Посполитой.
За десять лет бурной деятельности он основал в Гродно королевскую типографию, где печаталась «Gazeta Grodzienska», построил жилой и административный центр Городница, а центральной улице города дал странное название Роскошь. Кроме этого, Антоний Тизенгауз открыл музыкальную школу и основал театр, медицинскую академию, кадетский корпус, библиотеку и музей истории природы, заложил ботанический сад. Но на этом не закончились благие дела гродненского старосты. Используя деньги из королевской казны, предприниматель основал в Гродно и его окрестностях более десятка мануфактур, где под руководством иностранных специалистов работали тысячи людей и изготавливались сотни видов различных товаров.
Антоний Тизенгауз приглашал в город свой мечты известных всей Европе людей для того, чтобы они не только приехали погостить в Гродно, но и остались здесь жить и творить навсегда. Известный архитектор Жан-Эмануэль Жилибер принял приглашение Тизенгауза и на время переехал в Гродно, чтобы там подзаработать. Однако прибыв в этот небольшой, но уютный город, он был так очарован природой этого места, гостеприимством и радушием людей, а главное, объёмом хорошо оплачиваемой работы, что обосновался здесь на постоянное место жительства.
Жан-Жак Руссо также получил приглашение посетить город-мечту и, заинтригованный предложением, даже выехал в Гродно. Однако на пути следования по польским территориям на одном из постоялых дворов он был обманут и обворован каким-то поляком. Разгневанный таким коварством, великий мыслитель обиделся на всю Речь Посполитую, развернул на сто восемьдесят градусов свой экипаж и, к большой досаде Антония Тизенгауза, на подвластных тому землях больше не появился.
Но такая бурная деятельность Антония Тизенгауза не всем пришлась по душе. Нашлись «доброжелатели», которые наушничали королю, что его друг молодости просто является растратчиком государственных средств. Некоторые советники доказывали, что польза от небольших предприятий несоизмерима с теми деньгами, которые были выделены предпринимателю по настоянию Станислава Августа Понятовского. В конце концов, король пошёл на поводу «доброжелателей» и согласился, что пора разобраться со старым другом. В 1780 году ксёндз Коссаковский, прибыв из Варшавы с полком улан, силой заставил гродненский трибунал принять решение о виновности Антония Тизенгауза в растрате. Но этим дело не закончилось: в 1783 году специальная комиссия провела следствие и вынесла вердикт, обязав Антония Тизенгауза вернуть казне 1 800 000 злотых. Это был абсолютный провал всех его проектов и полное банкротство!
Правда, Гродненский сейм 1784 года «сжалился» над бедным горе-предпринимателем и, не без закулисного участия короля, снял с него финансовый долг и даже предоставил ему пенсию. Но было уже поздно: из-за всех переживаний и нервных срывов Антоний Тизенгауз серьёзно заболел, а вся созданная им промышленность и мануфактуры в большей части пришли в упадок или совсем разорились.
Иосиф под воздействием хмельных паров ещё долго перечислял младшему брату, кто из шляхты и где начал что-то производить, что продавать. Тадеуш сидел и внимательно слушал его монотонный рассказ о шляхтичах-предпринимателях, и перед его глазами предстала новая Речь Посполитая. Его родина уже не была похожа на ту, которую он увидел, приехав из-за границы восемь лет назад после учёбы. Он вспомнил общение с ксёндзом Свитковским, содержание статьи журнала «Политический и исторический мемуар», вспомнил поля, повсеместно засеянные пшеницей и рожью на всём протяжении его поездки к родному дому... Да, Речь Посполитая начинала подниматься с колен после долгих лет гражданских войн и интервенции России, Пруссии и Австрии 1772 года.
III
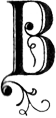
приёмной великого литовского гетмана Огинского, который возглавлял военный департамент, было тихо. Среди посетителей в комнате сидели несколько молодых шляхтичей, секретарь и два адъютанта гетмана, а также Костюшко в форме генерала американской армии. Рядом с ним скучал в томительном ожидании Казимир Сапега, с которым он заранее договорился прийти на этот приём. Молодые шляхтичи с интересом смотрели на Костюшко и о чём-то перешёптывались. А генерал, заметив любопытные взгляды, почему-то вспомнил день, когда он со своими друзьями-офицерами, выпускниками Рыцарской школы, сидел в приёмной военного министра Франции по прибытии на учёбу в Париж.
«Как это было давно, — думал Тадеуш. — Сколько событий произошло за это время в моей жизни и в жизни тех офицеров. Интересно, где они сейчас, как сложились их судьбы?..»
Наконец, двери в кабинет гетмана отворились, и оба друга по приглашению секретаря вошли внутрь. Разговор с главой военного департамента не занял много времени, и через пять минут они уже вышли оттуда с такими хмурыми лицами, словно только что проиграли в карты всё своё состояние.
— Ну и что мне дальше делать, Казимир? Возвращаться в Америку? — спросил возмущённо Костюшко. — Прошло столько лет, а мой побег из Польши они не забыли и сегодня мне ставят это в вину.
— После твоего самовольного оставления границ Речи Посполитой король подписал приказ о лишении тебя всех воинских званий, — пояснял Сапега. — Понятовский с Чарторыским, наверно, имели на тебя определённые виды и, возможно, строили свои планы, как использовать твои знания.
— Так почему меня сразу не направили тогда в армию, когда я приехал после учёбы из-за границы? — горячился Тадеуш. — А сейчас? Мои знания и опыт уже никому здесь не нужны? — Тадеуш правой рукой очертил в воздухе круг, давая понять Сапеге, что он имел в виду данное военное ведомство.
— Покупай патент офицера и служи, — посоветовал Казимир Сапега расстроенному товарищу.
Костюшко нахмурился... Он почти все деньги отдал старшему брату на погашение долговых обязательств, а оставшихся у него после возвращения из Америки не хватит на покупку дорогостоящего офицерского патента.
— Я не буду покупать патент, — упрямо сказал Костюшко магистру варшавского ордена масонов. — Я вижу, что моей родине не нужны бывшие генералы из республиканской Америки.
Костюшко посмотрел на друга, и тот увидел в его глазах столько отчаяния и горечи, что слова утешения застряли у Сапеги в горле.
— Теперь я переступлю порог этого заведения только после того, как мне пришлют сюда приглашение, — упрямо заявил Костюшко и быстрым шагом направился к выходу.
Сапега с трудом остановил Костюшко в коридоре. Он понимал, что сейчас чувствовал его товарищ, и предложил ему ещё один вариант добиться восстановления в армии Речи Посполитой.
— Постой, не горячись, — Сапега крепко держал Костюшко за рукав генеральского мундира. — Есть ещё один путь... Прямо к королю. Я думаю, он не откажется встретиться с тобой после твоих «приключений» в Америке.
Сапега больше не предлагал иных путей решения проблемы, а потащил его в офицерский клуб. Там они просидели целый вечер, распивая вино с виноградников южных границ Франции и с ностальгией вспоминая молодые годы учёбы в Рыцарской школе. При этом, понимая друг друга без слов, они старались не вспоминать о неприятном событии прошедшего дня.
Станислав Август Понятовский был извещён гетманом Огинским о посещении Костюшко его ведомства, а также о его ходатайстве.
— И вы ответили ему отказом, несмотря на то, что он известнейший генерал американской армии с опытом военных действий? — подняв в удивлении брови, спросил король.
— Ваше величество, Речь Посполитая — это не Соединённые Штаты, — спокойно объяснил Огинский своему королю, — Там республика, у нас — монархия, у них была Война за независимость, у нас — мирное время. Пока... Кроме всего прочего... — гетман умышленно сделал паузу, — русскому дипломатическому корпусу, возможно, не понравится, что в нашей армии служат офицеры с явными республиканскими взглядами.
Король внимательно посмотрел на Огинского. Тот не отвёл взгляда и спокойно смотрел на Станислава Августа, ожидая его решения.
«А ведь он прав. Сейм не утвердит Костюшко на генеральскую должность, — подумал польский монарх. — А если я буду настаивать, то уже завтра Екатерине доложат, что я беру на службу американских генералов и готовлюсь к войне. Огинский будет первым, кто сообщит Штакельбергу об этой новости, чтобы нас рассорить».
— Насколько мне известно, Екатерина II сама ведёт переписку с одним из подобных республиканцев, — поддел король гетмана.
— Кроме всего, Костюшко уже был капитаном армии Речи Посполитой, — парировал удар Огинский, напомнив королю историю восьмилетней давности, — и государственная казна не один год оплачивала его учёбу за границей. Он же нарушил свой воинский долг и самовольно покинул страну.
Король задумался. Он хорошо помнил этот случай и тот приём, на котором Костюшко рассказал Станиславу Августу Понятовскому свою любовную историю. Желая уберечь молодого человека от неприятностей, он тогда рассказал о любовных терзаниях капитана Юзефу Сосновскому, отцу той девушки. Кто бы мог подумать в то время, чем всё это закончится?! Костюшко самовольно бежал в Америку, а его за это лишили офицерского звания.
«Пожалуй, гетман прав. Не надо поднимать много шума из-за этой истории, — раздумывал король. — На должность простого офицера генерал американской армии вряд ли согласится, а присваивать звание генерала армии Речи Посполитой разжалованному офицеру... Посмотрим, как этот Костюшко поведёт себя дальше», — решил Станислав Август Понятовский и утвердительно кивнул, соглашаясь с аргументами Огинского.
Однако он не отказал в аудиенции Костюшко, когда тот попытался встретиться с ним лично. Ему было интересно поговорить с тем, кто восемь лет назад покинул границы Речи Посполитой, стараясь избежать королевского суда.
Станислав Август Понятовский внимательно слушал рассказ Костюшко о его службе в Континентальной армии. Иногда он задавал ему какой-нибудь вопрос, а потом опять продолжал слушать.
«Нет. Ещё не время, — думал король. — Офицерский патент я ему предложить не могу, а республиканцы в армии мне пока не нужны».
— Я вижу, у вас награда... — наконец обратил он внимание на орден Цинциннати.
— От Вашингтона. — Костюшко снял орден и прочитал вслух надпись на нём: — «Всё оставил ради спасения Отечества». Содержание и смысл надписи вызвали совсем не ту реакцию короля, на которую рассчитывал Костюшко. Король резко встал с кресла и кивнул американскому генералу.
«Нет, такие фанатики в нашей армии не нужны», — решил он и вышел из комнаты.
Аудиенция для Костюшко была закончена.
После посещения родного военного ведомства Тадеуш Костюшко в самом отвратительном расположении духа вернулся домой к брату. По выражению лица Тадеуша тот сразу сообразил, что им придётся жить ещё какое-то время под одной крышей, но не сильно огорчился по данному поводу. Зная мягкий характер брата, Иосиф был уверен в том, что Тадеуш не будет делить наследство. Есть надежда, что младший брат даже поможет поднять хозяйство, пока его не потянет на какую-нибудь службу или он не женится на приглянувшейся богатой паненке с хорошим приданым. И в первом и во втором случае Иосиф Костюшко останется в выигрыше.
— Наверно, тебе придётся меня ещё немного потерпеть, — горько усмехаясь, сказал Тадеуш брату, когда тот с молчаливым вопросом посмотрел на него.
— Не нужен? — коротко спросил Иосиф, убедившись в своих догадках.
— Не нужен, — также коротко ответил Тадеуш и сбросил свой генеральский мундир на спинку стула. — Всё, буду жить в родном доме и растить с тобой гречку. Говорят, на неё хороший спрос в базарные дни. А что, повоевал и хватит! Сколько можно?! — Костюшко говорил без остановки, нервно жестикулируя и большими шагами меряя комнату от одной стены до другой. — Восемь лет в походах, в сражениях... А здесь тишь, гладь да божья благодать. Правильно, кому тут нужен иностранный генерал? Кому?..
Тадеуш уже не мог остановиться. С обидой на всё и всех, из-за крушения благих намерений помочь создать новую армию в родном отечестве, он ещё долго что-то говорил и размахивал руками, а потом неожиданно остановился и сел на стул. Да, он мог быть полезен как боевой офицер, а теперь чувствовал себя, как рыба, неожиданно выброшенная волной на берег. Тадеуш сейчас был в таком же состоянии духа, в котором находился почти восемь лет назад, когда прискакал в родной дом после неудачного похищения Людовики. Тогда он также не знал, что ему делать, и не видел своего будущего в этой стране без любимой. Теперь же Тадеуш был просто раздавлен, осознав, что на родине, куда ещё недавно стремился всей душой и телом, он так и остался в том же статусе капитана польской армии без места службы.
— Ну, ничего, побудь здесь, привыкни к сельской жизни, — попытался успокоить младшего брата Иосиф. — Наверно, уже и забыл, как пахнет свежескошенная трава и как поют в поле во время работы деревенские женщины и жаворонки в небе?
Тадеуш поднял голову и посмотрел на Иосифа взглядом, в котором читался вопрос: о чём это говорит ему брат, когда рушится вся его жизнь? И что ему делать здесь, в этой деревне?
— Ничего, ничего, — продолжал шептать ему на ухо Иосиф, — и ЭТО пройдёт... Давай лучше выпьем да подумаем, как будем жить дальше. После доброй чарки и думается лучше.
Но Тадеуш уже успокоился и принял решение. Он останется в родном доме, раз в другом месте он никому не нужен. Действительно, сколько можно жить в походах и тревогах? Пора подумать и о спокойной жизни, о семье.
— Спасибо, брат, — поблагодарил Тадеуш Иосифа за понимание и поддержку. — Пойду пройдусь, развеюсь от горьких размышлений, — сказал он и встал из-за стола.
Выйдя из дома, Тадеуш нашёл Томаша и, к его удивлению и радости, приказал готовиться завтра рано утром на охоту. А что ещё остаётся делать отставному генералу, в один день ставшему простым помещиком.
IV

танислав Август Понятовский не только способствовал развитию экономики Речи Посполитой, но и занимался распространением просвещения. Он всячески поддерживал всех, кто стремился организовать школы, университеты или предлагал иные проекты, которые были связаны с развитием общества и государства. Подавая личный пример польским и литовским магнатам, польский король и великий князь литовский лично собрал дворцовую библиотеку, богатую печатными произведениями, а также рукописями. Но и на этом Станислав Август Понятовский не остановился. Он основал в замке астрономическую обсерваторию, директором которой был экс-иезуит ксёндз Иовин Быстшинский, и приказал устроить физический кабинет и химическую лабораторию. Пытаясь применить в своей стране последние научные открытия на практике, король-реформатор в 1784 году приказал установить на замковой башне в Варшаве громоотвод.
Было у этого короля ещё одно увлечение, которым он по праву гордился. Своим приближённым и почётным гостям он демонстрировал громадную коллекцию старых монет, которые по его просьбе привёл в порядок ксёндз Ян Альбертранди. В сущности, Станислав Август Понятовский, благодаря своему увлечению, стал одним из первых известных нумизматов в истории Польши.
Поддерживая искусство, Станислав Понятовский покупал картины, гравюры и скульптуры, а также приглашал из-за границы людей, сведущих в различных искусствах. Художники Маркелла Бачиарелли, Бернардо Беллотто и Лебрена — вот неполный перечень известных исторических имён, которые применили свои таланты не только у себя на родине, но и в Речи Посполитой, проживая там некоторое время.
Окружив себя артистами, поэтами и учёными, польский король устраивал для них обеды по четвергам, которые скорее напоминали академические заседания. На них обсуждались научные проблемы, читались стихи, проходили дискуссии, на которых никто не опасался, что чьё-то мнение не совпадёт с мнением коронованной особы.
Ещё много можно перечислить направлений в активной деятельности этого человека, волей судьбы ставшего во главе государства в Центральной Европе. В проводимой им внутренней политике Станислав Август Понятовский стремился объединить различные слои общества в государстве и свой многонациональный народ, исповедующий различные религии. При этом он демонстративно не ставил условий перед людьми иных вероисповеданий и не подвергал их никакой религиозной дискриминации при определении на какую-нибудь государственную должность.
Например, на заседаниях в сеймах интересы своих избирателей представляли депутаты различных вероисповеданий: лютеране, кальвинисты (один из известных генералов войска Речи Посполитой Ян Грабовский был приверженцем именно этого религиозного направления), православные, католики и протестанты. При последнем польском короле все получили полное равноправие с католиками как относительно свободы вероисповедания, так и политических прерогатив. Представители любой религии, притесняемые ранее, теперь могли без всяких ограничений строить церкви и молит венные дома, а также получили право требовать обратно отобранное у них после 1718 года имущество.
Но всё-таки, несмотря на равноправие, католицизм оставался господствующей религией на территории Речи Посполитой. Главная привилегия католиков состояла в том, что королём Польши мог стать только католик, а переход из католической религии в иную считался уголовным преступлением. И как не пытались российские политики освободить Польшу от влияния Рима, у них ничего из этого не получилось.
На большой территории Речи Посполитой проживали люди различных национальностей со своими традициями и верой, которая передавалась из поколения в поколение, и ограничивать в правах кого-то король Станислав Август Понятовский не собирался. И без этого на сеймах хватало проблем. Их было так много, что заседания, часто не без участия русской дипломатии, прерывались или срывались, а вопросы, вынесенные на обсуждение депутатов сейма, так и оставались не рассмотренными.
Во время правления Станислава Августа Понятовского государство обновлялось и в экономическом отношении: были приняты новые законы, направленные на улучшение благосостояния на рода, на ограничение ввоза в страну заграничных товаров и развитие собственного производства. Рассматривая деятельность польского короля как пример, начинающие предприниматели из числа польских и литовских магнатов основывали фабрики, небольшие предприятия, организовывали на исторических торговых путях рынки и ярмарки. В результате такой политики Речь Посполитая за короткое мирное время восстановила свою экономику и народонаселение. На её территории, как грибы после летнего тёплого дождя, росли фабрики сукна, шляп и фаянса. Примеру аристократов и магнатов следовала и простая шляхта в меру своих финансовых возможностей.
В этот мирный период не осталась без внимания прогрессивной шляхты и культура. Особо в Речи Посполитой в это время почитался театр. Он стал поистине явлением в общественной жизни и достиг своей наивысшей точки развития. Многие магнаты, поддавшись новому увлечению, тратили кучу денег на строительство театров при своих дворцах. При этом приглашались лучшие специалисты: архитекторы, декораторы, постановщики и зодчие в основном из Италии или Франции.
Каждый такой меценат хотел принести в свой театр что-то новое, чего нет у соседа. Однако всех затмил своим размахом великий гетман литовский Михаил Казимир Огинский
[29]. Свой театр он основал в Слониме
[30], в городе, который в это время переживал период расцвета. На месте старого замка гетман построил дворец, в архитектурный ансамбль которого вошёл и театр (ну как же без него!). На сцене придворного театра работали итальянские и польские оперные и драматические актёры, художники, балетмейстеры, выступал хор.
«Новый дом оперы» — так назвал Огинский своё детище и по праву гордился им. По роскоши и великолепию этот театр мог стать гордостью любой европейской столицы, а по механическому оснащению не уступал и даже превосходил театры Teatr Narodowy в Варшаве и театр Шереметева в Кусково и Останкино. На его сцене ставились сложные балетные постановки, проходили конные баталии и производились водные феерии с подсветкой бенгальскими огнями. Во время спектакля перед восхищенными зрителями одновременно могли предстать сотни актёров и плавать настоящие лодки.
Получив несколько лет спокойной жизни без войн и разрух, поднялось на ноги и земледелие. Продукция зерна за несколько лет мирной жизни не только достигла уровня, который был до раздела страны, но и превысила его. Некоторые представители шляхты и крупных землевладельцев уменьшили или совсем отменили барщину либо заменили её чиншем, а натуральные повинности — денежной платой. Крестьянам предоставлялось право самоуправления.
Армия Речи Посполитой не осталась без внимания государства. Она нуждалась в реформах и укреплении профессиональными военными кадрами.
Массивные двери раскрыли свои деревянные ладони, и члены варшавской масонской ложи степенно начали покидать комнату, где только что они посвящали в своё тайное общество двух новых братьев. Последним из помещения вышел Великий магистр Казимир Сапега в сопровождении Тадеуша Костюшко. Они прошли по длинному коридору и зашли в отдельный кабинет, где переоделись, приняв облик обычных людей, каких любой смертный человек может повсеместно встретить на своём пути.
— В ближайшее время тебя вызовет на аудиенцию король, — сообщил новость товарищу Сапега, расположившись с ним за большим массивным круглым столом. — Вопрос идёт о присвоении тебе звания генерала и передаче под твоё командование дивизии в одном из воеводств.
— Откуда у тебя такие сведения? — спросил Костюшко, почти никак не отреагировав на такое сообщение. Только желваки на его щеках начали перекатываться, словно небольшие шарики под кожей, выдавая его волнение от неожиданной новости.
— Добрые люди сообщили, — усмехнулся магистр варшавских масонов. — Надеюсь, я сегодня сообщил тебе хорошую новость?
Костюшко скептически улыбнулся. Около пяти лет, после возвращения из Америки, он вёл образ жизни типичного помещика, шляхтича, который проживал в обыкновенной деревне в одноэтажной усадьбе с большой и шумной семьёй брата. А Сапега за это время дослужился до генеральского звания и возглавил инженерный корпус Великого княжества Литовского, созданного недавно по решению сейма. Казалось, Костюшко смирился со своей судьбой отставного генерала американской армии. Иногда он посещал Варшаву или Вильно, встречался со своими друзьями на собраниях масонского общества или в закрытых клубах, где собирались серьёзные шляхтичи и офицеры с революционными настроениями. Они обсуждали будущее своей родины, дискутировали о путях и способах освобождения Речи Посполитой от оккупации со стороны России, Пруссии и Австрии. Там же будущий руководитель Польского восстания познакомился с такими известными патриотами, как Гуго Колонтай, Игнатий Потоцкий и уже признанным в Речи Посполитой поэтом и политиком Юлианом Урсыном Немцевичем. Они, в свою очередь, были тесно связаны с офицерами, готовыми встать в ряды новой польской армии-освободительницы. Республиканец Костюшко всегда был желанным гостем в таких клубах и внимательно прислушивался ко всем выступающим, делая иногда свои замечания и внося предложения, если считал это нужным или необходимым.
Хорошие, дружеские отношения у Костюшко сложились и с любимцем варшавского светского общества Якубом Ясинским. Недавно по рекомендации князя Сапеги король присвоил ему звание подполковника и назначил старшим офицером инженерного корпуса войск Великого княжества Литовского. На первый взгляд, у него и Костюшко было много общего: оба являлись выпускниками Рыцарской школы, оба придерживались республиканских взглядов и мечтали восстановить былое величие своей родины. Правда, иногда Ясинский в разговоре предлагал такие радикальные действия по созданию нового государства, что Костюшко невольно настораживался. В нём не было короля и даже шляхты, там уничтожались все сословия и уравнивались права всех людей. В такие минуты, слушая Ясинского, Костюшко с сомнением покачивал головой, внимательно анализируя высказывания этого офицера.
— Мы создадим совершенно новое общество, — откровенничал Ясинский с Костюшко.
— И каким вы его представляете? — заинтересованно спросил его собеседник.
— Равенство, братство, без шляхты и коронованных особ, — чётко и коротко определил устройство нового государства агрессивно настроенный республиканец.
— Допустим... А король? Что будет с ним? — решил уточнить Костюшко.
— Низложим.
— А если он не согласится?
— Ну, тогда... — Ясинский многозначительно посмотрел на Костюшко.
Костюшко молча уставился на Ясинского, ожидая продолжения фразы. При этом его лицо не выражало никаких эмоций. Якуб не выдержал прямого ожидающего взгляда и отвернулся. Костюшко отпил глоток вина и задумался. Он снова и снова вспоминал слова Ясинского, его выражение лица, горящие глаза.
«Да, — подумал Костюшко, — такие хотят всё разрушить, а взамен предлагают лишь теории. Им бы только ввязаться в бой и повести за собой других, а дальше... Что будет дальше?..»
Участвовал Тадеуш и в светских приёмах благородных обществ, куда его, хоть и редко, но приглашали некоторые представители столичной шляхты. Американский генерал, республиканец, одинокий и симпатичный холостяк на подобных раутах обращал на себя внимание высшего света и превращался в некую трагическую и загадочную личность. Особого внимания Костюшко удостаивался со стороны незамужних паненок с романтическим складом мышления. К тому же он исполнял французские романсы, хорошо рисовал и редко отказывал, если какая-нибудь прелестная особа просила Костюшко нарисовать её портрет. Однако, к огорчению дам, объект их томных волнений и воздыханий не отвечал им взаимностью.
Чаще всего на таких светских приёмах Костюшко находился в окружении молодых офицеров и шляхтичей. Молодые люди, раскрыв свои рты-клювики, окаймлённые пушком, с восторгом слушали его рассказы о борьбе за независимость Соединённых Штатов, о сражениях, в которых принимал участие генерал Костюшко. Иногда они просили его рассказать о Вашингтоне и других известных американских республиканцах. Выполняя их просьбу, Костюшко с такой подробностью и любовью описывал тех, кого хорошо знал, что сам становился в глазах слушателей в один ряд с самыми известными гражданами первой независимой республики в Америке. А Костюшко умел рассказывать и всегда делал это с большим удовольствием. При этом он замечал про себя, что за годы его отсутствия на родине в Речи Посполитой выросло новое поколение молодых патриотов, которым не безразлично, в каком государстве они живут и кто реально осуществляет руководство этим государством.
Ясновельможное панство также не без интереса общалось с Костюшко, беседуя с ним о политике, обсуждая последние новости европейских дворов или просто интересуясь его жизнью и планами на будущее. Иногда собеседник Костюшко делал круглые глаза от удивления, когда тот заявлял, что ничего в своей жизни в ближайшее время менять не собирается, а планирует только увеличить площади посевов гречихи и что-нибудь доделать в своей усадьбе.
Костюшко лукавил: сельская жизнь ему уже приелась и надоела. Когда у него было плохое настроение, он уходил в мастерскую, которую сам оборудовал рядом с конюшней. Там он изготавливал всякие безделушки для детей Иосифа и сельский инвентарь для дома на самодельном токарном станке. Выполняя эту простую и монотонную работу, Тадеуш успокаивался и впадал в умиротворённое состояние, философствуя о мире насущном. При этом он начинал мыслить о развитии материального мира больше с точки зрения его божественного происхождения, чем поддерживал взгляды философов, ставящих под сомнение создание жизни на планете и развитие общества по воле божественной силы.
Тадеуш исправно посещал каждое воскресенье близлежащий костёл, где принимал причастие и искренне молился о прощении своих грехов. Прослушав очередную проповедь, он просил Господа о даровании ему Духа Святого и мудрости в решении его повседневных вопросов, благодарил его за жизнь на этой земле, за пищу и кров, которые он имел каждый день.
Не обошёл Тадеуш Костюшко стороной в молитвах и просьбу наставить его на путь истинный и дать в супруги хорошую и добрую паненку. Однако Господь, видно, почему-то медлил и не внимал его молитвам. Тадеуш так и не смог за эти годы определиться с женитьбой и выбрать себе вторую половинку, хотя многие паненки были совсем не прочь разделить с ним супружеское ложе.
В отличие от своего командира, Томаш недолго оставался свободным от супружеских обязательств. В тот год, когда они вернулись из Америки, он нашёл себе жену, а через год она уже родила ему сына. Тадеуш Костюшко одобрил своего бывшего ординарца и был рад за Томаша и за его простое крестьянское счастье. И когда Тадеуш Костюшко замечал, как тот берёт маленького сына на руки и, шутя, подбрасывает его вверх, то с умилением и тихой грустью слушал радостный смех маленького человечка.
С согласия Иосифа бывший генерал американской армии дал «вольную» Томашу и его жене. Однако Томаш воспринял свою свободу спокойно, так как давно уже не чувствовал себя крепостным. Он пожелал остаться в услужении в семье Костюшко, и просьба его, к удовольствию Тадеуша, была удовлетворена.
И так продолжалось до весны 1789 года, когда на одном из варшавских светских балов, куда Тадеуша Костюшко пригласил его товарищ Юлиан Немцевич, он встретил супружескую чету Любомирских, князя Иосифа Любомирского и его жену Людовику.
Словно жаром полыхнуло у него всё внутри, когда он увидел прежнюю возлюбленную. Она ещё похорошела, став матерью троих детей, а её муж, представительный и важный магнат, оказывал жене достойное её красоте и положению внимание. Войдя в большой зал дворца князей Чарторыских, Людовика с улыбкой и без жеманства здоровалась с подругами, жёнами литовских и польских придворных вельмож. Она не сразу заметила и узнала в скромном шляхтиче того молодого капитана, с которым она, пренебрегая родительским благословением, готова была бежать хоть на край света. Но когда они посмотрели друг другу в глаза, только бледность лица и учащённое дыхание могли выдать её волнение от этой неожиданной встречи.
Людовика знала, что Тадеуш Костюшко уже несколько лет находится в Речи Посполитой и что ему отказано в приёме на службу в польскую армию. Сначала она гордилась тем, что её Тадеуш достиг таких высот в армии Соединённых Штатов. Потом княгиня возмущалась, что король проигнорировал генерала американской армии, вынудив его заниматься сельским хозяйством, чтобы выжить и обеспечить себя самым необходимым. В порыве вспыхнувших с новой силой чувств Людовика Любомирская готова была даже пренебречь мнением высшего общества, в котором она чувствовала себя царицей, и встретиться со своей первой любовью. Однако такой встрече до этого бала не суждено было состояться. Тадеуш, к удивлению и разочарованию Людовики, на долгое время добровольно стал затворником сельской жизни. Он редко появлялся в Варшаве, и юные порывы замужней женщины постепенно утихли, как волнение моря после внезапно налетевшего шторма.
В этот вечер судьба всё-таки свела Тадеуша Костюшко и Людовику Любомирскую под одной крышей дворца Чарторыских на званом балу, предоставляя им шанс поговорить и вспомнить годы их молодости. Но разговора и на этот раз не получилось. Костюшко не хотел встречаться на виду у всего высшего варшавского общества с Людовикой, чтобы не давать повода к светским сплетням и не ставить себя и княгиню Любомирскую в двусмысленное положение. Гордость шляхтича и сохранившееся до сих пор нежное чувство к этой женщине подсказали ему, что лучше ему покинуть бал, что он и сделал, удивив своего товарища неожиданным решением.
Но внезапный уход Тадеуша Костюшко в момент прихода на бал супругов Любомирских всё-таки не укрылся от чьих-то внимательных глаз. Уже на следующий день в великосветских салонах Варшавы говорили о Тадеуше и Людовике и о забытой всеми трагической истории их любви. Эти светские сплетни распаляли воображение как молодых паненок, так и дам, имеющих большой жизненный опыт семейной жизни, а американский генерал вновь оказался в центре их интересов. История с попыткой неудачного похищения Людовики капитаном Тадеушем Костюшко всё-таки всплыла после долгих лет забвения. Результатом же обсуждения варшавскими пани и паненками этой драматической истории стало письмо к королю. В нём известные всей Речи Посполитой представительницы прекрасного пола настойчиво просили принять на королевскую службу в польскую армию Тадеуша Бонавентура Костюшко.
Станислав Август Понятовский вертел в руках письмо-прошение и раздумывал, как ему поступить. Это было уже не первое обращение о назначении Костюшко в армию Речи Посполитой. Уже несколько известных магнатов Польши во время приёмов, которые устраивал король при дворе, обращались к нему с аналогичной просьбой. А несколько дней назад по этому же вопросу попросила аудиенции сама княгиня Любомирская... Поразмыслив некоторое время и взвесив все «за» и «против», он предложил князю Михаилу Чарторыскому зайти к нему на важную беседу.
— Помните ли вы ту давнюю историю с лишением капитанского звания шляхтича Тадеуша Бонавентура Костюшко? — спросил король своего постаревшего дядю.
— Который стал генералом американской армии и другом республиканцев Соединённых Штатов? — вопросом на вопрос подтвердил дядя, что с памятью у него всё в порядке.
— Вот, — протянул Станислав Август Понятовский князю письмо, — прочитайте. Жёны польских магнатов встали на защиту этого шляхтича и просто требуют от меня, чтобы я принял его на службу. Каково?! — король играл роль рассерженного монарха, и эта игра ему почти всегда удавалась. — Теперь жёны польских и литовских вельмож будут определять, кто должен служить в нашей армии, — с разыгранным возмущением передавал король содержание письма Михаилу Чарторыскому.
На это наигранное возмущение князь ответил доброй улыбкой и высказал интересное предложение, которого и ждал от него король:
— Ну и дайте ему генеральский чин и отправьте подальше от двора... и семьи Любомирских, — с понятием сложившейся ситуации посоветовал, улыбаясь, мудрый князь.
— Как?! Вы
предлагаете включить Тадеуша Костюшко в список генералов для утверждения его сеймом? — ещё пытался «сопротивляться» король.
— Вот увидите, все будут довольны: Костюшко — полученным званием и службой, Любомирские — прекращением сплетен вокруг их семьи, а возмущённые паненки — справедливым королём, который выполнил их просьбу, — обстоятельно представил всестороннюю выгоду возможного королевского решения старейшина семейства Чарторыских.
«А я — всем вместе и, главное, опытным генералом, который, надеюсь, в будущем станет моим сторонником», — додумал, но не произнёс вслух король, хотя Чарторыский и так был уверен, что Станислав Август Понятовский примет нужное решение.
V

опыта лошадей генерала армии Речи Посполитой Тадеуша Бонавентура Костюшко и его верного ординарца Томаша поднимали пыль с дороги, ведущей к Пинску
[31]. Именно в этот город Костюшко был определён на службу в должности командира дивизии после утверждения его сеймом в звании генерала. Король Станислав Август Понятовский принял верное решение, и уже через месяц после своего назначения на должность командира дивизии Костюшко скакал верхом к пинской городской ратуше, чтобы представиться местной власти.
Пинск был одним из главных белорусских городов, получившим Магдебургское право ещё в 1581 году, и являлся столицей пинской шляхты. Её лучшие представители мало чем уступали по богатству и знатности рода таким известным в Речи Посполитой родам, как Радзивиллы, Сапеги и Хрептовичи. Город находился на перекрёстке торговых путей из Польши в Украину и недавно получил особые привилегии от самого короля. Он посетил Пинск в 1784 году по приглашению одного из известнейших его жителей городского судьи Матеуша Бутрымовича, который красочно описал королю перспективы развития города и всего региона. После возвращения в Варшаву Станислав Август Понятовский отдал соответствующие распоряжения, из казны были выделены деньги, и уже через несколько лет Пинск стал одним из развитых в экономическом плане городов в государстве.
Ещё в молодые годы, закончив Пинский иезуитский коллегиум, Матеуш Бутрымович дослужился до капитана в армии Речи Посполитой, но в 1778 году был сокращён. Активный молодой человек не остался без дела и был приглашён в Пинск на службу Михаилом Казимиром Огинским, известным магнатом, гетманом Великого княжества Литовского. Матеуш Бутрымович оправдал доверие гетмана и вскоре дослужился до пинского мечника, а позднее стал пинским городским судьёй. Именно по его инициативе была проложена насыпная дорога «волынский тракт», ведущая из Пинска в Украину. Не без его участия был осуществлён и проект по созданию водного канала между реками Бугом и Припятью, по которому активно начали сновать баржи с традиционным товаром пинщины. Польский король заметил усердие городского судьи и по просьбе последнего приказал выдать Пинску финансовую помощь и гарантировал пинским купцам таможенные и налоговые льготы при торговле с Украиной.
Ещё на въезде в город Костюшко обратил внимание на красивый одноэтажный дворец с высоким цоколем с небольшим, но великолепным садом. Он по достоинству оценил архитектуру строения и отметил, как удачно вписался дворец в городскую уличную застройку. Сразу было видно, что хозяин этого великолепия, судя по всему, один из влиятельных людей Пинска с хорошим современным вкусом. И Костюшко не ошибся: этот недавно построенный дворец являлся собственностью городского судьи Матеуша Бутрымовича и получил в народе название «Мур».
Проехав с Томашем мимо доминиканского монастыря, генерал Костюшко направился к рыночной площади, расположенной недалеко от костёла Святого Станислава, чтобы там уточнить дорогу к ратуше, основной цели прибытия в этот город. Когда же лошадь Костюшко встала на дыбы, укрощённая твёрдой генеральской рукой, в его сторону удивлённо обернулась девушка, которая о чём-то спорила с торговцем рыбой. Молодое румяное лицо девушки, густые русые волосы и карие глаза сразу обратили на себя внимание серьёзного всадника, и он решил спросить нужное направление почему-то именно у неё.
— А не подскажет ли уважаемая паненка, как проехать к городской ратуше, — спросил генерал простую девушку.
Девушка, как можно было ожидать, не смутилась при виде важной персоны и, сверкнув озорны ми глазами, улыбнулась, а вместо ответа пойнтере совалась:
— А вы и есть тот самый грозный командующий дивизией, прибытие которого все ждут из Варшавы?
Теперь настала очередь удивляться генералу. Недолго думая, он легко соскочил с коня и, держа за поводья молодую и резвую кобылу, подошёл ближе к такой смелой и обаятельной незнакомке.
— А откуда вы знаете про командующего? — спросил Костюшко, пытаясь как-то продолжить разговор.
— Так про это весь город говорит, — не задумываясь, ответила паненка.
— А что ещё говорят про него в вашем городе? — спросил заинтригованный Тадеуш. Ему уже стало интересно, что известно про Тадеуша Костюшко обывателям этого небольшого городка, стоящего на перекрёстке торговых и военных дорог.
— Да всякое... — вдруг опустила глаза девушка и отвернула лицо в сторону, чтобы генерал не видел её лукавой улыбки и горящих от смущения щёк.
— И всё-таки, — не унимался генерал.
Девушка решительно взглянула на него и быстро выпалила:
— Одни говорят, что вы американец, другие, что литвин.
— Ну а третьи?.. — растягивал удовольствие от беседы новым вопросом Костюшко.
— Третьи, что вы холостой и будете самым завидным женихом в городе, — ответила паненка и звонко рассмеялась.
Костюшко, поддавшись обаянию молодости и задорному смеху, тоже рассмеялся, а за ними стал хохотать и Томаш, до сих пор сидящий на лошади и ожидающий очередной команды своего командира.
От души насмеявшись, 43-летний генерал вновь обратился к 18-летней девушке:
— Ну а всё-таки, как проехать к городской ратуше?
— Вон за той горой, — показала она рукой куда-то в сторону, — стоит костёл бернардинцев, а за ним вы увидите двухэтажный дом, а рядом много повозок и кучи навоза. Это и есть городская ратуша. Сразу найдёте, не заблудитесь.
Генерал опять улыбнулся, вскочил на лошадь и, обернувшись, после небольшой паузы спросил:
— А как вас зовут, любезная паненка, и откуда вам известны знаки отличия военных?
— Зовут меня Тэкля. Тэкля Журовская... Я дочь хорунжего Журовского. Потому и знаки у военных разбираю, — как-то уже несмело ответила Тэкля, опасаясь, что ей влетит от отца, если он узнает от кого-нибудь об этом разговоре с генералом.
Костюшко вздрогнул: так звали его мать, которая так рано стала вдовой, приняв на себя всю тяжесть домашних дел после смерти мужа, и которую он так нежно любил. Тадеуш тряхнул головой, отгоняя щемящие душу воспоминания, и вновь обратился к девушке:
— Ну, спасибо тебе, Тэкля Журовская. Будь здорова и передай отцу, что у него замечательная дочь, — сказал на прощание Костюшко и дёрнул поводья, направляя лошадь в сторону ратуши.
— А ничего себе генерал, — вдруг раздался голос над ухом Тэкли.
Девушка обернулась на голос и увидела перед собой усатое лицо торговца. Он до сих пор сидел на бочке с рыбой и внимательно прислушивался к разговору, а теперь улыбался и хитро прищуривал свои добрые глаза. А через день в Пинске уже шли разговоры о том, что новый генерал дивизии влюбился в местную паненку, и, возможно, его холостяцкой жизни именно у них в городе (а не и столице) в ближайшее время придёт конец.
Прибыв в дивизию и ознакомившись с порядком, который установил в ней последний командующий, генерал Костюшко сразу отметил для себя уровень боеспособности солдат и офицеров. К сожалению, он ожидал гораздо большего и поэтому сразу наметил те изменения в службе и в обучении вверенного ему подразделения, которые предстояло внести в ближайшее время. Вновь прибывший командир твёрдо решил довести боеготовность дивизии до уровня лучших европейских армий, чтобы с честью представить её, обновлённую и обученную, на ближайших парадах и смотрах, которые ежегодно проводились по указанию короля и сейма.
Как давно не ощущал генерал Костюшко тех знакомых чувств силы и власти единоначалия, когда тысячи людей в общем порыве по его указанию выполняли приказы! Служба для Тадеуша опять стала, как глоток прохладной воды в жаркую по году, когда ещё минуту назад он испытывал сильную жажду, а сейчас получил живительную влагу, пробуждающую его к действию и дающую великую жизненную энергию.
В строевых занятиях, которые ввёл генерал Костюшко в систему, он старался применять свой личный боевой опыт, полученный во время службы в Континентальной армии. Он первый в польской армии ввёл во всех полках совместные тактические занятия всех родов войск, входящих в его дивизию, а также боевую практическую стрельбу, стремительные учебные походные марши и манёвры.
Кто-то из его подчинённых офицеров был недоволен нововведениями, нарушающими привычный жизненный ритм военных гарнизонов. Однако большинство понимало необходимость требований нового командира и с симпатией к нему относилось. Особую популярность Костюшко имел среди молодых офицеров благодаря своему американскому прошлому.
Возвращаясь поздно вечером в свой пустой холостяцкий дом, который снимал генерал Тадеуш Костюшко на окраине города, и поужинав скромной пищей, он ложился на жёсткую кровать и долго не спал, сверля глазами потолок спальни.
«А годы уже не идут, они убегают из моей жизни, чтобы никогда не вернуться, — с грустью думал генерал. — А я по-прежнему один, без семьи и без детей...»
Тадеуш всё чаще вспоминал ту обаятельную девушку, которую он встретил в первый день своего пребывания в Пинске.
«Тэкля Журовская, Тэкля Журовская... — с нежностью повторял про себя он это имя, и ему ужасно захотелось увидеть её снова. — Тэкля Журовская, Тэкля...» — стучали слова маленьким молоточком в его голове, когда он уже уснул.
Рано утром после совещания в штабе дивизии Костюшко попросил задержаться начальника штаба полковника Щетиньского.
— Подскажите мне, полковник, сколько вы служите в этой дивизии? — спросил его командующий.
— Да уже около десяти лет, — удивлённо ответил начальник штаба. — А что?
— Да так, просто интересно. Вы, наверно, хорошо знаете всех офицеров, которые здесь служат? — генерал продолжал спрашивать своего подчинённого, который начал догадываться, что Костюшко расспрашивает его не из праздного любопытства.
— Практически всех, кто пребывает в дивизии на службе, — отрапортовал полковник.
— А хорунжий Журовский знаком вам? — после небольшой паузы поинтересовался Костюшко.
«Так вот оно в чём дело, — сразу смекнул полковник, зачем ведёт эти расспросы командир дивизии. — Значит, не зря люди шепчутся про генерала. А я-то на жену накричал, чтобы не болтала пустое...»
— Так точно, знаком. Служит в четвёртом уланском полку уже года три, — доложил начальник штаба и тут же получил от командира приказ направить проверку в этот полк, а возглавить инспекцию генерал намеревался лично.
Через два дня генерал Костюшко прибыл в четвёртый уланский полк и даже решил устроить там небольшие учения. Оставшись наедине с командиром полка в полевой палатке, Костюшко обратился к нему с необычной просьбой пригласить на беседу хорунжего Журовского. При этом Костюшко заметил про себя, что командир полка ничуть не удивился этому распоряжению.
Когда через полчаса часовой доложил, что хорунжий Журовский прибыл, его пригласили войти, а сам командир полка, сославшись на занятость, получил разрешение от Костюшко удалиться.
— Присаживайтесь, хорунжий, — начал издалека нелёгкий для него разговор Костюшко.
— Спасибо, я постою, — почему-то резко ответил хорунжий генералу и продолжал стоять, вытянувшись перед командиром дивизии, но глаза его смотрели не на генерала, а куда-то за его спину.
Костюшко пришёл в ещё большее волнение и почувствовал, что просто не находит слов, чтобы продолжить разговор. Но говорить что-то нужно, чтобы не казаться смешным перед подчинённым.
Хорунжему Журовскому было примерно около 45 лет, и Костюшко был с ним, похоже, практически одного возраста.
«А ведь Тэкля годится мне в дочери», — вдруг с ужасом подумал Костюшко, представив себя на месте отца своей избранницы.
— Я хотел бы поблагодарить вашу дочь. Она была первой, кто повстречался мне в городе, и указала дорогу... — как-то попытался разговорить Костюшко хорунжего, но тот продолжал молчать. — И благодаря ей я не только быстро добрался к месту назначения, но и узнал все городские новости, — попробовал пошутить генерал.
Хорунжий продолжал молчать.
— Хорунжий, я хотел бы в память об этой встрече пригласить Тэклю и вас с женой на бал, который в честь моего назначения устраивает через неделю городской судья Бутрымович в своём новом дворце. Как вы на это смотрите?! — поставил конкретный вопрос перед Журовским его командир, на который хорунжему нужно было дать такой же конкретный ответ.
— Моя жена не ходит на такие великосветские балы, — наконец Костюшко услышал от Журовского вторую фразу с момента их встречи.
— Простите, — смутился ещё больше Костюшко. — Приходите с дочерью. Вы придёте, хорунжий? — не выдержав напряжения и повысив голос, спросил Костюшко.
— Никак нет, — услышал он в ответ.
— Почему же?
— Я также не посещаю подобные мероприятия, — пояснил Журовский.
— А Тэкля?
— Она уже взрослая, пусть сама решает, — подвёл итог разговору Журовский, и Тадеуш понял, что Тэклю, вероятнее всего, он тоже не увидит.
— Тогда я вас не задерживаю. Вы свободны, — уже твёрдым голосом командира сказал генерал, и хорунжий, козырнув по уставу, вышел из палатки.
VI

тот же вечер между хорунжим Журовским и его единственной дочерью Тэклей произошёл серьёзный разговор, причиной которого был всё тот же генерал Костюшко. В последнее время Тэкля ходила по городу, как героиня французского романа. Слухи о том, что новый командир дивизии обратил свой взор на юную особу и собирается сделать предложение её отцу, стали разрастаться среди пинской шляхты, как снежный ком. Тэкля не опровергала все эти измышления, когда её подруги пытались выведать у неё подробности этой пикантной истории, и ничего не объясняла им. А наигранная таинственность сложившейся ситуации ещё больше подливала масла в огонь страстей, который перекинулся уже в дом Журовского, хотя он этого и не желал.
— Что хочешь мне говори, но не нравится мне этот генерал, — упрямо твердил хорунжий своей дочери в который раз после того, как рассказал ей о приглашении Костюшко, а Тэкля вдруг выразила своё желание туда пойти. — Бродяжничал по Америке десять лет, как казак, ничего не нажил... А до этого дочку у пана Сосновского хотел выкрасть... Ласый на чужие колбасы, — так целый вечер сердито пыхтел трубкой Журовский.
Но Тэкля стояла на своём — она непременно пойдёт на бал. А пока, поджав под себя ноги, девушка сидела на кровати за перегородкой, разделяющей мужскую и женскую половины дома, и обиженно молчала. Ей льстило, что на неё обратил внимание такой известный человек, как генерал Костюшко, и ещё больше тешило её юное самолюбие, что это событие в последнее время оживлённо обсуждала вся пинская шляхта. И если вначале она просто смеялась над этими светскими сплетнями, то сегодня, после того как её отец передал ей приглашение от самого... Теперь она всерьёз задумалась о перспективе стать в ближайшее время генеральшей и даже в мыслях представляла себя рядом с немолодым, но ещё вполне симпатичным и стройным Костюшко.
«А почему бы мне не испытать судьбу? — по-простому размышляла она о возможности вступить в неравный брак. — Я его буду любить. Ведь он будет моим мужем... У нас будут дети, и всё будет замечательно. И через десять лет я буду его любить, и через двадцать, и...
Наконец, после последних слов отца, она не выдержала его ворчания и вскочила с кровати.
— Ну что ты говоришь, чего не знаешь?! — возмутилась она. — Слушаешь лишь бы кого.
— Люди так просто о подобных вещах говорить не будут.
— Да любили они друг друга, отец! А пан Сосновский хотел её за другого отдать... Это как же надо было любить, чтобы согласиться бежать без отцовского благословения?! — мечтательно посмотрела куда-то вдаль Тэкля. — Как это романтично.
— Дурочка ты, дурочка, — ласково и с печалью в голосе сказал Журовский, смотря на свою уже повзрослевшую дочь. Ещё недавно он рассказывал ей старые добрые сказки, а сегодня она грезит о романтической любви. А он, видимо, просто ста реет.
— Ну ты подумай ещё раз: кто он? — пробовал образумить свою несмышлёную дочь Журовский. — Генерал, назначенный командиром дивизии лично королём, в Америке с самим Вашингтоном в друзьях был... А ты кто? Девчонка, дочка обедневшего шляхтича, который зарабатывает себе на жизнь службой в коронных войсках.
— Но он же обыкновенный человек, — не сдавалась Тэкля. — Одинокий и, наверно, поэтому несчастный.
— Это почему же он несчастный? — удивился такой философии хорунжий.
— Да потому, что у тебя есть я, мама, а у него нет никого. Кругом только офицеры и солдаты, — разъясняла Тэкля своему непонятливому отцу простую женскую логику.
Но и Журовский не собирался уступать: как-никак решалась судьба его единственной дочери.
— Ты не очень-то беспокойся за него. Лучше о себе подумай: знаешь, какая молва о нас по всему воеводству идёт? — сделал ещё один шаг отец, чтобы отговорить дочку от посещения бала, на котором соберётся вся именитая пинская шляхта.
— Слышала, — вдруг уже примирительно и спокойно заговорила Тэкля. — На чужой роток не набросишь платок, отец. Поэтому пойдём все вместе. Тебя с мамой ведь тоже приглашали.
— Ладно, иди одна, — сдался Журовский. — Только веди себя достойно.
Тэкля не ожидала от отца такой быстрой капитуляции. Довольная тем, что он дал согласие на посещение такого представительного бала, она подбежала к нему, поцеловала в его заросшую жёсткой щетиной щёку и выскочила из дому. Ей не терпелось поделиться последней новостью со своей лучшей подругой, проживающей по соседству.
От такой неожиданной нежности Журовский ещё больше расстроился и прослезился.
«Как быстро ты выросла, дочка, — подумал он, проводив взглядом Тэклю. — Пора тебе уже и наряды менять...»
Хорунжий вдруг понял, что, кроме дочери, у него с женой нет никого на свете. И если так случится, что генерал Костюшко всё-таки сделает ей предложение выйти за него замуж, а она согласится, то они просто останутся одни в целом мире. Ведь этот американец запросто может её и в Америку увезти.
Некоторые части дворца Бутрымовичей ещё находились в стадии строительства: ощущались запахи краски, кое-где стояли строительные леса, на которых трудились работники. Но в целом дворец уже был готов для проживания и организации различных торжеств, вроде городского бала, на который Бутрымовичи пригласили весь цвет пинской шляхты. Бал обещал быть великолепным и представительным.
Генерал Костюшко, одетый в парадный мундир, прибыл ко дворцу в открытой карете, любезно предоставленной ему Бутрымовичем. Выйдя из кареты, он пересёк полузакрытый парадный двор, обращённый в сторону реки, ещё раз отметив про себя великолепие и архитектуру здания. Войдя в пристроенный ризалит, он попал в просторный вестибюль, а через него в роскошный овальный зал с выходом на террасу.
В огромном зале дворца оркестр играл весь вечер музыку, чередуя быстрые ритмы мазурки с плавными переливами вальса. По залу кружились пары, радуясь счастливым мгновениям свободного движения в такт такой приятной музыке. Кавалеры в восхищении держали своих дам за талию одной рукой, а второй поддерживали их нежные руки.
В самом начале вечера генерал Костюшко стоял в окружении офицеров и воеводы, но постепенно тесный круг мужчин вокруг него начал редеть, как в атаке редеют шеренги строя под выстрелами противника. Офицеры не могли спокойно стоять возле командира, когда кругом столько прекрасных паненок жаждут, чтобы их пригласили на танец. Да и для чего ещё приходить на подобные балы?!
Костюшко старался улыбаться в ответ, когда к нему обращались с каким-нибудь вопросом, и даже что-то отвечать. Но глаза его были печальны и всё время посматривали на массивную входную дверь, откуда он, хоть и с малой надеждой, ожидал появления знакомого и дорогого образа. И всё-таки надежды его сбылись: в дверях показалась Тэкля, которая также оглядела сразу весь зал и очень быстро нашла в нём того, ради которого собралась на бал вся пинская шляхта.
Не только Костюшко, но и все, кто знал или слышал о романтической встрече генерала с простой девушкой, тут же обратили своё внимание на Тэклю. По залу пошёл шёпот, к счастью, заглушаемый звуками музыки. Под взглядами десятков глаз Тэкля подошла к ближайшей колонне и остановилась в ожидании, с волнением разглядывая танцующих.
Костюшко не замедлил подойти к Тэкле.
— Очень рад, что вы приняли моё приглашение, — тихо произнёс Тадеуш, внимательно вглядываясь в юное лицо девушки и восторгаясь его свежестью и открытостью. Большие и наивные глаза Тэкли смотрели с нескрываемым восторгом на Костюшко, который стоял перед ней в полном генеральском облачении и нежно целовал ей при всех руку.
— Здравствуйте, пан генерал, — еле смогла вымолвить она. — Спасибо за приглашение. Я никогда не была на таких светских вечерах, — честно призналась Тэкля, растерянно оглядываясь вокруг.
— Так разрешите пригласить вас на следующий танец? — спросил Тадеуш, надеясь в танце обнять эту юную особу.
— Я-то с удовольствием, но готовы ли вы со мной танцевать, когда вокруг столько великосветских дам, которые только и мечтают быть вашей партнёршей? — уже немного освоившись, вдруг дерзко ответила девушка, заметив устремлённый на них завистливый взгляд стоящих рядом красивых паненок.
Костюшко посмотрел вокруг себя, потом, повернувшись снова к Тэкле, ответил:
— Милая Тэкля, когда я стою рядом с вами, то для меня другие дамы не существуют, я их просто не замечаю.
Этими словами генерал Костюшко совершенно обезоружил Тэклю, и она, торжествующе и гордо посмотрев на своих потенциальных соперниц, молча подала ему руку, когда начался новый танец.
Тадеуш нежно поддерживал в танце лёгкое тело Тэкли и, не отрывая свой взгляд, смотрел на её раскрасневшееся лицо. В какое-то мгновение Тадеушу показалось, что он смотрит не на Тэклю, а на Людовику, но видение в его сознании испарилось так же быстро, как и возникло.
Тэкля же наслаждалась движением под музыку и с трепетом ощущала под своей рукой сильную мужскую руку генерала. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается, тем более танец на балу. Костюшко проводил девушку до колонны, но не отошёл от неё, а предложил Тэкле прогуляться по дворцовому саду. Взволнованная танцем и немного уставшая от нахлынувших на неё эмоций, Тэкля сразу согласилась, и через минуту они уже прогуливались по тенистой аллее, оставив участников бала обсуждать будущее нового командира дивизии.
— Вот так меня и гоняла судьба в этой жизни по разным странам и континентам, а в итоге живу один, без семьи, и мечтаю встретить ту единственную, которая заполнит пустоту в моей душе и в моём доме, — откровенничал Тадеуш перед юной особой. Сам он и не помнил, кому так много рассказывал о себе в последний раз. Наверно, только Томасу Джефферсону когда-то очень-очень давно да родному брату Иосифу, когда долгими зимними вечерами они рассказывали друг другу о своей жизни за восемь лет разлуки.
— Я думаю, что многие девушки этого города были бы счастливы, если бы вы сделали им подобное признание, — искренне удивилась Тэкля рассказу генерала. Она не ожидала таких откровений от человека, который видит её лишь второй раз в жизни и годится в отцы.
— Понимаете, милая Тэкля, я стараюсь уходить на службу пораньше и приходить домой как можно позднее, чтобы оставалось время только на сон и еду, — продолжал изливать накопившуюся в душе горечь Костюшко. — Чем больше свободного времени, тем острее ощущаешь своё одиночество в этом мире.
— Ну, вы ведь такой известный человек, герой, неужели вы не смогли до сих пор найти себе спутницу жизни? — заикаясь от волнения, спросила Тэкля, ожидая, что вот-вот генерал скажет сейчас самое главное, ради чего они уже около часа гуляют по парку.
— Раньше не мог... Но надеюсь, что я её уже нашёл, — Костюшко остановился после последней фразы, осторожно взял Тэклю за плечи и повернул к себе лицом.
— Посмотрите на меня. Вы видите, я уже не молод, но полон сил и желания создать семью. Я хочу сделать вам предложение стать моей женой, дорогая Тэкля, — наконец произнёс Костюшко и понял, что Рубикон перейдён. Теперь или уже никогда...
Тэкля ожидала подобного разговора, но всё равно не нашлась, что ответить. Она была в полном смятении от того, что это всё-таки произошло и теперь ей надо отвечать, а вот эта задача была для неё пока не по силам. Смущаясь ещё больше от того, что Костюшко ждал от неё ответа и молчал, она отвернулась от негр и попробовала его отговорить от данного решения:
— Я простая девушка, дочка хорунжего, обедневшего шляхтича, а вы генерал...
— Я тоже не сразу стал генералом. Ещё недавно я жил в небольшой деревне и помогал брату в управлении поместьем, — напомнил девушке о своём происхождении Костюшко.
— Я не могу сразу принять решение, — уклонилась от прямого ответа Тэкля. Ей вдруг стало страшно, что с момента её согласия в её жизни всё переменится. Она вскоре станет замужней женщиной, будет следовать за своим мужем по гарнизонам или, что вероятнее, годами сидеть дома и с волнением ожидать его возвращения после очередного военного похода. А она ещё так молода и не готова к серьёзной семейной жизни, тем более с таким известным человеком.
— Вас смущает мой возраст? — прямо спросил Костюшко, огорчённый её ответом.
— Дело совсем не в вашем возрасте, — с испугом за свою бестактность возразила Тэкля. — Я приду домой и всё расскажу отцу и маме. Надо же получить от них благословение. Я у родителей единственная дочь, и кроме меня у них никого нет.
— Да-да, конечно. Я вас понимаю... — рассеянно пробормотал генерал, вспомнив гордого хорунжего Журовского и разговор с ним. Тадеуш понимал, что шансов получить от него отцовское благословение на этот брак совсем мало.
— А теперь мне пора домой, — проговорила Тэкля, — а то родители, наверно, ждут меня, не спят, волнуются. Он... — Тэкля замялась, не зная, как объяснить Костюшко неприязнь к нему со стороны отца. — Отец не хотел, чтобы я ходила на этот бал.
— Не хотел потому, что вас пригласил я?
— Не сердитесь на него, — умоляюще сложила на груди руки Тэкля. — Его можно понять, как и меня.
Тадеуш поправил на плече девушки лёгкую шаль, горько усмехнулся и успокаивающим тоном сказал:
— Что вы, я не сержусь и прекрасно его понимаю. Наверно, я бы тоже переживал и волновался, если бы у меня была такая красавица дочь.
Больше Костюшко ничего не говорил, а Тэкля ни о чём не спрашивала его. Они медленно дошли до конца садовой аллеи с красивыми цветочными клумбами, где стояла карета, на которой Костюшко приехал на бал. Кучер, выполняя свою почётную миссию, сердито отмахивался от надоевших комаров и радостно заулыбался, когда увидел генерала. Он готов был ехать куда угодно, лишь бы избавиться от укусов проклятых насекомых.
— Сейчас вас отвезут домой, а я буду ждать ответа столько времени, сколько потребуется для принятия решения вам и вашим родителям, — сказал на прощание генерал, целуя девушке её прохладную руку, разочарованный результатом вечерней прогулки. Повернувшись к кучеру, он приказал ему:
— Отвези паненку туда, куда она скажет. Трогай!
Карета тронулась с места и, слегка качаясь на английских рессорах, плавно покатила по хорошей дороге. А генерал Костюшко ещё долго бродил по вечернему саду. Он вспоминал каждую сказанную им Тэкле фразу, каждое слово, строя догадки, не обидел ли он её чем-нибудь и правильно ли она поняла его признание и предложение.
На следующий день генерал Костюшко занимался своими повседневными делами в штабе дивизии, когда часовой доложил, что к нему прибыл хорунжий Журовский и просит его принять. Костюшко напрягся, как перед дуэлью, застегнул мундир и приказал впустить хорунжего.
Журовский вошёл в комнату и, вытянувшись перед генералом, подал ему лист бумаги.
— Что это? — спросил хорунжего генерал Костюшко.
— Это прошение на перевод в другую дивизию, — чётко ответил хорунжий, не смотря в глаза своему командиру.
— Вот в чём дело... Вы твёрдо решили поменять место службы? — тихо спросил Костюшко, подойдя к нему вплотную. — Ваше решение связано со мной и вашей дочерью?
— Мне дочь вчера рассказала о вашем разговоре и вашем предложении. В связи с этим я прошу вашего разрешения на мой перевод в другое воеводство, — честно признался Журовский.
Тадеуш понял, что и на этот раз счастье не улыбнулось ему, опять прошло мимо.
— Хорунжий, скажите честно, вы считаете, что я не смогу сделать вашу дочь счастливой? — вспылил генерал. — Вас пугает мой возраст? Или есть другие причины вашего отказа выдать замуж за меня вашу дочь?
— Дочь у меня одна, и я хочу, чтобы она была счастлива. И дело не в вашем возрасте или положении, — быстро забормотал хорунжий, пытаясь как-то объяснить генералу своё решение в таком щепетильном вопросе. — Я хочу спасти репутацию Тэкли. И так всё воеводство только и обсуждает отношения американского генерала и моей дочери. А я не верю, что она будет счастлива с вами. Вот и всё, — закончил он свои объяснения, с волнением ожидая решения генерала.
— Если дело не в возрасте, то почему, хорунжий? — продолжал допытываться Костюшко.
— Вы человек не постоянный: сегодня здесь командуете, завтра в Америку уедете... Нет, такая жизнь не для неё, да и не для меня. Она у меня одна. Поймите и отпустите, прошу ради Христа.
«Ну вот и всё. Пусть уезжают. Насильно люб не будешь, — с горечью подумал Костюшко. Он уже принял решение. — А жаль, — вдруг ему в голову пришла шальная мысль, — у нас могли бы быть красивые дети».
Ещё больше расстроившись от этой мысли, Тадеуш охрипшим от волнения голосом произнёс:
— Хорошо, пусть будет по-вашему. Ступайте. Распоряжение о вашем переводе я сегодня же подпишу.
Хорунжий молча быстро вышел из комнаты, оставив на столе генерала своё прошение.
Костюшко в волнении, как раненый зверь в клетке, ещё некоторое время метался по ставшей вдруг очень маленькой комнате, потом вышел наружу и громко крикнул:
— Томаш! Коня мне! Быстро!
Легко вскочив на резвого жеребца, генерал поскакал в сторону реки. Резко осадив лошадь на берегу, он соскочил с её потной спины и широкими шагами подошёл к воде. Сбросив генеральский мундир, он стал плескать на пылающее лицо прохладную воду, пытаясь его остудить, а заодно и те мысли, которые словно в горячке носились и путались в голове.
VII

рогуливаясь по финским укреплениям при Роченсальме, Суворов, будучи в хорошем настроении, заметил про себя: «Знатная получилась крепость. С одним взводом штурмом не взять!». Как всегда, Суворов делал свою оценку предполагаемого противника или тактику ведения штурма предполагаемого укрепления. После того, как под его командованием русская армия захватила турецкий «неприступный» Измаил, о Суворове заговорили по всей Европе. Однако в самой России будущий генералиссимус вдруг оказался в опале и был послан императрицей Екатериной II в Финляндию.
Суворов был человеком амбиций и настроения. Вот и сейчас, вспомнив, как его обошли с наградами и почестями после победы над турками, он расстроился. И было от чего: по прибытии в Санкт-Петербург с лаврами победителя турок и взятия Измаила он рассчитывал на получение долгожданного фельдмаршальского жезла. Но матушка-императрица почему-то встретила его холодно, не ласково, была молчалива с ним и неприветлива. Суворов догадывался, кто сему был причиной. Светлейший князь Потёмкин, который недолюбливал его за язвительный и независимый характер, дал Екатерине II свою характеристику амбициозному, хоть и талантливому полководцу. А иначе и быть не могло. Светлейший князь не мог простить Суворову его гордыню и слова, брошенные им в его сторону при их последней встрече.
После взятия «неприступной» турецкой крепости Суворов прибыл в ставку Потёмкина с докладом. Фаворит русской императрицы светлейший князь, человек, перед которым при встрече кланялись все придворные и иностранные послы в низком поклоне, лично вышел встречать Суворова.
— Виктория! — воскликнул светлейший, раскрывая свои огромные объятия. — И чем только могу я наградить вас за ваши бесценные заслуги, дорогой Александр Васильевич?
Однако лицо Суворова даже не дрогнуло в ответной улыбке. Гордо подняв свой острый подбородок, он с вызовом ответил:
— Ничем, князь. Кроме Бога и государыни, никто наградить меня не может.
Потёмкин остановился, как будто наткнулся на невидимую преграду. Мрачная тень легла на его лицо. Такой оплеухи он давно ни от кого не получал. Никто не посмел бы его так унизить и так ответить на его приветствие, тем более оно было искренним и доброжелательным. Князь ценил тех, кто творил благо для России, и умел щедро награждать таких людей. И вдруг такой плевок в его сторону.
Потёмкин круто развернулся и пошёл в свой кабинет. Суворову ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Сев в кресло, Потёмкин молча уставился на Суворова. Победитель турок понял, что от него ждут рапорта, и сухо доложил о взятии Измаила и потерях с обеих сторон. Потёмкин ничего более не говорил, а только кивал головой. Всё. Суворов понял, что на этом аудиенция закончилась. Он отдал честь и вышел из кабинета.
Когда Потёмкин собрался в Санкт-Петербург для личного доклада императрице Екатерине II о победе и обсуждения условий мирного договора с турками, он вызвал к себе Репнина.
— Завтра я возвращаюсь в Петербург, — сообщил он. — Мне надо кого-то оставить вместо себя возглавить армию: тебя или Суворова. Что ты думаешь на этот счёт? Как мне поступить?
— Если назначить Суворова, то он либо пойдёт брать Константинополь, либо погубит армию.
— Я тоже так считаю, — подвёл итог такому «совещанию» князь и отпустил Репнина.
После этого случая по рекомендации князя Потёмкина русская императрица Екатерина II держала Суворова в резерве. «Суворов надобен для большего», — посоветовал он ей незадолго до своей смерти, а Екатерина II уважала своего бывшего фаворита, доверяла ему во всём и почти всегда делала так, как он советовал.
Наконец, на одном из приёмов, где присутствовал Суворов, она подозвала его к себе и повелела:
— Я решила послать вас, Александр Васильевич, в Финляндию. Осмотрите там границы и предоставьте план их укрепления.
Обиженный таким назначением, Суворов в тот же день покинул столицу и отправился в Финляндию. Там только закончились военные действия, и возникла необходимость в укреплении северных границ напротив шведского опорного пункта Свеаборг. Несмотря на трудные условия работы в северных широтах, на недостаток строительных материалов и рабочих рук, под руководством Суворова вскоре были построены мощные укрепления. И теперь русский полководец с удовольствием их осматривал и был готов штурмовать даже то, что сотворил сам.
Со временем Суворову стало скучно от такого времяпровождения. Он не мыслил себя без военных походов, побед и следовавших за ними наград. Суворов с завистью из Финляндии следил за победами Ушакова на море и Репнина на суше над турками, ожидая своего часа, чтобы броситься в новое сражение и добиться получения желанных званий и почестей любой ценой и через любые жертвы.
VIII

ольский король заметно нервничал: он без всякой надобности перебирал на своём столе бумаги, перекладывая их с места на место, пытаясь тем самым скрыть дрожь в руках. С самого утра он находился в состоянии крайнего возбуждения, и на это была серьёзная причина. В этот день, 3 мая 1791 года, возможно, решится его судьба, определится будущее всего государства.
Деятельность последнего сейма Речи Посполитой постепенно давала свои положительные результаты. Государство активно развивало экономику и культуру, укреплялась армия. После заключения оборонительного польско-прусского трактата
[32], как казалось польскому монарху, Речь Посполитая избавилась от влияния России, а прогрессивная патриотическая партия, которая поддерживала короля, сделалась непобедимой и всемогущей.
Однако реформы, которые бы укрепили государство и позволили ему развиваться, двигались, к сожалению, всё равно медленно. Затруднения в работе сейма возникали из-за консервативной партии во главе с епископом Коссаковским, гетманом Ржевуским и Браницким, которые являлись приверженцами России. Они находились в постоянной связи с российским дипломатическим корпусом, который умело направлял политиков в нужное для России русло.
Станислав Август Понятовский понимал, что необходимо было что-то предпринимать, чтобы изменить существующее в сейме и в стране положение, и он был не одинок в этом желании. Его сторонники Игнатий Потоцкий, ксёндз Гуго Коллонтай, итальянец Сципиона Пиатоли (секретарь и доверенное лицо короля), Немцевич и другие депутаты сейма тайно подготовили проект конституции и ознакомили с ним короля. После того как он отредактировал этот документ, встал вопрос о его принятии на сейме. Вот здесь-то могли возникнуть серьёзные трудности: депутаты сейма, сторонники России, не допустили бы принятия конституции и могли сорвать очередное заседание. Королю ничего не оставалось делать, как согласиться организовать заговор в своём родном государстве. Постепенно количество заговорщиков росло, и наконец пришло время, когда надо было принимать решение.
Проект конституции реформаторы решили внести на рассмотрение депутатов сейма в одно из первых заседаний сразу после Пасхи и принять его без обсуждения. Они рассчитывали, что многие из консерваторов не успеют вернуться в Варшаву после праздников из своих поместий. Своим же сторонникам король разослал письма, в которых торопил их с возвращением в Варшаву, пытаясь опередить оппозиционеров. Однако информация о срочном созыве сейма перестала быть для них тайной. Канцлер Малаховский уже «доложил» российскому послу Якову Булгакову, который недавно заменил Штакельберга, что король со своими сторонниками что-то замышляет, не поставив в известность Россию. Консерваторы также получили предписания срочно вернуться в Варшаву и наметили день сбора 5 мая. Но было уже поздно. Узнав точный день их сбора на сейме, сторонники короля решили ускорить процесс принятия конституции и опередили оппозицию на два дня.
В ночь на 3 мая 1791 года все командиры полков, расположенных в Варшаве, получили приказ о выступлении в направлении замка на Краковском предместье. Никто толком не понимал причину раннего подъёма всех воинских подразделений и не мог объяснить, с какой целью они туда маршируют при полном вооружении. Кто-то высказывал предположение, что умер король Польши, а кто-то уверял, что войска направляются на усмирение городского бунта. Правда, кто и против кого взбунтовался, для всех оставалось загадкой.
Когда войска добрались к месту назначения, их взору открылась удивительная картина. Их встречали не ружейными выстрелами и не возмущёнными криками, а всенародным ликованием и радостью. Отовсюду доносилось громкое «Виват король!», а восторженная толпа из Краковских ворот на руках несла седьмого маршала Малаховского, окружённого депутатами. Из окон соседних домов горожане махали платками и хлопали в ладоши. «Виват король! Виват король!..» — восклицали они. А в сеймовом зале в это время проходило историческое для всей Речи Посполитой событие.
Станислав Август Понятовский не зря так нервничал в то утро. Всё, вроде бы, было подготовлено к принятию конституции, содержание которой коренным образом должно поменять всю систему правления государства, дать ему толчок в развитии всех его структур. Однако оппозиция также была готова к депутатским баталиям. Пока вечером 2 мая патриоты проводили генеральную репетицию завтрашнего сейма в Радзивилловском дворце на Краковском предместье, консерваторы также не дремали. Они собрались на квартире Булгакова, чтобы найти способ сорвать планы патриотов. Но на сейме 3 мая они оказалась в меньшинстве. К тому же толпы ремесленников и купцов заполнили крыльцо, заняли скамьи нижней палаты и готовы были пойти на крайние меры против тех, кто бы помешал патриотам сделать то, ради чего они здесь все собрались. Консерваторы просто испугались революционного взрыва горожан, который мог повлечь цепную реакцию событий, подобных французским.
Только один депутат Сухожеский осмелился выступить против принятия главного закона Речи Посполитой. Сначала он кричал, картинно разрывая на себе одежду:
— Подготовлена революция на гибель свободы!.. Сейм хотят запугать грозящим новым разделом Речи Посполитой!
В ответ на крики представителя консерваторов выступил патриот Тадеуш Матусевич и прочёл донесение от Министерства иностранных дел о сближении прусского и петербургского двора. А это означало только одно: в случае вторжения России Польша окажется в изоляции.
— Мы требуем немедленно найти средство для спасения Отчизны! — громко заявил Игнатий Потоцкий королю, и Станислав Август Понятовский его тотчас озвучил всем депутатам.
— Я вижу спасение государства в сильном правительстве, — пояснил он. — Проект его организации уже готов и совпадает с волей большинства депутатов.
В соответствии со сценарием и генеральной
репетицией раздались громкие голоса:
— Давайте проект! Зачитайте всем этот документ!..
И эти требования были тут же удовлетворены секретарём сейма, который озвучил его содержание под одобрительный гул голосов большинства. Консерваторы поняли, что они проиграли. И тогда их лидер, тот же Сухожеский, сделал последнюю попытку организовать срыв сейма. Он взял за руку своего сына и закричал:
— Я убью себя и своего ребёнка, лишь бы он не дожил до рабства под сенью этой конституции!
Однако сторонники оппозиции поддержали его как-то вяло. Подобные заявления они делать не собирались, а тем более претворять их в жизнь. Патриоты же, наоборот, активизировались и потребовали немедленного принятия проекта. Король согласился.
— Все, кто любит Отечество, должен быть ЗА проект, — король словно указывал, каким должно быть следующее действие депутатов. — Кто ЗА проект, пусть отзовётся!
— Все! Все!.. — громко раздались ответные крики.
Вторичное чтение проекта на сейме даже не заявлялось. Спектакль состоялся к восторгу зрителей и большинства его участников, а Станислав Август Понятовский немедленно присягнул конституции, как только она была принята большинством голосов без обсуждения. Восторженные крики: «Да здравствует конституция!» легко заглушили робкие протесты: «Nie mа zgody»
[33].
— Через мой труп! — крикнул Сухожеский и упал на пол. Все депутаты и сенаторы, кроме оппозиции, последовали в костёл Святого Яна для принесения присяги только что принятому основному закону страны. С улыбками на лицах и восторгом от того, что только что свершилось, они перешагивали через лежащего Сухожеского, не обращая на него внимания.
Мещанство встретило всю процессию криками: «Да здравствует король! Король с народом, народ с королём!». Вслед за мещанами крики приветствия подхватила шляхта. Станислав Август Понятовский сам не ожидал, с каким восторгом его встретят горожане. Ещё недавно его обвиняли в отсутствии воли и попрекали русскими гарнизонами в Варшаве. Одни открыто выражали недовольство его политикой лояльности к русскому двору, а другие, сторонники России, наоборот, угрожали обратиться за военной помощью к Екатерине II и созданием конфедерации. А сегодня все кричали ему «Виват!» и «Да здравствует король!». Станислав Август Понятовский гордился собой и тем, что сейчас происходило на его глазах.
5 мая на очередном заседании сейма депутаты опять восторженно кричали и аплодировали: секретарь зачитал проект закона о равенстве сословий перед законом, что давало мещанам возможность дослужиться до высших чинов. Шляхта также осталась довольной: теперь ей разрешалось заниматься торговлей при сохранении всех прав и привилегий, полученных в прежние времена. Проект был принят единогласно и без рассуждений.
Гетман Браницкий был крайне раздражён и недоволен. Его всё-таки обошли, обвели вокруг пальца, как неопытного мальчишку. Однако он не решился открыто выступить против конституции при таком всенародном ликовании.
«Ну, ничего, ничего, — прошипел он, когда под усмешки Игнатия Потоцкого и его товарищей ставил свою подпись на бумаге, подтверждая свою поддержку конституции. — Мы ещё посмотрим, чья сила возьмёт верх...»
За ним поставили свои подписи и другие его сторонники, которые ещё недавно на сейме кричали «Nie mа zgody». Противники реформ испугались варшавских восторгов, но не отказались от своих убеждений. Они решили затаиться и выждать время, чтобы снова возвысить свой голос, но только при сильной поддержке извне.
В костёле Святого Яна, где собрались офицеры польской армии, было тесно и душно от большого количества военных, которые прибыли в Варшаву для принесения присяги. Командующий пинской дивизией Тадеуш Костюшко присягал на верность конституции в костёле вместе с начальником инженерных войск Казимиром Сапегой и полковником Якубом Ясинским. Исполнив свой долг, они вместе вышли из костёла и направились в офицерский клуб, чтобы обсудить последние события. Костюшко обратил внимание на кожаную лакированную портупею Сапеги. На ней висела бляха с надписью «Король с народом, народ с королём!», а по пути они то и дело встречали шляхтичей, которые носили аналогичные знаки отличия патриотов.
Этот лозунг стал настолько популярен в эти дни, что каждый уважающий себя варшавянин торопился заказать себе бляху с такой же надписью. От мужчин в проявлении патриотических чувств не отставали и женщины. Одна знатная дама появилась в Саксонском саду с голубым поясом, на котором чёрными буквами были выписаны слова: «Король с народом, народ с королём!», и сразу стала законодательницей новой моды. На следующий день сотни варшавянок бросились заказывать себе такие же пояса, чтобы появиться в них перед своими мужьями.
«Да, началось, — размышлял на ходу Костюшко. — Главное, чтобы за бляхами не начались штурмы Бастилий, а может, и того хуже. А очередная война с Россией нам уже обеспечена...»
— Ну что, панове, нахмурились? — обратился Ясинский к Костюшко и Сапеге. Они сидели за одним столом, пили вино и почти ничего не ели. — Наконец-то дождались мы своего часа: Речь Посполитая имеет свою, а не навязанную кем-то конституцию.
— Я принёс присягу конституции, однако нахожу в ней статьи, которые не соответствуют моим убеждениям, — вдруг заявил Сапега.
Костюшко и Ясинский с удивлением посмотрели на него.
— При этом ты первый пришёл на очередное заседание сейма с этой бляхой, — напомнил Ясинский, указывая на портупею генерала. — Впрочем, это все мелочи. Теперь подождём реакции на последние события Пруссии и Австрии, а главное, что скажет Екатерина.
— Ничего она не скажет, — вмешался в разговор Костюшко. — Ей сейчас не до нас: война с турками ещё не окончена. Своё слово она скажет, если Россия и Турция подпишут мирное соглашение.
— Значит, будет война? — спросил Ясинский.
— Даже не сомневайся, — уверенно ответил за Костюшко Сапега. — Российская императрица не простит Понятовскому его вольностей. Гетман Браницкий со своими сторонниками, я думаю, ещё подольёт масла в огонь.
— Что бы ни случилось в будущем, король стал героем в глазах народа, — отметил Костюшко. — И я считаю, он это заслужил.
Разошлись офицеры поздно вечером. Каждый возвращался домой со смешанными чувствами ожидания перемен и тревоги. Ведь любые большие перемены в обществе предполагают неопределённость. А так как ты живёшь в этом обществе, то что может быть хуже неопределённости?
IX

тоял тёплый майский день 1791 года. Российская императрица долго ожидала такой чудной погоды, которая никак не хотела устанавливаться на прибалтийском побережье. Наконец она решила прогуляться по саду со своими фрейлинами, а чтобы время не проходило без пользы, Екатерина II пригласила на прогулку Безбородко
[34] с очередным докладом.
— Люблю весну, Александр Андреевич, — глубоко вдыхая свежий морской воздух, признавалась она канцлеру. — Когда наступает май и всё вокруг начинает оживать и цвести, то самой так хочется жить и жить.
— Да полноте, матушка, живите сто лет нам на радость, — немного смущаясь от таких откровенных слов, заметил Безбородко.
— Да уж, с вами проживёшь сто лет. Вон поляки опять, наверно, войну затевают, — как-то сразу сменила тон матушка-государыня. — Вот им моя смерть в радость-то была бы. Так что там у них снова началось? Опять польский сейм с королём не ладит?
— Сейчас как раз наоборот, — поправил Безбородко императрицу. 3 мая радикальная группировка сейма сумела организовать принятие новой конституции. Все европейские дворы сразу же получили об этом уведомления.
Екатерина нахмурилась. Солнечный день её уже не радовал, а Безбородко вызывал раздражение. «Что-то Станислав совсем самовольничает. Без моего согласия — и вдруг конституция! — размышляла императрица. — Однако как не вовремя...»
— Так о чём они там договорились? — в продолжение своих мыслей спросила Екатерина II.
Безбородко открыл свою толстую папку в кожаном переплёте с брильянтовой застёжкой (любил Безбородко красивые и дорогие вещи), нашёл нужную бумагу и зачитал:
— Провозглашена свобода вероисповедания. Отменено liberum veto, а вместо него вводится принятие решений большинством голосов, провозглашено верховенство воли народа и во имя государственного равновесия предусматривается разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
— Чувствую дух французских вольнодумцев, — перебила Безбородко императрица. — Читай, читай далее, Александр Андреевич.
— Королевство польское и Великое княжество Литовское признано одним государством, титул короля отныне передаётся по наследству, а право шляхты создавать конфедерации отменяется. Кроме этого, третье сословие наделяется избирательными правами и может приобретать в собственность землю.
— А когда ты получил эту бумагу? — спросила Екатерина, кивая на листок, который продолжал держать в руке Безбородко.
— Через два дня после того, как депутаты сейма присягнули конституции на Евангелии в костёле Святого Яна. Батурин отписал во всех подробностях.
Екатерина усмехнулась. «Ну что же, эти вольности сейма и Понятовского дадут нам ещё один повод поддержать недовольную шляхту, а таких в Речи Посполитой всегда хватает, — рассуждала Екатерина, продолжая свою неспешную прогулку в сопровождении Безбородко. — Ах, как сейчас радуется король Пруссии. Теперь у него опять появилась возможность оторвать от Польши ещё один кусок и добавить к старому прусскому пирогу. Надо будет подумать, что ему уступить, а что включить в наши границы. Австрийцы тоже не останутся в стороне...»
Благородные идеи равенства людей и религий, о которых когда-то любила поговорить с Дидро и обсудить в письмах с Вольтером молодая Екатерина, уже давно не волновали постаревшую и мудрую Екатерину Великую. Как это не парадоксально, но принятие сеймом Конституции 3 мая было выгодно России и двум её союзникам: Пруссии и Австрии. Теперь осталось только подобрать нужных недовольных и создать то, против чего ещё почти двадцать лет назад воевала Россия и добилась первого разделения Речи Посполитой. Конфедерация — вот что нужно было России и её союзникам, чтобы соблюсти международные правила приличия. А дальше необходимо только скорректировать старый сценарий.
— Ну и чем мы ответим им на этот открытый вызов? — обратилась Екатерина к Безбородко.
— Вам решать, матушка-государыня, — пожал тот плечами, хотя уже подготовил проект письма русскому дипломату в Речи Посполитой с инструкциями.
— Подготовь письмо королю и сейму с предложением отменить эту конституцию, — Екатерина решила до конца соблюсти видимость миролюбивых порывов.
— Так не отменят же, — с сомнением проговорил Безбородко.
— Тогда мы опять пошлём войска, раз не поймут по-хорошему. Тем более, турецкая кампания, надеюсь, скоро закончится, а армия должна быть всегда в действии...
Безбородко был умным и дальновидным политиком. Он предполагал, каков будет ответ из Польши на российский ультиматум и какие события последуют после этого.
— У нас есть союзники среди части польских вельмож, которые относятся с опаской к подобным революционным преобразованиям и уже высказывали недовольство ущемлением их исконных прав, — поделился своим мнением Безбородко, предугадывая решение своей государыни (за это она его и ценила). — Я думаю, что они не захотят повторения в Польше событий, подобных Французской революции.
— Вот их мы и поддержим. Надо всё поставить на старое место, — подтвердила вслух свои мысли Екатерина. — Король не пойдёт против своих магнатов. С кем же тогда он останется? С мелкой шляхтой? А пока мы будем зрителями событий в Польше. Пока.
Императрица на минуту задумалась. Направить войска на территорию Речи Посполитой она сейчас не могла: необходимо было закончить войну с турками.
— Вот что, Александр Андреевич, — уже более спокойно распорядилась императрица, — начинай с князем Потёмкиным переговоры с турками по заключению мирного соглашения, а поляками займёмся по дипломатическим каналам. А не поймут, будем действовать иначе.
Безбородко поклонился матушке-государыне. Придворный чиновник остался доволен своей предусмотрительностью: уже на следующий день дипломатическая почта под усиленной охраной отправилась в Речь Посполитую, Австрию и Пруссию.
Противники и недовольные Конституцией 3 мая были поддержаны Екатериной Великой. Потоцкий и Ржевуский прибыли в Яссы к Безбородко, который там вёл переговоры с Турцией о мире после внезапной смерти Потёмкина. Там же они вместе с российским дипломатом провели совещание и составили планы отмены конституции. Но только после заключения русско-турецкого мира Потоцкий и Ржевуский прибыли в Петербург, где к ним присоединился и гетман Браницкий. При участии генерала Попова они составили Акт конфедерации, в котором от имени польского народа просили помочь восстановить республиканские свободы в Речи Посполитой. Основания для подобного шага были приведены серьёзные: насилия и преступления со стороны сейма, преследования российских подданных и незаконное свержение республиканского правительства. Таким образом, вопреки основному закону государства, в Речи Посполитой была создана Тарговицкая конфедерация. Екатерина II не могла не прислушаться к такому «зову о помощи». Хитрая и терпеливая, она всё правильно рассчитала. Ей было выгодно, чтобы конституция расколола Речь Посполитую, что и произошло. Такой раскол давал возможность России вновь «цивилизованно» вмешаться в её внутренние дела, и помощь конфедерации была немедленно оказана.
Русская армия при Екатерине II никогда не оставалась без дела. Прошёл лишь год с момента утверждения и принятия сеймом Речи Посполитой конституции, а уже 18 мая 1792 года Яков Булга ков нанёс визит в Министерство иностранных дел Речи Посполитой. Русский дипломат без малейшего намёка на вежливость, без всяких эмоций вручил министру Хрептовичу гербовую бумагу Российской империи. Это была декларация о вторжении русских войск на территорию Речи Посполитой.
Две русские армии, одна под командованием Михаила Кречетникова, а вторая, южная молдавская, под командованием генерал-аншефа Михаила Каховского, общей численностью около 90 000 солдат, двинулись к границам «взбунтовавшегося» государства. По плану, составленному для русских войск немецким военным стратегом полковником Пистором, обе армии должны были вторгнуться в Польшу одновременно. Первая армия должна была двигаться на Литву, а вторая в Подолию и Волынь. По плану этого немца они должны были подавить сопротивление «бунтарей» и соединиться около Варшавы. Таким образом, силой оружия, Екатерина II собиралась поставить сейм Речи Посполитой «на место», заставив его отказаться от Конституции 3 мая, а заодно от части своих территорий.
Армия Речи Посполитой в ответ смогла собрать под свои знамёна около 57 000 солдат с 300 пушками. При этом, если исключить войска, расположенные в гарнизонах, реально русскому вторжению могли противостоять две польские армии общей численностью 45 000 солдат. Однако ввиду плохой организации и отсутствия единого плана действий, к сожалению, даже эта сила не смогла оказать должного сопротивления. Кроме этого, протяжённость границы её действия определялась от Украины до Курляндии, что также не способствовало успешной организации маневрирования войсками.
По плану, составленному генералами Речи Посполитой, все её вооружённые силы также были разделены на две армии: коронную армию под командованием молодого генерала Юзефа Понятовского и литовскую под командованием бездарного герцога Людвига Вюнтербергского. Как это ни парадоксально, но этот герцог во время войны действовал в согласовании с прусским правительством. А Пруссии не нужна была победа Речи Посполитой. Иначе за счёт каких территорий она расширит свои границы?! Тем более не в её интересах, если в центре Европы укрепится республиканская Речь Посполитая рядом с маленькой, хоть и воинственной Пруссией.
Австрийскому двору также было не до Речи Посполитой. Кажется, ещё недавно, в феврале 1790 года, на австрийский престол вступил наследник покойного Иосифа II Леопольд II, а уже в марте 1792 года его сменил Франц II. Эта чехарда со сменой императоров не позволила Австрии чётко определиться с «польским вопросом», но зато она точно знала, что будет воевать с революционной Францией, которая первая объявила ей войну.
Россию такой политический пасьянс вполне устраивал, а маленькую Пруссию Екатерина II не опасалась. Тем более, что, зная её территориальные интересы, она намеревалась «выделить» ей долю в случае удачного похода на Речь Посполитую, которая осталась одна перед надвигавшейся угрозой.
X

а берегу реки Буг в шатре главнокомандующего армией Юзефа Понятовского с раннего утра собрались на совещание все командиры дивизий и полков. В связи с приближением русской армии в срочном порядке необходимо было решить главный вопрос: встретить русские полки у реки и принять бой либо отойти, сохранив армию для ведения дальнейших военных действий, но уже в более удобной в стратегическом плане обстановке.
Молодой главнокомандующий нервничал и горячился. Ещё недавно Юзеф Антоний Дмитрий Понятовский служил полковником императорских легкоконников в австрийской армии, был личным другом австрийского императора Иосифа II и его флигель-адъютантом. Но в 1789 году после того, как французы перевернули всё с ног на голову, совершив свою революцию, его дядя польский король Станислав Август Понятовский вызвал племянника на родину.
Юзеф Понятовский мечтал о независимости своей родины и был её истинным патриотом. Не долго раздумывая, как ему поступить, он вернулся в Польшу и сразу был назначен начальником штаба реорганизованной армии Речи Посполитой. Когда же началась война с Россией, племяннику короля доверили командование одной из армий. После этого назначения 29-Летний командующий оказался в гуще революционных событий, но уже по польскому сценарию.
После принятия сеймом Речи Посполитой майской Конституции 1791 года Россия потребовала от польского короля объяснений и немедленного отказа от этого важнейшего акта. Не получив ответа на свои требования, императрица Екатерина II решила подтвердить свои требования силой русского оружия.
С начала мая 1792 года армия Каховского в составе корпусов генерал-поручиков Кутузова, Дунина, Дерфельдена и Леванидова с самого начала вторжения в Польшу пыталась навязать главнокомандующему польской армией Юзефу Понятовскому генеральное сражение, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Однако всякий раз, когда Каховский и его генералы пытались окружить армию противника, Понятовский уводил её из опасного положения, ограничиваясь небольшими боями местного значения. Более крупное сражение всё-таки произошло под Зеленцами, но и там Каховскому не удалось разбить полностью польские войска, которые с боями продолжали отступать под натиском более сильного и опытного противника. Растягивая южную армию русских, Понятовский пытался помешать Каховскому собрать все силы в единый мощный кулак. К тому же при отходе поляки сжигали мосты через многочисленные реки, что сильно затрудняло движение всей русской армии. Но русские солдаты упрямо двигались вперёд, и расстояние между противниками постепенно сокращалось. Наконец, на берегу Буга у Дубенки сосредоточилась вся армия Каховского, которая насчитывала 25 000 солдат при 108 орудиях. На другом берегу реки укрепилась армия Понятовского. Его армия в этот момент имела около 16 000 солдат и 42 орудия. Остальная часть армии, которая находилась под командованием князя, была разбросана по всей стране.
Стояла жаркая июльская погода. Юзеф Понятовский достал платок, вытер им потную шею и начал совещание:
— Паны офицеры, я собрал вас, чтобы сообщить о том, что вы и так знаете, — главнокомандующий посмотрел на молчаливых и хмурых полковников и генералов.
Вельгорский, Костюшко, Любомирский, Велевейский и другие командиры молчали. Они уже «устали» отступать, им хотелось в бой, но не такой, когда сотня польских улан меряется силой с сотней казаков, а пушки противников лениво плюют свои ядра на противоположные стороны реки. Все жаждали сражений и побед, а вместо этого уже около месяца их армия показывала русским только свои спины. При таком положении дел однажды Любомирский в ироничной форме высказал своё мнение Понятовскому. Между ними возник при всех присутствующих спор, в ходе которого было сказано немало обидных слов. И этот случай стал подтверждением того, что моральный дух польских солдат и многих командиров стал уже не таким, каким он был в начале войны. Нужна была хоть небольшая, но победа.
Генерал Костюшко внимательно смотрел на Понятовского. Молодой и красивый главнокомандующий уже доказал многим свою храбрость и доблесть. Костюшко относился к нему с большой симпатией не только потому, что Юзеф Понятовский напоминал ему его самого в молодости. При своей популярности и доблести племянник короля в общении с офицерами был не заносчив, его лицо выражало какую-то душевную доброту, а глаза при разговоре подтверждали его искренность.
— Русская армия совсем близко, и у нас есть все шансы завтра вступить с нею в сражение, — продолжал говорить Юзеф Понятовский. — Я хотел бы, Панове, услышать ваше мнение по сложившейся ситуации.
Костюшко потрогал свой гладковыбритый подбородок. Положение было не из простых. Да и бывают ли во время войны простые? Любая неучтённая мелочь может привести к большим потерям либо к поражению. Это понимали, наверно, все, кто присутствовал на этом совещании. Возможно, поэтому никто не хотел брать на себя ответственность, почему все молчали и смотрели на молодого главнокомандующего.
— По нашим данным, у генерала Каховского около 25 000 солдат и более 100 орудий. И это, наверно, не все силы русских. Вступив в генеральное сражение, мы подвергнем всю нашу армию опасности потерпеть поражение, — Понятовский посмотрел на реакцию окружающих командиров на его слова, — либо можем понести тяжёлые потери, которые в самом начале войны нам ни к чему.
— Так вы предлагаете нам продолжать отступление? — опять горячился Любомирский.
Костюшко, в пример Понятовскому, достал платок и вытер им лицо, покрытое каплями пота.
— Ну и жара сегодня стоит,— вдруг сказал он, как будто был не на военном совете, а на летней прогулке, — а скоро ещё жарче будет. Я предлагаю всё-таки принять бой и не дать русским войскам перейти Буг.
Все присутствующие одновременно перевели взгляд на говорившего.
— Конкретно, что вы предлагаете? — нетерпеливо спросил главнокомандующий.
— У нас неплохое стратегическое положение и хорошо укреплённые позиции. Добавьте к этому нашу артиллерию... Я со своей дивизией приму бой и задержу русских у переправы, а остальная часть нашей армии за это время успеет отойти.
Теперь задумался Понятовский. «А ведь он прав, — оценил предложение Костюшко молодой полководец, с благодарностью глядя на генерала. — С одной стороны, мы даём сражение и сохраняем армию, а с другой — в случае успеха поднимется моральный дух нашей армии при минимальных потерях...»
Но вслух сказал другое:
— Я с уважением отношусь к вам, генерал, но мы, получается, опять отступаем.
— Воевать можно по-разному. Сила русских в их прямой атаке всей своей армией, и они стремятся к этому сражению! — пояснял Костюшко суть своей стратегии. — Хотят одним разом покончить с нами, а я предлагаю не идти навстречу их пожеланиям.
Костюшко посмотрел на окружающих его офицеров. Их лица были хмуры. Они уже теряли веру в победу, и это было видно по их молчанию. Однако никто из них не прерывал ни Костюшко, ни Понятовского.
— Если бы Вашингтон в первый год войны принял бой с основными силами англичан в открытом сражении всей своей армией, то был бы разбит уже в самом её начале, — напомнил свой военный опыт Костюшко и добавил: — Тогда бы не было ни Вашингтона, ни Соединённых Штатов.
Юзеф Понятовский колебался: как молодому полководцу, которому король доверил свою армию, ему также хотелось сражений и побед. Тем более что на этой стороне Буга у них была неплохая позиция. Но на карту поставлено слишком многое, чтобы тешить своё самолюбие. Здравый смысл и ответственность за исход противостояния двух армий превысили его амбиции. Он взвесил шансы оказаться победителем и шансы быть битым: во втором варианте шансов было больше, и от этого варианта Юзеф Понятовский решил отказаться.
— Хорошо. Мы принимаем ваше предложение, генерал, — после некоторых размышлений тихо, как бы нехотя, произнёс главнокомандующий. — Какими силами предполагаете вступить в бой? — спросил он Костюшко.
— У меня 5300 солдат и 24 орудия. Я думаю, что этого хватит, чтобы на день задержать Каховского за пределами наших укреплений, — не раздумывая, ответил Костюшко, трезво рассчитав возможные потери нападающих, а также стратегию и тактику обороны. — Главное, что русская армия не имеет своих главных преимуществ, позволяющих развить успех во время атаки: внезапность и возможность атаковать всей свой мощью... — Костюшко увлечённо продолжал рисовать перед собравшимися картину предстоящего сражения.
— Если удастся отбить первую атаку противника, то бой может принять затяжной характер, так как Каховский не рискнёт атаковать всеми силами нашу армию без разведки боем. В то же время ему вряд ли будет известно об отходе наших основных сил.
— Ну, тогда действуйте... — Юзеф Понятовский дал понять, что совещание закончено, и приказал командирам полков оперативно подготовить основную часть армии к отходу. Оставшись один, он с облегчением вздохнул. Теперь, если дивизия Костюшко не выполнит своей задачи, в том будет только его вина. А если получится всё так, как он предположил, то Каховский опять растянет свою армию, и его можно будет бить по частям. У молодого Понятовского по-прежнему не хватало решительности предложить опытному Каховскому дать генеральное сражение.
Костюшко вышел из походной палатки главнокомандующего в возбуждённом состоянии от предстоящего первого и важного сражения с русской армией. Наконец-то он докажет всем, что не зря провёл восемь лет в армии Вашингтона. «Стратегия ведения боя с превосходящими силами противника, основанная на обороне на заранее укреплённых позициях, может не только лишить победы врага, но и принести ему поражение», — всегда доказывал генерал Костюшко особо горячим головам, которые рвались в бой, больше рассчитывая на свою храбрость, внезапность или везение. У каждого полководца своя тактика и стратегия, и каждый по-своему добивается победы... либо терпит поражение.
Генерал Костюшко внимательно изучил рельеф местности и берег реки, где ему предстояло в ближайшее время принять бой с неравными силами противника. Основные силы своей дивизии он распределил на возвышенности. С левого крыла это место огибала река, а с правого его солдат прикрывал густой лес. Болотистая местность между рекой и лесом должна была помешать русской армии быстро продвигаться и нанести неожиданный удар.
Основная часть армии под командованием Юзефа Понятовского в тот же день начала отход, а дивизия Костюшко заняла боевые позиции вдоль реки Буг на протяжении трёх километров. Особое внимание было им уделено переправе, где генерал приказал установить пять орудий, а мост через реку поджечь. Чтобы максимально задержать русских солдат при переправе, Костюшко приказал установить под водой ловушки, создавая для наступающих дополнительные препятствия.
Генерал Каховский не торопился начинать атаку польских позиций. Он не мог точно определить численность армии противника, которая находилась на другом берегу Буга, а об отступлении основных сил ему известно не было. Но сражение всё-таки началось, и началось оно с артиллерийского обстрела польских позиций русскими бомбардирами. Ядра перелетали на другой берег с неприятным для поляков свистом, но большого урона дивизии Костюшко они не принесли. Отвечая редкими выстрелами из своих пушек, польские бомбардиры на своём артиллерийском языке как бы говорили противнику: мы здесь, можете начинать, но основной заряд для вас ещё впереди.
Лишь после того, как Каховский сделал разведку боем, направив к левому крылу противника своих егерей и кавалерию, встреченных 6 эскадронами кавалерии Велевейского, командующий русской армией решил перейти в решительное наступление.
Только в три часа пополудни русская армия тремя колоннами двинулась на укрепления польской армии. При этом, не рискнув идти всей армией напролом через переправу, генерал Каховский часть войск под командованием Салтыкова с двумя батареями егерей и с тремя казачьими полками под командованием Орлова направил в обход влево на правый фланг польской обороны через австрийскую территорию. Не осталось без внимания Каховского и правое крыло атаки, куда двинулись в обход гренадеры Валерьяна Зубова и кавалерия Маркова, поддержанная залпами более двух десятков орудий.
С большим трудом на левом крыле атаки русским солдатам удалось выбить поляков из трёх шанцев из пяти и захватить два шанца на правом. Несколько атак были отбиты дивизией Костюшко с потерями с обеих сторон, но силы были неравны. В ходе боя возникла угроза окружения польских солдат, и Костюшко, выполнив основную задачу задержать русские войска, вовремя заметил опасность. Воспользовавшись густым лесным массивом, скрывавшим его солдат от противника, он приказал отходить и пробиваться с боем через замыкающееся кольцо вражеской армии.
В итоге, когда дивизия Костюшко вырвалась из окружения, Каховский понял, что русские войска задерживала лишь часть армии Юзефа Понятовского, но было уже поздно. Около 4000 русских солдат остались лежать на берегу Буга, навсегда успокоившись в чужой для них земле. А Костюшко, потеряв в этом сражении около девятисот человек, вскоре соединился с основными силами Юзефа Понятовского.
«Однако!..» — с удивлением и одобрением отметил про себя генерал Каховский после сражения позицию и тактику боя, которую выбрал его противник. Только поздно вечером Каховский сумел занять всю территорию, над которой ещё утром располагалась дивизия Костюшко. При этом Каховский не выслал в погоню за отступающими быстрых казаков, опасаясь новых засад и сюрпризов от вражеской армии.
Русская императрица и польский король одинаково положительно восприняли сражение под Дубенкой.
Каховский с подробным описанием своих «манёвров» доложил Екатерине II об очередной победе русской армии над поляками и дальнейшем её продвижении вглубь Польши ближе к Варшаве. Императрица осталась довольна действиями Каховского и велела подготовить новый указ о его награждении.
Станислав Август Понятовский сражение под Дубенкой также воспринял с удовлетворением. По факту, польская армия, даже находясь в меньшинстве, может оказать достойное сопротивление своим врагам. Он высоко оценил заслуги генерала Тадеуша Костюшко и наградил его орденом «Виртути Милитари», самой высокой боевой наградой Речи Посполитой. Генерал Тадеуш Костюшко стал национальным героем, а польские солдаты воспряли духом. Оказывается, успешно сражаться и побеждать противника можно даже в обороне. Но, к сожалению, этот боевой дух у них сохранился не надолго.
После очередного и последнего отступления Юзеф Понятовский получил от вестового офицера пакет из Варшавы. В своём послании король Польши сообщал племяннику, что в связи с возникшей угрозой разорения страны и в целях предупреждения новой гражданской войны он примкнул к Тарговицкой конфедерации. В извиняющемся тоне король предлагал Юзефу Понятовскому прекратить военные действия и в дальнейшем поступать по своему усмотрению, не предлагая ему брать пример со своего коронованного дяди.
XI

а новостями с полей сражений в Речи Посполитой внимательно следили и с другой стороны Европы. Революционная Франция после принятия депутатами сейма Речи Посполитой Конституции 3 мая считала, что с этого момента соседняя страна станет её активным союзником. Как-никак, а идеи, отражённые в этом документе, были близки французским Маратам, Дантонам и Робеспьерам. Этот факт вселял в них надежду, что республиканская Речь Посполитая в ближайшее время сможет при необходимости оказать военную помощь и Франции. Если, конечно, выстоит и победит в этой войне.
Когда на одном из заседаний Конвента докладчик сообщил о сражении под Дубенкой и роли генерала Тадеуша Костюшко в этом эпизоде войны, большой и грузный Дантон внёс историческое предложение:
— Граждане депутаты Конвента Франции! Генерал Тадеуш Костюшко уже был отмечен правительством Соединённых Штатов высшей наградой воинской доблести. Теперь же на полях новых сражений своим мужеством он удостоился права носить и высшую награду Речи Посполитой...
Присутствующий на заседании лидер якобинцев Марат нетерпеливо перебил будущего первого председателя Комитета общественного спасения:
— У вас есть конкретное предложение по этому генералу?
Дантон недолюбливал этого «друга народа» за его резкость и максимализм, но до какого-то момента они были всё-таки союзниками. Продолжая свою торжественную речь, Дантон вновь обратился ко всем присутствующим:
— Тадеуш Костюшко — человек, известный своими республиканскими взглядами, и он является примером борьбы за идеалы Республики. Тем самым, я считаю, он становится в ряд известнейших людей нашего времени.
Дантон прокашлялся, выпил воды и торжественно завершил свою речь:
— Учитывая заслуги этого человека, предлагаю принять резолюцию от 21 августа 1792 года о присвоении Тадеушу Бонавентура Костюшко звания Почётного гражданина Франции.
Марат опять не удержался и, как профессиональный журналист, язвительно спросил Дантона:
— А как на это посмотрит российский императорский двор? Не осложнит ли подобная резолюция наши отношения с Россией?
— А кто думал об осложнении отношений с Россией, когда революционные массы народа Франции штурмовал Бастилию? — загрохотал Дантон своим басом, известным всем парижанам, когда он выступал на площадях Парижа. — И почему мы должны оглядываться на Россию даже в таких вопросах, как объявление достойных людей почётными гражданами Франции?
— Но Пруссия и Австрия также могут высказать свою ноту протеста по этому поводу, — как бы оправдываясь, оказал последнее сопротивление Марат.
Но Дантона уже невозможно было остановить: он был опять в ударе.
— Мы же не спрашивали ни у кого разрешения, когда присваивали Вашингтону, Песталоцци и Шиллеру звание почётных граждан Республики, — продолжал звучать его трубный голос в овальном зале дворца, куда ещё недавно многих из присутствующих на заседании Конвента не допустили бы даже за оградительный забор. — Французы сами решают, что им делать и как поступать, не оглядываясь на волеизъявления других держав.
Камиль Демулен и другие сторонники Дантона одобрительно загалдели и закивали в знак согласия со своим лидером. Тот же Демулен обратился к депутатам с предложением проголосовать, и все присутствующие дружно подняли свои руки, включая Марата, вверх.
В доме Анны-Катрин на улице Сен-Анн было непривычно тихо. Такая же тишина сохранялась и в других домах французских аристократов. Часть из них покинули Париж и эмигрировали, но некоторые всё-таки остались. Они с тревогой ожидали конца этих ужасных событий, череда которых стремительно сменяла друг друга начиная со дня взятия Бастилии.
В тот злополучный для многих французских аристократов день 14 июля 1789 года Камиль Демулен прикрепил к своей шляпе зелёную ленту и повёл толпы народа, вооружённого ружьями, топорами и просто дубинами, к главной политической крепости Парижа. Бастилия без особого труда была взята, но с этого момента восстание только начало, как маховик, набирать обороты. Остановить его движение в это время не мог ни король со своей гвардией, ни сами руководители восстания, даже если бы и пожелали сделать это. Взяв пример с парижан, восставшие крестьяне начали свой кровавый поход на замки сеньоров, захватывая их земли, а заодно и земли монастырей.
Король признал Учредительное собрание как высший представительный и законодательный орган народа, а для наведения порядка в стране спешно создавалась новая вооружённая сила — Национальная гвардия. Во главе этой новой вооружённой силы стал ветеран Войны за независимость американских колоний бывший маршал Франции маркиз Лафайет
[35].
Прошло чуть больше месяца после взятия Бастилии, когда 26 августа 1789 года Учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. В этом историческом документе было закреплено равенство всех перед законом, народный суверенитет, принцип «дозволено всё, что не запрещено законом» и другие установки революционного правительства. В городах по всей Франции создавались новые, выборные органы власти — муниципалитеты.
Про короля Людовика XVI новая власть тоже не забыла. Лафайету было приказано повести Национальную гвардию на Версаль, в результате чего король покинул свою резиденцию и переехал в Париж во дворец Тюильри. Но и там король со своей семьёй под защитой швейцарских гвардейцев не чувствовал себя в безопасности. Он понимал, что рано или поздно, но за ним придут. Причём придут без приглашения и заберут из дворца не для того, чтобы вести с ним какие-то мирные переговоры. Сознавая опасность, грозившую ему и его семье, Людовик XVI попытался бежать из страны и от народа, который его ненавидел. Он ещё надеялся с помощью иностранных войск подавить восстание и восстановить во Франции абсолютную власть.
В ночь с 20 на 21-е июня 1791 года король со своей женой Марией Антуанеттой тайно выехали из Парижа с паспортами на имя русских подданных — барона и баронессы Корф. И неизвестно, как бы повернулась история всей Французской революции, если бы не простой почтовый смотритель Друэ, который в городке Варени опознал королевскую чету и поднял тревогу.
Людовик XVI с женой были задержаны и отправлены под конвоем в Париж, а иностранные войска так и не были направлены соседями-монархами во Францию и не смогли прийти вовремя на помощь низложенному королю. А то, чего опасался Людовик XVI, всё-таки произошло: 10 августа 1792 года около 20 000 повстанцев окружили королевский дворец и штурмом взяли его. Верные присяге и долгу, несколько тысяч швейцарских гвардейцев пытались оказать сопротивление, но были все перебиты штурмующими. Французский король отрёкся от престола, но это его уже спасти не могло: Людовик XVI и его семья были арестованы и ожидали суда.
Весь в кровоточащих ранах, но чудом уцелевший в той бойне у дворца Тюильри, Питер Цельтнер под покровом ночи еле добрался до знакомого дома на улице Сен-Анн. Он долго пытался достучаться, но ему никто не открыл дверь. И только ранним утром служанка мадам Анны-Катрин нашла его без сознания от потери крови у дверей особняка. Убедившись, что на улице в такой ранний час никого нет, она с помощью дворецкого Шарля затащила бесчувственное тело швейцарца внутрь помещения. Поэтому в доме на улице Сен-Анн в эти тревожные дни революционных потрясений было особенно тихо.
При хорошем уходе и благодаря своему могучему здоровью Питер Цельтнер быстро пошёл на поправку. Уже через месяц с чужим паспортом, купленным за большие деньги, он пересёк французскую границу и вскоре оказался в родной Швейцарии в своей семье в Салюрне.
XII

аршава, как и Париж, бурлила в волнах политических страстей. Тарговицкая конфедерация, поддержанная армиями России, Пруссии и Австрии, вышла победителем. В то же время король Станислав Август Понятовский, не сумев сплотить вокруг себя нацию и оказать должного сопротивления оккупантам, перешёл на сторону сильных. В глазах патриотов Речи Посполитой он выглядел предателем родины, человеком-куклой, которой играют ради забавы властители мира, перебрасывая её друг другу по мере необходимости. Многие из тех, кто по первому зову родины встал в ряды её защитников, после окончания военных действий и второго раздела Речи Посполитой навсегда, как им казалось тогда, покинули её. Некоторые из них всё же не потеряли надежду, что придёт то время, когда появится лидер нации, который сумеет собрать всех патриотов, чтобы с оружием в руках вернуть родине независимость и былое величие.
Однако нельзя судить строго последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Чтобы ответить на вопрос, почему он так поступил, лучше всего поставить себя на его место.
Станислав Август Понятовский примерил на себя польскую корону не ради праздной жизни. Будучи литовским вельможей и принадлежа к древнему роду литовских аристократов, он и так чувствовал себя неплохо при дворах различных европейских монархов. Но судьба подбросила ему шанс стать королём. На что он надеялся и на что рассчитывал, когда на семейном совете рода Станислав Понятовский решился нести эту ношу?
После Августа III ему досталась страна с пустой казной, неуправляемым сеймом, с постоянными угрозами со стороны шляхты создать новую коп федерацию и развязать гражданскую войну в Речи Посполитой. Постоянная угроза России, Пруссии и Австрии ввести войска на территорию страны ли шали короля всякой перспективы что-либо изменить в сложившейся ситуации.
Будучи просвещённым человеком, он понимал, что его родина, вся система государственного устройства нуждается в реформации, а любые реформы дорого стоят. Какова же будет цена таким преобразованиям, будущий король если не знал, то предполагал. И всё-таки он решился и принял на себя всю ответственность за будущее Речи Посполитой! И сразу случилось то, что и должно было случиться по его
предположению, — была создана Барская конфедерация, в стране началась гражданская война, повлёкшая первый раздел Польши и её разорение.
Получив опыт правления, польский монарх сумел не только поднять экономику страны, увеличить её народонаселение, реформировать образование и структуры государственного устройства и управления. Используя свой богатый опыт на дипломатическом поприще и создания придворных интриг, ему удалось «усыпить» бдительность своей покровительницы российской императрицы Екатерины II, а также австрийского и прусского королей. Они довольствовались новыми территориями, присоединёнными к их государствам за счёт раздела Речи Посполитой, и считали польского короля послушной куклой в своих руках.
За прошедшие мирные годы в Речи Посполитой выросло новое поколение со своим новым отношением к жизни, с новым мировоззрением, подпитываемым идеями Руссо, Вольтера, Монтескьё и других прогрессивных мыслителей того времени. Но идея свободы и независимости всегда оставалась в умах патриотов Речи Посполитой. Менялось только их отношение к способам и методам воплощения в жизнь этой идеи.
Наконец закончилась «генеральная репетиция» подготовки Речи Посполитой к преобразованиям, на которой было оглашено основное содержание «спектакля». Четырёхлетний сейм 3 мая 1791 года без согласования с Россией утвердил и принял Конституцию Речи Посполитой (первую в Европе и вторую после Соединённых Штатов). По содержанию этого демократического документа Станислав Август Понятовский оставался монархом, но с ограничением власти. И это его вполне устраивало. Он без всякого принуждения с чистой совестью принёс присягу конституции, которую сам и редактировал. Ведь абсолютной власти он-то и не добивался. Его целью было создание единого мощного государства с развитой экономикой, готового не только к реформам, но и к защите прав на эти реформы. Именно для защиты такого государства и его права на существование Четырёхлетний сейм принял решение о создании стотысячной армии. Депутаты этого исторического сейма прекрасно понимали, что эту «вольность» им не простят. И в этом они были совершенно правы.
Армия Речи Посполитой не была ещё готова к сопротивлению армиям трёх европейских держав. К сожалению, сам Станислав Август Понятовский не смог стать тем лидером нации, который повёл бы за собой не только шляхту, но и весь народ. А именно без поддержки народных масс война 1792 года не приняла всенародный характер. Народ уже привык, что по его земле год от года передвигаются полчища войск различных государств. Магнаты страны также вели между собой военные действия, вытаптывая и выжигая пшеничные поля, и поэтому простые люди в своём сознании не разделяли ни Понятовских, ни Чарторыских, ни Екатерину, ни Фридриха... Лишь бы не забирали на войну мужчин, лишь бы жёны не становились вдовами, а дети сиротами.
Кроме этого, Речь Посполитая не смогла, как планировала, поставить под ружьё стотысячную армию, а среди командующих армиями, разбросанными на огромной территории, не было единства в тактике и стратегии ведения военных действий. А тут ещё Тарговидкая конфедерация.
Перед польским королём встал извечный вопрос: «Что делать?». Станислав Август Понятовский видел, что эта война пошла не так, как он рассчитывал, присягая в костёле Святого Яна. Армия Юзефа Понятовского отступала к Варшаве под натиском русских войск. С севера страны также не присылали торжествующих сообщений о победах польского оружия, а три вражеские армии уже маршировали по дорогам Польши и Литвы. Успешное сопротивление дивизии Костюшко русской армии под Дубенкой хоть на время и подняло моральный дух польских солдат, но всё равно не повлияло на истинное положение вооружённых сил Речи Посполитой. Можно было, конечно, продолжать войну «до победного конца», но только чья это будет победа и какой будет конец? Тарговицкая конфедерация могла развязать новую гражданскую войну, которая ввергла бы страну в новое обнищание, экономическую разруху и хаос. А начинать всё заново, как это было после 1772 года, у Станислава Понятовского не было ни времени, ни сил. Да и вряд ли бы он остался у власти, если бы не перешёл на сторону лидеров Тарговицкой конфедерации.
17 июня 1793 года в Гродно собрался последний сейм Речи Посполитой. Избрание депутатов на это представительское государственное собрание проходило под давлением русского оружия. Иногда обходились и без штыков: нужная кандидатура просто определялась какой-то суммой русских рублей. Уже на первом заседании «по рекомендации» русского чрезвычайного посла барона Ивана Сиверса сеймовым маршалком был избран депутат из Варшавы Станислав Белиньский. В столице он был широко известен своим мотовством и развратным поведением. При этом был нарушен закон Речи Посполитой, так как во время существования конфедерации должны председательствовать коронный и литовский маршалки. А Белиньский был только коронным чашником. Однако Сиверса и его сторонников данный факт не смущал. Главное, этот человек верно играл свою роль по заранее написанному сценарию.
В конце концов, после продолжительных дебатов, протестов оппозиции и самого короля, 22 июля 1793 года делегация, назначенная для ведения переговоров с петербургским двором, подписала трактат о втором разделе страны. А 17 августа этого же года он был ратифицирован сеймом, который не мог сопротивляться, когда Сиверс приказал войскам окружить сеймовый зал, арестовать нескольких послов и секвестровать королевские доходы.
Однако патриотам, которые с оружием в руках со всей Европы явились по зову Четырёхлетнего сейма для защиты своей родины, была уже неинтересна эта борьба в залах заседаний. Разочарованные поступком своего короля и сейма, многие офицеры армии Речи Посполитой подали в отставку и покинули страну. Тадеуш Костюшко также оказался в их числе одним из первых.
XIII
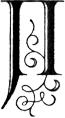
рошло уже две недели, как закончились военные действия, а генерал Костюшко ещё находился в Варшаве и уныло сидел в одном из офицерских клубов. С совершенно равно душным выражением лица он потягивал вино и тупо смотрел на огонь горящей свечи, стоявшей на его столе. Узнав о присоединении короля к конфедерации, генералы Михаил Вельгорский и Станислав Мокроноский от имени армии срочно направились в Варшаву. Они ещё надеялись удержать Станислава Августа Понятовского от поступка, который они считали предательством. Когда же делегаты вернулись ни с чем, Юзеф Понятовский потребовал от короля лишить его всех званий и должностей. А сегодня утром Костюшко и ещё несколько десятков генералов и офицеров польской армии также подали прошения об отставке. Прошения были приняты и удовлетворены.
«Вот и всё, — думал Костюшко с печалью. — Куда теперь? Опять сеять гречку, но уже с двумя высшими орденами воинской доблести от двух государств?» Горечь от событий последних месяцев душила его, внутри бурлил протест от поражения и не сбывшихся надежд.
После того памятного боя под Дубенкой генерал Костюшко со своей дивизией вскоре догнал армию Понятовского и влился в её ряды с готовностью продолжать сражаться дальше. Его встречали как героя, а король вскоре прислал свой указ о награждении Тадеуша Костюшко высшим орденом военной славы «Виртути Милитари». Но армия Понятовского с боями продолжала отступление.
Но вот настал тот чёрный день, когда главнокомандующий получил письмо из Варшавы. В нём польский король сообщал о своей поддержке Тарговицкой конфедерации и предлагал племяннику прекратить борьбу против русских войск и далее действовать по своему усмотрению в соответствии с обстановкой. Костюшко прекрасно помнил, как Юзеф Понятовский после прочтения письма совершенно сник и сел на стул с отрешённым лицом. Вдруг он вскочил и обратился ко всем присутствующим офицерам:
— Паны офицеры! Предлагаю считать, что это письмо мы не получали и вслух не зачитывали.
Голос командующего, вначале хриплый от волнения, обрёл твёрдость, а тон — уверенность. Молодой и горячий полководец ещё на что-то надеялся. Наверно, на чудо или на удачу...
— Каховский, думается, также получил подобное известие и прекратит военные действия, надеясь на нашу капитуляцию. Вот здесь-то мы на него и нападём! — с юношеским азартом воскликнул Понятовский.
— Фактор неожиданности? — то ли спросил, то ли подтвердил Костюшко.
— Точно. В случае успеха мы сможем раздуть новый пожар сопротивления и уверенности в победе, а победителей не судят, их любят, — сказал Понятовский и посмотрел на Костюшко, как бы прося его поддержки.
Но поддержка не потребовалась: распалённое воображение некоторых офицеров рисовало сражение и поле боя с поражённым на нём противником. «Победа или смерть... Яще польска не згинела», — раздались голоса, и предложение Понятовского было принято.
На следующий же день польская кавалерия напала на два ближайших казачьих полка, но на этом все наступательные действия и закончились. Атака была сорвана, так как за день до этого к казакам прибыло подкрепление, о чём Юзефу Понятовскому не было известно. Главнокомандующий с горечью понял, что война всё-таки проиграна, и предложил генералу Костюшко принять участие в переговорах о перемирии с Каховским.
Через день состоялась встреча двух главнокомандующих противостоящих армий, но долгих переговоров не получилось.
— Я прошу вас прекратить военные действия до получения мною конкретных инструкций из Варшавы, — предложил Понятовский главнокомандующему русской армией.
Каховский внимательно посмотрел на Юзефа Понятовского.
«Молодой, горячий... Далеко пойдёт, если не убьют», — подумал опытный генерал-аншеф, предопределяя его судьбу.
— Наше требование одно — сложить оружие и дать присягу конфедерации, — в ультимативном тоне заявил Каховский парламентёрам.
Литто Понятовского покрылось красными пятна ми. Такого унижения он не ожидал. Однако, оказавшись в роли побеждённого, ему приходилось терпеть.
— Дайте мне на раздумье полтора часа, — попросил он главнокомандующего русской армией хриплым от волнения голосом.
Каховский согласно кивнул.
Не прошло и полутора часов, как Юзеф Понятовский в сопровождении 40 офицеров принял требования генерал-аншефа Каховского. Среди этих офицеров находился и генерал Тадеуш Бонавентура Костюшко...
Воспоминания о капитуляции армии Понятовского постепенно привели мысли Костюшко в какой-то порядок. Злость и обида уступили место разумным размышлениям и анализу.
«Какие просчёты и ошибки допустили Понятовские — коронованный дядя и воинственный племянник, — в чём ошибся он сам?» — анализировал сложившуюся ситуацию Костюшко, но его размышления перебил знакомый с заметным акцентом голос:
— Я приветствую вас, пан генерал!
Тадеуш поднял голову и увидел над собой мощную фигуру Яна Домбровского.
— Коротаете время в одиночестве? — усмехнувшись, спросил бывший бригадир первой бригады кавалерии Велипольской.
Костюшко, соблюдая приличия, встал со своего места и с удовольствием пожал руку Домбровскому. Ему нравился этот боевой офицер. Имея отца австрийца и мать польку, он провёл почти всю молодость в немецкой Саксонии. Там же он получил военное образование и дослужился до чина капитана. Однако Домбровский бросил свою службу в саксонских гарнизонах и немедленно вернулся в Речь Посполитую, как только услышал о призыве Четырёхлетнего сейма встать на защиту своей родины. Видимо, немецкая Саксония не смогла стать для Яна Домбровского отчизной, за которую он был бы готов отдать свою жизнь.
Хоть говорил Домбровский по-польски с большим акцентом, а писал с грубыми ошибками, всё равно он считал Польшу своей родиной, а такие убеждения и чувства Костюшко уважал и ценил...
— Прошу, присаживайтесь, — пригласил Тадеуш офицера.
Тот не стал себя долго упрашивать и заказал себе бокал красного вина.
— Рад вас встретить, генерал, — добродушно начал беседу Домбровский, усевшись рядом с Костюшко за столом.
— Мне тоже приятно общаться с вами, — улыбнувшись, искренне ответил Костюшко. — Я слышал, что несколько офицеров вместе с вами подали прошение об отставке?
— Я решил вернуться служить в саксонскую армию. А что мне здесь делать? — простодушно сообщил Домбровский. Свой долг патриота он с честью выполнил, и теперь стоял на распутье, как и многие офицеры с таким же чувством не исполненного до конца долга.
— Я вас понимаю, — кивнул головой в ответ Костюшко, делая ещё один глоток из своего бокала.
— Ну а что будете делать вы? — полюбопытствовал Домбровский. Он уже знал, что генерал Костюшко также подал прошение об отставке. — Опять вернётесь в Америку к Вашингтону?
Костюшко честно пожал плечами. Он ещё не решил для себя, где будет жить, кем служить и чем вообще заниматься.
— Вероятнее всего, вернусь сначала во Францию. Там у меня достаточно друзей, чтобы со временем определиться в этой жизни, — поделился он своими планами.
— Но там тоже сейчас неспокойно. Вся Франция в огне революции, — предупредил по-дружески Домбровский.
— Ничего, мне не привыкать, — спокойно ответил Костюшко, поставил свой пустой бокал на столик и встал, намереваясь покинуть комнату. Протянув Домбровскому на прощание руку, отстав ной генерал армии Речи Посполитой перед уходом сказал своему товарищу по оружию:
— Я не прощаюсь с вами. Но мне очень хочется сказать до скорой встречи.
Домбровский всё понял и радостно улыбнулся последней фразе Костюшко.
— Я надеюсь, что она действительно будет скорой, — добавил он, крепко пожимая руку человеку, которого искренне уважал.
Костюшко надел треуголку, отдал честь, вышел из комнаты и через несколько секунд скрылся в темноте вечерней улицы Варшавы.
XIV

этот день Париж представлял собой большой улей с людьми, которые стекались в столицу Франции со всех концов страны. И было ради чего! Должна была совершиться казнь последнего короля Франции Людовика XVI. Ради этого страшного спектакля люди различных сословий бросали все свои дела и стремились попасть в Париж, чтобы стать свидетелями сцены казни — отсечения головы самому королю на гильотине.
Когда во Франции начался революционный террор, умный и дальновидный доктор Жозеф Игнас Гильотен посетил своих друзей Робеспьера и Марата с деловым предложением, от которого они не смогли отказаться.
— Казнить приговорённых к смерти старыми, традиционными для Франции четвертованием и колесованием не гуманно, — объяснял профессор анатомии главным революционерам простые истины. — А при применении гильотины казнимый не почувствует ничего, кроме лёгкого ветерка над шеей. Она, гильотина, отсечёт вам голову так быстро, что вы и не заметите, — убеждал доктор Робеспьера и Марата в «гуманности» гильотины как орудия казни, не предполагая, что стал для них пророком их недалёкого будущего. Марат почему-то дал согласие на это «гуманное» орудие только с третьего раза. Как будто предчувствовал, что оно будет испытано и на нём.
Костюшко в эти судьбоносные для Франции дни находился в Париже. Он недавно вернулся в город из Лейпцига, где эмигранты из Речи Посполитой начали свою активную деятельность по подготовке всепольского восстания. Они не могли смириться с тем, что их родина была в очередной раз унижена, а конституция их страны отменена. Костюшко же стал во главе этой бурной организационной деятельности и прибыл в Париж для встречи с самыми влиятельными руководителями французского Конвента. Как почётный гражданин Франции он рассчитывал, что предстоящие переговоры дадут свои положительные результаты.
Такая встреча состоялась, но результатами переговоров Костюшко остался крайне недоволен: революционные представители французского народа восторженно встретили сообщение Костюшко о подготовке восстания в Речи Посполитой против России, Австрии и Пруссии. Однако они совершенно равнодушно отнеслись к предложению Костюшко оказать военную помощь соседнему государству, ссылаясь на то, что революционная армия Франции не сможет в ближайшее время поддержать польское восстание.
— В настоящее время наши солдаты революции защищают южные границы страны и ведут бои на севере Италии, — заявил Робеспьер. — Выделив часть Национальной гвардии для поддержки вашего восстания, мы ослабим французскую армию и подставим под удар все наши революционные завоевания.
Остальные члены Конвента проявили удивительное согласие с Робеспьером и при этом кивали головой, поддерживая его заявление.
Костюшко понял, что ждать помощи от республиканской Франции ему в ближайшее время не следует. Проживая некоторое время в Париже с Юлианом Немцевичем, который стал с недавних пор его активным помощником и соратником, Костюшко всё больше и больше «вживался» в эту новую для него атмосферу революционной действительности, в которой жила столица Франции. И иногда ему становилось не по себе от того, что он видел и слышал, и от тех событий, очевидцем которых являлся.
В день казни последнего французского монарха Костюшко решил попасть туда, где можно было увидеть пока ещё живого Людовика XVI. На всём протяжении предполагаемого пути будущей жертвы стояли солдаты Национальной гвардии, зорко следящие за толпой — вдруг кто-нибудь из сторонников монарха захочет организовать спасение короля и отбить его у охраны?! Но сделать это было практически невозможно: вдоль следования печального кортежа плотной стеной с раннего утра стояли простые французы, жаждущие зрелищ, и понадобилась бы, наверно, целая армия, которая смогла бы разогнать эту разгорячённую ожиданием толпу.
Владельцы домов, расположенных по пути следования кортежа с жертвой революции к месту казни, хорошо заработали в этот день на желающих посмотреть на траурную процессию. Люди готовы были дорого заплатить, чтобы увидеть это зрелище даже с высоты второго или третьего этажа, а также с крыш домов. И с таких жаждущих предприимчивые хозяева взимали приличные суммы денег в зависимости от того, какое место им было определено.
Жан Морель, хозяин одной популярной кофейни, которую любил посещать Костюшко во время своей учёбы в Париже, радостно раскрыл свои объятия, узнав его, когда Тадеуш подошёл к нему и снял шляпу.
— Боже мой! Кого я вижу! Вы ли это? — радостно и удивлённо воскликнул тот, рассматривая своего старого клиента. — Какими судьбами вы оказались в Париже в это смутное время?
— Как-нибудь я подробно расскажу об этом, но не сегодня, — уклончиво ответил сразу на все вопросы гость.
— Понимаю, понимаю... Сейчас многие из нас стараются меньше говорить, а больше слушать, — согласился Жан. — Желаете отобедать, месье?
Костюшко достал из кошелька несколько серебряных экю и положил на стойку перед хозяином.
— Мне нужна комната на втором этаже. Только на завтра.
Жан посчитал монеты, попробовал одну из них на зуб и вернул их обратно Тадеушу.
— К сожалению, не получится. На завтра все комнаты заняты.
Костюшко не взял назад деньги, а положил перед Жаном ещё два экю.
— А может, что-нибудь всё-таки найдём? — спросил он и внимательно посмотрел на Жана.
Хозяин кофейни с тоской посмотрел на серебряные монеты. Жаль было лишаться дополнительного дохода. Всё-таки это были настоящие деньги, а не эти бумажные ассигнаты, которые недавно появились во Франции и не вызывали доверия у населения
[36].
— Если только вы согласитесь побыть в комнате ещё с одним достойным господином, то я постараюсь всё уладить, — предложил Жан и вопросительно уставился на Костюшко. Жан прекрасно понимал, для чего этому месье на завтра понадобилась комната, окна которой выходят на улицу. Ведь завтра по ней провезут в последний путь гражданина Людовика Бурбона, которого ещё недавно во Франции с уважением называли «сир».
— Согласен! — кивнул Костюшко, и хозяин кофейни быстро убрал деньги со стойки в свой кошелёк.
На следующий день ранним утром, когда улицы Парижа ещё не осветило холодное зимнее солнце, Жан любезно проводил Костюшко в свой дом и выделил ему для обозрения улицы комнату на втором этаже. Это было наиболее удобное место, так как высота второго этажа позволяла смотреть поверх голов людей, стоящих на улице под окном. Жан Морель был пронырливый малый и продал заветное место у соседнего окна ещё одному «любителю» таких зрелищ. Хотя подобное соседство было неприятно Тадеушу, но иного варианта у него не было. Он просто терпеливо ожидал момента, чтобы стать свидетелем такого исторического события, как проезд кареты с Людовиком XVI к месту казни.
Медленно текло время ожидания. Костюшко уже второй час сидел у закрытого окна, наблюдая за волнующейся толпой горожан. Ни он, ни второй зритель, мужчина лет 45, одетый в скромный камзол, не пытались завести разговор друг с другом. На первый взгляд, соседа Тадеуша можно было принять за простого буржуа, но шпага с богатой рукоятью, висевшая на боку этого человека, свидетельствовала, что он ранее носил совсем другие одежды, которые шились у отличных и дорогих портных.
Наконец сосед не выдержал и со слегка заметным волнением и сарказмом спросил Костюшко:
— А если «тирана» повезут на казнь другим путём?
— Тогда мы просто посидим с вами и проболтаем наши деньги, — ответил ему Костюшко.
Незнакомец замолчал, но это молчание длилось недолго.
— А я смотрю, вы тоже из неразговорчивых, добавил сосед, теперь уже явно всем видом показывая, что не возражает поговорить.
— Какие тут могут быть разговоры в этот день. Или вы ожидаете от меня каких-то расспросов по вашей персоне? Так вы меня не интересуете, так же, как и я вас, — успокоил Костюшко незнакомца. — Спектакль закончится, мы с вами навсегда расстанемся, и я думаю, что больше никогда не встретимся в этом мире.
— Так вы считаете это спектаклем? — сосед возмущённо выразил недовольство последними словами Тадеуша. — Человека, представителя династии монархов Франции, везут на казнь, как Христа. Вы со своей революцией, которая провозглашает свободу, равенство и братство, считаете это справедливым?
Костюшко промолчал на такое замечание, но задумался над тем, что только что услышал. Он вспомнил о штурме дворца в Тюильри, когда 20 000 повстанцев пытались овладеть последним убежищем короля Франции. Сражение было кровопролитным, а результат плачевным для Людовика XVI: он отрёкся от власти, а сегодня его собираются казнить.
Вспомнил Костюшко и о своём бывшем командире маркизе Лафайете, который с января 1778 года по решению Конгресса Соединённых Штатов возглавил Северную армию, сосредоточенную в районе Олбани, в которой воевал Костюшко в звании полковника инженерной службы. После возвращения Лафайета во Францию в январе 1781 года молодой герой стал самым популярным человеком во Франции и получил от короля чин полевого маршала. Однако с началом революционных действий на родине он стал в оппозицию к королевской семье.
После взятия Бастилии Лафайет был назначен начальником Национальной гвардии и в этой должности стал одним из самых влиятельных людей в государстве. Будучи либералом, мечтающим о совмещении монархии со свободой демократических реформ, он вызвал в отношении себя неприязнь королевской семьи и крайних партий одновременно. И только огромная популярность Лафайета, его республиканские взгляды и прежние заслуги некоторое время не позволяли крайним партиям, возглавляемым такими лидерами, как Марат, выдвигать требование перед Конвентом о его аресте.
После упразднения должности главнокомандующего Национальной гвардией Лафайет ещё находился во Франции и нёс службу в качестве начальника одного из трёх приграничных отрядов Северной армии. Но вскоре после отречения короля Людовика XVI от власти в лагерь к Лафайету прибыли комиссары Законодательного собрания для приведения солдат к присяге на верность недавно провозглашённой Республике. Лафайет не только категорически отказался выполнять их указание, но и приказал своим солдатам арестовать комиссаров. Когда же сведения о самоуправстве маркиза дошли до Парижа, то Законодательное собрание объявило его изменником и потребовало привлечь к ответственности.
— Видите, — кричал Робеспьер, — я был прав, когда требовал расследования по вопросу участия Лафайета в организации побега Людовика Бурбона из Франции. А вы меня тогда не послушали, — неистовствовал он перед депутатами.
Чтобы не попасть под нож гильотины, Лафайет бежал из Франции к австрийцам, где его заподозрили в двуличности. В результате всех событий герой Войны за независимость Соединённых Штатов, генерал американской армии, бывший маршал Франции и бывший начальник Национальной гвардии Франции оказался за решёткой в Ольмюцской крепости.
Про все эти события Костюшко стало известно от друзей, с которыми он общался в Париже после отставки и приезда во Францию. Но о многих подробностях последних дней жизни французского короля Людовика XVI Костюшко, как и многим простым смертным, не было известно.
Только одним отречением короля от власти «представители народа» Франции уже не могли удовлетвориться. В сентябре 1792 года по решению Конвента были казнены около 5000 аристократов, а заодно и личная охрана короля, состоящая из солдат швейцарской гвардии, выполнивших с честью свой последний долг. Нож гильотины совершал свою кровавую работу без остановки и усталости. Только палачи, вершившие, как им казалось, справедливое наказание, прерывали ненадолго свою чёрную работу, и то только для того, чтобы убрать обезглавленные тела и передать право казни своему сменщику.
И завершением расправы над высшей французской аристократией стал суд над гражданином Людовиком Бурбоном и приговор: «Виновен». 16 января 1793 года национальный Конвент провёл поимённое голосование депутатов для вынесения окончательного решения о судьбе подсудимого. 387 депутатов Конвента проголосовали за смертную казнь Людовика Бурбона и 334 — за смертную казнь условно или тюремное заключение. Но только через три дня дебатов, не вынося своё решение на обсуждение народа, национальный Конвент постановил гильотинировать Людовика Бурбона в течение 24 часов.
Об этом решении Людовик XVI узнал, находясь в тюрьме Тампль, где пребывал с момента своего ареста после неудавшегося побега. От этой новости его начало лихорадить, но он взял себя в руки и попросил позвать аббата Эджворта де Фримонта.
— За что меня преследует мой кузен, герцог Орлеанский
[37]? — задал Людовик один из первых вопросов аббату.
Аббат в ответ только пожал плечами и потупил глаза.
В тот же вечер к королю допустили его семью для прощания: жену Марию Антуанетту, сына, дочь и сестру Елизавету. Они долго сидели рядом в молчании, и только рыдания жены и всхлипывания детей прерывали тягостную тишину. Наконец, охрана попросила всех уйти, и только верный слуга Клери остался в тесном помещении с приговорённым.
В 5 часов утра Клери выбрался из своего угла и разбудил Людовика XVI, который всю ночь не спал и забылся только под утро, измученный тягостным ожиданием наступления своего последнего дня. После того, как камердинер причесал короля, Людовик достал из карманных часов своё обручальное кольцо, надел на палец и приготовился к обедне, которую отслужил всё тот же аббат Эджворт. До этого момента Людовик всё делал механически, молча, с достоинством, как в обычной жизни, но после обедни его начал бить озноб, как от холода: дрожали руки, тряслась челюсть, плохо слушались ноги... Однако Людовик смог побороть страх приближающегося конца земной жизни.
В двери комнаты постоянно стучали охранники и смотрели в маленькое окошко.
— Они боятся, как бы я не покончил с собой, — горько усмехаясь, высказал замечание Людовик аббату. — Увы, они плохо меня знают. Покончить с собой было бы слабостью. Нет, если нужно, я сумею умереть!
Одёрнув камзол и посмотрев на прибывших за ним офицеров охраны, он вышел из комнаты с гордо поднятой головой.
Во дворе тюрьмы уже стояла карета, вокруг которой застыли в ожидании конные гвардейцы. «Ну вот и всё, — подумал с горечью Людовик. — Пора на встречу с Богом...» Он сел в карету и начал молча молиться, а рядом разместились два жандарма и аббат Эджворт, который провожал своего короля к месту казни и также тихо молился за спасение его души.
«А ведь правда, зачем вершить эту казнь? Почему нельзя было просто добиться отречения от престола и изолировать французского короля? — размышлял Костюшко, находясь в состоянии тягостного ожидания. — Не исключено, что во Франции может произойти переворот или новая революция, которая приведёт к власти сторонников монархии. В таком случае всегда найдётся кандидат на место монарха (свято место пусто не бывает), который станет родоначальником новой династии, даже если родословная Людовика прекратит своё существование на нём или на его сыне? Что намеченная казнь изменит в этом историческом процессе?..»
— Знаете, я не француз и мне сложно давать оценку поведения этих людей, — Костюшко после продолжительного молчания и размышления указал незнакомцу на стоящую внизу толпу. — Но ведь и вы пришли сюда, как и они, со своей определённой целью. И, прошу заметить, я не спрашиваю вас, с какой.
Оба неразговорчивых соседа замолчали уже надолго. Каждый думал о своём, и Костюшко вновь и вновь задавал себе вопрос: «Что казнь даст этим людям, новой власти? Ведь лишение жизни королевской особы является лишь демонстрацией своей силы и возможностей... Смотрите, мы казним самого короля! Тирана, который единолично управлял страной и повелевал нашими жизнями, а теперь он всецело находится в нашей власти, и мы решаем его судьбу, как захотим!..»
Размышления Тадеуша прервал рёв толпы, которая заметила карету, везущую Людовика XVI из тюрьмы Тампль в его последний путь. Жертва сидела в карете в полном молчании, а рядом с ним был единственный близкий ему человек аббат Эджворт де Фримонт, сопровождавший гражданина Людовика Бурбона до самого эшафота. Людовик понимал, что этот последний его земной путь скоро закончится. Но страшней всего было для Людовика в этот миг не сам факт приближающейся смерти, а то, что его жизнь оборвётся под ножом гильотины, на эшафоте под дикие возгласы толпы людей, которые ещё недавно были его подданными.
— Смерть деспоту! Казнить его! — то тут, то там доносились яростные крики.
Когда Костюшко слышал эти возгласы, он с горечью подумал о том, как быстро меняется настроение толпы. Ещё недавно парижане приветствовали своего короля совсем другими словами, а сегодня они жаждали его крови.
Но были и другие участники этого действа. Они стояли молча, без криков и разговоров, в недоумении рассматривая окружающих людей. Когда же показалась ожидаемая процессия, они с жалостью и какой-то безнадёжностью провожали её взглядом.
В тот момент, когда повозка с Людовиком XVI проезжала мимо окон дома, где находился Костюшко, он заметил, как напрягся незнакомец, как побледнело его лицо, а побелевшие пальцы с силой сжали эфес шпаги.
«Интересно, кто этот человек?» — подумал Костюшко и перевёл взгляд на движущуюся карету. На какой-то миг Костюшко представил себе, что на месте Людовика XVI может быть король Польши Станислав Август Понятовский, и от волнения ладонью провёл по лицу, прогоняя воображаемую картину.
Карета с приговорённым повернула за угол дома, и уже с другой улицы донеслась новая волна гула толпы.
Незнакомец вдруг резко встал и направился к выходу, а Костюшко остался сидеть у окна, погруженный в свои мысли в ожидании, когда толпа зевак рассеется, и он спокойно вернётся к себе в гостиницу. О том, чтобы попасть в качестве зрителя к самому месту казни, Костюшко даже и не помышлял.
Стоящие возле гостиницы люди большей своей массой направились вслед за каретой к площади Революции
[38] в надежде увидеть что-либо из-за толпы горожан и гвардейцев, которые с раннего утра уже стояли возле места предстоящей казни. Но улицы, примыкающие к площади Революции, уже были перекрыты солдатами Национальной гвардии, а вокруг эшафота стояли пушки, направив свои жерла в сторону толпы.
Людовик XVI вышел из кареты и твёрдым шагом пошёл к эшафоту под непрекращающийся грохот барабанов. Где-то в глубине души он ещё не мог поверить в свершившийся факт: государство, монархия, веками установленный порядок — всё рухнуло разом в течение года. Ему хотелось воскликнуть: «Господи! Зачем ты допустил это? За что?..», но никто из всей толпы не почувствовал его душевных мук. Людовик молчал и гордо стоял, осматривая толпу презрительным взглядом, а толпа в ответ также хранила тягостное молчание, ожидая развязки трагедии этого человека. Только непрекращающийся грохот барабанов рвал на части всё его естество, причиняя Людовику дополнительные душевные страдания. В какой-то момент он не выдержал и крикнул срывающимся голосом:
— Замолчите!
Барабанщики восприняли этот крик как приказ и остановили свою барабанную дробь.
На эшафоте к Людовику подошли палачи и застыли в ожидании. Один из них протянул руку к одежде бывшего монарха, но Людовик оттолкнул его и сам снял свой коричневый камзол. Однако палачи в нерешительности продолжали стоять вокруг своей жертвы.
— Что вы хотите? — тихо спросил он.
— Мы должны вас связать, — ответил за всех главный палач Сансон.
Король Франции вдруг закричал:
— Связать?! Меня?!! Я никогда не соглашусь на это! — палачи продолжали стоять вокруг него, не решаясь применять силу. — Делайте, что вам положено, но не пытайтесь меня связать! — уже не говорил, а рычал Людовик. Но вдруг разом сник и обречённо махнул рукой. — Делайте, что хотите, я выпью чашу до дна, — промолвил он и тут же, возвысив голос и повернувшись к толпе, крикнул: — Французы! Я умираю невиновным в преступлениях, в которых меня обвиняют... Я прощаю своим врагам и молю Бога, чтобы Франция...
Генерал Сантер, командующий всей процедурой казни, не стал ждать продолжения последней речи Людовика XVI и что-то гневно прокричал. И тут же вновь ударили барабаны, а палачи начали вязать короля. Через минуту он уже лежал на доске, как жертва на заклании, и нож гильотины в 9 часов 10 минут утра 21 января 1793 года от Рождества Христова в полёте свободного падения с тихим свистом опустился на королевскую шею.
XV

остюшко добрался до гостиницы только к вечеру. По улицам и на площадях Парижа ликующие толпы людей отмечали смерть тирана и деспота, и почти каждый третий утверждал, что он лично присутствовал при казни Людовика Бурбона.
В гостинице Костюшко с волнением ожидал Юлиан Немцевич, встревоженный его долгим отсутствием. Ведь толпа народа, возбуждённая революционными настроениями и сценой казни самого короля, могла принять Костюшко за французского аристократа и учинить над ним самосуд.
— Ну слава богу, явился, — вместо приветствия проговорил Юлиан, выдохнул с облегчением воздух и перекрестился. — А я уже волноваться начал.
Костюшко молча прошёл в гостиную и сел за стол. Некоторое время он сидел, вспоминая картины прошедшего дня, потом повернулся к товарищу и спросил:
— Когда мы должны быть в Дрездене?
— Через неделю. А потом нас ждут в Гродно и Вильне... — доложил Немцевич.
Костюшко согласно кивнул. Времени у них совсем мало, а сделать предстоит ещё многое. В разных странах Костюшко и его соратники образовывали «Союзы», членами которых становились бывшие офицеры польской армии либо простые патриоты Речи Посполитой. У всех их была одна цель — поднять всепольское восстание и освободиться от оккупации Россией, Пруссией и Австрией. Им предстояло возродить новое государство в границах Речи Посполитой до первого её раздела в 1772 году и восстановить первую в Европе конституцию.
Национальная гвардия Франции отбивала атаки регулярной прусской армии и даже стала производить завоевания, оккупируя территории Бельгии, а также левого берега Рейна и Савойи с Ниццей. Значит, не всё потеряно и для Речи Посполитой после её второго раздела. При правильной организации восстания можно ещё не только собрать из патриотов сильную армию, но и поднять на восстание народ. Без поддержки народных масс, без «посполитого рушения» Костюшко вообще не видел смысла борьбы за независимость своей родины и не был уверен в победе восстания. Он был военным и хорошо понимал мощь армий трёх сильнейших европейских государств. Поэтому им нужна была помощь революционной Франции, однако, судя по последним событиям в Париже, в ближайшее время рассчитывать на неё не придётся.
— Всё. Нет больше во Франции короля, — подвёл итог сегодняшнему дню Костюшко. — В этой стране полный хаос, и поэтому ждать помощи с их стороны нам нечего.
Немцевич понимающе кивнул. Раз Тадеуш не хочет рассказывать про то, что он видел, значит, ему это неприятно, и Немцевич корректно ни о чём не стал его расспрашивать.
— Как всё сложно и противоречиво, — вдруг опять заговорил Костюшко после небольшой паузы.
— Ты это о чём? — полюбопытствовал его товарищ.
— Да вот об этом, — кивнул в сторону окна Костюшко. — Стоило ли делать революцию, чтобы потом устраивать такие кровавые спектакли? Сколько за последние месяцы скатилось голов под ножом гильотины? Тысячи. А сколько ещё скатится? Кому это нужно и, главное, есть ли в этом такая необходимость?
— Ты опасаешься, что что-то подобное может произойти у нас? — спросил, задумавшись, Юлиан.
— Опасаюсь, — честно признался Костюшко. — И чем больше я нахожусь здесь, тем больше меня терзают сомнения, тем ли мы идём путём. Не повторится ли всё это, — Костюшко кивнул в сторону окна, — у нас?
Услышать такие откровения от Костюшко Немцевич просто не ожидал. Он начинал понимать, что Тадеуш близко к сердцу принял кровавые события последних месяцев, свидетелями которых они стали в Париже. Понимая душевное состояние товарища, Немцевич решил его отвлечь от мрачных мыслей.
— А ты сходи к знаменитой парижской прорицательнице Марии Ленорман, — полушутя-полусерьёзно предложил Юлиан. — Может, она напророчествует тебе будущее, предскажет, что нас ожидает впереди.
Костюшко улыбнулся подобному предложению. Он слышал не раз о популярности этой особы. Недавно она появилась откуда-то в Париже и открыла свой гадальный салон. Он за короткое время стал настолько известен в столице, что это заведение посетили даже такие революционеры, как Робеспьер и Марат. Представители «старого» времени также не обошли вниманием мадам Ленорман: продажный политический интриган Шарль Талейран решил узнать своё будущее и после сеанса гадания на картах вышел из салона весьма довольный предсказанным.
— А что, может, и схожу, — вдруг заявил Костюшко. — Раз мы в Париже, так почему бы не окунуться один раз в ту жизнь, которой живут сегодня парижане?
Немного удивлённый тем, что Костюшко так быстро принял его шутливое предложение, Немцевич ничего не сказал, а только пожал плечами.
А парижане даже в эти тревожные дни революционных событий каждое утро ходили на работу, рожали детей и провожали на кладбища покойников, заботились о пропитании и постились в дни религиозных праздников. В кофейнях по-прежнему постоянные клиенты просиживали за чашкой кофе с французской булочкой, а любители острых ощущений посещали игорные дома, которые открывались в последнее время в большом количестве
[39].
Но парижане привыкли и к тому, что по дороге к гильотине каждый день на повозках провозят по 40—60 человек, что французские солдаты воюют за идеалы революции где-то на границе с Италией или участвуют в очередном государственном перевороте, а некоторые лидеры Французской революции в это время живут как настоящие буржуа. Например Демурье, бывший лакей госпожи Дюбарри, ловко использовал своё положение и популярность после взятия Бастилии и открыл самый «шикарный» игорный дом в Пале-Рояле. Там во время игры никогда не произносились революционные лозунги и не цитировались республиканские идеи Монтескьё и Руссо, там существовал совсем иной мир и другой дух.
Когда Костюшко вошёл в приёмную Марии Ленорман, там уже сидел какой-то молодой военный небольшого роста в форме генерала французской Национальной гвардии. С виду генерал был похож на итальянца: чёрные волосы, смуглое лицо. Резкие движения и цепкий, оценивающий взгляд карих глаз выдавали в нём импульсивную личность. Генерал почему-то волновался и в ожидании своей очереди нервно постукивал ногой по полу. Костюшко попросил служанку доложить о своём прибытии, а сам уселся в кресло напротив генерала. Не прошло и пяти минут, как двери комнаты, куда желали попасть оба посетителя, открылись. Из глубины затемнённой комнаты вышли миловидная женщина и девушка лет двадцати невысокого роста, которая немного прихрамывала на одну ногу.
— И запомните, мадам, через несколько лет в ваших руках будет судьба всей Франции, — невольно услышал Костюшко страстный шёпот той, что была помоложе, — а в будущем вы станете императрицей, — предрекала она, провожая гостью до входной двери.
Когда же посетительница покинула дом, хромоножка повернулась к сидящему нетерпеливому генералу.
— А, вы уже здесь, генерал Бонапарт! — воскликнула она. — А ваш брак почти свершён, и вам предстоит скорая встреча с вашей будущей супругой. Ну, проходите же, я обязательно уделю внимание будущему императору Франции.
Когда генерал с предсказательницей скрылся в полутёмной комнате, Костюшко подумал: «Какая-то сумасшедшая. Всем предрекает будущее среди императорской семьи. А не вернуться ли мне домой...» Но он не успел совершить задуманное, так как двери в таинственную комнату вновь открылись, и генерал быстрым, почти строевым шагом покинул приёмную, даже не оглянувшись.
— Теперь ваша очередь, — сообщила служанка госпожи Ленорман. — Проходите, — добавила она, и Костюшко повторил недавний путь генерала.
Войдя в затемнённое помещение, он увидел уже знакомую ему женщину, но только
в этот раз она сидела за большим столом, на котором были разбросаны веером игральные карты со странными и непонятными изображениями. На углу стола стоял большой канделябр с пятью горящими свечами, а перед хозяйкой салона лежал большой стеклянный шар с каким-то странным внутренним сиреневым свечением.
— Что вы хотите услышать от меня? — начала гадалка свои предсказания со странного вопроса. — Этот генерал даже не дослушал меня о своей судьбе, а зря... — с огорчением добавила она уставшим грудным голосом, выходящим откуда-то из глубины её небольшого тела. При этом она кивнула головой на дверь, за которой пару минут назад скрылся последний посетитель.
— Будущее, мадам, — ответил ей коротко Костюшко, присаживаясь напротив гадалки в глубокое кресло. — Моё будущее и будущее моей родины...
— Мадемуазель, — поправила его хозяйка салона. — А будущего у вас не будет после того, как вы лишитесь навсегда родины. И это свершится в ближайшее время.
— Я скоро умру? — спросил Костюшко, вдруг проникшись доверием к Ленорман.
Но прорицательница отрицательно покачала головой. Она погладила рукой стеклянный шар и взяла в руки новую колоду карт. Через минуту, разложив на столе несколько картинок, она подняла на Костюшко свои глаза и произнесла:
— Вы проживёте довольно долгую для военного человека жизнь, но родины у вас больше никогда не будет.
Костюшко вышел из салона со странным чувством досады, что ему чего-то не рассказали, что он не услышал главного и важного для него. Но понять до конца и разобраться в своих противоречивых чувствах Тадеуш так и не смог. Видимо, все они одинаковы, эти прорицательницы: наговорят, заинтригуют, а до конца правды всё равно никогда и не скажут. Ведь судьбу человека решают не они.
XVI

один из вечеров 1793 года к неприметному одноэтажному, но просторному дому в Лейпциге подъезжали повозки, из которых выходили и скрывались внутри дома какие-то серьёзные мужчины. При этом они как-то неестественно оглядывались по сторонам, словно высматривали кого-то или, наоборот, опасались, что кто-либо следит за ними.
В просторной большой гостиной с высоким потолком и зашторенными наглухо окнами ярко горели свечи, а посреди комнаты за круглым столом сидели несколько человек. Они тихо о чём-то переговаривались между собой, и на первый взгляд создавалось впечатление, что все присутствующие кого-то ожидают. Генералы Бышевский и Граховский молча стояли у окна, а за столом Гуго Колонтай о чём-то беседовал с. Якубом Ясинским. Остальные участники этого собрания расположились рядом с ними или в соседних комнатах.
Но вот в дверь постучали, и Бышевский поспешил навстречу новому гостю. Буквально через минуту в его сопровождении в комнату вошёл Тадеуш Костюшко. Он подошёл к каждому из присутствующих, чтобы только поздороваться, так как представляться ему не было необходимости. Всем, кто находился в доме, этот гость был хорошо известен, и они с удовольствием обменялись с ним рукопожатием.
Генералы Ясинский, Домбровский и другие бывшие офицеры польской армии, которые после кампании 1792 года подали в отставку и разъехались по европейским странам, прибыли сюда с надеждой вернуться на родину, но уже как освободители. Все они являлись членами патриотического общества «Союз», задачей которого была подготовка всепольского восстания. В душах этих людей бушевал огонь революции, а целью они ставили возрождение независимости своей родины. Именно эти люди стали главными связующими звеньями, которые объединяли патриотов Речи Посполитой с организаторами центра по подготовке восстания против трёх оккупантов их страны: России, Австрии и Пруссии.
Второй раздел родины стал очередным унижением настоящих патриотов Речи Посполитой. Они собрались, чтобы принять решение о начале восстания, определить пути возрождения государства «от моря до моря» и сделать всё, чтобы аннулировать последствия двух разделов своей страны. Конечной целью заговорщиков стояло создание парламентской республики с конституционной монархией или без неё — в зависимости от ситуации, которая может сложиться в ходе восстания. Все собравшиеся прекрасно понимали, что дебаты в данном случае неуместны и излишни, а вооружённая борьба за свободу родины неизбежна. Оставалось только решить два основных вопроса: когда и где начинать и кто возглавит это освободительное движение.
Последний вопрос оказался наиболее сложным. С одной стороны, все понимали, какую огромную ответственность возьмёт на себя «главный начальник» восстания. С другой, некоторые из них не прочь были видеть себя на белом коне во главе нового «посполитого рушения». В конце концов, после долгих споров и обсуждений кандидатур, большинство сошлись на генерале Тадеуше Бонавентура Костюшко. Именно ему на этом совещании генералы и идейные вдохновители всепольского восстания собирались предложить стать во главе дела освобождения Отчизны. Мнение всех было едино: возглавить восстание должен известный всей стране генерал-патриот, который поддерживает республиканские идеи и обладает организаторскими способностями. Кандидатура генерала Тадеуша Бонавентура Костюшко как нельзя лучше подходила в качестве лидера восстания и восставшего народа. Но согласится ли сам Костюшко на роль, которую собирались ему предложить в этот вечер? Какие у него буду требования и планы, каким он сам представляет будущее своей родины, если восстание удастся поднять и оно добьётся своей цели?
Генералы и офицеры с нескрываемым волнением ожидали его прихода, хорошо понимая, что если Костюшко согласится возглавить восстание, то уже в ближайшее время начнётся новая война. И эту войну нельзя будет сравнить по масштабам с войной 1792 года, когда только одно решение Тарговицкой конфедерации смогло свести на нет все статьи Конституции 3 мая.
— Панове, прошу садиться, — попросил генерал Бышевский всех собравшихся занять свои места, взяв на себя роль председателя. — Я не буду представлять вас друг другу. Многие из вас плечом к плечу защищали свободу своей родины и с этой целью сегодня опять собрались вместе.
Бышевский обвёл взглядом всех присутствующих. В этом доме собралась элита польской армии. Любая армия Европы считала бы за честь иметь в своих рядах этих генералов и офицеров с опытом боевых сражений, умеющих воевать и по-настоящему понимающих значение слов «присяга и долг».
— Вы сегодня являетесь посланниками своих «Союзов», организации, которая готовит восстание на всей территории Речи Посполитой. И сегодня мы предлагаем избрать главнокомандующего будущим восстанием, который поведёт нас к победе над нашим общим врагом.
После такого торжественного вступления генерал Бышевский решил, что он не на сейме и долгих дискуссий по этому вопросу проводить не стоит. Поэтому, вдохнув в себя больше воздуха, он высказал главное:
— Мы предлагаем начальником и командующим всеми вооружёнными силами восстания назначить известного всем генерала Тадеуша Бонавентура Костюшко, который присутствует сегодня здесь.
После небольшой паузы, возникающей обычно на подобных важных собраниях, поднялся с места Тадеуш Костюшко. Он сразу дал всем понять, что в курсе, зачем его пригласили на это собрание в этот вечер.
— Панове! Я литвин, а Речь Посполитая моя родина, за которую я готов отдать жизнь, — начал он говорить тихо, но твёрдым голосом. Затем, с вызовом подняв голову, уже громко заявил: — Однако я хочу, чтобы вы знали:
за одну лишь шляхту я сражаться не буду. Я хочу свободы для всего народа и только ей посвящу свою жизнь, — поставил свой ультиматум будущий руководитель восстания.
Костюшко замолчал. Офицеры начали переглядываться между собой, кто-то тихо переговаривался, обсуждая заявление Костюшко. Чтобы как-то сгладить возникшее напряжение, генерал Бышевский, усмехнувшись, его спросил:
— Так, может быть, вы посвятите нас в свои ближайшие планы?
Костюшко понимал, делая своё заявление, что не всем оно понравится. Однако он понимал и то, что если с самого начала не возьмёт организацию восстания в свои руки, то лучше ему воевать простым командиром дивизии, чем руководить неуправляемой вооружённой массой людей. Такая «армия» будет постоянно отступать перед более организованным, а следовательно, и боеспособным противником, а в первом же крупном сражении будет разбита. Тем более предстоящая война должна превзойти по масштабам и территории военных действий все предыдущие.
— План мой таков: сначала выработать самостоятельную государственную концепцию развития Речи Посполитой. Наша родина должна, наконец, стать обществом, состоящим из свободных крестьян, собственников земли, ремесленников и купцов...
Среди собравшихся опять послышался недовольный шёпот, который сразу насторожил Костюшко. Некоторые из тех, кто в этот вечер пришёл на собрание, не ожидали такого подхода Костюшко к самой подготовке восстания. Будучи людьми военными, они предполагали ограничиться только составлением предварительных планов военных действий, определением командующих будущих армий, времени и места начала восстания, но никак не решением каких-то социальных вопросов и способов правления будущим государством.
Однако Костюшко понимал, что смотреть необходимо далеко вперёд. Он хорошо помнил установки по захвату власти, которые изложил в своих трудах достопочтенный итальянец Макиавелли. Будущий руководитель восстания предполагал, что пожар войны разжечь будет не сложно, но как правильно вести эту войну, как заинтересовать народные массы встать под свои знамёна? Ведь без их поддержки война сразу с тремя державами обречена на поражение. Тогда зачем вообще её начинать и проливать кровь на полях сражений, если судьба восстания предрешена?
Игнатий Потоцкий покрутил кончики своих длинных усов. Он понимал, что война неизбежна, но кто пойдёт за ними, не повернут ли крестьяне косы на своих хозяев?
— А как насчёт помещичьих угодий? Ведь во время восстания крестьяне будут в любом случае вовлечены в боевые действия, — задал он провокационный вопрос Костюшко. Если уж разбираться, так разбираться от начала и до конца.
— Я считаю, что необходимо сохранить помещичье землевладение, но основанное на найме рабочей силы, — пояснил всем свою позицию Костюшко. — Когда мы начнём восстание, то к этому времени народ должен знать для чего и ради чего мы затеваем это великое дело. Только тогда он пойдёт за нами, а значит, обеспечит нам свою поддержку.
Костюшко посмотрел на задумчивых заговорщиков. Было видно, что они напряжены и усилен но обдумывают то, что только что он сказал.
— В ином случае все наши жертвы могут быть напрасны, а мы не достигнем конечной и главной цели восстания — восстановления государственности Речи Посполитой в тех её границах, которые она имела в годы былого величия, — попытался снова пояснить свою позицию некоторым сомневающимся Костюшко.
Ещё долго члены «Союза» обсуждали будущее восстание. Единогласно было принято и утверждено решение, что главнокомандующим вооружёнными силами восставших будет генерал Тадеуш Костюшко. Ему же вменялась координация всех действий по подготовке восстания, определение точного времени и места начала этого великого движения. Костюшко сумел убедить присутствующих наделить его диктаторскими полномочиями, чтобы с начала военных действий генералы его армии не вели себя подобно депутатам сейма, а подчинялись только главнокомандующему.
Совещание закончилось уже под утро. Каждому, кто принимал участие в этом совещании, был определён план действий на ближайшее время. На рассвете полусонные извозчики с закрытыми повозками уже ожидали своих пассажиров, которым предстояло возвращаться кому-то в Польшу, кому-то во Францию, а кому-то в действующую армию, где продолжали пока служить. Теперь они ждали только сигнала.
XVII

штабе первой Великопольской бригады национальной кавалерии, которой командовал генерал Антоний Мадалинский, находилось несколько человек, включая самого генерала, когда к крыльцу небольшого одноэтажного здания подскакал вестовой с пакетом для командующего. Представившись адъютанту и пройдя в соседнюю комнату, где заседал генерал, вестовой передал ему пакет, запечатанный сургучом.
Мадалинский, уточнив у вестового, от кого прибыло послание, недовольно поморщился.
— Ну и что они нам прислали такого интересного? — с сарказмом спросил он куда-то в пространство, но все присутствующие притихли и отложили свои дела.
Мадалинский со злостью отодрал сургучную печать и вскрыл конверт. Вытащив из него бумагу с гербовой печатью, генерал бегло прочитал и вдруг загрохотал демоническим хохотом, от которого у присутствующих побежали по коже мурашки.
— Вы только послушайте, Панове, что нам приказывают эти бумагомараки из Гродненского сейма! Они, пся крев, приказывают мне распустить первую Великопольскую бригаду национальной кавалерии! — громко прокомментировал Мадалинский содержание приказа Гродненского сейма. — Мне, генералу Мадалинскому, распустить лучшую кавалерию армии Речи Посполитой!.. Сволочи, отступники конституции, предатели родины! — искренне продолжал возмущаться генерал.
— Слушай, ты, — обратился вдруг Мадалинский к стоящему тут же вестовому, который лихорадочно соображал, что ему делать дальше: остаться здесь и дождаться ответа от командующего или ретироваться за пределы этих стен, пока успокоится этот буйный генерал. — Передай этим... — Мадалинский задумался, как обиднее назвать депутатов Гродненского сейма, — изменникам, что Мадалинский плевать хотел на их решения и приказы. И ещё, — Мадалинский нахмурил лоб, задумываясь, какую бы историческую фразу передать Гродненскому сейму, — и ещё передай, что очень скоро они пожалеют, что приняли вообще это решение.
Вестовой не стал ждать дальнейших распоряжений и быстро освободил помещение, даже не оставшись в этом городке, чтобы отдохнуть и пообедать. Голодный и злой от такой «горячей» встречи, он быстро вскочил на коня и покинул городок.
Через час в штабе кавалерийской бригады уже находились все командиры полков, и Мадалинский уже спокойным, но твёрдым голосом древнегреческого оратора, тряся недавно полученным приказом, довёл до сведения присутствующих его содержание:
— Паны офицеры! Вы — гордость войска польского, вы — лучшие представители армии, которая побеждала своих врагов на полях сражений Европы! Я обращаюсь сейчас к вам в этот исторический для каждого патриота своей родины час!
Мадалинский сделал паузу и посмотрел на офицеров. Было так тихо, что было слышно, как в стекло билась муха, проснувшись от тепла ранней весны после зимней спячки. Она пыталась безуспешно найти выход на свободу из небольшой комнаты, набитой этими странными людьми, которые не умели летать.
Генерал медленно, чеканя каждое сказанное слово, произнёс:
— Гродненский сейм предложил мне, генералу Мадалинскому, распустить нашу бригаду национальной кавалерии, а мне приказал явиться с докладом на сейм.
— Предатели, отступники, пся крев!.. — раздались возмущённые крики, лаская слух генерала, который уже подготовил своё решение и исторический приказ. Он был теперь уверен, судя по реакции присутствующих, что его решение будет принято всеми единогласно.
— Слушайте же мой приказ, паны офицеры! — начал Мадалинский, и ропот возмущений стих в одно мгновение. — Приказываю трубить сбор! Кто желает встать под знамёна конституции и свободы, тот через два часа должен быть на площади во главе своего полка, кто же выберет иной путь, пусть катится на все четыре стороны.
Мадалинский закончил бравурную речь, и сразу раздались голоса тех, кто уже определился с решением:
— Яще польска не сгинела! Да здравствует конституция!
Через два часа колонны конников первой Великопольской бригады национальной кавалерии, возглавляемой генералом Мадалинским, из Остролянки, где они квартировали последние месяцы, двинулись в южном направлении. По пути в Краков польские уланы разгромили русский гарнизон и двинулись на небольшой городок, где размещался гарнизон прусской армии с армейской казной. О том, что в этом городке находится казна прусской армии, Мадалинскому было известно и раньше. Теперь же, когда он с дивизией открыто объявил о своём неповиновении Гродненском сейму, что приравнивалось к объявлению военных действий, генерал решил по пути напасть на пруссаков и завладеть армейской казной.
Прусский гарнизон не ожидал такой наглости от польских улан, и атака польской кавалерии была для них полной неожиданностью. Жители городка в этот день наблюдали непривычную для них картину: по узким улочкам бегали испуганные солдаты прусской армии и в панике осматривались вокруг в поисках какого-нибудь убежища. То тут, то там на улицах были слышны выкрики: «Яще польска не сгинела! Бей пруссаков!» и происходили небольшие стычки между польскими уланами генерала Мадалинского и обороняющимися прусскими солдатами. Чаще всего они быстро заканчивались, так как прусские пехотинцы бросали свои длинные ружья и поднимали руки вверх. А кавалеристы, не получив полного удовлетворения от такого сражения и вялого сопротивления врага, оставляли без внимания бедных и испуганных пруссаков. Уланы летели на своих откормленных и красивых лошадях куда-то дальше, как будто искали достойного противника. Правда, более серьёзное сопротивление небольшой польский отряд встретил от прусского эскадрона драгун, но этот бой был также коротким. Прусские кавалеристы вскоре показали противнику зады своих лошадей, быстро разобравшись, что, кроме этого небольшого отряда польских улан, в городке «хозяйничает» целая кавалерийская бригада.
Мадалинский остался весьма доволен происходящими событиями. Во-первых, восстание, которое так долго готовилось его соратниками, началось, и началось оно с его решительных действий; во-вторых, когда они прибудут в Краков, где назначен руководителями восстания общий сбор, его бригада будет иметь славу первых побед и прусскую казну. А эти факты явятся хорошей мотивацией для тех, кто присоединится к восстанию в самом его начале.
Когда бригада кавалерии собралась в центре только что захваченного городка, генерал Мадалинский, гарцуя на своём вороном жеребце перед строем ещё не остывших после боя кавалеристов, громко прокричал:
— С почином! Казну взяли, пруссаков разогнали, а теперь на Краков к Костюшко!
Сопровождаемый криками «Слава!», генерал Мадалинский проехал вдоль всего строя и вместе с командирами полков двинулся дальше на юг. Он вёл за собой всю бригаду к месту, где руководители восстания планировали сбор всех отрядов повстанцев.
Пройдя со своей бригадой по территории, которую контролировали вооружённые силы прусской армии, генерал Мадалинский, по сути дела, спровоцировал начало восстания до того срока, который наметил Костюшко.
В то время, когда Мадалинский со своей бригадой проходил рейдом по прусской территории, Костюшко находился с Зайончиком и Малаховским в Дрездене, где при его участии создавалась ещё одна структура «Союза». Польские офицеры после поражения 1792 года служили и там.
«Пся крев! — выругался Костюшко про себя, когда узнал об этом стихийном выступлении. — Этот генерал спутал мне все планы. Ещё бы пару месяцев...»
Но было уже поздно: слухи о том, что восстание в Речи Посполитой, которое тайно готовилось почти два года, началось, разлетались по всем регионам государства. Костюшко понимал, что остановить этот процесс уже нельзя. Теперь ему предстояло срочно возвращаться на родину и предпринимать все меры, чтобы подобные стихийные выступления превратились в организованное освободительное движение. А для этого Костюшко в кратчайшие сроки предстояло ещё создать боеспособную армию по всем требованиям военного времени. Из разрозненных отрядов волонтёров, из небольших боевых отрядов крестьян и частей польской армии, которые примкнут к восстанию, он должен был сформировать боеспособные полки, дивизии и бригады. Немаловажное значение имело и то, кто станет во главе этих воинских формирований, кто поведёт их в сражения и с какими лозунгами.
Главная же цель, которую Костюшко ставил перед собой и перед восстанием, — поднять и по вести за собой весь народ, объявить «посполитое рушение» и освободить Отчизну от влияния России, Пруссии и Австрии. Тем более, история Речи Посполитой уже имела подобный пример проявления массового патриотизма народа во время её оккупации шведскими войсками в годы правления польского короля Яна II Казимира Вазы.
Одновременно с известием о действиях Мадалинского Костюшко получил сигнал из Варшавы о том, что в столице начались аресты членов «Союза». Теперь промедление было равно срыву всех планов восставших. Костюшко прекрасно это понял и на следующий день он уже спешно направился в Краков, откуда планировалось начать освободительную борьбу за независимость Речи Посполитой.
Давно уже жители Кракова не видели такого большого количества военных в своём городе. А вооружённые формирования нескончаемым потоком продолжали прибывать в бывшую столицу Польши. Польские уланы, драгуны, артиллеристы со своими тяжёлыми пушками, пешие и конные, простая шляхта, вооружённые косами крестьяне (косиньеры), телеги с провиантом и боеприпасами — всё это столпотворение людей и лошадей каким-то образом всасывалось в узкие городские улицы Кракова и где-то размещалось на ночь. Только поздно ночью город затихал и отдыхал, чтобы с утра быть готовым принять очередных прибывших.
— Вот привёл к тебе сына, — Казимир Сапега представил Костюшко молодого человека, который скромно стоял рядом, придерживая свою горячую лошадь. Сапега привёл в этот день в Краков большой отряд улан, вооружённых на его деньги. Кроме этого, он пожертвовал в казну восстания большую сумму золотых монет.
— А не рано ли? — спросил Костюшко своего друга.
— Ничего, уже пора, — уверенно ответил Сапега-старший. — Вспомни себя в молодости. Ты бы остался в стороне от того, что сегодня происходит?
Костюшко улыбнулся. Пожалуй, Казимир прав. Он конечно бы примчался в этот город одним из первых.
— Дашь ему дивизию? — неожиданно спросил Казимир Сапега.
Такой просьбы от него Костюшко не ожидал и не сразу нашёлся, что ответить.
— Молод ещё... А если не справится? — спросил, немного подумав, руководитель восстания.
— А как же швед Карл, — напомнил Сапега кадетскую кличку Костюшко.
Казимир стоял и ждал ответа, и Костюшко не смог ему отказать.
— Хорошо, дам. Но приставлю к нему полковника Ахматовича, — поставил он свои условия. — Да и тебе, я думаю, так спокойнее будет.
Казимир Сапега остался доволен решением друга. Он посмотрел на сына и кивнул ему с ободрением. А через минуту все всадники, прибывшие с Казимиром Сапегой, оседлали лошадей и направились к месту отдыха. На долгие разговоры и воспоминания не было времени.
24 марта 1794 года около полудня на рыночной площади Кракова показалась группа военных во главе с Тадеушем Костюшко и генералом Водзицким. Они только что принесли присягу ни верность восстанию, а Костюшко присягнул, что свою власть он употребит только во имя всеобщей свободы и для сохранения независимости государства. Все войска, присутствующие в этот момент на рыночной площади, принесли присягу на верность Костюшко как руководителю восстания. На площади собралось огромное море людей, тысячи пик, кос и штыков длинных ружей. Все они явились по зову своих командиров, которые привели их к Костюшко, имя которого уже гремело по всей Речи Посполитой.
В городской ратуше, куда направился Костюшко с офицерами, ими был подписан «Акт восстания граждан, обитателей Краковского воеводства», что означало объявление военных действий против оккупантов страны и поддержку народа.
И всем, кто присутствовал при этом, передалось возбуждение от того, что вершилось на их глазах. Поднялся лес сверкающих пик и сабель, повсюду был слышен шум голосов, выкрикивающих «Слава! Яще польска не згинела!».
Больше слов не требовалось. Все вооружённые люди, собравшиеся в этот день на рыночной площади Кракова, готовы были идти туда, куда поведёт их Тадеуш Костюшко. Только руководитель восстания был хмур. Как профессиональный военный он понимал, что перед ним ещё не армия. В основной своей массе вооружённые люди, при бывшие в Краков, не были готовы к войне с регулярной армией противника. Из этих шляхтичей, больше похожих на простых крестьян, и из крестьян с косами вместо пик ещё предстояло сделать настоящих солдат. А на это времени уже не было: русская армия вот-вот двинется к границам Речи Посполитой.
«Ну что же, история повторяется, — грустно подумал Костюшко, вспомнив, с чего начинал Вашингтон войну с английской армией. — Но он всё-таки остался победителем!» — мысленно повторял про себя руководитель восстания, постепенно успокаиваясь и готовясь к долгой войне. Однако военные действия развивались стремительно и не всегда в пользу восставших. Хотя начало войны оставляло надежду на её успешное для восставших продолжение.
XVIII

есенний день 4 апреля 1794 года навсегда вписал себя в историю Польского восстания сражением, в ходе которого вновь созданная армия под командованием Тадеуша Костюшко одержала значительную победу над русской армией. При этом часть его армии состояла из косиньеров, простых сельских жителей, главным оружием которых была коса, насаженная на древко, как остриё копья.
В это утро под Рацлавицами на поле предстоящего боя стелился лёгкий туман. С двух сторон поля стояли две армии, готовые ринуться в бой по приказу своих командиров. Генерал Тормасов рассматривал противника в подзорную трубу и скептически улыбался.
«Неужели они решатся на серьёзную атаку? — удивлялся он наивности Костюшко, который сумел выставить против его армии около полутора тысяч пехоты и около одной тысячи кавалерии. — И куда он с этими мужиками-косиньерами на ветеранов турецкой войны?»
Тормасов осмотрел свои позиции и остался доволен: пушки стояли на позициях, солдаты бодро готовились к атаке.
Генерал Денисов, возглавлявший русскую кавалерию, отряды донских казаков, также внимательно следил за передвижением неприятеля. Он с уважением относился к противнику и к его армии, хорошо понимая, что та же кавалерия Мадалинского когда-то состояла из лучших конников польской армии. В этот день 10 эскадронов в 400 сабель (а всего в этом бою участвовало 26 эскадроном польской кавалерии, включая 4 эскадрона герцога Вюртембергского) под командованием генерала Мадалинского готовы были ринуться в бой против сотен казаков Денисова. Бой предстоял жаркий и жестокий.
— Разрешите мне обойти поляков с флангов? — обратился Денисов к командующему.
— Зачем? — удивлённо поднял брови Тормасов.
— Да мало ли... Вдруг они прорвутся в каком-нибудь месте, а мы их с флангов и накроем лавиной, — предположил Денисов.
Тормасов усмехнулся. Предположение Денисова выглядело наивно: против них стояли с косами крестьяне, поддержанные польской кавалерией, которых было гораздо меньше, чем солдат русской армии. Достаточно будет несколько залпов картечи, и они разбегутся по своим домам... Кроме тех, кто останется лежать навсегда на этом поле.
— Такого не может быть. Войско этих бунтарей наполовину состоит из мужиков с косами, а у нас регулярная армия, пушки, — с бравадой разъяснял он Денисову простые, как казалось генералу, вещи. — Нет, не надо никаких манёвров. Я думаю, мы с ними быстро разберёмся.
— Может, всё-таки... — попробовал ещё что-то добавить Денисов.
— Когда надо будет, тогда и направим твоих казачков: надо же будет ловить этих мужиков, когда они будут разбегаться, — прекратил дискуссию Тормасов.
Денисов остался недоволен этим небольшим «совещанием», но не стал больше перечить генералу и пошёл к своим казакам.
Напротив русской армии, сидя на коне, Костюшко также рассматривал позицию противника. По всем правилам военной тактики русские начали наступление сомкнутым мушкетным строем: плечом к плечу в несколько рядов. Русские пушки изрыгнули из своих жерл ядра, которые со свистом упали перед стоящими и готовыми к бою кавалеристами, не причинив им большого вреда.
Костюшко атака русской армии напоминала одну из атак английских солдат на полураздетых и голодных солдат Вашингтона. Тогда регулярная армия британцев, чётко сохраняя строй и постоянно его поддерживая во время атаки, по ходу движения теряла своих солдат. Медленно двигаясь на своего противника, британцы наткнулись на меткий огонь снайперов Вашингтона, и ряды атакующих стали так быстро редеть, что англичане не успевали смыкать строй и в конце концов потерпели поражение.
— Направь скрытно косиньеров к флангам русских и захватите их артиллерию, — приказал Костюшко командиру крестьян-добровольцев Бартошу Гловацкому.
Пока русские солдаты пытались пробить брешь в обороне противника, а польские эскадроны рубились с казаками, косиньеры провели невидимый для генерала Тормасова обход с флангов. Стреляя из своих пушек, русские бомбардиры неожидан но увидели в своём тылу толпы крестьян, вооружённых косами, которые своим самодельным, но грозным оружием начали «косить» людские жизни русских солдат.
Тормасов, наблюдая за ходом боя, не мог поверить своим глазам: у него в тылу вдруг начали стрелять пушки по своим солдатам! Но когда генерал разобрался в сложившейся ситуации, было уже поздно: вся артиллерия оказалась у противника, а польская кавалерия изрядно потрепала казачьи сотни.
— Что делают, что они делают, сволочи, мужики!.. — ругался Тормасов, но изменить ход боя он уже не мог. Наконец поняв, что это сражение он проиграл, русский генерал приказал своим войскам отступать.
Костюшко и не собирался преследовать против ника. У него на это просто не хватило бы сил. После того, как русская армия отошла, он осмотрел поле боя. Его армия понесла серьёзные потери, и догонять русскую армию, хоть отступившую, но окончательно не разгромленную, уже не было возможности. Главное — они победили врага в этом сражении, а каждая победа, хоть и небольшая, стократно увеличивает дух восставших и добавляет в их ряды новых добровольцев.
После окончания битвы и убрав с поля боя раненых и убитых, Костюшко устроил смотр-парад своей армии. Надев крестьянский кафтан, он прошёл вдоль всего строя армии-победительницы, солдаты которой громко кричали ему «Слава!». Начало было положено, а впереди их всех ждали жестокие и большие сражения.
Командующий русским гарнизоном в Варшаве генерал и барон Ильгестрем проснулся от шума и звуков одиночных выстрелов. Вскочив с постели, он сорвал с головы ночной колпак и бросился к окну. То, что он увидел, повергло его в ужас: по улицам Варшавы бегали люди с факелами в руках, а возле его дома сгрудились полуодетые солдаты и конники.
«Боже мой! — в панике подумал генерал. — Неужели графиня была права, и поляки решились на это?»
Ещё несколько дней назад его любовница графиня Залусская предупреждала барона о возможном заговоре и мятеже, который якобы готовился в столице Польши. Однако Ильгестрем не мог допустить и мысли о том, что это возможно, когда в городе стоял гарнизон русской армии в количестве 8000 солдат с полным вооружением и артиллерией.
Станислав Август Понятовский также прислал генералу Ильгестрему уведомление о возможном заговоре и настоятельно рекомендовал ему вывести войска из города, чтобы предотвратить кровопролитие с одной и с другой стороны. Король предполагал, что в случае начала восстания в столице восставших горожан поддержит регулярная польская армия. Следовательно, будут жертвы с обеих сторон и довольно большие. Станислав Август Понятовский хотел их избежать, предлагая командующему русским гарнизоном покинуть Варшаву со своими солдатами.
Ильгестрем посчитал эти сообщения за панику и попытку любыми путями удалить его из Варшавы. Однако в качестве страховки, — чем чёрт не шутит, пока Бог спит, — он приказал усилить охрану арсеналов с боеприпасами и собрал на совещание командиров.
— Будьте предельно осторожны и бдительны при несении службы, — посоветовал он подчинённым. — От этой шляхты всё можно ожидать. Время нынче не спокойное, сами знаете... — намекнул генерал на события во Франции. Кроме этого, по настоянию некоторых православных шляхтичей, сторонников России, проживающих в Варшаве, барон Ильгестрем собирался произвести аресты предполагаемых заговорщиков.
Но ему уже не суждено было сделать то, что он задумал. Реальность же мятежа в Варшаве командующий русским гарнизоном понял только сейчас, когда услышал выстрелы и предсмертные крики своих солдат. Однако он ещё не предполагал истинных его масштабов.
Горело несколько домов, по ночному городу бегали восставшие горожане, разыскивая русских солдат, которые прямо из казарм выскакивали на улицы, надеясь увидеть или услышать своих командиров. Но в темноте апрельского раннего утра раздавались, казалось, только крики на польском языке и стоны раненых. Те русские офицеры, кто сумел как-то собрать растерянных солдат и вооружить их, попробовали организовать хоть какую-то оборону. Но не имея никакой информации о происходящем и команд от вышестоящих командиров, они были вскоре перебиты горожанами, разгорячёнными кровью и ненавистью от оказанного сопротивления.
Регулярные части польской армии также приняли участие в варшавском восстании. Напав на караулы и захватив арсеналы с оружием, польские солдаты раздавали ружья, порох и пули горожанам. А желающих получить в руки оружие среди них было предостаточно. Ввиду того, что отряды русского гарнизона располагались в разных концах города, восставшим было легче подавить сопротивление небольших русских отрядов и за короткое время полностью захватить город в свои руки.
Генерал Ильгестрем выскочил на улицу при полном обмундировании, вооружённый шпагой и двумя пистолетами. Вокруг его дома шёл небольшой бой между теми русскими солдатами и офицерами, которые сумели пробиться к дому командующего, и вооружёнными поляками, которые пытались штурмовать этот дом. Со всех сторон слышались крики «Бей москалей!», раздавались выстрелы и стонали раненые. Но восставшие варшавяне не решались идти на решающий штурм: было раннее утро, и из-за дыма пожаров и плохой видимости было сложно определить точно количество сил с каждой стороны.
Выстрелив в какого-то поляка и разрядив следом второй пистолет, генерал Ильгестрем понял, что он не сможет организовать никакой серьёзной обороны и тем более навести порядок в городе. Рядом с ним рухнул замертво его караульный солдат, сражённый шальной пулей, и Ильгестрем забежал обратно в дом. Дрожащими от волнения руками он пытался перезарядить пистолеты и лихорадочно соображал, как ему организовать оборону из числа тех солдат, которые ещё находились рядом с ним. Барону очень хотелось дожить до рассвета и разобраться в ситуации и определить масштаб мятежа. У него теплилась надежда, что всё ещё можно исправить.
В это время к дому подъехала крытая повозка, из которой выскочила в мужском платье графиня Залусская со своим слугой и бросилась в осаждённый дом.
— Графиня! Вы как здесь оказались? — генерал был приятно удивлён появлением своей любовницы в его доме в это опасное для жизни время.
— Быстро переодевайтесь! — командирским голосом женщины, не терпевшей возражений, приказала она генералу и бросила к его ногам какую-то одежду. Ильгестрем поднял с пола костюм польского шляхтича и, не вдаваясь в долгие размышления о чести и присяге, дрожащими от волнения руками начал снимать с себя генеральский мундир.
Генералу Ильгестрему повезло этим утром остаться в живых: через весь город, заполненный вооружёнными людьми, графиня Залусская вывезла его в костюме польского шляхтича в безопасное место. Однако генерал успел увидеть в этот предрассветный час весь масштаб поражения русского войска и ненависть, с которой поляки убивали русских солдат и офицеров. По отступающим русским стреляли с крыш домов и из окон, бросали сверху на них брёвна и всё, что могло бы причинить им вред. Из 8000 солдат русского варшавского гарнизона этой ночью было убито 2200 человек и взято в плен 260. Среди пленённых оказались и сочувствующие русским православные поляки. Остальным же, действуя небольшими отрядами, удалось прорваться и выйти из города, пробиваясь штыками сквозь толпы восставших варшавян. И это им удалось благодаря только тому, что восставшие также не имели между собой чёткого руководства по взаимодействию. Кроме этого, они больше не встречали активного сопротивления и организованной обороны со стороны русских и поэтому не преследовали их, упиваясь своей быстрой победой и нанесённым русским войскам поражением.
Когда же Ильгестрем понял, что только что избежал смерти или позорного плена, он повернулся к своей спасительнице и произнёс:
— Чем я могу отблагодарить вас за то, что сегодня вы сделали для меня?
— Дайте мне слово, что вы наконец женитесь на мне, генерал! — повернувшись к нему то ли серьёзно, то ли со смехом ответила спасительница
[40]. Но увидев, как вытянулось от удивления лицо Ильгестрема, она озорно рассмеялась и больше ничего не сказала.
В сложном положении в эти тревожные дни находился польский король. Станислав Август Понятовский прекрасно понимал, что в эту ночь у него были шансы повторить судьбу французского короля Людовика XVI. В то же время он полагал, что шансы эти были не так велики. Лично зная Костюшко и его благородство, король с нетерпением ожидал прибытия главнокомандующего восстанием в столицу.
«Господи! Главное, чтобы он не опоздал! — с тревогой вспоминал он Костюшко, получая от своих приближённых новые тревожные известия о казнях и очередных жертвах варшавского восстания. Как это было похоже на то, что происходило ещё совсем недавно в Париже.
В ночь с 22 на 23 апреля в Вильно произошли события, схожие с варшавскими. Полковник Якуб Ясинский организовал заговор среди литовского войска и возглавил восстание в городе, к которому подключились тысячи его жителей. За одну ночь они обезоружили русский гарнизон, а утром начались аресты тех, кто выступал за союз с Россией. Генералу Арсентьеву, который был командующим гарнизоном, в отличие от генерала Ильгестрема, повезло меньше. У него не было отважной любовницы, которая могла бы его спасти, и во время организации сопротивления восставшим генерал Арсентьев был убит. Жертвой восстания в Вильно стал и гетман Симон Коссаковский, который возглавлял литовское войско в Вильно. Его, как изменника народа, повесили на рынке напротив гауптвахты в присутствии городских властей, солдат и горожан. По всему городу слышались лозунги Французской революции.
Но на разгроме русских гарнизонов в Варшаве и Вильно польские «якобинцы» не остановились. По их требованию революционное управление Варшавы рассмотрело дело польских панов, которые сочувствовали русскому правительству и имели с ним какие-то отношения. К тому же данные факты были подтверждены перепиской, которая была изъята из дома генерала Ильгестрема. Однако революционное управление отказалось применять против арестованных жёсткие меры без суда и следствия, чем вызвало гнев польских Робеспьеров и Маратов. Собрав возмущённую толпу, они повторили сценарий недавних парижских революционных событий и ворвались в здание тюрьмы. Вытащив свои жертвы на площадь города, рьяные революционеры из-за отсутствия гильотины просто повесили некоторых из них в присутствии горожан.
Сторонники жестоких мер в Вильно также не заставили себя долго ждать и провели в городе казни. Приверженцы террора Ясинский и ксёндз Мейер, возмутив горожан, стали Инициаторами смертного приговора для коронного гетмана Ожаровского, литовского гетмана Забелло, епископа Коссаковского и посла Гродненского сейма Анквича.
XIX

лавнокомандующий вооружёнными силами повстанцев Тадеуш Костюшко был вне себя от того, что ему только что сообщили. С одной стороны, восстание получало всенародный размах и поддержку, с другой — жестокость, с которой происходили эти события, напоминали ему казни аристократов во Франции.
«Якуб, Якуб... Что же ты, пся крев, наделал?» — про себя ругался Костюшко, прекрасно понимая, что тень от этих жестоких расправ ложится и на него. События на его родине и во Франции как будто писались одним пером и одним сценаристом.
— Немедленно собрать ко мне на совещание всех командиров полков и офицеров штаба, — голосом, не допускающим промедления, приказал Костюшко своему адъютанту и секретарю Немцевичу и Фишеру. Когда же большая часть приглашённых им командиров прибыли в штаб восстания, Костюшко обратился к ним с гневной речью, которую не ожидали услышать от него офицеры его армии.
— Паны офицеры! — начал говорить Тадеуш Костюшко, внимательно вглядываясь в каждое лицо. — Как вы хотите освобождать свою родину? Как варвары, которые не разбираются, кто прав или виноват, уничтожая всё и всякого на своём пути без суда и следствия? Или как цивилизованная нация, которым не чужды такие понятия, как справедливость, гуманизм и правосудие?
Костюшко осмотрел собравшихся. Все молчали, понимая, что Костюшко имел в виду.
Некоторые из них уже слышали о восстании горожан в Варшаве и Вильно и искренне считали, что нет серьёзных поводов для волнения. Кто-то поддерживал подобные действия польских «якобинцев» над «изменниками» и «москалями», а кто-то осуждал, как Костюшко, их скоропалительные решения и их действия. Но большая часть его подчинённых понимали, что подобные казни, напоминающие простую и дикую расправу, не придадут авторитета такому благородному движению, как борьба за независимость родины. Скорее наоборот, такие действия
восставших многих заставят задуматься о своей судьбе и о своём будущем. Сегодня без суда казнили шляхтичей в Варшаве и Вильно, а завтра начнут вешать по всей Речи Посполитой.
— Вы понимаете, кому на руку подобные события? — продолжал метать молнии руководитель восстания. — Вы представляете, как наше благородное дело и движение будут восприниматься в Европе, если подобные расправы в освобождённых нами городах превратятся в систему? А в других городах Речи Посполитой после того, что произошло в Варшаве и Вильно, мы много найдём тех, кто поддержит нас?
Наконец генерал Мадалинский первый нарушил тягостное молчание присутствующих:
— Регулярная польская армия не участвовала в этих расправах, а с виновными в самосудах надо ещё разобраться... — Мадалинский замолчал, раздумывая, что бы ещё добавить в защиту тех, из-за кого их собрал у себя главнокомандующий. — Восстание набирает силу, и подобные явления неизбежны, когда в борьбу вовлекаются народные массы.
Костюшко с усталостью человека, преодолевшего пешком большое расстояние, сел. Он понимал, что ситуация выходит из-под контроля, и необходимо жёстко разобраться во всём, что произошло за эти дни в Варшаве и Вильно. Подобные действия восставших в дальнейшем необходимо исключить. Но как это сделать, как поступить с теми, кто уже совершил эти казни? В противном случае вся территория Речи Посполитой будет похожа на долгую дорогу в Рим. Но только вместо распятых на крестах восставших рабов из армии Спартака могут стоять виселицы с местными помещиками и шляхтой.
— Я сам поеду в Варшаву и предам суду виновных, — вынес решение Костюшко. — А ваша обязанность — не допускать в дальнейшем подобных действий со стороны подразделений, командирами которых вы все являетесь... Никаких самосудов!
Костюшко выполнил своё обещание и прибыл вскоре в столицу. По его требованию семь самых ярых участников расправы над арестованными во время варшавского восстания были осуждены и повешены. Поддерживая революционное управление Варшавы, Костюшко издал приказ о разоружении варшавских граждан, получивших оружие во время восстания 6 апреля 1794 года.
Но и этим не закончилось разбирательство руководителя восстания с теми, кто поддержал самосуд. Костюшко тайным распоряжением велел сформировать отряд национальной гвардии Варшавы из самых активных участников варшавского восстания и включить в его состав участников тех позорных казней. Не желая больше пролития крови, он предоставил им возможность искупить свою вину с оружием в руках на самых передовых укреплениях города.
В своём обращении к народу Костюшко осудил расправы, а также предупреждал о наказании всякого, кто будет учинять подобное самоуправство, включая оскорбление пленных. А то что Костюшко не бросал слов на ветер, подтверждали семь виселиц с польскими Робеспьерами.
После победы под Рацлавицами, восстания в Варшаве и Вильно армия повстанцев стремительно увеличивалась, пополняясь за счёт отрядов волонтёров, а также регулярных частей польской армии, которые поддерживали борьбу за независимость своей родины. Они массово переходили на сторону восставших, подчиняясь Костюшко, и именно из них он формировал вооружённые силы освободительной армии.
Но не все офицеры польской армии сразу принимали и поддерживали восставших. Некоторые из них колебались, делая нелёгкий выбор между отставкой и службой в армии Костюшко. Однако чем шире восстание охватывало просторы Речи Посполитой, тем решительней в своём выборе в пользу восстания становились настоящие патриоты.
Командир татарских полков генерал-майор Юсуф Белик отказался выполнять приказания военного коменданта Варшавы генерала Станислава Макроновского. Он был информирован о событиях, которые совсем недавно произошли в столице Польши, а у генерала-татарина были свои убеждения и своё отношение к верности присяге, воинской доблести и чести. Они коренным образом отличались от того, что произошло в дни восстания в Варшаве.
Но вскоре в столицу для наведения порядка прибыл лично Тадеуш Костюшко, а ещё через несколько дней генерал Белик получил письмо от польского короля, в котором с удивлением прочитал:
«...Ты должен знать, что произошло не только в Кракове, но и в Варшаве. И что произошло после, и что не время ни о чём думать, как только об общей обороне. Уже теперь всем вместе надо спасаться — единством и мужеством... Постарайся собрать и объединить кого только сможешь, как солдат, так и волонтёров из татарских и польских народов». Это был призыв в поддержку восстания от самого короля! И генерал-майор Юсуф Белик принял решение: уже в конце апреля 1794 года армия Костюшко пополнилась новыми кадровыми офицерами и новыми полками татарской конницы.
Воинские подразделения формировались по всей Речи Посполитой и из различных народностей, населяющих её территорию; литвины, поляки и даже евреи создавали на местах боевые отряды и направляли их в армию Костюшко.
Из-за границы на родину возвращались польские офицеры, которые до этого времени служили в иностранных легионах или просто жили вдали от родины. Они спешили стать под знамёна полков Костюшко и принять участие в защите Отечества. Маленькими ручейками небольшие вооружённые отряды двигались в сторону Варшавы, чтобы соединиться с основными силами восставших и влиться в одну из вновь созданных Костюшко дивизий или армий.
По всей стране проходили патриотические выступления среди различных слоёв населения в поддержку восстания. Шляхта слала Костюшко акты местных собраний, где они подписывались в верности и готовности отдать свои жизни за правое дело свободы и независимости родной страны.
В конце апреля 1794 года Костюшко объявил «посполитое рушение», призывая стать под знамёна всё мужское население Речи Посполитой от 15 до 50 лет. Дополнительно он издал Полонецкий универсал, обещая крестьянам полное освобождение и уменьшение повинностей. Костюшко казалось, что пройдёт ещё немного времени, и вся страна выступит единым фронтом против русских, австрийских и прусских войск. Вот-вот наступит перелом, и Речь Посполитая опять обретёт полную независимость в границах времён прежнего своего величия. Но пошло не так, как предполагал руководитель восстания.
Первыми, кто не поддержал Костюшко после выхода Манифеста 7 мая 1794 года, были представители католического духовенства. Шляхта также показала свой своенравный характер и отказывалась выполнять приказы Костюшко отправлять каждого пятого крестьянина с косой в армию. Многие шляхтичи в Манифесте увидели не будущую силу и свободу родины, а ограничение своих вольностей, которые они имели ещё со времён прадедов.
Сами же крестьяне в большей своей массе либо не были знакомы с призывами Костюшко, либо не верили им. По своей ментальности и убогости они решили подождать и посмотреть, чья сила возьмёт верх и кто кого одолеет первым: Костюшко «москалей» или наоборот. Многие из них не желали отрываться от своих земельных наделов, от жён и детей (кто их будет кормить, если кормилец падёт на поле брани?), а жить так, как они жили, крестьяне привыкли. Главное — чтобы не было войн, которые им изрядно надоели, да чтобы на столе был хлеб.
В результате к лету 1794 года Костюшко не сумел собрать в свою армию и ста тысяч солдат, хотя рассчитывал, что соберётся около четырёхсот тысяч. Финансов в казне не хватало, пожертвований от патриотов поступало мало, шляхтичи саботировали приказания Костюшко, а республиканская Франция не спешила поделиться гвардейцами. У неё и своих проблем хватало в это время.
Но сложнее всего Костюшко было «управлять» шляхтой и генералами своей армии. Хоть он и обладал диктаторскими полномочиями, но повсеместно контролировать ситуацию не мог. Некоторые генералы, получив в своё распоряжение дивизию или иное крупное воинское соединение, чувствовали себя спасителями нации и игнорировали указания Костюшко, зная его доброту и мягкость. Проявляя инициативу, они вели боевые действия самостоятельно, без согласования с общим планом восстания, либо, наоборот, бездействовали, когда необходимо было принимать серьёзные решения, не ожидая указаний главнокомандующего. Между генералами армии Костюшко часто возникали споры, влекущие открытые неприязненные отношения. Так, например, Мадалинский терпеть не мог Яна Домбровского, который стремился довести боеспособность польской кавалерии до современного европейского уровня. При этом все предложения последнего Мадалинский открыто игнорировал, называя их «немецкими выдумками». Домбровского такое отношение оскорбляло, а подобная неприязнь двух известных генералов не приносила пользы общему делу восстания.
А русские, прусские и австрийские армии уже подходили к границам Речи Посполитой, собирая силы, чтобы раз и навсегда покончить с этим своенравным государством и получить в свои владения новые земли.
XX

катерина II в этот день плохо себя чувствовала. Она приказала подвинуть кресло к окну и села в него, наблюдая за обычной суетой во дворе дворца. Подъезжали и отъезжали кареты и всадники, куда-то спешили дворцовые служащие, а стареющая императрица вдруг обратила внимание на сосульки, которые свисали с крыш, и с удивлением подумала, что раньше их просто не замечала.
Голова у Екатерины опять разболелась, и она позвала придворного лекаря. Осмотрев матушку-императрицу, он накапал в серебряную рюмку какого-то лекарства и дал ей выпить. Через некоторое время голова перестала болеть, императрица почувствовала себя лучше и готова была начать свой рабочий день.
— Позовите ко мне Александра Андреевича, — приказала она, и главный чиновник Коллегии иностранных дел буквально через минуту уже стоял перед ней с докладом.
Российская императрица уважала и ценила этого исполнительного и умного государственного деятеля, который все свои награды и почести получал вполне заслуженно. Ещё в 1775 году по рекомендации графа Румянцева никому не известного Безбородко вдруг назначили статс-секретарём Екатерины II. С того момента и началось стремительное возвышение этого человека, который ранее служил в канцелярии графа, являлся его доверенным лицом и вёл секретную переписку фельдмаршала.
За короткое время Безбородко сумел стать просто незаменимым для российской императрицы. А после смерти Панина в 1783 году Безбородко стал вторым членом Коллегии иностранных дел и отлично справлялся со своими обязанностями. Но поскольку место канцлера всё это время оставалось вакантным, то фактически он исполнял его обязанности и был главным советником Екатерины II в делах внешней политики.
Императрица по достоинству оценила преданную службу Безбородко, и в 1784 году ему был пожалован титул графа, а за успешное заключение русско-турецкого мира в Яссах в 1791 году он был награждён грамотой, масличной ветвью и деревнями с 4981 душой крепостных. И это после того, как Безбородко вступил в открытый конфликт с самим фаворитом императрицы Платоном Зубовым!
— Ну, здравствуй, Александр Андреевич. Извини, что заставила тебя так долго ждать, — добродушно и ласково приветствовала императрица Безбородко. — Что-то нездоровится мне в последнее время.
— Да полно, матушка, что вы... Дай Бог вам здоровья и жизни сто лет, — ответил смущённый таким обращением чиновник.
Императрица грустно улыбнулась. «Старость не в радость, — подумала она, — а стареть ох как не хочется». Но вслух по-деловому спросила:
— Давай докладывай, что в Польше опять происходит.
Безбородко откашлялся, сделал глубокий вдох и раскрыл свою рабочую папку с бумагами.
— 24 марта сего года в Кракове собрались польские генералы со своими полками, шляхта, горожане, а также другой чёрный люд, — бойко начал свой доклад вельможа. — Они открыто объявили войну России, Австрии и Пруссии, а также провозгласили руководителем восстания польского генерала Тадеуша Костюшко.
— Погоди, Александр Андреевич, — остановила Екатерина доклад, — напомни мне, кто этот генерал и чем знаменит? Почему именно его поставили во главе этого бунта?
Безбородко перебрал в своей папке бумаги и достал нужный лист. Опять откашлявшись, он пробежал глазами текст и продолжил доклад:
— Тадеуш Бонавентура Костюшко, 48 лет, литвин, выпускник Рыцарской школы в Варшаве, воевал в Соединённых Штатах в армии Вашингтона, дослужился там до генерала, награждён в числе лучших офицеров почётным орденом Цинциннати. В последней войне отличился в сражении с генералом Каховским и был награждён орденом «Виртути Милитари». После окончания войны уехал во Францию.
— Какая интересная биография у этого Костюшко, — опять прервала Екатерина II доклад. — И везде-то он успевает: и в Америке, и в Польше... Да, это не Емелька Пугачёв. Читай дальше.
— В день своего избрания «высшим и единственным Начальником» польских бунтовщиков Костюшко обнародовал «Акт восстания граждан, жителей Краковского воеводства».
— И что это за документ?
— В нём говорится о вас, матушка, и о короле прусском... — Безбородко немного замялся, но решил изложить императрице всю суть документа. — Якобы данные монархи создали государство тирании. Кроме этого, Костюшко распространил воззвание к армии, к гражданам, к духовенству и к женщинам.
— К женщинам? — удивилась императрица, высоко подняв брови.
— Да, к женщинам, — подтвердил Безбородко.
— Ладно, докладывай далее.
— Тот же «Акт» возложил политическое руководство восстанием на Высший национальный совет и определил в воеводствах местные органы управления — комиссии. Те же, в свою очередь, должны организовывать надзорное управление на местах. Создаются и новые революционные суды.
— Да, серьёзно этот Костюшко взялся за дело, — покачала Екатерина II головой, удивляясь, что события разворачиваются с такой быстротой. Ей стало ясно, что заговор готовился уже давно, а её Тайная канцелярия ничего не знала либо ей не доложили... Вот он дух Французской революции, бродит уже по всей Польше и Великому княжеству Литовскому.
Екатерина II редко повышала голос и старалась не выглядеть раздражённой в присутствии своих придворных, но в данный момент она не сдержалась и недовольно спросила, ударив ладонью по подлокотнику кресла:
— А что наши гарнизоны в Польше, что предпринято для погашения бунта?
— Наш гарнизон в Варшаве в одну ночь был вырезан бунтовщиками. Погибло 2265 солдат и офицеров, а в Вильно и в других гарнизонах происходило примерно то же.
Императрица глубоко вздохнула. Неприятная тупая боль, с утра поселившаяся у неё в голове, опять напомнила о себе. «Ну вот и всё. С поляками надо кончать раз и навсегда, — решила Екатерина II. — А Станислав Понятовский всё-таки не послушался меня. А зря... Теперь пусть не обижается. Слишком тяжела для него польская корона. Пора её снимать».
— Немедленно вызвать из отставки графа Румянцева, — распорядилась российская императрица, вспомнив о своём знаменитом фельдмаршале, который решил отдохнуть от ратных дел на старости лет. — Пусть он возглавит наши войска, и дайте ему все полномочия на этот счёт.
— Слушаюсь, матушка, — поклонился Безбородко и по указанию Екатерины удалился исполнять её приказ.
А императрица опять повернулась к окну, постепенно успокаиваясь и прислушиваясь, как стихает головная боль. Перед дворцом картина почти не изменилась: по-прежнему продолжалась дворцовая повседневная суета. Тёплые апрельские лучи соли да через стекло приятно грели лицо Екатерины II, и она незаметно для себя задремала.
Граф Румянцев ходил по комнате в раздумьях. В связи с последними событиями в Кракове, Варшаве и Вильно он был вызван из отставки Екатериной II, чтобы возглавить вторжение русских войск на территорию Речи Посполитой. Теперь же встал вопрос, кто из русских полководцев сможет возглавить одну из русских армий и стать основной ударной силой? Граф-фельдмаршал понимал, что до наступления зимних холодов необходимо пода вить Польское восстание, охватившее в короткие сроки огромную территорию. В противном случае эта война могла затянуться.
Кандидатом номер один являлся, бесспорно, Суворов со своим напором и заслуженным авторитетом, который он приобрёл среди русских солдат громкими победами. Правда, российская императрица вряд ли забыла его прошлые выходки и высказывания, переданные ей Потёмкиным. Однако Румянцев был человеком военным и уважал полководческий талант своего опального коллеги. Он понимал, что с таким сложным характером, как у Суворова, тяжело угодить сильным мира сего, а тем более их фаворитам. И Румянцев решил дать Суворову ещё один шанс получить фельдмаршальский жезл, будучи уверенным, что тот его наверняка теперь не упустит.
Когда ещё в 1792 году в Польше начались военные действия, Суворов подал прошение о направлении его именно туда, но императрица решила по-своему и назначила его командующим дивизией на южные окраины Российской империи в связи с угрозой новой войны с Турцией. Однако с прибытием Суворова к месту назначения эта угроза самоликвидировалась, и новому главнокомандующему на жарком юге пришлось заниматься тем, чем он занимался в холодной Финляндии, а именно — строительством крепостей. При этом из-за отсутствия денег Суворов без согласования с Петербургом рассчитывался с подрядчиками векселями, которые казначейство при предъявлении их к оплате отказывалось погашать. Возник скандал, в результате которого Суворов собирался продать свои поместья, но Екатерина II сжалилась тогда над ним и приказала оплатить из казны все векселя, сохранив в целости имущество и достоинство своего генерала.
Все последующие годы, расстроенный и обиженный на всех Суворов, несколько раз обращался к императрице Екатерине II с прошением уволить его из русской армии и даже собирался предложить свои услуги в странах, воюющих против республиканской армии Франции. Однако Екатерина II хорошо запомнила, что ей говорил Потёмкин, и понимала, что Суворов может понадобиться России и принесёт ей в нужное время ещё не одну победу.
И наконец-то этот час настал.
На территорию Речи Посполитой на подавление мятежа вступили 60-тысячная русская армия и 35 000 прусских солдат, возглавляемых самим королём Фридрихом Вильгельмом II. Суворов же до лета 1794 года участия в этой войне не принимал, пока 7 августа не получил предписание от фельдмаршала Румянцева. Уже через неделю после получения данного предписания он находился в военном походе, направляясь в сторону Бреста, взяв с собой только 5-тысячный отряд. Но по пути движения Суворов своим приказом в соответствии с полномочиями, которыми его наделил Румянцев, подчинял себе все русские отряды и гарнизоны. Таким образом будущий фельдмаршал постепенно создавал армию, которая впоследствии стала основной ударной силой для взятия Варшавы и поражения восстания.
XXI

од Брестом Суворова уже ожидал польский корпус Сераковского, но из 16 000 его солдат почти две трети составляли косиньеры. В первом же бою 3 сентября 1794 года русские кавалеристы перебили 300 польских всадников, но это была только разведка боем. Уже 17 сентября во время очередного боя у монастыря Крупчицы полк татарских конников под командованием полковника Мустафы Ахматовича, прикрывая левое крыло корпуса Сераковского, в контратаке принудил русских отступить. В ответной атаке Суворов переправил через болото свои главные силы и неожиданно нанёс решающий удар по корпусу Сераковского с фланга, где его не ждали. Полякам ничего не оставалось делать, как только укрыться в Бресте. Пытаясь пробиться к Варшаве к главным силам восставших, Сераковский с 10 000 пехоты и 3000 кавалеристов покинул Брест, но по дороге был опять атакован противником. Сераковский понял, что отступать дальше означает просто бежать, но убегать от врага и подставлять ему спину польский генерал больше не собирался.
В ожидании начала атаки обе армии выстроились между рекой и опушкой леса. Русская конница всё-таки решила вступить в сражение первой. Опрокинув польскую кавалерию, казаки устремились на косиньеров, а за ними рванулась в атаку и пехота в 4000 штыков. Польские ополченцы не выдержали натиска ветеранов турецких войн и начали отступать тремя отрядами, но были прижаты к заболоченной реке Цне и практически все порублены.
А в это время корпус генерала Ферзена вместе с прусской армией стоял под Варшавой, осаждая столицу Польши. Во главе защитников столицы находился главный и единственный командир всех войск восстания Тадеуш Костюшко. Ещё до подхода основных сил русской армии он организовал работы по укреплению обороны города, в которых принимали участие тысячи горожан. В Праге, предместье Варшавы, были возведены два параллельных вала и вырыты два глубоких рва с ямами-ловушками, которые окружали весь город. На валу, подняв свои жерла, стояли более 100 пушек, а с флангов нападающих могли поражать ещё десятка три таких же орудий, нанося ощутимый урон.
Прошло две недели, а русские и прусские войска так и не решились штурмовать столицу Польши. Наступило какое-то затишье между противниками, которое должно было рано или поздно чем-то разрешиться: то ли массированным штурмом, то ли снятием осады. Третий вариант — сдачу города никто из руководителей восстания даже не рассматривал. Преимущество восставших в обороне было явное.
В штабе обороны Варшавы было как всегда многолюдно и шумно. Несмотря на то, что в помещении находился сам Костюшко, обстановка была вполне демократичная. Даже волонтёры, молодые шляхтичи, прибывшие из своих удалённых поместий на защиту Варшавы, позволяли себе негромко разговаривать между собой, обсуждая преимущество польской лёгкой кавалерии перед прусскими драгунами. Здесь же подполковник Берко, еврей по национальности, который сформировал для защиты Варшавы целый еврейский батальон, громко отчитывал за что-то своего подчинённого, рыжего потомка Аврама, Исаака и Иакова. При этом Берко ругался то на польском языке, то переходил сгоряча на язык своих далёких предков, который никто из присутствующих не понимал.
Костюшко усмехался, слушая, как ругаются два еврея, и одновременно пересматривал французские газеты, доставленные ему в Варшаву через Германию. Он делал на них какие-то пометки, когда ему на глаза попалось сообщение о казни Робеспьера в Париже.
— Робеспьер погиб! — громко сообщил Костюшко собравшимся, и на несколько секунд в комнате повисла тишина. Даже Берко, остановившись на полуслове, не посмел продолжать свою проповедь солдату. Неожиданно один из молодых шляхтичей-волонтёров, Станислав Булгарин, искренне веривший в величие этого палача своего народа, всхлипнул и, устыдившись эмоций, вышел из помещения. Костюшко с недоумением посмотрел ему вслед.
«Глупый мальчишка, — подумал он. — Если бы ты знал, сколько человек было казнено по воле этого француза, прежде чем он Сам лёг под нож гильотины? Не дай Бог нам таких революционеров в Польше! Не, хватило бы площадей для установки виселиц».
Костюшко с грустью вспомнил Якуба Ясинского, недавние события в Варшаве и Вильно. Однако вслух он не успел ничего сказать: в комнату в сильном волнении вбежал Фишер.
— Со стороны русского лагеря замечены парламентёры, — сообщил он, и все присутствующие одновременно посмотрели на главнокомандующего.
Костюшко воспринял новость спокойно. Он поправил портупею, надел головной убор и вышел вместе с генералом Вавржецким из штаба.
— Как ты думаешь, — обратился Костюшко к нему, когда они поднялись на вал и наблюдали, как пять всадников приближаются к пражским укреплениям, держа на казачьей пике белый флаг, — Ферзей решится на штурм?
— Не думаю. Нас гораздо больше, чем вся его армия, — уверенно ответил Вавржецкий.
Костюшко посмотрел на него, перевёл взгляд на парламентёров и вдруг приказал стоящему рядом Томашу:
— Коня мне. Надо уважить парламентёров.
Вавржецкий, недоумевая, посмотрел на Костюшко, но тот только отмахнулся и вскочил в седло.
— Со мной поедет Томаш и два улана. Я сам поговорю с ними, — коротко пояснил Костюшко, кто будет вести переговоры с противником.
Генерала Денисова главнокомандующий русской армией уполномочил предложить варшавянам сдаться без боя и кровопролития. Генерал понимал, что его миссия обречена на провал: армия Костюшко была многочисленна, а укрепления вокруг города с таким количеством орудий представляли собой реальную угрозу для нападавших. Взять штурмом столицу Польши, когда там находился сам Костюшко, представлялось Денисову практически невозможным. Но предложение капитуляции обычно являлось волей более сильного, а не наоборот.
Навстречу командиру казачьих полков из-за пражских укреплений выехали четыре всадника. Они, не торопясь, как будто находились на конной прогулке, подъезжали всё ближе и ближе к парламентёрам. Вдруг Денисов сначала с удивлением и недоумением, а позднее с восхищением в одном из польских парламентёров узнал Тадеуша Костюшко. Главнокомандующий восстанием также узнал Денисова. Они не раз встречались на светских балах в Варшаве, когда Костюшко ещё вёл жизнь простого помещика, и довольно доброжелательно общались друг с другом. Денисов при этом подробно расспрашивал бывшего американского генерала об организации воинской службы в армии Соединённых Штатов. С большим интересом он слушал рассказы Костюшко о партизанской войне, которую вёл Вашингтон в первые годы военных действий против английской армии, о преимуществах и недостатках британских войск.
Денисову нравился Костюшко своей открытостью и откровенностью. Он даже не скрывал перед русским офицером своих республиканских взглядов и пожеланий видеть свою родину не раздроблен ной, а единой и сильной «от моря до моря». Ещё в то мирное время Денисов удивлялся, что такой известный генерал американской армии со знания ми военного инженера до сих пор не востребован в польской армии. Удивлял русского генерала и тот факт, что Костюшко, в отличие от своих земляков офицеров, не предлагает свои услуги в армиях Австрии, Пруссии или той же Франции. А ведь там он мог бы занимать высшие командные посты. Вместе с удивлением у Денисова уже тогда появилось чувство восхищения этим неординарным человеком. Костюшко также с симпатией относился к русскому генералу, который заслужил свой генеральский чин в сражениях, а не просиживая в просторных кабинетах военного ведомства.
И вот сейчас они приближались друг к другу как противники, как враги, но каждый выполняя свой воинский долг и присягу.
Приблизившись на расстояние нескольких шагов, обе группы всадников остановились, и Костюшко первым обратился к русскому генералу:
— Я приветствую вас и готов выслушать ваши предложения.
Денисов отдал честь и официально и коротко, в ультимативной форме передал предложение генерала Ферзена:
— Командующий русской армией в целях избежания кровопролития предлагает вам сдаться и открыть ворота города, сохранив жизнь его защитникам.
Заметив, как усмехнулся на его слова Костюшко, генерал лихих донских казаков добавил от себя:
— Против вас выступили армии трёх монархов Европы. Неужели вы думаете, что сможете устоять со своими ополченцами против регулярных войск?
Костюшко дёрнул поводья, успокаивая своего коня, и подъехал ближе к Денисову. Он мог бы многое рассказать этому бравому генералу о любви к Родине, о защите интересов народа, о патриотизме и об истинных причинах этой войны. Но только не в создавшейся обстановке и не в таких условиях. Костюшко сказал ему только главное:
— Вы давали присягу своей императрице, я присягал своему народу и обещал добыть ему свободу и независимость или умереть. Как вы можете предлагать мне то, что сами, как честный офицер, никогда бы не сделали?
Денисов и сам понимал, что ультиматум русского командующего генерала Ферзена попал не по адресу. Слишком хорошо Денисов знал Костюшко, чтобы надеяться на то, что требования ультиматума будут приняты польской стороной.
— Я ожидал это услышать, но мой долг предупредить вас о последствиях... Прощайте, — закончил переговоры Денисов и, повторно приложив руку к головному убору, развернул коня в сторону расположения русской армии.
Костюшко возвращался к своим позициям, глубоко задумавшись. Он не собирался сдаваться, но прекрасно понимал, что война только началась, а силы действительно не равны. Он рассчитывал поднять всю Речь Посполитую и объявил «посполитое рушение», призывающее стать под знамёна его армий всё мужское население от 15 до 50 лет. Но шляхта не поддержала его с самого начала войны. А в городах Речи Посполитой просто начали казнить тех, кто когда-то поддерживал русских или перешёл в православную веру. Костюшко такие «патриотические» порывы напомнили казни во Франции, которые так легко узаконил Конвент. Но он не был сторонником достижения своих целей таким способом. Тадеуш Костюшко был солдат, а не палач, и сражался с врагами в едином строю с солдатами. Главнокомандующий ел с ними из одного котла и даже в одежде мало чем отличался от защитников Варшавы.
Вавржецкий встретил Костюшко в волнении и сразу начал с расспросов:
— Предлагали сдаться?
Костюшко только кивнул в ответ и к вечеру приказал созвать совет обороны города.
На совете он рассказал об ультиматуме генерала Ферзена и, улыбнувшись, пояснил всем присутствующим:
— Я думаю, что Ферзен снимет осаду города уже в ближайшие дни. Он прекрасно понимает, что штурмовать хорошо укреплённый город только своими силами значит положить почти всю свою армию под его стенами. — Костюшко усмехнулся и добавил: — При этом прусская армия вряд ли примет участие в штурме.
Члены совета сразу приободрились и также заулыбались. Напряжение, с которым они пришли на это совещание, спало, и все стали дружно обсуждать, когда русские войска вместе с пруссаками покинут свои позиции. Однако Костюшко не закончил говорить и поднял правую руку вверх, призывая соблюдать тишину.
— Я хочу слышать ваше мнение, паны офицеры.
Генерал Мадалинский высказал своё предложение и видение сложившейся ситуации:
— Я предлагаю сделать вылазку и отрядом кавалерии в пару тысяч сабель неожиданно напасть на русский лагерь.
Вавржецкий не поддержал Мадалинского, а только упрекнул его:
— Генерал Мадалинский жаждет славы и побед, а нам необходимо сохранить солдат для защиты города.
Мадалинский не выдержал тона иронии, с каким Вавржецкий высказал своё мнение, и вспылил:
— Мы сидим здесь не как повстанческая армия, а как загнанные за стены города преступники. А ведь мы сражаемся на своей земле и нас гораздо больше, чем русских и пруссаков.
Костюшко слушал генералов и понимал, что если он не поставит их на место и не примет решения, то ситуация может выйти из-под контроля. Главнокомандующий вспомнил, что ему сказал генерал Денисов: действительно большая часть защитников города — это ополченцы, косиньеры и гражданское население, о чём русским прекрасно известно от своих осведомителей. Рисковать же регулярной армией ему не хотелось, так как неясна обстановка с другими вооружёнными формированиями повстанцев на севере и на юге страны.
— С вылазкой пару дней подождём. Пусть Ферзен с пруссаками решат, что им дальше делать: прекратить осаду или продолжать её себе во вред, — подвёл итог Костюшко. — Если русский корпус и прусская армия останутся у стен города, то тогда организуем атаку. Но чтобы атака была эффективной, её надо хорошо подготовить, а на подготовку необходимо время.
Генерал Ферзен не стал дольше испытывать терпение осаждённых и, по согласованию с командованием прусской армии, снял осаду. Так же поступили и прусские войска. А через два дня рано утром с 5 на 6 сентября 1794 года защитники Варшавы с большим удовольствием обнаружили вместо армии противника только кострища на месте их лагеря.
XXII

осле снятия осады с Варшавы к Костюшко стали поступать сведения о положении дел в разных частях Речи Посполитой. И вот здесь его ожидал удар и горькое разочарование: 11 сентября 1794 года первым в Варшаву прибыл эскадрон ротмистра Тальковского из полка Азулевича, а чуть позже в столицу вошли поредевшие полки Мустафы Ахматовича и Людвига Лисовского. Они-то и сообщили, что 16-тысячный корпус Сераковского перестал существовать.
Несложно было предположить, что Суворов попробует объединить корпус Ферзена и свою армию для главного наступления. Варшава опять может оказаться в осаде, а брать крепости Суворов умел. Костюшко понимал, с кем имеет дело, и реально оценивал возможности своего достойного противника.
Но Сераковский... Как он мог допустить разгром?!
Слухи об этом сражении повергли армию Костюшко в смятение, а его привели в бешенство. Сераковский имел под своим командованием больше солдат, чем Суворов, и всё равно потерпел поражение!
То тут, то там среди солдат были слышны панические высказывания, участились факты дезертирства. Всё это угнетало и в то же время злило руководителя восстания.
И тогда Костюшко сделал то, о чём ещё год назад даже бы не подумал, что ему придётся принимать подобные меры в армии, которую он возглавлял. Костюшко издал приказ, направленный на укрепление дисциплины в повстанческой армии, следующего содержания:
«Если кто будет говорить, что против москалей нельзя удержаться, или во время битвы станет кричать, что москали зашли в тыл, тот будет расстрелян. Приказываю пехотной части держать позади линию с пушками, из которых будут стрелять по бегущим. Пусть всякий знает, что, идя вперёд, получает победу и славу, а покидая поле сражения, встречает срам и смерть».
«Матка Воска, что я делаю? — с ужасом подумал Костюшко, подписывая этот приказ. — Неужели сценарий Французской революции повторится и у нас?»
После поражения под Щекотинами пал Краков, занятый прусскими войсками, а Суворов, разбив Сераковского, самым коротким путём двигался к Варшаве. Ян Домбровский сражался где-то в Великой Польше и даже занял Быдгощ. Однако на его помощь Костюшко в ближайшее время рассчитывать не мог. Слишком было мало времени, а кольцо вражеских армий медленно, но уверенно замыкалось. И тогда Костюшко принял решение, которое стало началом поражения восстания. Приказав Домбровскому направиться со всеми силами к Варшаве, он сам тайно покинул город с армией около 10 000 солдат. Костюшко планировал дать сражение корпусу Ферзена, чтобы разбить его и предотвратить его соединение с войсками Суворова.
План был рассчитан на неожиданность и на то, что войско, возглавляемое лично командующим восстанием, поднимет боевой дух всей его армии. Костюшко понимал, что это было очень рискован но, так как численность солдат корпуса Ферзена предположительно превышала количество солдат, оставшихся под его командованием.
Позже, когда Костюшко был уже несколько дней на марше, из Варшавы к нему на помощь вышел полк Дзелинских, а также дивизия под командованием генерала Понинского. Однако связи с ними не было и не было сведений, где они точно в это время находились. Шансов вырвать победу у Ферзена у Костюшко стало значительно меньше. И всё-таки, присоединив к своей армии остатки корпуса Сераковского, он решил дать бой русскому генералу; который успел уже переправиться через Вислу. Костюшко пошёл на риск, ведя в решающее сражение измотанных большими переходами солдат. Своих решений он не менял, да и менять их было уже поздно.
Русская армия под командованием генерала Ферзена стройными колоннами двигалась маршем в сторону расположения основных сил Костюшко. Ферзен стремился взять реванш за своё отступление под Варшавой. Тогда его корпус вместе с прусской армией не смог с ходу взять город-крепость, а времени на осаду у Ферзена уже не было. Необходимо было перебрасывать войска в другое место, а длительная осада хорошо укреплённого города была только на руку повстанцам. Сначала Ферзен решил ждать подхода основных сил русской армии под командованием Суворова, но сейчас он поменял свой план и стремился принудить Костюшко принять бой вне всяких укреплений. Ферзен прекрасно понимал, что ослабевшая и поредевшая польская армия не сможет противостоять в открытом бою опытным и более многочисленным русским войскам.
Венедикт Булгарин, православный шляхтич, внимательно смотрел из небольшого окна на проходящую через их городок русскую армию. Его внимание привлёк всадник на белой лошади, который неожиданно оторвался от общей колонны солдат и направился прямо к дому Булгариных. Всадник въехал во двор и спешился, ожидая, что кто-то выйдет из дома. Хозяин не стал испытывать терпение русского кавалериста и вышел к военному.
— Добрый день! — доброжелательно поздоровался кавалерист. — Не подскажете, могу ли я видеть хозяина этого дома?
Булгарин посмотрел внимательно на визитёра. Перед ним стоял молодой офицер, у которого только начали расти усы и красный румянец светился на щеках, возможно, ещё не знавших острой бритвы.
— Вам повезло, молодой человек. Хозяин дома перед вами, — ответил хмуро Булгарин, с нетерпением ожидая, что надо этому военному.
Кавалерист не обиделся на негостеприимное приветствие, а улыбнулся и пояснил причину своего визита:
— Я адъютант генерала Ферзена, командующего армией. Он хотел бы остановиться в вашем доме на ночлег и просил уточнить меня, не будете ли вы против? — довольно вежливо для солдата армии противника конкретизировал военный.
— А у меня есть выбор? — по-польски буркнул тихо Булгарин, но адъютант командующего эту фразу не разобрал. — Не возражаю. Пусть заселяется, — уже громко высказал своё согласие хозяин и направился в дом предупредить жену и слуг о приезде незваных гостей.
Через пять минут закрытая повозка уже въезжала во двор Булгариных, сопровождаемая казаками, адъютантом и ординарцем. Во дворе стало неожиданно непривычно шумно.
Казаки спешились у повозки, из которой при поддержке адъютанта вышел уставший от долгой дороги командующий. Он сразу вошёл в дом, где ему представили хозяина и всё его семейство. Среди членов семьи Ферзен обратил внимание на маленького мальчишку лет семи, который стоял за спиной у отца и с любопытством, присущим всем детям его возраста, разглядывал вошедшего дядьку в красивом генеральском мундире.
Ферзен сбросил с себя надоевший плащ и рухнул на деревянную скамью. Махнув рукой и отпустив хозяина дома и членов его семьи, Ферзен помыл руки и сел за стол в ожидании ужина. Внезапно приоткрылась дверь, ведущая во вторую половину дома, и Ферзен вновь увидел голову мальчишки — сына хозяина дома. Он робко смотрел на генерала, как будто что-то хотел спросить, но не решался сделать это.
Ферзен поднял кверху указательный палец и поманил к себе мальчика.
— Тебя как зовут? — спросил он любопытного малого на польском языке.
— Тадеуш, — робко ответил тот.
— А сколько тебе лет? — задал генерал второй традиционный вопрос, который и задают обычно взрослые дядьки, знакомясь с такими детьми.
Мальчик раскрыл ладошку и стал перебирать свои маленькие пальчики.
— Уже семь, — гордо сообщил он генералу.
В это время в комнату вошла жена хозяина и внесла на деревянном подносе нехитрую деревенскую еду со штофом домашней настойки. Ферзен с удовольствием поел, но к настойке не притронулся. Мальчишка же всё это время не уходил из комнаты и сидел на невысоком табурете, наблюдая за генералом. Ферзен опять повернулся в сторону мальчика, но позвал ординарца и что-то тихо ему сказал. Ординарец с улыбкой посмотрел на мальчишку, понимающе закивал головой и вышел из комнаты.
На следующий день после лёгкого завтрака, когда осеннее солнце уже светило, но не грело и робко выглядывало из-за крыш деревенских домов, генерал Ферзен вышел из дома, собираясь в путь. Во дворе уже сидели на конях казаки, сопровождавшие генерала, в ожидании его команды. Хозяин дома также вышел проводить гостей, но смотрел уже не так хмуро, как это было вчера: всё-таки непрошеные гости вели себя достойно, никаких непотребностей не творили и хозяев не обижали. Из-за спины хозяина опять выглядывал мальчишка, теперь уже провожая с отцом русских солдат.
Ферзен махнул одному из казаков рукой, и тот в одно мгновение извлёк откуда-то деревянную саблю и деревянного же коня и передал генералу. Получив от казака изготовленные по его приказу игрушки, Ферзен подозвал к себе мальчика и торжественно вручил ему подарки.
Семилетний Тадеуш Булгарин, схватив в свою маленькую ручку деревянную саблю, обнял Ферзена за шею и, подняв её над головой, неожиданно сказал то, от чего побелело лицо Венедикта Булгарина и вытянулось от удивления лицо русского генерала:
— Ты хороший дядя. Я не буду тебя убивать, даже если мне дядя Костюшко прикажет.
— Ну что же, спасибо и на этом, — только и смог ответить Ферзен и, быстро сев в крытую повозку, выехал в сопровождении своей охраны со двора.
XXIII

олодным октябрьским днём колонна польских повстанцев медленно входила в Матеевицы. Моросил мелкий осенний дождь, и дороги превратились в густую и вязкую кашу. Местные жители стояли вдоль дороги, наблюдая непривычное для них скопление вооружённых людей, и не скрывали своего сочувствия к уставшим от долгого перехода солдатам.
Костюшко сидел на коне, наблюдая за движением армии. Когда мимо него проходили уставшие косиньеры, они поднимали бодро свои головы, их шаг становился твёрже. Солдаты с улыбкой приветствовали своего вождя, размахивая мокрыми шапками. Когда же Костюшко оставался позади, их намокшие от дождя плечи опускались, шаги становились всё медленнее, а руки с трудом держали их простое «народное» оружие. Костюшко всё замечал и понимал, что его армия устала и ей нужен отдых. Тем более что, но сведениям разведки, корпус Ферзена находился уже недалеко.
— Остановимся здесь, — дал Костюшко распоряжение, и вестовые поскакали вдоль
колонны, информируя командиров полков о наступлении долгожданного отдыха. А вечером того же дня в самом большом и по-домашнему уютном доме на совещание к Костюшко собрались командиры кавалерийских полков и отрядов косиньеров. Здесь же присутствовали командир татарских конников Ахматович и командир артиллерии.
Главнокомандующий внимательно посмотрел на командиров. Теперь от них зависел исход предстоящего сражения и, возможно, судьба всего восстания. Вероятнее всего, уже завтра многие из них не доживут до ночи. А будет ли жив сам Костюшко? Этого никто, кроме Господа Бога, также сказать не мог. Такова она — судьба военного человека.
Костюшко бил озноб: усталость и напряжение последних дней подорвали его здоровье, и крепкий организм не выдержал нечеловеческих физических и моральных нагрузок.
— Паны командиры! — Костюшко старался говорить твёрдым голосом, но в груди у него что-то оборвалось, и он сильно закашлялся. «Не хватало ещё заболеть перед сражением», — ругал сам себя Костюшко и постарался унять кашель. Когда ему удалось сделать это, Тадеуш снова посмотрел на молчавших своих соратников. Они ожидали его приказаний и распоряжений.
— Завтра мы должны вступить, возможно, в самое важное сражение в нашей жизни, — начал опять говорить главнокомандующий. — Если мы сумеем разбить корпус Ферзена, то Суворов не решится штурмовать Варшаву без дополнительных сил. Следовательно, мы выиграем время, и русская армия вынуждена будет отойти на зимние квартиры.
— Но у русских большой численный перевес, — напомнил начальник штаба Костюшко, которому это не понравилось. Он об этом сам прекрасно знал, но сейчас надо было поднять боевой дух армии, а не напоминать о тех трудностях, которые их ожидают завтра.
— В сражении можно победить не только числом, — вдруг резко повысил голос Костюшко. — Может вы забыли, но я напомню всем, что корпус Сераковского превосходил по численности армию Суворова, но почему-то потерпел поражение. Или вы забыли, за что мы сражаемся, а может, в наших сердцах угас дух борьбы за свободу Родины?
Видимо, слова Костюшко достигли цели: присутствующие офицеры подняли головы, и по их горящим глазам Костюшко понял, что они готовы хоть сейчас пойти на своего врага.
Около часа Костюшко обсуждал с командирами план предстоящего сражения. Хуже всего было то, что до сих пор не было никаких известий от Ионинского, а разведка не могла доложить о точной численности русских войск, о количестве орудий и дислокации войск противника. Во время совещания так же поступали предложения об отходе и о возвращении за оборонительные заграждения Варшавы. Однако большинством участников этого военного совета было принято решение поутру начать сражение и победить или погибнуть в бою.
И завтра наступило... Костюшко на вороном жеребце бодро гарцевал перед строем. Ночью у него был жар, но верный Томаш напоил командира горячим чаем с какими-то травами и дал выпить вишнёвой настойки. Проспав пару часов, Костюшко к утру почувствовал себя настолько лучше, что сейчас выглядел перед своими солдатами так, что они не могли даже и подумать, что он болен.
Ранним утром по-прежнему моросил дождь, ощущалась осенняя прохлада, а стелющийся по полю туман затруднял определить расположение русской армии. Но когда туман рассеялся, солдаты с двух сторон уже стояли на своих позициях, готовые ринуться в бой. Костюшко посмотрел в сторону врага, и его взору открылась вся диспозиция противника. А она была более выгодной и удобной, чем у его армии.
Раздались первые залпы орудий с обеих сторон, и почти одновременно противники пошли на сближение. Легкокрылые польские уланы и полк татарских конников полковника Мустафы Ахматовича попытались обойти русскую пехоту, но были встречены казачьими полками генерала Давыдова. Этот русский генерал умудрился незаметно переправить 4000 своих солдат через болото, и их появление с левого фланга Костюшко оказалось неприятной неожиданностью. Ахматович в бою был зарублен, а атака польских и татарских кавалеристов захлебнулась. Теперь казаки Давыдова находились напротив главных сил Костюшко на расстоянии ружейного и картечного огня, а русские пушки продолжали изрыгать из себя своё содержимое на протяжении всего сражения.
Трижды войска Костюшко отбивали атаки превосходящего по численности противника штыками и косами. Однако сначала был сломлен их правый фланг, а в ходе боя были разбиты и взяты в плен генералы Сераковский, Коминский и Князевич. Ещё один кавалерийский полк повёл в бой сам Костюшко. Своим личным примером он надеялся увлечь за собой солдат и поднять их боевой дух. Но была и другая причина, почему главнокомандующий повстанцев ринулся в это сражение, а не следил за ним со стороны, отдавая приказания своим адъютантам и вестовым офицерам. В какой-то момент он, реально оценив силы противника, понял, что его армию может спасти только чудо. И тогда Костюшко принял решение умереть или выйти победителем из этого сражения, но шансов на благополучный исход было ничтожно мало.
«Матка Воска, спаси и сохрани. Помоги нам...» — помолился он про себя перед своей последней атакой, но ничего сверхъестественного не произошло. Свежая кавалерия, направленная Ферзеном в самую гущу боя, предрешила исход этого сражения.
Врезавшись в гущу русской пехоты на левом фланге, Костюшко находился в том состоянии, когда человек уже не может контролировать свои действия и тем более действия целой армии. Размахивая саблей направо и налево, он пытался пробить хоть какую-нибудь брешь в этой куче человеческих тел. Какой-то русский гренадер направил на Костюшко штык ружья, но грозное оружие русских солдат вонзилось в его лошадь. Смертельно раненный жеребец поднялся на дыбы и упал на бок, придавив собой всадника. Второй гренадер попытался воткнуть штык в тело главнокомандующего повстанческой армией, но находившийся рядом Томаш поспешил на помощь своему командиру. Он успел выстрелить в гренадера, и острый штык только ранил Костюшко в плечо. Этот поступок стоил Томашу жизни: налетевший на лошади казак рубанул его саблей, и свет навсегда исчез из глаз верного и преданного ординарца. Он замертво свалился рядом со своей лошадью на землю, раскинув широко руки, словно пытался изо всех сил удержаться на ней.
А вокруг Костюшко становилось всё меньше тех, кто мог его ещё спасти. Кругом шло кровопролитное сражение, и его уже не было видно среди лежащих мёртвых тел и ещё живых сражающихся между собой людей. Костюшко попытался вытащить ногу из-под лошади, но не смог. Тогда он выхватил из-за пояса один пистолет и успел его разрядить в какого-то русского солдата. Вытащив второй пистолет, Костюшко направил его на второго врага, но, мгновенно передумав, направил ствол пистолета себе в висок и нажал на спуск. Видимо Богу было угодно, чтобы Костюшко ещё пожил на этом свете, и пистолет дал осечку. Второй попытки застрелиться Костюшко уже не дали: молодой корнет ударил его палашом по голове, и он потерял на какое-то время сознание.
Генерал Давыдов объезжал на своей лошади поле боя, где ещё недавно солдаты двух армий дрались насмерть, выполняя каждый свой долг. Рядом с ним ехали его адъютант и пару казаков, готовых выполнить в любую минуту приказание своего командира. Вокруг лежали убитые и стонали раненые, санитарная команда проходила по полю, отыскивая ещё живых для оказания им помощи, здесь же среди раненых и убитых спокойно ходили лошади, потерявшие в бою своих всадников. В какой-то момент Давыдов обратил внимание на казака, склонившегося над неподвижным телом польского офицера. Казак держал его за руку и пытался стащить с пальца перстень. Давыдов направил свою лошадь в сторону этого казака, чтобы прекратить мародёрство. Подъехав поближе, он с удивлением узнал в лежащем на земле под тушей мёртвой лошади Костюшко. Давыдов быстро соскочил с лошади, оттолкнул казака и склонился над ним. Да, он не ошибся, это был Костюшко и ещё дышал. Позвав своих казаков, Давыдов приказал им перевязать раненого, соорудить носилки и вынести его с поля боя.
Давыдов ехал на лошади рядом с носилками, на которых лежал тот, к кому он относился с большим уважением. Казачий генерал никогда не считал Костюшко врагом, но, выполняя свой воинский долг, по воле судьбы он постоянно находился на другой, противостоящей Костюшко стороне. Давыдов ещё раз посмотрел на носилки и заметил, что раненый открыл глаза и попытался осмысленно оглядеться вокруг. По приказу командира казаки остановились и положили носилки на землю, а сам Давыдов наклонился к Костюшко.
— Я знаю, кто вы. Я могу чем-либо вам помочь? — спросил тихо Давыдов.
Костюшко открыл глаза и внимательно посмотрел на генерала. Через секунду его сухие губы разомкнулись, и Давыдов разобрал слова:
— Спасибо, но мне уже ничего не нужно.
Костюшко закрыл глаза и опять впал в беспамятство. И на этот раз надолго.
Давыдов сел на коня и сопровождал носилки до палатки, где армейские лекари оказывали помощь раненым солдатам. Поставив охрану возле Костюшко, Давыдов немедленно доложил Ферзену о том, что в палатке с ранеными лежит самый почётный пленник за всю его жизнь.
XXIV

рмия Суворова находилась в одном дне пути от Варшавы. Штаб русской армии и сам Суворов разместился в небольшом поместье, к которому постоянно подъезжали и отъезжали всадники. Здесь же во дворе поместья караульные солдаты грелись у костра, просушивая промокшую от мелкого дождя одежду.
Два гренадера, стоящих на посту у входа в штаб, сразу обратили внимание на верхового, который скакал прямо к зданию, не придерживая коня. Осадив резко лошадь возле самого крыльца, вестовой офицер, бросив поводья подошедшему солдату, бегом проскочил мимо бравых гренадеров и скрылся где-то в глубине здания.
Суворов пил горячий чай, когда в гостиную вошёл адъютант. По выражению его лица Суворов понял, что спокойно ему допить чай уже не дадут. Отставив стакан в сторону, главнокомандующий спросил:
— Ну что улыбаешься, как девица на выданье? Докладывай.
— Ваше сиятельство! Прибыл фельдъегерь от генерала Ферзена с хорошими новостями! — отрапортовал адъютант.
— Интересно, интересно... — заинтригованный Суворов поднялся из-за стола. — Быстро зови.
«Может, Костюшко решил подписать перемирие или сдаться в плен?» — с сарказмом подумал граф Суворов, принимая пакет. Он недолюбливал Ферзена, который раньше его начал военные действия против армии повстанцев, за это время ни разу не потерпел поражения и уже многократно пожинал лавры победителя. Однако Суворов умел скрывать свои эмоции и даже хвалил Ферзена в донесениях государыне. Пройдя с боями всю Польшу, его конкурент сумел так организовать наступление, что вот-вот уже второй раз подойдёт к Варшаве. И тогда Суворову придётся делить славу взятия столицы Польши ещё и с ним!
«Ну нет, — решил Суворов, быстро читая донесение, — Варшаву я возьму и без него».
Бегло ознакомившись с содержанием письма, он понял, что его предположения оправдались, и Ферзен на пути к очередной славе. Именно Ферзен, а не он, Суворов, всё-таки захватил в плен самого руководителя восстания.
— Так Костюшко пленён? — уточнил Суворов у вестового офицера.
— Так точно, ваше сиятельство! Его армия под Матеевицами была разбита, а он сам раненый был пленён казаками, — доложил офицер, не догадываясь, как по этому поводу сейчас переживает генерал-аншеф.
Повернувшись к иконе, которая висела в углу, Суворов перекрестился.
— Ну слава Богу! Теперь поляки, может быть, станут посговорчивей и не будут брать пример с турок, — промолвил он, напоминая о своей роли при взятии Измаила. Суворов твёрдо решил уже завтра подойти к рубежам обороны Варшавы и в ближайшее время взять её штурмом.
— Пошлите парламентёра в Варшаву, — приказал через час начальнику штаба Суворов. — Сообщите им о пленении Костюшко и предложите сдать город в течение суток.
— А если они откажутся? — уточнил начальник штаба план дальнейших действий командующего.
— Тогда пойдём штурмом брать город. Нам не привыкать... — просто ответил Суворов, уже прикидывая в уме, сколько на это ему понадобится времени.
Генерал Томаш Вавржецкий, назначенный Костюшко командовать обороной Варшавы, ещё раз осмотрел линию обороны пригорода Варшавы — Праги и остался доволен. Перед тем как покинуть Варшаву, главнокомандующий дал ему дополнительные указания по укреплению обороны города, и теперь Вавржецкий был уверен, что Варшаву он удержит при любых обстоятельствах. Так он и ответил парламентёрам, которые прибыли сегодня в Варшаву с ультиматумом от Суворова с требованием сдать город.
Командующий обороной был литвином, как и Костюшко, но талантами полководца никогда не выделялся. Но даже при этом он считал, что сделано всё, чтобы город достойно встретил противника и выдержал долгую осаду.
За стенами Варшавы собралась армия до 30 000 человек при 200 орудиях. Как солдаты и офицеры регулярной армии, так и патриотично настроенные шляхтичи, а также горожане разных сословий и национальностей готовы были победить либо умереть. В ряды защитников города влились войска генерала Домбровского, князь Юзеф Понятовский со своей поредевшей дивизией также находился среди них.
Штаб обороны Варшавы имел информацию о том, что к городу приближается Суворов, под командованием которого была армия в количестве до 25 000 солдат при 80 орудиях, собранная им по пути следования к своей цели. Поэтому, после проведения последнего совещания у Вавржецкого, польские генералы почти единодушно решили, что Суворов не решится штурмовать хорошо укреплённый город с меньшим количеством нападающих и пушек, чем у защитников столицы Польши. Большинство предполагали, что Суворов не пройдёт дальше предместья Варшавы — Праги, а через некоторое время снимет осаду и оставит город, как это сделал несколько месяцев назад Ферзен.
XXV

ередовые отряды русской армии 3 ноября 1794 года показались возле предместья Варшавы, и вскоре вся русская армия стала лагерем на расстоянии пушечного выстрела от укреплений Праги.
— Ну что скажешь по этому поводу? — спросил Вавржецкий генерала Домбровского, указывая на дым от костров, которые разожгли русские повара, готовя солдатам их любимую кашу.
— Суворов может пойти на штурм, несмотря на численное превосходство с нашей стороны, — спокойно ответил Домбровский.
— Да ты что?! — возразил эмоциональный Вавржецкий. — Да один только залп наших 200 орудий сразу снесёт все передовые его отряды задолго до того, как первые их лестницы коснутся наших укреплений.
Домбровский скептически посмотрел на командующего обороной города и покачал головой.
— Нельзя недооценивать противника. Суворов прошёл большую военную школу, и армия под его командованием практически ни разу не терпела поражений, — возразил опять генерал. — Он штурмом взял Измаил.
Вавржецкий повернулся к Домбровскому и внимательно посмотрел на него.
— Ты сомневаешься в нашей победе? — Вавржецкий явно провоцировал генерала на откровенность, но Домбровский корректно ушёл от прямого ответа.
— Командующий, который до сражения предполагает поражение, уже наполовину побеждён. — Домбровский произнёс фразу и задумался. — Я примкнул к восстанию не для того, чтобы быть битым.
Внимание двух генералов отвлекли несколько сот польских кавалеристов, которые выехали за укрепления и стали гарцевать перед русскими войсками, выкрикивая оскорбления и приглашая тем самым противника на поединок. Русские казаки ответили на вызов, и несколько сот бородатых всадников скрестили свои сабли с клинками польских военных. Через несколько минут всё закончилось: с каждой стороны лошади уносили раненых или заколотых насмерть людей.
Вавржецкий подозвал командира артиллерии и приказал ему произвести залп из всех орудий в сторону лагеря русской армии.
— Пусть Суворов подумает, прежде чем решится на штурм, — бодро напутствовал он артиллеристов.
Напрасно генерал Вавржецкий надеялся, что Суворов не решится наступать на хорошо укреплённый город с превосходящим количеством пушек и защитников, готовых стоять насмерть, но не сдаваться. Главнокомандующий русскими войсками не допускал и мысли застрять надолго возле Праги. Это было не в его правилах.
Некоторые генералы, как русские, так и других европейских государств, не рассматривали Суворова как талантливого полководца и командира. Были и такие, кто называл его просто храбрым гренадером, который побеждал не столько созданием стратегических и тактических планов предстоящих сражений, сколько быстрым натиском и решительной атакой русских солдат. А те, в свою очередь, шли в бой по приказу командира и верили в победу и в его счастливую звезду. Под командованием Суворова и с напутствием «Ура! Вперёд, в штыки!» солдаты были готовы штурмовать любые крепости. И надо отдать должное этому полководцу: армия под его командованием всегда одерживала победы, о чём свидетельствуют и что подтверждают исторические факты.
Что касается полководческих талантов Суворова, то у него они всё-таки присутствовали, так как Суворов всегда реально оценивал силу противника, знал его сильные и слабые стороны. Поэтому он применял свою основную тактику ведения боя, против которого неприятельская армия не могла устоять. Суворов, в отличие от некоторых полководцев, не дробил войско на отдельные отряды. Он в любой сложившейся ситуации шёл в атаку всеми силами: стремительно, с натиском и быстротой, не пользуясь замысловатыми манёврами и перебросками отдельных частей армии в наиболее «горячие точки» сражения.
При этом Суворов поддерживал варварский обычай победителей, который был отменен в русской армии только императором Александром I. «Взял город, взял лагерь — всё твоё!» — такое напутствие Суворов также не раз говорил своим солдатам. Поэтому грабёж, насилие и убийства были постоянными спутниками побед знаменитого полководца России.
Суворов посмотрел в подзорную трубу на лежащий перед ним город и на укрепления предместья Варшавы, Праги, которые его армии предстояло завтра штурмовать.
— Варшава, Варшава... Красивый город, — вслух высказал свои мысли главнокомандующий. — Вот что, милейший, — обратился он к адъютанту, — в случае штурма в центре города пушки не применять. Так и передай артиллеристам. Стрелять только по укреплениям. И ещё... — Суворов на какое-то время задумался. — Подготовь-ка приказ по армии: при штурме
в дома не забегать, неприятеля, просящего пощады, щадить. Безоружных не убивать. С бабами не воевать, малолетков не трогать.
«А штурмовать Прагу всё-таки придётся, — недовольно подумал Суворов. — Так просто поляки не сдадутся... А может быть, и Варшаву».
Всю ночь солдаты русской армии не смыкали глаз и вязали фашины. За укреплениями Праги защитники города тоже не все спали в эту ночь, предвидя, что для многих из них она может быть последней в их земной жизни.
В пять часов утра со стороны русского лагеря взвилась в небо сигнальная ракета, и русская армия пятью колоннами двинулась на приступ укреплений Праги. Перед каждой колонной шла рота отличных стрелков, а две роты несли лестницы и фашины. Все действия и движения русской армии были отработаны и продуманы до мелочей. На расстоянии картечного выстрела русская артиллерия дала залп, за которым последовали более редкие пушечные выстрелы через одну пушку.
Со стороны укреплений также раздались пушечные выстрелы, и ядра польских пушек врезались в первые ряды наступающих. Когда же мрак от дыма и раннего утра рассеялся, к радости нападавших и к ужасу защитников обнаружилось, что пражские укрепления во многих местах оказались повреждёнными. Обложенные дёрном и фашинами, укрепления Праги строились на грунте из песчаной почвы и не могли устоять под разрушительной силой падающих на них ядер русских пушек.
В средней атакующей колонне раздался крик офицера: «Вперёд! Ура!», и колонны подхватили возбуждающие слова атаки, бросившись всей своей лавинообразной массой через ров на уже полуразрушенные укрепления. Через несколько мгновений выстрелы пушек, вой ядер, свист пуль и яростные крики атакующих и защитников слились в единый гул боя.
Русские солдаты и офицеры со свирепым рычанием от ярости и злости, усиливающимся по мере сопротивления защитников, рвались через трупы вперёд, не останавливаясь ни на минуту. С налитыми кровью глазами, с напряжением всех мышц и сухожилий, нападающие и защитники дрались с таким ожесточением, что и те и другие принимали неизбежно только один конец этой схватки — смерть, посему пощады никто просить не собирался.
Схлестнувшись в рукопашном бою, солдаты обеих армий дрались всем, что могло причинить вред противнику. Штыки длинных ружей входили в человеческое тело, приклады разбивали черепа, сабли разрезали по кускам человеческую плоть, ножами и кинжалами люди кололи друг друга, сражаясь лёжа на земле, зубами впивались во всё, до чего могли дотянуться челюсти.
Монах-католик, которому лучше было бы служить в гренадерском полку, чем на службе в костёле, защищая от русских свой город и свою религию, размахивал лопатой, поражая нападающих. Когда же лопату выбили у него из рук, он повалил на землю русского офицера и зубами впился в его щёку, но был тут же заколот штыками.
В рядах защитников, кроме регулярной польской армии, сражались горожане различных сословий, простые люди, которые пришли на помощь варшавянам, женщины и даже подростки. Они в слепой ярости бросались на русских солдат, держа в руках вместо ружей топоры, вилы, косы и даже простые дубины, обрекая себя на гибель от русских штыков. И эта ярость сопротивления защитников в ответ вызывала озлобление и такую же ярость тех, кто рвался вперёд через укрепления. Таким образом, начавшийся бой перешёл в резню, которую командами офицеров остановить уже было невозможно. Хотя русские офицеры и не собирались этого делать. Они сами были участниками боя и той сложности, с которой проходило продвижение вперёд атакующих колонн, превратившихся в единую огромную толпу сражающихся.
Защитники Праги были обречены. Ещё пытаясь оказать сопротивление, часть польских солдат организовали оборону, окружив себя пушками в некоторых бастионах. Одним из таких бастионов командовал «якобинец» генерал Якуб Ясинский, выпускник Рыцарской школы, храбрый и умный офицер на войне, поэт и мечтатель в обычной жизни. Будучи тяжело раненным, он лежал на пушке, направив пистолет на окруживших его врагов, и даже не пытался просить пощады. Зная, что через секунду его убьют, он всё равно успел выстрелить из пистолета в одного из гренадеров, и тут же был заколот штыками прямо на пушке. Такая же участь постигла и других поляков, евреев и татар, оставшихся в укреплениях.
Когда же на бастионах всё было кончено, русские солдаты бросились преследовать бегущих на главную площадь, большинство из которых были ополченцы-горожане. Солдаты и офицеры польской армии к этому времени были либо ранены и пленены, либо уже отдали свой долг и навсегда остались лежать на земле, которую они защищали.
Оказывая бессмысленное сопротивление с непонятной для нападающих ненавистью, горожане продолжали стрелять по преследователям из окон и с крыш домов. В ответ солдаты, окончательно озверевшие от такой яростной защиты, врывались по пути в дома и убивали всех, кого видели их глаза, не оставляя в живых ни женщин, ни детей.
Генерал-аншеф Суворов, наблюдая за атакой своей армии, был недоволен той картиной, которую он увидел в ходе боя. Он был уверен в победе своих солдат, но при этом понимал разницу победы над достойным противником, регулярной армией врага, и той победой, которая достойной славы победителя ему не принесёт. А насчёт своей славы Суворов был особо щепетилен
[41].
«Глупцы, — раздражённо думал главнокомандующий русскими войсками. — Костюшко пленён, основные силы восставших разбиты. На что они надеются?» В то же время он понимал истинную причину яростного сопротивления поляков и в душе относился к ним с уважением и сочувствием. Защитники дрались за свою Родину, за свой город, за свои семьи... Но Суворов был преданным слугой матушки-государыни и выполнял долг солдата. Этим он успокаивал совесть.
Намереваясь не допустить продолжения рез ни в Варшаве, Суворов отдал приказ сжечь мост, соединяющий Прагу с польской столицей. Таким образом главнокомандующий пытался остановит!, успешную атаку, опасаясь, что его армия ворвётся в город и продолжит уничтожать его жителей. Другого способа отрезать путь к Варшаве своим же солдатам, предотвратить новое, более ужасное кровопролитие, которым и завершит атаку русская армия, Суворов не видел.
Многотысячная толпа убегающих от русских штыков женщин, детей и отстающих от них стариков лавиной текла по спасительному мосту, приближаясь к стенам города. Вдруг в небо взметнулось высокой стеной пламя, а затем бегущие услышали взрыв и треск деревянных строений. Пороховой заряд, заложенный по приказу Суворова, разрушил конструкцию моста. Тысячи людей падали в холодную воду реки, а по тем, кто сумел удержаться на воде или выбирался на берег, солдаты без разбора стреляли с жестоким криком: «Нет никому пардона!». Резня на укреплениях Праги получила своё логическое продолжение у моста.
За четыре часа этого кровавого побоища совершилась жестокая месть за избиение русских солдат в гарнизонах Варшавы и Вильно. С трудом русским офицерам удалось спасти от мщения и кровавой расправы и взять в плен около полутора тысяч человек. Среди них были и офицеры польской армии: несколько полковников и генералов, большей частью тяжелораненых.
В донесении главнокомандующего генерал-аншефа Суворова от 7 ноября было отмечено, что всего защитников Праги погибло около 13 340 человек (из них 442 офицера и 4 генерала: Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабовский), пленных 12 860 (в числе пленных генералы Майен, Геслер и Крупинский), утонуло в реке больше 2000. Потери же русской армии составили около шестисот рядовых, восемь офицеров, раненых до тысячи солдат, в том числе двадцать три офицера. По некоторым же оценкам при штурме Праги погибло до 21 000 жителей и польских солдат. Разница в цифрах потерь с одной и с другой стороны очевидна и красноречива. Однако точных подсчётов погибших мирных жителей и польских солдат никто не вёл, да и некому было это делать.
Моросил мелкий осенний дождь. Суворов в окружении адъютантов и вестовых офицеров с хмурым лицом объезжал поле боя, на котором ещё несколько часов назад лилась человеческая кровь и люди лишали друг друга жизни. Двигаясь вдоль берега Вислы, он рассматривал результаты штурма Праги и про себя чертыхался. И было из-за чего: на берегу реки густо лежали убитые люди. Среди окровавленных трупов защитников Варшавы можно было различить не только польских солдат и горожан, входящих в отряды гражданского ополчения. Здесь же находились женщины и дети, которые при штурме оказались на пути русских солдат. А суворовские солдаты уже не разбирали, кого колоть штыками: красная кровавая пелена застилала их глаза, и, озверев от вида крови и отчаянного сопротивления защитников, русские «чудо-богатыри» штыковым тараном прокладывали себе путь вперёд.
Взгляд главнокомандующего остановился на мёртвом совсем молоденьком парнишке, рядом лежала мёртвая женщина, зажав в окровавленной руке корзину с такими же окровавленными кусками ткани. Суворов бросил взор на реку и опять поморщился: по течению плыли трупы. Ему неприятен был запах разлагающихся человеческих тел, хотя к нему он давно уже привык. Подобные картины поля боя после завершения сражения десятки раз сопровождали Суворова во время его военной карьеры. И довольно часто, особенно в последние годы, он созерцал такие «творения» именно как дело своих рук, как результат исполнения имён но его решений. Поставленный во главе десятков тысяч солдат, этот человек управлял сокрушающей машиной смерти, нацеленной на исполнение воли одной женщины.
Наконец, главнокомандующий русской армией резко дёрнул поводья, и лошадь поскакала в сторону города, унося на себе от этого ужаса знаменитого полководца.
Не один Суворов в тот день рассматривал поле сражения под Варшавой. Француз, служивший подполковником в Кинбурнском драгунском полку и участвовавший в штурме Праги, после окончания сражения, смертельно уставший, медленно брёл вдоль берега Вислы, ведя за собой такого же уставшего коня. Француз, как и Суворов, тоскливо осматривал окрестности польской столицы и отметил последствия сражения в своих воспоминаниях, которые никак не делали чести русскому солдату: «До самой Вислы на каждом шагу видны были всякого звания умерщвлённые. И на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих воинов, жителей, жидов, монахов, женщин и ребят...»
На следующий день генерал Вавржецкий рано утром собрал военный совет. Лица присутствующих на самом коротком военном совещании с начала восстания были хмуры. Никто из них не сомкнул этой ночью глаз, вспоминая вчерашний бой и ту трагедию защитников Праги, которую они наблюдали с городских стен, отделявших их от врагов и своих.
— Ну, что скажете, Панове? — задал глупый вопрос Вавржецкий и обвёл взглядом всех офицеров.
Никто не проронил ни слова. Все понимали, что оборонять город дальше — значит, подвергнуть всех тех, кто укрылся за его стенами, участи защитников Праги. Но вслух мыслей никто не высказывал, своим молчанием предлагая главнокомандующему взять на себя ответственность за сдачу Варшавы.
Вавржецкий это понимал и где-то в глубине души сожалел о том, что согласился с предложением Костюшко возглавить оборону города. Теперь он войдёт в историю не как победитель, а как побеждённый, и эта мысль для Вавржецкого являлась главным сдерживающим фактором для принятия верного решения. А принимать его надо было прямо сейчас.
Вавржецкий глубоко вздохнул, ладонью провёл по лицу, как будто снимал с него тонкую паутину, и тихо сказал:
— Волей главнокомандующего армией и обороной Варшавы приказываю сдать город.
Ещё минуту стояла такая тишина, что каждый из присутствующих на совете слышал биение своего сердца. Горечь от поражения и несбывшихся надежд, предчувствие приближающегося нового бедствия для их родины и новых потерь, обида от позорного плена, который им всем предстояло пережить, — все эти чувства бушевали внутри каждого из офицеров после того, как они услышали эти роковые слова. Они не боялись смерти и не раз смотрели ей в лицо. Но эти же офицеры прекрасно понимали, какие могли наступить последствия, какая на них легла бы ответственность за жизни жителей Варшавы, если бы Вавржецкий вынес иное решение.
Суворов не принял парламентёров от командующего обороной города. Он отказался от встречи с ними, демонстрируя величие победителя и унижая побеждённого противника. Только делегация по чётных горожан Варшавы удостоилась его внимания, когда прибыла в ставку главнокомандующего русской армией с предложением о сдаче города и прошением о помиловании. В тот же день русская армия вошла в столицу Польши, которая встретила её закрытыми ставнями вместо окон и непривычной тишиной, которую нарушал топот шагов русской пехоты и редкое ржание лошадей кавалеристов.
И хотя русская армия входила в поверженный город как победительница, русские солдаты по инерции с опаской поглядывали из-под своих густых бровей на крыши домов — вдруг какой-нибудь сумасшедший поляк выстрелит в колонну из-за печной трубы.
XXVI

аршава пала, и постепенно Польское восстание стало затухать. Вавржецкий с остатками повстанческой армии направился на юг к Кракову. Он отступал, преследуемый русскими войсками, и, наконец, остановился у Радошиц вблизи Кельц. Генерал не долго терзался сомнениями, как ему поступить с армией, которая была морально подавлена и небоеспособна. Он снял с себя обязанности главнокомандующего и своим последним приказом распустил солдат и офицеров. С этого момента каждый был предоставлен своей воле. Сам же Вавржецкий вместе с Игнатием Потоцким и другими организаторами восстания вскоре попал в плен.
Где-то в регионах Речи Посполитой вооружённые отряды, называвшие себя армией Костюшко, ещё пытались оказывать сопротивление небольшим русским армейским подразделениям. Однако серьёзного значения такие выступления уже не имели. Это была лишь агония того патриотического настроения и вооружённого движения народа Речи Посполитой, которое так быстро распространилось по её территории в начале 1794 года.
Невысокого роста, щуплый русский генерал-аншеф Суворов стоял перед генералом польской армии Яном Домбровским, который, в отличие от Суворова, отличался высоким ростом и богатырским телосложением. Они некоторое время смотрели друг на друга: маленький победитель на большого побеждённого.
«Хорош, чертяка, хорош, — восхищался Суворов статью и выправкой Домбровского. — Такому и армию доверить можно. Но не наша птаха, не наша...»
Первым нарушил молчание Суворов:
— Присаживайтесь, генерал, — пригласил любезно он польского роённого к столу.
Домбровский не заставил себя долго уговаривать и грузно опустился на небольшой венский стул, который под его весом заскрипел от напряжения своими деревянными суставами. Через минуту денщик Суворова поставил перед ними самовар и какую-то выпечку.
В такой благожелательной обстановке Суворов начал разговор.
— Генерал! Я с уважением отношусь к вашим взглядам и к вашей доблести. Наша государыня также своей милостью готова забыть то, что вы воевали против русской армии.
Домбровский отставил свой стакан в сторону. Он понимал, что Суворов пригласил его не просто попить чаю и поговорить по душам.
— Вы пригласили меня к себе, граф, чтобы вы разить своё отношение ко мне? — спросил Домбровский генерал-аншефа, желая быстрее услышать, что от него хотят, и, возможно, узнать дальнейшую свою судьбу.
Суворов понимал, что перед ним сидит генерал вражеской армии, который не падок на любезности и лесть, а эти качества нравились Суворову.
— Я предлагаю вам службу в русской армии и готов ходатайствовать перед российской императрицей о присвоении вам соответствующего чина, — прямо заявил он.
Домбровскому достаточно было несколько секунд, чтобы принять решение, и Суворов услышал ответ, который и предполагал услышать от этого австрийца с польскими корнями.
— Я присягал в верности служить в армии Тадеуша Костюшко и бороться за независимость своей родины. Вы же понимаете, что в связи с этим я не могу служить вашей императрице.
Суворов вскочил со стула, за ним поднялся и Домбровский.
— Ну что же, вы не поверите мне, генерал, но я удовлетворён вашим ответом, — сообщил удивлённому противнику Суворов. — Скажу больше, вы свободны и можете покинуть пределы Польши в любое время. Но... — Суворов сделал паузу, — советую сделать это в кратчайшие сроки и никогда, помните, никогда не воевать против России. Ступайте и прощайте, генерал.
Домбровский откланялся и вышел из комнаты.
Суворов задумался о том, кого бы из пленных генералов и офицеров ниже чином пригласить к себе на следующую беседу. Он взял в руки список пленённых офицеров и внимательно прочитал следующее имя: «Князь Иосиф Понятовский».
Вскоре в Варшаву от императрицы Екатерины II прибыл фельдмаршальский жезл, которого Суворов так долго добивался, одерживая одну победу за другой. Потёмкина уже не было в живых, и никто не мог помешать насладиться ему полученной наградой. Новоявленный фельдмаршал расставил в ряд несколько стульев и, перескакивая через них, устроил странный хоровод.
— Репнина обошёл, Салтыкова обошёл, Прозоровского обошёл... — приговаривал при этом стареющий полководец, ещё раз выражая детскую радость от получения высшего воинского звания, которое в то время в России имели только два военачальника — Румянцев и бывший фаворит покойной императрицы Елизаветы I граф Разумовский.
Ещё почти год после победы над восстанием Суворов во главе армии находился на территории побеждённого государства. Его личное присутствие диктовалось в тот момент простой необходимостью: надо же было побеждённую страну держать в страхе и повиновении. Имя же Суворова и его «слава», которую он приобрёл после штурма Праги, как раз соответствовала требованию времени и сложившейся в Польше ситуации.
Многие офицеры и генералы, попавшие в плен к русским, отказавшись от предложения перейти на службу в русскую армию, выехали из Польши во Францию или в другие европейские страны. Поступив на службу в армии тех монархов, которые не входили в союз с Россией, они ждали новых войн, чтобы отомстить за подавленное восстание 1794 года. В их сердцах ещё была жива надежда, что с помощью штыков враждебных России армий можно восстановить государственность своей родины.
Вот как определились судьбы лишь некоторых известных генералов — участников восстания под командованием Костюшко, которые остались живы после поражения.
Ян Домбровский выехал в Пруссию, а затем во Францию и уже в ноябре 1796 года сформировал польский легион, с которым участвовал в кампании 1796 года, в чине дивизионного генерала возглавлял 1-й и 2-й польские легионы итальянской армии. С февраля 1800 года Домбровский в чине дивизионного генерала был принят во французскую армию, где и служил до разгрома армии Наполеона союзниками. Вернувшись в 1814 году в Королевство Польское (вошедшее в состав Российской империи), бывший генерал французской армии получил чин генерала от кавалерии и был назначен в Польский сенат, где и служил до выхода в отставку в 1816 году.
Генерал Иосиф Зайончик, тяжело раненный во время штурма Праги, после капитуляции Варшавы был отправлен в Австрию, где находился в качестве узника в городе Ольмюте. Освобождённый в 1795 году, он перебрался во Францию и поступил на службу в наполеоновскую армию. В чине генерала в её составе Зайончик участвовал во многих сражениях, как победоносных, так и бесславных.
Так, при известной переправе через Березину он был тяжело ранен и взят в плен русскими солдатами. Русские лекари спасли ему жизнь, но не ноги, которые пришлось ампутировать из-за отморожения. Подлечившись и вернувшись в Варшаву в 1814 году, Зайончик был представлен Великому князю Константину Павловичу, который рекомендовал его русскому императору в качестве наместника Королевства Польского. В ноябре 1815 года император Александр I утвердил Зайончика на данный пост к негодованию Адама Чарторыского, который планировал занять это место сам. До конца жизни Иосиф Зайончик с этого момента рьяно служил российскому императорскому двору, вызывая негодование польских патриотов своей верной службой.
Национальный герой Польши Юзеф Понятовский, который был готов служить в армии Костюшко простым солдатом, после взятия Варшавы русскими войсками уехал в Австрию, но после 1798 года вернулся в Польшу и был активным сторонником её национального возрождения под эгидой Франции. Выступая на стороне Наполеона Бонапарта, Юзеф Понятовский проявил себя талантливым полководцем и бесстрашным воином. За заслуги Наполеон присвоил ему звание маршала французской армии во время Лейпцигского сражения, в ходе которого единственный французский маршал-иностранец и погиб.
Томаш Вавржецкий, друг и соратник Костюшко, более двух лет просидел в Петропавловской крепости в ожидании суда. После смерти Екатерины II её сын император Павел I освободил его вместе с другими поляками, которые попали в плен после разгрома восстания 1794 года. В отличие от многих своих боевых товарищей во время кампании 1812 года Вавржецкий выступил на стороне России, за что Александр I назначил его министром юстиции Королевства Польского, наградив пожизненным титулом воеводы.
Генерал Юзеф Мадалинский после разгрома восстания скрылся в Галиции, но в январе 1795 года был задержан австрийцами и выдан Пруссии. Два года Мадалинский провёл в тюрьме в Магдебурге, а после освобождения ни со стороны французской армии, ни со стороны русской в военных действиях больше не участвовал.
В Венеции поселился Пётр Потоцкий, последний посол Речи Посполитой в Константинополе, литовский обозный Карл Прозор и несколько генералов. В Париже нашёл приют и Франциск Барсе, посланный туда ещё Костюшко с дипломатической миссией в 1794 году. Этот город становился постепенно очагом польской эмиграции, которая ещё надеялась при помощи Франции на восстановление государственности своей Отчизны.
XXVII
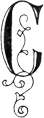
танислав Август Понятовский сидел за столом в своём рабочем кабинете и сам себе наливал в бокал вино. Больше никого к себе он в этот вечер не допускал. Станислав Август не хотел, чтобы его кто-то видел в таком состоянии: уставшим, с дряблым от постоянной бессонницы лицом и трясущимися руками.
«Проиграл. Да, проиграл Екатерине, — честно сам себе признался польский король. — Она оказалась сильнее... Или сильнее были обстоятельства? И далась ей наша Речь Посполитая на старости лет! Ей бы о встрече с Богом подумать, а она всё со мной воюет... Не угомонится, старая...» — про себя ругался Станислав Август. Он с трудом встал и подошёл к окну. Возле его апартаментов на посту стояли русские гренадеры, охраняя побеждённого короля. А ведь очень скоро его, наверно, увезут из Варшавы, возможно, навсегда. Не помогло и письмо, которое он направил Екатерине II, в котором вверял судьбу свою и всей Польши в руки «великодушной победительницы». На этот раз «победительница» не осталась к нему «великодушной»: в ответе она распорядилась доставить Станислава Августа Понятовского в Гродно. А что будет с ним потом? О своей дальнейшей судьбе король мог только догадываться.
«А впрочем, я тоже хорош, старый дурак: конституция, республика, реформы... Да кому они нужны? Шляхте? У неё и так хватало свободы. Потоцким, Сапегам,
Любомирским и Огинским? У них было всё... — мысли короля обгоняли одна другую, сбивались в какой-то клубок и внезапно опять разбегались хаотично в разные стороны. — В чём я ошибся?.. Или в ком? Костюшко... Республиканец и либерал. Джентльмен, пся крев... Нет, он ничего не смог бы сделать с этой сворой генералов, которые возомнили себя Александрами Македонскими. Да что там генералы, когда родной брат Михаил и тот стал предателем
[42]...
Дрожащей рукой Станислав Август налил в бокал ещё вина и тупо уставился в стену. Он напился, но продолжал мысленно истязать свой мозг. В какой-то момент ему стало стыдно за свою мимолётную слабость.
«Нет, всё правильно. Это воля свыше... Иначе мне не надо было надевать корону в том далёком 64-ом. Однако 30 лет... 30 лет я правил государством. Больше меня правили Польшей только швед Сигизмунд III Ваза
[43]... и Жигимонт I Старый
[44]. А сколько шляхты полегло на полях сражений за «новую» Речь Посполитую... Просто Екатерина оказалась сильнее...» — последние мысли улетели куда-то в глубину сознания, и король уронил голову на руки.
Слуги осторожно перенесли его бесчувственное тело в опочивальню и тихо закрыли массивные двери. Наконец, Станислав Август забылся в тревожном сне и, не просыпаясь, проспал почти сутки. Его тело, его стареющий организм был физически и психически надломлен и полностью истощён. Король — он тоже человек. Измученный и уставший от напряжения, он спал в опочивальне, и никто не посмел его потревожить, понимая, что это его последняя ночь здесь.
Станислав Август сидел в своём кабинете в ожидании русского конвоя. Со дня сдачи Варшавы русским войскам он находился под домашним арестом, а командующие союзных армий ожидали решения своих монархов о дальнейшей судьбе низложенного польского короля. Фридрих Вильгельм и Иосиф II де Каше не возражали Екатерине II, когда она изъявила желание видеть своего бывшего фаворита в России. Последняя их памятная встреча состоялась на Украине в Каневе в 1784 году. Тогда на судне, на речных просторах в тёплый майский вечер Екатерина получила от Станислава Понятовского очередные заверения в его преданности русскому престолу.
Наконец, послышались гулкие шаги жёсткой поступи командира конвоя. Открылась массивная дверь, и в кабинет вошёл высокий гвардейский офицер. Сняв из приличия перед королём треуголку, наклонив голову и щёлкнув каблуками, офицер громким голосом чётко произнёс:
— Её императорское величество государыня государства Российского Екатерина II своей волей поручила доставить вас в Гродно. Прошу вас собраться и спуститься к карете.
Станислав Август Понятовский с напряжением оторвал своё грузное тело от кресла. Поднявшись и выпрямив затёкшую спину, он набросил с помощью камердинера дорожный плащ, тоскливым взглядом осмотрел свой кабинет и медленно прошёл мимо офицера в открытую дверь. А через час он уже ехал в карете по первому снегу за пределы Варшавы и с грустью рассматривал через запотевшее окно знакомые с юности места, прекрасно понимая, что больше их никогда не увидит.
В Гродно Станислав Август Понятовский встретит старого князя Репнина. Они долгими часами будут общаться между собой, вспоминая то время, когда Станислав Понятовский добавил к своему имени «Августа». Такие беседы дадут свои плоды: пробыв в Гродно около года, 25 ноября 1795 года, в годовщину своей коронации и в день именин русской императрицы, король подпишет отречение от польского престола. И только после её смерти по указанию Павла I под эскортом суровых русских солдат он будет отправлен в Петербург. Там, в российской столице, 12 февраля 1798 года своей смертью последний польский король искупит ошибки, совершенные им по воле Екатерины II, которыми эта роковая для Станислава Понятовского женщина так умело воспользовалась.
В том же 1795 году представители стран-победительниц Речи Посполитой: Россия, Пруссия и Австрия подпишут трактат о третьем разделе побеждённой страны. Этот трактат окончательно уберёт её как самостоятельное государство с карт мира. Россия получит Литву, Белоруссию и Правобережную Украину (кроме Галиции). Пруссия тоже не будет обижена: ей достанется северо-западная часть польских территорий вместе с Варшавой. Ну а Австрия будет довольствоваться юго-западом Польши со старинным городом Краковом и соляными копями в Величке.
XXVIII

в это время другой конвой сопровождал в Санкт-Петербург не менее важного арестанта, который уже длительное время находился без сознания от полученных ран и болезни. Начальник конвоя имел секретное предписание от генерал-аншефа Суворова доставить польского генерала-кавалера Милошевича в Петропавловскую крепость Санкт-Петербурга для проведения расследования и решения его дальнейшей судьбы. Под именем Милошевича тайно везли в столицу России Тадеуша Бонавентура Костюшко, а вместе с ним и его секретаря и адъютанта Немцевича и Фишера.
Как часто человек ошибочно считает, что он хозяин своей судьбы. Но, видно, судьба действительно играет по своим правилам, не подвластным человеческому разуму и его желаниям. А Всевышний своей волей расставляет всё по своим местам: кого-то наказывает, а кому-то оказывает свою милость и покровительство... Конвой, сопровождавший важного пленника, в один из вечеров по пути к месту назначения оказался у ворот поместья князя Любомирского, женой которого была Людовика Любомирская, урождённая панна Сосновская.
В этот вечер Людовика плохо себя чувствовала. Мигрень, которая вдруг разыгралась не на шутку, не давала ей спокойно отдохнуть. Чтобы как-то отвлечься от головной боли, княгиня лежала в кровати, держа в руках какую-то книгу. Смысл прочитанных ею строк никак не доходил до её сознания, и Людовика отложила ненужную книгу в сторону. Лёжа на мягких перинах, она смотрела в потолок, и её мысли перемещались от воспоминаний картин детства до настоящей действительности.
За годы замужества за Иосифом Любомирским она родила ему троих детей, научилась блистать в высшем свете и вести дела поместья, помогая в этом мужу. Она прекрасно разбиралась как в политике, так и в экономических вопросах. Поэтому корректно, не обижая мужское самолюбие, Людовика иногда советовала мужу как сделать так, чтобы организовать семейную торговлю или производство, беря пример с того же короля, подобрать для этого нужных людей, чтобы не разориться, как Антоний Тизенгауз. При этом она оставалась представительницей высшего общества, периодически появляясь и блистая в нём своей красотой. Сначала в качестве развлечения, а потом уже и серьёзно она увлеклась написанием романов, и известные в литературных кругах Польши критики положительно отзывались о её первых литературных достижениях. В высшем же свете семья Иосифа Любомирского по праву служила примером польской аристократии.
Положение князей Любомирских, их богатство и связи как в Речи Посполитой, так и за её пределами позволяли им чувствовать себя уверенно и в годы мира, и в годы войны. Как и многие польские и литовские магнаты, они всегда были в почёте при любой власти. То положение, которое занимали Любомирские в высшем обществе, не позволяло монархам применять к ним какие-либо санкции либо оказывать на них какое-либо давление. Как правило, такие действия с их стороны вызвали бы встречное противодействие их сторонников в светском обществе, и не только в Речи Посполитой. Ведь княжеский род Любомирских был связан родственными узами с древними династиями, правящими в Европе: Бурбонами, Капетингами, Гогенцоллернами, Людольфингами, Виттельсбахами и даже Рюриковичами. Однако Екатерину II статус и положение аристократов Речи Посполитой, которые принимали участие в восстании Костюшко, не волновали. Она своей волей накладывала секвестр на их имущество, и Любомирские ожидали, что подобные санкции со стороны российской императрицы будут применены и в отношении их семей
[45].
В двери Людовики тихо постучала служанка, прервав размышления своей госпожи.
— Это ты, Ядвига? — спросила уставшим голосом Людовика.
Двери тихо приоткрылись, и служанка заглянула в спальню хозяйки.
— Вы просили заварить и принести травяного чая, — услужливо напомнила Ядвига и, получив разрешение, вошла в комнату, неся на серебряном подносе чайник с чашкой. Служанка быстро наполнила чашку пахучим напитком, и Людовика с удовольствием вдохнула его аромат. Запах мяты и душистого чабреца приятно защекотал ноздри, но насладиться чаепитием она не успела: в двери опять постучали, только этот стук был тревожным и требовательным.
Людовика нахмурила брови, вопросительно посмотрела на Ядвигу и недовольно спросила:
— Ну кто там ещё? Заходи.
В дверь просунулась голова горничной, которая взволнованным голосом быстро прошептала:
— Пани Людовика! Ваш муж просит вас немедленно спуститься в гостиную.
Людовика недоумевала: ещё час назад Иосиф пожелал ей спокойной ночи и отправил отдыхать. Ещё до ужина у неё разыгралась мигрень, и князь согласился с желанием Людовики лечь пораньше в постель, отказавшись от еды.
— А что произошло? Что случилось? — попыталась прояснить ситуацию княгиня.
— Русские солдаты во дворе поместья, — тихим шёпотом испуганно проговорила горничная.
Мигрень немедленно забылась или исчезла, и пани Людовика отослала горничную к князю, чтобы она сообщила о скором её приходе. С волнением и тревожным чувством Людовика вскоре спустилась в гостиную, где её встретил не менее взволнованный муж.
— Извини, дорогая, но нам сегодня не дадут отдохнуть, — объяснил он с огорчением от прибытия непрошеных гостей. — Какой-то русский отряд завернул в наше поместье. Думаю, будут проситься на постой. Ничего не поделаешь, — развёл он руками, — придётся объяснить им, с кем они имеют дело.
Иосиф Любомирский пытался успокоить супругу, а сам обречённо подумал: «Неужели началось?.. За мной или...»
Супругам Любомирским не пришлось томиться долгим ожиданием, и через несколько минут в гостиной уже стоял, представляясь хозяевам, офицер отряда.
— Премьер-майор Титов. Следую с конвоем в Санкт-Петербург, — по-военному отчеканил он хозяину поместья.
Любомирский облегчённо вздохнул: «Пронесло... Не за мной...»
— Князь Иосиф Любомирский, — назвался в ответ хозяин. — Моя супруга — княгиня Людовика Любомирская, — торжественно и гордо представил князь свою жену.
— Простите, князь, за неожиданное вторжение, но в это вечернее время волей судьбы нас занесло именно к вам, — замялся премьер-майор. — По распоряжению генерал-аншефа Суворова мы конвоируем опасного преступника, и нам нужно где-то расположиться на ночь.
— Ну раз уж попали к нам, — смягчился князь, услышав фамилию главнокомандующего русской армией, — то никуда не денешься. Я дам распоряжение, и вам будет предоставлен ночлег.
— А также корм для лошадей, — добавил офицер армии-победительницы в приказном тоне.
— И корм для ваших лошадей, — повторил Любомирский и пригласил премьер-майора снять мокрый плащ и присесть к столу.
Слуги по указанию хозяина побежали во двор размещать конвой и лошадей, а князь Любомирский присел за большим обеденным столом, где уже расположился русский офицер.
Камердинер князя быстро организовал ужин для Титова и поставил приборы для супругов Любомирских. Однако Людовика, разобравшись, что её присутствие в мужской компании не требуется, извинившись, удалилась в свою спальню с полной решимостью допить травяной чай и лечь спать.
— И кого вы конвоируете? — полюбопытствовал князь, когда Титов выпил второй бокал французского бургундского вина и «размяк» в тепле и уюте окружающей обстановки.
— Генерал-кавалера Милошевича, — слегка заплетающимся языком пояснил гость.
Любомирской наморщил лоб и на секунду задумался.
— Милошевич... Милошевич... Что-то не припомню такого генерала... Откуда вы его везёте?
— Захвачен в плен под Матеевицами, где разбили армию Костюшко, — теряя чувство ответственности за сохранение секретности своей миссии, «докладывал» гордо начальник русского конвоя литовскому магнату.
Подливая очередную порцию вина в опустевший бокал Титова, князь настороженно спросил:
— А что Костюшко? Его куда?
— Костюшко? Его туда же, в Петербург, — продолжал откровенничать Титов, изрядно захмелев от выпитого на голодный желудок вина. — Какое хорошее вино, — сделал он комплимент Любомирскому, заметив, как тот отставил свой бокал в сторону и больше не пьёт.
Князь понял намёк, сделал слуге жест рукой, и бокал премьер-майора опять наполнился, но не надолго. Приняв очередную порцию спиртного, Титов вдруг о чём-то вспомнил и заметно заволновался. Это замешательство русского гостя не укрылось от глаз князя, и он спросил:
— Что-то случилось, пан офицер?
Титов посмотрел на князя туманными от усталости и выпитого спиртного глазами.
— Князь, а где вы разметили арестованных? Где охрана? — взволнованно спросил он, пытаясь самостоятельно подняться с кресла и осмотреться по сторонам.
— А что, нужна ещё комната для генерала Милошевича? — уточнил хозяин.
— Какого Милошевича? Для Костюшко и этих... Фишера и... — Титов задумался на секунду, — какие у вас, поляков, сложные имена... Немцевича.
Князь Любомирский от сенсационности сказанного только что этим пьяным офицером привстал с кресла, но сразу же сел на место. Ошеломлённый известием, что в его доме находится пленённый русскими Костюшко, Любомирский лихорадочно соображал, как вести разговор с Титовым дальше.
— Так Милошевич или Костюшко? — тихо спросил он, чтобы не слышал стоящий в стороне слуга.
Титов посмотрел на князя, потом на свой пустой бокал, но осмысление происходящего ещё не полностью доходило до начальника конвоя. Наконец, он тряхнул головой, с усилием встал на ноги и, слегка качнувшись в сторону, попытался щёлкнуть каблуками.
— Однако мне пора. Завтра рано утром мы оставим ваш гостеприимный дом, князь, — попытался откланяться Титов.
— Проводи пана в его комнату, — приказал камердинеру Любомирский и встал, чтобы попрощаться и самому удалиться на покой.
Но князь ещё долго не мог заснуть, вспоминая слова Титова о Милошевиче, Костюшко и других пленниках. Были ли слова Титова пьяной болтовнёй или вторая названная фамилия соответствовала действительности, ему предстояло узнать уже на следующий день.
Рано утром двор поместья непривычно наполнился шумом, который создавали солдаты конвоя, подготавливая лошадей в дальний путь. Разместив пленных в отдельно стоящем доме для слуг, два солдата охраны, поочерёдно сменяя друг друга, изолировали опасных государственных преступников от любых контактов с прислугой поместья.
Костюшко всю ночь бредил; мучаясь от жара и ранений, которые с трудом заживали на его измученном физически и духовно теле. Немцевич с Фишером с жалостью наблюдали за тяжёлым состоянием своего товарища, но ничем не могли помочь ему. Их не подпускали к больному, и весь уход за Костюшко осуществляли русские солдаты.
Пару раз на протяжении всего пути Тадеуш Костюшко приходил в себя, удивлённо оглядывался вокруг, но ничего не говорил, а только смотрел вверх и молчал. Но такие просветы в сознании больного были редки, и большую часть времени он находился в забытьи.
Людовика проснулась рано утром с тем же чувством тревоги, которое она испытала вчера вечером. Одевшись по погоде и накинув на плечи тёплый полушубок, она вышла во двор подышать свежим воздухом, охлаждённым первыми утренними заморозками. Княгиня с любопытством рассматривала бородатых казаков и бравых подтянутых драгун, составляющих охрану, когда из домика для слуг вынесли носилки с раненым офицером. По белеющим повязкам на его ноге и на голове и проступающих на них бурых пятнах Людовика догадалась, что полученные им раны достаточно серьёзны. Из обыкновенного женского любопытства она подошла поближе к солдатам, которые несли носилки. Вглядевшись в лицо раненого, Людовика почувствовала, как у неё подкашиваются ноги, а земля вдруг стала уходить куда-то в сторону. Она хотела крикнуть, позвать на помощь, но какой-то ком застрял в её горле, а голос не слушался парализованного страшной догадкой сознания.
«Матка Воска! Да это же он! Тадеуш! Не может быть...» — пульсировала горячая кровь в висках у бедной женщины, и Людовика машинально подошла ещё ближе, чтобы убедиться в реальности происходящего. Однако Титов, заметив её движение в сторону носилок с раненым, поторопился перехватить невольного свидетеля.
— Пани, вам сюда нельзя, — слегка придерживая её рукой, пояснил он княгине.
Но непонятливая пани внезапно оттолкнула руку майора и рванулась к Костюшко. Она упала перед носилками на колени, и солдаты от неожиданного поступка этой красивой женщины остановились и с немым вопросом уставились на своего командира.
Титов подошёл к княгине. Он понял, что перед ним только что разыгралась непонятная ему человеческая трагедия, которою не всегда увидишь даже на сцене лучших театров мира. Но Титов был человеком военным и прекрасно понимал, что тайна перевозки Костюшко в Санкт-Петербург в этом доме уже перестала быть тайной. И в этом есть его вина, о которой никто, желательно, не должен знать.
— Княгиня, вы знаете этого человека? — тихо спросил он, плохо понимающую происходящее Людовику.
Людовика услышала голос и подняла глаза на Титова. Когда же до неё дошёл смысл заданного ей вопроса, продолжая молчать, она быстро закивала головой. Догадка Титова подтвердилась, и он задумался. В это время на крыльцо вышел хозяин поместья и стал также свидетелем трагедии жизни. Он направился к носилкам, возле которых стояла на коленях его жена, и Титов понял, что ему пора действовать. Кивнув казакам в сторону князя, он приказал его задержать, а сам наклонился к стоящей на коленях Людовике и попытался её поднять. Наконец княгиня обрела дар речи и со слезами на глазах обратилась к премьер-майору:
— Прошу вас, ради Христа, в которого вы, надеюсь, верите, ради всего святого, разрешите мне минуту побыть рядом с ним, — попросила она, указывая на лежащего без сознания Костюшко.
И здесь сердце Титова дрогнуло. «Ну и пусть побудет. Чёрт с ним... Они же тоже люди», — подумал Титов и кивнул солдатам, разрешив княгине остаться у носилок.
Людовика встала с колен и своими нежными белыми руками стала гладить и поправлять на Тадеуше бурые от крови бинты. Она подняла взгляд на стоящего рядом Титова и опять попросила его:
— Ещё минуту... Я клянусь, что об этом никто не узнает.
Титов сдался во второй раз и разрешил.
Князь Любомирский стоял также в нескольких шагах от своей жены, не решаясь подойти к ней, когда между ними находился русский драгун. Растерянность и унижение чувствовал магнат в своём родном доме, но ничего сейчас решить не мог. Его жена стояла рядом с Костюшко и слёзно просила русского офицера разрешения побыть с ним хотя бы ещё несколько минут!
Немую сцену нарушил голос Титова:
— Всё, княгиня, достаточно, — сказал он командирским голосом, по тону которого Людовика поняла, что больше времени у неё нет. Она в последний раз погладила своей рукой руку Тадеуша, поцеловала его в лоб и отошла от носилок на несколько шагов.
Титов махнул рукой, и казаки продолжили свой путь, навсегда унося Костюшко от Людовики.
Перед тем как последовать за подчинёнными, Титов в последний раз обернулся в сторону Людовики и сказал:
— Княгиня, помните о своей клятве, — после чего поправил треуголку и пошёл вслед за конвоем.
За носилками шли связанные между собой ещё двое пленных, ставших невольными свидетелями трагической встречи. Юлиан Немцевич и Фишер, всю последнюю ночь находившиеся рядом со своим командиром, понуро шли за конвоем, удивляясь про себя, какая удивительная штука эта жизнь и какие она иногда преподносит сюрпризы.
Костюшко положили в большую кибитку, похожую на сундук. Снаружи она была обита кожами, а внутри железными листами. Только сбоку было видно окошко для подачи пищи и воды. Туда же поместили Немцевича и Фишера. Когда кибитка с пленниками и конвой скрылись за поворотом, Людовика в молчании прошла мимо супруга, который по-прежнему стоял в немом оцепенении от всего увиденного. Вдруг, неожиданно что-то вспомнив, она повернулась к нему и сказала только одно слово:
— Прости.
Князь словно очнулся от забытья, подошёл к жене, обнял за плечи и привлёк к себе. И в этот момент из прекрасных женских глаз хлынули слёзы, и тело Людовики содрогнулось от горьких рыданий. Она продолжала плакать до тех пор, пока её муж не довёл до спальни и не уложил на кровать. Просидев рядом с ней и подождав, пока она успокоится, Иосиф Любомирский спустился в гостиную и приказал подать ему домашней наливки. Собственноручно наполнив бокал доверху своим любимым напитком, он одним глотком выпил его и с горечью произнёс:
— Что за жизнь... Двадцать лет любить женщину, которая любит другого.
В этот вечер в поместье князей Любомирских было удивительно тихо. Слуги шептались между собой, смутно догадываясь, что в доме произошло что-то такое, о чём лучше никому не говорить и никого в эти догадки не посвящать.
А повозка с пленными героями прошедшей войны удалялась от поместья Любомирских, чтобы прибыть через две недели в столицу России. Там их ожидал скорый суд, возможно, долгие годы плена или смерть в жёсткой петле на виселице, так как гильотина при исполнении смертного приговора в России не применялась.
Часть четвёртая
ВТОРАЯ СУДЬБА
I

латон Зубов, последний фаворит Екатерины II, сидел в рабочем кабинете российской императрицы, развалившись в мягком кресле. Он маленькими кусачиками, которые ему презентовали уральские умельцы вместе с ювелирными изделиями из малахита, откусывал на руке толстые ногти. Сама же постаревшая императрица сидела в это время за рабочим столом и просматривала какие-то бумаги, не обращая на него никакого внимания. Наконец она выпрямила занемевшую спину и велела позвать Безбородко, который явился к ней на очередной доклад по «польскому вопросу».
— Ну, какие новости от наших генералов? — спросила его Екатерина II тоном, как будто интересовалась погодой за стенами дворца.
Безбородко довольно улыбался: сегодня ему было чем обрадовать матушку-государыню.
— Есть вести от генерал-аншефа Суворова: Варшава взята с боем, основные силы бунтовщиков разбиты, а их предводитель Тадеуш Костюшко направлен в Санкт-Петербург для проведения дознания и суда.
— Ну что же, этого и следовало ожидать. Суворов не мог не победить. И не такие баталии выигрывал. Князь Потёмкин был прав... — последнюю фразу Екатерина сказала тихо, но Зубов её всё-таки услышал.
— Подумаешь, разогнал несколько тысяч бунтарей, — насмешливо заметил он.
— Ты, Платоша, не прав, — Екатерина II всё прощала своему фавориту, так как знала, что он у неё последний. Она ласково посмотрела на Зубова и объяснила ему, как учительница своему ученику: — Польский бунт мог перерасти в польскую революцию, подобную французской. Поэтому его надо было подавить в кратчайшие сроки. А с этим делом Суворов справился, как нам надобно было.
Зубов обиженно насупился и замолчал. Он многое позволял себе в Российском государстве, когда стал фаворитом, но спорить с самой государыней в присутствии её приближённых не осмеливался. Платон Зубов понимал, что он значит для состарившейся Екатерины.
Ещё недавно Платон Зубов, родом из семьи мелкопоместных дворян, в свои двадцать два года был неизвестным поручиком одного из гвардейских полков. Но однажды на этого красивого и хрупкого телосложения парня с «мягкими манерами и бесхитростной душой» обратила внимание императрица. Однако став фаворитом Екатерины II, этот «скромник» в период с 1789 по 1796 год стал графом и князем Священной Римской империи, получил орден Чёрного и Красного Орла. И, главное, за это время он добился при дворе российской императрица той власти, которой достигали придворные своей верной службой десятилетиями. Бесхитростность, которая проявлялась в общении Платона Зубова с Екатериной II, тоже была наигранной: пользуясь своим положением, он без жалости обирал всех тех, кто обращался к нему с какими-нибудь просьбами, и его богатство стремительно росло. А сколько дорогих подарков делала ему по своей прихоти сама императрица!..
Не обошла милостью государыня и его родного брата Николая Зубова, который быстро дослужился до чина генерал-майора и был женат на единственной дочери графа Александра Суворова.
Безбородко продолжал стоять перед государыней в ожидании её дальнейших приказаний.
— Ну и как мы поступим с этим Костюшко, — обратилась за советом к своему канцлеру Екатерина II.
Зубов опять не выдержал и возмущённо подал голос, не позволяя Безбородко высказать своё мнение:
— Казнить его, как казнили Емельку Пугачёва.
Безбородко мудро решил сделать паузу и не сразу отвечать императрице, ожидая, что скажет государыня на замечание своего фаворита.
— Костюшко — это не казак Пугачёв. Прежде всего — он шляхтич, дворянин, генерал американской армии, с которым Вашингтон имел дружеские отношения, — терпеливо поясняла Екатерина II, стараясь не повышать голос.
Но Зубов всё равно обиделся: не хочет государыня его слушать, объясняет, как малому ребёнку в присутствии этого толстого чиновника.
Екатерина II заметила недовольство Зубова, но решила с ним не спорить, а Безбородко указала:
— Когда Костюшко доставят в столицу, сообщи мне и вызови прокурора Самойлова. Тогда и решим, как с ним поступить, а пока можешь быть свободен, Александр Андреевич.
Безбородко, ковыляя, как утка, под тяжестью своего веса, удалился. Он так и не высказал своего мнения по поводу пленённого Костюшко. А государыня обратилась к своему «милому»:
— Не сердись, Платоша, судить мы этого Костюшко, конечно, будем. Только смерти предавать его я не позволю.
— Это почему же, матушка? — делая вид, что он ещё сердится, спросил Зубов. — Он же бунтарь, преступник.
— Если мы его предадим казни, то сами сделаем его национальным героем и страдальцем, а нас будут считать варварами и деспотами, — настойчиво продолжала разъяснять Екатерина II свою политическую игру. — Пусть поживёт ещё, подумает, чего он добился, пойдя войной против нас.
Платон Зубов почти на цыпочках плавно подошёл к Екатерине II и, низко склонившись, нежно взял её руку и приложился к ней губами. В ответ Екатерина, как малого ребёнка, погладила его по голове и поцеловала в макушку.
— Мудра ты, матушка-государыня, ох мудра, — льстиво промолвил Зубов, подняв голову и посмотрев ей в глаза.
Российская императрица с усилием встала с кресла. В последнее время у неё располнели ноги, которые по ночам болели, и эта боль мешала ей заснуть. Поэтому она, утомившись от бессонницы и болей, засыпала только под утро. Обычно царица спала до обеда, затем принимала около часа своих чиновников, ужинала с Зубовым или с фрейлинами и опять готовилась ко сну. При этом перед тем, как лечь в постель, она выпивала какую-нибудь микстуру, приготовленную для неё придворным лекарем, которого в душе считала шарлатаном.
Вот и сейчас, устав от напряжения последних часов и государственных дел, Екатерина II решила отдохнуть. Словно что-то вспомнив, она потрепала Платона Зубова по щеке и сообщила про ещё один «подарок», который она для него приготовила:
— Я приказала подготовить указ о назначении тебя генерал-губернатором Новороссии.
Услышав эту очередную приятную новость, Зубов мило и скромно улыбнулся, а государыня подставила ему свою щёку для его нежного поцелуя.
А уже через год возмущённый граф Растопчин писал Семёну Воронцову: «Граф Зубов здесь всё. Нет другой воли, кроме его воли. Его власть обширнее, чем та, которой пользовался князь Потёмкин...»
II

один из ноябрьских дней во двор Петропавловской крепости въехала большая арестантская карета в сопровождении охраны. По тому, какое количество конвоиров её сопровождало, было видно, что внутри находятся не простые пленники. За ней следовала крытая повозка, из которой вылез премьер-майор Титов и с удовольствием размял затёкшие ноги. Через минуту к нему подошёл комендант Петропавловской крепости с четырьмя солдатами, которому Титов передал все бумаги в отношении доставленных им арестантов. Немцевича с Фишером вывели из арестантской кареты и сразу повели внутрь крепости, а Костюшко, который по-прежнему находился в жару и без дознания, комендант крепости приказал отнести на носилках к себе в дом. Премьер-майор Титов, удивлённый таким порядком обустройства главного арестанта, с немым вопросом посмотрел на коменданта. Комендант понял без слов его вопросительный взгляд и пробурчал сквозь зубы:
— Приказ матушки-государыни.
Больше у Титова вопросов не было, и он отправился на отдых вместе с конвоем.
Костюшко поместили в отдельной хорошо убранной чистой комнате. Через час возле его кровати сидел лейб-медик крепости Шилов и, внимательно осмотрев больного, заявил:
— Пожалуй, он уже не жилец. Столько времени в жару и без сознания. К тому же раны воспалены, гноятся.
Комендант с сочувствием посмотрел на Костюшко, потом на лейб-медика.
— Как ты думаешь, государыня будет довольна нами, если этот (комендант кивнул на больного) помрёт в моём доме? — задал он тревожащий его вопрос.
Лейб-медик пожал плечами. — Вот-вот, подумай, — добавил комендант, — и сделай всё, чтобы он выжил.
С этого момента Шилов постоянно находился при Костюшко и уходил поспать только тогда, когда его сменял помощник. Старания Шилова не пропали даром, и уже через три дня Костюшко открыл глаза и осмысленно осмотрел комнату. Шилов, заметив, что больной пришёл в сознание, обрадовался:
— Поздравляю вас с возвращением к жизни. Ну вы и живучий!.. Значит жить будете сто лет.
Но Костюшко ничего не ответил лейб-медику и отвернулся лицом к стене. В его затуманенном и больном мозгу ещё продолжался бой, и эта комната и русская речь никак не вписывались в реальную картину его нового бытия.
Шилов немедленно доложил коменданту о том, что больной Костюшко пришёл в сознание, и в тот же день в комнате больного сидел генерал-прокурор Самойлов.
— Я бы не рекомендовал производить допрос арестованного, — посоветовал генерал-прокурору Шилов. — Слишком слаб и на мои вопросы не отвечает.
Огорчённый таким порядком дел, Самойлов приказал:
— Немедленно сообщите мне, когда он полностью придёт в себя. А то государыня меня почти каждый день спрашивает, допросил ли я арестованного. А мне и сказать нечего.
На этом первое посещение Самойловым Костюшко закончилось, но через пять дней он опять появился в крепости и целый час сидел рядом с кроватью Костюшко, задавая вопросы, а секретарь записывал ответы.
Екатерина II осталась довольна прошедшим 1794 годом. Всё сложилось почти так, как она предполагала и планировала. Даже война с поляками закончилась с пользой для России: к империи отошли огромные территории, а Речь Посполитая как государство перестала существовать. Русскую императрицу уже не будут тревожить на старости лет новости от очередного непредсказуемого сейма.
Польское восстание потерпело сокрушительное поражение, и генерал-прокурор Самойлов каждый день являлся к своей государыне с докладом о том, как идёт следствие, какие ещё факты заговора против России удалось узнать от арестованных и доставленных в Санкт-Петербург бунтовщиков. Сегодня ему удалось, наконец-то, прибыть к Екатерине с протоколом допроса руководителю польского восстания.
— Ну что, Александр Николаевич, учинил допрос этому Костюшко? — спросила в очередной раз она своего главного законника государства Российского.
— Учинил, матушка-государыня, — доложил Самойлов и раскрыл прокурорскую папку.
— Тогда докладывай и подробнее, не спеши, — приказала императрица.
Самойлов откашлялся и начал читать с листа:
— Главный руководитель восстания Тадеуш Бонавентура Костюшко долго находился из-за болезни и ранений в тяжёлой депрессии, целыми днями лежал в постели и отказывался от пищи... — начал доклад Самойлов, но Екатерина II его перебила.
— Так он допрошен или нет? — с нетерпением уточнила она.
— Вначале мною были оставлены листы бумаги, чтобы он на них всё подробно изложил, — пояснял Самойлов причину задержки с допросом. — Костюшко повиновался, но описал всё, избегая имён своих сподвижников и участников польского бунта.
— И это всё? — недоумевала императрица.
— Сегодня мне удалось его допросить: он отрицал, что хотел ввести в Польше порядки, схожие с французскими, но признал, что если бы Франция и Турция предложили ему союз против России, то он бы на него согласился, — Самойлов зачитал главное, что больше всего интересовало Екатерину II. Она подозревала, что Костюшко вёл переговоры с Конвентом Франции и просил помощи в борьбе против России. Однако французская революционная армия переживала не лучшие времена, а внутри нового правительства шли свои сражения за власть. Франции было не до Польского восстания.
— А как сейчас он себя ведёт, какое у него состояние? — участливо спросила императрица Самойлова, искренне интересуясь этой неординарной личностью.
— Находится в превеликой задумчивости и в грусти, сидит с утра до вечера на одном месте, — доложил Самойлов то, что знал от коменданта крепости и лейб-медика Шилова.
И здесь Екатерина II проявила своё «милосердие» и приказала удивлённому Самойлову:
— Распорядись перевести Костюшко в Мраморный дворец князя Орлова. Дайте ему книги и обеспечьте обильное питание... Ну а Безбородко сделает так, чтобы об этом узнали все европейские послы.
Екатерина II поднялась со своего кресла и медленно подошла к окну. Постояв немного у окна, она повернулась к генерал-прокурору и добавила:
— А вскоре об этом узнает и вся Польша.
— Всё понял, государыня-матушка. Государственная мудрость твоя и милость всегда выше понимания простых смертных, — не упустил Самойлов возможность польстить самолюбию государыни.
Но эта открытая лесть ей не понравилась, и твёрдым голосом она приказала:
— Ладно, ступай и исполняй, как я велю.
Склонившись в низком поклоне, генерал-прокурор вышел из приёмной Екатерины II и быстрым для его возраста шагом поспешил выполнять приказание императрицы.
III

осле разгрома Польского восстания, которое охватило практически всю страну, многие его руководители погибли в сражениях, были захвачены в плен и сосланы в Сибирь либо сидели в тюрьмах Австрии и Пруссии. Те же, кто остался в живых и на свободе, иммигрировали в различные европейские государства, где нанимались на службу в армию либо просто вели жизнь простых обывателей, наблюдая за очередным историческим процессом. Как государство Речь Посполитая перестала существовать, а все её подданные стали подданными России, Пруссии и Австрии, которые в третий раз произвели её раздел.
По всей территории бывшей великой страны в сторону российской границы двигались арестантские колонны с пленёнными повстанцами. Тысячи и тысячи патриотов, навсегда потерявшие свою родину, через Киев и Смоленск направлялись в далёкую и холодную Сибирь, а их имения, дома и хозяйства подвергались разорению и грабежу со стороны русских солдат и офицеров.
Колонны пленных поляков, литвинов, литовцев, татар и евреев, конвоируемых русскими солдатами и казаками, растянулись от Бреста до Омска. На пути их следования работали специальные следственные комиссии, которые определяли степень вины каждого попавшего в плен, а протоколы допросов отправляли в Санкт-Петербург. На пересыльных пунктах продолжались издевательства над пленными, которые были теперь не только вне закона, но и без родины. Их плохо кормили, унижали, обращались, как со скотом, и продолжали отбирать даже то, что осталось у них после первых дней плена. Но некоторым пленным всё-таки удавалось спастись, даже находясь на пересыльных пунктах: их просто выкупали у следователей или у офицеров конвоя родственники. Сумма сделки зависела от статуса «товара» и толщины кошелька родственников.
Тысячи арестантов физически не выдерживали этот тяжёлый путь и умирали. По безымянным могилам, которые выросли вдоль долгих российских дорог, можно было проследить маршрут в неизвестность этих несчастных. Те же участники восстания, кто не попал в плен и иммигрировал, сумели избежать участи своих соратников» При этом они понимали, что навсегда потеряли родину, и жили только надеждой. Но надежда на возвращение к родному очагу была совсем слабой: такого поражения и духовного опустошения поляки ещё не знали. А «Полонез Огинского» с того времени навсегда стал для поляков гимном прощания с родиной.
На имущество не только простых шляхтичей, но и многих известных в Речи Посполитой магнатов был наложен секвестр, который снять удалось далеко не всем даже после смерти Екатерины Великой. А незадолго до своей смерти она ещё успела издать указ, который должен был навсегда вычеркнуть литвинов из истории как народ. «Отныне Великое княжество Литовское, Русское и Жимойтское именовать Белой Русью, а население — белорусами, чтобы навеки привязать к России...» — гласил этот документ. Таким образом, одним росчерком пера была вычеркнута из истории целая нация с её культурой и наследием. Однако на её месте появилась другая, которой со временем предстояло создавать всё заново и восстанавливать утерянное.
Ещё одним указом русская императрица закрыла почти все униатские епископства, а имущество самих епископов было передано в казну и роздано русским генералам и чиновникам. Униатские приходы были включены в состав православных, а самих униатов, запугивая физической расправой, силой принуждали перейти в другую, православную веру.
Апатия овладела всем обществом страны, потерпевшей сокрушительное поражение, а в домах патриотов долгое время сохранялось ощущение траура.
После окончания военных действий в Польше в качестве трофеев императрица Екатерина II приказала Суворову доставить трон польских королей к себе во дворец и устроила из него место, где она справляла нужду. Господь не одобрил, наверно, такого циничного отношения к священным реликвиям польского народа, и 5 ноября 1796 года российскую императрицу схватил удар именно тогда, когда она находилась на этом «тронном месте». После 36-часовой агонии Екатерина Великая умерла, а российский трон занял император Павел I, который уже давно ожидал этой минуты.
IV

а плацу перед Зимним дворцом в форме прусского офицера император Павел I производил проверку выправки Семёновского полка в соответствии с новой формой, которая была скроена на манер формы солдат прусской армии. Внимательным взглядом император осматривал каждого гренадера, пытаясь найти какое-нибудь несоответствие или небрежность. Но бравые гвардейцы были достойными солдатами российской армии, и Павел остался доволен. Кульминацией этого построения стал небольшой парад, который принял сам император, стоя перед проходящим перед ним полком под грохот барабанов.
Скромно отобедав кашей, говядиной и хлебным квасом, Павел I направился в свой рабочий кабинет. В приёмной императора уже находился генерал-прокурор Самойлов со списком ранее осуждённых государственных преступников, которым Павел I своим указом собирался дать свободу. Однако прочитав поданный Самойловым список, император вдруг нахмурил брови и вопросительно посмотрел на генерал-прокурора. От этого взгляда Самойлов почувствовал внутри холодок. Его бедное сердце приостановило своё биение, но каждый его редкий стук отдавался в голове чиновника с тяжестью удара кувалды по наковальне.
— Список не полный. Я не вижу в нём одной известной фамилии, — тихо промолвил император, и Самойлов вытянулся перед ним в ожидании грозы. — Как вы думаете, кого я имею в виду?
— Не могу знать, Ваше Величество! — выдавил из себя Самойлов.
— А в каком списке значится у вас Костюшко?
— Он же бунтарь и польский преступник государства Российского...
Самойлов не успел закончить фразу, когда Павел I вскочил со стула и с гневным лицом бросил на стол бумагу.
— Ты что? Бунтарь? Генерал армий двух государств? А ты знаешь, с каким уважением к нему относится король Пруссии? Сама покойная матушка-государыня, — царствие ей небесное, — его определила не в казематы Петропавловской крепости, а во дворец князя Орлова. Тебе это что-то говорит, дурья твоя башка!
Самойлов быстро сориентировался:
— Всё понял, Ваше Величество, и жду ваших указаний, — только и смог выдавить из себя он.
Павел I подошёл к окну, где по плацу маршировали чётким строем гвардейцы. От увиденной приятной его глазу картины император смягчился.
— Немедленно вписать Тадеуша Бонавентура Костюшко в список помилованных нашим высочайшим указом, — приказал он. — Да, и ещё: известите нашего почётного узника, что я лично с супругой приду навестить его сегодня. Нет, постой, — остановил уходящего генерал-прокурора Павел I, — не сегодня, а завтра, — уточнил он, раскачиваясь на носках сапог, довольный принятым им решением.
В небольшой рабочей комнате шла кропотливая работа: на токарном станке бывший руководитель Польского восстания вытачивал замысловатую вещь — очередную табакерку. Она со временем должна занять своё место на длинной стенной полке, где уже разместились подобные изделия. Тадеуш любил заниматься этим, так как во время работы он отвлекался от неприятных воспоминаний и размышлений, заставляя
волей-неволей сосредотачиваться на самом процессе изготовления очередного предмета.
Всё время в комнате находился часовой, который был сюда приставлен не столько для охраны пленника, сколько для порядка. Солдаты привыкли к своему постоянному посту и с удовольствием наблюдали за Костюшко и его работой, удивляясь тому, что этот человек, польский известный дворянин, генерал и «бунтарь», так ловко выполняет простую работу какого-нибудь ремесленника.
Отряхнув стружку со станка, Костюшко поправил рабочий фартук и с удовлетворением осмотрел изготовленную вещь: всё, готова и смотрится неплохо. Костюшко уже собирался поставить её на полку, когда его отвлёк шум за дверью и взволнованные голоса. В ту же минуту двери в мастерскую отворились, и в небольшое помещение, внося свежий морозный воздух, ввалился начальник караула, одновременно пропуская за собой посыльного офицера.
Офицер браво отдал честь пленнику и обратился к нему хорошо поставленным командирским голосом:
— Хочу сообщить вам новость, господин Костюшко, которую знает уже вся Россия и вся Европа: волей Божией наша государыня императрица Екатерина отошла в мир иной. На трон заступил её наследник, ныне император государства Российского Павел I.
Костюшко повернулся к стене и поставил табакерку на полку. Его сердце почему-то стало биться сильнее, заставляя напрягаться все внутренние кровеносные сосуды, а у виска проявилась тупая и неприятная боль... Раненая нога почему-то также сообщила, что она ещё не полностью здорова, и вместе со второй, здоровой, перестала слушать хозяина.
— Я уже знаю эту новость, — сказал он офицеру, присев на деревянную табуретку. — Только как это событие касается меня?
— Самым прямым образом, — пояснил посыльный. — Мне приказано предупредить вас, что император Павел с супругой намерен лично прибыть сюда и посетить вас.
— И когда мне готовиться встречать таких высоких гостей? — без особого восторга опять обратился с вопросом к офицеру Костюшко и тут же получил ответ:
— Завтра утром.
Костюшко начал лихорадочно соображать: сам император, да ещё с супругой! Видимо, в России ожидаются серьёзные перемены.
— Ну что ж, это будет самый знаменательный день за всё время моего пребывания здесь в качестве пленника, — спокойно, стараясь не проявлять волнение перед присутствующими, выразил своё отношение к этой новости пленник.
Он с трудом встал, опираясь на трость: раненая нога по-прежнему не хотела выполнять свои функции. Костюшко подошёл к полке, снял с неё одну из лучших своих работ и передал в руки удивлённому офицеру:
— Возьмите, это вам от меня подарок на память за хорошую новость, — пояснил ему Костюшко. — Ведь никто не знает, что день грядущий нам готовит. Может, и не свидимся с вами более в этой жизни.
Офицер подержал несколько секунд подарок в руке, не зная, как с ним поступить, но потом кивнул в знак благодарности и вышел из маленькой мастерской с чувством исполненного долга. За ним вышел и начальник караула, заменив на посту очередного часового.
«Неужели всё? — пульсировала в голове у Костюшко только эта мысль. — Неужели Павел решится даже на такое? А почему бы и нет? Мать он свою вряд ли любил, а больше терпел её. А теперь он — император и волен делать всё, что ему взбредёт в голову. В качестве нового властителя огромной империи его правление будет в корне отличаться от поступков и решений его покойной матери. Значит...»
Уверенность приближающегося освобождения всё больше и больше крепла в сознании Тадеуша Костюшко. Он вспомнил и покойную Екатерину И, которая не приказала его казнить, не сослала в Сибирь и не посадила в казематы Петропавловской крепости, а повелела определить его в этот дворец. Если она не решилась покончить с ним раз и навсегда, то с какой целью завтра его навестит император Павел? Выводы напрашивались сами по себе, и они не давали заснуть Костюшко до самого утра, как он не пытался успокоиться и хоть ненадолго погрузиться во временное забытье.
Рано утром, по-прежнему опираясь на трость, выточенную им самим на токарном станке, при полном «параде», Костюшко стоял посреди зала дворца и прислушивался к гулким шагам толпы людей, которые спешили к нему на встречу. Но вот двери широко растворились, и в сопровождении жены, двоих сыновей и пёстрой свиты придворных и генералов вошёл 42-летний император Российской империи Павел I.
Император остановился в нескольких шагах от Костюшко и внимательно посмотрел на него, изучая реакцию пленника на своё появление. Костюшко продолжал стоять со слегка бледным лицом, склонив голову в поклоне перед высочайшей особой. Он ожидал, что скажет Павел. Молчание затягивалось. Наконец, император подошёл вплотную к Костюшко и, не оборачиваясь, взмахнул правой рукой. В тот же миг из толпы к нему подошёл офицер и протянул Павлу I шпагу, украшенную драгоценными камнями.
— Позвольте мне уведомить вас, что нашим высочайшим указом вы помилованы и с сегодняшнего дня полностью свободны, — торжественно и театрально, осмотрев всех присутствующих, сообщил русский император главному «польскому бунтарю», одновременно протягивая ему шпагу.
Костюшко в волнении принял шпагу и посмотрел на Павла I. Перед ним стоял человек невысокого роста, одетый в форму прусского офицера, на голове напудренный парик с косичкой. Его лицо выражало полное удовлетворение своим поступком, а глаза внимательно смотрели на почётного пленника в ожидании от него ответа.
Охрипшим от волнения голосом, Костюшко тихо произнёс:
— Благодарю вас, Ваше императорское Величество.
Павел I понимал состояние Костюшко и его растерянность. Довольный от произведённого им эффекта проявления императорской милости, Павел I обернулся к жене и знаком предложил ей подойти к нему. Императрица тотчас встала рядом со своим супругом.
— Кроме этого, мы приглашаем вас в Зимний дворец отобедать завтра с нами, — голосом радушного хозяина пригласил Павел I Костюшко. — Надеюсь, вы не против?
— Благодарю вас, буду непременно, — уже более уверенно ответил Костюшко, лихорадочно соображая, какова причина такой милости со стороны императора.
Удовлетворённый ответом, Павел I повернулся к жене.
— Вот видишь, дорогая, каких достойных людей моя покойная матушка лишала свободы. Ну, слава богу, мы быстро всё исправим, — отметил император и совсем по-товарищески, как старший брат, ободряюще похлопал Костюшко по плечу.
— Ну так мы вас ждём завтра. До свидания, наш почётный пленник, — ещё раз повторил Павел I своё приглашение, но вдруг на его лице появилось выражение огорчения от допущенной оплошности. — Нет! Что я говорю?! Не пленник, а друг! — воскликнул он и ещё раз оглядел присутствующую публику. Оценив их реакцию на свои слова и довольный произведённым впечатлением, российский император удалился из зала со всей свитой.
V

большой гостиной Зимнего дворца уже около часа за обеденным столом Костюшко сидел с императором Павлом I и его женой Марией Фёдоровной
[46]. Сначала разговор шёл вяло: император из вежливости интересовался детством «почётного узника и друга» и его родителями, учёбой в Рыцарской школе и в Париже. Застольная беседа заметно оживилась, когда Костюшко стал рассказывать о войне в Соединённых Штатах, о Вашингтоне и о других известных политических деятелях своей второй родины. Пока Костюшко давал описание их характеров и заслуг перед отечеством, Павел I молчал и внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. Императрица и вовсе не участвовала в разговоре, а как зачарованная смотрела на Костюшко. Она с нескрываемым интересом слушала его, удивляясь про себя, как много этот человек успел пережить и увидеть за свою жизнь.
Наконец пришло время коснуться событий, о которых Костюшко не хотелось говорить. Однако не вспомнить о восстании и причине его нахождения в России в данном случае было невозможно. Но Павел I по этой теме главную роль оратора взял на себя.
— Я прекрасно вас понимаю, — начал он говорить тоном учителя. — Вы — борец за свои республиканские идеи, и я уважаю таких идейных людей. Скажу больше: я не вижу в вас своего врага, а хотел бы видеть в вашем лице друга.
Костюшко удивился такому дружескому пожеланию российского императора. По какой такой причине Павел I вдруг предлагает ему свою дружбу? Видно, на лице Костюшко отобразились его мысли, так как Павел I торопливо подтвердил сказанное им:
— Да-да, не удивляйтесь. У каждого свои идеалы и цели, и мы должны уважать жизненные принципы других, даже если они не совпадают с нашими.
Наступила неловкая пауза. Костюшко не знал, как ему реагировать на подобные заявления, но первым паузу прервал опять русский император:
— Я понимаю вас, вы перенесли у нас душевные страдания, которые порой воздействуют на нас тяжелее, чем физические. Мы хотели бы как-то сгладить эти неприятные для вас воспоминания.
— Ваше Величество!.. — Костюшко попытался выразить свою признательность императору за предоставленную ему свободу.
Но Павел I не дал ему возможности сделать это:
— Со вчерашнего дня вы не только свободны в ваших действиях, но я бы хотел добавить к этому ещё тысячу крепостных от меня в качестве подарка от царской семьи. Надеюсь, вы не откажетесь?
Костюшко задумался: отказаться принять подарок от императорской особы значит оскорбить Павла I, но и принять в подарок крепостных крестьян ему, руководителю восстания, борду за республиканские идеи, противнику рабства... Нет, это было невозможно... Тогда что же делать?
— Премного благодарен, государь, за вашу милость. Признаюсь честно, не ожидал такого отношения ко мне, бывшему узнику, — искренне сказал Костюшко, раздумывая, как ему поступить.
А Павел I, довольный проявлением своей щедрости и милости, повернувшись к жене, тихо заметил:
— Вот видишь...
Но Костюшко вдруг продолжил:
— Однако я осмелюсь просить вас, государь, ещё об одной милости с вашей стороны.
Теперь император с удивлением повернулся к Костюшко:
— Да, я слушаю...
— Я осмелюсь отказаться от вашего подарка, так как, вы сами понимаете, что он противоречит моим жизненным принципам, о которых вы только что говорили с таким уважением, — попробовал выйти из неловкого положения Костюшко.
— Но мы бы хотели как-то сгладить неприятные воспоминания о времени вашего пленения, — объяснил Павел I причину своего двусмысленного предложения, и тогда Костюшко начал «торговаться»:
— Но если вы всё-таки хотите сделать мне достойный подарок, то прошу освободить моих соотечественников, сосланных в Сибирь, а также других участников Польского восстания, которые в Петропавловской крепости ждут суда.
Павел I «торговаться» не умел, а Панин, который долгое время был его наставником, этому своего воспитанника не научил. Но Павел I сумел проглотить эту «пилюлю наглости» от Костюшко и с достоинством вышел из неловкого положения. Ом опять повернулся к жене и с восторгом заметил:
— Нет, ты только посмотри, дорогая, как это благородно, — потом, вновь обращаясь к своему польскому «другу», жёстким голосом императора добавил: — Конечно, я исполню вашу просьбу, и в ближайшее время на это будет моё волеизъявление. А всё, что повелеваю в России я, исполняется немедленно.
Костюшко с усилием встал со своего места, опираясь на трость, и склонил голову в благодарном поклоне. И этот жест благодарности тоже был искренним.
Павел I, довольный произведённым эффектом и выражением благодарности со стороны Костюшко, допил бокал вина и небрежно добавил:
— А что касается крепостных, то я велю выдать вам в дорогу сумму, равную стоимости этих крепостных.
В этот момент императрица Мария Фёдоровна впервые за всю беседу подала голос:
— Я бы также хотела что-то сделать для вас, — императрица посмотрела на мужа, и тот одобрительно кивнул ей. — Я знаю о вашем увлечении, поэтому вам будет передан токарный станок, сделанный лучшими немецкими мастерами. А также примите от нас эту камею с портретом всех членов нашей семьи.
Мария Фёдоровна махнула рукой мажордому, и тот немедленно поднёс Костюшко камею, окаймлённую драгоценными камнями. Костюшко опять поблагодарил Павла I с супругой, в очередной раз с трудом поднявшись с кресла и поклонившись.
— Пусть у вас от России останутся только хорошие воспоминания, — искренне добавила императрица.
После официальных подарков и слов благодарности разговор опять приобрёл непринуждённый характер. Костюшко уже не чувствовал напряжённости и в ходе беседы обдумывал, как ему сказать императору, что в ближайшие дни он намерен покинуть Россию, но Павел I опередил его:
— А где вы намерены в дальнейшем проживать? Я всё-таки предлагаю вам остаться в России, а мы сделаем всё, чтобы она стала для вас второй родиной.
— Ещё раз благодарю, Ваше императорское Величество, — ответил Костюшко, — но я намерен вернуться в Америку, где мне предоставлена генеральская пенсия и большой земельный участок. И... у меня теперь будет достаточно времени для личной жизни.
Император недовольно поморщился. Только что он сделал Костюшко столько подарков, предложил ему своё покровительство, а он... Но дело было сделано, а своих решений он, император России, менять не будет!
Однако вслух Павел I не высказал ни слова раздражения. Вольному воля.
— Ну что же, я сожалею об отказе, но ваше решение я уважаю, — кивнул Павел I в знак согласия. — Пусть будет так. Я распоряжусь, чтобы ваши пожелания и просьбы, пока вы находитесь здесь, неукоснительно исполнялись.
На этом торжественный обед с российским монархом закончился. Костюшко вздохнул свободно и расслабился только в карете, укутавшись в тёплую соболью шубу, которую императорская чета присовокупила к другим своим подаркам.
В одной из комнат Мраморного дворца суетились слуги, упаковывая вещи Костюшко и загружая их в карету. В этой же комнате на кресле перед горящим камином сидел сам прежний жилец Тадеуш Костюшко. Рядом с ним в другом кресле сидел его товарищ: бывший секретарь Юлиан Немцевич, которого освободили по указу Павла I, как и других 12 000 участников Польского восстания 1794 года. Только те 12 000 ещё находились в далёкой Сибири, а Юлиан Немцевич уже в этот день готовился в далёкое путешествие в Америку вместе со своим другом.
Слуги закрыли последний сундук с вещами и вынесли из комнаты, а Костюшко продолжал в задумчивости сидеть и смотреть на огонь. Поседевший и постаревший за время нахождения в Петропавловской крепости Юлиан Немцевич молчал, боясь потревожить размышления бывшего командира. Они вообще мало говорили даже тогда, когда впервые встретились после двухгодичного плена. Да и о чём говорить, когда и всё и без того ясно: восстание, так тщательно подготовленное и продуманное, было подавлено в течение года. Плен, ожидание суда и, возможно, казни... Их страна в третий и в последний раз была разделена. Родины у них больше нет. Речь Посполитая как государство перестала существовать и навсегда исчезла с карт Европы. Только навсегда ли?
И в этом крахе надежд и замыслов тысяч людей Костюшко винил одного себя. Ведь это он возглавил восстание, взяв на себя бремя ответственности за его последствия, ведь это к Костюшко шли люди с верой в лучшую жизнь на своей земле.
А сколько солдат, офицеров и генералов отдали жизни ради свободы родины, сколько семей остались без кормильцев и сколько не родится детей! И всё напрасно.
С такими тяжёлыми мыслями Костюшко собирался покинуть Россию. Страну, которая вышла победительницей в той войне, страну, по воле которой не только он, но и все его соотечественники остались без родины. Всё, что он мог сделать и исправить, он сделал. Вот и Немцевич живой и на свободе, но седой, сидит рядом, перенеся все ужасы пленения. Выпущены из казематов Петропавловской крепости и другие участники восстания. Они уже находятся далеко от Санкт-Петербурга, направляясь кто во Францию, кто в Австрию, кто в Италию... Никто из них не пожелал встретиться с Костюшко после освобождения, и только Юлиан Немцевич выразил желание уехать вместе с ним. И маршрут движения они уже определили: через Финляндию в Швецию, затем в Лондон, а оттуда в Америку.
В комнату, нарушив размышления Костюшко, вошёл офицер из личной охраны императора.
— Разрешите доложить, — бодро отрапортовал он, обратившись к Тадеушу. — Император Павел I приказал сопровождать вас до Зимнего дворца, а после вашей встречи следовать за вами столько, сколько потребуется.
Костюшко усмехнулся: Павел I в своём амплуа — не может жить без широких жестов и проявлений своей «заботы» о «почётном узнике».
— Спасибо за честь, но вы можете быть свободны сразу же после нашего отъезда из Зимнего дворца, — вежливо ответил Костюшко и встал. И тут же добавил, повернувшись к Юлиану Немцевичу: — Ну, с Богом! — набросил на плечи подаренную русским царём шубу и вышел из комнаты.
Когда карета подвезла Костюшко с Немцевичем к крыльцу Зимнего дворца, навстречу ему вышла императорская чета, чтобы проститься. Опираясь на трость, стараясь не поскользнуться, прихрамывая на раненую ногу, Костюшко подошёл к императору. Он нёс в руке свою лучшую ручную работу — простую деревянную табакерку, которую выточил на новом подаренном токарном станке.
— Ваше императорское Величество! Разрешите мне преподнести вам мой скромный подарок, — сказал Костюшко Павлу I, передавая ему табакерку.
— Как это мило, — произнёс Павел I, в свою очередь передавая шкатулку супруге.
— Пусть эта простая и недорогая вещь будет памятью о нашей последней встрече, и... простите, если что не так.
Императрица даже прослезилась от умиления и простоты, с которой Костюшко попрощался с ними. Павел I на дорогу перекрестил его и произнёс:
— Езжайте. Бог вам судья.
Поклонившись императорской чете, Костюшко повернулся и направился к выходу. Возле кареты стоял Юлиан Немцевич, с нетерпением ожидая его возвращения, и тёр свои побелевшие от мороза уши. Зимний день короток, а им ещё предстояла долгая дорога. Уже усевшись удобнее в карете и проехав несколько вёрст, Немцевич хмуро спросил Костюшко:
— Это правда, что ты присягнул Павлу I и поклялся больше не воевать с Россией?
Тадеуш повернулся к товарищу и грустно ответил вопросом на вопрос:
— А как бы ты поступил на моём месте, если бы от этого зависело, вернутся ли 12 000 пленных поляков и литвинов из далёкой Сибири домой к своим семьям? Кстати, — заметил Костюшко, — твоё освобождение тоже связано с моим решением.
Больше Немцевич ни о чём не спрашивал Костюшко до самого прибытия их в Финляндию.
VI

августе 1797 года по трапу корабля, только что прибывшего из Англии в Нью-Йорк, спустился мужчина, который покинул этот берег 13 лет назад. Строевая выправка выдавала в нём человека, ранее связанного с военной службой, а лёгкая хромота подтверждала, что он, возможно, когда-то получил ранение в ногу. Густые волнистые с сединой волосы красиво ложились ему на плечи, а на пальце его правой руки обращал на себя внимание странный перстень.
— Ну и куда мы сейчас направимся? — спросил его спутник, прибывший в порт вместе с ним.
— Не волнуйся, Юлиан, — ответил ему его товарищ, — здесь нас встретят как близких друзей во многих домах, но сначала поедем в Филадельфию к Вашингтону.
Вашингтон после отставки в 1783 году не смог остаться вне политической жизни государства, за независимость которого воевал. Он не долго «отдыхал» в Маут-Верноне от войны с англичанами, и уже в 1789 году был избран первым президентом Соединённых Штатов. В 1792 году он вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы и стал президентом во второй раз, а от третьего срока президентства категорически отказался.
Когда Костюшко входил в здание Конгресса, Вашингтон уже не заседал в президентском кресле. В марте 1797 года он освободил его для Джона Адамса. Однако с титулом Отца Отечества, который ему присвоили конгрессмены, Вашингтон продолжал посещать здание Конгресса, где в его распоряжении находился рабочий кабинет.
Как только Вашингтону доложили о Костюшко, американо-польский генерал был принят им немедленно.
— А я знал, я верил, что мы ещё раз встретимся, — радостно обнимая генерала своей армии, приветствовал Костюшко бывший командир.
На глазах у Костюшко от такой сердечной встречи выступила скупая мужская слеза.
— Да, я вернулся, — только и смог он сказать в ответ. — Вы были правы: Англия от Америки далеко, а Россия и её союзники были рядом.
Вашингтон не сразу понял смысл сказанного, но когда вник в суть фразы, то сразу вспомнил их последнюю встречу и всё, что было сказано в тот вечер.
— Да, вы проиграли, но это и есть жизнь, борьба... Не всегда же бывают одни победы, случаются и поражения, — говорил Вашингтон, стараясь не причинять страданий своему другу.
Они сидели в кабинете и так же, как и тринадцать лет назад, долго разговаривали. Костюшко подробно рассказал обо всём, что с ним произошло с момента возвращения на родину и до того, как он вновь ступил на землю Америки в порту Нью-Йорка. Вашингтон не перебивал его, а только иногда качал головой. И непонятно было: делал он это в качестве осуждения или непонимания всего того, что произошло с Костюшко за эти годы.
— Да, мой друг, ваша жизнь может служить ярким примером героизма и преданности своим идеалам, — сказал Вашингтон, когда его собеседник закончил свою исповедь. — Пойдёмте, — вдруг Вашингтон встал с кресла и направился к выходу. — Я хочу познакомить вас с одним человеком, который, поверьте мне, ещё не раз заставит американцев говорить о нём в уважительном тоне.
Вашингтон вышел из кабинета, и Костюшко ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Пройдя мимо нескольких дверей, они остановились возле одной из них.
— Он давно хотел с вами познакомиться, но ранее не представлялся такой случай. Надеюсь, вы не будете возражать? — спросил Вашингтон Костюшко, пропуская его вперёд себя в открытую дверь. В полумраке кабинета вполоборота ко входу за столом сидел мужчина около 50 лет. Увидев входивших, он вскочил и пошёл им навстречу.
— Томас Джефферсон, автор Декларации независимости и соавтор Конституции Соединённых Штатов. Генерал Тадеуш Костюшко, — представил Вашингтон будущих друзей.
Они обменялись крепким мужским рукопожатием, а Джефферсон обернулся к Вашингтону и обаятельно улыбнулся.
— Благодарю вас, — поблагодарил он Вашингтона. — Сегодня у меня удачный день.
— Я вас оставлю и займусь своими делами, а вы пообщайтесь. Я думаю, вам будет о чём поговорить.
— Я также благодарю вас за этот подарок судьбы, сэр, — наконец-то подал голос Костюшко, обращаясь к Вашингтону. — Я счастлив познакомиться с Томасом Джефферсоном, и, надеюсь, это знакомство даст нам повод встретиться ещё не раз.
— Я уже сегодня предоставлю вам такую возможность. Приглашаю вечером посетить мой дом и поужинать в узком кругу наших друзей, — сделал предложение Вашингтон обоим джентльменам и, обменявшись с ними рукопожатием, удалился. А Костюшко с Джефферсоном остались в кабинете и ещё долго о чём-то беседовали, сидя в мягких креслах. Вашингтон знал, что делал, когда знакомил вице-президента Соединённых Штатов с Костюшко. Политик оставался политиком и прекрасно понимал, что эти два человека в будущем, возможно, будут полезны друг другу.
В условиях уже мирного времени политику необходимо быть всегда готовым к борьбе, но не на полях сражений, а на трибунах партий и оппозиций. На этих трибунах вместо оружия используют эрудицию, меткое слово и мастерство оратора. А как важно уметь быстро сориентироваться в обстановке и так ответить своему оппоненту, чтобы сразу получить нужное большинство голосов в свою пользу.
Будучи сыном богатых землевладельцев в штате Виргиния, Томас Джефферсон имел опыт политической борьбы за власть: с 1769 по 1774 год он уже являлся депутатом законодательного собрания штата Виргиния. Пришлось ему побороться и за кресло губернатора этого же штата, когда он одержал убедительную победу. Больше двух лет, с 1779 по 1781 год, соответствующее этой должности кресло находилось в его распоряжении. Но пришло время, и другие люди заменили Джефферсона на этом важном посту.
Известный всем гражданам Соединённых Штатов как автор Декларации независимости, Джефферсон готовил проект закона о национализации земель Запада и запрете рабства во вновь присоединённых к США штатах, а его законотворческая деятельность легла в основу теории о правах штатов. В 1796 году он проиграл президентские выборы Джо ну Адамсу. Однако Джефферсон предполагал, что у него как вице-президента и его сторонников будет ещё много работы по обустройству и совершенству общества, в котором они собирались жить. А в таких случаях очень важно иметь как можно больше сторонников. Так что этим двум интересным и умным людям было о чём поговорить в тот вечер. Чем больше они беседовали, тем больше находили сходства во взглядах по многим вопросам, которые волновали и бывшего офицера Речи Посполитой, и американского юриста. Когда же пришло время расставаться, то на прощание пожимали друг другу руки не просто два джентльмена, которые сегодня познакомились. Это были уже два единомышленника и два друга, которым казалось, что они знакомы целую вечность.
А через несколько дней депутаты Конгресса Соединённых Штатов передавали друг другу последнюю важную новость: после долгих лет отсутствия в Америку вернулся генерал Тадеуш Костюшко. Поездка Тадеуша Костюшко по местам сражений, в которых он принимал участие, превратилась в триумф. Многие известные всем Соединённым Штатам лица приглашали его к себе домой погостить, и Костюшко почти никогда не отказывался от таких приглашений. Ему хотелось пообщаться с ветеранами Войны за независимость Соединённых Штатов, вспомнить те события и всё, что было связано с тем временем. Во время таких встреч Костюшко определялся, с кем может общаться в дальнейшем, если останется в Америке навсегда (а такие мысли у него были постоянно), какая на данный момент политическая обстановка в стране и что изменилось здесь за время его отсутствия.
Юлиан Немцевич сопровождал своего друга, но почти не принимал участия в разговорах, лишь внимательно прислушиваясь ко всему, о чём беседовал Костюшко с окружающими его людьми. При этом Немцевич не раз ловил себя на мысли, что даже после многих лет знакомства с Костюшко и совместно перенесённых жизненных трудностей он так и не узнал его полностью, внутренний мир Костюшко всё-таки был скрыт от Немцевича, и только встречи и беседы, свидетелем которых он невольно стал в эти дни, дополняли образ незаурядного человека, который был известен ему многие годы. Немцевич не переставал удивляться той популярности, какую имел его друг в этой стране. Люди, окружающие Костюшко, его соратники по службе, знакомые депутаты Конгресса, с которыми он встречался на приёмах, простые ветераны-солдаты, с которыми он общался в их небогатых домах и на фермах, — это была другая жизнь, не похожая на ту, какой он жил на утерянной им родине.
VII

днaжды, возвращаясь в гостиницу, экипаж, в котором ехал Костюшко, внезапно остановился. Дорогу лошадям перегородила толпа людей, которая обычно собирается, если случается какое-то происшествие. И действительно, рядом с дорогой обрушились строительные леса возле нового здания, и при этом придавило одного из рабочих, которому сейчас пытались оказать помощь.
Костюшко вышел из экипажа, чтобы разобраться, что случилось, и с трудом пробрался сквозь толпу. Подойдя ближе, он заметил двоих чернокожих рабочих, которые пытались вытащить из-под завала строительных материалов своего товарища.
— Ну что застыли, черномазые, — крикнул стоящий рядом начальник стройки на негров-рабочих. — А ну-ка разберите завал и вытащите этот кусок мяса из-под брёвен.
Чернокожие работники быстро разобрали завал и отнесли куда-то потерпевшего, а потом освободили дорогу от строительного мусора.
Костюшко обратил внимание на человека, которого только что вытащили из-под завала. Это был чернокожий мужчина крупного телосложения с большим шрамом на левой щеке. Тадеуш вспомнил его: ещё при строительстве укрепления при Саратоге этот чернокожий солдат работал в его батальоне среди других солдат-строителей. Он отличался от всех своим высоким ростом и огромной силой и, естественно, цветом кожи. Солдат брался за любую работу, делал её быстро, и поэтому полковник Костюшко тогда не мог не заметить такого старательного подчинённого.
Продолжая свой путь к гостинице, Костюшко был задумчив и угрюм. Перед его сознанием вставало лицо этого бедняги, которого выносили из-под завала. «Что с ним теперь будет? — думал Костюшко. Выживет ли ой, а если выживет, то не останется ли на всю жизнь инвалидом?»
Вдруг, приняв для себя какое-то решение, Костюшко приказал кучеру развернуть лошадей и вернуться к месту недавнего происшествия. Быстро найдя старшего стройки, Тадеуш потребовал, чтобы его отвели к раненому, чем сильно удивил всех строителей. Но ослушаться никто не посмел: перед ними был человек в генеральской форме.
Через несколько минут Костюшко стоял возле пострадавшего, который, к счастью, был жив, но получил травмы, которые, судя по всему, не скоро позволят ему вернуться к работе. Костюшко достал несколько крупных купюр и вручил их начальнику стройки.
— Тебя как зовут? — спросил его Костюшко.
— Джон Паркер, сэр! — ответил ему удивлённый такой щедростью мужчина.
— Держи. Сделай всё, чтобы этого парня подлечили и поставили на ноги, — командирским голосом, не терпящим возражений, приказал Костюшко.
— Слушаюсь, сэр! — промолвил Джон и быстро спрятал деньги за пазуху.
— А это, — Костюшко отсчитал ещё несколько хрустящих бумажек, — передашь его семье. И смотри, сделай, как я велел. Через неделю приеду и сам проверю.
Джон Паркер больше ничего не сказал в ответ, а только кивал головой, понимая, что этот господин сделает то, что обещал. А ему, Джону, лучше выполнить его распоряжения, иначе могут быть проблемы. Чёрт знает этих господ, что у них на уме.
Прошло ещё несколько месяцев пребывания Костюшко и Юлиана Немцевича в Америке. По-прежнему они проживали в Филадельфии, но выезжали в другие штаты всё реже и реже... К Костюшко местные власти и армейские друзья стали относиться с недоумением: проживает в гостинице, ни к какой партии не примыкает, никак себя в светском обществе не заявляет. Просто живёт, как обычный обыватель, проедая свою генеральскую пенсию. И это общество постепенно теряло к нему интерес.
Была ещё одна причина его поездок по местам былых сражений: где-то в глубине своей одинокой души он надеялся узнать что-нибудь о судьбе Мадлен. Тадеуш понимал, что шансов найти эту девушку у него практически нет. Но надежда, как известно, умирает последней.
Однажды, обедая с Немцевичем в одной из лучших таверн Филадельфии, Костюшко обратил внимание на хромого с костылями человека, одетого в потрёпанную одежду и заросшего многодневной щетиной. Хромой о чём-то ругался с хозяином таверны, и Костюшко невольно прислушался к их разговору.
— Так ты не хочешь налить маленькую рюмку выпивки ветерану войны из армии Вашингтона?! — возмущался хромой. — Да я ногу чуть не потерял на Войне за независимость страны, как генерал Бенедикт Арнольд! Да я...
— Слушай, Вэйн, — грубо оборвал его хозяин таверны, — не болтай мне этих сказок: я-то знаю, что ногу ты чуть не потерял, когда с дружками напал на индейское поселение и какой-то ловкий индеец рубанул тебе по ноге своим томагавком.
Огорчённый, что с выпивкой ему в этой таверне не повезло, хромой подобрал свои костыли и собрался покинуть это уютное заведение. Однако голос Костюшко его остановил и вселил надежду, что выпить ему всё-таки дадут.
— Эй, солдат, подойди сюда, — позвал Костюшко «ветерана» к своему столу к большому удивлению Немцевича.
Хромой не заставил себя долго упрашивать и через минуту пил из кружки ром, который для него заказал Тадеуш. Выпив свою порцию, он поставил кружку на стол и внимательно посмотрел на генеральский мундир Костюшко.
— Я не советую тебе в будущем вспоминать Бенедикта Арнольда, который стал предателем, — посоветовал инвалиду Костюшко.
Но тот как будто его не слышал и продолжал внимательно разглядывать генерала.
Костюшко добавил ему в кружку ещё рома, и Вэйн одним глотком опорожнил её.
— А ведь я тебя узнал, — вдруг произнёс захмелевший «ветеран». — Ты полковник из батальона Лафайета, который служил у генерала Грина.
— Да, было такое, только я тебя не помню, сказал удивлённый этой встречей Костюшко. Но следующие слова этого пьянчужки заставили его насторожиться, а потом поразили Костюшко, подтвердив старую истину, что пути господни неисповедимы.
— Я сержант Вэйн. Не помнишь меня, генерал? — спросил хромой и тут же ответил сам:
Не помнишь... Правильно, нас много, разве всех запомнишь. А Мадлен? Ты её тоже забыл?
Костюшко словно окатили кипятком. Он вскочил со стула и схватил Вэйна за грудки.
— Что ты знаешь про неё? Где она? — почти кричал Костюшко, надеясь хоть что-нибудь узнать о Мадлен.
— Ушла она... Из-за тебя ушла и больше не вернулась... — только и смог сказать опьяневший от выпитого рома бывший сержант. — Уплыла на каком-то судне.
— Куда? Куда уплыла? — заглядывая в глаза Вэйну, пытался узнать ещё что-нибудь Костюшко.
На какой-то момент в глазах Вэйна появился осмысленный взгляд. Он внимательно посмотрел на возбуждённого генерала и добавил:
— Никто не знает. Говорили, что куда-то в Европу: то ли во Францию, то ли в Англию... Из-за тебя уплыла.
Голова пьяного упала на стол, и Вэйн захрапел.
— Пойдём отсюда, — предложил Костюшко Немцевичу, потерявшему дар речи от такой трагической сцены, и через минуту они уже ехали в экипаже к своей гостинице.
В гостинице их ждал ещё один «сюрприз», который стал дополнительным поводом для принятия Костюшко окончательного решения о возвращении в Европу. Хозяин гостиницы передал ему два письма, которые каким-то чудом нашли своего адресата, переплыв на торговом судне через Атлантический океан.
Первое короткое письмо было от Яна Домбровского. Он предлагал Костюшко вернуться в Европу, в которой «зреют события, которые могут стать причиной возрождения Речи Посполитой...»
Второе письмо было от Франца Цельтнера. Он подробно описывал последние европейские политические события. И главным героем этих важных событий Франц назвал Наполеона Бонапарта.
VIII

оследняя встреча Костюшко с Томасом Джефферсоном была совсем не похожа на те, прошлые, которые каждый раз скрепляли их отношения и делали их более доверительными. Однако она была важна для Костюшко, так как от неё зависело, возможно, его будущее. Костюшко приехал к Джефферсону без Немцевича: ему хотелось поговорить с ним по душам. Вице-президент Соединённых Штатов, несмотря на свою загруженность, нашёл время и был готов встретиться с ним.
— Ну как вам Соединённые Штаты после стольких лет отсутствия в Америке? — спросил Джефферсон, когда они удобно разместились в креслах. Ему не терпелось узнать, где за эти месяцы побывал его друг, с кем встречался и какие впечатления остались у Костюшко от этих встреч.
— Знаете, Томас, у меня двоякие чувства от моих путешествий по стране, — искренне ответил Тадеуш.
— Вот как? — удивился вице-президент. Он-то ожидал услышать бурю восторга от всего, что удалось увидеть и услышать Костюшко во время его путешествия по земле, за независимость которой он воевал, а тут такое странное высказывание.
Костюшко по-своему понял этот вопрос и пояснил:
— Всё хорошо, Томас. Я даже удивляюсь, что за это время так много сделано в Соединённых Штатах. А главное и лучшее, что я увидел, так это что люди стали другими: они мыслят и говорят по-другому... Как-то не так, как в то время, когда я покинул американский континент. А может, это я изменился?
Джефферсон, довольный ответом, откинулся в кресле. Он принял эти откровения как похвалу себе и всем тем, кто участвовал всё это время в преобразованиях, которые сделали Соединённые Штаты настоящим государством, твёрдо стоящим на ногах и проводящим свою, независимую ни от кого политику.
— Да, это граждане независимой страны, — заявил он гордо.
Но тут Костюшко высказал ему своё мнение, которое смутило Джефферсона, но с которым он не мог не согласиться.
— Знаете, Томас, что меня волновало и волнует всё это время, почему я не нахожу себе покоя ни в одной стране? — после небольшой паузы заметил гость. — Потому что во всех странах существует социальное неравенство людей, деление их на разные слои общества, касты, по цвету кожи и толщине кошелька.
— Что сделаешь, мир несовершенен, — высказал Джефферсон своё мнение на замечание друга обыденным тоном, как само собой разумеющееся.
Но Костюшко продолжил излагать свой взгляд на окружающий мир, приводя факты, против которых Джефферсону нечего было сказать.
— Все изменения в этом мире зависят от людей, — сделал философский вывод Костюшко. — Вот вы, будучи автором Декларации независимости, имея жену с чёрным цветом кожи, до сих пор являетесь преуспевающим плантатором и не отпускаете на свободу своих чернокожих работников.
Джефферсон смутился. Он не готов был к такому разговору и решил выслушать генерала до конца.
— А что вы думаете о присутствии чернокожих рабов в свободной, стране? — напрямую спросил Костюшко, словно корреспондент какой-либо либеральной газеты. А на вопросы подобных господ необходимо отвечать, даже если они касаются лично тебя.
— Об этом мы не раз говорили с Вашингтоном, — начал уверенно Джефферсон, но потом понял, что с Костюшко его тон чиновника и вице-президента будет звучать неискренне, фальшиво, и он с горечью заметил: — Хорошо, Тадеуш, откровенность за откровенность: всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну. Но, видимо, не пришло ещё время для решения этих вопросов.
Костюшко оценил искренний ответ друга и добавил также искренне:
— Да, именно не пришло. А значит, не пришло и моё. Мне кажется, что когда придёт время для подобных преобразований, то в вашей стране прольётся ещё немало крови. А я не хочу быть участником подобных событий. С меня уже достаточно того, что свершилось в Польше.
Джефферсон задумался над пророческими ело вами Костюшко, но у него был свой взгляд на предполагаемое развитие событий.
— Древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Это его естественное удобрение, — заявил он.
— А я не хочу больше пролития крови и быть участником новых войн, — жёстко сказал Костюшко. — С меня достаточно того, что я пережил на родине.
Джефферсон недоумённо посмотрел на Костюшко. Ему не понравилась эта жёсткость в голосе друга. Перед ним сидел уже не тот генерал, который вернулся год назад на свою вторую родину и которого все восторженно встречали как героя Отечества. Теперь Джефферсон по-другому воспринимал Костюшко. Он видел человека, перенёсшего тяжёлые жизненные испытания и, возможно, душевные страдания, которые ему, Джефферсону, не были известны и о которых он мог только догадываться.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил он, так как последние слова Костюшко его почему-то насторожили.
— Я, наверно, всё-таки уеду из Соединённых Штатов, — честно признался генерал. — Правда, ещё не решил окончательно. Есть у меня здесь кое-какие дела, — уклончиво пояснил он. — От их решения будут зависеть и мои дальнейшие действия и поступки.
— Поразительный вы человек! — воскликнул Джефферсон в восхищении. — Тринадцать лет назад вы имели всё, о чём другие могли только мечтать: солидную генеральскую пенсию, почёт и уважение армии и Конгресса, дружбу самого Вашингтона... И вдруг вы бросаете всё и отправляетесь куда-то в Европу и там всё приобретаете вновь: генеральский чин, славу у народа и уважение у монархов европейских государств.
— А также горечь поражения, плен... — добавил Костюшко.
— Теперь всё повторяется: вы по-прежнему состоятельны, вас как героя встречают в Соединённых Штатах, — не унимался вице-президент, — и вы опять собираетесь всё бросить?!
Костюшко задумался, и эта задумчивость понравилась Джефферсону: вдруг его слова упали на благодатную почву и убедили Костюшко остаться в Америке?
— Пока я ничего не решил. Поживу пока в Филадельфии, а там будет видно. — Костюшко встал, чтобы покинуть кабинет. Одёрнув мундир генерала американской армии, он добавил: — Тем более что средств у меня предостаточно: вместе с процентами за участие в войне от правительства Соединённых Штатов я получил около 19 000 долларов.
Джефферсон решил проводить Костюшко до самого выхода из здания Конгресса, и когда они пожимали на прощание друг другу руки, он подбросил Костюшко ещё одну «козырную карту»:
— Хочу вам напомнить, что даже сейчас с вашим авторитетом в Соединённых Штатах и героическим европейским прошлым у вас есть возможность сделать неплохую карьеру в правительстве Соединённых Штатов.
— Я буду иметь это в виду, — единственное, что мог ответить в этот момент Костюшко.
Среди торговых судов, стоящих у причала нью-йоркского порта, выделялся корабль под трёхцветным флагом Французской республики, вид которого был ещё непривычен для моряков. По трапу носильщики загружали в трюмы товар, матросы драили перед отплытием палубу, а за порядком на судне наблюдал вездесущий боцман. На этом корабле нашлась уютная каюта и для Костюшко. Капитан корабля с удовольствием согласился взять на борт такого известного генерала, тем более что тот не торговался и хорошо заплатил.
На следующий день после того, как Костюшко уже навсегда покинул
американский берег, в кабинет Томаса Джефферсона зашёл нотариус, которые передал ему опечатанный сургучом толстый пакет. В пакете лежали 12 000 долларов и письмо от его друга Тадеуша Костюшко.
«Дорогой Томас! — писал чётким подчерком Тадеуш. — Простите, что не пришёл попрощаться с Вами. Я всё-таки решил вернуться в Европу, так как не вижу для себя смысла оставаться в Соединённых Штатах.
Я не сразу пришёл к такому выводу: целые год я прожил в Америке, надеясь на то, что смогу вжиться в новую жизнь, которой живёт народ это о страны. Но, видимо, я не такой, как все, не могу почивать на лаврах былой воинской славы и спокойно жить, имея генеральскую пенсию, кусок земли и уважение, с которым относятся здесь ко мне.
Поверьте, моё решение оставить все эти житейские блага пришло через бессонные ночи и дни раздумий. Но если я решил, то решений не меняю. Я получил письмо от своих друзей из Европы. Там зреют события большой важности, которые дают мне ещё одну надежду, что моя родина возродится в новом, обновлённом для неё образе. Я не могу быть в стороне от всего, что там сейчас происходит или будет происходить. Меня замучает совесть, и я не прощу себе до конца жизни, если при этом понадобится моя помощь, а я буду в это время далеко.
Надеюсь, Вы меня поймёте. Ведь Вы сами мне говорили когда-то:
«Стремитесь всегда исполнить свой долг, и человечество оправдает вас даже там, где вы потерпите неудачу». Я уже потерпел одну неудачу, но долг свой ещё считаю невыполненным до конца.
И последнее: у меня есть ещё одна к Вам просьба. Вам передадут двенадцать тысяч долларов, которые я прошу направить на благие цели. По своему усмотрению на эти деньги окажите помощь негритянскому населению Соединённых Штатов. Ведь чернокожие солдаты так же, как и мы, сражались за независимость страны, в которой они сейчас живут и которая о них незаслуженно забыла
[47].
Ваш друг Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко».
IX

частливая звезда Наполеона Бонапарта начала восходить с момента его прибытия в лагерь под Тулон, где республиканец генерал Карто безуспешно осаждал этот город. Тогда молодой двадцатичетырёхлетний офицер артиллерии Наполеон Бонапарт, разобравшись в сложившейся ситуации, предложил свой план взятия Тулона, за что был высмеян генералом Карто. Но не таков был этот рьяный артиллерист, чтобы просто так отступить даже в горячих спорах с самим генералом. После очередного такого спора жена генерала Карто сказала мужу: «Да дай же ты волю этому молодому человеку, он больше твоего смыслит, ведь он ничего не просит, а реляции ты составляешь сам, так слава всё-таки останется за тобой». Муж согласился с практичными доводами супруги, а Наполеон получил возможность показать, на что он способен.
Поделившись своими планами с народным представителем Гаспареном, который был в это врём а при армии Карто, Бонапарт получил свободу действий и в кратчайшие сроки овладел Тулоном, ата ковав его со стороны гавани.
Неприятель покинул Тулон, генерал Карто был отозван, а молодой офицер артиллерии стал молодым генералом армии. Как потом с благодарностью вспоминал сам Наполеон: «Гаспарен открыл мне дорогу».
Вторично звезда засверкала на небосклоне Наполеона 5 октября 1795 года во время мятежа роя листов в Париже против Конвента. Баррас предложил утвердить Конвенту генерала Наполеона Бонапарта своим помощником для командования войсками вместо арестованного генерала Мену. Данное предложение было утверждено специальным декретом, а генерал Бонапарт решительными действиями, применив артиллерию, картечью быстро расправился с восстанием роялистов. Конвент самораспустился, уступив полноту власти Директории, которая отблагодарила будущего императора Франции, назначив его главнокомандующим армией.
Наполеон был талантливым полководцем и хорошим психологом. Голодных и плохо одетых солдат своей армии он возбуждал эмоциональны ми призывами к победе в духе революционною времени. И эти солдаты, впитав в себя республиканские идеи и свою исключительность (ведь они солдаты первой республиканской армии!), одерживали в Италии одну победу за другой. Монтенотто, Лоди, Милан, Кастильоне, Арколе, Риволи — вот перечень побед армии, возглавляемой Наполеоном, который в течение месяца захватил весь север Италии с громким лозунгом: «Народы Италии! Французская армия идёт вам на помощь!..» Австрийский генералитет, воевавший по старинке, ничего не мог противопоставить молниеносным манёврам наполеоновской армии и проигрывал ей одно сражение за другим. В результате этих побед в северной Италии была создана Цизальпинская республика, которая стала первой союзницей революционной Франции.
Возвратившись в Париж, Наполеон Бонапарт стал очень популярен и, следовательно, опасен для правительства Директории. Поддержав идею Наполеона о завоевании Египта, 19 мая 1799 года его направляют во главе экспедиционного военного корпуса в эту жаркую страну, исключая влияние этого активного генерала на текущие события внутри страны. Директория рассчитывала, что этот баловень судьбы ещё не скоро появится во Франции, а также надеялась на случай, который сделает его возвращение невозможным. Однако во время недолгого отсутствия Бонапарта произошли события, благодаря которым он нашёл повод возвратиться в Париж, чтобы окончательно взять власть во Франции в свои руки.
Новая коалиция, в которую входили Россия, Австрия, Сардиния и Турция, сумела, благодаря русской армии под командованием Суворова, выбить французов из Италии. В стране росла инфляция, наступал кризис власти... Чтобы навести порядок в Париже и во Франции, восстановить боеспособность армии и успокоить народ, нужна была сильная рука и авторитет, которого у Директории уже не было.
Под предлогом спасения отечества и революции Бонапарт прибывает в Париж и организует переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 года). В результат! переворота Наполеон нашёл поддержку у большинства партий, так как всем надоела «демократия» породившая беспорядок в стране и анархию, которая охватила всю Францию. Наполеон Бонапарт став одним из трёх консулов, на деле взял всю власть в свои руки, покончив с «демократией» и духе революции.
X

остюшко сначала прибыл в Париж. В столице Франции он задержался недолго: шумный и большой город его утомлял. Костюшко уже хотелось тишины и покоя, поэтому по приглашению Питера Цельтнера он с удовольствием переехал жить в его дом в небольшую деревню Бервиль в 20 милях от Фонтенебло.
Питер Цельтнер не долго оставался в Швейцарии после своего бегства из революционной Франции Вернувшись в Париж через пару лет, он нашёл там свою судьбу в лице очаровательной француженки Анжелики, белокурой парижанки небольшого роста с курносым носиком. А уже через год Питер стал отцом и был почти счастлив. Однако для полного счастья ему не хватало его привычного окружения: солдат. Поэтому Питер подумывал о том, чтобы предложить свои услуги в армии Наполеона, но пока воздерживался от этого шага Умудрённый жизненным опытом, он занял выжидательную позицию: ещё слишком много были неясного в будущем Франции, самого Наполеона Бонапарта и его армии. К тому же воспоминания о штурме дворца в Тюильри ещё долго не давали ему спокойно заснуть, а сцены резни швейцарских гвардейцев не раз являлись Питеру в кошмарных снах.
К сожалению для Костюшко, он не застал в Париже Яна Домбровского. Бывший командир дивизии во главе польских легионов с мая 1797 года сражался в Италии под командованием того же генерала Бонапарта.
Профессиональные военные ценились всегда и везде. Когда Ян Домбровский встретился с Наполеоном и представился ему, корсиканец сразу понял, с кем имеет дело и чем этот польский генерал может быть ему полезен. Умело используя его патриотические чувства, Наполеон, играя роль приверженца республиканских идей, в пафосной форме нарисовал создание целой семьи республик, объединённых одним союзом.
— Смотрите, всё зависит от нас с вами, — картинно жестикулировал Бонапарт. — Сегодня мы имеем республику во Франции, завтра — в Италии, через год республикой может стать и Польша... Но для этого необходимо победить всех, кто выступит против нас.
Увлечённый идеей возрождения своей родины, Ян Домбровский активно начал рассылать призывы всем полякам, создавая польский легион в составе Итальянской армии.
Тогда же он направил письмо и Костюшко.
— А этот корсиканец далеко пойдёт, — высказал своё мнение Костюшко, прочитав в газете сообщение о создании временного правительства во главе трёх консулов: Бонапарта, Роже Дюко и Эмманюэля Сиейеса.
— Я думаю, что это просто конец Французской революции, — добавил Питер. — Бонапарт теперь возьмёт всё в свои руки, а эти двое, Дюко и Сиейес, у него просто для компании.
Костюшко верно оценивал политическую ситуацию во Франции: реально власть сосредоточилась в одних руках, и это были руки первого консула. Франция опять приняла монархическое правление за основу государственного устройства, от которого отказалась совсем недавно — не прошло и десяти лет. А сколько было пролито крови, сколько было изготовлено новых гильотин... Теперь от республики во Франции осталось одно только имя.
— Ну а ты что собираешься дальше делать? участливо спросил Костюшко своего друга молодости.
— Я? Подожду ещё немного, и если Наполеон сумеет навести порядок во Франции и в армии, то я найду в ней своё место, — неуверенно ответил Питер.
— Я думаю, что сумеет, — подтвердил Костюшко. — Волей провидения Наполеон оказался в нужном месте и в нужное время и с выгодой для себя использовал этот исторический момент.
— Да, как-то ему удалось совершить всё так быстро и без проблем, — удивляясь ходу истории, раз вил тему разговора Питер. — Всю власть в устав шей от революции стране он захватил без особых усилий.
— Но теперь эту власть Наполеону необходимо удержать и укрепить. А что может сравниться с таким способом укрепления своего авторитета в государстве, как победоносная война? — спросил Тадеуш и сам же с грустью ответил: — Практически ничего... За последние две тысячи лет мир не сильно изменился. Так что в ближайшее время, я думаю, ты без службы не останешься.
В 1800 году на волнах Средиземного моря появились русские боевые корабли, чем вызвали беспокойство со стороны Австрии и Англии. И если до этого момента отношения между Россией и этими странами были натянутыми, то весной 1800 года они испортились окончательно. В то же время по дипломатическим каналам началось сближение России и Франции, с которой ещё совсем недавно русские солдаты воевали в Италии. Мало того, нетерпеливый Павел I начал обсуждать планы совместного похода на Индию для завоевания новых территорий. В качестве же подтверждения своих твёрдых намерений ещё до подписания соответствующего соглашения с Наполеоном он приказал полкам донских казаков выступить в поход.
И неизвестно ещё, началась ли бы война 1812 года, состоялось ли бы величайшее в истории того времени сражение под Бородино с последующим сожжением Москвы, присоединила ли бы Англия к своим многочисленным колониям огромные территории далёкой Индии, десятилетиями выкачивая из неё несметные богатства, если бы этим планам Павла I суждено было сбыться. Но, видимо, не судьба.
11 марта 1801 года в России произошёл очередной переворот: император Павел I был предательски умерщвлён в Михайловском замке. Заговорщики, гвардейские офицеры, ворвались в покои российского императора и потребовали, чтобы он отрёкся от престола в пользу своего сына Александра. Павел I понимал в этот момент, что живым от этих наглецов и предателей ему в любом случае из этих покоев уже не выйти. Он решил не продлять минуты своей жизни, упрашивая палачей не убивать его, и категорически ответил отказом. Тогда один пьяный гвардеец стал душить его шарфом, а другой ударил в вист, тяжёлой табакеркой.
Сбылось предсказание инока Александре Невской лавры Авеля, которого в народе прозвали Вещим. Когда-то при встрече с императором Павлом I он предупредил его: «Коротко будет царствование твоё, и вижу я, грешный, лютый конец твои На Сафрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей...»
[48].
Возможно, перед смертью Павел I и вспомнил пророческие слова монаха и пожалел в какое-то мгновение о том, что отпустил в тот вечер свою охрану — караул конногвардейцев, присутствие которых могло сохранить ему жизнь.
Заговорщики попытались привести гвардейские полки к присяге новому императору Александру, но на слова офицеров: «Радуйтесь, братцы, тиран умер» солдаты отвечали: «Для нас он был не тиран, а отец». И только тогда, когда делегация из двух солдат была впущена в комнату для осмотра тела и подтверждения смерти Павла I, гвардия присягах ла его сыну.
Опираясь на руку обер-шталмейстера Муханова, бледная императрица Мария Фёдоровна подошла к комнате, где покоилось тело её мужа. Сын Александр и дочь Елизавета следовали за своей матерью в ожидании страшного мгновения, когда они увидят мёртвое тело своего венценосного отца.
Мария Фёдоровна не пролила ни слезинки, увидев тело мужа, не бросилась с рыданием на его ложе, не заламывала от горя руки и не голосила, как это принято в таких случаях среди русских женщин. Немка — она и в России немка. Думая о чём-то своём, она просто стояла с широко открытыми глазами и молчала. Но вдруг, повернувшись к Александру, уже вдовствующая императрица твёрдым голосом сказала ему по-русски: «Теперь поздравляю, ты император». Эта фраза прозвучала как обвинение, и сын резко повернулся к матери. Их взгляды встретились, и Александр, поняв истинный смысл только что произнесённой фразы, в волнении упал в обморок. Но на императрицу припадок сына не произвёл впечатления, и она без признаков волнения за его состояние спокойно взяла под руку Муханова и удалилась из страшной комнаты.
В первые дни гвардейцы-заговорщики чувствовали себя героями. Они открыто рассказывали о своих подвигах и представляли себя спасителями отечества. Но нашлись и такие офицеры, которые открыто осуждали их и называли цареубийцами, в результате чего произошло несколько дуэлей.
За офицерами, поднявшими руку на императора России, стоял человек, приближённый к семье Павла I, — граф фон Палён. Ни для кого уже не было тайной его участие в заговоре и последующем за ним убийстве коронованной особы. Русское высшее общество ещё находилось в состоянии шок» от случившегося, а граф-заговорщик оказался и ситуации, когда он, будучи при дворе, фактически пребывал почти в полной изоляции. С ним никто не желал общаться, просить совета или рекомендаций, как это происходило ещё совсем не давно, до кончины бедного Павла. Даже графиня Ливен, воспитательница великих княжон, способствующая возвышению фон Палена, однажды при встрече с ним открыто заявила: «Я не подаю руки цареубийцам».
Правда, сам граф фон Палён от такого отношения к себе не сильно переживал. Зная менталитет придворных российского двора, хорошо разбираясь в человеческой сущности, он был готов к такому повороту событий. Граф-заговорщик просто ждал, когда пройдёт время и всё понемногу забудется, придворные успокоятся и голоса возмущённы стихнут. А предполагаемое успешное правление молодого императора Александра подведёт многих недоброжелателей к мысли, что смерть его отца, может быть, была вовсе не злом, а, наоборот, благом для будущего России.
Невозможно дать однозначную оценку короткому правлению императора Павла I. Большая часть его жизни — это ожидание, когда освободится место на троне, а короткое время царствования — попытка показать себя, что он мог бы править не хуже, а, может быть, даже лучше своей покойной матери. Михаил Илларионович Кутузов, русский полководец и будущий победитель Наполеона Бонапарта, при разговоре с женой о смерти императора Павла I заявил: «Родная мать ему была мачехой, а судьба оказалась злей мачехи». Лучше и не скажешь.
XI

события во Франции в это время стремительно развивались.
В начале своего правления в качестве первого консула Наполеон Бонапарт активно проявлял себя как государственный деятель. Он понимал, что старая государственная машина Франции давно дала сбой, и в ней активно происходит процесс саморазрушения. В связи с этим Наполеон срочно принял меры и произвёл некоторые реформы, которые существенно изменили облик Франции как государства.
Так, закрепив свою власть в новой Конституции 1800 года
[49], Наполеон провёл административную реформу, учредив институт подотчётных правительству префектов департаментов и супрефектов округов, а в городах и деревнях назначались мэры. Удержав инфляцию от дальнейшего роста, он учредил государственный Банк Франции для хранения золотого запаса и эмиссии бумажных денег, а также нейтрализовал систему сбора налогов. Тогда же была создана система средних школ-лицеев и высших учебных заведений. Понимая значение укрепления силовых структур внутри государства для сохранения своей власти, первый консул создал мощную полицию и разветвлённую тайную службу.
Что касается вероисповедания, то католицизм был объявлен основной религией французов. Данный факт очень обрадовал Римского Папу, который поспешил заключить договор между Францией и Ватиканом. Однако радость главного католика мира по этому поводу была не полной: во Франции, однако, сохранялась свобода вероисповедания, а деятельность церкви контролировалась государством.
Экономика Франции также требовала преобразований и желала быть лучше. Главной задачей, которую поставил себе Бонапарт, являлось достижение первенства французской промышленности и финансовой буржуазии. Но совсем рядом с границей государства, которое он возглавил, существовала мощная морская держава — Англия, которая ставила себе аналогичные цели. В связи с такой жёсткой конкуренцией Франция постоянно находилась в состоянии войны с этим островным государством.
Правительство Великобритании неожиданно для себя вдруг обнаружило, что молодой, но рьяный первый консул Франции создаёт независимое государство, активно вооружает свою армию и строит флот, планируя высадку на британские острова. Спасибо адмиралу Нельсону: благодаря ему план Наполеона о господстве не только на суше, но и на море не был претворён в жизнь, а объединённая французская и испанская эскадра потерпела сокрушительное поражение от английских военных кораблей у мыса Трафальгар в 1806 году.
Но на суше в эти годы Наполеон оказался всё-таки сильнее всех.
Первый консул Франции в 1801 году совершает свой второй поход на север Италии и победой при Маренго снимает угрозу с южных границ страны. Подписав в феврале этого же года Люневильский мир, Наполеон поставил крест на надежде польских легионеров на ближайшую войну с целью возрождения их родины.
Польские легионы, которые сформировал и возглавил Ян Домбровский, принимали активное участие во всех Итальянских походах Наполеона. Но проходило время, а Наполеон Бонапарт даже не поднимал вопрос о новом военном походе и захвате территорий, которые до раздела Речи Посполитой входили в её границы.
Среди польских офицеров и солдат поползли разговоры о том, что их просто нагло используют, направляя в сражения за чужие имперские интересы. И эти возмущённые голоса дошли до ушей Наполеона.
— Они чем-то недовольны? — спросил у Домбровского будущий император Франции, когда тот так же, как и его подчинённые, выразил своё отрицательное мнение. И он имел на это право: обещанный ему Наполеоном поход на восток с целью создания республики на территории Польши в очередной раз откладывался.
— Мои солдаты устали от войны, в которой участвуют уже несколько лет, — пояснял Домбровский первому консулу причины таких настроений польских легионеров. — Ведь они пришли в вашу армию по моему призыву и обещанию, что вернутся на родину в рядах французской армии-освободительницы.
— Всему своё время, — отрезал Наполеон. — А кто говорил, что это случится так быстро? Моя армия — это не только польские легионы. Сколько вокруг вражеских армий, которые только и ждут, чтобы я допустил ошибку?! Они сразу же набросятся на меня и мою Национальную гвардию, чтобы уничтожить и разорвать Францию на части! — корсиканец с присущей ему импульсивностью размахивал перед Домбровским руками.
Домбровский молчал и слушал, а Наполеон, картинно став в свою излюбленную позу, спросил:
— Если моя армия потерпит поражение, кто тогда поможет полякам, кроме меня?
Домбровский продолжал молчать. Он был офицером, который выполнял приказы своего командующего, и не в его власти было что-либо изменить. Наполеон по-своему истолковал молчание командира польских легионов. Уже более миролюбиво Наполеон положил руку на плечо Домбровского.
— Терпение, мой друг, терпение. Вот что требуется от вас, ваших офицеров и солдат, — успокаивал он генерала. — Вы сколько раз пытались выйти из войны с Россией победителями, а каков результат?
Домбровский трагически развёл руками. Наполеон был прав: результат оказался самым печальным. Видимо, ещё не пришло время.
— Кстати, а где сейчас ваш бывший главнокомандующий Тадеуш Костюшко? — вдруг вспомнил Наполеон про того, кто тихо и мирно проживал во Франции уже несколько лет.
— Я не поддерживаю с ним связь, — правдиво ответил Домбровский и сразу пожалел о том, что это действительно так.
— Жаль, очень жаль, а ведь этот человек мог бы ускорить совершение того, о чём вы так меня просите, — пояснил Наполеон свою заинтересованность персоной Костюшко. — Ну да ладно, придёт время, и я займусь им сам.
На этом аудиенция для Домбровского закончилась, но Наполеон обладал отличной памятью и продолжение этого разговора отложил на будущее.
А пока, встревоженный положением дел в польских легионах, Наполеон решил использовать их боевой дух и их силу совсем в далёком от их родины месте.
Около 6000 польских легионеров загружались на военные корабли, которые отправлялись в одну из колоний Франции — на остров Сан-Доминго. На этом клочке земли участились волнения среди местного населения, и в связи с этим требовалось вмешательство вооружённых сил. Наполеон не долго размышлял, кого послать на усмирение бунтарей, и сразу принял решение об отправке на остров польского легиона. Пусть легионеры там выполняют свой долг и выражают своё недовольство Бонапартом... Всматриваясь в удаляющийся берег, бедняги даже не предполагали, что через несколько лет из шести тысяч солдат на родину вернётся только около трёхсот. Остальные же навсегда сложат свои головы, погибнув от восставших островитян, или умрут от лихорадки и других тропических болезней. Но даже там, далеко от родины, во время очередного марша по чужой земле поляки и литвины затягивали песню, в которой звучала надежда:
Марш, марш, Домбровский,
В край родной наш польский,
Под водительством твоим
Мы народ объединим...
Ещё Польша не погибла,
Коль живём мы сами,
Что отняла вражья сила,
Отберём клинками.
Марш, марш, Домбровский.
Что касается самого героя знаменитого марша, то в декабре 1801 года Домбровский был назначен генерал-инспектором польских войск в Италии, а затем инспектором всей итальянской кавалерии.
XII

остюшко всё это время спокойно жил в небольшой деревне Бервиль в семье друга Питера. Как профессиональный солдат Питер всё-таки нашёл место в армии Наполеона и одновременно являлся в ней военным представителем от своей страны. Это было время, когда Костюшко, наверно, впервые почувствовал радость обретения семейного счастья. Его окружали дорогие ему люди: Питер, его жена Анжелика, милая и обаятельная француженка, и их трое детей. Костюшко стал крёстным отцом младшей из них — Таддеи и поэтому уделял ей больше внимания, чем другим детям. Хотя они не были из-за этого на него в обиде: он обучал их языкам и истории, давал им первые уроки живописи. А когда уроки со старшими детьми заканчивались, Костюшко звал Таддеи и шёл гулять с ней в парк. В конце прогулки девочка начинала капризничать и жаловаться, что у неё устали ножки, и тогда Костюшко с большим удовольствием сажал её себе на плечи. Он прекрасно понимал, что его крестница только этого и ждала: ей очень нравилось возвращаться домой с прогулки на плечах Костюшко, с гордостью посматривая с высоты его роста на своих таких «маленьких» родителей.
Сам Питер Цельтнер редко бывал дома: профессиональный военный, он в чине полковника служил в одном из швейцарских полков, входящих в состав наполеоновской армии. Когда же ему удавалось бывать в Париже по делам службы, Питер всегда находил время заехать в Бервиль и навестить семью. За время своего пребывания в краткосрочном отпуске он подробно рассказывал про все новости с полей сражений, в которых участвовал сам или о которых слышал от своих друзей.
Продолжая победоносное шествие по Европе, войска Наполеона Бонапарта в 1805 году нанесли сокрушительный удар объединённым австрийским и русским войскам, разбив их под Аустерлицем. Пруссия, опасаясь усиления военной мощи Франции, ещё попыталась как-то проявить себя в этой войне, но не выдержала натиска французской армии в битве при Йене в 1806 году. В результате этого сражения вскоре по Берлину уже маршировали французские полки, а в столице Пруссии везде слышалась французская речь.
Русская армия попыталась взять реванш в битве при Эйлау и даже нанесла существенный урон французам, но эйфория от этой победы продлилась не долго. Уже в 1807 году русские войска потерпели поражение при Фридланде, в результате чего в состав Франции вошли территории Бельгии, Голландии, северной Германии и часть Италии.
Пруссии, Австрии и России срочно потребуется передышка для осмысления происходящего и состоявшегося передела территорий. Наполеон также решит дать отдых своей победоносной армии, и всё воюющие стороны подпишут мировое соглашение, так называемый Тильзитский мир. Граница Франции переместится к границе Российской империи, и вся Европа застынет в ожидании новой войны.
С каждым днём Наполеон всё больше входил в роль спасителя нации и наслаждался своей властью. Он подбирал нужных ему людей и ставил их на ответственные государственные посты. Причём порой это были люди ещё той, старой государственной системы, которую разрушила Французская революция. Те же республиканцы, которые принимали участие в судах и казнях аристократов и уцелели после революционного террора, зачастую также предлагали свои услуги первому консулу. И он использовал их!
Но были и другие, которые заняли высокие государственные посты благодаря прежним заслугам перед Наполеоном или получили их, как Шарль Морис де Талейран-Перигор, по чьей-то протекции. Этот проходимец, священник, дипломат, торговец и просто авантюрист уговорил свою подругу мадам де Сталь
[50] убедить Барраса назначить его министром иностранных дел Франции. Баронесса Жермена де Сталь блестяще справилась с его поручением: в результате её настойчивых просьб Талейран был допущен в правительство и заодно к государственно!! кормушке.
Этот политик, заняв вдруг такой высокий государственный пост, умудрился оставаться на этой важной должности при трёх режимах. При этом при всех трёх правителях он нагло брал взятки и решал все вопросы исключительно с собственной выгодой. Даже само имя этого мастера политической интриги стало нарицательным для обозначения хитрости, дипломатической ловкости и личной беспринципности.
«В политике нет убеждений, есть обстоятельства», — любил повторять он, получая ещё одну взятку для решения очередной дипломатической интриги.
В армии Наполеона появлялось всё больше генералов, которые вышли из низов и ранее не были известны. Так, будущий маршал Бессьер Жак Батист готовился стать врачом, а его соратник Клод-Виктор Перрен служил простым полковым музыкантом. Генералу Алексису Жозефу Дельзону «повезло» родиться в семье простого судебного чиновника, а генерал Луи Барагэ был сыном жандарма королевской гвардии. Своей храбростью, бесстрашием и талантами полководцев они вошли в историю многих сражений, в которых участвовали под знамёнами французской армии.
Для Наполеона Бонапарта жизнь превратилась в сплошной спектакль, где он играл главную роль. В зависимости от ситуации он мог быть жёстким и вспыльчивым, мрачным и угрюмым, строгим и непреклонным. Но вот менялись декорации, и Наполеон представал перед «зрителями» человеком государственным, мог быть ласковым и дружелюбным, добросердечным и даже нежным среди своей семьи.
В Версале Бонапарт принимал поэтов и художников и сразу становился покровителем искусств, в Павии он встречался с физиологом Скарна, провёл приятную для обеих сторон беседу с физиком Вольтою, которого одарил подарками и осыпал почестями. Все, кто с ним общался, были в восторге от тех его лучших человеческих качеств, которые они находили и в себе. А Бонапарту просто нужна была эта сцена жизни, где он испытывал необходимость в том, чтобы его постоянно окружали люди-актёры. Нация, над которой он хотел властвовать как можно дольше, должна была видеть в нём не только защитника и воителя, но и человека, который смог бы стать покровителем её культуры и науки, способствовать развитию её умственных богатств.
В то же время Наполеон Бонапарт прекрасно понимал, что любой спектакль может закончиться, и хорошо разбирался в человеческой психологии. Сегодня он «на коне», и окружающие рукоплещут ему, а стоит поменять положение, и...
Поэтому когда публика приветствовала Наполеона овациями при его появлении, он иногда отвечал словами Кромвеля: «Э! Да народ с таким же восторгом пошёл смотреть, если бы меня повели на эшафот».
Ну как тут не вспомнить казнь Людовика XVI, Дантона, Робеспьера и других жертв последнего десятилетия истории Франции, сложивших свои головы под ножом гильотины.
XIII

аполеон Бонапарт с самого утра находился в хорошем настроении: в последнее время у него получается всё, что было им задумано. Правда, жизнь вносила свои коррективы, но на конечный результат это не влияло.
Французский император прошёл вдоль высокой стены гостиной, на которой висели огромные полотна картин, отображающих сражения давно ушедших времён: средневековые рыцари поражали длинными копьями мавров. Лёгкая тень печали лишь на мгновение набежала на лицо императора. «Как жаль, что всё хорошее всё-таки заканчивается, — подумал он. — Когда-нибудь у этой стены лет через двести будет стоять иной император и также рассматривать картины, где художник изобразит мой очередной триумф». Наполеон задумался: а каким он будет этот триумф? Где его ожидает следующая победа? Что это будет победа, а не поражение Наполеон не сомневался.
Планируя свой очередной военный поход по Европе, Бонапарт не бросался в сражение наобум, а заранее готовился к нему, взвешивая свои возможности и учитывая все слабые места намеченного противника. Причём большое внимание он уделял личностям: самим монархам и их фельдмаршалам. Наполеон считал, что именно личности делают историю, а не народ, так как сам народ следует за сильным, а слабые и безвольные остаются в одиночестве. Поэтому победа за победой одерживались Наполеоном, и он гордился сейчас собой, стоя здесь в этом зале перед огромным полотном картины.
Через час Наполеон принимал с докладом своего министра полиции Фуше. В ходе доклада Наполеон делал для себя на бумаге какие-то пометки, потом оторвался от них и вдруг неожиданно спросил:
— А где сейчас проживает польский генерал Костюшко? Что-то давно о нём ничего не слышно?
Жозеф Фуше, герцог Отрантский, не зря занимал свою должность. Наполеон в любое время мог вызвать его к себе и если не сразу, то в кратчайшие сроки получить нужную ему информацию о любом человеке, находящемся на территории Франции. Агентурой Фуше было пронизано всё французское общество, все европейские дворы и эмиграционные центры.
В руках этого двуличного человека сосредоточилась работа полиции, разведки и контрразведки Франции, что позволило ему организовать и раскрыть не один заговор против Наполеона. Но сам Наполеон старался скрыть факты заговоров против него, чтобы во Франции и в Европе создавалось впечатление о его всенародной поддержке. А в том, что Фуше двуличен, Наполеон не сомневался. Когда-то предав якобинцев, этот герцог был принят им на службу, хотя и был хорошо осведомлён о тех кознях и интригах, которые плёл против него Фуше с Талейраном
[51]. Однако Бонапарт предпочитал иметь Фуше при себе в качестве министра, чем на стороне своих врагов в качестве заговорщика.
Что касается таких известных личностей, как Костюшко, то министру французской полиции не понадобилось дополнительного времени, чтобы проинформировать своего императора о его месте нахождении и чем тот занимается.
— Проживает в имении своих друзей в деревне Бервиль недалеко от Фонтенебло, сир, — с готовностью доложил Фуше.
Наполеон опять остался доволен ответом и полученной информацией.
— Такой известный герой нации живёт в какой-то деревне? — уточнил Наполеон для себя новость и задумался. «А ведь этого старика ещё можно использовать. Его имя может стать знаменем, под которым я соберу тысячи польских патриотов...» — размышлял французский император.
— Вызовите его в Париж и от моего имени предложите ему организовать освободительное движение на территории Польши, — поручил Наполеон министру. Он заложил правую руку за ворот мундира и задумался. — Дайте ему понять, что в случае успеха на территории его родины будет создано новое по своей сути государство. Намекните в разговоре, что я намерен предложить ему возглавить его. Кстати, сколько ему лет? — заинтересованно спросил император.
— Я полагаю, где-то около шестидесяти, — поразмыслив буквально пару секунд, ответил Фуше.
— Надеюсь, он ещё не страдает старческим маразмом и примет моё предложение, — уверенным тоном инструктировал Наполеон министра. — И пообещайте ему нашу всяческую поддержку в этом благородном деле. Тем более у него достаточно опыта в организации подобных мероприятий, — с усмешкой добавил император.
Костюшко держал в руках официальное письмо-приглашение прибыть в Париж. Сам министр полиции Франции предлагал ему встретиться при условии строгой конфиденциальности по вопросу, который, как обещал Фуше, будет интересен Тадеушу Костюшко и касается лично его.
— Ты смотри, Питер, меня вдруг вспомнили в этой стране, — обратился Костюшко к своему другу.
Старший Цельтнер уже несколько дней отдыхал дома, и Костюшко всё это время с нескрываемым интересом долго расспрашивал его о всех новостях, о которых не мог прочитать во французских газетах.
— Неспроста это, ох, неспроста, — задумчиво покачал головой Цельтнер. — Я думаю, дело не в Фуше и его службе. Этот лис наверняка вспомнил о тебе по указанию своего хозяина, а значит, и разговаривать с тобой он будет от его имени. А может, и сам!.. — Он поднял указательный палец вверх и недвусмысленно посмотрел на Костюшко.
Костюшко улыбнулся в ответ. Он догадывался, зачем его приглашают в Париж, но ничего не сказал, а только покачал головой: что его ждёт впереди, об этом никому, кроме Бога, неведомо.
— Поедешь? — с небольшим волнением в голосе спросил Цельтнер, заметив, как задумался о чём-то Костюшко. Он волновался за друга: кто его знает, этого Фуше... Он хоть и герцог, но известная всем сволочь.
— Поеду, — твёрдо заявил Костюшко. — Да не волнуйся ты за меня, — заметив озабоченность на лице товарища, попытался успокоить Костюшко. — Всё будет в порядке. Кому я нужен, шестидесяти летний старик?
Утром следующего дня открытый экипаж, запряжённый двумя лошадьми, уже подвозил Костюшко в назначенное в письме время к зданию, где располагалось главное управление всей французской полиции. Его уже ожидали и сразу же проводили в святая святых этого здания — приёмную Фуше.
Массивные двери отворились, и сам хозяин кабинета вышел из-за стола встретить гостя и проводить его к мягкому креслу.
— Рад, очень рад, что вы приняли моё приглашение и не ограничились письменным ответом, — льстиво начал разговор Фуше, присаживаясь рядом. Он прекрасно понимал важность своей миссии. Если Костюшко согласится на предложение Наполеона, то вскоре на бывшей территории Польши может вспыхнуть восстание, а наполеоновская армия получит тысячи новых солдат.
«Во главе восставшей шляхты, которая до сих пор не забыла бредовые идеи о «единой Польше от моря до моря», этот старец Костюшко поведёт их в сражения, — в мыслях Фуше уже видел картину будущей войны. — Русские, пруссаки и австрийцы опять начнут истреблять друг друга, а французской гвардии достаточно будет лишь «успокоить» дерущихся. Только делить «пирог мира» будет Наполеон...»
— Прошу вас, генерал, присаживайтесь, — продолжал любезничать Фуше с гостем.
— Благодарю вас, месье, но я хотел бы знать, по какому вопросу вы вдруг захотели встретиться со мной, — перешёл сразу к делу Костюшко, и любезная улыбка немедленно исчезла с физиономии главного полицейского империи.
— Ну что же, тогда приступим к делу, — присев в своё мягкое кресло, начал диалог Фуше. — Император Наполеон Бонапарт просил меня выразить вам своё почтение как герою, о котором на вашей родине до сих пор в народе поют песни...
Костюшко терпеть не мог лести, особенно такой открытой, и криво усмехнулся.
— Вы преувеличиваете мою популярность среди простых людей. Если бы народ поддержал объявленное мною «посполитое рушение» в начале нашего восстания, то война 1794 года не закончилась бы так быстро, — пояснил он Фуше, пытаясь сообразить, к чему поёт ему дифирамбы этот высокопоставленный чиновник, — а Речь Посполитая не исчезла бы с карт Европы.
Фуше напрягся, как гончий пёс, почуяв приближающуюся дичь. Теперь надо только взвести курки и выждать нужный момент для точного выстрела.
— Что поделаешь,
народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую, — повторил он афоризм Наполеона, услышав его когда-то от императора на одном из светских приёмов. — Но сейчас наступают другие времена: союзники России уже не так сильны, как это было при Екатерине. Да и Россия уже не та: русский император Александр ещё молод и неопытен... Европа снова на пороге новых перемен, — «взводил курки» Фуше.
— Вы меня пригласили пофилософствовать по поводу будущего Европы? — Костюшко начал надоедать этот танец вокруг его персоны и он хотел быстрее закончить этот неприятный для него разговор с воспоминаниями о поражении его народа.
— А вы смелый человек, — Фуше недовольно откинулся в кресле. Ему не нравился тон Костюшко и его вызывающее поведение. Как-никак, а с этим стариком разговаривает человек, которого боятся и перед которым раболепствуют даже лица высшего света империи.
— Но
со смелостью можно всё предпринять, но не всё можно сделать, — продолжал Фуше цитировать Наполеона. — У вас горячее сердце патриота своей родины, но у большой политики нет сердца, а есть только голова.
— Давайте говорить по существу: у вас есть ко мне какое-то предложение? — конкретизировал Костюшко суть беседы, делая разговор более жёстким.
Фуше вынужден был «проглотить» и это.
— Император Франции Наполеон Бонапарт предлагает объединиться: ваше горячее сердце и народная любовь и его армия и всяческая поддержка, а она уже сейчас дорогого стоит, — выложил Фуше наконец-то главную цель их встречи.
Костюшко всё понял. Наполеону нужен лидер, который под лозунгами свободы и независимости родины, с идеей восстановления государственности некогда великой страны ввергнет поляков и литвинов в новую войну. А после её завершения Наполеон станет ещё одним, а скорее всего — единственным, дольщиком тех территорий, где они проживают. И этим лидером должен стать он, Тадеуш Бонавентура Костюшко.
«Не получится по-вашему, господа. А если и получится, то без моего участия, — решил для себя Костюшко. Он вспомнил польские легионы под командованием Домбровского и их судьбу. — Это всё слова, которые Наполеон умеет красиво говорить, а что на самом деле сможет получить народ от нового оккупанта, кроме обещаний?.. Однако из этой ситуации мне надо как-то выходить...»
— Вы предлагаете мне организовать новое освободительное движение на территории бывшей Речи Посполитой? — задал конкретный вопрос Костюшко.
— Не только организовать, но и возглавить его, как это было в 1794 году, — также конкретно ответил Фуше, радостно предвкушая, что «рыба схватила наживку».
— А дальше?
— Что дальше? — не поняв вопроса Костюшко, спросил Фуше.
— Что будет дальше, если восстание перерастёт в серьёзные военные действия?
— Тогда с помощью доблестной армии Наполеона Бонапарта территория Польши восстановит свою государственность, — подошёл к предполагаемому конечному результату Фуше.
— В каких границах? — продолжал «допрос» Костюшко, раздражая Фуше.
— Император не уполномочил меня обсуждать вопрос о будущих границах Польши.
— А что будет потом? — не унимался Костюшко.
Фуше начал нервно стучать пальцами по подлокотнику кресла. Слишком дотошным оказался этот Костюшко.
— А дальше... Вам предлагается возглавить новое государство, которое войдёт в состав нашей империи, а также его армию, — непроизвольно озвучил Фуше главную цель своего императора, чем лишь
подтвердил догадки Костюшко.
«Всё, надо заканчивать. Ничего нового и необычного Бонапарт не предложил», — решил про себя Костюшко, но вслух сказал:
— Хорошо. Однако мне надо ещё подумать над вашим предложением.
— Да-да, конечно, я вас понимаю, — заулыбался опять Фуше, натягивая на себя старую маску доброжелательности. — Принимать решение сразу — это было бы легкомысленно с вашей стороны. Вопрос очень серьёзный и заслуживает того, чтобы к нему вы подошли со всей ответственностью.
Фуше встал, давая понять Костюшко, что пора заканчивать разговор. Поддерживая его за локоть, он проводил гостя до двери и ещё раз обратился к нему:
— От вашего решения зависит будущее вашей родины... И ваше будущее, — намекнул Фуше на перспективы, которые открываются для Польши и для Костюшко лично.
— Я пришлю письменный ответ императору в ближайшее время, — пообещал Костюшко и, откланявшись, удалился из огромного зала...
В тот же день Фуше доложил Наполеону о состоявшихся переговорах. Император остался доволен тем, как прошла эта встреча. Он был уверен, что Костюшко примет его предложение и возглавит национальное движение польских патриотов. Дело только во времени и месте, откуда это движение могло бы получить своё начало, но это уже его, Наполеона, забота.
— Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемым бараном, — самодовольно выдал миру очередной афоризм Наполеон, не конкретизируя, кого он имел в данный момент в виду.
Однако через неделю у Фуше было очень плохое настроение. Оно было испорчено императором, который посчитал важную миссию Фуше в вербовке Костюшко в качестве лидера нового польского восстания полностью проваленным.
В этот день Фуше передал нераспечатанное письмо Костюшко к императору Наполеону Бонапарту с согласием возглавить восстание на территории Польши... но с условием! Какая наглость со стороны этого старика! Проживая на территории Франции, он ещё ставит императору этой страны условия!..
Наполеон получил оплеуху от того, от кого никак не ожидал. Костюшко выдвинул ему дерзкие требования: «...если Наполеону нужна моя помощь, то я готов её оказать, но при УСЛОВИИ, что французский император даст ПИСЬМЕННОЕ обещание ОПУБЛИКОВАТЬ в газетах, что в Польше будет установлена такая же форма правления, как в Англии, а границы возрождённой Речи Посполитой пролягут от Риги до Одессы и от Гданьска до Венгрии, включая Галицию...»
— Он сумасшедший, этот ваш Костюшко? — удивлённо, высоко подняв густые брови от этой наглости, спросил у Фуше император.
Главный заговорщик Франции в недоумении развёл руками. Наполеон понял, что его красиво провели. И кто?!! Теперь из этого положения необходимо красиво выйти, чтобы этот случай не получил огласки.
— Я не придаю никакого значения Костюшко, — вдруг заявил Наполеон Бонапарт министру полиции, позабыв о своём недавнем предложении этому человеку. Император навесил на своё лицо очередную маску, выражающую полное безразличие. — Он не пользуется в своей стране тем влиянием, в которое сам верит. Впрочем...
Наполеон задумался, и было над чем. «Может, поручить Фуше аккуратно убрать его, — промелькнула у него мысль. — Его могут использовать в дальнейшем так, как пытался это сделать сейчас я... Нет, всё-таки не стоит: этот генерал — личность известная не только у себя на родине. Будет слишком много международного шума. Лучше я найду других героев. Тем более, их среди поляков хватает...»
— Впрочем, всё его поведение убеждает нас, что он просто дурак, коль отказался от нашего предложения, — продолжил Наполеон. — Надо предоставить ему всё, что он хочет, не обращая на него никакого внимания.
Наполеон Бонапарт подвёл итог ещё одной исторической странице в своей жизни, а Фуше в который раз убедился в дальновидности императора. Он низко поклонился и отправился выполнять повес дневные обязанности по организации и раскрытию заговоров.
XIV

нязь Юзеф Понятовский внимательно следил за событиями, которые происходили во Франции и за её пределами с участием французской армии. Какие-то действия императора Наполеона Бонапарта его восхищали и удивляли, а к некоторым он относился с недоумением и опаской.
Когда французская армия смогла успешно противостоять войскам очередной антинаполеоновской коалиции и добивалась очередных побед, Юзеф Понятовский готов был стать в ряды победителей и посвятить себя служению в армии, которая, возможно, освободит его родину. Но что-то сдерживало и настораживало князя: ему не нравилось столь быстрое восхождение Наполеона от простого офицера артиллерии до императора Франции с диктаторскими полномочиями. Данный факт как-то не сочетался с теми республиканскими лозунгами, которые провозглашались почти во всех публичных выступлениях Наполеона, а также с теми целями, достичь которых он собирался с помощью своей армии.
Но, видимо, первое стремление оказалось доминирующим, и в 1805 году князь Юзеф Понятовский, племянник последнего польского короля, оказался на приёме у императора Франции.
— Я рад, что вы приняли моё предложение и поступаете ко мне на службу, — добродушно и по-приятельски разговаривал Наполеон с князем, сидя с ним за одним столом в большой гостиной во время обеда. — Вашей родине, которую, я надеюсь, вы обретёте в ближайшее время, нужны такие герои и патриоты.
Наполеон дожевал кусочек жареного цыплёнка и допил из бокала вино. Он ждал от князя какой-то ответной реакции на его слова, но Понятовский молчал и почти ничего не ел и не пил.
— Опозоренной и униженной Польше мы вместе сможем вернуть ей былое величие и гордость, — вдруг с пафосом заявил французский император, отложил в сторону салфетку и встал. За ним немедленно поднялся с кресла и Понятовский.
— Для достижения этой цели я буду счастлив служить вам и, если потребуется, отдать жизнь, — в порыве лучших чувств искренне заверил он Наполеона.
Император, довольный ответом князя, подошёл к нему, положил свою правую руку на левое плечо Понятовского и, внимательно посмотрев ему в глаза, выразительно сказал:
— Я знал, что услышу от вас именно такие слова. Подойдите сюда, — позвал он важного гостя, приглашая его приблизиться к карте Европы, висевшей на стене гостиной.
— Смотрите, князь, вот здесь, — Наполеон положил ладонь на карту, прикрыв ею Варшаву, — именно здесь будет обновлённая Польша. И не без вашего участия.
Понятовский от избытка переполнявших его чувств с трудом проглотил застрявший в горле комок.
— Когда? — только и смог он спросить Наполеона.
— Скоро, мой друг, очень скоро... — обнадёжил князя император. — Надо набраться ещё немного терпения, но уже сегодня необходимо приступить к осуществлению этой цели. Вы готовы?
Выражение готовности хоть немедленно ринуться в бой было написано на лице Понятовского, и Наполеон удовлетворённо кивнул.
— Не надо слов. Я всё и так вижу, — остановил он на полуслове князя. — Ну, тогда завтра же направляйтесь в легион Домбровского и принимайте дивизию.
Наполеон ещё раз внимательно посмотрел на Понятовского. Перед ним стоял высокий, красивый и статный мужчина, а среди его пышных волос, которые князь чернил, упрямо пробивалась седина. Его лицо выражало необыкновенную душевную доброту, а в горящих глазах было что-то привлекающее и притягивающее. И когда Понятовский откланялся и развернулся, чтобы покинуть французского императора, тот неожиданно остановил его вопросом:
— Скажите мне, князь, а почему вы до сих пор не женаты? Я слышал, что вы имели возможность породниться со многими известнейшими фамилия ми и вам предлагались блестящие партии?
Понятовского не смутил этот прямой вопрос о его личной жизни. Он на секунду задумался, но быстро нашёл, что ответить любопытному Наполеону:
— Всё очень просто, Ваше императорское Величество, — откровенно пояснил он, — я чувствую, что не в силах сохранить супружескую верность, и поэтому отказываюсь от женитьбы. К тому же я давно знаю по опыту, что все женщины более или менее ревнивы.
Наполеон засмеялся от этих откровенных признаний Юзефа Понятовского и махнул рукой, позволяя ему уйти. Когда же за князем закрылась дверь, император перестал смеяться, задумался о чём-то и тихо про себя произнёс:
— Sans peur et sans reproche
[52]...
«Отличный солдат, но он не сможет стать лидером нации, — подумал Наполеон. — Слишком добрый и бескорыстный».
Всезнающий Фуше до этой встречи французского императора и «польского Баярда» доложил своему хозяину, что князь Юзеф Понятовский, будучи человеком очень богатым и финансово независимым, раздаёт большие суммы денег своим друзьям. Довольно часто, в очередной раз выручая деньгами кого-нибудь из знакомых (гася чужой карточный долг или просто помогая кому-то в трудные времена безденежья), Юзеф Понятовский даже не рассчитывал получить их обратно.
XV
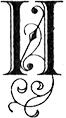
юнь 1812 года выдался в Париже сухим и жарким. Парижские обыватели, спасаясь от палящих солнечных лучей, сидели по многочисленным столичным кофейням, обсуждая последние новости, которые доходили до парижан о жизни их кумира — Наполеона Бонапарта. Самой животрепещущей темой таких разговоров и возникающих при этом споров была тема возможной войны с Российской империей. Пойдёт ли Наполеон войной на Россию? А если он всё-таки решится объявить царю Александру I войну, то дойдёт ли до Москвы и как быстро это произойдёт? В маленьких кофейнях, на улицах среди торговцев и в покоях дворцов — везде в эти дни витал дух спора и делались ставки.
12 июня 1812 года парижане ещё не знали, что бравые гвардейцы Наполеона уже перешли по мостам через Неман и двинулись вглубь огромного, по сравнению с территориями других стран Европы, государства. Более 600 000 солдат французской армии, как воды полноводной реки, втекали и втекали в Россию, чтобы всего лишь через год раствориться и исчезнуть на её просторах. Так исчезают в океане любые реки, впадающие в него, навсегда смешавшись с солёными безбрежными водами.
Заядлые спорщики не могли допустить даже и кошмарных снах, что всего лишь через два года войска уже другого императора, русского, совместно с войсками союзных армий будут маршировать по Елисейским Полям, а почти мифические страшные казаки будут забегать в парижские ресторанчики и требовать подать им по-быстрому выпить стопку водки. При этом они на ходу будут закусывать каким-нибудь поднесённым перепуганным официантом (или симпатичной и ничего не пугающейся официанткой) куском мяса с французской булочкой.
Но всё это будет только через два года. За это время тысячи и тысячи французских женщин ста нут вдовами, а французские мальчишки и девчонки — наполовину сиротами. И всё это совершится по воле только одного человека, стоящего 12 июня 1812 года на берегу полноводной реки, по руслу которой ещё пару часов назад проходила граница, установленная и утверждённая двумя императора ми в 1807 году.
Солдаты французской армии, маршируя стройными колоннами совместно с солдатами союзных армий перед императором Франции, понимали, что они идут воевать, а не на прогулку. И они были готовы к этой войне. В последние годы их обожаемый Наполеон Бонапарт не знал поражений, и практически вся Европа, кроме этих горячих испанских вояк, уже покорилась военной мощи Франции и её полководцу. Теперь же пришла очередь наступить на лапу и русскому медведю, накинуть ему на шею тяжёлый ошейник и заставить плясать французский канкан.
Практически все солдаты, проходившие в этот исторический момент по трём мостам, перекинутым через Неман, были уверены, что война будет победоносной и скоро закончится. Каждый из них надеялся остаться в живых, а после отдыха на зимних квартирах вернуться домой в свою горячо любимую Францию. Те же, кто не имел ничего, кроме солдатской формы и ружья, мечтали получить от своего щедрого императора хороший кусок земли на необъятных российских просторах и жениться на русской красавице. Офицеры просто стремились сделать военную карьеру, а польские легионеры хотели наконец-то победить русскую армию, взять реванш за поражение Польского восстания 1794 года и восстановить государственность своей родины.
Наполеон стоял на холме, возвышающемся над низиной принеманского берега, и смотрел на всю эту лавину людей, готовых ради него по одному только его жесту устремиться туда, куда он их пошлёт. Он гордился своей армией, собранной им по всей Европе в одну мощную организованную силу, подчинённую воле одного человека — его воле.
Вот скачут польские гвардейские уланы. Они храбры в атаке и быстры, как молния. Поляки с радостью пошли воевать под знамёнами его непобедимой армии, желая восстановить Речь Посполитую в том виде, в каком она была в лучшие годы своего существования: независимым и огромным государством «от моря до моря».
Наполеону их было как-то даже по-человечески жаль. «Такого государства у них уже никогда не будет. Сейчас этого не допускают русские, а после и поражения от моей армии подобного не допущу и я. В Европе должен быть один хозяин, один дирижёр всей её политической жизни, и конкуренты здесь мне не нужны», — думал Бонапарт, внимательно наблюдая за переправой польских кавалерийских полков.
За польскими уланами следовали гвардейские конные шассеры. Эти бойцы, вооружённые саблей и карабином, изматывали в бою противника и были искусны как в конном строю, так и в рукопашном бою. При верном выборе направления главного удара для конных шассеров можно было с уверенностью готовиться к празднованию очередной победы над противником.
Голландские гренадеры, вооружённые мушкетами лучших немецких и голландских мастеров, стройными колоннами двигались вдоль берега Не мана уже со стороны русской территории. Это была элита его армии. Но драгуны императрицы всё-таки были главным по значимости вооружённым подрав делением в армии Наполеона.
Император с гордостью смотрел на этот элитные отряд тяжёлой кавалерии, для которой офицером назначал лично он сам. Это был цвет офицерского общества: чтобы удостоиться чести быть зачисленным в это подразделение, офицер должен был иметь десятилетний стаж службы в кавалерии, участвовать в сражениях и, естественно, остаться при этом в живых. Драгуны императрицы (или императорская гвардия) были так названы в честь супруги Наполеона Жозефины де Богарне. Наполеон берег этих драгун и решался направлять их в бой только в тех случаях, когда явно намечался перелом в сражении в пользу французской армии. Именно в этот момент и нужно было нанести ещё один, но окончательный удар по практически уже побеждённому противнику.
Французский император с тринадцатилетним опытом правления стоял в раздумье на прибрежном холме, возвышаясь, как монумент, над огромной массой людей. И когда солдаты замечали своего императора, застывшего в величественной позе, они приветствовали Бонапарта радостными криками. О чём он думал в этот момент? Конечно же, Наполеон чувствовал гордость за то, чего он сумел достигнуть за последние пятнадцать лет жизни. Франция под его руководством стала сильнейшей державой в Европе, а монархи-соседи заключили с бывшим капитаном артиллерии военный союз. Его внешние и внутренние враги не раз пытались свергнуть Наполеона Бонапарта с императорского трона, но у них ничего не вышло. И теперь перед ним лежит земля очередного государства, которое Наполеону Бонапарту предстоит покорить, а царя Александра сделать своим союзником. И тогда в Европе родится новая империя, равной которой не было ещё в мире. Однако маленький червь сомнения всё-таки настойчиво вкрадывался в его самоуверенное Я.
Первый внутренний голос ему говорил: «Подумай ещё раз, всё взвесь и рассчитай свои возможности. Перед тобой огромная страна с непонятным полуазиатским народом, от которого можно ожидать чего угодно... Ещё не поздно остановить их... Тебя за это никто не осудит и не упрекнёт. Твой авторитет останется непоколебимым, а твои действия посчитают за проявление цивилизованного гуманизма и гением стратегии. А император Александр I всё поймёт и опять будет называть тебя своим братом, радуясь тому, что ты просто показал свою силу без пролития крови... Уже вся Европа у твоих ног. Может, хватит воевать и пора творить?..»
Но второй, уверенный и настойчивый голос, перебивал первый, тихий и слабый: «Уже поздно Тебя не поймут и посчитают за слабость, если ты остановишь армию. А значит, у твоих противников появится мысль, что тебя можно испугать. Тебя, императора Франции, покорителя Европы! Перед тобой противник, который отступает, не оказывая сопротивления. Кто твой противник? Император Александр? Этот слащавый отпрыск, которому судьба подарила шанс родиться в семье царской кропи и стать наследником российского трона, но ничего не смыслящий в военном деле? Кого ещё может противопоставить тебе Россия? Суворова уже нет Кутузов? Он стар и немощен, годы жизни его уже на исходе. Багратион ещё молод и горяч. Барклай де Толли для русской армии так и останется иностранцем, и император Александр I не осмелится поставить его во главе всей русской армии. Кто там ещё? А больше никого и нет... Ты и только ты одержишь победу. Захватив Москву, ты поставишь на колени всю Россию. Такова психология русского человека...»
И наполеоновская армия продолжала своё движение на восток. Казалось, что никакая сила не сможет удержать этот нескончаемый поток люден, несущих на своих штыках смерть и разрушение Люди шли убивать людей. Они были движимы силой воли одного человека, который возомнил себя богом на земле. На деле же он был простой смертный: у него уже болело сердце от физических перс грузок, связанных с его бурной деятельностью. Периодически он чувствовал, как раздувалась печень от частых перееданий, от жирной и острой пищи, которую он любил откушать, а ночью Наполеона беспокоили колики в почках от выпитого вина, которое он был не прочь употребить за едой. А сколько было съедено и выпито с представителями высшего света, общества сверхчеловеков! Многие из них, став его союзниками и сподвижниками, полагали, что жизнь с императором Франции будет прекрасной и длинной и всё лучшее в этой жизни, включая будущую победу над Россией, ещё впереди.
И только Шарль Талейран, этот политик и священнослужитель в одном лице, имел иное мнение. Когда министр иностранных дел Франции убедился в том, что поход наполеоновской армии на Россию неизбежен, а новая война не за горами, он вслух тихо сказал сам себе (так как больше никому не доверял):
— Ну вот и всё. Это начало конца.
Он сел за стол, приказал секретарю никого не принимать и начал сочинять письмо правительству Великобритании, которое тайно отправил в Лондон на следующий день.
Огромная разноплеменная армия Наполеона, двигаясь с боями вглубь России, захватила Могилёв, Витебск и 3 августа 1812 года подошла к Смоленску. Но 4 августа с ходу взять этот город, где стояли укрепления, воздвигнутые ещё русским царём Годуновым, французские солдаты не смогли. Русские войска под командованием Паскевича и Раевского достойно встретили врага, который понёс существенные потери, а потом быстро и незаметно оставили город.
Когда Наполеон осматривал в подзорную трубу укрепления Смоленска, на котором не увидел его защитников, его посетили первые сомнения в успехе этого военного похода. Видя, что русская армии продолжает отступать, в голове у французского императора уже появилась мудрая мысль остановить движение своих войск на восток и довольствоваться достигнутым. Тем более, со стороны столицы Рос сии пришли неутешительные известия: корпус от прославленного маршала Никола Удино провалим поход на Санкт-Петербург. Из 30 000 французских солдат, которым предстояло захватить этот город на реке Неве, уцелело не более 5000, а сам Удимо был ранен и едва не попал в плен. Однако мудрил мысль почему-то не задержалась в голове Нано леона, а благоразумные сомнения уступили его амбициям, желанию прославить своё имя в истории ещё один раз. Он должен короноваться именно и Москве и стать императором ВОСТОКА! Наполеону нужно было покорить сердце России, и тогда он отдал своей армии роковой приказ: «Идём на Москву!».
Наполеон жаждал генерального сражения, но вместо этого российская глубинка, как губка воду, втягивала в себя колонны французской армии. А за это время российская дипломатия сделала своё «чёрное» дело: Россия заключила мир с Турцией и скрепила союз со Швецией. И здесь нервы у Наполеона не выдержали: «Турки дорого заплатят мне за эту ошибку!» — в гневе кричал он, но турки были далеко и не слышали его сердитых выкриков. Они не простили Наполеону гибель 4000 своих солдат, расстрелянных по его приказу во время военного похода французской армии в Египет.
Собранная Наполеоном со всей Европы армия продолжала упрямо двигаться строго на восток и дошла до подмосковной деревни Бородино, где наконец-то дождалась генерального сражения. Среди сотен тысяч солдат многонациональной французской армии, которые участвовали в нём, сражались десятки тысяч поляков и литвинов. Против них в атаку шли их соплеменники, гродненский и белорусские полки в составе 1-й русской армии генерала Барклая-де-Толли. И когда судьба сводила их схлестнуться в смертельной схватке, они прокалывали друг друга штыками и разрубали саблями, с одной и с другой стороны слышались слова: «Пся крев!» и «О, Матка Боска!», раздавались крики ярости, боли или ужаса на их родном языке
[53].
Оставив десятки тысяч убитых возле этой ранее неизвестной деревни, русская армия отступила непобеждённая, а поле величайшей битвы девятнадцатого века осталось за французской армией, которая в этот день потеряла 47 генералов. Однако победителем Наполеон себя пока не считал. После этого сражения он и его генералы ожидали «цивилизованной» сдачи Москвы и ключей от древней российской столицы. Время шло, а со стороны противника никто так и не явился на поклон императору-победителю с ключами от Москвы. Тогда Наполеон решил двинуть армию к конечной цели своего военного похода. Когда же его взору открылся город, к которому он так стремился, Наполеон с удивлением осмотрел его в подзорную трубу, стоя на Поклонной горе. Москва была озарена огнём пожаров.
«Что за дикая страна! — возмутился он, разобравшись, что город горел не по его приказу. — Неужели император Александр отдал приказ сжечь Москву?» Недоумение, гнев и растерянность недолго царили в мыслях Наполеона. Постепенно он взял себя в руки и приказал двигаться дальше. Теперь император Франции был уверен, что российская армия полностью деморализована и неспособна оказывать сопротивление, а большинство мирных жителей в панике и ужасе бегут из города. «Но почему же всё-таки никто не встречает меня с ключами от Москвы? — продолжал он недоумевать. — Ведь война практически закончена...»
Однако для главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова это было только началом Отечественной войны. «С потерею Москвы ещё не потеряна Россия. Первой задачей поставлю сберечь армию...» — заявил он на военном совете в Филях, хотя морально ему как русскому фельдмаршалу отдать такой приказ было тяжело. Кутузов решил без боя оставить Москву, сохранить армию и продолжать активные боевые действия против союзнических войск наполеоновской армии. Никого не посвящая в свои планы, он приказал армии тайно двигаться на юго-запад и перекрыть дорогу французам на юг России. Тем самым он исключал возможность армии противника обеспечить себя продуктами, верно полагая, что голодный солдат воевать не будет. При этом, наряду с регулярной армией, Кутузов использовал небольшие партизанские соединения, которые отбивали у неприятеля обозы с продовольствием, уничтожая их небольшие отряды. Русский фельдмаршал, сам того не сознавая, повторил Вашингтона, который выбран такую же стратегию и тактику во время Войны за независимость Соединённых Штатов. Она-то и оказалась выигрышной в похожей ситуации в России.
После вступления французской армии в Москву и страшного пожара, который уничтожил а этом городе более половины деревянных строений. Наполеон понял, что его «звезда» почему-то стала затухать. Начался процесс разложения дисциплины в его армии, а французские солдаты всё чаще и чаще ощущали чувство голода и хронически не доедали. Кутузов категорически отказывался вести переговоры о перемирии, а небольшие отряды казаков и гусаров, а также простые русские крестьяне вели широкомасштабную партизанскую войну. Эта «варварская» Россия не вписывалась в рамки ведения войны на тех условиях, при которых Наполеон водил в сражения свою армию на полях Европы. Наконец пришло время, и император Франции понял, что Москва для него — это мышеловка, в которую положили большой кусок бесплатного сыра. И тогда Наполеон принял решение, что пора срочно выбираться из неё, пока не захлопнулась дверца
[54].
Отход французской армии из Москвы, сначала организованный и выглядевший как простое оставление завоёванного города, вскоре превратился в обыкновенное бегство полков всех союзных армий подальше от этой холодной и варварской страны. Причём отступление проходило по Старой Смоленской дороге, по которой ещё недавно браво маршировала наполеоновская гвардия, окрестности которой были разграблены французами и сожжены самими русскими «варварами». Из шестисоттысячной наполеоновской армии, которая ещё летом 1812 года бодро маршировала на восток по дорогам Российской империи, из рокового для неё похода возвратилось домой только около 27 000 солдат.
Почему-то очень быстро в России начались холода, и теплолюбивые итальянцы, швейцарцы и французы постоянно мёрзли, укутывая свои тела в любые тёплые одежды. А когда наступила настоящая русская зима с её жуткими морозами и снегом, то родные места им казались просто раем. Солдатам Наполеона уже не нужны были русские земли и поместья, не нужны были и русские жёны даже да ром без всякой войны. Только бы скорее выбраться из России, где за каждым деревом им мерещилась засада из вооружённых вилами и топорами русских крестьян.
XVI

има 1812 года пришла неожиданно, покрыв землю снегом ещё в ноябре. Река Березина уже превратилась в обыкновенную ледяную дорогу, когда к ней подошли первые полки, через которую предстояло переправиться от ступающей армии Наполеона Бонапарта. Только спокойно переправиться мешали те же вездесущие русские солдаты и казаки. Они, как разъярённые пчёлы, выскакивали из засад и жалили, жалили, жалили...
Ян Домбровский, возглавляющий 17-ю пехотную польскую дивизию с июня 1812 года, влился в ряды наполеоновской армии и находился в составе корпуса Юзефа Понятовского, который полностью состоял из поляков и литвинов. Ему-то и поручили защищать переправу через реку Березину, прикрывая отход всей бегущей французской армии. Однако генералы русской армии Ламберт и Ланжерон сумели выбить солдат Понятовского из занимаемых ими позиций. Домбровский, видя отступление остатков своей дивизии, сидя на коне, вытащил из ножен саблю и попытался остановит), бегущих. Но шальная пуля, выпущенная из чьего-то ружья, почему-то попала именно в его грудь. На этот раз с ним не было книги, когда-то спасшей ему жизнь
[55], и тяжелораненый Домбровский свалился с коня. Его тело подхватили два адъютанта, перевезли через реку на другой берег и оттащили к крытой карете, запряжённой двумя лошадьми. В этой карете находилась под охраной двух кавалеристов молодая жена Домбровского — его Барбара, или Бася, как любил её называть генерал.
— Матка Боска! — воскликнула она, когда в карету кое-как втащили грузное тело её ещё живого мужа. Не обращая внимания на взрывы ядер, крики раненых и свист пуль, эта мужественная женщина сделала перевязку раненому супругу и выглянула из кареты. Вокруг лежали мёртвые и раненые солдаты, а живые бежали куда-то подальше от этого жуткого места. Не очень далеко от кареты скакали бородатые кавалеристы с пиками наперевес. «Казаки», — догадалась Барбара.
Один из адъютантов также был легко ранен, а второй оказывал ему помощь, и Барбара поняла, что спасение её мужа в её хрупких женских руках.
Домбровский застонал, и Барбара бросилась к мужу.
— Потерпи, дорогой, потерпи. Мы уже на другом берегу и скоро будем в безопасности, — успокаивала она его и себя, не зная толком, что ей сейчас делать.
Барбара опять вышла из кареты и крикнула адъютанту, который ещё перевязывал рану своему товарищу:
— А ну быстро тащи его в карету и садись за кучера! А лошадей привяжи к карете, — сообразила она и вернулась к раненому мужу.
Услышав приказ от жены командира, кавалерист не стал себя долго упрашивать и положил рядом с Домбровским раненого товарища. Потом он уселся на место кучера и стеганул лошадей.
— Пошли! Пошли! — кричал охрипшим голосом «кучер», дёргая за вожжи. Лошади рванули с места и понеслись вперёд, отрываясь от общей толпы бегущих солдат французской армии. Другие адъютанты не стали ждать особого приглашения от панны и также поскакали за каретой.
Барбара положила голову мужа себе на колени и поцеловала в потрескавшиеся от мороза губы.
— Бася, Бася, — простонал Домбровский. — Ну зачем ты, глупая бабина, увязалась за мной в этот поход. А я, старый дурак, согласился.
Но его Бася не слушала самобичевания супруга. Она только и делала, что горячо молилась, чтобы их не догнали казаки и не взяли в плен. Иногда, прерывая очередную молитву, она выглядывала из кареты и строго покрикивала молодому кавалеристу, чтобы тот гнал лошадей и даже не думал сворачивать с дороги. Постепенно гул от разрывов ядер стал затихать, а выстрелов совсем не было слышно. Шум боя остался где-то позади, и Барбара перекрестилась.
— Слава Богу! Оторвались, — тихо, ещё не веря в спасение, прошептала она.
Вдруг карета остановилась. Барбара выглянула и увидела, что они стоят на развилке дорог, а «кучер» не знает, какую из них ему выбрать.
Заметив, что лошади в упряжке совсем выбились из сил, она приказала произвести их замену. После того, как был выполнен приказ, Барбара помолилась и распорядилась повернуть на дорогу, уходящую вправо. Через два часа более спокойной езды они догнали конный полк шевалежеров-улан императорской гвардии, который в этот день отбил Наполеона у русских казаков. Через несколько часов Домбровский находился в лазарете, и Барбара была уже спокойна за жизнь мужа. С того дня и до конца жизни свою Басю, свою «кахану лялю» Ян Домбровский больше никогда, даже в минуты гнева, не называл «глупой бабиной».
Питер Цельтнер, тяжело дыша, с трудом вытаскивал ноги из глубокого снега, пытаясь добраться до своей армии. Когда русские войска уничтожили переправу на реке Березине, швейцарский полк, при котором он находился, был рассеян и частично уничтожен казаками и русскими драгунами. В том хаосе, когда ядра русских пушек разбивали лёд реки, который ещё недавно был спасением для отступающей армии Наполеона, каждый солдат спасал свою жизнь уже самостоятельно. В их числе оказался и Питер.
Когда из засады внезапно вылетела казачья сотня, Питер, пытаясь избежать плена, повернул лошадь в сторону леса. Однако пуля задела его верного скакуна, и через час он лежал, истекая кровью, а всадник остался один в этом чужом и густом лесу. Шум боя остался где-то в стороне и постепенно стих, и Питер начал в растерянности оглядываться в поиске кого-нибудь из своих солдат. Но ни своих, ни чужих не было видно и даже уже не слышно.
Темнота в лесу в зимнее время суток наступает быстро, и неожиданно бедный швейцарец понял, что он полностью потерял ориентацию и заблудился. И ещё он понимал, что ночь в лесу он не переживёт и просто замёрзнет среди этих красивых белоствольных деревьев и лохматых высоких ёлок. Когда же Питер представил, что его изглоданные вездесущими волками кости весной найдут в этом русском огромном лесу, ему стало себя так жалко, что он сел в глубокий сугроб и от безысходности заплакал.
«Как печально закончилась моя карьера, — думал он. — Интересно, когда замерзаешь в снегу, наверно, уже не чувствуешь никакой боли?» А так всё неплохо начиналось: поступив на службу в наполеоновскую армию, Питер Цельтнер получил чин полковника, возглавил полк швейцарских гвардейцев и принял участие в крупнейших сражениях под Аустерлицем и Фридланде. Когда русский император Александр I расписался в поражении, утвердив своей подписью Тильзитский мир, Питеру казалось, что он принял правильное решение, не прислушавшись к совету Костюшко, который пытался ему объяснить, что аппетит к завоевателю приходит во время успешной войны. Но вскоре Питера Цельтнера включили в дипломатический корпус Швейцарии и доверили быть во Франции военным представителем его родины. Лучшую карьеру на склоне лет и не пожелаешь.
И вот через пять лет после тех событий он сидит в глубоком сугробе в далёкой России в каком-то густом и тёмном лесу, голодный, замерзший и ужасно одинокий. А где-то далеко-далеко, в родной и тёплой Франции, осталась его семья: молодая жена и трое детей. Но самое страшное в этой ситуации — это холод, который пронизывал всю его плоть, каждую клеточку, каждую минуту забирая из тела остатки живительного тепла. В какой-то момент Цельтнеру хотелось послать всё и всех к чёрту и приготовиться к встрече с Господом. Он закрыл глаза и начал молиться, как умел.
— Угу-угу.
Он услышал вдруг странные звуки над головой и открыл глаза. Прямо на него с соседнего дерева своими немигающими глазами смотрел филин. Питер достал из рукава холодную ладонь, сложил фигу и показал её наглой птице.
— Видела? Не дождёшься! — прошептал он охрипшим голосом.
В какой-то момент Питер прислушался к своему телу, собрал остатки сил и сделал последнюю попытку побороться за жизнь и выбраться из этого страшного леса.
С трудом вытащив своё отяжелевшее тело из глубокого сугроба, в котором он только что собирался расстаться с жизнью, Питер пошёл в ту сторону, где деревья ещё пропускали слабый свет. Рыча от злости на свою слабость и беспомощность, бросаясь на очередной сугроб всем телом, швейцарский полковник шёл, как таран, вперёд, собрав всю свою воли в единый кулак, с огромным желанием выжить. Неожиданно деревья перед ним расступились, вокруг как-то сразу стало светлее, и Питер воспринял это как добрый знак. А когда он вдруг понял, что вышел на лесную дорогу, на которой — о какое счастье! — обнаружил многочисленные следы людей и кучки свежего навоза, надежда на спасение укрепилась. Ему не стоило большого труда определить направление, по которому продвигались эти люди, и его уже не интересовало, кто они: русские или французы. Главное, что это были люди.
Не прошло и часа, и перед глазами Питера Цельтнера показалось небольшое имение какого-то русского помещика, а вокруг разместились на привал русские солдаты, согреваясь у таких больших и жарких костров. Не обращая внимания на солдат и на выставленные перед ним штыки, Цельтнер, как безумный, шёл к спасительному огню, выставив перед собой окоченевшие руки. А ещё через час те же солдаты кормили его горячей кашей и отпаивали чаем, с сочувствием разглядывая обмороженного и голодного человека, который ещё недавно был для них врагом и захватчиком родной земли.
XVII

Юзефа Понятовского в этот день были дурные предчувствия. Казалось, он достиг всех военных почестей, а два дня назад, 16 октября 1813 года, стал первым и единственным иностранцем, получившим маршальский жезл из рук самого императора Франции прямо на поле сражения во время «Битвы народов» под Лейпцигом.
Вспомнив дурной сон, который ему привиделся ночью за день до этой битвы, Юзеф Понятовский перекрестился прямо на коне и тихо про себя помолился. Почему-то вспомнились мать и вечно отсутствующий дома отец, вспомнил маршал и свою первую любовь, и первый робкий поцелуй, своё первое победоносное сражение под Зеленцами... Сколько ещё военных дорог ему пришлось потом пройти за свои сорок лет, сколько раз он водил армии в атаку, показывая пример храбрости и бесстрашия.
Когда армия Юзефа Понятовского потерпела поражение от русской армии генерала Каховского в 1792 году, а король, его родной дядя, принял сторону Тарговицкой конфедерации, молодой командующий польской армией не стал по-родственному выяснять отношения со Станиславом Августом Понятовским. Он просто покинул родину и на какое-то время вернулся в Австрию. Однако когда началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко, он снова вернулся в Польшу, чтобы влиться в ряды тех, кто бросил всё ради защиты и возрождения своей родины.
— Кем вы хотите служить? — спросил тогда Костюшко своего бывшего командира.
— Под вашим командованием я готов служить хоть простым солдатом, — искренне и просто ответил ему Юзеф Понятовский, а на следующий день, получив генеральское звание, он возглавил дивизию в повстанческой армии.
После разгрома восстания 1794 года и капитуляции Варшавы князь Юзеф Понятовский ответил победителям отказом на предложение перейти на службу в русскую армию и удалился на долгое время в Европу, ожидая своего часа. И наконец этот час наступил: Юзеф Понятовский принял командование польской дивизией в наполеоновской армии. А через год он прочитал первый параграф Конституции Великого герцогства Варшавского, созданного Наполеоном в результате Тильзитского мира: «Рабство отменяется. Все граждане равны перед законом». Тогда в душе Юзефа Понятовского появилась новая надежда на возрождение Речи Посполитой, а Франция в лице её императора Наполеона оставалась единственным шансом на претворение надежды в реальность.
Юзеф Понятовский, став военным министром герцогства Варшавского, за короткое время сумел сформировать боеспособную польскую армию, которая была всегда на передовых рубежах вместе со своим командующим. Его соратники и просто друзья любовно называли его «польским Баярдом», рыцарем без страха и упрёка. И «польский Баярд» соответствовал этому имени: однажды поверив и присягнув Наполеону Бонапарту, Юзеф Понятовский верно служил ему, принимая участие во всех знаменательных сражениях.
После разгрома своей ранее непобедимой армии на необъятных русских просторах, Наполеон вернулся во Францию и активно начал формировать новую армию: частью из старой проверенной гвардии, частью из нового пополнения рекрутов. Он готовился к новой войне и к новым сражениям, но только в другом соотношении сил. Объединённые русские, австрийские, прусские и шведские войска выступили под Лейпцигом против наполеоновской армии, в которой сражались французы, поляки, саксонцы, итальянцы, бельгийцы и немцы Рейнского союза. Причём армия противника превосходила численностью наполеоновскую армию в два раза.
Наполеон Бонапарт понимал, что сильно рискует, ввязываясь в это сражение, но как всегда он надеялся на свой полководческий талант, верил в свою звезду и везение. Да и что ему ещё оставалось делать: под свои знамёна он собрал всех, кого ещё можно было собрать, и на большее ему рассчитывать было нечего. Ведь 1813 год — это совсем не 1807 год, когда русский император Александр I после поражения и подписания Тильзитского мира льстиво называл его своим другом и братом.
В эти октябрьские дни счастливую звезду Наполеона затянули тучи предательства: во время сражения саксонская армия в разгар боя перешла на сторону противника, а саксонские бомбардиры стали стрелять картечью из пушек по бывшим союзникам. После такого «удара в спину» французский император принимает решение сохранить остатки армии и в ночь с 18 на 19 октября отступить от Лейпцига, а прикрывать отход приказывает маршалам Понятовскому и Макдональду.
Но так уж порой случается, что твоя собственная жизнь иногда зависит от чьей-то воли или ошибки. Сапёры, которые получили от Наполеона приказ взорвать мост через реку Эльстер после отхода основных сил его армии, сделали это слишком рано: на другом берегу осталось ещё около 28 000 солдат и два маршала, прикрывающих отступление.
«Пся крев!» — от души выругался Понятовский, когда услышал взрыв и увидел, что единственная дорога к отступлению была уничтожена, понимая, в какую ловушку он попал со всей армией. Маршал Макдональд ничего не сказал по данному поводу, а направил коня прямо в реку. Держась за хвост кобылы, он с трудом выбрался на противоположный берег реки, где его еле живого, стучащего всеми зубами от холодной октябрьской воды, вытащили из реки французские солдаты.
После некоторого размышления Юзеф Понятовский решил последовать примеру Макдональда, но ему повезло меньше: во время последнего сражения за переправу он был ранен в левое плечо. Но молодой маршал нашёл в себе силы и направил коня в воду. По примеру Макдональда, рискуя жизнью, он ещё надеялся переплыть реку и спастись от позорного плена. За командующим последовали тысячи его солдат, кроме тех, которые либо не умели плавать, либо решили просто сдаться в плен противнику, завершив для себя тем самым надоевшую всем войну.
Превозмогая боль в раненом плече, Юзеф Понятовский плыл рядом с лошадью, держась здоровой рукой некоторое время за седло. Но лошадь резко развернулась в сторону, испугавшись упавшего рядом с ней ядра, и рука маршала соскользнула с опоры. Надеясь ещё спастись, Юзеф Понятовский попытался ухватить хвост своего жеребца, но было уже поздно. Жеребец уплыл, а силы окончательно покинули его. Ещё несколько секунд борьбы за жизнь с надеждой на чудо, и маршал захлебнулся речной водой, перемешанной с кровью человеческих тел, обессмертив навсегда своё имя.
XVIII

ак быстро меняется настроение народа в зависимости от ситуации, которая складывается в государстве в данный исторический момент! Кажется, ещё недавно французские женщины в порыве восторга и восхищения подбрасывали вверх свои
шляпки, провожая из Парижа колонны солдат в новый поход. Представители молодой французской буржуазии, неплохо заработав на военных заказах, также поддерживали прекрасную половину человечества, приподнимая треуголки и цилиндры с криками: «Да здравствует император!».
Но прошли дни восторгов и побед, прошёл 1812 год, наступил 1813, а за ним и 1814 год ворвался в жизнь французов. И вот те же женщины бросали цветы под копыта лошадей уже русских кавалеристов и призывно улыбались русским офицерам, которые въезжали победителями в столицу Франции.
«Да здравствует император Александр!» — кричали французские буржуа, встречая армии-победительницы, называя своего недавнего кумира деспотом и тираном. И этот восторг также был искренним, так как всем французам надоела война, несущая смерть и трагические вести о том, что чей-то сын, брат или муж уже никогда не переступит порог родного дома.
В небольшой мастерской в доме Цельтнеров в Бервиле Костюшко мастерил какую-то деревянную безделушку на токарном станке, подаренном ему женой Павла I. Немецкое изделие исправно работало уже почти двадцать лет, подтверждая своё высокое качество.
На Костюшко был надет простой рабочий кафтан и фартук столяра. Если бы кто-либо со стороны увидел его в этот момент за работой, то никогда бы не подумал, что этот человек когда-то был свидетелем и активным участником великих исторических событий, а его имя будоражило целые государства. Тем более никому бы и в голову не пришло, что при его жизни на его родине до сих пор об этом старике поют песни, а в крестьянских семьях о нём рассказывают детям на ночь сказки. А в реальной жизни некоторые представители великих мира сего желали бы встретиться с этим народным героем и поговорить в приватной беседе.
Закончив вытачивать очередную табакерку, Тадеуш Костюшко с удовольствием рассматривал результат своего труда. Вдруг дверь широко распахнулась, и в мастерскую вбежало прелестное создание лет шестнадцати.
— Что случилось? — искусственно изобразив сердитое лицо, спросил Костюшко свою воспитанницу. — Началась новая война или Наполеон снова захватил Париж? — попробовал он пошутить. Но увидев раскрасневшееся лицо девушки, «воспитатель» отложил табакерку в сторону.
Оставшись к старости один, без семьи и без детей, Костюшко перенёс всю нерастраченную нежность и отцовскую любовь на Таддеи. Она была для него тем лучом света в его старости, под которым он находил в себе ещё желание жить и жить как можно дольше. Костюшко, занимаясь воспитанием крестницы, обучал её языкам и литературе, посвящал в тайны истории и давал уроки живописи. Поэтому постаревший герой генерал не мог на неё сердиться или ругать, а только иногда сдвигал к переносице свои густые брови, изображая на лице строгость.
— Ну, я жду объяснений, — требовательно сказал он нарушительнице спокойствия.
— Крёстный, к вам прибыл какой-то важный господин. Он ожидает вас в гостиной, — пояснила своё вторжение Таддеи и застыла в ожидании.
— Пойди и скажи, пожалуйста, что я сейчас приду, — попросил Костюшко. — Объясни господину, что мне надо переодеться.
Девушка тотчас упорхнула, а Костюшко вернулся в свою комнату и начал переодевание, раздумывая, кому он понадобился в такое неспокойное время. Хотя когда оно было спокойное в последние годы?
Когда же в мундире генерала американской армии он вошёл в гостиную, из-за стола ему навстречу поднялся неизвестный человек в парадной форме русского генерала. Мужчина был среднего роста, лет сорока, с пышными бакенбардами и приятной наружности. В его неторопливых движениях угадывались те черты светского человека, которые прививались не столько воспитанием, сколько передавались с кровью целых поколений династии аристократов.
— Разрешите представиться, — сказал по-польски прибывший неожиданный гость и наклонил свою голову, выказывая почтение тому, ради кого он прибыл в этот французский городок, — князь Адам Чарторыский.
Костюшко приветливо кивнул в ответ и подал руку дорогому гостю. Теперь он знал, с кем имеет дело, и с удовольствием готов был принять его в доме своих друзей, приглашая занять место за большим столом. Когда они оба сели, Костюшко с интересом более внимательно рассматривал молодого Чарторыского, с которым судьба могла свести его ещё много лет назад.
Господь сделал Адаму Чарторыскому большой по человеческим меркам подарок, определив ему родиться в известнейшей в Речи Посполитой семье. Его отец, князь Адам Казимир, дал сыновьям прекрасное образование: основу латинского и греческого языка им закладывал датчанин Шоу, бывший ранее наставником наследного принца Датского, математику и физику преподавал швейцарец Люилье, а историю родины и её литературу молодые князья постигали при помощи известнейшего в то время поэта Княжнина.
Князь Адам Казимир был мудрым и дальновидным отцом не только в вопросах образования своих детей. Чтобы его сыновья видели окружающий их мир не только в розовом цвете, он устроил их обучение в родовой резиденции в Пулавах. Там вместе с молодыми князьями Чарторыскими получали образование дети магнатов и простых шляхтичей. Молодые люди, оправдав ожидания князя, невольно подражали старшему поколению, устраивая собрания, где с пылкостью юных сердец обсуждали вопросы будущего Речи Посполитой, создания и организации новой структуры государственной власти.
Вторым важным этапом познания окружающего мира для молодого Адама Чарторыского стала поездка по Европе в 1786 году с посещением Германии и Швейцарии. Тогда перед ним открылся ещё один новый мир, в котором молодой князь встретился с известнейшими людьми и даже был представлен Гёте. После такого насыщенного путешествия князь Адам вернулся на родину и сразу окунулся в политическую жизнь Речи Посполитой. Избирательная кампания 1788 года и участие в Четырёхлетнем сейме стала для восемнадцатилетнего юноши первой серьёзной жизненной школой.
Молодой политик активно участвовал в деятельности великого сейма и присутствовал на всех его заседаниях. Он с патриотическим восторгом воспринял все планируемые реформы в Речи Посполитой, но неожиданно вновь собрался за границу. По рекомендации родителей в 1789 году Адам решил продолжить учёбу в Европе, планируя начать с Франции. Но родина революционных бурь встретила князя враждебно, и он без задержек пересёк эту опасную для любых аристократов территорию, направляя свою карету прямо в сторону консервативной Великобритании.
Прослушав в Лондоне блестящие речи английских ораторов Бёрка, Фокса и Грея, князь Адам посетил университеты в Оксфорде и Эдинбурге, познакомился со знаменитыми английскими учёными Кларком и Юмом. Жизнь в английском обществе настолько увлекла молодого польского аристократа, что домой он вернулся только к моменту принятия Четырёхлетним сеймом Конституции 1791 года. Затем была война, участие в сражениях, высшая военная награда за боевые заслуги, поражение, отставка «по собственному желанию» и иммиграция в Англию.
В военных действиях восстания под руководством Костюшко Адаму Чарторыскому участвовать не довелось: направляясь в 1794 году в Польшу с этой целью, он был неожиданно задержан на территории Бельгии по требованию австрийского правительства. Под арестом потомок известнейшей в Польше фамилии находился до конца разгрома восстания, после чего был освобождён. Адам Чарторыский, духовно разбитый от унижения, которое претерпела его родина, уехал в Вену к родителям, которые и «организовали» для него этот арест.
Предвидя поражение восстания, старый князь Адам Казимир Чарторыский таким образом попытался сохранить жизнь сыну, зная его патриотические чувства. Он прекрасно понимал, что Адам-младший не останется в стороне, когда вся Речь Посполитая была охвачена восстанием, а тысячи патриотов со всех стран Европы вставали в ряды восставших. Но сын есть сын, и никого дороже для старого князя в этой жизни не было. Чего это ему стоило, можно только догадываться: ведь отец сам сделал всё, чтобы его сыновья стали такими, какими они были.
И хотя Адам не погиб и не попал в плен, но всё, что имела семья Чарторыских на территории уже бывшей Речи Посполитой, было разграблено и опустошено, а на всё их имущество был наложен секвестр. На ходатайство австрийского правительства перед Екатериной II о снятии ареста с имений Чарторыских российская императрица выдвинула условия, какие ставили некогда татарские ханы Золотой Орды русским князьям: «Пусть старый князь пришлёт в Петербург своих сыновей, — передала через Репнина она ответ венскому двору, — а я посмотрю далее, как мне поступить с этим семейством».
Екатерина II была сердита на Чарторыских за то, что они были в сговоре с польским королём, за их непокорность русской политике, за их «коварство», за майскую Конституцию 1791 года и за многое-многое другое... О подробностях политики, которую долгие годы вели Чарторыские за её спиной, Екатерине II стало известно после подробного расследования, проведённого специальной комиссией во главе с генерал-прокурором Самойловым. К тому же русской императрице стало известно, что мать молодых Чарторыских взяла клятву со своих сыновей вечно ненавидеть Россию, и это известие ещё больше ужесточило её отношение к этой семье.
Но прошло не так много времени, и Екатерина II «оттаяла»: секвестр с имений Чарторыских был снят, а Адам и его брат Константин были приняты на службу и даже пожалованы в камер-юнкеры. Но служба при русском дворе действовала на Адама удручающе. Он, потомок князей Чарторыских, вынужден служить тем, кто лишил его родины, унизил её и стёр своей волей с карты мира. Адам замкнулся в себе, стал подозрителен, скрытен и мало общался со своими сослуживцами.
И неизвестно, как сложилась бы дальнейшая служба при российском дворе у Адама Чарторыского, если бы не его случайная встреча с Великим князем Александром на берегах Невы. Великий князь почему-то был слишком откровенен в тот день с польским патриотом. Он осуждал отношение государыни к Польше, но этим только сначала насторожил Адама.
— Я ненавижу деспотизм в любом его проявлении, — вдруг эмоционально и, как показалось Адаму, искренне заявил молодой Александр. — А Костюшко — он... он великий человек, защищающий гуманное дело всего человечества.
«Что это, — лихорадочно соображал Чарторыский, — лицедейство будущего императора или Александр действительно нуждается в друзьях и «прощупывает», можно ли сына князя побеждённого государства приблизить к себе?»
— Я сочувствую Франции, — продолжал откровенничать Александр. — И если желаете знать, то я желаю успеха Французской революции.
«Неужели это говорит мне наследник российского престола?! Просто поразительно!» — подумал Адам Чарторыский и... «расслабился». Он постепенно позволил увлечь себя разговором, который затрагивал его личные глубокие чувства и переживания. Уже через несколько минут будущий российский самодержец слушал ответные откровения своего собеседника, которые выражались хотя и не так эмоционально, но искренне. Адам Чарторыский рискнул: такая откровенность могла ему дорого стоить, но могла и много дать в будущем. И не только ему лично, но и его родине. Так уж устроен мир, что великие князья со временем становятся императорами.
За этой встречей последовали вторая, третья. Беседы носили всё более доверительный характер,
и вскоре братья Чарторыские стали не просто особами, приближёнными к Александру. Тот при всех называл их друзьями и настолько явно оказывал им своё внимание и покровительство, насколько это позволяло его положение внука Екатерины Великой и сына будущего императора Российской империи.
После кончины Екатерины II и воцарения Павла I положение братьев Чарторыских при дворе укрепилось. Когда же российский император облачился в мантию магистра Мальтийского ордена, то он пожаловал их кавалерами этого ордена. А чуть позже Адам Чарторыский был назначен в Государственную коллегию иностранных дел и определён в тайные советники.
Европейская политическая ситуация также быстро менялась в конце восемнадцатого столетия: Павел I возмутился давлением на него со стороны Австрии, которой не нравилось усиление России в регионе Средиземного моря. Российский император решительно пошёл на сближение с Бонапартом, но смерть Павла I прервала этот процесс.
После восшествия на российский престол Александр I сделал Адама Чарторыского министром иностранных дел и своим ближайшим советником по международным вопросам. Но всё чаще Александр I игнорировал советы своего друга, совершая одну политическую ошибку за другой. Адам Чарторыский предполагал, что после поражения России и Австрии под Аустерлицем Наполеон не успокоится и найдёт повод, чтобы вторгнуться со своей армией в пределы Российской империи. Предвидя будущую войну, он подал русскому государю записку с призывом объявить Польшу независимым государством, чтобы поляки не пополняли ряды французской армии.
Однако Александр I снова не прислушался к своему дальновидному советнику. Как и предполагал Адам Чарторыский, в польских полках и дивизиях герцогства Варшавского, созданного Наполеоном, почти третья часть офицеров была из подчинённых России провинций. Некоторые богатые шляхтичи приводили за собой во французскую армию более бедных, обеспечивали их обмундированием и оружием за свой счёт, формируя роты, эскадроны, батальоны и даже целые полки.
Адам Чарторыский был разочарован Александром I, а тот не хотел больше принимать советы от польского патриота. Высочайшим указом 17 июня 1806 года тайный советник князь Чарторыский был уволен с должности министра иностранных дел, которую он занимал с начала царствования своего «друга». А 14 июня 1807 года произошло сражение при Фридланде, где армия Наполеона с участием польских легионов разгромила русскую армию Беннигсена. Александр I, мило улыбаясь и скрипя зубами от того, что он вынужден был делать, 25 июня 1807 года поставил свою подпись под Тильзитским договором. Император Франции с этого момента стал полным хозяином Европы, а император России получил пятилетнюю передышку и бледнел, когда слышал слово «Тильзит». Однако не только бледность стала признаком сильного волнения русского императора. С этого момента Александр стал плохо спать. Вспоминая мученическую смерть отца и подробности покушения на его жизнь, он опасался подобного заговора и в отношении своей персоны. Ведь патриотические настроения русских гвардейских офицеров не соответствовали тем результатам, которые получила Россия после подписания Тильзитского мира.
С началом войны 1812 года в Варшаве по согласованию с Наполеоном 26 июня 1812 года был созван сейм, который призвал всех поляков к борьбе с Россией, а председателем сейма был избран Адам Казимир Чарторыский, отец бывшего министра иностранных дел Российской империи! Узнав об этом, Адам-младший вовсе покинул Россию и выехал в Вену. Он оказался в сложном положении, когда служить своей родине Адам не мог, чтобы не очернить себя чувством неблагодарности к русскому царю. В то же время он с нетерпением ожидал окончания этой войны. Как политик и бывший министр иностранных дел Российской империи Чарторыский предполагал, что после мирных переговоров между враждующими сторонами Польша всё-таки получит статус государства, кто бы ни оказался победителем: Франция или Россия.
Победителем оказалась Россия вместе с союзниками, и Александр I вспомнил о товарище своей юности. К концу кампании 1813—1814 годов, когда войска союзников уже были во Франции, Адам Чарторыский прибыл в русский лагерь.
— Я был не прав, — с удивлением услышал он от императора-победителя, когда они остались одни. Никто, кроме Адама Чарторыского, не должен был стать свидетелем такого откровения от не признающего своих ошибок русского царя. — Да, я был не прав, когда не прислушался к твоим советам, — продолжал каяться Александр I.
— Вы для этого пригласили меня к себе? — полюбопытствовал Чарторыский, понимая, что цель аудиенции иная.
— И для этого тоже, — уточнил Александр I, предполагая, что его бывший министр иностранных дел примет его предложение и приложит все усилия, чтобы оказать ему помощь в решении «польского вопроса». — Я хочу создать на территории Речи Посполитой Царство Польское и прошу тебя помочь мне в этом.
— Всегда готов оказать помощь Вашему Величеству, — поклонился Чарторыский, с радостью услышав то, чего ожидал от русского императора ещё семь лет назад.
— Нам срочно надо объединить всех поляков для претворения в жизнь этой цели, а возглавить их должен известный всем польский патриот, — продолжал развивать свою мысль Александр I. — Как вы думаете, князь, кто бы мог стать таким лидером?
— Тадеуш Костюшко, — сразу, не раздумывая, ответил Чарторыский.
— Ну, тогда найдите его и организуйте нам с ним встречу, — велел император Чарторыскому. — С решением этого вопроса нам необходимо поторопиться. Не всем нашим союзникам понравится моя идея. Вы меня понимаете, князь?
— Конечно, государь, — поклонился Чарторыский, лихорадочно соображая, как можно ускорить встречу с Тадеушем Костюшко и где его найти.
XIX
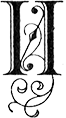
вот наконец-то судьба их всё-таки свела: человека-легенду, человека-эпоху и вельможу при дворе императора России, приближённого к коронованной особе, пользующегося его высоким доверием. И этот человек для чего-то разыскал его, Костюшко в этом городке и сидит теперь перед ним в ожидании вопросов.
— Рад видеть вас в нашем доме, — спокойно и без эмоций произнёс Костюшко, хотя это спокойствие было напускное и давалось ему с трудом. — К сожалению, хозяин дома выехал в Париж, поэтому по всем вопросам прошу обращаться ко мне. Какими судьбами и по какому поводу вы решили навестить старика?
— А я к вам с посланием от самого императора Александра Павловича, — просто и без всяких высокопарных предисловий начал говорить Чарторыский.
— Ну а российскому императору зачем я понадобился? — едко заметил Костюшко. — Ему сейчас, наверно, не до меня: сплошные смотры, парады, балы в честь победителей... И везде его приветствуют как освободителя.
Костюшко не просто говорил: в его голосе звучала ирония, которую мог себе позволить только он в отношении данной особы, описывая образ жизни Александра I в последние дни его пребывания в Париже.
Адам Чарторыский усмехнулся, и эта усмешка понравилась Костюшко. Это была добрая усмешка человека, который ВСЁ понимает: и иронию Костюшко, и богемную жизнь русского императора во Франции, и причину, почему Костюшко именно с ним разговаривает таким тоном.
— Значит, понадобился, если я прибыл в этот городок и сижу сейчас перед вами, — честно признался Чарторыский.
— Ну, тогда я вас слушаю, князь, — уже серьёзно заявил Костюшко и откинулся на спинку стула, изобразив на своём лице полное внимание.
— Я состою советником при российском императоре и давно вхожу в круг его приближённых, — постепенно вводил Костюшко в суть дела Чарторыский. — «Польский вопрос» всегда волновал императора Александра, и ему нужен был такой человек при дворе, каким являюсь я.
— Я наслышан о ваших близких отношениях с русским царём, — вставил слово Костюшко, давая понять, что ему многое известно о посетителе, хоть с ним он ни разу в жизни до этого момента не встречался.
Чарторыский понял, что Костюшко не тот человек, которому только и делать, что выслушивать длинные описания жизни придворных русского двора. Не вдаваясь в детали политической ситуации в Европе, которая сложилась после победы антинаполеоновской коалиции над французской армией, Чарторыский перешёл к конкретному изложению того предложения, ради которого он и приехал к Костюшко.
— В наших беседах с императором Александром я неоднократно вспоминал вас как неординарного человека с богатым героическим прошлым, — Чарторыский всё-таки не выдержал и выдал порцию лестных слов в адрес Костюшко. — И буквально пару дней назад Александр Павлович вызвал меня к себе и потребовал, чтобы я вас немедленно разыскал и передал вам приглашение посетить его в Париже.
Костюшко задумался, а Чарторыский замолчал, предоставив ему возможность обдумать полученное только что предложение. Так они просидели около минуты, пока Костюшко неожиданно для такого вельможи, как Адам Чарторыский, не спросил:
— Послушай, Адам, я очень хорошо знаю твою семью и отношусь к ней с огромным уважением. И поверь мне, старику, я говорю это искренне.
— Я благодарю вас за эту искренность, — только и смог ответить удивлённый такой фамильярностью Чарторыский.
— Тогда скажи мне честно, зачем я понадобился императору Александру? — Костюшко посмотрел в глаза князю своим пронзительным взглядом и продолжил говорить с ним так, словно тот был не императорским посланцем, а его, Костюшко, доверенным лицом.
— Ведь я — это уже пережиток ушедшей эпохи, но меня, пока я жив, всегда волнует только один вопрос: что может дать Наполеон, Александр или любой другой пришедший им на смену монарх моей бедной родине?
Теперь настала очередь Чарторыского выбирать, каким образом вести дальнейшую беседу с этим удивительным человеком. Он мог оставаться в рамках приличия светского вельможи, приближённого к императорской особе, а мог просто и честно высказать своё мнение по поводу всего того, что касается «польского вопроса». И Чарторыский рискнул выбрать второй вариант.
— Император Александр высоко оценил ваш отказ от предложения Наполеона возглавить польский легион в войне против России, — заявил он.
— Свято место пусто не бывает, — хмуро ответил Костюшко. — За меня это сделал Домбровский. Я считаю, что это была его ошибка и трагедия всего польского народа, — сделал он вывод и откровенно озвучил оценку инициативе Домбровского. — Польские легионеры всегда шли первыми в атаку, но страшнее всего то, что в первых рядах противника они порой встречали солдат, которые, как и они, кричали и ругались на их родном языке.
Оба замолчали, обдумывая сказанное. Чарторыский чувствовал, что его миссия на грани провала. Являясь сторонником политики Александра I и его доверенным лицом, он хотел сделать всё, чтобы Костюшко принял предложение русского императора. Однако пока князь не находил убедительных слов и лихорадочно думал, о чём говорить с этим упрямым стариком дальше. Но его размышления прервал сам Костюшко.
— А откуда вам известно о предложении Наполеона? Ведь моя встреча с Фуше проходила без свидетелей и тайно, — спросил неожиданно он.
— Нет ничего тайного, что не стало бы явным... У нас были свои каналы информации на уровне дипломатического корпуса во Франции, — честно ответил Чарторыский, не называя при этом главных информаторов: Фуше и Талейрана.
— Куда и когда я должен прибыть на встречу с императором Александром? — задал вопрос Костюшко, по которому Чарторыский, к своему большому удовлетворению, понял, что приглашение принято.
— Третьего мая княжна Станислава Яблоновская устраивает во дворце торжественный приём в честь победы над Наполеоном. Государь будет там с Великим князем Константином Павловичем, — ответил Чарторыский. Через секунду он встал, понимая, что сегодня на первой встрече с Костюшко было сказано слишком много и слишком откровенно. Может, он ещё и пожалеет об этом, но не сейчас...
— Если вы даёте своё согласие, то в день приёма за вами будет послана императорская карета, — добавил Чарторыский, собираясь уходить. — Она же доставит вас обратно по вашему желанию.
— Не много ли чести для старого генерала? — опять усмехнулся Костюшко.
— Вас уже внесли в списки почётных гостей, и ваш отказ очень огорчит Его императорское Величество, — уже официальным тоном произнёс Чарторыский.
— Хорошо. Я буду, — согласился приглашённый, но с условием... — Адам Чарторыский в удивлении поднял брови, — что меня будет сопровождать вот эта молодая особа (Костюшко указал на Таддеи). Это моя крестница.
Чарторыский рассмеялся: он ожидал услышать всё, что угодно, но только не этот каприз «старого генерала».
— Конечно, конечно... Я уверен, что император Александр не будет возражать против такого прекрасного эскорта, — заверил он добродушно и со вздохом облегчения, что его миссия удачно завершилась. — Ну а теперь я должен откланяться. Дела, дела... Так мы ждём вас, генерал. До скорой встречи.
Костюшко и гость галантно раскланялись друг другу. Как только за Чарторыским закрылись двери, Таддеи не выдержала и в порыве восторга и признательности за этот подарок бросилась на шею своего воспитателя.
— Спасибо, крёстный! — громко шептала она ему на ухо. — Я увижу русского императора и, возможно, других коронованных особ... Боже, как это прекрасно!
Костюшко разомкнул девичьи руки и снял их со своей шеи. Он сам был доволен тем, что так просто смог сделать Таддеи то, о чём могли только мечтать девушки её положения и социального статуса в её возрасте.
— Ну всё, успокойся, — попробовал он прекратить поток слов благодарности, которые ему были приятны, но не в таком изобилии. — Лучше ступай в свою гардеробную и выбери себе наряд, в котором ты появишься в самом высшем свете Европы через два дня.
Таддеи не заставила себя долго упрашивать и мигом упорхнула на женскую половину, а Костюшко снова присел на диван и погрузился в воспоминания и размышления.
Все прошедшие годы Адам Чарторыский, будучи сторонником восстановления Польши как самостоятельного государственного образования, всячески склонял русского царя к созданию такового на территории Речи Посполитой. И только теперь, когда армии седьмой по счёту антифранцузской коалиции шагали по французской земле, Александр I понял важность этого вопроса. Но понимал он это в «свою сторону»: Александр I готов был согласиться на создание Царства Польского, но при этом пожелал к своим титулам русского самодержца добавить титул короля польского с вытекающими отсюда последствиями. А Костюшко ему нужен был для организации польского народного движения, которое бы «предложило» русскому императору-победителю получить такой громкий титул.
— Крёстный, тебе нравится? — неожиданно Таддеи опять потревожила Костюшко, демонстрируя ему своё новое платье. — Можно, я пойду в нём с тобой на встречу с царём Александром?
Костюшко строгим и оценивающим взглядом посмотрел на воспитанницу и её наряд. Такая строгость была напускная, искусственная, и Таддеи это давно поняла. Вот и сейчас она была уверена, что её дорогой крёстный улыбнётся и одобрительно кивнёт. Так всё и случилось через пару секунд, а девушка довольная и счастливая опять упорхнула в свою комнату.
XX
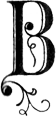
большом овальном зале дворца звучала музыка. Военные в парадных мундирах с орденами и подвязками выделялись из толпы, взглядом победителей окидывая окружающих их людей. Какие-то чиновники самых разных мастей и рангов двигались группами по залу между военными, не находя себе место. Дипломаты и почётные гости, одетые в дорогие камзолы и панталоны, медленно и чинно передвигались по залу со своими дамами, сверкавшими фамильными драгоценностями, приветствуя друг друга грациозным кивком головы или пожатием рук. Повсюду слышалась многоязычная речь: мягкая и мелодичная французская, плавная и спокойная английская, жёсткая и рубленая немецкая. Только почти не было слышно русских и польских слов на этом торжественном светском вселенском собрании.
Среди этой толпы сливок общества, наблюдая за ней и всматриваясь в лица с надеждой кого-нибудь узнать, скромно стоял Костюшко в генеральском мундире американской армии с тростью в руке. На его груди можно было рассмотреть только две награды, полученные от двух государств: орден за воинские доблести «VIRTUTI MILITARI» в виде четырёхконечного креста со щитом и одноглавым белым орлом от несуществующего уже государства Речь Посполитая, и орден от общества Цинциннати, полученный в Соединённых Штатах за заслуги перед Отечеством. На втором ордене также гордо смотрел на окружающих орёл, но белой была только его голова.
Рядом с крёстным в своём самом нарядном платье стояла Таддеи, рассматривая большими и восторженными глазами, такой новый для неё мир. Некоторые из двигающихся туда-сюда людей с удивлением обращали внимание на эту странную пару. Однако никто не подходил к ним и не здоровался, так как не узнавали в этом немолодом генерале того, против кого некоторые из них двадцать лет назад водили в сражения свои полки.
Все присутствующие в зале имели право находиться здесь — кто в качестве победителя, кто по необходимости своих чинов, а кто, как и Костюшко, в качестве гостей по приглашению высочайших особ. Российский император Александр I и его брат Константин с минуты на минуту должны были появиться в этом месте во всём своём великолепии и торжестве.
Вдруг шум множества голосов начал затихать, а дирижёр взмахом руки остановил музыку. В широко распахнутые двери вошли августейшие особы в сопровождении генералов и адъютантов. Впереди всех в белом мундире плавно, двигался русский император Александр I, по правую руку от него шёл Великий князь Константин Павлович. Слева от русского царя и немного отстав для приличия шагал Адам Чарторыский, внимательно осматривая окружающую их толпу. Неожиданно его ищущий взгляд остановился на ком-то, и Чарторыский приблизился к Александру I. Наклонив свою императорскую голову в сторону князя, он выслушал своего приближённого и посмотрел на одиноко стоящего у колонны американского генерала. Переглянувшись с братом, Александр I в сопровождении Великого князя Константина Павловича и Адама Чарторыского неожиданно направился к колонне, где стоял старик с молодой девушкой. Толпа недоумённо расступилась, и через минуту русский император подошёл к Костюшко, взял генерала под руку и под удивлёнными взглядами всех присутствующих повёл его за собой. Костюшко, сам поражённый таким вниманием со стороны монарха, не смел даже сопротивляться и задавать какие-то вопросы. Он просто шёл рядом с русским царём, а стоящие вокруг люди, цвет европейского светского общества, молча провожали их взглядом. А Великий князь Константин Павлович, следовавший за братом, вдруг подал голос и громко воскликнул:
— Дорогу! Дорогу великому человеку!
И толпа опять дрогнула. Наступая в суете друг другу на ноги, она увеличила и без того широкий коридор для шествия венценосных особ, рядом с которыми шёл незнакомый, странный и загадочный почтенный летами генерал.
А Таддеи Цельтнер осталась стоять у колонны, не зная, как вести себя в этой ситуации. Она только смотрела на произошедшее во все глаза, в которых любой мог прочесть удивление и восхищение. Удивление тем событием, свидетелем которого она стала, и восхищение своим крёстным, которого она очень любила, но до сих пор, оказывается, не знала. До этого момента он для неё существовал в образе доброго и пожилого человека, который в последние годы занимался её воспитанием и часто проводил время у токарного станка, вытачивая на нём всякие деревянные безделушки.
Князь Адам Чарторыский прогуливался с Костюшко по дорожкам дворцового парка, вспоминая с ним своих родственников и известных людей, с которыми Костюшко приходилось общаться в молодые годы. Коснулись они и вопроса, который был им обоим болезненно дорог: раздел Речи Посполитой и возможность её восстановления как самостоятельного государства.
— Вот видите, генерал, как относится к вам император, — неожиданно перешёл князь на личность русского царя, — какое внимание он вместе со своим братом уделил вам сегодня.
Костюшко остановился и внимательно посмотрел на князя. Такой резкий переход на царя Александра I насторожил его, и Костюшко приготовился к продолжению разговора, но Чарторыский молчал и внимательно смотрел на генерала, также чего-то ожидая от него.
— Да, я признателен Александру за такое внимание к моей скромной персоне, — наконец, сказал Костюшко. — Но, право, слишком много чести. Я, признаюсь, не был готов к этому.
Чарторыский улыбнулся. На такую реакцию со стороны Костюшко и рассчитывал русский монарх, когда вместе с братом Константином на виду у всех присутствующих они подхватили старика под руки.
— Я хорошо знаю царя Александра и его отношение к Польше и полякам, — решил идти ва-банк князь. — И, поверьте мне, Александр сделает всё, чтобы мы все опять обрели родину.
— А какой она будет, наша родина, при покровительстве русского монарха? — перебил Чарторыского неожиданно Костюшко. — В каких границах и кто станет во главе государства, если оно вообще будет?
— Будет, — уверенно заявил князь. — Государь делился со мной своими планами по этому вопросу: он готов поддержать идею создания Царства Польского в границах прежнего герцогства Варшавского.
— «От моря до моря» — вот какой когда-то была Речь Посполитая, — вдруг твёрдо и жёстко сказал Костюшко, — и нового польского государства в иных границах я не признаю. Того же я потребовал и от Наполеона Бонапарта, когда он предложил мне своё покровительство.
Чарторыский замолчал, удивлённый той резкостью, с которой прозвучали последние слова Костюшко. Он понимал, что порученная ему царём Александром миссия, если разговор будет продолжаться в таком тоне, может провалиться. И тогда, стараясь смягчить тональность и остроту вопроса о польской государственности, Чарторыский дипломатично несколько сменил тему разговора.
— Знаете, после того, как Наполеон потерпел поражение, в Сен-Дени русский император решил встретиться с пленными поляками, которые храбро воевали против русской армии, — продолжал идти медленно, широким шагом по парковой аллее князь, повествуя о «гуманном и добром» монархе. — Подойдя к одному из раненых кавалеристов, он спросил его, есть ли у него какие-либо пожелания или просьбы. В ответ он услышал, что польский офицер хотел бы залечить свои раны.
— И что ответил Александр на это пожелание? — спросил, ухмыляясь, Костюшко.
— Государь приказал записать имя офицера, выдать ему паспорт и отправить на лечение на воды, — закончил излагать одну из историй про благородство русского царя Чарторыский.
Они прошли ещё несколько шагов, и Костюшко обратился к князю с прямым вопросом:
— Скажите честно, князь, чем я могу быть ему полезен? Ведь мне уже почти семьдесят лет, и скоро я буду пребывать в другом мире. — Костюшко остановился и внимательно посмотрел на князя. — Мне к встрече с Богом надо готовиться, а не с императорами, — грустно добавил он очевидную правду.
— Такого высокого, как сегодня, авторитета среди европейских государств русское самодержавие не знало со времён царя Петра I, — приступил к главному Чарторыский. — Император Александр предлагает вам возглавить новое польское движение за создание Царства Польского.
— А на голову самого Александра возложить корону польских королей? — вопросом закончил Костюшко мысль Чарторыского.
Адаму Чарторыскому ничего не оставалось делать, как только утвердительно кивнуть в ответ головой. Ведь Костюшко всё понимал без слов, которые так и не были произнесены вслух доверенным лицом русского государя.
Они опять медленно пошли по аллее. Костюшко прекрасно понимал, что его имя хотят использовать в очередной политической игре, а его самого сделать проходной пешкой на доске с прусскими, австрийскими и русскими фигурами. Чарторыский же с волнением ожидал, что ему ответит этот человек, ставший легендой польской истории ещё при жизни.
— Ну что же, я подумаю, — приняв какое-то решение, подвёл черту этой беседе Костюшко. — Но прежде, чем я дам ответ, я хотел бы изложить императору мои предложения и рекомендации.
— А вы можете, хотя бы кратко, перечислить их мне прямо сейчас? — спросил, насторожившись, князь.
— Конечно: амнистия для всех поляков, служивших Наполеону, избавление от крепостной зависимости для всех польских солдат, создание школ для крестьян, полное освобождение которых должно осуществиться на протяжении 10 лет. Наконец, коронация Александра на польский престол должна произойти с одновременным дарованием стране конституции, подобной английской.
«Ну вот и всё, — подумал про себя Чарторыский после услышанного. — Это полный провал моей миссии. Подобных требований Александру I — победителю никто не посмел бы предъявлять...» Он понял, что дальнейшие уговоры и рассказы о великой миссии русского царя-освободителя на Костюшко не подействуют. Адам Чарторыский глубоко вздохнул и голосом, в котором Костюшко вдруг услышал отчуждение и какую-то жёсткость, сказал:
— Я попрошу письменно изложить на высочайшее имя ваши предложения, которые я только что услышал. Я их обязательно передам государю.
Костюшко только кивнул в знак согласия, и они продолжили прогулку в сторону дворца в полном молчании.
XXI

небольшой, но уютной гостиной дома Питера Цельтнера собралась вся его семья.
Когда все уселись за большим круглым столом, в гостиную вошёл сам хозяин и его друг Тадеуш Костюшко. Расположившись удобнее в мягких креслах, они приступили к обеду, который подавал им слуга, периодически поднося новые блюда и убирая использованную посуду.
Наконец, когда приём пищи был закончен, Питер с нежностью осмотрел таких дорогих ему людей. Сегодня он собрался провести небольшой семейный совет, поводом к которому послужило письмо от Франца. В нём он предлагал Питеру, его семье и Костюшко переехать на постоянное место жительства в Салюрн, где Франц стал одним из почётных граждан этого небольшого городка и был избран его бургомистром.
Но сначала разговор пошёл не о переезде, а о последних событиях, связанных с тем вниманием, которое было уделено Костюшко со стороны русского императора.
Не успел Питер начать разговор, как Таддеи, ставшая невольной свидетельницей возвышения своего крёстного, неожиданно спросила его:
— Крёстный, так вы поедете на Венский конгресс по приглашению императора Александра?
Костюшко посмотрел на девушку и устало ответил:
— Нет, дорогая. Стар я уже стал для участия в таких политических демаршах.
Питер, наконец, также решил подать голос и вмешаться в беседу. От решения Костюшко отойти от всякого участия в политических интригах стран-победительниц зависело будущее место жительства всей его семьи, так как он давно стал её членом.
— А что тебе предлагал император Александр?
— Он предложил мне участие в организации государственных институтов и разработке принципов управления Царством Польским. Убеждает вернуться на родину, — задумчиво глядя в окно, тихо промолвил генерал.
— Ну и что ты решил? — спросил Питер, хотя ответ Костюшко ему был уже известен. Но рядом сидели его жена и дочь. Они тоже должны были услышать то, о чём ещё час назад сообщил Питеру его друг.
— Я письмом передал императору своё видение будущего Польши и свои рекомендации, — услышали все присутствующие ответ Костюшко.
— И как он воспринял эти рекомендации? — усмехаясь, продолжал «пытать» Питер своего товарища.
— Ответ царя был расплывчатым. В принципе, как и все его действия в управлении империей. А что касается его предложения вернуться на родину, — Костюшко улыбнулся и посмотрел на Таддеи, — то моя родина сейчас здесь, с вами, дорогие мои.
Таддеи не смогла сдержать эмоций, вскочила со стула и повисла на шее у крёстного.
— Ну-ну, — старик погладил по плечу свою воспитанницу. — Питер, ты говорил, что Франц приглашает нас в Салюрн? Что-то «климат Франции» мне в последнее время не идёт на пользу. Не поменять ли нам его на Швейцарию?
— Конечно, давно уже нужно было это сделать, — довольный быстрым решением такого щепетильного вопроса, пробурчал Питер. — Когда будем планировать отъезд?
— Да хоть завтра, — спокойно и равнодушно ответил Тадеуш, а Таддеи после его слов сорвалась с места и поскакала в свою комнату собирать вещи.
Питер также, кряхтя, встал, отодвинул кресло, застегнул жилетку на своём объёмном животе и вышел из-за стола.
— Так я пошёл давать распоряжения, — подвёл он итог обеденного заседания и медленно направился в свою комнату вздремнуть после сытного обеда.
Когда же жена Питера также ушла хлопотать по хозяйству, Тадеуш остался в гостиной совсем один. Он в задумчивости с каким-то печальным выражением лица и отрешённым взглядом уставился перед собой, положив подбородок на рукоятку трости. Мысли унесли его к воспоминаниям далеко минувших лет, когда он приехал в первый раз во Францию. Про себя Костюшко невольно заметил, что своим видом он сейчас напоминал тех стариков, французских аристократов, на которых он обратил внимание в том далёком 1769 году в Париже, находясь в приёмной министра.
«Однако как быстро прошла жизнь», — с грустью подумал он, и в его памяти всплывали лица близких ему людей, которые были сейчас так далеки от него, а некоторых давно уже не было в живых. Брат Иосиф и мать с отцом, Людовика и Мадлен, Вашингтон, Джефферсон, Тэкля. Воспоминания Костюшко перенесли его в Америку, потом в Россию, к тем сражениям, в которых ему пришлось участвовать.
Почему-то вспомнился Павел I с женой и его сын, царствующий Александр I. Какие они всё-таки разные... А потом опять Людовика.
Видимо, Костюшко задремал, сидя в удобном кресле: его подбородок соскочил с ладоней, лежащих на рукоятке трости, и он вернулся к реальной жизни. Оглянувшись вокруг себя (не заметил ли кто его старческой послеобеденной дремоты?), Костюшко встал с кресла и медленно побрёл в свою комнату, чтобы последовать примеру Питера.
А примерно в это же время Александр I в Версале в своём временном рабочем кабинете принимал Адама Чарторыского, который с огорчением докладывал русскому императору о своей провалившейся миссии.
— Ну как там наш польский старец Костюшко? — рассматривая себя в большое зеркало, спросил император Чарторыского. — Готов ли он ехать на Венский конгресс?
Князь немного замялся, но потом решил сказать всё, как есть:
— Он прислал
письмо Вашему императорскому Величеству.
— Вот как! И что же он там пишет? — полюбопытствовал Александр I, отрываясь от лицезрения своей венценосной особы.
Чарторыский достал из вскрытого им же конверта исписанный лист бумаги и, сокращая текст послания, зачитал:
— Генерал Костюшко, «веря в благородные и человеческие намерения императора Александра», желает вам успеха в государственных делах, но, ссылаясь на своё плохое самочувствие и возраст, просит освободить его от поездки на Венский конгресс. Кроме этого, он просит оформить ему русский паспорт с целью выезда в Швейцарию для поправки пошатнувшегося здоровья.
Император недовольно поморщился, и сразу его лицо потеряло благородный лоск и обаяние, превратившись в обыкновенное лицо капризного человека.
— Старый лис. И главное — ему-то и возразить нечего. Стар, мол, что с меня возьмёшь, — проговорил он со злостью. — Что посоветуете, князь? Кем мы сможем его заменить?
Чарторыский уже подготовил ответ, в котором предусмотрел те замаскированные нотки лести, которые так любил Александр I.
— Ваше императорское Величество, а нужен ли он нам так сейчас? Россия в вашем лице выступает как победительница и освободительница Европы от Бонапарта, — начал говорить Чарторыский и заметил, как лицо императора разглаживалось и приобретало прежние благородные черты. — Вашего слова, подкреплённого солдатами русской армии, будет достаточно, чтобы решить все спорные вопросы, если они возникнут на Венском конгрессе.
Александр I опять посмотрел на свой благородный профиль, который по-прежнему отражался в зеркале.
— Вы так считаете? — уже более мягким тоном спросил он своего ближайшего советника по «польскому вопросу».
— Пусть старец едет в свою Швейцарию, — посоветовал князь, чувствуя, что он на верном пути. — Кроме Костюшко, достаточно патриотов, которые отдадут вам польскую корону.
— Ладно. Пусть так и будет, — миролюбиво согласился Александр I. — Мы и так уделили этому Костюшко достаточно много внимания. Оформите ему все документы, и пусть он отдыхает в Швейцарии от трудов мирских.
Чарторыский с облегчением вздохнул: вопрос решился сам по себе, и князь опять почувствовал себя уверенно в своём ближайшем будущем. В Царстве Польском, которое должно было «родиться» вместо герцогства Варшавского, Адам Чарторыский уже видел себя наместником русского императора. Однако Александр I не забыл историю с Костюшко и не простил князю этот промах.
XXII
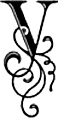
же несколько дней Юлиан Немцевич гостил у Костюшко в Салюрне. Они не встречались в последние годы, но иногда посылали друг другу письма, сообщая, что пока ещё живы, и выражая надежду на скорую встречу. Сразу же после своего возвращения из Соединённых Штатов в 1807 году Немцевич поселился недалеко от Варшавы. Однако он не долго находился вне поля зрения правительства Великого герцогства Варшавского и вскоре занял должность секретаря сената этой государственной структуры. После падения власти Наполеона и победы антинаполеоновской коалиции Немцевич не остался без государственной должности и при новой власти. Уже в 1813 году он опять стал секретарём сената, но только уже вновь созданного Царства Польского. Это время стало для Немцевича периодом интересных поездок и путешествий, в ходе которых он посещал исторические места и писал свои произведения. Однако при этом писатель, драматург и историк находил время встретиться со старыми друзьями и соратниками по восстанию 1794 года.
Планируя встретиться с Костюшко, Немцевич организовал себе поездку в Швейцарию и заехал в Салюрн. Им было о чём поговорить, сидя по вечерам у камина с бокалом хорошего французского вина, хотя оригинальностью темы их бесед не отличались. Они были такими же, как и у всех пожилых обывателей: воспоминания о прошедших годах, сражениях, о встречах с общими знакомыми и перечислением тех, кто ещё остался жив, а кто умер или погиб.
При этом оба понимали, что эта встреча была, вероятнее всего, последней в этой земной жизни. А поэтому им хотелось подольше пообщаться друг с другом, поговорить и просто посидеть рядом, погрузившись в свои мысли.
— А где сейчас Ян Домбровский? — почему-то прежде всего о нём поинтересовался Костюшко.
— Насколько я знаю, — не сразу ответил Немцевич, — жив, хотя от полученных ран не особенно здоров. После гибели Юзефа Понятовского под Лейпцигом он возглавил польские войска и был верен Наполеону вплоть до его отречения.
Немцевич сделал паузу, отпил глоток вина и продолжил:
— Он, как и Томаш Вавржецкий, служит Царству Польскому, имеет чин генерал-аншефа польской кавалерии и заседает в сенате
[56].
— А Вавржецкий? Кем он служит?
— О! Он стал министром юстиции и получил пожизненно титул воеводы.
— Да. Неплохо все устроились, — усмехнулся по-доброму Костюшко.
В душе он был даже рад тому, что его генералы «нашли себя», не испытывают жизненных трудностей и как могут, служат своей родине.
— Но лучше всех определился Зайончек, — продолжил Немцевич свой рассказ о бывших соратниках. — Он назначен императором Александром Павловичем наместником Царства Польского, чем очень огорчил Адама Чарторыского, который метил на это место.
Костюшко при этом даже засмеялся, представив, какое лицо было у этого потомка известных магнатов, когда он узнал об этом назначении.
— Тадеуш, скажи мне, ты не жалеешь, что они там, — Немцевич кивнул в сторону востока, — а ты здесь, в Салюрне?
Костюшко ждал подобного вопроса и честно ответил:
— Я ни о чём не жалею в этой жизни. Я прожил её так, что хватило бы на две судьбы для двоих, а Бог мне отмерил всё одному. Третьей мне уже не надо.
На этом оба друга замолчали и некоторое время просто сидели и смотрели на пылающий в камине огонь, думая каждый о своём.
Они оба постарели, но старались казаться бодрее, чем чувствовали себя на самом деле. За прошедшее время, пока они не виделись и не общались, каждый жил своей жизнью, и теперь оба подводили итоги.
— Почему ты решил всё-таки вернуться из Америки? — вдруг спросил Костюшко.
Немцевич перевёл взгляд от огня и внимательно посмотрел на товарища. Отпив из бокала ещё глоток вина, он неохотно ответил:
— Понимаешь, в какой-то момент я осознал, что, написав биографию Вашингтона и приняв подданство Соединённых Штатов, я так и не смог воспринять эту страну как свою родину, — искренне пояснил Немцевич свои переживания, а потом добавил: — Есть ещё одна причина: то, что я написал в Соединённых Штатах за эти годы, там никто читать не будет. Это им не интересно.
— Но ты же прожил там столько лет! — удивился Костюшко. — У тебя жена американка.
— Ты не поверишь, Тадеуш, но я всё равно не привык к той жизни, и меня потянуло в родные места. — Немцевич невесело усмехнулся. — Ностальгия по родине замучила. Старею, наверно.
— И когда собираешься уехать из Салюрна? — после очередной паузы спросил Костюшко, и в его вопросе Немцевич услышал нотки озабоченности и какого-то беспокойства. Костюшко очень хотелось, чтобы Немцевич погостил подольше, но его надежды не оправдались.
— Через пару дней. Хочу ещё побывать в Париже. Думаю, я поживу там пару недель, а потом вернусь в Варшаву, — поделился своими планами Немцевич. Заметив, как помрачнел его товарищ, он добавил: — Хотя я ещё не решил: может, задержусь в этом уютном городке, подышу воздухом Швейцарии. Ну а ты за это время почитаешь, что я написал, — и Немцевич положил перед Костюшко стопку своих рукописей, которые до этого момента держал при себе.
Костюшко прищурился и прочитал: «Spiewy historyczne». Улыбнувшись, он подлил себе и Немцевичу вина и поднял бокал.
— За твоё возвращение на родину! — провозгласил Костюшко тост, и друзья отпили ещё по глотку.
XXIII

небольшом камине в небольшой комнате ярко пылал огонь. Однако Наполеон, сидя рядом с огнём, долго не мог согреться после прогулки, которую он совершал ежедневно вдоль побережья моря. Его ноги никак не могли согреться даже тогда, когда на них легла его любимица, собака Диманш.
«Проклятый остров! — ругался про себя Наполеон. — Его сырой климат угробит меня».
Бывший император Франции действительно чувствовал себя с каждым днём всё хуже: у него стала болеть печень, появилась отёчность в ногах. И дело было не только в сыром климате острова Святой Елены, куда его сослали подальше от Европы и её проблем. Хуже всего Наполеон чувствовал себя от одиночества, от резкого изменения обстановки и окружающего его мира.
Ещё совсем недавно императору Франции рукоплескал весь высший свет во всех странах, завоёванных его непобедимой армией. Он принимал послов, составлял планы очередных военных кампаний, подписывал законы и вершил судьбы народов. А сейчас этот человек сидел в одиночестве в кресле у камина на каком-то острове в Атлантическом океане и с тоской вспоминал прошедшие годы. И только верная и преданная собака смотрела ему в глаза, как будто пыталась успокоить и ободрить.
После ста дней, которые в очередной раз потрясли Францию и в очередной раз обеспокоили европейских монархов, англичане решили не возвращать Наполеона на остров Эльба, откуда он умудрился сбежать 26 февраля 1815 года. В то время к власти вернулись Бурбоны, а с ними и эмигранты, которые пытались возвратить своё имущество, утерянное ими во время революции. Многим французам это не понравилось: росло недовольство в обществе и в армии.
Наполеон ещё не успел «обжиться» на острове Эльба, как ему доложили о сложившейся во Франции политической ситуации. «Судьба, однако, даёт мне ещё один шанс! Ещё не всё потеряно!» — решил он и воспользовался очередным историческим моментом. Покинув место ссылки вместе со своими преданными такими же опальными соратниками, Наполеон вскоре высадился на французский берег и направился в сторону столицы Франции. Парижане, толкаясь на рынках и просиживая в кофейнях, уже 20 марта с удивлением узнали, что их император-полководец снова в Париже и готовится к новой войне. Собрав за короткий срок новую армию, Наполеон 18 июня 1815 года в очередной раз направил её в сражение под Ватерлоо, но снова потерпел поражение. Видимо, времена были уже не те: счастливая звезда Наполеона Бонапарта навсегда скрылась от его взора, а его противники опять смогли договориться между собой. Они разрушили последние надежды императора, разбив его преданную гвардию и тех, кто сражался за него в тот роковой день.
Англичане поняли, что этот упрямый корсиканец не успокоится, пока французский берег будет от него так близок. Поэтому, посовещавшись в узком кругу, английский кабинет министров вынес вердикт: Наполеона Бонапарта отправить на остров Святой Елены и поручил исполнить эту миссию адмиралу Джорджу Кейту. Адмирал с честью выполнил это поручение и доставил ссыльного императора на остров в сопровождении девяти кораблей с командой общей численностью в три тысячи солдат. Именно они должны будут охранять Наполеона на протяжении срока его пребывания в ссылке.
Посёлок Лонгвуд хмуро встретил почётный эскорт кораблей, когда они вошли в единственный порт острова Святой Елены — Джейстаун. Да и губернатор острова был не в восторге от того, что Наполеон Бонапарт и двадцать семь человек его челяди будут теперь проживать в его летней резиденции. И вот на острове Святой Елены доживает свои последние дни человек, который, подобно Жанне д’Арк, стал очередным явлением своего времени. Сколько ему осталось влачить это жалкое существование? Никто ему про это не говорил, но Наполеон догадывался, что не так много.
— Ну, доктор, что вы думаете? Долго ли я буду тревожить сон королей? — спросил Наполеон своего доктора О’Миру и с удовлетворением услышал заготовленный им ответ.
— Вы их переживёте, Ваше Величество, — успокоил доктор важного пациента.
«Ваше Величество! Ваше Величество!..» — мысленно повторил Наполеон такие приятные для него слова. Как теперь редко он их слышит.
— Ия так думаю. Они не смогут уничтожить слухов о наших победах, предание о них пройдёт через века и расскажет, кто побеждал, кто был побеждён, кто был великодушен, а кто нет, — Наполеон опять входил в роль императора. Его уже трудно было остановить. Он говорил так, как будто рядом стоял не доктор, а огромная толпа людей, выслушивающая его призывы и очередные исторические фразы. — Потомки будут судьями, а я не боюсь их приговора!
Возбуждённый свой пламенной речью, Наполеон смотрел на огонь в камине и продолжал говорить:
— Я убил чудовище анархии. Я обуздал революцию, облагородил нацию и утвердил силу верховной власти. Мой деспотизм? Историк докажет, что он был необходим по обстоятельствам. Обвинят ли меня в страсти к войне? Он докажет, что всегда на меня нападали. Или в стремлении к всемирной монархии? Он покажет, что оно произошло от стечения неожиданных обстоятельств, что сами враги мои привели меня к нему... Я хотел утвердить царство ума и дать простор всем человеческим способностям.
Но поток великих фраз внезапно иссяк, и Наполеон недоумённо оглянулся вокруг, словно ожидал оваций, а их не было. Тишина...
Вернувшись в реальность бытия, он наклонился к собаке и погладил её по голове. Диманш в ответ лизнула Наполеону руку и опять положила голову ему на ноги.
О’Мира всё это время стоял рядом и с вниманием слушал Наполеона, но молчал. Ему было жалко этого человека и в то же время он восхищался им.
Губернатор острова Святой Елены сэр Гудсон-Лова, наоборот, всячески пытался усложнить последние дни жизни Наполеона. Он даже хотел убрать О’Миру от низложенного императора и писал в Лондон доносы на доктора с требованием его отзыва с острова. Губернатору вообще не нравилось, что Наполеона окружали французы, те, кто остался верен ему даже в таком плачевном его положении. Не зря его почётный пациент назвал губернатора сицилийским сбиром.
Доктор закрыл свой таинственный саквояж и собрался уходить. Наполеон взмахом руки остановил его и почему-то шёпотом спросил:
— Надеюсь, меня не отравят?
О’Мира сделал удивлённое лицо. Он хорошо понимал Наполеона и его опасения. Доктор даже не исключал такую возможность, но как порядочный человек всячески отгонял от себя дурные мысли об устранении Наполеона таким варварским способом.
— Что вы, сир! Кто посмеет поступить так? Даже не думайте об этом.
Наполеон, соглашаясь с О’Мирой, кивал головой. Доктор, наконец, откланялся и вышел, а вместо него в комнату вошёл камердинер Маршан и принёс кофе. Запах этого напитка сразу заполнил пространство комнаты, и Наполеон несколько минут с наслаждением растягивал удовольствие, делая небольшие глотки из красивой чашки.
Камердинер подбросил в камин дров и также покинул комнату, унося пустую чашку, а Наполеон опять остался один. Он уставился на огонь и впал в философские размышления о Французской революции и своей роли в мировой истории.
«Французская революция, — анализировал он события последних трёх десятилетий, — произошла не от столкновений двух династий, споривших о престоле; она была общим движением массы людей. Она уничтожила все остатки времён феодализма и создала новую Францию, в которой повсюду было одинаковое судебное устройство, одинаковый административный порядок, одинаковые гражданские и уголовные законы, одинаковая система налогов... В новой Франции двадцать пять миллионов людей составляли один класс, управляемый одним законом, одним учреждением, одним порядком. И этот порядок определил и узаконил я. Однако придёт время, и этот порядок нужно будет также менять, принимать новые законы... Лет через двадцать, когда я уже умру и буду лежать в могиле, французы переживут в своей стране ещё одну революцию. А может быть, и не одну...»
Философские размышления Наполеона продолжались недолго. Он устало откинулся в кресле, закрыл глаза и задремал, наконец-то согревшись от огня в камине и тепла тела любимой собаки.
XXIV

изнь небольших городков Швейцарии однообразна и, возможно, поэтому скучна. Каждое утро солнце всходит из-за горных склонов, и по узким улочкам начинается движение людей. Раньше всех молочницы разносят по домам горожан молоко после первой утренней дойки коров, затем появляются торговцы небольшого рынка. Они аккуратно раскладывают свой товар на прилавках, и, наконец, к этим торговцам спешат первые покупатели свежих овощей, фруктов и мяса, чтобы запастись ими на целый день. Постепенно на улочках появляется всё больше и больше людей, спешащих куда-то по своим повседневным делам, без которых немыслима обычная человеческая жизнь, основой которой всегда были пища, тепло и крыша над головой.
В центре Салюрна располагались аккуратные дома зажиточных горожан, среди которых выделялся двухэтажный каменный дом успешного дельца и торговца, а в последние четыре года бургомистра этого города Франца Цельтнера. Когда-то в молодые годы он хотел стать скульптором и даже брал уроки в Париже, наивно мечтая создавать вечные творения рук человеческих в память о себе и своём времени. Но начинающий скульптор вовремя остановился, осознав, что кроме желания творить и созидать, нужен ещё и талант. Тогда Франц вернулся в город своего детства и стал успешным продолжателем дела отца.
Уже почти три года рядом с домом брата жил Питер Цельтнер со своей семьёй и своим другом Тадеушем Костюшко. Старый американский генерал вскоре стал живой достопримечательностью Салюрна. Несмотря на погодные условия, он каждое утро в одно и то же время выезжал на серой и спокойной кобылке на прогулку. Пунктуальные швейцарцы, выглядывая на улицу из своих уютных домов, шутили с соседями, что по точности времени прогулок генерала можно корректировать время на часах башни городской ратуши.
По устоявшейся привычке Костюшко встал с рассветом и уже в шесть часов утра пил утренний кофе. В гостиной дома он был в полном одиночестве, если не считать слуги, который этот кофе ему приготовил и принёс.
— Шарль, как там моя кобыла? Ты сказал конюху, что она немного хромает? — придирчиво спросил Костюшко слугу.
— Не извольте беспокоиться: с ней всё в полном порядке, — заверил Шарль, улыбаясь во весь рот.
Он давно привык к ворчанию этого странного старика, которого его хозяин считал членом своей семьи наравне с семьёй своего родного брата. Шарль, как и все слуги в этом доме, с приязнью относился к Тадеушу Костюшко и старался выполнить все его пожелания и запросы, хотя их было не так много.
Допив кофе, Костюшко вернулся к себе в комнату переодеться для верховой езды. Погода стояла сырая с мелким осенним дождём, но упрямый генерал решил не менять своих привычек и начал готовиться к очередной утренней прогулке по городу. Он оделся теплее, взял хлыст, трость и ещё раз осмотрел придирчиво комнату: всё ли у него в порядке.
Комната Костюшко на первом этаже дома была небольшая, но уютная. Мягкая кровать аккуратно заправлена, все вещи лежали на своих местах, а одежда также аккуратно была почищена и развешана в небольшом платяном шкафу. На стене его комнаты висели именная шпага и два портрета известных людей, к которым Костюшко относился с большим уважением, но перед которыми никогда не преклонялся.
Первый, портрет Джорджа Вашингтона, напоминал Костюшко годы, проведённые в Соединённых Штатах, про которые он вспоминал с ностальгической грустью. Восемь лет жизни он посвятил этой стране, но никогда не сожалел, что потом вернулся в Речь Посполитую. Второй же, портрет Станислава Августа Понятовского, навевал иные мысли: об упущенных возможностях, совершенных ошибках и горечи потери родины, которую он всегда хотел видеть свободной и независимой. Они так и не смогли создать государство, которое могло бы стать образцом демократии и народовластия, если бы они тогда победили... Ах, если бы можно было повернуть время вспять! Сколько бы можно было исправить, изменить, не допустить стольких жертв и всё равно добиться того, к чему стремились.
Но чудес на свете не бывает, и прошлого не вернёшь. Каждый вечер Костюшко целовал свою воспитанницу, желал всем Цельтнерам спокойной ночи и уходил спать в свою комнату. Он долгое время лежал в постели с открытыми глазами и, уставившись в чёрный ночной потолок, всё думал, думал и думал... Когда же поздней ночью сон всё-таки закрывал его веки, к нему приходили сны, которые были продолжением его беспокойных мыслей. А рано утром, проснувшись на рассвете, Костюшко легко восстанавливал в своей памяти содержание снов, удивляясь тому, что так хорошо их запомнил.
Тадеуш Костюшко ещё раз внимательно осмотрел себя в зеркало: в последние полгода он осунулся и как-то сразу постарел, превратившись в обыкновенного деда, который носит генеральский мундир. Такое резкое изменение произошло после того, как он получил из далёких и родных его сердцу мест известие о смерти брата Иосифа. Тогда Тадеуш позвал нотариуса и оформил отказ от наследства и дополнительно составил своё духовное завещание (Сехновичский тестомент), дав вольную всем крепостным, которые могли бы стать его собственностью после смерти брата.
Костюшко поднял свой заострившийся подбородок вверх, одёрнул полы генеральского мундира и бодрым шагом, почти не опираясь на трость, вышел во двор. Конюх уже стоял у ворот с осёдланной лошадью в ожидании её хозяина и приветливо снял свою шляпу, заметив, как тот выходит из дома. Угостив кобылу куском сахара, Костюшко легко для его возраста вскочил в седло и тронул поводья. Через пару минут всадник и лошадь уже двигались по узким улочкам Салюрна, а встречные горожане привычно приветствовали Костюшко. Некоторые из них, найдя повод остановиться и передохнуть, вступали с ним в короткую беседу, которую чаще всего начинал сам Костюшко.
— Как дела, Густав? — спрашивал он какого-нибудь торговца овощами.
— Всё в порядке, — отвечал тот, приветливо улыбаясь, — да только жена уже четвёртую дочку родила, а я сына хочу.
— Лучше стараться надо, — шутил Костюшко. — Ну а с дочкой поздравляю!
И оба мимолётных собеседника, кивнув друг другу на прощание, продолжали свой путь дальше.
Когда, медленно раскачиваясь в седле, Костюшко выезжал на дорогу, ведущую из города, то ему навстречу часто встречались крестьяне, которые направлялись в Салюрн в поисках хоть какой-либо работы. Последние два года в Швейцарии, как и в соседних странах, стояла непривычная засуха, которая привела к гибели части урожая, разорив тем самым немалое количество этих тружеников полей. В поисках работы они направлялись толпами в города, надеясь там заработать хоть немного денег и прокормить семью до следующего урожая.
Поравнявшись с такой жертвой небесной канцелярии, Костюшко приостанавливал свою кобылку и подзывал крестьянина к себе. Тот, не понимая толком, что от него понадобилось этому странному старику в военной форме, робко подходил к Костюшко.
— Тебя как зовут? — спрашивал Костюшко горемыку.
— Франц, — неуверенно и тихо отвечал тот, и тут же получал от Костюшко золотую монету.
Пока крестьянин с глупым видом рассматривал и пробовал на зуб этот кусочек дорогого металла, что-то пытаясь произнести в ответ за этот щедрый подарок, Костюшко, не ожидая благодарностей, отъезжал от него на приличное расстояние.
Генерал мог позволить себе такую роскошь, как раздавать золотые монеты тем, кому он считал нужным. В Салюрне он входил в список богатых людей, но не все знали, откуда у этого старика столько денег. Кто-то считал, что у Костюшко большая генеральская пенсия, кто-то предполагал, что этот «транжира» получил от кого-то богатое наследство, но домыслы так и оставались домыслами. На самом же деле щедрые подаяния нищим Костюшко делал из тех сумм, которые он получал из-за границы в виде процентов от денег, которые лежали в английском банке Баринга. А сумма на его банковском счёте накопились немалая.
В 1799 году Костюшко решил вернуть деньги, полученные от Павла I при своём освобождении, обратно в Россию. Но, взбешённый такой «неблагодарностью», русский император не принял их, а отослал обратно в английский банк. Так «подарок» и остался в одном из лондонских банков никем не востребованным, однако Костюшко исправно получал проценты и раздавал золотники нищим.
В это пасмурное прохладное октябрьское утро Костюшко как всегда ехал верхом по обычному маршруту. Дождь уже прекратился, и городок окутал густой туман, который проникал под одежду и холодил тело старого генерала. Проезжая мимо костёла, он слез с лошади, снял свою треуголку и перекрестился. Несмотря на сырость и утреннюю прохладу, на крыльце костёла, стоя на коленях, горячо молилась какая-то молодая женщина.
Костюшко, не надевая головной убор, тихо подошёл к молящейся и некоторое время стоял в нескольких шагах от неё, наблюдая непривычную картину такого активного проявления веры. Наконец женщина встала с колен и заметила странного старика, который уже несколько минут стоял позади её.
— Что, тоже старые грехи мучают? — незлобно спросила она Костюшко, и он увидел, что перед ним стоит цыганка.
Генерал не сразу нашёлся, что ей ответить на такой неожиданный вопрос. Но справившись с мимолётной неловкостью, он согласно кивнул в ответ и неожиданно для себя спросил:
— Погадаешь?
Цыганка оглянулась на костёл, подошла поближе к Костюшко и заглянула ему в глаза.
— А зачем тебе это надо? — лукаво спросила она, продолжая внимательно смотреть на Костюшко, как будто пыталась заглянуть ему внутрь.
— Хочу знать своё будущее, — попытался усмехнуться генерал, но усмешка вышла какая-то глупая и грустная.
Цыганка не попросила его ладонь для гадания и не достала карты, предлагая рассказать, что было, что есть и что будет. Она посмотрела своими чёрными глазами куда-то за спину Костюшко и тихо ему сказала:
— Не буду я тебе гадать... У тебя будущего уже нет.
Сказав свои роковые слова, цыганка опять повернулась к костёлу, перекрестилась и быстрым шагом отошла от Костюшко, скрывшись через несколько мгновений в утреннем вязком тумане.
Питер в это утро решил поспать попозже. Погода за окном не обещала солнечный день, а Питеру, в отличие от Костюшко, хотелось прогуляться по городку пешком. Спустившись в гостиную, он заметил кухарку Анну и Шарля, который сервировал стол для тех, кто ещё не позавтракал.
— Доброе утро! — поздоровались они, и Питер кивнул в ответ.
— А что, наш доблестный генерал уже вернулся со своей прогулки? — спросил он слугу, намереваясь позвать Костюшко, чтобы тот составил ему компанию в утреннем чаепитии.
— Нет, господин, ещё не вернулся, — смущённо ответил Шарль, и Питер взволнованно посмотрел в окно. На дворе опять начал моросить дождь, и от неприятного ощущения сырости и осеннего холода Питер поёжился и опять обратился к Шарлю:
— Не случилось бы чего с ним, — сказал он, стараясь не выдавать нарастающего волнения. — Может, послать кого-нибудь ему навстречу?
— Я уже сказал конюху, чтобы он запрягал лошадь, — ответил догадливый слуга.
Но никого посылать не понадобилось, так как входная дверь отворилась, и вместе с утренним туманом в дом вошёл «пропавший» генерал.
— Ну наконец-то, — раскинув широко руки, загрохотал радостно хозяин дома. — А мы уже с Шарлем гадаем, не уехал ли ты в Париж? — попытался пошутить бывший полковник швейцарской гвардии.
— Не дождётесь, — в тон ему ответил Костюшко. — Я ещё не так сильно надоел вам, чтобы так быстро уезжать. Ещё лет десять придётся потерпеть старика, — пытаясь казаться жизнерадостным, добавил он, но сильно закашлялся и, не раздеваясь, рухнул в кресло.
Услышав шум взволнованных голосов, из своей комнаты появилась Таддеи и тут же составила компанию Шарлю, который стаскивал с Костюшко мокрый плащ и сырой генеральский мундир.
— Ну разве можно так долго ездить на лошади в такую погоду, — выговаривала она своему крёстному, серьёзно беспокоясь о его здоровье.
— Ничего, ничего, — пытался ещё шутить Костюшко. — Яще польска не згинела, — почему-то проговорил он на польском языке строчку из марша польских легионеров, пока его одевали в тёплый домашний халат и поили горячим чаем.
Но все усилия по восстановлению бодрого состояния генерала и предупреждения наступления простуды оказались запоздалыми и тщетными. В тот же вечер у Костюшко поднялась температура, и в наступившей горячке он начал бредить.
Прибывший в такой известный дом лекарь пытался давать ему пить какие-то микстуры, делал кровопускание, но жар не спадал. Так прошёл целый день, а вечером всё семейство Цельтнеров собралось в большой гостиной, в волнении ожидая, когда лекарь сообщит, что больному стало лучше. Прошло ещё несколько часов, но лекарь выходил из комнаты Костюшко только лишь для того, чтобы выпить чашку бодрящего кофе с марципаном, а после этого вновь возвращался к больному.
И если мужчины старались казаться спокойными, то Таддеи в сильном волнении ходила всё время по дому в ожидании, что её крёстному станет лучше.
— Не волнуйся, всё будет хорошо, — настойчиво пытался успокоить племянницу Франц, который и сам переживал, что ничем не может помочь больному.
«Всё будет хорошо, всё будет хорошо…» — повторял он про себя, хотя надежды на выздоровление, судя по виду обеспокоенного лекаря, было, по-видимому, мало.
— Да, всё будет хорошо, — ободряюще поддержал брата Питер. — Тадеуш — сильный человек... Он не может, он просто не имеет права долго болеть... Он...
Неожиданно двери в комнату Костюшко отворились, и лекарь взволнованным голосом позвал всех из гостиной в комнату больного:
— Быстрее... Идите к нему... Он всех зовёт к себе.
Таддеи, а за ней все остальные побежали на зов, словно боялись упустить что-то очень важное, не услышать или не увидеть.
В полутёмной комнате, освещённой тремя свечками, лежал в своей постели Тадеуш Бонавентура Костюшко, боевой генерал двух государств, который в течение жизни успел удостоиться внимания нескольких европейских монархов. Но в глазах всех присутствующих в этот момент в небольшой комнате он был просто дорогим и близким им человеком.
Костюшко осмысленным взглядом оглядел всех стоящих возле его постели людей. Пытаясь улыбнуться, он приподнял голову, но из-за слабости опять опустил её на подушку. Его губы начали двигаться, и все услышали его последние слова, произнесённые на этом свете:
— Я рад, что вижу вас всех здесь... Спасибо вам, что вы... — больной закашлялся и речь его прервалась.
Через некоторое время, когда кашель прекратился, Костюшко посмотрел на Питера.
— Питер, моё завещание... Мы невольны в своих поступках, но иногда... — попытался ещё что-то осмысленное сказать Тадеуш Костюшко, но не успел.
Взгляд его вдруг остановился, он судорожно два раза вздохнул, и зрачки закатились вверх под веки. Последний медленный выдох, и душа этого удивительного человека навсегда покинула его тело.
XXV

осенний дождливый вечер у крыльца поместья княгини Любомирской остановилась карета, из которой вышел мужчина лет сорока. Он быстро поднялся на крыльцо и дёрнул за колокольчик, вызывая кого-нибудь из слуг. Через минуту гость вошёл в просторную гостиную, а ему навстречу уже спешила в уютном домашнем платье сама хозяйка дома, княгиня Людовика Любомирская.
— Ну, здравствуй! — обнимая сына, радостно произнесла княгиня. — Какими судьбами ты к нам заблудился? Хоть бы предупредил, что приедешь...
Её старший сын, князь Генрих Людвиг Любомирский, был женат на Терезе Чарторыской и уже стал отцом троих детей. Он увлечённо собирал старинные книги, коллекционировал архивы и различные «древности», обожал свою Терезу и служил в Департаменте иностранных дел Царства Польского. По роду деятельности Генрих часто бывал в разъездах и иногда неделями не появлялся дома, а тем более у родителей. И вдруг такой неожиданный визит.
— Да я и сам не думал, что окажусь в ваших краях, — ответил сын, согреваясь у горящего камина после долгой дороги в ненастную погоду. — Меня срочно направили в Санкт-Петербург по службе, вот я и решил по пути навестить тебя.
— И правильно сделал, — одобрила такое решение княгиня. — Поспишь, отдохнёшь, а завтра утром поедешь дальше. А пока пойду распоряжусь, чтобы накрыли на стол.
Княгиня ушла давать указания слугам, а Генрих с грустью посмотрел ей вслед.
«Постарела мать, постарела...» — подумал он, глядя на огонь в камине. В последний раз Генрих был в этом доме в июле 1817 года, когда приезжал на похороны отца. А сегодня он привёз опять нерадостные для матери вести.
Ни для кого в этом доме не была секретом история попытки похищения Людовики Сосновской, ставшей впоследствии княгиней Любомирской, молодым польским офицером Тадеушем Костюшко. Не было тайной и то, с какой теплотой она до сих пор относилась к тому, кого в молодости искренне любила и с кем готова была бежать хоть на край света. Однако судьба сделала крутой поворот, и каждый из них пошёл далее по жизни самостоятельно, лишь изредка получая известия друг о друге. Но в душе постаревшей княгини до сих пор остались ностальгические воспоминания о тех чувствах первой любви, которые переживает в своей жизни каждый нормальный человек.
Генрих понимал, что он должен сказать матери о смерти того, кто до сих пор был ей дорог. Людовика знала, что Костюшко жил в Швейцарии, и даже собиралась предложить мужу как-нибудь посетить эту горную страну. В её душе ещё теплилась слабая надежда на очередное чудо: вдруг она во время путешествия в каком-нибудь городке встретит Его.
Однако время безвозвратно уходило, а она так и не осмелилась предложить супругу организовать эту поездку. А теперь не стало и Иосифа... После недавней смерти мужа она стала затворницей, редко выезжала в Варшаву и часто допоздна засиживалась в библиотеке. Там она сочиняла романы или читала произведения иных авторов, мысленно погружаясь в чужую жизнь и переживая за судьбы книжных героев.
— Как ты похудел и осунулся, сынок, — ласково и с какой-то грустью проговорила она, внимательно разглядывая его лицо, когда они ужинали в таком тесном семейном кругу.
Генрих низко склонил голову перед матерью и поцеловал ей руку продолжительным поцелуем. Он нежно любил мать, которая в далёком детстве пела ему колыбельные песни, не доверяя проявление этой материнской заботы нянькам и мамкам.
В конце ужина после воспоминаний о смешных историях из его детства, после обсуждения последних светских сплетен и новостей о сёстрах, когда Генрих уже собрался уйти в свою спальню, княгиня вдруг осторожно взяла его за руку. Видимо, она что-то почувствовала, заметив некоторую скованность в разговоре с сыном.
— У тебя всё в порядке? — спросила она, глядя пристально ему в глаза.
Генрих непроизвольно опустил голову под внимательным взглядом матери и снова поцеловал её тёплую ладонь.
— Да, всё хорошо, мама, — ответил он. — Спокойной ночи. — Генрих ещё раз посмотрел на мать, отпустил её руку и направился в свою комнату.
Княгиня же ещё долго сидела одна за столом, вспоминая взгляд сына и выражение его лица, когда он уходил от неё. Были в этом взгляде какая-то тоска и недосказанность. Людовика чувствовала это, и поэтому тревожные ощущения и мысли долго не давали ей спокойно заснуть. Когда же на следующее утро она провожала Генриха в дальнюю дорогу, Людовика опять внимательно посмотрела ему в глаза и тихо сказала:
— Ну, говори...
И сын не стал утаивать от матери то, о чём хотел ей сказать ещё вчера вечером.
— Он умер... В Салюрне... — сказал он, не называя имени, но она всё поняла.
Людовика прикрыла своей ладонью губы сына, потом обхватила его голову, поцеловала в лоб и опять тихо прошептала:
— Езжай с Богом.
Перекрестив на прощание Генриха, она не стала дожидаться, пока он сядет в карету и лошади скроются за поворотом, а развернулась и медленно пошла в сторону дома.
И тогда Генрих ещё раз обратил внимание на то, как постарела за последние годы его мать, и его сердце сжалось от жалости к ней, а на глазах навернулись слёзы. Однако мужская натура взяла верх над эмоциями, и Генрих Любомирский сел в поданную услужливым кучером карету. Оглянувшись ещё раз на родной ему дом, он махнул рукой, и через минуту лошади лёгкой рысью вынесли карету за ворота.
На очередном заседании депутатов в здании Конгресса Соединённых Штатов к председательствующему Уильяму Гаррисону, будущему президенту Соединённых Штатов, во время перерыва подошёл один из его секретарей. Он передал ему небольшую записку и незаметно, как и положено исполнительному секретарю, скрылся, отправившись по своим текущим делам.
Председатель внимательно прочитал содержание записки, посмотрел на сидящих перед его трибуной депутатов и взял в руку привычный деревянный молоточек. После первого же удара молоточком по большому дубовому столу шум голосов в зале быстро стих, а все депутаты с удивлением посмотрели на председателя: ведь перерыв между заседаниями только что начался, и никто даже не успел выйти из зала.
— Господа конгрессмены! — громко обратился в зал Гаррисон. — Только что мне сообщили, что в Швейцарии скончался генерал Тадеуш Бонавентура Костюшко.
Все замерли в ожидании продолжения речи председателя, но он не спешил говорить, а замолчал, о чём-то думая и собираясь с мыслями. Из жизни ушёл человек, совершивший немало достойных поступков ради независимости его страны и свободы её граждан. Будущему президенту Соединённых Штатов хотелось сказать что-то такое, чтобы все присутствующие в этом зале навсегда запомнили имя Тадеуша Костюшко и сохранили в памяти его заслуги перед отечеством.
— Костюшко — мученик свободы... Слава его будет жить до тех пор, пока свобода будет властвовать над миром, — торжественно и громко подвёл Гаррисон итог жизни человека с такой удивительной судьбой, и все депутаты почтили его память вставанием и минутой молчания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

оляки и литвины, которые продолжали воевать после последнего раздела своего государства и низложения Станислава Августа Понятовского, сражаясь в армиях различных монархов, по сути стали обыкновенными наёмниками. Но они в корне отличались от тех наёмников, которым было всё равно, за кого и за что рисковать своей жизнью. Лишь бы хорошо платили и без задержек. Солдаты и офицеры Речи Посполитой были идейные наёмники и сражались за благородную идею восстановления государственности своей родины. Ради этой цели они отдавали жизни в сражениях на полях всей Европы и даже за её пределами.
И европейские монархи, понимая, чего хотели патриоты государства «от моря до моря», принимали с радостью их на службу и по-своему использовали их патриотизм, их храбрость, доблесть и мужество, играя на их самых сокровенных и глубоких чувствах. В пылу сражений во время боя часто можно было слышать слова проклятия и отчаяния на одном и том же языке, когда солдаты двух противостоящих армий убивали друг друга. В этом была их трагедия, трагедия всего народа, проживавшего на территории Речи Посполитой. Поэтому по всей современной Польше стоят памятники героям того сложного времени, а благодарные потомки возлагают к ним цветы, отдавая дань уважения их борьбе.
Костюшко и Ян Домбровский, Понятовские, Чарторыские, Потоцкие, Огинские, Сапеги, Радзивиллы — вот далеко не полный перечень известных фамилий, создававших на протяжении веков историю Речи Посполитой. Их историческое наследие богато и насыщено, достойно изучения и уважения потомков. Неизвестные истории шляхтичи, люди из простого народа, отдавшие свои жизни за свободу и единство своей родины, — все они достойны памяти и почитания как пример героизма и беззаветной любви к Отчизне.
Каждое утро на плацу Военной академии США в Вест-Пойнте под исполнение государственного гимна курсанты торжественно поднимают на флагштоке флаг Соединённых Штатов. На территории этого уважаемого военного учебного заведения стоит бронзовый памятник Тадеушу Бонавентура Костюшко, который напоминает будущим офицерам, что в этой жизни многое можно успеть сделать, если у тебя есть цель. И кто посвящает себя служению этой цели, тот может успеть совершить за одну жизнь столько, сколько хватило бы для двух обычных людей.
В одном из городов штата Нью-Джерси после продолжительной трели школьного звонка десятки учеников, радостные от предоставленной им свободы движения, спешат домой. Выбегая из школы навстречу своим родителям, они по привычке уже не замечают памятную доску, которая висит на стене. Но родители, ожидая своих непоседливых детей, от нечего делать уже в который раз читают на ней надпись: «Kosciushko School».
На фоне девственных лесов Австралии видна высокая гора. У её подножия стоит щит с надписью, что данная гора является самой высокой точкой в Австралии высотой 2230 метров над уровнем моря и названа в честь Тадеуша Бонавентура Костюшко. А если какой-нибудь упрямый альпинист взойдёт на её вершину, то его взору предстанет аналогичная надпись, заставляя после возвращения домой заглянуть в справочники, чтобы выяснить, кто же носил это достойное имя.
Если подняться на смотровую площадку старинного польского города Кракова, то откроется прекрасная картина, которой так любят любоваться все туристы. Рассматривая здания и архитектуру города-музея, можно заметить на холме Вавель королевский замок и кафедральный собор. Именно здесь нашли свой последний приют останки человека, который прожил такую удивительную и героическую жизнь. А рядом с костёлом насыпан курган, у подножия которого каждый человек может прочитать: «КУРГАН КОСТЮШКО».
В Варшаве и Вашингтоне, в Бресте и Бостоне, в Филадельфии и Париже и ещё во многих городах мира увековечена память Анджея Тадеуша Бонавентура Костюшко — человека-легенды с такой удивительной судьбой.
Примечания
1
Название г. Вильнюс до 1939 г.
(обратно)
2
День крещения совпал с днём, отмеченным в католическом календаре как день памяти святого Бонавентурия, и с этого момента дважды крещённого малыша стали звать полным именем — Андрей (Анджей) Бонавентура Тадеуш Костюшко.
(обратно)
3
Первый фаворит великой княгини и будущей императрицы России Екатерины II.
(обратно)
4
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович (1693—1768) — русский государственный деятель, дипломат, канцлер, генерал-фельдмаршал.
(обратно)
5
Только от Англии Бестужев получал 12 000 рублей пенсии ежегодно.
(обратно)
6
Пётр Семёнович Салтыков (1698—1772), государственный и военный деятель, русский генерал-фельдмаршал, известен рядом побед в Семилетней войне с Пруссией.
(обратно)
7
Сын покойной российской императрицы Анны Иоанновны слабоумный Иоанн Антонович находился в казематах Шлиссельбургской крепости. Был заколот своими надсмотрщиками согласно указаниям при попытке офицера Мироновича освободить его и возвести на российский престол.
(обратно)
8
После прихода к власти Екатерины II Алексею Бестужеву были возвращены все титулы и звания, присвоено звание генерал-фельдмаршала.
(обратно)
9
Процедура избрания короля.
(обратно)
10
Станислав Понятовский имя Август приписал себе после коронации.
(обратно)
11
Шведский астролог, который случайно попал в поместье Понятовских — Волчин, предсказал непосредственно при рождении сына князя Понятовского, что тот будет польским королём.
(обратно)
12
Ныне ректорат Варшавского университета.
(обратно)
13
Сосновский, будучи писарем Великого княжества Литовского, занимал военную должность начальника штаба литовского войска.
(обратно)
14
После первого раздела Речи Посполитой поляки отделились от иностранных отделов, образовав ложу «Испытанных друзей».
(обратно)
15
Автор гимна князь епископ Варминский.
(обратно)
16
За время пребывания в Париже Костюшко так привык к этому напитку, что утренняя чашка кофе стала для него постоянной традицией на всю жизнь.
(обратно)
17
Кроме корабля, купленного маркизом де Лафайетом и полностью им оснащённого, за его средства была экипирована и вооружена дивизия в 1200 человек, а также оплачены подарки для индейских вождей и частичные расходы на одержание Северной армии.
(обратно)
18
Масон, дипломат, учёный, член Российской академии наук.
(обратно)
19
Второй президент США.
(обратно)
20
В результате визита этих посланцев Континентальная армия получила от Франции заем на 1 миллион ливров, не считая оружия и боеприпасов.
(обратно)
21
В самих колониях не было единства среди колонистов. ПАТРИОТЫ готовы были сражаться с оружием в руках за независимость. ЛОЯЛИСТЫ, напротив, остались верны английской короне и также с оружием в руках выступали на её стороне. Поэтому Война за независимость одновременно была и первой гражданской войной на территории современных Соединённых Штатов. Третью и большую группу населения колоний всё-таки составляли НЕЙТРАЛЫ, которые просто выжидали, чем же это противостояние закончится.
(обратно)
22
Накануне крупный контингент британских войск под командованием генерала Уильяма Хоу высадился на американском берегу английских колоний недалеко от Нью-Йорка, и на предложение британского генерала сдаться Вашингтон дал решительный отказ.
(обратно)
23
Генерал Израиль Патнэм в это время возглавлял вооружённые силы Филадельфии.
(обратно)
24
Первый председатель Верховного суда США и губернатор штата Нью-Йорк.
(обратно)
25
Первая статья этого исторического документа почти полностью вошла в основной мирный договор, подписанный 3 сентября 1783 года в Париже в Версале.
(обратно)
26
До подписания Бенджамином Франклином Декларации прав человека он долгое время выступал за мирное урегулирование конфликта между колонистами и Великобританией.
(обратно)
27
Генерал Грин умер в 1789 году.
(обратно)
28
Находится на территории современной Беларуси.
(обратно)
29
Государственный деятель Речи Посполитой, магнат, меценат, композитор, писатель.
(обратно)
30
Находится на территории современной Беларуси.
(обратно)
31
Находится на территории современной Беларуси.
(обратно)
32
29 марта 1790 года между Речью Посполитой и Пруссией был заключён оборонительный трактат, предусматривающий взаимную военную помощь на случай иностранного вооружённого нападения на одну из сторон.
(обратно)
33
«Не согласны».
(обратно)
34
Безбородко Александр Андреевич, государственный деятель Российской империи, гурман, любитель женщин, один из богатейших чиновников России того времени.
(обратно)
35
Приставку «де» в своём имени маркиз убрал сразу после революционных событий в Париже.
(обратно)
36
В связи с отсутствием денег в казне революционное правительство Франции в 1790 году выпустило в обращение бумажные ассигнаты, заменив ими монеты из драгоценных металлов.
(обратно)
37
Герцог Орлеанский выступал на суде над монархом Франции как главный свидетель обвинения.
(обратно)
38
Бывшая площадь Людовика XV, сегодня — площадь Согласия.
(обратно)
39
В те годы в моду вошла игра с картами с изображением видных революционных деятелей Франции: Робеспьера, Дантона, Марата и других лидеров Французской революции.
(обратно)
40
После окончания войны 1794 года генерал Ильгестрем женился на графине Залусской, официально оформив отношения, которые и без этого были близкими.
(обратно)
41
После штурма Праги во французской и английской печати Суворова стали называть кровожадным полудемоном.
(обратно)
42
Михаил Понятовский, родной брат Станислава Августа Понятовского. Во время войны 1794 года вёл переписку с прусским королём, но был разоблачён. Принял яд, чтобы избежать позорной смерти через повешение.
(обратно)
43
Сигизмунд III Ваза, король польский и великий князь литовский с 1587 по 1632, король шведский с 1592 по 1599 год, сын шведского короля Юхана III из династии Ваза.
(обратно)
44
Жигимонт I Старый — великий князь литовский; король польский с 1506 по 1548 год.
(обратно)
45
Мужчины этого княжеского рода принимали активное участие в войнах против России и в восстании Костюшко, а сам Иосиф Любомирский во время войны 1792 года находился у него в подчинении.
(обратно)
46
До перехода в православие российская императрица звалась непривычным для русского слуха длинным именем София-Мария-Доротея-Августа-Луиза.
(обратно)
47
На деньги Костюшко стараниями Томаса Джефферсона в 1826 году была открыта школа для негритянских детей.
(обратно)
48
Монах Авель предсказал точную дату смерти Екатерине II, «предупредил» о времени и насильственно!! смерти Павла I, напророчил Александру I год сожжена и французами Москвы, смерть Николая I, определил копен царствования всей династии Романовых, описал в своей книге две мировые войны и «уточнил» конец света в 2892 году.
(обратно)
49
Позже, в 1802 году, Наполеон провёл через сенат декрет о пожизненности своих полномочий, а затем в 1804 году провозгласил себя императором французов.
(обратно)
50
Дочь французского государственного деятеля Жака Неккера, писательница.
(обратно)
51
После низложения Наполеона король Людовик XVIII в 1815 году назначит Фуше министром полиции в «министерстве Талейрана — Фуше», но вскоре по требованию своих приближённых отстранит навсегда его от этой кормушки.
(обратно)
52
Рыцарь без страха и упрёка.
(обратно)
53
Только князь Радзивилл за свой счёт вооружил и поставил в армию Наполеона трёхтысячный уланский полк, а обыкновенный помещик Игнатий Манюшко за свои деньги выставил тысячный конно-егерский полк.
(обратно)
54
Впоследствии Наполеон честно признался, что он опоздал оставить Москву на пять дней.
(обратно)
55
В битве при Боско в томик «История Тридцатилетней войны» Шиллера, который Домбровский носил с собой, попала ружейная пуля, спасшая тогда ему жизнь.
(обратно)
56
Домбровский не долго был сенатором: в 1816 году он вышел в отставку по болезни, а 6 июня 1818 года умер в своём имении Винной Гуре под Познанью.
(обратно)
Оглавление
Часть первая
НАЧАЛО ПУТИ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
Часть вторая
ЗДРАВСТВУЙ, АМЕРИКА!
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Часть третья
ВОЗВРАЩЕНИЕ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
Часть четвёртая
ВТОРАЯ СУДЬБА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
*** Примечания ***


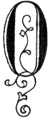 хотники прислушались к лаю собак: где-то недалеко натасканные опытными псарями четвероногие помощники человека гнали зверя прямо к месту их последней смертельной схватки. Наконец, прямо на Людвига Костюшко и Юзефа Сосновского выскочил огромный секач, а за ним все его перепуганное семейство: кабаниха и четыре подсвинка. На секунду секач вдруг остановился, почуяв опасность, и резко свернул в сторону густого кустарника, уводя за собой кабаниху с поросятами. Но этот путь оказался для них кратчайшей дорогой к смерти, которую человек заранее приготовил для отступления именно в этом направлении.
Загнанный в непроходимую чащу, окружённый собаками, загонщиками и охотниками, секач повернулся своими огромными и острыми клыками в сторону своих убийц. С налитыми кровью глазами, он готовился стоять насмерть, защищая свою лесную семью. Расправа длилась недолго: люди оказались сильнее и хитрее зверей, и вскоре всё стадо после короткого и кровопролитного сражения пало под выстрелами мушкетов и ударами пик.
Уже около недели Людвиг Костюшко гостил в поместье у своего соседа и друга молодости Юзефа Сосновского, писаря Великого княжества Литовского. За это время ими было немало выпито хорошего французского вина и домашней крепкой настойки, обсуждено злободневных столичных и местных новостей. Сосновский же, благодаря своей должности, хорошо был осведомлён обо всём, так как постоянно находился в гуще всех политических событий, происходящих в Речи Посполитой и за её пределами.
Но всему приходит конец на этом свете, и дорогой гость собрался уезжать домой, оставляя хозяина коротать короткие зимние дни и длинные вечера со своими слугами и женой. Теперь пани Сосновская будет требовать от мужа, чтобы они вернулись назад в Варшаву. Его супруга так не хотела покидать столичное общество и, пусть не на долгое время, перебираться в деревенскую глухомань.
Утром, когда снег уже начинал искриться под лучами зимнего солнца, на крыльцо усадьбы, закутавшись в дорогую медвежью шубу, вышел сам хозяин поместья и всей округи. После вчерашней выпивки у него болела голова, и он с радостью втягивал в себя морозный свежий воздух, чувствуя, что головная боль с каждым глубоким вдохом проходит. В тридцать пять лет Юзеф Сосновский от частых застолий с хорошей выпивкой и перееданием уже имел приличный животик, который он затягивал широким кожаным ремнём, но ограничивать себя в чём-то он не хотел. Писарь любил шумные компании, охоту и душевные беседы с друзьями, с которыми он часами мог говорить о войне, о политике и о своей молодой жене, которую он искренне обожал и боготворил.
Сосновский посмотрел, как слуги загружают тяжёлую тушу секача на повозку Людвига Костюшко, и обратился к своему другу, который вышел за ним из дома, застёгивая на ходу свою старую, местами потёртую волчью шубу:
— Смотри, Людвиг, какой красавец! Не зря мы с тобой охотились пять дней: наконец-то удача и нам улыбнулась.
Юзеф Сосновский с удовольствием вспомнил вчерашнюю охоту, довольный проведённым временем со старым другом.
— А что, дружа, может, ещё побудешь у меня пару дней? Что тебе зимой дома делать среди своей малочисленной челяди и жены с детьми? Да и мне веселей. А там, смотришь, и до весны недалеко, — со смехом предложил гостеприимный хозяин. Он ещё надеялся, что в последний момент Людвиг махнёт на всё рукой и останется хоть на пару дней у него погостить. Иначе жена не даст ему погрешить хорошей выпивкой. Хотя и правильно делает — в этой глуши одному без дела и спиться недолго.
Людвиг Костюшко улыбнулся на предложение Сосновского. Посмотрев на свою повозку, ответил ему:
— Надо ехать. Дома уже неделю не был, да и Тэкля должна скоро родить, сам знаешь, срок подходит.
Сосновский сразу перестал улыбаться и уже серьёзным голосом добавил:
— Ну, тогда с Богом... А жене передавай от меня привет. Кого ждёте: мальчика или девочку?
Людвиг задумался. Он хотел сына. Две дочки у него уже бегали по дому, а младший сын Иосиф только-только начал ходить.
— Да кого Бог пошлёт, скоро уже узнаем, — ответил он своему другу, задумчиво глядя куда-то вдаль, в сторону дороги, по которой должен был сейчас уехать домой.
— Так ты мне сообщи тогда, пришли весточку соседу, — попросил участливо Юзеф.
— Ты будешь первый, кто узнает об этой новости, — пообещал Людвиг. — А пока прощай. Спасибо за хлеб и соль.
Друзья юности обнялись, хлопая друг друга по плечу, и Сосновский, погладив ладонью свои пышные усы, подозвал стоящего рядом слугу. Тот уже давно ждал зова хозяина и с готовностью поднёс серебряный поднос с двумя кубками, наполненными крепкой настойкой, и тарелку с кусками мелконарезанной домашней колбасы и мяса.
— Ну, давай на посошок, — предложил другу выпить перед расставанием хозяин.
Выпив и закусив перед дорогой, Людвиг подошёл к повозке. Внимательно осмотрев тушу секача, лежащего в повозке, он сел на место возницы, укрыл себе ноги овчинным тулупом и, взяв в руки вожжи, слегка ударил плетью коня.
Конь пошёл с места лёгкой трусцой, и вскоре повозка скрылась за поворотом, а огорчённый отъездом друга Сосновский вернулся в дом, чтобы отоспаться после ночных хмельных разговоров.
До усадьбы Костюшко было вёрст десять, и поэтому у Людвига было достаточно времени подумать и поразмышлять о суете сует своей жизни. Прикрыв слегка веки от непривычно яркого зимнего февральского солнца и белого снега, Людвиг вспоминал о весёлых днях молодости и о тяжёлом положении в его хозяйстве, думал о детях и беременной жене, которая готовилась стать матерью уже в четвёртый раз. А вокруг стеной стояли заснеженные деревья, и было так тихо, как бывает в лесу только в сильный мороз. В такое время все звери и птицы, спрятавшись в укромных норах и гнёздах, терпеливо в полусонном состоянии ждут прихода весны и тёплых дней.
Постепенно темнело, но Людвига это не смущало: он уже подъезжал по лесной дороге к деревне Сехновичи, крестьяне которой были его собственностью. Только хороших доходов всё его хозяйство со всеми крепостными крестьянами не приносило. У Людвига постоянно болела голова о том, где взять денег на обустройство самой усадьбы, на покупку хороших лошадей и на поддержание всего хозяйства, которому постоянно требовались внимание и всё новые финансовые вложения.
Соседи-помещики считали, что Людвиг бывает слишком добрым к своим крепостным. Он не применял к ним телесных наказаний, не продавал их за долги и даже собирался заменить барщину простым налогом. В душе Людвиг понимал, что в этом мире существует разница в социальном статусе людей, и даже считал, что рабский труд непроизводительный. Когда у него было хорошее настроение, во время застолья в кругу равных себе небогатых шляхтичей, он мог похвастаться, что собирается дать «вольную» своим крепостным, и доказывал, что пришло время менять отношения между холопами и их хозяевами. Однако на следующее утро Людвиг трезвел и своё намерение так и не претворял в жизнь: боялся остаться совсем без доходов. Может быть, именно из-за нерешительности и мягкости он ничего не мог поправить в своём хозяйстве, как ни старался. Снова и снова Людвиг Костюшко брал ссуды, закладывая усадьбу, а потом вынужден был забирать у крепостных крестьян часть их урожая, чтобы погасить закладную. И так повторялось из года в год.
Где-то в лесу завыли волки, и лошадь, услышав звуки, устрашающие всех представителей её породы, без понукания и плётки резво ускорила свой бег. Людвиг, вслух вспомнив чёрта и всех святых одновременно, с опаской посмотрел в сторону леса. Волчий вой доносился из глубины стоящих стеной деревьев, и вряд ли волки смогли бы по глубокому снегу за короткое время нагнать повозку, даже если бы они прямо сейчас выскочили из-за деревьев. До дома оставалось ещё версты три, и, немного успокоившись, Людвиг опять вернулся к своим размышлениям.
В гости к Костюшко давно уже никто не приезжал, да и сам Людвиг гостей не приглашал. В округе его считали обедневшим шляхтичем, и «вельможное панство» не особо стремилось с ним общаться. Только друг молодости Юзеф Сосновский, который занимал при королевском дворе такую важную должность, приглашал по-соседски поохотиться вместе да попить вина, изредка приезжая из Варшавы или из Вильно[1] в своё поместье. Тогда они вспоминали весёлые времена молодости, судачили о прошедших годах, о красивых паненках, в которых были тайно влюблены, и обсуждали прошлое, настоящее и будущее Великого княжества Литовского и Польши. При этом открыто ругали то короля, то вольнолюбивую и неуправляемую шляхту, которая постоянно находилась с ним в оппозиции.
По всей Речи Посполитой шли непрекращающиеся войны между враждующими партиями, которые создавали конфедерации, стремясь захватить власть и диктовать свои права на сеймах. Магнаты, которые имели большинство голосов на сеймах, преследуя личные интересы, пытались оказывать влияние на короля Августа III и на всю внутреннюю и внешнюю политику страны. Сам же король в своём правлении страной опирался на силу оружия русских гарнизонов, расположенных по всей Речи Посполитой. Фактически территория страны постоянно находилась в огне гражданской войны, которая то временами затихала, то вновь разгоралась с новой силой.
Польша по сути являлась военным государством, и главной реальной силой в ней была армия, в которой служила в основном шляхта. Она-то и определяла в свою пользу отношение к верховной власти. Воспитанная поколениями в духе своей исключительности и независимости, шляхта добилась таких свобод, что вполне законно могла создать конфедерацию и организовать вооружённое восстание против правительства и короля. Для этого достаточно было только объединить вокруг себя недовольных политикой короля, опубликовать свои недовольства и выдвигаемые при этом требования, подписать конфедерационный акт и предъявить его в присутственном месте. И сразу вооружённое восстание получало законность, а конфедерация под командованием своего маршала начинала военные действия против существующей в стране власти.
А недовольные в Речи Посполитой были всегда! И это явственно было видно во время сейма, который собирался один раз в два года. При этом для проведения в жизнь на таком представительном собрании какого-нибудь решения требовалось только единогласие всех присутствующих депутатов. Поэтому любой продажный депутат, получив от заинтересованной партии определённую сумму, мог сорвать сейм и принятие решения, используя знаменитое право liberum veto, то есть провозглашение своего несогласия.
— Ты понимаешь, что они, пся крев, творят! — возмущённо грохотал Сосновский после выпитого очередного кубка с вином. — Да за последние 10 лет все сеймы были сорваны из-за какого-нибудь идиота, который считает, что очередным законом его права будут чем-то ущемлены.
Сосновский в сердцах стукнул огромным кулаком по столу и позвал к себе слугу:
— Принеси ещё вина. Видишь, мой кубок опустел, — потом повернулся опять к Людвигу и уже тихо сказал: — Надо срочно что-то менять в Речи Посполитой. Но изменить положение можно только в союзе с сильными и влиятельными людьми, лучшими представителями шляхты. А сильные у нас кто?
Сосновский внимательно испытующим взглядом глядел на Людвига. Захмелевший Людвиг также посмотрел на товарища и вместо ответа спросил:
— Кто?
Сосновский повертел головой по сторонам, как будто он находился не дома, а в каком-нибудь многолюдном месте, перегнулся через стол, правой рукой притянул к себе голову Людвига и прошептал ему на ухо:
— Чарторыские, — и, отпустив голову друга, уже громким и утверждающим тоном добавил: — Только они сегодня являются той силой, которая сможет короля «поставить на место» и провести тот исторический сейм, где будет определено будущее родины. Пора идти в ногу со временем, а не плестись на задворках Европы, оглядываясь то на Россию, то на Францию.
Они ещё долго о чём-то говорили, спорили, но прошлое не переделаешь и вспять время не повернёшь.
Чуть более десяти лет назад, в октябре 1734 года, епископ Гозий под охраной русского генерала Ласси объявил под деревней Каменем избрание Августа III королём Польши. Это историческое событие сопровождалось грохотом тридцати русских орудий. Их залпы подтверждали одобрение Россией принятого решения и в то же время являлись предупреждением инакомыслящим. А незадолго до этого примас Фёдор Потоцкий приглашал шляхту единогласно высказаться на сеймиках и отдать своё голоса за Станислава Лещинского. Этот магнат уже давно пытался завладеть польской короной, однако все его попытки не увенчались успехом.
Сам же Фёдор Потоцкий ненавидел Россию так же сильно, как и немцев, хотя и был в родстве с царским домом, а до крещения пребывал при дворе русского царя Алексея Михайловича. Русские и немцы были для него злейшими врагами, с которыми он собирался сражаться всю свою жизнь. Но это сражение он всё-таки проиграл: российская дипломатия сумела его обыграть в этом политическом противостоянии, и Август III на долгие годы стал королём Польши. А Станислав Лещинский вместе с примасом и главнейшими сенаторами бежал сначала в Гданьск, а затем в Крулевец под защиту прусского короля, надеясь на помощь своего зятя — французского короля Людовика XV.
Французы «услышали» Лещинского и даже объявили войну Австрии, обнадёжив обиженного в восстановлении его в правах на польскую корону. Однако надежды несостоявшегося короля остались только надеждами. Вместо того, чтобы стремиться к захвату Саксонии и к соединению с солдатами Лещинского, две французские армии ограничились занятием пограничных провинций, которые Франция впоследствии собиралась прирезать к своим территориям. Французы не смогли устоять перед натиском русской армии и саксонскими пушками, да особенно и не стремились ввязываться в долгую затяжную войну.
Результатом этих вооружённых столкновений стал Венский трактат 1735 года. Этот исторический документ обязал Лещинского отречься от притязаний на престол в обмен на уступку ему в пожизненное владение Лотарингии и Бара. По смерти же Лещинского эти территории будут присоединены к Франции. Да здравствует международная дипломатия! Все участники этого конфликта остались довольны конечным результатом. Остался ли доволен Лещинский? Конечно, нет. Ведь он-то рассчитывал на польскую корону.
Созванный в 1736 году сейм заплатил за русское вмешательство в данный внутригосударственный конфликт своей конституцией, которая признала за новым королём право распоряжаться Курляндией после смерти последнего Кеттлера. А сам Август III без лишних слов и дискуссий передал Курляндию России, выполнив свои обязательства по трактату, который он заключил с петербургским двором...
Про все значащие события, которые происходили в стране, Людвиг Костюшко узнавал на поветовых сеймиках или при общении с Юзефом Сосновским. Его друг молодости смог дослужиться до высокой государственной должности и был в курсе всех событий. Он неоднократно выступал на сеймах маршалком и был ярым сторонником семьи Чарторыских и проводимой ими политики. При этом Сосновский служил им верой и правдой и был предан «семье», как собака, за что был у них в особой милости и являлся их доверенным лицом.
Будучи участником или просто свидетелем политических интриг, которые развивались при дворе польского короля и на сеймах, Сосновский обсуждал с Людвигом все события, которые там происходили. При этом друзьями выпивалась не одна бутылка хорошего французского вина или крепкой домашней наливки. Все политические новости и просто сплетни других европейских дворов, о которых Сосновский узнавал через дипломатический каналы или в высшем обществе Речи Посполитой также становились предметом обсуждений двух таких разных людей, как литовский писарь и обедневший шляхтич.
При последней встрече у них было много времени поговорить друг с другом о политике, о личной жизни, о проблемах, которых хватало у обоих. Но Людвиг мало жаловался на свою жизнь старому другу а всё больше слушал. Ему не хотелось, чтобы Юзеф Сосновский узнал именно от него о бедственном положении семьи. Наверняка он стал бы предлагать Людвигу свою помощь, а гордость шляхтича и личные амбиции не позволяли ему унижаться и просить помощи у других. Вот взять деньги под залог хозяйства Людвиг Костюшко мог, а пойти по миру с протянутой рукой — никогда.
Людвиг хорошо знал и помнил своё родословное древо: как-никак, а его прапрадед Константин был нотарием великого князя литовского Жигимонта Старого. Дипломатические документы, которые выводил Константин своим красивым почерком, умиляли князя. Может быть, за эти способности молодого нотария либо за природную смекалку и красоту молодого человека старый князь по-своему любил Константина и ласково называл его Костюшко, откуда и пошла их родовая фамилия.
Когда же его молодой и красивый слуга встретил свою будущую жену, которая ответила ему взаимной симпатией, то в личной жизни Костюшко князь Жигимонт решил принять самое активное участие. По его инициативе и при личном посредничестве Константин посватался ни к кому-нибудь, а к дочери князя Гольшанского! Сложно сказать, чем руководствовался князь Гольшанский, отдавая свою дочь за безродного, но красивого нотария. Однако свадьба всё-таки состоялась, и через этот брак простой нотарий Константин Костюшко породнился с королевской династией Ягайловичей.
Больше подобных браков в роду Костюшко не было. Остальные представители этой фамилии занимали скромные должности в местах, где они проживали. Дед Людвига, Амбражей Костюшко, служил писарем в земском суде, а его внук дослужился только до мечника Брестского воеводства. Имея звание полковника (хотя в армии никогда не служил), Людвиг всю сознательную жизнь жил как помещик на своей усадьбе.
Помещиком он был с очень скромными, по сравнению с соседями, доходами. Да и какие доходы могли принести Людвигу его крепостные крестьяне в деревне Сехновичи, в которой насчитывалось всего 19 дворов. А тут ещё постоянные проблемы в стране: непрекращающиеся междоусобные войны среди шляхты, которые довели государство до нищенского состояния. Неразбериха на сеймах, где представители различных партий находились в постоянном конфликте, усугубляла политическое и экономическое состояние Речи Посполитой. В последнее время депутаты сейма никогда не приходили к единому мнению, а польский король попал в зависимость от «дружеской» помощи государств-соседей.
А все государственные проблемы оказывались проблемами всего народа Речи Посполитой: жить становилось всё труднее, налоги всё ощутимее. То тут, то там вспыхивали стихийные крестьянские бунты, которые заканчивались обычно поджогом поместий. Но большинство крестьян на открытое выступление против своего хозяина не решались, так как понимали, что их положение было бесправным и безнадёжным. Поэтому ропот недовольных ограничивался чаще ворчанием и жалобами в кругу своих семей или в корчме за кружкой хмельной браги, распиваемой с такими же горемыками.
Уже на въезде в деревню на повороте Людвиг увидел цыганскую повозку. Видно было, что в ней сломалась ось: пожилой цыган что-то пробовал сделать с колесом, но со злостью ругнувшись на своём языке, бросил колесо и закурил трубку. Возле повозки застыла цыганка неопределённого, как и многие цыганки, возраста, а рядом с ней стояли два цыганёнка лет 12—13. Увидев приближающуюся повозку Людвига, цыганята побежали к ней навстречу, а цыганка, кутаясь от холодного ветра в тёплый короткий кожушок, расшитый цветными нитями, направилась за ними. Однако походка её была неспешная, а лицо выражало спокойствие и, казалось, полное безразличие к окружающему миру.
Подъехав к цыгану, Людвиг придержал коня и спросил:
— Ну что, ромалэ, не выдержал твой тарантас дальней дороги?
Цыган ничего не ответил пану, но к Людвигу подошла цыганка, метя снег широкой цветастой юбкой, и смело и одновременно загадочно обратилась к нему, сверкая карими глазами:
— Ясновельможный пан, давай погадаю: расскажу, что было и что будет, а ты, красавец, дашь денежку для малых детишек.
— Нет у меня сегодня денег для тебя и твоей детворы. Что было — я знаю, а что будет только Богу известно, — ответил цыганке Людвиг.
Но упрямая дочь полей и дорог, подруга вольного ветра не отступала:
— Окажи милость, дай руку, — настойчиво просила она.
Цыганка протянула Людвигу свою руку, предлагая ему сделать то же самое.
— А впрочем, держи, гадай, — ответил Людвиг наглой бабе и, ухмыляясь, снял рукавицу с левой руки и протянул ей руку.
Цыганка взялась двумя руками за кисть, повернула её ладонью вверх, поводила своим указательным пальцем по бороздкам и тихо проговорила:
— Вижу, пан, что не просто тебе живётся, хоть и дом у тебя есть, и холопы, и семья. Но главное — гость у тебя в доме дожидается. — Цыганка подняла глаза на Людвига и добавила: — Гость этот — большим человеком будет... Великие люди будут гордиться, что знакомы с ним, и будут добиваться его дружбы. Уважение и почёт будет он иметь в этом мире.
Людвиг, продолжая ухмыляться, отдёрнул ладонь и надел рукавицу.
— Гостей дома не жду, да и сам я давно дома не был, а именитые и знаменитые ко мне давненько уже не приезжали. Да и что им делать в этом забытом Богом краю, — ответил он жёстко, как отрезал. — Ну, спасибо тебе, ромалэ, развлекла меня немного. А теперь отойди от коня, а то зашибу или покалечу.
Махнув в сторону окраины деревни, где была видна кузница, Людвиг добавил:
— Езжайте к кузнецу, скажите ему, что Людвиг Костюшко приказал починить вашу кибитку. А что будет, только Бог знает.
Последние слова Людвиг произнёс уже в движении. Он слегка ударил плёткой лошадь, и та с какой-то радостной прытью, чувствуя близость дома и полагаемого ей корма, рванула с места.
Цыганка ещё некоторое время смотрела на удаляющуюся повозку, а потом промолвила тихо, качая головой:
— Езжай, пан, встречай своего гостя... — и направилась назад к старой кибитке, подметая снег широкой и длинной юбкой, покрикивая на разгулявшихся цыганят на своём непонятном обычному человеку языке.
хотники прислушались к лаю собак: где-то недалеко натасканные опытными псарями четвероногие помощники человека гнали зверя прямо к месту их последней смертельной схватки. Наконец, прямо на Людвига Костюшко и Юзефа Сосновского выскочил огромный секач, а за ним все его перепуганное семейство: кабаниха и четыре подсвинка. На секунду секач вдруг остановился, почуяв опасность, и резко свернул в сторону густого кустарника, уводя за собой кабаниху с поросятами. Но этот путь оказался для них кратчайшей дорогой к смерти, которую человек заранее приготовил для отступления именно в этом направлении.
Загнанный в непроходимую чащу, окружённый собаками, загонщиками и охотниками, секач повернулся своими огромными и острыми клыками в сторону своих убийц. С налитыми кровью глазами, он готовился стоять насмерть, защищая свою лесную семью. Расправа длилась недолго: люди оказались сильнее и хитрее зверей, и вскоре всё стадо после короткого и кровопролитного сражения пало под выстрелами мушкетов и ударами пик.
Уже около недели Людвиг Костюшко гостил в поместье у своего соседа и друга молодости Юзефа Сосновского, писаря Великого княжества Литовского. За это время ими было немало выпито хорошего французского вина и домашней крепкой настойки, обсуждено злободневных столичных и местных новостей. Сосновский же, благодаря своей должности, хорошо был осведомлён обо всём, так как постоянно находился в гуще всех политических событий, происходящих в Речи Посполитой и за её пределами.
Но всему приходит конец на этом свете, и дорогой гость собрался уезжать домой, оставляя хозяина коротать короткие зимние дни и длинные вечера со своими слугами и женой. Теперь пани Сосновская будет требовать от мужа, чтобы они вернулись назад в Варшаву. Его супруга так не хотела покидать столичное общество и, пусть не на долгое время, перебираться в деревенскую глухомань.
Утром, когда снег уже начинал искриться под лучами зимнего солнца, на крыльцо усадьбы, закутавшись в дорогую медвежью шубу, вышел сам хозяин поместья и всей округи. После вчерашней выпивки у него болела голова, и он с радостью втягивал в себя морозный свежий воздух, чувствуя, что головная боль с каждым глубоким вдохом проходит. В тридцать пять лет Юзеф Сосновский от частых застолий с хорошей выпивкой и перееданием уже имел приличный животик, который он затягивал широким кожаным ремнём, но ограничивать себя в чём-то он не хотел. Писарь любил шумные компании, охоту и душевные беседы с друзьями, с которыми он часами мог говорить о войне, о политике и о своей молодой жене, которую он искренне обожал и боготворил.
Сосновский посмотрел, как слуги загружают тяжёлую тушу секача на повозку Людвига Костюшко, и обратился к своему другу, который вышел за ним из дома, застёгивая на ходу свою старую, местами потёртую волчью шубу:
— Смотри, Людвиг, какой красавец! Не зря мы с тобой охотились пять дней: наконец-то удача и нам улыбнулась.
Юзеф Сосновский с удовольствием вспомнил вчерашнюю охоту, довольный проведённым временем со старым другом.
— А что, дружа, может, ещё побудешь у меня пару дней? Что тебе зимой дома делать среди своей малочисленной челяди и жены с детьми? Да и мне веселей. А там, смотришь, и до весны недалеко, — со смехом предложил гостеприимный хозяин. Он ещё надеялся, что в последний момент Людвиг махнёт на всё рукой и останется хоть на пару дней у него погостить. Иначе жена не даст ему погрешить хорошей выпивкой. Хотя и правильно делает — в этой глуши одному без дела и спиться недолго.
Людвиг Костюшко улыбнулся на предложение Сосновского. Посмотрев на свою повозку, ответил ему:
— Надо ехать. Дома уже неделю не был, да и Тэкля должна скоро родить, сам знаешь, срок подходит.
Сосновский сразу перестал улыбаться и уже серьёзным голосом добавил:
— Ну, тогда с Богом... А жене передавай от меня привет. Кого ждёте: мальчика или девочку?
Людвиг задумался. Он хотел сына. Две дочки у него уже бегали по дому, а младший сын Иосиф только-только начал ходить.
— Да кого Бог пошлёт, скоро уже узнаем, — ответил он своему другу, задумчиво глядя куда-то вдаль, в сторону дороги, по которой должен был сейчас уехать домой.
— Так ты мне сообщи тогда, пришли весточку соседу, — попросил участливо Юзеф.
— Ты будешь первый, кто узнает об этой новости, — пообещал Людвиг. — А пока прощай. Спасибо за хлеб и соль.
Друзья юности обнялись, хлопая друг друга по плечу, и Сосновский, погладив ладонью свои пышные усы, подозвал стоящего рядом слугу. Тот уже давно ждал зова хозяина и с готовностью поднёс серебряный поднос с двумя кубками, наполненными крепкой настойкой, и тарелку с кусками мелконарезанной домашней колбасы и мяса.
— Ну, давай на посошок, — предложил другу выпить перед расставанием хозяин.
Выпив и закусив перед дорогой, Людвиг подошёл к повозке. Внимательно осмотрев тушу секача, лежащего в повозке, он сел на место возницы, укрыл себе ноги овчинным тулупом и, взяв в руки вожжи, слегка ударил плетью коня.
Конь пошёл с места лёгкой трусцой, и вскоре повозка скрылась за поворотом, а огорчённый отъездом друга Сосновский вернулся в дом, чтобы отоспаться после ночных хмельных разговоров.
До усадьбы Костюшко было вёрст десять, и поэтому у Людвига было достаточно времени подумать и поразмышлять о суете сует своей жизни. Прикрыв слегка веки от непривычно яркого зимнего февральского солнца и белого снега, Людвиг вспоминал о весёлых днях молодости и о тяжёлом положении в его хозяйстве, думал о детях и беременной жене, которая готовилась стать матерью уже в четвёртый раз. А вокруг стеной стояли заснеженные деревья, и было так тихо, как бывает в лесу только в сильный мороз. В такое время все звери и птицы, спрятавшись в укромных норах и гнёздах, терпеливо в полусонном состоянии ждут прихода весны и тёплых дней.
Постепенно темнело, но Людвига это не смущало: он уже подъезжал по лесной дороге к деревне Сехновичи, крестьяне которой были его собственностью. Только хороших доходов всё его хозяйство со всеми крепостными крестьянами не приносило. У Людвига постоянно болела голова о том, где взять денег на обустройство самой усадьбы, на покупку хороших лошадей и на поддержание всего хозяйства, которому постоянно требовались внимание и всё новые финансовые вложения.
Соседи-помещики считали, что Людвиг бывает слишком добрым к своим крепостным. Он не применял к ним телесных наказаний, не продавал их за долги и даже собирался заменить барщину простым налогом. В душе Людвиг понимал, что в этом мире существует разница в социальном статусе людей, и даже считал, что рабский труд непроизводительный. Когда у него было хорошее настроение, во время застолья в кругу равных себе небогатых шляхтичей, он мог похвастаться, что собирается дать «вольную» своим крепостным, и доказывал, что пришло время менять отношения между холопами и их хозяевами. Однако на следующее утро Людвиг трезвел и своё намерение так и не претворял в жизнь: боялся остаться совсем без доходов. Может быть, именно из-за нерешительности и мягкости он ничего не мог поправить в своём хозяйстве, как ни старался. Снова и снова Людвиг Костюшко брал ссуды, закладывая усадьбу, а потом вынужден был забирать у крепостных крестьян часть их урожая, чтобы погасить закладную. И так повторялось из года в год.
Где-то в лесу завыли волки, и лошадь, услышав звуки, устрашающие всех представителей её породы, без понукания и плётки резво ускорила свой бег. Людвиг, вслух вспомнив чёрта и всех святых одновременно, с опаской посмотрел в сторону леса. Волчий вой доносился из глубины стоящих стеной деревьев, и вряд ли волки смогли бы по глубокому снегу за короткое время нагнать повозку, даже если бы они прямо сейчас выскочили из-за деревьев. До дома оставалось ещё версты три, и, немного успокоившись, Людвиг опять вернулся к своим размышлениям.
В гости к Костюшко давно уже никто не приезжал, да и сам Людвиг гостей не приглашал. В округе его считали обедневшим шляхтичем, и «вельможное панство» не особо стремилось с ним общаться. Только друг молодости Юзеф Сосновский, который занимал при королевском дворе такую важную должность, приглашал по-соседски поохотиться вместе да попить вина, изредка приезжая из Варшавы или из Вильно[1] в своё поместье. Тогда они вспоминали весёлые времена молодости, судачили о прошедших годах, о красивых паненках, в которых были тайно влюблены, и обсуждали прошлое, настоящее и будущее Великого княжества Литовского и Польши. При этом открыто ругали то короля, то вольнолюбивую и неуправляемую шляхту, которая постоянно находилась с ним в оппозиции.
По всей Речи Посполитой шли непрекращающиеся войны между враждующими партиями, которые создавали конфедерации, стремясь захватить власть и диктовать свои права на сеймах. Магнаты, которые имели большинство голосов на сеймах, преследуя личные интересы, пытались оказывать влияние на короля Августа III и на всю внутреннюю и внешнюю политику страны. Сам же король в своём правлении страной опирался на силу оружия русских гарнизонов, расположенных по всей Речи Посполитой. Фактически территория страны постоянно находилась в огне гражданской войны, которая то временами затихала, то вновь разгоралась с новой силой.
Польша по сути являлась военным государством, и главной реальной силой в ней была армия, в которой служила в основном шляхта. Она-то и определяла в свою пользу отношение к верховной власти. Воспитанная поколениями в духе своей исключительности и независимости, шляхта добилась таких свобод, что вполне законно могла создать конфедерацию и организовать вооружённое восстание против правительства и короля. Для этого достаточно было только объединить вокруг себя недовольных политикой короля, опубликовать свои недовольства и выдвигаемые при этом требования, подписать конфедерационный акт и предъявить его в присутственном месте. И сразу вооружённое восстание получало законность, а конфедерация под командованием своего маршала начинала военные действия против существующей в стране власти.
А недовольные в Речи Посполитой были всегда! И это явственно было видно во время сейма, который собирался один раз в два года. При этом для проведения в жизнь на таком представительном собрании какого-нибудь решения требовалось только единогласие всех присутствующих депутатов. Поэтому любой продажный депутат, получив от заинтересованной партии определённую сумму, мог сорвать сейм и принятие решения, используя знаменитое право liberum veto, то есть провозглашение своего несогласия.
— Ты понимаешь, что они, пся крев, творят! — возмущённо грохотал Сосновский после выпитого очередного кубка с вином. — Да за последние 10 лет все сеймы были сорваны из-за какого-нибудь идиота, который считает, что очередным законом его права будут чем-то ущемлены.
Сосновский в сердцах стукнул огромным кулаком по столу и позвал к себе слугу:
— Принеси ещё вина. Видишь, мой кубок опустел, — потом повернулся опять к Людвигу и уже тихо сказал: — Надо срочно что-то менять в Речи Посполитой. Но изменить положение можно только в союзе с сильными и влиятельными людьми, лучшими представителями шляхты. А сильные у нас кто?
Сосновский внимательно испытующим взглядом глядел на Людвига. Захмелевший Людвиг также посмотрел на товарища и вместо ответа спросил:
— Кто?
Сосновский повертел головой по сторонам, как будто он находился не дома, а в каком-нибудь многолюдном месте, перегнулся через стол, правой рукой притянул к себе голову Людвига и прошептал ему на ухо:
— Чарторыские, — и, отпустив голову друга, уже громким и утверждающим тоном добавил: — Только они сегодня являются той силой, которая сможет короля «поставить на место» и провести тот исторический сейм, где будет определено будущее родины. Пора идти в ногу со временем, а не плестись на задворках Европы, оглядываясь то на Россию, то на Францию.
Они ещё долго о чём-то говорили, спорили, но прошлое не переделаешь и вспять время не повернёшь.
Чуть более десяти лет назад, в октябре 1734 года, епископ Гозий под охраной русского генерала Ласси объявил под деревней Каменем избрание Августа III королём Польши. Это историческое событие сопровождалось грохотом тридцати русских орудий. Их залпы подтверждали одобрение Россией принятого решения и в то же время являлись предупреждением инакомыслящим. А незадолго до этого примас Фёдор Потоцкий приглашал шляхту единогласно высказаться на сеймиках и отдать своё голоса за Станислава Лещинского. Этот магнат уже давно пытался завладеть польской короной, однако все его попытки не увенчались успехом.
Сам же Фёдор Потоцкий ненавидел Россию так же сильно, как и немцев, хотя и был в родстве с царским домом, а до крещения пребывал при дворе русского царя Алексея Михайловича. Русские и немцы были для него злейшими врагами, с которыми он собирался сражаться всю свою жизнь. Но это сражение он всё-таки проиграл: российская дипломатия сумела его обыграть в этом политическом противостоянии, и Август III на долгие годы стал королём Польши. А Станислав Лещинский вместе с примасом и главнейшими сенаторами бежал сначала в Гданьск, а затем в Крулевец под защиту прусского короля, надеясь на помощь своего зятя — французского короля Людовика XV.
Французы «услышали» Лещинского и даже объявили войну Австрии, обнадёжив обиженного в восстановлении его в правах на польскую корону. Однако надежды несостоявшегося короля остались только надеждами. Вместо того, чтобы стремиться к захвату Саксонии и к соединению с солдатами Лещинского, две французские армии ограничились занятием пограничных провинций, которые Франция впоследствии собиралась прирезать к своим территориям. Французы не смогли устоять перед натиском русской армии и саксонскими пушками, да особенно и не стремились ввязываться в долгую затяжную войну.
Результатом этих вооружённых столкновений стал Венский трактат 1735 года. Этот исторический документ обязал Лещинского отречься от притязаний на престол в обмен на уступку ему в пожизненное владение Лотарингии и Бара. По смерти же Лещинского эти территории будут присоединены к Франции. Да здравствует международная дипломатия! Все участники этого конфликта остались довольны конечным результатом. Остался ли доволен Лещинский? Конечно, нет. Ведь он-то рассчитывал на польскую корону.
Созванный в 1736 году сейм заплатил за русское вмешательство в данный внутригосударственный конфликт своей конституцией, которая признала за новым королём право распоряжаться Курляндией после смерти последнего Кеттлера. А сам Август III без лишних слов и дискуссий передал Курляндию России, выполнив свои обязательства по трактату, который он заключил с петербургским двором...
Про все значащие события, которые происходили в стране, Людвиг Костюшко узнавал на поветовых сеймиках или при общении с Юзефом Сосновским. Его друг молодости смог дослужиться до высокой государственной должности и был в курсе всех событий. Он неоднократно выступал на сеймах маршалком и был ярым сторонником семьи Чарторыских и проводимой ими политики. При этом Сосновский служил им верой и правдой и был предан «семье», как собака, за что был у них в особой милости и являлся их доверенным лицом.
Будучи участником или просто свидетелем политических интриг, которые развивались при дворе польского короля и на сеймах, Сосновский обсуждал с Людвигом все события, которые там происходили. При этом друзьями выпивалась не одна бутылка хорошего французского вина или крепкой домашней наливки. Все политические новости и просто сплетни других европейских дворов, о которых Сосновский узнавал через дипломатический каналы или в высшем обществе Речи Посполитой также становились предметом обсуждений двух таких разных людей, как литовский писарь и обедневший шляхтич.
При последней встрече у них было много времени поговорить друг с другом о политике, о личной жизни, о проблемах, которых хватало у обоих. Но Людвиг мало жаловался на свою жизнь старому другу а всё больше слушал. Ему не хотелось, чтобы Юзеф Сосновский узнал именно от него о бедственном положении семьи. Наверняка он стал бы предлагать Людвигу свою помощь, а гордость шляхтича и личные амбиции не позволяли ему унижаться и просить помощи у других. Вот взять деньги под залог хозяйства Людвиг Костюшко мог, а пойти по миру с протянутой рукой — никогда.
Людвиг хорошо знал и помнил своё родословное древо: как-никак, а его прапрадед Константин был нотарием великого князя литовского Жигимонта Старого. Дипломатические документы, которые выводил Константин своим красивым почерком, умиляли князя. Может быть, за эти способности молодого нотария либо за природную смекалку и красоту молодого человека старый князь по-своему любил Константина и ласково называл его Костюшко, откуда и пошла их родовая фамилия.
Когда же его молодой и красивый слуга встретил свою будущую жену, которая ответила ему взаимной симпатией, то в личной жизни Костюшко князь Жигимонт решил принять самое активное участие. По его инициативе и при личном посредничестве Константин посватался ни к кому-нибудь, а к дочери князя Гольшанского! Сложно сказать, чем руководствовался князь Гольшанский, отдавая свою дочь за безродного, но красивого нотария. Однако свадьба всё-таки состоялась, и через этот брак простой нотарий Константин Костюшко породнился с королевской династией Ягайловичей.
Больше подобных браков в роду Костюшко не было. Остальные представители этой фамилии занимали скромные должности в местах, где они проживали. Дед Людвига, Амбражей Костюшко, служил писарем в земском суде, а его внук дослужился только до мечника Брестского воеводства. Имея звание полковника (хотя в армии никогда не служил), Людвиг всю сознательную жизнь жил как помещик на своей усадьбе.
Помещиком он был с очень скромными, по сравнению с соседями, доходами. Да и какие доходы могли принести Людвигу его крепостные крестьяне в деревне Сехновичи, в которой насчитывалось всего 19 дворов. А тут ещё постоянные проблемы в стране: непрекращающиеся междоусобные войны среди шляхты, которые довели государство до нищенского состояния. Неразбериха на сеймах, где представители различных партий находились в постоянном конфликте, усугубляла политическое и экономическое состояние Речи Посполитой. В последнее время депутаты сейма никогда не приходили к единому мнению, а польский король попал в зависимость от «дружеской» помощи государств-соседей.
А все государственные проблемы оказывались проблемами всего народа Речи Посполитой: жить становилось всё труднее, налоги всё ощутимее. То тут, то там вспыхивали стихийные крестьянские бунты, которые заканчивались обычно поджогом поместий. Но большинство крестьян на открытое выступление против своего хозяина не решались, так как понимали, что их положение было бесправным и безнадёжным. Поэтому ропот недовольных ограничивался чаще ворчанием и жалобами в кругу своих семей или в корчме за кружкой хмельной браги, распиваемой с такими же горемыками.
Уже на въезде в деревню на повороте Людвиг увидел цыганскую повозку. Видно было, что в ней сломалась ось: пожилой цыган что-то пробовал сделать с колесом, но со злостью ругнувшись на своём языке, бросил колесо и закурил трубку. Возле повозки застыла цыганка неопределённого, как и многие цыганки, возраста, а рядом с ней стояли два цыганёнка лет 12—13. Увидев приближающуюся повозку Людвига, цыганята побежали к ней навстречу, а цыганка, кутаясь от холодного ветра в тёплый короткий кожушок, расшитый цветными нитями, направилась за ними. Однако походка её была неспешная, а лицо выражало спокойствие и, казалось, полное безразличие к окружающему миру.
Подъехав к цыгану, Людвиг придержал коня и спросил:
— Ну что, ромалэ, не выдержал твой тарантас дальней дороги?
Цыган ничего не ответил пану, но к Людвигу подошла цыганка, метя снег широкой цветастой юбкой, и смело и одновременно загадочно обратилась к нему, сверкая карими глазами:
— Ясновельможный пан, давай погадаю: расскажу, что было и что будет, а ты, красавец, дашь денежку для малых детишек.
— Нет у меня сегодня денег для тебя и твоей детворы. Что было — я знаю, а что будет только Богу известно, — ответил цыганке Людвиг.
Но упрямая дочь полей и дорог, подруга вольного ветра не отступала:
— Окажи милость, дай руку, — настойчиво просила она.
Цыганка протянула Людвигу свою руку, предлагая ему сделать то же самое.
— А впрочем, держи, гадай, — ответил Людвиг наглой бабе и, ухмыляясь, снял рукавицу с левой руки и протянул ей руку.
Цыганка взялась двумя руками за кисть, повернула её ладонью вверх, поводила своим указательным пальцем по бороздкам и тихо проговорила:
— Вижу, пан, что не просто тебе живётся, хоть и дом у тебя есть, и холопы, и семья. Но главное — гость у тебя в доме дожидается. — Цыганка подняла глаза на Людвига и добавила: — Гость этот — большим человеком будет... Великие люди будут гордиться, что знакомы с ним, и будут добиваться его дружбы. Уважение и почёт будет он иметь в этом мире.
Людвиг, продолжая ухмыляться, отдёрнул ладонь и надел рукавицу.
— Гостей дома не жду, да и сам я давно дома не был, а именитые и знаменитые ко мне давненько уже не приезжали. Да и что им делать в этом забытом Богом краю, — ответил он жёстко, как отрезал. — Ну, спасибо тебе, ромалэ, развлекла меня немного. А теперь отойди от коня, а то зашибу или покалечу.
Махнув в сторону окраины деревни, где была видна кузница, Людвиг добавил:
— Езжайте к кузнецу, скажите ему, что Людвиг Костюшко приказал починить вашу кибитку. А что будет, только Бог знает.
Последние слова Людвиг произнёс уже в движении. Он слегка ударил плёткой лошадь, и та с какой-то радостной прытью, чувствуя близость дома и полагаемого ей корма, рванула с места.
Цыганка ещё некоторое время смотрела на удаляющуюся повозку, а потом промолвила тихо, качая головой:
— Езжай, пан, встречай своего гостя... — и направилась назад к старой кибитке, подметая снег широкой и длинной юбкой, покрикивая на разгулявшихся цыганят на своём непонятном обычному человеку языке.
 экля с волнением ждала возвращения мужа. Людвига она любила, но иногда у неё появлялся страх за детей, за себя, за всю семью, за хозяйство, которое постепенно приходило в упадок. Это был не просто какой-то человеческий страх перед чем-то ужасным, а скорее волнение перед неизвестным будущим, которое могло бы стать причиной изменения того образа жизни, к которому она привыкла с детства.
Тэкля родилась в семье православных зажиточных помещиков Ратомских. Семья была большая, а крепкое хозяйство вызывало уважение и зависть у соседей. Её же отец, за свою рассудительность и деловую смекалку, в округе, где они жили, заслуженно имел репутацию добропорядочного семьянина и рачительного хозяина. И всё-таки местное панство вскоре нашло повод поговорить о делах семьи Ратомских в кругу представителей женского пола. Эта вечная, как сама жизнь, тема долго обсуждалась на «девичниках» не только среди солидных мамок, имеющих многочисленное семейство, но и среди молодых паненок, которые были на выданье.
А повод для таких пересудов всем предоставил красивый польский шляхтич Людвиг Костюшко, который прислал сватов в дом Ратомских. «Купец» был уже в солидном для жениха возрасте, когда все решения принимаются самостоятельно: где и с кем жить, что и сколько сеять и кому предложить стать его спутницей в этой грешной жизни. Но когда сваты прибыли к месту назначения за «товаром», то родители Тэкли, молодой 18-летней красавицы, не хотели открывать ворота для таких гостей. Причина же такой неприязни к сватам была только одна — все члены семьи Костюшко были католиками, а все предки Ратомских до пятого колена были православными.
Такая религиозная неприязнь обычно не выражалась открыто между семьями различной веры, проживающих в одной местности. Однако в душе каждого католика или православного сидел маленький чертёнок, который мутил религиозную воду, Этот бес не давал душам людей спокойно принимать тот факт, что люди перед Богом все одинаковы и равны. Даже несмотря на их веру и на то, как они крестятся: справа налево или наоборот. А тут ещё ксёндзы с одной стороны, а православные священники с другой стороны не совсем лестно отзываются друг о друге на воскресных проповедях. Разжигая религиозную неприязнь к инакомыслящим, «святые отцы» лишний раз давали повод простым смертным косо смотреть на своего соседа, призывая помнить о вере, которую каждый из них преподносил как единственно правильную и истинную.
Где Людвиг познакомился с Тэклей и встретился с ней в первый раз, когда успели они договориться между собой, об этом, к большому сожалению местных сплетниц, никто толком пояснить не мог. Стремление влюблённых связать себя узами брака было обоюдное и желанное, но как же не хотел отец семейства Ратомских отдавать свою дочь замуж в семью католиков! Однако ему пришлось всё-таки смириться перед грозным предупреждением дочери, что она примет подстриг и уйдёт в монастырь, если отец не даст своего согласия на этот брак. Да и подобные смешанные браки в Польше были не редкость. То тут, то там слышались пересуды по поводу очередного брака, когда молодой жених и молодая невеста воспитывались в семьях, исповедующих различные религии. Но если подобное происходило среди «ясновельможных» панов, то что уж тут осуждать простых смертных.
Достаточно много времени прошло с того часа, когда Людвиг и Тэкля стали мужем и женой, и две их дочки и сын уже заполнили их счастливую жизнь. В семье царил полный патриархат: если Тэкля и делала какое-нибудь предложение по поводу обустройства их хозяйства, то последнее слово чаще всего оставалось за Людвигом, её мужем. Но если серьёзные семейные разногласия становились неразрешёнными, а никто из супругов не шёл на уступки, то Людвиг уезжал из дому на охоту на несколько дней к кому-нибудь из соседских помещиков или направлялся в Вильно. Там он любил походить по городу, посетить друзей, выпить с ними чарку-другую, обсуждая последние новости в государстве и свои личные проблемы. После того как заканчивались деньги, а обсуждать больше было нечего, Людвиг возвращался домой. Спокойно, как ни в чём не бывало он продолжал свою помещичью жизнь, и к неразрешённой проблеме по молчаливому согласию супруги больше не возвращались.
Людвиг подъехал к крыльцу двухъярусного с камышовой крышей дома. От спины лошади валил пар, и Людвиг серьёзно забеспокоился, чтобы не застудить коня. Внезапно двери дома отворились, и к повозке подбежала кормилица его детей. Радостно улыбаясь, на ходу поправляя наброшенный в спешке полушубок, она почти прокричала своему хозяину:
— Наконец-то, пан Людвиг! Радость-то у нас какая! Пани Тэкля родила сына!
Людвиг бросил поводья подбежавшему к нему конюху и быстрым шагом вошёл в дом.
В доме везде горели свечи, освещая каждый тёмный угол. Его возвращения давно уже ждали с волнением. Тем более, что на это была серьёзная причина. Жена хозяина не только родила ему сына в его отсутствие, но и крестила новорождённого в православной церкви. Вопрос, какой веры будет их будущий ребёнок, послужил причиной спора и яблоком раздора между Тэклей и Людвигом ещё до его рождения. Именно по этой причине Людвиг в очередной раз уехал на несколько дней на охоту к своему соседу и другу молодости Юзефу Сосновскому.
Пани Тэкля, провожая мужа в поместье Сосновских, намекала ему, что надеется на благосклонность Людвига к православию (ведь разрешал же он ей ходить в православную церковь и не требовал от жены менять вероисповедание на католическое), предлагала крестить будущего младенца в православной церкви. Однако Людвиг был категорически против этой затеи жены и считал это женской блажью. Он настаивал на том, что крестить ребёнка следует только по католическим обрядам. Тэкля была женщиной с характером и всё равно сделала по-своему в отсутствие мужа. Вот об этой новости никто, кроме самой пани Тэкли, сообщить хозяину не решался, зная его вспыльчивый характер.
Людвиг прошёл в спальню жены уже не торопясь, спокойно. В полумраке комнаты стояла детская кровать, в которой лежал маленький живой комочек. Рядом с детской кроваткой сидела его жена и стояла кормилица. Увидев вошедшего мужа, Тэкля медленно, с достоинством поднялась ему навстречу. Людвиг, поцеловав в щёку жену, подошёл к кроватке с новорождённым.
— Когда родила? — его вопрос был ожидаем, но всё равно для Тэкли он стал определённым испытанием.
— Шесть дней прошло... Людвиг, я хочу тебе сказать...
Тэкля робко начала свою оправдательную речь, уже не ожидая ничего хорошего от своих признаний.
— ...я хочу тебе сказать, что мы уже крестили малыша и назвали Анджеем-Андреем.
Людвиг хмуро повернулся к жене. Кормилица застыла в ожидании гнева хозяина. Да и Тэкля чувствовала, что муж сейчас может на неё повысить голос, выказывая тем самым своё недовольство оттого, что сделала жена в его отсутствие (как это было раньше, когда кто-нибудь совершал какой-нибудь поступок, с которым Людвиг не хотел соглашаться). Но вспышки гнева от хозяина, на удивление всех присутствующих в доме, не последовало, но прозвучал от него новый вопрос:
— В своей православной церкви?
— Да, в церкви, к которой я принадлежу душой, — услышал Людвиг от жены немедленный ответ. В её тоне звучал вызов.
Однако Людвиг не стал ругаться с супругой. Он только сказал ей тоном, по которому стало всем понятно, что всё равно будет так, как он решил:
— Нет, дорогая, этот младенец родился литвином. Поэтому он будет креститься в том храме, в котором был крещён его отец.
Людвиг замолчал, ожидая возражений жены. Однако Тэкля была мудрой женщиной: она опустила голову и промолчала, а её муж, видя покорность жены, продолжил:
— А на крещение надо позвать наших кумовьёв: старосту кушлицкого Казимира Наркусского и пинского Протасевича, да и к госпоже пани Суходольской пошли кого-нибудь с приглашением.
Людвиг осторожно принял младенца от кормилицы. Та с радостью, что хозяева так мирно уладили такой совсем не простой семейный вопрос, осторожно передала отцу его сына. Не желая портить себе и своей жене настроение, Людвиг действительно сдержал свой гнев. Да и что он мог сказать той, которая раньше родила ему сына и двух дочек, а этот младенец у него на руках был уже четвёртым посланцем от Господа в его семье? Ведь это он оставил беременную жену и уехал к другу покутить и поохотиться. Вот она и воспользовалась его отсутствием, крестила сына без него. С характером его жена, ох с характером... Но и сам Людвиг тоже не подарок. Так что надо теперь достойно выходить из сложившейся ситуации.
— Вот чёртова цыганка, нагадала мне. Ну, здравствуй «гость», — тихо прошептал отец на ушко своему младшему сыну, низко нагнувшись к его красному личику. Малышу это движение отца, видимо, не очень понравилось: он начал морщиться, открывать срой маленький ротик, как будто хотел выразить свой младенческий протест на то, что его неожиданно разбудили и почему-то не дают есть. А какой-то непривычно большой и усатый дядька носит его на руках и пугает малыша, поднося к своему небритому и ещё холодному с мороза лицу.
В комнату вошли, слегка подталкиваемые в спину кормилицей, старшие дети: Ганна и Екатерина. Они робко смотрели на отца в непривычной для них обстановке, когда в небольшой комнате собралось так много народа. Людвиг поднёс новорождённого к старшим дочерям, повернул его к ним лицом и произнёс назидательно:
— Смотрите, дети, вот ваш братик. Любите его и берегите, не обижайте. Скоро, очень скоро он станет большим человеком.
Людвиг засмеялся, вспомнив гадание цыганки, а Тэкля с удивлением посмотрела на мужа, никак не ожидая от него такой реакции после своего признания. А её супруг, продолжая улыбаться и качать младенца, шептал ему на ухо:
— Ну, герой, начинаем жить и совершать подвиги?
Но малыш его уже не слышал. Опять засыпая и сопя маленьким носом, он находился в той своей младенческой дремоте, когда сны ещё не снятся, а если и снятся, то большим взрослым людям о том ничего не известно.
Не прошло и недели, как в морозный февральский день в небольшом коссовском костёле, недалеко от дворца графа Пуловского в Меречевщизне, уже священник-католик, преподобный отец Раймунд Корсак, крестил повторно младенца Людвига Костюшко. Во время крещения приглашённый в качестве свидетеля этого обряда староста Казимир Наркусский, наклонив голову к уху стоящей рядом с ним пани Суходольской, тихо прошептал ей:
— Назвали в честь святого Бонавентурия[2].
Тэкля стояла рядом с мужем тихая и покорная.
Она понимала, что ничего уже не сможет сделать или поправить. Да и надо ли это делать... «Бог один, — утешала она сама себя, — и он разберётся со всеми на том свете: кто прав, а кто нет».
Сам же виновник торжества вёл себя во время крещения смирно: не кричал, не плакал и не капризничал. Он как будто понимал важность совершаемых священником действий и не нарушал детским голосом торжественность момента.
экля с волнением ждала возвращения мужа. Людвига она любила, но иногда у неё появлялся страх за детей, за себя, за всю семью, за хозяйство, которое постепенно приходило в упадок. Это был не просто какой-то человеческий страх перед чем-то ужасным, а скорее волнение перед неизвестным будущим, которое могло бы стать причиной изменения того образа жизни, к которому она привыкла с детства.
Тэкля родилась в семье православных зажиточных помещиков Ратомских. Семья была большая, а крепкое хозяйство вызывало уважение и зависть у соседей. Её же отец, за свою рассудительность и деловую смекалку, в округе, где они жили, заслуженно имел репутацию добропорядочного семьянина и рачительного хозяина. И всё-таки местное панство вскоре нашло повод поговорить о делах семьи Ратомских в кругу представителей женского пола. Эта вечная, как сама жизнь, тема долго обсуждалась на «девичниках» не только среди солидных мамок, имеющих многочисленное семейство, но и среди молодых паненок, которые были на выданье.
А повод для таких пересудов всем предоставил красивый польский шляхтич Людвиг Костюшко, который прислал сватов в дом Ратомских. «Купец» был уже в солидном для жениха возрасте, когда все решения принимаются самостоятельно: где и с кем жить, что и сколько сеять и кому предложить стать его спутницей в этой грешной жизни. Но когда сваты прибыли к месту назначения за «товаром», то родители Тэкли, молодой 18-летней красавицы, не хотели открывать ворота для таких гостей. Причина же такой неприязни к сватам была только одна — все члены семьи Костюшко были католиками, а все предки Ратомских до пятого колена были православными.
Такая религиозная неприязнь обычно не выражалась открыто между семьями различной веры, проживающих в одной местности. Однако в душе каждого католика или православного сидел маленький чертёнок, который мутил религиозную воду, Этот бес не давал душам людей спокойно принимать тот факт, что люди перед Богом все одинаковы и равны. Даже несмотря на их веру и на то, как они крестятся: справа налево или наоборот. А тут ещё ксёндзы с одной стороны, а православные священники с другой стороны не совсем лестно отзываются друг о друге на воскресных проповедях. Разжигая религиозную неприязнь к инакомыслящим, «святые отцы» лишний раз давали повод простым смертным косо смотреть на своего соседа, призывая помнить о вере, которую каждый из них преподносил как единственно правильную и истинную.
Где Людвиг познакомился с Тэклей и встретился с ней в первый раз, когда успели они договориться между собой, об этом, к большому сожалению местных сплетниц, никто толком пояснить не мог. Стремление влюблённых связать себя узами брака было обоюдное и желанное, но как же не хотел отец семейства Ратомских отдавать свою дочь замуж в семью католиков! Однако ему пришлось всё-таки смириться перед грозным предупреждением дочери, что она примет подстриг и уйдёт в монастырь, если отец не даст своего согласия на этот брак. Да и подобные смешанные браки в Польше были не редкость. То тут, то там слышались пересуды по поводу очередного брака, когда молодой жених и молодая невеста воспитывались в семьях, исповедующих различные религии. Но если подобное происходило среди «ясновельможных» панов, то что уж тут осуждать простых смертных.
Достаточно много времени прошло с того часа, когда Людвиг и Тэкля стали мужем и женой, и две их дочки и сын уже заполнили их счастливую жизнь. В семье царил полный патриархат: если Тэкля и делала какое-нибудь предложение по поводу обустройства их хозяйства, то последнее слово чаще всего оставалось за Людвигом, её мужем. Но если серьёзные семейные разногласия становились неразрешёнными, а никто из супругов не шёл на уступки, то Людвиг уезжал из дому на охоту на несколько дней к кому-нибудь из соседских помещиков или направлялся в Вильно. Там он любил походить по городу, посетить друзей, выпить с ними чарку-другую, обсуждая последние новости в государстве и свои личные проблемы. После того как заканчивались деньги, а обсуждать больше было нечего, Людвиг возвращался домой. Спокойно, как ни в чём не бывало он продолжал свою помещичью жизнь, и к неразрешённой проблеме по молчаливому согласию супруги больше не возвращались.
Людвиг подъехал к крыльцу двухъярусного с камышовой крышей дома. От спины лошади валил пар, и Людвиг серьёзно забеспокоился, чтобы не застудить коня. Внезапно двери дома отворились, и к повозке подбежала кормилица его детей. Радостно улыбаясь, на ходу поправляя наброшенный в спешке полушубок, она почти прокричала своему хозяину:
— Наконец-то, пан Людвиг! Радость-то у нас какая! Пани Тэкля родила сына!
Людвиг бросил поводья подбежавшему к нему конюху и быстрым шагом вошёл в дом.
В доме везде горели свечи, освещая каждый тёмный угол. Его возвращения давно уже ждали с волнением. Тем более, что на это была серьёзная причина. Жена хозяина не только родила ему сына в его отсутствие, но и крестила новорождённого в православной церкви. Вопрос, какой веры будет их будущий ребёнок, послужил причиной спора и яблоком раздора между Тэклей и Людвигом ещё до его рождения. Именно по этой причине Людвиг в очередной раз уехал на несколько дней на охоту к своему соседу и другу молодости Юзефу Сосновскому.
Пани Тэкля, провожая мужа в поместье Сосновских, намекала ему, что надеется на благосклонность Людвига к православию (ведь разрешал же он ей ходить в православную церковь и не требовал от жены менять вероисповедание на католическое), предлагала крестить будущего младенца в православной церкви. Однако Людвиг был категорически против этой затеи жены и считал это женской блажью. Он настаивал на том, что крестить ребёнка следует только по католическим обрядам. Тэкля была женщиной с характером и всё равно сделала по-своему в отсутствие мужа. Вот об этой новости никто, кроме самой пани Тэкли, сообщить хозяину не решался, зная его вспыльчивый характер.
Людвиг прошёл в спальню жены уже не торопясь, спокойно. В полумраке комнаты стояла детская кровать, в которой лежал маленький живой комочек. Рядом с детской кроваткой сидела его жена и стояла кормилица. Увидев вошедшего мужа, Тэкля медленно, с достоинством поднялась ему навстречу. Людвиг, поцеловав в щёку жену, подошёл к кроватке с новорождённым.
— Когда родила? — его вопрос был ожидаем, но всё равно для Тэкли он стал определённым испытанием.
— Шесть дней прошло... Людвиг, я хочу тебе сказать...
Тэкля робко начала свою оправдательную речь, уже не ожидая ничего хорошего от своих признаний.
— ...я хочу тебе сказать, что мы уже крестили малыша и назвали Анджеем-Андреем.
Людвиг хмуро повернулся к жене. Кормилица застыла в ожидании гнева хозяина. Да и Тэкля чувствовала, что муж сейчас может на неё повысить голос, выказывая тем самым своё недовольство оттого, что сделала жена в его отсутствие (как это было раньше, когда кто-нибудь совершал какой-нибудь поступок, с которым Людвиг не хотел соглашаться). Но вспышки гнева от хозяина, на удивление всех присутствующих в доме, не последовало, но прозвучал от него новый вопрос:
— В своей православной церкви?
— Да, в церкви, к которой я принадлежу душой, — услышал Людвиг от жены немедленный ответ. В её тоне звучал вызов.
Однако Людвиг не стал ругаться с супругой. Он только сказал ей тоном, по которому стало всем понятно, что всё равно будет так, как он решил:
— Нет, дорогая, этот младенец родился литвином. Поэтому он будет креститься в том храме, в котором был крещён его отец.
Людвиг замолчал, ожидая возражений жены. Однако Тэкля была мудрой женщиной: она опустила голову и промолчала, а её муж, видя покорность жены, продолжил:
— А на крещение надо позвать наших кумовьёв: старосту кушлицкого Казимира Наркусского и пинского Протасевича, да и к госпоже пани Суходольской пошли кого-нибудь с приглашением.
Людвиг осторожно принял младенца от кормилицы. Та с радостью, что хозяева так мирно уладили такой совсем не простой семейный вопрос, осторожно передала отцу его сына. Не желая портить себе и своей жене настроение, Людвиг действительно сдержал свой гнев. Да и что он мог сказать той, которая раньше родила ему сына и двух дочек, а этот младенец у него на руках был уже четвёртым посланцем от Господа в его семье? Ведь это он оставил беременную жену и уехал к другу покутить и поохотиться. Вот она и воспользовалась его отсутствием, крестила сына без него. С характером его жена, ох с характером... Но и сам Людвиг тоже не подарок. Так что надо теперь достойно выходить из сложившейся ситуации.
— Вот чёртова цыганка, нагадала мне. Ну, здравствуй «гость», — тихо прошептал отец на ушко своему младшему сыну, низко нагнувшись к его красному личику. Малышу это движение отца, видимо, не очень понравилось: он начал морщиться, открывать срой маленький ротик, как будто хотел выразить свой младенческий протест на то, что его неожиданно разбудили и почему-то не дают есть. А какой-то непривычно большой и усатый дядька носит его на руках и пугает малыша, поднося к своему небритому и ещё холодному с мороза лицу.
В комнату вошли, слегка подталкиваемые в спину кормилицей, старшие дети: Ганна и Екатерина. Они робко смотрели на отца в непривычной для них обстановке, когда в небольшой комнате собралось так много народа. Людвиг поднёс новорождённого к старшим дочерям, повернул его к ним лицом и произнёс назидательно:
— Смотрите, дети, вот ваш братик. Любите его и берегите, не обижайте. Скоро, очень скоро он станет большим человеком.
Людвиг засмеялся, вспомнив гадание цыганки, а Тэкля с удивлением посмотрела на мужа, никак не ожидая от него такой реакции после своего признания. А её супруг, продолжая улыбаться и качать младенца, шептал ему на ухо:
— Ну, герой, начинаем жить и совершать подвиги?
Но малыш его уже не слышал. Опять засыпая и сопя маленьким носом, он находился в той своей младенческой дремоте, когда сны ещё не снятся, а если и снятся, то большим взрослым людям о том ничего не известно.
Не прошло и недели, как в морозный февральский день в небольшом коссовском костёле, недалеко от дворца графа Пуловского в Меречевщизне, уже священник-католик, преподобный отец Раймунд Корсак, крестил повторно младенца Людвига Костюшко. Во время крещения приглашённый в качестве свидетеля этого обряда староста Казимир Наркусский, наклонив голову к уху стоящей рядом с ним пани Суходольской, тихо прошептал ей:
— Назвали в честь святого Бонавентурия[2].
Тэкля стояла рядом с мужем тихая и покорная.
Она понимала, что ничего уже не сможет сделать или поправить. Да и надо ли это делать... «Бог один, — утешала она сама себя, — и он разберётся со всеми на том свете: кто прав, а кто нет».
Сам же виновник торжества вёл себя во время крещения смирно: не кричал, не плакал и не капризничал. Он как будто понимал важность совершаемых священником действий и не нарушал детским голосом торжественность момента.
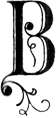 жизни каждого человека происходят события, которые по какой-то причине навсегда врезаются в его память. Он до самой смерти не забывает о них и вспоминает даже те мелочи, которые могут показаться совсем незначительными по сравнению с крутыми поворотами его судьбы. События же того летнего дня 1754 года в памяти маленького Тадеуша почему-то останутся не какими-то расплывчатыми воспоминаниями детства, а отпечатаются в его сознании с чётким ходом всего, что мальчик видел и слышал.
Прошло восемь лет после того, как младенец Тадеуш получил второе крещение. Жизнь в усадьбе Костюшко шла обычным чередом и мало чем отличалась от жизни шляхтичей, подобных Костюшко. В тот день во дворе слышался радостный голос старшего брата Иосифа, которого отец усадил на самую спокойную лошадь в хозяйстве и сегодня обучал его правильно держаться в седле. Людвиг гонял лошадь по кругу, держа в своих сильных руках длинный повод, и внимательно следил за сыном, подбадривая его голосом.
А Тадеуш в это время сидел в маленькой, но уютной комнате, читая библейские рассказы о том, как Господь сотворил Землю за шесть дней. Он никак не мог понять, как это можно сделать, и всячески пытался представить себе огромного человека, который, сидя у себя дома на Небесах, что-то делает своими тоже огромными руками, в результате чего появляется земной шар. Ведь его мать говорила, что Земля, на которой живут все люди, похожа на большой шар, а вот этого Тадеуш никак не мог понять. Почему же люди не скатываются по нему, и почему Земля всё-таки круглая — ведь сколько ни смотрел вдаль восьмилетний Тадеуш, он видел только плоские поля, засеянные пшеницей, и кое-где вдали были видны небольшие холмики, покрытые редким лесом.
Во дворе громко вскрикнул Иосиф. Лошадь дёрнулась в сторону, и мальчик чуть не свалился, теряя равновесие. Уцепившись за холку лошади, ему удалось удержаться в седле. Тадеуш услышал испуганный крик брата и выглянул в окно. Как же ему хотелось оказаться сейчас на месте Иосифа! Но отец не торопится обучать Тадеуша верховой езде, говорит, что ещё маловат. А ведь он давно читает и пишет лучше старшего брата, а математические примеры вообще Иосифу не поддаются для решения. А Тадеуш решает их быстро и правильно.
В комнату тихо вошла мать. Увидав, что Тадеуш уже не читает книгу, а внимательно смотрит во двор, она спокойно и как-то ласково спросила сына:
— Хочется погулять?
Тадеуш молча кивнул, ожидая её разрешения, и мать также кивнула, давая согласие на его прогулку.
— Иди погуляй, — добавила она. — А вечером мы продолжим урок, и ты расскажешь, что понял из того, что прочитал сегодня.
Тадеуш опять кивнул и уже через минуту стоял во дворе рядом с конюхом Яном. Внимательно наблюдая за всем, что происходило во дворе поместья, Ян одновременно степенно, не торопясь выполнял свою работу, которой всегда хватало в хозяйстве Людвига Костюшко. Вот и сейчас он сидел на небольшой лавке и клепал косу маленьким молоточком. Делая небольшой перерыв в монотонной работе, Ян сосредоточенно осматривал её, а потом опять начинал тихо постукивать по тонкому металлическому телу крестьянской трудяги.
Наконец, Людвиг остановил лошадь, подошёл к ней и помог Иосифу соскочить на землю. Посмотрев на Тадеуша и увидев в его глазах немую просьбу, Людвиг махнул рукой, подзывая к себе сына. Мальчик, ещё не веря своему счастью, робко подошёл к отцу. Сильные руки Людвига подхватили маленькое тельце, и через секунду Тадеуш уже держался за холку лошади.
«Как всё-таки высоко я сижу, и как далеко находится земля», — подумал мальчик, с гордостью осматриваясь вокруг. И вдруг его взгляд упал на толпу крестьян, которая приближалась к поместью.
Толпа была небольшая: человек шесть-семь. Это были крестьяне из деревни Сехновичи, уполномоченные от крестьянской общины, которые пришли в поместье к хозяину как просители. Крестьяне тщательно готовились к этому «походу». Они надели чистые длинные льняные рубахи с отложенными воротниками, которые их заботливые жёны украсили белой вышивкой. Широкие нарядные штаны в сборку, сшитые из разноцветных полосок, были заправлены в кожаные сапоги с мягкими голенищами. Головы «парламентёров» украшали чёрные фетровые шляпы с высокой головкой, а у некоторых были надеты мягкие круглые шапки, вытканные из белой овечьей шерсти.
Во главе этой процессии шёл неопределённого возраста бородатый мужик, староста общины. Он-то один и решился подойти к хозяину, предварительно сняв со своей лохматой, подстриженной «под горшок» головы шапку. Остальные также последовали его примеру и, смиренно опустив головы, ожидали, когда начнёт говорить их староста. А староста стоял, переминаясь с ноги на ногу, мял в руках свою шапку и не знал, с чего начать разговор с хозяином. Все слова, которые он готовился сказать по пути сюда, вылетели из головы. А ведь он должен был передать «пану Костюшко» всё, что было решено на сходе крестьянской общины. Не дождавшись объяснений от уполномоченных, первым начал разговор Людвиг:
— Ну и что это за делегация ко мне пришла? — обратился он к крестьянам, грозно сдвинув брови. — По какому поводу явились в мой двор без приглашения? А может, я приглашал, да что-то позабыл?
Интонация и слова, сказанные хозяином, не предвещали ничего хорошего для «делегатов». Некоторые уже были не рады, что согласились идти на эти переговоры. Но было уже поздно: они стояли во дворе, и хозяин ждал от них ответа на свой вопрос.
Внезапно старосту словно подменили: он перестал мять в жилистых руках шапку, расправил плечи и гордо поднял голову. Глубоко вздохнув и набрав в лёгкие больше воздуха, он коротко и громко сказал:
— Пане, не присылай больше в деревню за налогом. Сколько можно отдавать?! И так во многих семьях детям к зиме есть нечего будет.
Людвиг задумался. Он потёр свой заросший щетиной подбородок и посмотрел на «делегатов». Людвиг понимал, что крестьянам сложно выживать, когда год выдался неурожайным. Ну а кому сейчас легко?.. В то же время не ожидал, что крестьяне, к которым он относился с такой лояльностью, осмелятся прийти к нему домой с какими-то ещё требованиями. Он подошёл вплотную к старосте, скрестил на груди руки и громко, чтобы все слышали, сказал:
— Не мне отдаёте, а государству, которое вас, холопов, защищает от прусских баронов и русских генералов. А может, вы хотите, чтобы солдаты Речи Посполитой ходили в бой голодными?
Крестьяне молчали. Они почесали свои затылки и, задумавшись, смотрели друг на друга.
— Идите, идите с миром, — увещевал их Людвиг. — Ступайте к своим бабам, а то ведь я найду, куда вас направить. Прусским генералам солдаты тоже нужны, — с угрозой предупредил он, и крестьяне испуганно начали пятиться со двора. Надев головные уборы, они быстро ретировались, на ходу обсуждая, что лучше: голодать или быть проданным в какую-нибудь армию в рекруты.
Людвиг, ещё сердито пыхтя, подошёл к лошади, на которой сидел его младший сын.
Ничего не говоря, он легко вскочил на коня сзади мальчика, и лошадь тихой рысью выбежала со двора. Тадеуш со всей силы ухватился своими маленькими ручонками за холку жеребца. Он затаил дыхание от восторга новых ощущений и одновременно от чувства опасности свалиться с лошади. Отец поддерживал его правой рукой, и постепенно ощущение страха у мальчика ушло, а лошадь, проскакав через толпу общинных делегатов, вскоре довезла обоих седаков до кузницы.
Кузнец, крепкий плечистый мужчина с чёрными, как у цыган, волосами не был собственностью Костюшко. Будучи свободным человеком, он пришёл в Сехновичи откуда-то с южных окраин Польши и прижился в этих местах. Кузнецом он был отменным, а работу свою делал монотонно и добротно, чтобы не было стыдно перед заказчиками. Перед Людвигом он не заискивал, спину не гнул, по всегда здоровался первым с уважением и при этом с какой-то независимостью. В его поведении не было той рабской покорности, характерной для крепостных крестьян.
— Здравствуй, Фома, — поздоровался с кузнецом Людвиг. — Посмотри лошадь, а то что-то она хромает на левую ногу. Может, подкову надо поменять? — попросил он.
Людвиг спрыгнул на землю, приподнял Тадеуша и поставил его перед собой.
Кузнец кивнул в ответ и, осмотрев две ноги коня, отрицательно помотал головой:
— Нет, пан Людвиг, с подковами всё в порядке. А вот на левой ноге небольшая опухлость в суставе, — сделал заключение Фома. — Видимо, где-то ударилась лошадка. Но не сильно, — успокоил кузнец, — скоро пройдёт, если не нагружать скотину.
Посмотрев на Тадеуша, кузнец вернулся в кузницу и через короткое время вышел оттуда с небольшой саблей без рукоятки.Нижняя часть лезвия сабли была обмотана тряпкой. Так и подал её кузнец мальчику.
— Держи, панич, для тебя ковал. Пан Людвиг просил сделать тебе такой подарок как будущему генералу Речи Посполитой, — сказал торжественно и серьёзно кузнец, посмотрев на Людвига, и тот одобрительно закивал: мол, всё правильно.
Тадеуш крепко ухватился за саблю, а вернее за место, где в будущем должна была быть её рукоятка, и высоко поднял её над головой.
— Я могу её забрать прямо сейчас? — спросил он отца, повернувшись к нему, блестя счастливыми детскими глазами. Он уже представлял себе, как будет завидовать ему Иосиф. Ведь у него нет такой сабли!
— Пока оставь её здесь. Сначала ты пойдёшь в школу, и если будешь хорошо учиться, она станет твоей навсегда, — ответил Людвиг сыну и забрал у него саблю, а потом добавил: — Этот подарок надо ещё заслужить.
Людвиг передал саблю кузнецу, подхватил расстроенного мальчика и, посадив его в седло, сам вскочил на лошадь. Махнув на прощание кузнецу рукой, Людвиг дёрнул поводья, и лошадь неторопливо последовала в сторону дома.
жизни каждого человека происходят события, которые по какой-то причине навсегда врезаются в его память. Он до самой смерти не забывает о них и вспоминает даже те мелочи, которые могут показаться совсем незначительными по сравнению с крутыми поворотами его судьбы. События же того летнего дня 1754 года в памяти маленького Тадеуша почему-то останутся не какими-то расплывчатыми воспоминаниями детства, а отпечатаются в его сознании с чётким ходом всего, что мальчик видел и слышал.
Прошло восемь лет после того, как младенец Тадеуш получил второе крещение. Жизнь в усадьбе Костюшко шла обычным чередом и мало чем отличалась от жизни шляхтичей, подобных Костюшко. В тот день во дворе слышался радостный голос старшего брата Иосифа, которого отец усадил на самую спокойную лошадь в хозяйстве и сегодня обучал его правильно держаться в седле. Людвиг гонял лошадь по кругу, держа в своих сильных руках длинный повод, и внимательно следил за сыном, подбадривая его голосом.
А Тадеуш в это время сидел в маленькой, но уютной комнате, читая библейские рассказы о том, как Господь сотворил Землю за шесть дней. Он никак не мог понять, как это можно сделать, и всячески пытался представить себе огромного человека, который, сидя у себя дома на Небесах, что-то делает своими тоже огромными руками, в результате чего появляется земной шар. Ведь его мать говорила, что Земля, на которой живут все люди, похожа на большой шар, а вот этого Тадеуш никак не мог понять. Почему же люди не скатываются по нему, и почему Земля всё-таки круглая — ведь сколько ни смотрел вдаль восьмилетний Тадеуш, он видел только плоские поля, засеянные пшеницей, и кое-где вдали были видны небольшие холмики, покрытые редким лесом.
Во дворе громко вскрикнул Иосиф. Лошадь дёрнулась в сторону, и мальчик чуть не свалился, теряя равновесие. Уцепившись за холку лошади, ему удалось удержаться в седле. Тадеуш услышал испуганный крик брата и выглянул в окно. Как же ему хотелось оказаться сейчас на месте Иосифа! Но отец не торопится обучать Тадеуша верховой езде, говорит, что ещё маловат. А ведь он давно читает и пишет лучше старшего брата, а математические примеры вообще Иосифу не поддаются для решения. А Тадеуш решает их быстро и правильно.
В комнату тихо вошла мать. Увидав, что Тадеуш уже не читает книгу, а внимательно смотрит во двор, она спокойно и как-то ласково спросила сына:
— Хочется погулять?
Тадеуш молча кивнул, ожидая её разрешения, и мать также кивнула, давая согласие на его прогулку.
— Иди погуляй, — добавила она. — А вечером мы продолжим урок, и ты расскажешь, что понял из того, что прочитал сегодня.
Тадеуш опять кивнул и уже через минуту стоял во дворе рядом с конюхом Яном. Внимательно наблюдая за всем, что происходило во дворе поместья, Ян одновременно степенно, не торопясь выполнял свою работу, которой всегда хватало в хозяйстве Людвига Костюшко. Вот и сейчас он сидел на небольшой лавке и клепал косу маленьким молоточком. Делая небольшой перерыв в монотонной работе, Ян сосредоточенно осматривал её, а потом опять начинал тихо постукивать по тонкому металлическому телу крестьянской трудяги.
Наконец, Людвиг остановил лошадь, подошёл к ней и помог Иосифу соскочить на землю. Посмотрев на Тадеуша и увидев в его глазах немую просьбу, Людвиг махнул рукой, подзывая к себе сына. Мальчик, ещё не веря своему счастью, робко подошёл к отцу. Сильные руки Людвига подхватили маленькое тельце, и через секунду Тадеуш уже держался за холку лошади.
«Как всё-таки высоко я сижу, и как далеко находится земля», — подумал мальчик, с гордостью осматриваясь вокруг. И вдруг его взгляд упал на толпу крестьян, которая приближалась к поместью.
Толпа была небольшая: человек шесть-семь. Это были крестьяне из деревни Сехновичи, уполномоченные от крестьянской общины, которые пришли в поместье к хозяину как просители. Крестьяне тщательно готовились к этому «походу». Они надели чистые длинные льняные рубахи с отложенными воротниками, которые их заботливые жёны украсили белой вышивкой. Широкие нарядные штаны в сборку, сшитые из разноцветных полосок, были заправлены в кожаные сапоги с мягкими голенищами. Головы «парламентёров» украшали чёрные фетровые шляпы с высокой головкой, а у некоторых были надеты мягкие круглые шапки, вытканные из белой овечьей шерсти.
Во главе этой процессии шёл неопределённого возраста бородатый мужик, староста общины. Он-то один и решился подойти к хозяину, предварительно сняв со своей лохматой, подстриженной «под горшок» головы шапку. Остальные также последовали его примеру и, смиренно опустив головы, ожидали, когда начнёт говорить их староста. А староста стоял, переминаясь с ноги на ногу, мял в руках свою шапку и не знал, с чего начать разговор с хозяином. Все слова, которые он готовился сказать по пути сюда, вылетели из головы. А ведь он должен был передать «пану Костюшко» всё, что было решено на сходе крестьянской общины. Не дождавшись объяснений от уполномоченных, первым начал разговор Людвиг:
— Ну и что это за делегация ко мне пришла? — обратился он к крестьянам, грозно сдвинув брови. — По какому поводу явились в мой двор без приглашения? А может, я приглашал, да что-то позабыл?
Интонация и слова, сказанные хозяином, не предвещали ничего хорошего для «делегатов». Некоторые уже были не рады, что согласились идти на эти переговоры. Но было уже поздно: они стояли во дворе, и хозяин ждал от них ответа на свой вопрос.
Внезапно старосту словно подменили: он перестал мять в жилистых руках шапку, расправил плечи и гордо поднял голову. Глубоко вздохнув и набрав в лёгкие больше воздуха, он коротко и громко сказал:
— Пане, не присылай больше в деревню за налогом. Сколько можно отдавать?! И так во многих семьях детям к зиме есть нечего будет.
Людвиг задумался. Он потёр свой заросший щетиной подбородок и посмотрел на «делегатов». Людвиг понимал, что крестьянам сложно выживать, когда год выдался неурожайным. Ну а кому сейчас легко?.. В то же время не ожидал, что крестьяне, к которым он относился с такой лояльностью, осмелятся прийти к нему домой с какими-то ещё требованиями. Он подошёл вплотную к старосте, скрестил на груди руки и громко, чтобы все слышали, сказал:
— Не мне отдаёте, а государству, которое вас, холопов, защищает от прусских баронов и русских генералов. А может, вы хотите, чтобы солдаты Речи Посполитой ходили в бой голодными?
Крестьяне молчали. Они почесали свои затылки и, задумавшись, смотрели друг на друга.
— Идите, идите с миром, — увещевал их Людвиг. — Ступайте к своим бабам, а то ведь я найду, куда вас направить. Прусским генералам солдаты тоже нужны, — с угрозой предупредил он, и крестьяне испуганно начали пятиться со двора. Надев головные уборы, они быстро ретировались, на ходу обсуждая, что лучше: голодать или быть проданным в какую-нибудь армию в рекруты.
Людвиг, ещё сердито пыхтя, подошёл к лошади, на которой сидел его младший сын.
Ничего не говоря, он легко вскочил на коня сзади мальчика, и лошадь тихой рысью выбежала со двора. Тадеуш со всей силы ухватился своими маленькими ручонками за холку жеребца. Он затаил дыхание от восторга новых ощущений и одновременно от чувства опасности свалиться с лошади. Отец поддерживал его правой рукой, и постепенно ощущение страха у мальчика ушло, а лошадь, проскакав через толпу общинных делегатов, вскоре довезла обоих седаков до кузницы.
Кузнец, крепкий плечистый мужчина с чёрными, как у цыган, волосами не был собственностью Костюшко. Будучи свободным человеком, он пришёл в Сехновичи откуда-то с южных окраин Польши и прижился в этих местах. Кузнецом он был отменным, а работу свою делал монотонно и добротно, чтобы не было стыдно перед заказчиками. Перед Людвигом он не заискивал, спину не гнул, по всегда здоровался первым с уважением и при этом с какой-то независимостью. В его поведении не было той рабской покорности, характерной для крепостных крестьян.
— Здравствуй, Фома, — поздоровался с кузнецом Людвиг. — Посмотри лошадь, а то что-то она хромает на левую ногу. Может, подкову надо поменять? — попросил он.
Людвиг спрыгнул на землю, приподнял Тадеуша и поставил его перед собой.
Кузнец кивнул в ответ и, осмотрев две ноги коня, отрицательно помотал головой:
— Нет, пан Людвиг, с подковами всё в порядке. А вот на левой ноге небольшая опухлость в суставе, — сделал заключение Фома. — Видимо, где-то ударилась лошадка. Но не сильно, — успокоил кузнец, — скоро пройдёт, если не нагружать скотину.
Посмотрев на Тадеуша, кузнец вернулся в кузницу и через короткое время вышел оттуда с небольшой саблей без рукоятки.Нижняя часть лезвия сабли была обмотана тряпкой. Так и подал её кузнец мальчику.
— Держи, панич, для тебя ковал. Пан Людвиг просил сделать тебе такой подарок как будущему генералу Речи Посполитой, — сказал торжественно и серьёзно кузнец, посмотрев на Людвига, и тот одобрительно закивал: мол, всё правильно.
Тадеуш крепко ухватился за саблю, а вернее за место, где в будущем должна была быть её рукоятка, и высоко поднял её над головой.
— Я могу её забрать прямо сейчас? — спросил он отца, повернувшись к нему, блестя счастливыми детскими глазами. Он уже представлял себе, как будет завидовать ему Иосиф. Ведь у него нет такой сабли!
— Пока оставь её здесь. Сначала ты пойдёшь в школу, и если будешь хорошо учиться, она станет твоей навсегда, — ответил Людвиг сыну и забрал у него саблю, а потом добавил: — Этот подарок надо ещё заслужить.
Людвиг передал саблю кузнецу, подхватил расстроенного мальчика и, посадив его в седло, сам вскочил на лошадь. Махнув на прощание кузнецу рукой, Людвиг дёрнул поводья, и лошадь неторопливо последовала в сторону дома.
 танислав Понятовский возвращался в своё поместье Волчин вместе с Антонием Тизенгаузом из Гродно, где местная шляхта собиралась для выдвижения из числа своих депутатов достойного представителя в сейм Речи Посполитой. И хотя усилиями и влиянием своих родственников Чарторыских место депутата там для Станислава было «забронировано», но следовало соблюсти формальности, чтобы не дать возможности кому-нибудь из оппозиции Чарторыских усомниться в законности присутствия молодого Понятовского на главном сейме государства.
Уже недалеко оставалось до поместья, родового гнезда Понятовских, когда карета миновала стены, почерневшие от огня большого пожара 1748 года, которые когда-то представляли собой дворец магната Михаила Сапеги. Станислав был ещё тогда совсем мальчишкой, но хорошо помнил, сколько шума и пересудов наделал этот пожар в высшем свете. Так никто до сих пор и не выяснил, отчего однажды ночью загорелся дворец и кто был виноват, был ли это умышленный поджог или просто чьё-то небрежное обращение с огнём. Факт остаётся фактом: в одну из летних ночей, когда хозяева крепко спали, их разбудили громкие крики придворных слуг. Выглянув в окно и увидев, как языки пламени вырываются из окон его дворца, могущественный магнат сразу всё понял. Но каким бы он ни был могущественным, Михаил Сапега ничего не мог сделать с силой и безумной пляской огня, пожирающего всё на своём пути. Выскочив из тёплой и уютной постели в ночной сорочке, он вместе со своей семьёй через минуту уже был в парке дворца, откуда с горечью и обречённостью наблюдал, как бушующая стихия уничтожает его детище...
Воспоминания детства Станислава прервал Антоний Тизенгауз. Он с молодой горячностью продолжал рассказывать Понятовскому о том, как сделать Речь Посполитую развитым современным государством: сильным и влиятельным во всей Европе.
— Пойми, Станислав, сила любого государства прежде всего в его экономической независимости, — доказывал он свою теорию. — А когда государство имеет развитую экономику, тогда появляются деньги на содержание сильной армии, на развитие культуры, на обустройство всего общества...
Станислав Понятовский повернулся к Тизенгаузу. Всю дорогу он со вниманием больше слушал его, чем говорил сам. Прошло уже два года, как Антоний Тизенгауз, окончив школу иезуитов, впервые появился в родовом поместье Понятовских. Молодому Станиславу сразу понравился обаятельны! и общительный иезуит, и первое впечатление его не обмануло. Вскоре они сдружились и проводили вместе много времени, по молодости лет горячо обсуждая различные события в Речи Посполитой, мечта о её будущем. Не пропускали друзья в разговорах на тему личной жизни многих именитых людей, посещали званые балы и собрания, которые проводил! известные всей Речи Посполитой фамилии, а также местная зажиточная шляхта. Постепенно между этими разными по виду и положению молодым! людьми установились настолько доверительные отношения, что Станислав иногда ловил себя на мысли, что Антоний стал близок, как брат.
В то же время они были совершенно разными, С одной стороны, Станислав Понятовский, отпрыск знаменитой фамилии, родственник князей Чарторыских, слегка надменный, умный и осторожный в словах и действиях молодой повеса. С другой — обыкновенный шляхтич Антоний Тизенгауз, который своим обаянием и энергией покорил Станислава. По этой же причине молодой Понятовский сделал всё, чтобы уже через короткое время его товарищ стал кандидатом на получение звания хорунжия, о чём сам Тизенгауз ещё и не догадывался.
— А как ты думаешь, понравится ли нашим соседям, той же Пруссии или России, иметь рядом со своими границами такое независимое и сильное государство? — перебил Понятовский будущего «преобразователя» Речи Посполитой. И сам же ответил на свой вопрос, который поставил в тупик Тизенгауза. — Не понравится, и эти соседи будут делать всё, чтобы этого не произошло, — спокойно пояснил Станислав и дружески похлопал Антония по плечу.
Тизенгауз обиженно замолчал и задумался о словах Понятовского. Он был ещё далёк от большой политики и многого не понимал по молодости лет. Да и сам Станислав Понятовский только делал первые шаги в своей карьере, которую ему уже приготовили его близкие родственники. Станислав прекрасно понимал, что пройдёт ещё немного времени, и он надолго, если не навсегда, расстанется с Антонием. У каждого из них своя дорога жизни, но Понятовский хорошо запомнил слова товарища и где-то в глубине сознания включил его в список людей, которые ему в будущем смогут принести хоть какую-нибудь пользу.
Переехав мост через реку с красивым и странным названием Пульва, карета въехала в Волчин и вскоре остановилась возле костёла Святой Троицы. Это было строение в стиле позднего барокко, не похожее на обычные близлежащие в округе костёлы. Будучи творением итальянского архитектора, этот костёл, построенный через год после рождения Станислава Понятовского, представлял собой здание с четырьмя равносторонними стенами и достойно возвышался над домами простых мирян. В то же время костёл не подавлял их величием и органически вписывался в окружающую его местность.
Со стен божьего храма за житейской суетой мирян наблюдали четыре массивные статуи евангелистов, а на оригинальной башне часы-куранты боем периодически сообщали тем же мирянам, что время их жизни на этой грешной земле истекает. Они как бы предлагали задуматься о суете мирской жизни и покаяться в своих земных грехах до второго пришествия Спасителя.
Антоний Тизенгауз вышел из кареты и направился к костёлу, чтобы помолиться о судьбе своей родины. Понятовский же продолжил путь к поместью в одиночестве, глубоко о чём-то задумавшие! А задуматься было о чём: пройдёт совсем немного времени, и Станислав Понятовский окунётся в новую для себя жизнь и столкнётся с массой новы людей. Некоторые из них станут для него большими мостами или маленькими мостиками к его будущему возвышению, а кто-то выбьет из-под ни: опоры и подтолкнёт Станислава к невозвратном падению.
При общении молодой Станислав Понятовский мог казаться обыкновенным молодым повесой и ловеласом. Однако в глубине мыслей он рассуждая трезво и ясно, давая оценку каждому своему и чужому слову, тому или иному событию. В своих жизненных планах Станислав Понятовский видел себя в будущем не меньше чем канцлером Речи Посполитой. Он неоднократно в разговоре с родственником Адамом Чарторыским намекал на желание проявить свои способности в решении внешних политических вопросов при каком-нибудь европейском дворе. Но опытный и мудрый глава рода не торопил события. Конечно, Адам Чарторыский имел свои виды на Станислава Понятовского, не считал, что всему своё время, и «подготовил» племяннику для первого испытания место депутата в сейме Речи Посполитой.
Сейм оказался хорошей школой жизни для будущего короля. Станислав Понятовский сразу был замечен как сторонниками Чарторыских, так и их оппозицией. Он присутствовал на всех заседаниях сейма и отличался от многих депутатов ораторский талантом, убедительной уверенной речью, а также своими вопросами, которые молодой Понятовский задавал оппонентам.
Начиная карьеру депутатом сейма Речи Посполитой с 1752 года, Станислав Понятовский оправдал доверие фамилии Чарторыских и уже через пару лет вёл праздную жизнь дипломата при французском королевском дворе, которая его вполне устраивала. Родина с её вечными проблемами находилась где-то далеко, зато рядом было высшее французское общество, очаровательные молодые француженки из того общества, любовные и политические интриги... Что ещё надо молодому и обаятельному поляку-дипломату?
Но в 1757 году Понятовский был вызван в Варшаву на аудиенцию к польскому королю Августу III как кандидат на дипломатическую службу при русском дворе. Поговорив для соблюдения правил приличия и этикета со Станиславом Понятовским в присутствии Адама Чарторыского, король одобрил его кандидатуру на столь ответственную должность и отправился на охоту. Адам Чарторыский не последовал за королём, а подошёл к племяннику и сделал ему по-родственному напутствие:
— Ну, дерзай, Станислав! Родину помни и всё делай ради её блага. Пусть даже тебе придётся делать то, чего никогда бы ранее не сделал.
Молодой дипломат понимающе кивал головой, хотя плохо соображал, что хотел сказать его дядюшка. Но главное он уяснил: про вольную французскую жизнь ему надо забыть, однако его карьера продвигается в нужном направлении и цель стать ведущим политиком Речи Посполитой приобретает всё более чёткие контуры. Его ждёт загадочная и холодная Россия с её не менее загадочным народом. Чем закончится его дипломатическая карьера при российском дворе императрицы Елизаветы Петровны, Понятовский даже не предполагал.
танислав Понятовский возвращался в своё поместье Волчин вместе с Антонием Тизенгаузом из Гродно, где местная шляхта собиралась для выдвижения из числа своих депутатов достойного представителя в сейм Речи Посполитой. И хотя усилиями и влиянием своих родственников Чарторыских место депутата там для Станислава было «забронировано», но следовало соблюсти формальности, чтобы не дать возможности кому-нибудь из оппозиции Чарторыских усомниться в законности присутствия молодого Понятовского на главном сейме государства.
Уже недалеко оставалось до поместья, родового гнезда Понятовских, когда карета миновала стены, почерневшие от огня большого пожара 1748 года, которые когда-то представляли собой дворец магната Михаила Сапеги. Станислав был ещё тогда совсем мальчишкой, но хорошо помнил, сколько шума и пересудов наделал этот пожар в высшем свете. Так никто до сих пор и не выяснил, отчего однажды ночью загорелся дворец и кто был виноват, был ли это умышленный поджог или просто чьё-то небрежное обращение с огнём. Факт остаётся фактом: в одну из летних ночей, когда хозяева крепко спали, их разбудили громкие крики придворных слуг. Выглянув в окно и увидев, как языки пламени вырываются из окон его дворца, могущественный магнат сразу всё понял. Но каким бы он ни был могущественным, Михаил Сапега ничего не мог сделать с силой и безумной пляской огня, пожирающего всё на своём пути. Выскочив из тёплой и уютной постели в ночной сорочке, он вместе со своей семьёй через минуту уже был в парке дворца, откуда с горечью и обречённостью наблюдал, как бушующая стихия уничтожает его детище...
Воспоминания детства Станислава прервал Антоний Тизенгауз. Он с молодой горячностью продолжал рассказывать Понятовскому о том, как сделать Речь Посполитую развитым современным государством: сильным и влиятельным во всей Европе.
— Пойми, Станислав, сила любого государства прежде всего в его экономической независимости, — доказывал он свою теорию. — А когда государство имеет развитую экономику, тогда появляются деньги на содержание сильной армии, на развитие культуры, на обустройство всего общества...
Станислав Понятовский повернулся к Тизенгаузу. Всю дорогу он со вниманием больше слушал его, чем говорил сам. Прошло уже два года, как Антоний Тизенгауз, окончив школу иезуитов, впервые появился в родовом поместье Понятовских. Молодому Станиславу сразу понравился обаятельны! и общительный иезуит, и первое впечатление его не обмануло. Вскоре они сдружились и проводили вместе много времени, по молодости лет горячо обсуждая различные события в Речи Посполитой, мечта о её будущем. Не пропускали друзья в разговорах на тему личной жизни многих именитых людей, посещали званые балы и собрания, которые проводил! известные всей Речи Посполитой фамилии, а также местная зажиточная шляхта. Постепенно между этими разными по виду и положению молодым! людьми установились настолько доверительные отношения, что Станислав иногда ловил себя на мысли, что Антоний стал близок, как брат.
В то же время они были совершенно разными, С одной стороны, Станислав Понятовский, отпрыск знаменитой фамилии, родственник князей Чарторыских, слегка надменный, умный и осторожный в словах и действиях молодой повеса. С другой — обыкновенный шляхтич Антоний Тизенгауз, который своим обаянием и энергией покорил Станислава. По этой же причине молодой Понятовский сделал всё, чтобы уже через короткое время его товарищ стал кандидатом на получение звания хорунжия, о чём сам Тизенгауз ещё и не догадывался.
— А как ты думаешь, понравится ли нашим соседям, той же Пруссии или России, иметь рядом со своими границами такое независимое и сильное государство? — перебил Понятовский будущего «преобразователя» Речи Посполитой. И сам же ответил на свой вопрос, который поставил в тупик Тизенгауза. — Не понравится, и эти соседи будут делать всё, чтобы этого не произошло, — спокойно пояснил Станислав и дружески похлопал Антония по плечу.
Тизенгауз обиженно замолчал и задумался о словах Понятовского. Он был ещё далёк от большой политики и многого не понимал по молодости лет. Да и сам Станислав Понятовский только делал первые шаги в своей карьере, которую ему уже приготовили его близкие родственники. Станислав прекрасно понимал, что пройдёт ещё немного времени, и он надолго, если не навсегда, расстанется с Антонием. У каждого из них своя дорога жизни, но Понятовский хорошо запомнил слова товарища и где-то в глубине сознания включил его в список людей, которые ему в будущем смогут принести хоть какую-нибудь пользу.
Переехав мост через реку с красивым и странным названием Пульва, карета въехала в Волчин и вскоре остановилась возле костёла Святой Троицы. Это было строение в стиле позднего барокко, не похожее на обычные близлежащие в округе костёлы. Будучи творением итальянского архитектора, этот костёл, построенный через год после рождения Станислава Понятовского, представлял собой здание с четырьмя равносторонними стенами и достойно возвышался над домами простых мирян. В то же время костёл не подавлял их величием и органически вписывался в окружающую его местность.
Со стен божьего храма за житейской суетой мирян наблюдали четыре массивные статуи евангелистов, а на оригинальной башне часы-куранты боем периодически сообщали тем же мирянам, что время их жизни на этой грешной земле истекает. Они как бы предлагали задуматься о суете мирской жизни и покаяться в своих земных грехах до второго пришествия Спасителя.
Антоний Тизенгауз вышел из кареты и направился к костёлу, чтобы помолиться о судьбе своей родины. Понятовский же продолжил путь к поместью в одиночестве, глубоко о чём-то задумавшие! А задуматься было о чём: пройдёт совсем немного времени, и Станислав Понятовский окунётся в новую для себя жизнь и столкнётся с массой новы людей. Некоторые из них станут для него большими мостами или маленькими мостиками к его будущему возвышению, а кто-то выбьет из-под ни: опоры и подтолкнёт Станислава к невозвратном падению.
При общении молодой Станислав Понятовский мог казаться обыкновенным молодым повесой и ловеласом. Однако в глубине мыслей он рассуждая трезво и ясно, давая оценку каждому своему и чужому слову, тому или иному событию. В своих жизненных планах Станислав Понятовский видел себя в будущем не меньше чем канцлером Речи Посполитой. Он неоднократно в разговоре с родственником Адамом Чарторыским намекал на желание проявить свои способности в решении внешних политических вопросов при каком-нибудь европейском дворе. Но опытный и мудрый глава рода не торопил события. Конечно, Адам Чарторыский имел свои виды на Станислава Понятовского, не считал, что всему своё время, и «подготовил» племяннику для первого испытания место депутата в сейме Речи Посполитой.
Сейм оказался хорошей школой жизни для будущего короля. Станислав Понятовский сразу был замечен как сторонниками Чарторыских, так и их оппозицией. Он присутствовал на всех заседаниях сейма и отличался от многих депутатов ораторский талантом, убедительной уверенной речью, а также своими вопросами, которые молодой Понятовский задавал оппонентам.
Начиная карьеру депутатом сейма Речи Посполитой с 1752 года, Станислав Понятовский оправдал доверие фамилии Чарторыских и уже через пару лет вёл праздную жизнь дипломата при французском королевском дворе, которая его вполне устраивала. Родина с её вечными проблемами находилась где-то далеко, зато рядом было высшее французское общество, очаровательные молодые француженки из того общества, любовные и политические интриги... Что ещё надо молодому и обаятельному поляку-дипломату?
Но в 1757 году Понятовский был вызван в Варшаву на аудиенцию к польскому королю Августу III как кандидат на дипломатическую службу при русском дворе. Поговорив для соблюдения правил приличия и этикета со Станиславом Понятовским в присутствии Адама Чарторыского, король одобрил его кандидатуру на столь ответственную должность и отправился на охоту. Адам Чарторыский не последовал за королём, а подошёл к племяннику и сделал ему по-родственному напутствие:
— Ну, дерзай, Станислав! Родину помни и всё делай ради её блага. Пусть даже тебе придётся делать то, чего никогда бы ранее не сделал.
Молодой дипломат понимающе кивал головой, хотя плохо соображал, что хотел сказать его дядюшка. Но главное он уяснил: про вольную французскую жизнь ему надо забыть, однако его карьера продвигается в нужном направлении и цель стать ведущим политиком Речи Посполитой приобретает всё более чёткие контуры. Его ждёт загадочная и холодная Россия с её не менее загадочным народом. Чем закончится его дипломатическая карьера при российском дворе императрицы Елизаветы Петровны, Понятовский даже не предполагал.
 осле блистательного общества при французском дворе и бурной парижской жизни, полной любовных романов, Станислав Понятовский направлялся в столицу России, грустно посматривая в тусклое окно кареты. Небольшие русские деревни, болотистая местность и пёс, стоящий сплошной стеной, тем более не могли улучшить его плохое настроение. «Скорее бы добраться до Санкт-Петербурга», — думал Понятовский, уныло разглядывая необъятные российские просторы. Ему не терпелось скорее прибыть к месту назначения и окунуться в новую для него среду, блистать (Станислав был уверен, что так и будет) уже в новом обществе.
Старанием влиятельных родственников Чарторыских, которые внимательно следили за дипломатической деятельностью Станислава Понятовского, он получил должность литовского стольника при дворе российской государыни Елизаветы Петровны и принял её как необходимость для продолжения своей карьеры. При этом Станислав Понятовский понимал, что попасть ко двору российской императрицы ему было не так просто. Именно там велась большая политическая игра и плелись клубки дворцовых интриг, существенно влияя на европейскую политику в целом. Поэтому молодой карьерист понимал, что Чарторыские возлагают на него большие надежды, направляя его в Россию. Именно здесь, в этой загадочной для многих европейцев стране Станислав Понятовский сможет приобрести тот опыт и связи, которые помогут ему получить корону, о которой в то время молодой дипломат даже и не Думал.
Но в должности литовского стольника Станислав пробыл не долго: благодаря своему уму, образованию и внешности, которой он покорял женские сердца (Станислав Понятовский был красивый мужчина с особой элегантностью и изяществом светского вельможи), вскоре он становится секретарём при английском посольстве в Петербурге.
Станислав был очень доволен новым назначением: частые светские приёмы, балы и разного рода придворные развлечения позволяли ему много общаться не только в рамках дипломатического этикета, но и налаживать полезные контакты с лицами женского пола, которые принадлежали к высшему российскому светскому обществу. Через такие связи он черпал в изобилии нужную ему информацию, плетя свои нити политического шпионажа, или просто пользовался ими в своё мужское удовольствие.
На одном из таких светских приёмов Станислав встретил женщину, которая в его дальнейшей жизни постоянно будет играть основную роль. Это она приведёт его к правлению государством в самом центре Европы, это благодаря её влиянию и желанию Станислав Понятовский станет королём Польши, а позднее по её же воле потеряет навсегда корону, станет изгнанником до конца своих дней и умрёт вдали от родины.
В то утро Станислав был весел и бодр. Он с удовольствием вспоминал вчерашний бал в Петродворце. В его воспоминаниях возникало лицо одной из фрейлин императрицы Елизаветы, с которой он сблизился в тот вечер, а потом и другие части её тела, которые предстали перед Станиславом уже после бала в одной из многочисленных укромных комнат дворца.
На балу присутствовало много иностранцев, а также дипломатов со своими секретарями и переводчиками. Не обошла вниманием это светское мероприятие и молодая пара супругов — наследник российского престола Пётр с великой княгиней Екатериной, бывшей принцессой Анхальт-Цербстской. Понятовский сразу обратил внимание на их отчуждённость: они как будто совершенно чужие сидели на своих местах, наблюдая за присутствующими на балу. Рядом с великим князем стояли несколько бравых гвардейских офицеров, с которыми он о чём-то весь вечер болтал. Не стесняясь в выражениях, он указывал пальцем на фрейлин государыни и, видимо обсуждая их женские прелести, противно хихикал при этом. А великая княгиня Екатерина сидела рядом, не обращая внимания на подобное поведение своего супруга, и делала вид, что она ничего не слышит и не видит.
У неё было грустное лицо и такие же грустные глаза, которые блестели от наполнявших их слёз. Понятовский понимал её: молодая красивая женщина должна делить ложе с этим... Станислав даже затруднялся подобрать слово, характеризующее великого князя. Все придворные прекрасно знали, что государыня не раз вела разговоры с князем о его проблемах как мужчины. Ей нужен был следующий наследник российского престола, желательно при её жизни.
А вместо того, чтобы решать этот вопрос с молодой и красивой женой, выполняя свой супружеский долг на благо отечества, великий князь уединялся в большой комнате для игры с солдатиками или общался с гвардейскими офицерами из охраны, пьянствуя с ними и пошло обсуждая свои несуществующие победы над женщинами. И так продолжалось долгих десять лет!
Впрочем, одну победу он всё-таки одержал: любовницей наследника престола стала фрейлина государыни Екатерина Воронцова, поведение которой вызывало умиление у великого князя: она ругалась нецензурно и курила табак. Будущий император, уже никого не стесняясь и не скрываясь, спал с ней и по-своему был привязан к этой дурочке: всё-таки это была его первая женщина.
Но когда наконец-то 20 сентября 1754 года у великой княгини Екатерины родился долгожданный ребёнок и будущий наследник российского престола Павел, государыня Елизавета сразу отобрала ребёнка у молодой матери и передала его под присмотр и на воспитание придворным мамкам.
— Даже и не думай об этом, — заявила государыня Елизавета Петровна великой княгине, когда та попыталась дать ей понять, что она всё-таки родная мать младенцу Павлу и имеет право лично заниматься сыном. — Твоё дело родить ещё одного ребёнка. А как это у вас получится, думай сама. Не маленькая, потрудись на благо государства российского, — добавила, как отрезала, матушка-государыня, и на этом весь разговор о правах и обязанностях великой княгини закончился.
Про все эти события двора российской императрицы Станислав Понятовский был наслышан от разных особ женского пола, а также от своих информаторов, которых он успел приобрести среди окружения императрицы Елизаветы и приближённых ко двору русских вельмож. Во время хорошего застолья в присутствии красивых и избалованных придворных барышень при разговоре у многих дворцовых чиновников развязывался язык. Они теряли осторожность и выдавали столько информации для Станислава Понятовского о жизни высшего русского общества, что он чувствовал себя при императорском дворе Российского государства, как рыба в воде.
Станислав Понятовский посмотрел на себя внимательно в стоящее напротив его кровати зеркало. Это было большое прекрасное зеркало венецианских мастеров. В нём он увидел отражение лица молодого красивого мужчины с носом древнеримского кесаря с небольшой горбинкой. И хотя это лицо было немного опухшее после бессонной ночи и выпитого вина, но в целом смотрелось неплохо. У этого мужчины была благородная фигура и достойная осанка, добрый и меланхолический взгляд, который почему-то привлекал внимание многих женщин. А красивые руки и серебристые волосы делали Понятовского просто неотразимым среди женского общества.
Сладко потянувшись, молодой дипломат позвонил в колокольчик.
— Принеси мне воду, буду умываться, — сказал вельможа слуге, вошедшему на его зов. Потом, присев на кресло рядом с венецианским зеркалом, Понятовский начал расчёсывать густые длинные волосы. Занимаясь своим туалетом, Станислав опять вспомнил про Екатерину: высокая брюнетка с ослепительно-белой кожей, нос греческий, красивые руки и тонкая талия, лёгкая походка.
«А ведь красивая женщина и, наверно, умна, — подумал он. — И как она достойно ведёт себя при таком муже. Правда, ходят слухи при дворе, что её тайно посещает один гвардейский офицер...»
Понятовский наморщил аристократичный лоб, вспоминая его фамилию, которую слышал недавно от одной из своих любовниц.
«Да, кажется, Сергей Салтыков[3]. Хотя вряд ли это может быть. Это было бы достаточно рискованно при её положении. Так быстро можно попасть в немилость к императрице, — продолжал размышлять Понятовский. — Достаточно было великой княгине просто ласково заговорить с кем-то из молодых офицеров или вельмож, как сразу же фрейлины разносят по всему российскому двору новости о новом любовнике Екатерины, наушничая государыне о каждом её шаге».
Так думал молодой дипломат, который уже привык к дворцовым интригам российского императорского двора, научился ничему при этом не удивляться и делать для себя определённые выводы, предполагая, какие выгодные для себя действия он может предпринять в дальнейшем.
Наблюдая за жизнью великой княгини Екатерины и её поведением в различных жизненных ситуациях, Станислав Понятовский заметил, как она умело располагала к себе не только приближённых к ней людей, но и иностранных монархов, дипломатов, учёных и военных. Будучи не очень любимой государыней, она избегала открытых конфликтов с Елизаветой, не обостряя тем самым с ней отношения. В то же время её супруг Пётр у всех на глазах терял свой авторитет год от года.
«А ведь Екатерина умна, очень умна. С ней надо бы поближе сойтись при возможности», — ещё раз про себя отметил Станислав Понятовский достоинства великой княгини. И в его голове стали рождаться варианты, при которых он бы мог стать если не доверенным лицом великой княгини, то хотя бы войти в круг её приближённых.
Прошло не так много времени, когда фрейлины императрицы Елизаветы в молодом и красивом дипломате нашли новый объект для обсуждения последних придворных новостей. Всё чаще Понятовский Станислав стал появляться в обществе, где присутствовала великая княгиня, всё чаще их стали видеть вместе при беседах, длительность которых не ограничивалась одним часом. А поговорить им было о чём: оба были молоды и хороши собой, оба родились вдали от российской земли и получили европейское образование. Сын краковского каштеляна, Станислав Понятовскийнастолько сумел расположить к себе за это время будущую российскую императрицу, что благодаря её хлопотам Бестужев[4] выпросил для него у польского короля Августа III по дипломатическим каналам место саксонского посла при петербургском дворе и орден Белого Орла.
Однажды, когда они прогуливались вдвоём по многочисленным аллеям придворного сада, беседа великой княгини и будущего польского короля стала настолько доверительной, что Екатерина, вплотную подойдя к Станиславу Понятовскому, посмотрела ему внимательно в глаза таким пронизывающим взглядом, что он сразу понял: предстоит очень серьёзный разговор.
— Как вы относитесь ко мне? — спросила Екатерина, положа ему на грудь свою горячую ладонь.
Станислав не нашёлся сразу, что ответить: её жест и открытый прямой вопрос смутили даже его.
— А что вы хотели бы от меня услышать? — вопросом на вопрос ответил он после небольшой паузы.
Екатерина отняла ладонь от его груди и уточнила:
— Кого бы вы хотели видеть во мне: великую княгиню и жену великого князя Петра или российскую императрицу?
Станислав опешил. Такого поворота в их беседе он даже не мог предположить.
«Надо ей что-то ответить, чтобы она не заметила моё смущение», — подумал он.
Оглянувшись вокруг себя (не видно ли где поблизости слишком любознательных наблюдателей), Понятовский сделал умное лицо и загадочно проговорил:
— Я всегда буду с вами, даже если я буду далеко от России.
— И всё-таки... — Екатерина настаивала на конкретном ответе. Она уже понимала, что зашла в разговоре с Понятовским слишком далеко. Однако ей нужно было уточнить для себя в этот момент, что собой представляет этот аристократ. Она чётко хотела определить, чьи интересы он будет защищать, если возникнет ситуация, когда ей понадобится помощь не только от военных и приближённых к ней лиц. Поддержка политиков и дипломатов иностранных королевских дворов при дворцовых переворотах могла сыграть если не главную, то весьма существенную роль.
— Я всегда буду на вашей стороне. И чем выше будет моё положение в обществе и влияние, тем большую поддержку я смогу оказать вам при любой ситуации и в любое время, как только это вам будет нужно, — большего из себя молодой посол выдавить не смог. В то же время своей речью, придуманной им в промежутке между вопросами великой княгини, Станислав Понятовский остался доволен. Ответ прозвучал достаточно обнадёживающим и при этом ни к чему конкретному его не обязывающим.
Его спутница в свою очередь осталась довольна услышанным ответом. Она улыбнулась ему и тихо проговорила приятным голосом, приблизив красивое лицо к его груди:
— Благодарю вас. Я надеялась, что услышу от вас что-то подобное. Знайте же, что я тоже сделаю для вас всё, что смогу... в зависимости от того, — Екатерина наклонилась ещё ближе к Понятовскому, посмотрела пронзительным взглядом ему в глаза и почти шёпотом произнесла последнюю фразу, — какое положение при российском дворе буду в дальнейшем занимать.
Прошептав эти слова Станиславу Понятовскому, она игриво слегка ударила его веером по груди и, круто развернувшись, пошла в сторону дворца. Её же собеседник, задумавшись на секунду, поспешил за ней, на ходу размышляя о только что услышанном от этой удивительной женщины...
осле блистательного общества при французском дворе и бурной парижской жизни, полной любовных романов, Станислав Понятовский направлялся в столицу России, грустно посматривая в тусклое окно кареты. Небольшие русские деревни, болотистая местность и пёс, стоящий сплошной стеной, тем более не могли улучшить его плохое настроение. «Скорее бы добраться до Санкт-Петербурга», — думал Понятовский, уныло разглядывая необъятные российские просторы. Ему не терпелось скорее прибыть к месту назначения и окунуться в новую для него среду, блистать (Станислав был уверен, что так и будет) уже в новом обществе.
Старанием влиятельных родственников Чарторыских, которые внимательно следили за дипломатической деятельностью Станислава Понятовского, он получил должность литовского стольника при дворе российской государыни Елизаветы Петровны и принял её как необходимость для продолжения своей карьеры. При этом Станислав Понятовский понимал, что попасть ко двору российской императрицы ему было не так просто. Именно там велась большая политическая игра и плелись клубки дворцовых интриг, существенно влияя на европейскую политику в целом. Поэтому молодой карьерист понимал, что Чарторыские возлагают на него большие надежды, направляя его в Россию. Именно здесь, в этой загадочной для многих европейцев стране Станислав Понятовский сможет приобрести тот опыт и связи, которые помогут ему получить корону, о которой в то время молодой дипломат даже и не Думал.
Но в должности литовского стольника Станислав пробыл не долго: благодаря своему уму, образованию и внешности, которой он покорял женские сердца (Станислав Понятовский был красивый мужчина с особой элегантностью и изяществом светского вельможи), вскоре он становится секретарём при английском посольстве в Петербурге.
Станислав был очень доволен новым назначением: частые светские приёмы, балы и разного рода придворные развлечения позволяли ему много общаться не только в рамках дипломатического этикета, но и налаживать полезные контакты с лицами женского пола, которые принадлежали к высшему российскому светскому обществу. Через такие связи он черпал в изобилии нужную ему информацию, плетя свои нити политического шпионажа, или просто пользовался ими в своё мужское удовольствие.
На одном из таких светских приёмов Станислав встретил женщину, которая в его дальнейшей жизни постоянно будет играть основную роль. Это она приведёт его к правлению государством в самом центре Европы, это благодаря её влиянию и желанию Станислав Понятовский станет королём Польши, а позднее по её же воле потеряет навсегда корону, станет изгнанником до конца своих дней и умрёт вдали от родины.
В то утро Станислав был весел и бодр. Он с удовольствием вспоминал вчерашний бал в Петродворце. В его воспоминаниях возникало лицо одной из фрейлин императрицы Елизаветы, с которой он сблизился в тот вечер, а потом и другие части её тела, которые предстали перед Станиславом уже после бала в одной из многочисленных укромных комнат дворца.
На балу присутствовало много иностранцев, а также дипломатов со своими секретарями и переводчиками. Не обошла вниманием это светское мероприятие и молодая пара супругов — наследник российского престола Пётр с великой княгиней Екатериной, бывшей принцессой Анхальт-Цербстской. Понятовский сразу обратил внимание на их отчуждённость: они как будто совершенно чужие сидели на своих местах, наблюдая за присутствующими на балу. Рядом с великим князем стояли несколько бравых гвардейских офицеров, с которыми он о чём-то весь вечер болтал. Не стесняясь в выражениях, он указывал пальцем на фрейлин государыни и, видимо обсуждая их женские прелести, противно хихикал при этом. А великая княгиня Екатерина сидела рядом, не обращая внимания на подобное поведение своего супруга, и делала вид, что она ничего не слышит и не видит.
У неё было грустное лицо и такие же грустные глаза, которые блестели от наполнявших их слёз. Понятовский понимал её: молодая красивая женщина должна делить ложе с этим... Станислав даже затруднялся подобрать слово, характеризующее великого князя. Все придворные прекрасно знали, что государыня не раз вела разговоры с князем о его проблемах как мужчины. Ей нужен был следующий наследник российского престола, желательно при её жизни.
А вместо того, чтобы решать этот вопрос с молодой и красивой женой, выполняя свой супружеский долг на благо отечества, великий князь уединялся в большой комнате для игры с солдатиками или общался с гвардейскими офицерами из охраны, пьянствуя с ними и пошло обсуждая свои несуществующие победы над женщинами. И так продолжалось долгих десять лет!
Впрочем, одну победу он всё-таки одержал: любовницей наследника престола стала фрейлина государыни Екатерина Воронцова, поведение которой вызывало умиление у великого князя: она ругалась нецензурно и курила табак. Будущий император, уже никого не стесняясь и не скрываясь, спал с ней и по-своему был привязан к этой дурочке: всё-таки это была его первая женщина.
Но когда наконец-то 20 сентября 1754 года у великой княгини Екатерины родился долгожданный ребёнок и будущий наследник российского престола Павел, государыня Елизавета сразу отобрала ребёнка у молодой матери и передала его под присмотр и на воспитание придворным мамкам.
— Даже и не думай об этом, — заявила государыня Елизавета Петровна великой княгине, когда та попыталась дать ей понять, что она всё-таки родная мать младенцу Павлу и имеет право лично заниматься сыном. — Твоё дело родить ещё одного ребёнка. А как это у вас получится, думай сама. Не маленькая, потрудись на благо государства российского, — добавила, как отрезала, матушка-государыня, и на этом весь разговор о правах и обязанностях великой княгини закончился.
Про все эти события двора российской императрицы Станислав Понятовский был наслышан от разных особ женского пола, а также от своих информаторов, которых он успел приобрести среди окружения императрицы Елизаветы и приближённых ко двору русских вельмож. Во время хорошего застолья в присутствии красивых и избалованных придворных барышень при разговоре у многих дворцовых чиновников развязывался язык. Они теряли осторожность и выдавали столько информации для Станислава Понятовского о жизни высшего русского общества, что он чувствовал себя при императорском дворе Российского государства, как рыба в воде.
Станислав Понятовский посмотрел на себя внимательно в стоящее напротив его кровати зеркало. Это было большое прекрасное зеркало венецианских мастеров. В нём он увидел отражение лица молодого красивого мужчины с носом древнеримского кесаря с небольшой горбинкой. И хотя это лицо было немного опухшее после бессонной ночи и выпитого вина, но в целом смотрелось неплохо. У этого мужчины была благородная фигура и достойная осанка, добрый и меланхолический взгляд, который почему-то привлекал внимание многих женщин. А красивые руки и серебристые волосы делали Понятовского просто неотразимым среди женского общества.
Сладко потянувшись, молодой дипломат позвонил в колокольчик.
— Принеси мне воду, буду умываться, — сказал вельможа слуге, вошедшему на его зов. Потом, присев на кресло рядом с венецианским зеркалом, Понятовский начал расчёсывать густые длинные волосы. Занимаясь своим туалетом, Станислав опять вспомнил про Екатерину: высокая брюнетка с ослепительно-белой кожей, нос греческий, красивые руки и тонкая талия, лёгкая походка.
«А ведь красивая женщина и, наверно, умна, — подумал он. — И как она достойно ведёт себя при таком муже. Правда, ходят слухи при дворе, что её тайно посещает один гвардейский офицер...»
Понятовский наморщил аристократичный лоб, вспоминая его фамилию, которую слышал недавно от одной из своих любовниц.
«Да, кажется, Сергей Салтыков[3]. Хотя вряд ли это может быть. Это было бы достаточно рискованно при её положении. Так быстро можно попасть в немилость к императрице, — продолжал размышлять Понятовский. — Достаточно было великой княгине просто ласково заговорить с кем-то из молодых офицеров или вельмож, как сразу же фрейлины разносят по всему российскому двору новости о новом любовнике Екатерины, наушничая государыне о каждом её шаге».
Так думал молодой дипломат, который уже привык к дворцовым интригам российского императорского двора, научился ничему при этом не удивляться и делать для себя определённые выводы, предполагая, какие выгодные для себя действия он может предпринять в дальнейшем.
Наблюдая за жизнью великой княгини Екатерины и её поведением в различных жизненных ситуациях, Станислав Понятовский заметил, как она умело располагала к себе не только приближённых к ней людей, но и иностранных монархов, дипломатов, учёных и военных. Будучи не очень любимой государыней, она избегала открытых конфликтов с Елизаветой, не обостряя тем самым с ней отношения. В то же время её супруг Пётр у всех на глазах терял свой авторитет год от года.
«А ведь Екатерина умна, очень умна. С ней надо бы поближе сойтись при возможности», — ещё раз про себя отметил Станислав Понятовский достоинства великой княгини. И в его голове стали рождаться варианты, при которых он бы мог стать если не доверенным лицом великой княгини, то хотя бы войти в круг её приближённых.
Прошло не так много времени, когда фрейлины императрицы Елизаветы в молодом и красивом дипломате нашли новый объект для обсуждения последних придворных новостей. Всё чаще Понятовский Станислав стал появляться в обществе, где присутствовала великая княгиня, всё чаще их стали видеть вместе при беседах, длительность которых не ограничивалась одним часом. А поговорить им было о чём: оба были молоды и хороши собой, оба родились вдали от российской земли и получили европейское образование. Сын краковского каштеляна, Станислав Понятовскийнастолько сумел расположить к себе за это время будущую российскую императрицу, что благодаря её хлопотам Бестужев[4] выпросил для него у польского короля Августа III по дипломатическим каналам место саксонского посла при петербургском дворе и орден Белого Орла.
Однажды, когда они прогуливались вдвоём по многочисленным аллеям придворного сада, беседа великой княгини и будущего польского короля стала настолько доверительной, что Екатерина, вплотную подойдя к Станиславу Понятовскому, посмотрела ему внимательно в глаза таким пронизывающим взглядом, что он сразу понял: предстоит очень серьёзный разговор.
— Как вы относитесь ко мне? — спросила Екатерина, положа ему на грудь свою горячую ладонь.
Станислав не нашёлся сразу, что ответить: её жест и открытый прямой вопрос смутили даже его.
— А что вы хотели бы от меня услышать? — вопросом на вопрос ответил он после небольшой паузы.
Екатерина отняла ладонь от его груди и уточнила:
— Кого бы вы хотели видеть во мне: великую княгиню и жену великого князя Петра или российскую императрицу?
Станислав опешил. Такого поворота в их беседе он даже не мог предположить.
«Надо ей что-то ответить, чтобы она не заметила моё смущение», — подумал он.
Оглянувшись вокруг себя (не видно ли где поблизости слишком любознательных наблюдателей), Понятовский сделал умное лицо и загадочно проговорил:
— Я всегда буду с вами, даже если я буду далеко от России.
— И всё-таки... — Екатерина настаивала на конкретном ответе. Она уже понимала, что зашла в разговоре с Понятовским слишком далеко. Однако ей нужно было уточнить для себя в этот момент, что собой представляет этот аристократ. Она чётко хотела определить, чьи интересы он будет защищать, если возникнет ситуация, когда ей понадобится помощь не только от военных и приближённых к ней лиц. Поддержка политиков и дипломатов иностранных королевских дворов при дворцовых переворотах могла сыграть если не главную, то весьма существенную роль.
— Я всегда буду на вашей стороне. И чем выше будет моё положение в обществе и влияние, тем большую поддержку я смогу оказать вам при любой ситуации и в любое время, как только это вам будет нужно, — большего из себя молодой посол выдавить не смог. В то же время своей речью, придуманной им в промежутке между вопросами великой княгини, Станислав Понятовский остался доволен. Ответ прозвучал достаточно обнадёживающим и при этом ни к чему конкретному его не обязывающим.
Его спутница в свою очередь осталась довольна услышанным ответом. Она улыбнулась ему и тихо проговорила приятным голосом, приблизив красивое лицо к его груди:
— Благодарю вас. Я надеялась, что услышу от вас что-то подобное. Знайте же, что я тоже сделаю для вас всё, что смогу... в зависимости от того, — Екатерина наклонилась ещё ближе к Понятовскому, посмотрела пронзительным взглядом ему в глаза и почти шёпотом произнесла последнюю фразу, — какое положение при российском дворе буду в дальнейшем занимать.
Прошептав эти слова Станиславу Понятовскому, она игриво слегка ударила его веером по груди и, круто развернувшись, пошла в сторону дворца. Её же собеседник, задумавшись на секунду, поспешил за ней, на ходу размышляя о только что услышанном от этой удивительной женщины...
 ес в эту жаркую июльскую пору замер под палящими лучами солнца. Тадеуш Костюшко, возвращаясь домой, остановился и прислушался, как птицы переговаривались между собой на только им понятном языке. Птахи беззаботно щебетали, если было всё спокойно, или немедленно прекращали свои птичьи переговоры, если слышали голос сородича, извещающий им о возможной опасности.
По лесной тропе рядом с Тадеушем молча шагал четырнадцатилетний подросток Фома, или Томаш, как его все звали в семье Костюшко, который жил в усадьбе со дня смерти отца Тадеуша, выполняя различную мелкую работу по дому. Мальчишка был сыном именно того самого Петра, который семь лет назад убил Людвига Костюшко. После того как казнили Петра за убийство хозяина, в его семье осталось пятеро детей. Тэкля пожалела вдову и предложила отдать в услужение её семилетнего сына Томаша. Всё-таки одним ртом в семье станет меньше.
Вдова не заставила себя долго уговаривать: остаться без мужчины в доме в крестьянской семье с кучей детей на руках — врагу не пожелаешь такого. К тому же она, как и все крепостные крестьяне Костюшко, с уважением относилась к Тэкле, за глаза ругая при жизни её мужа. Маленький Томаш переехал в усадьбу Костюшко и довольно быстро свыкся со своим новым местом жительства. Тем более, что все относились к мальчишке с пониманием, работой по дому сильно не загружали и отцом, который поднял руку на хозяина, не попрекали.
Особенно маленький Томаш привязался к Тадеушу и всегда с радостью выполнял его мелкие поручения. Тадеуш тоже с симпатией относился к этому смышлёному мальчишке и в свободное от работы по дому время учил того грамоте, с удивлением наблюдая, как быстро ученик начинает читать свои первые предложения.
Вот и сегодня Томаш увязался за Тадеушем и сейчас нёс за плечами двух куропаток, которые попали в силки, ловко им расставленные недалеко от их гнезда. Выйдя из лесной чащи на просёлочную дорогу, они увидели приближающуюся карету, которую сопровождали несколько верховых гайдуков. В карете сидела женщина лет 30, а рядом с ней — две девочки лет 10—12, одетые в нарядные светлые платья. Все трое держали в руках небольшие зонтики с кружевами. Эти чудные предметы роскоши, которые польские аристократки недавно стали приобретать во Франции, защищали их головы и нежную белую кожу от жарких солнечных лучей.
Тадеуш узнал карету с гербом и догадался, кто в ней едет: карета принадлежала Юзефу Сосновскому, а женщина и девочки, вероятнее всего, были его женой и дочерьми. Карета поравнялась на мгновение с Тадеушем, и все сидящие в ней обернулись к юноше, застывшему как изваяние перед увиденной им картиной. Женщина была удивительно красива. Тадеуш успел разглядеть её в течение тех мгновений, когда карета проезжала мимо него. Когда же карета отдалилась от молодого человека, он тряхнул своей лохматой головой с застрявшими в его полосах сосновыми иголками, кивнул Томашу и быстрым шагом поспешил с ним домой.
Уже прошло почти семь лет с того времени, как Тадеуш с Иосифом вернулись из школы в Любешове. С тех пор они полностью посвящали свои будни домашним заботам. А их было столько, что молодым парням просто не хватало дневного времени, чтобы сделать всё, что они планировали с вечера. Материальное положение их поместья ещё больше ухудшилось, а Тэкля не смогла заменить своего покойного мужа. Ей было тяжело справляться со всеми обязанностями хозяйки поместья, и она постепенно передала сыновьям в руки всю заботу о хозяйстве, помогая им, чем могла.
За эти годы Тадеуш вырос, возмужал, стал красивым и стройным девятнадцатилетним парнем. Он не раз ловил на себе внимательные взгляды молодых девушек, когда ему приходилось бывать в Сехновичах или в поле во время жатвы. Когда же он замечал, как смотрят на него стеснительно девушки или прямым оценивающим взглядом женщины, Тадеуш начинал краснеть и отворачиваться в другую сторону, чтобы они не видели его пылающего юношеского лица и красных ушей.
Его родные сёстры вышли замуж за местных шляхтичей. Они были счастливы уехать из дому, где командовал и заправлял всем хозяйством Иосиф. Он по праву мужчины и старшего брата принял на себя всю ответственность за судьбу поместья. Тадеуш же исполнял все его указания, не споря с ним и понимая, что в доме должен быть один хозяин, чтобы вести все дела, как это делал когда-то отец. Иосиф был похож на отца не только внешне: походка, манера разговаривать и давать указания тоном, который не оставлял даже желания сказать что-либо против, — во всём старший сын напоминал покойного Людвига Костюшко.
Когда солнце стояло уже в зените, Тадеуш подошёл к крыльцу дома и встретил пожилую кухарку, которая отвечала и за все дела в доме.
— Вот, Софья, вся наша добыча за день, — сказал Тадеуш кухарке, снимая с плеча Томаша и передавая в её полные руки двух куропаток для решения их дальнейшей судьбы.
Софья приняла куропаток, подняв их вверх перед глазами, осмотрела и вынесла свой приговор:
— Не очень, конечно, но хороший суп из них на обед я успею приготовить.
Довольно быстро для своего возраста и комплекции кухарка развернулась и пошла на кухню готовить обед, а Тадеуш, ладонью ударив по входной двери, открыл её и вошёл в полумрак дома. В одной из комнат он увидел Иосифа, который сидел за столом, хмуро уставившись в хозяйственную книгу, в которой он делал только ему понятные расчёты и записи.
Кивнув вошедшему в комнату брату, Иосиф с иронией спросил:
— Ну, добытчик, много принёс дичи? Оставил хоть что-нибудь в лесу для развода?
— Да особенно хвастаться нечем, но на обед нам хватит, — в тон ему ответил Тадеуш. — А что у тебя случилось: вид у тебя такой, словно сегодня тебе сообщили самую плохую новость в жизни?
Иосиф нервно вскочил с места, отшвырнув в сторону стул.
— А ты как будто не знаешь, что поместье заложено за 20 000 злотых, а мы не можем в срок рассчитаться с этим долгом. Мы на грани разорения. А может, — продолжил он с сарказмом, — у тебя, такого умного, есть какие-нибудь предложения, пак нам выпутаться из этой ситуации?
— Что ты мне ставишь это в укор? Я чем могу, тем тебе и помогаю по хозяйству. Ты же старший брат и всё взял в свои руки после смерти отца! — Тадеуш заговорил с братом, постепенно повышая голос. Ему очень не нравилось, когда Иосиф в таком тоне, подобно отцу, начинал разговаривать с ним или с кем-нибудь из слуг. И теперь Тадеуш проявил характер и дал понять Иосифу, что тот не прав.
Иосиф, почувствовав в интонации брата противостояние, махнул обречённо рукой:
— Да уж, на твою помощь мне рассчитывать нечего.
Тадеуш отвернулся от Иосифа и подошёл к окну. Осматривая двор, он вдруг вспомнил недавнюю встречу в лесу.
— Когда я возвращался сегодня домой, то встретил по дороге карету Юзефа Сосновского с его женой и дочками, — сказал Тадеуш тихо, как будто про себя. — Я слышал, что Юзеф Сосновский в большом почёте и служит при дворе короля у канцлера Михаила Чарторыского. А ведь наш покойный отец дружил с ним в молодости, — продолжил он свои размышления, уже повернувшись лицом к брату.
Иосиф непонимающе уставился на Тадеуша.
— А какой нам прок от их прежней дружбы? Может быть, ты предлагаешь пойти на поклон к нему, попросить, чтобы выручил детей друга в тяжёлое для них время? — Иосиф засмеялся тому, что он же только что произнёс.
Тадеуша осенила какая-то мысль, и он поближе подошёл к Иосифу. В волнении от того, что эта идея не пришла ему в голову раньше, он пояснил брату:
— Ну, не скажи: я слышал, что Юзефу Сосновскому предложили должность воеводы. А кое-кто поговаривает, что именно он станет гетманом Великого княжества Литовского. Как ты думаешь, составит ли пан Сосновский мне протекцию в Варшаве?
Тесно мне здесь, Иосиф, учиться хочу в Вильно или Варшаве... или на службу устроиться куда-нибудь.
Иосиф задумался о том, что только что сказал ему младший брат. Он тоже начал вспоминать, что имя Юзефа Сосновского часто произносилось в семье Костюшко в разговоре родителей, и всегда о нём говорили только хорошее.
— Ты думаешь, он вспомнит тебя или меня после стольких лет? А впрочем, почему и нет? Ты, в отличие от меня, не склонен к тихой сельской жизни. — Иосиф внимательно посмотрел на Тадеуша и прямо спросил его: — Когда думаешь ехать в Варшаву? Ведь Юзеф Сосновский, насколько я знаю, там в сейме заседает?
— Да завтра же и поеду, а чего ждать? Прикажу конюху приготовить коня и всё, что надо в дорогу. Если ты дашь мне немного денег, то коня, когда доберусь до Варшавы, продам. На первое время денег хватит. Пусть это и будет моя доля в наследстве, — Тадеуш говорил быстро, будто боялся, что брат передумает и не разрешит ему оставить родительский дом.
Но Иосиф и не думал об этом. Наоборот, отъезд брата в Варшаву его вполне устраивал. «Если Тадеушу удастся устроить свою личную жизнь в Варшаве, то он наверняка уже больше не вернётся в Сехновичи, и я останусь одним хозяином в поместье. А если бы Юзеф Сосновский помог ещё и с деньгами... Пусть едет, ведь действительно парень он умный, способный к наукам», — подумал Иосиф и согласно кивнул:
— Сам сказал, я тебя за язык не тянул. Езжай завтра в Варшаву. Только матери сообщи.
Но Тэкля слышала весь разговор сыновей, находясь в соседней комнате. Поздно вечером она позвала Тадеуша и вручила ему письмо для Сосновского. В письме Тэкля просила в память о покойном муже помочь сыну, устроить Тадеуша на службу и быть ему покровителем в этом сложном мире.
На следующий день рано утром крестьяне деревни Сехновичи, вышедшие отрабатывать барщину в поле, увидели своего молодого господина верхом на лошади, к седлу которой были подвязаны два баула с вещами и провизией. Тадеуш Костюшко направлялся в Варшаву на встречу со своей судьбой, которую готовила ему жизнь. Какой бурной она будет у него, он даже не догадывался. Да и что мог предположить простой шляхтич, у которого в кармане были только мелкие деньги да старая лошадь, которую в последние годы было жалко запрягать для тяжёлой лошадиной работы.
Правда, была ещё голова на плечах и амбиции, но такого добра на просторах Европы хватало в достаточном количестве. События же, происходившие в это время в Речи Посполитой и в других странах Старого Света, — вот что главным образом предопределило дальнейшую судьбу молодого шляхтича, который сейчас мирно покачивался в седле. Он мечтал лишь о каком-нибудь скромном месте на государственной службе среди чиновников Речи Посполитой или видел себя в рядах солдат её армии. Но какое именно место в истории он займёт в ближайшие десятилетия, Тадеуш не мог предположить.
Именно после смерти русской императрицы Елизаветы Петровны последовали события, которые на протяжении долгих лет потрясали европейские государства. Они-то и оказались судьбоносными в жизни девятнадцатилетнего Тадеуша Костюшко.
ес в эту жаркую июльскую пору замер под палящими лучами солнца. Тадеуш Костюшко, возвращаясь домой, остановился и прислушался, как птицы переговаривались между собой на только им понятном языке. Птахи беззаботно щебетали, если было всё спокойно, или немедленно прекращали свои птичьи переговоры, если слышали голос сородича, извещающий им о возможной опасности.
По лесной тропе рядом с Тадеушем молча шагал четырнадцатилетний подросток Фома, или Томаш, как его все звали в семье Костюшко, который жил в усадьбе со дня смерти отца Тадеуша, выполняя различную мелкую работу по дому. Мальчишка был сыном именно того самого Петра, который семь лет назад убил Людвига Костюшко. После того как казнили Петра за убийство хозяина, в его семье осталось пятеро детей. Тэкля пожалела вдову и предложила отдать в услужение её семилетнего сына Томаша. Всё-таки одним ртом в семье станет меньше.
Вдова не заставила себя долго уговаривать: остаться без мужчины в доме в крестьянской семье с кучей детей на руках — врагу не пожелаешь такого. К тому же она, как и все крепостные крестьяне Костюшко, с уважением относилась к Тэкле, за глаза ругая при жизни её мужа. Маленький Томаш переехал в усадьбу Костюшко и довольно быстро свыкся со своим новым местом жительства. Тем более, что все относились к мальчишке с пониманием, работой по дому сильно не загружали и отцом, который поднял руку на хозяина, не попрекали.
Особенно маленький Томаш привязался к Тадеушу и всегда с радостью выполнял его мелкие поручения. Тадеуш тоже с симпатией относился к этому смышлёному мальчишке и в свободное от работы по дому время учил того грамоте, с удивлением наблюдая, как быстро ученик начинает читать свои первые предложения.
Вот и сегодня Томаш увязался за Тадеушем и сейчас нёс за плечами двух куропаток, которые попали в силки, ловко им расставленные недалеко от их гнезда. Выйдя из лесной чащи на просёлочную дорогу, они увидели приближающуюся карету, которую сопровождали несколько верховых гайдуков. В карете сидела женщина лет 30, а рядом с ней — две девочки лет 10—12, одетые в нарядные светлые платья. Все трое держали в руках небольшие зонтики с кружевами. Эти чудные предметы роскоши, которые польские аристократки недавно стали приобретать во Франции, защищали их головы и нежную белую кожу от жарких солнечных лучей.
Тадеуш узнал карету с гербом и догадался, кто в ней едет: карета принадлежала Юзефу Сосновскому, а женщина и девочки, вероятнее всего, были его женой и дочерьми. Карета поравнялась на мгновение с Тадеушем, и все сидящие в ней обернулись к юноше, застывшему как изваяние перед увиденной им картиной. Женщина была удивительно красива. Тадеуш успел разглядеть её в течение тех мгновений, когда карета проезжала мимо него. Когда же карета отдалилась от молодого человека, он тряхнул своей лохматой головой с застрявшими в его полосах сосновыми иголками, кивнул Томашу и быстрым шагом поспешил с ним домой.
Уже прошло почти семь лет с того времени, как Тадеуш с Иосифом вернулись из школы в Любешове. С тех пор они полностью посвящали свои будни домашним заботам. А их было столько, что молодым парням просто не хватало дневного времени, чтобы сделать всё, что они планировали с вечера. Материальное положение их поместья ещё больше ухудшилось, а Тэкля не смогла заменить своего покойного мужа. Ей было тяжело справляться со всеми обязанностями хозяйки поместья, и она постепенно передала сыновьям в руки всю заботу о хозяйстве, помогая им, чем могла.
За эти годы Тадеуш вырос, возмужал, стал красивым и стройным девятнадцатилетним парнем. Он не раз ловил на себе внимательные взгляды молодых девушек, когда ему приходилось бывать в Сехновичах или в поле во время жатвы. Когда же он замечал, как смотрят на него стеснительно девушки или прямым оценивающим взглядом женщины, Тадеуш начинал краснеть и отворачиваться в другую сторону, чтобы они не видели его пылающего юношеского лица и красных ушей.
Его родные сёстры вышли замуж за местных шляхтичей. Они были счастливы уехать из дому, где командовал и заправлял всем хозяйством Иосиф. Он по праву мужчины и старшего брата принял на себя всю ответственность за судьбу поместья. Тадеуш же исполнял все его указания, не споря с ним и понимая, что в доме должен быть один хозяин, чтобы вести все дела, как это делал когда-то отец. Иосиф был похож на отца не только внешне: походка, манера разговаривать и давать указания тоном, который не оставлял даже желания сказать что-либо против, — во всём старший сын напоминал покойного Людвига Костюшко.
Когда солнце стояло уже в зените, Тадеуш подошёл к крыльцу дома и встретил пожилую кухарку, которая отвечала и за все дела в доме.
— Вот, Софья, вся наша добыча за день, — сказал Тадеуш кухарке, снимая с плеча Томаша и передавая в её полные руки двух куропаток для решения их дальнейшей судьбы.
Софья приняла куропаток, подняв их вверх перед глазами, осмотрела и вынесла свой приговор:
— Не очень, конечно, но хороший суп из них на обед я успею приготовить.
Довольно быстро для своего возраста и комплекции кухарка развернулась и пошла на кухню готовить обед, а Тадеуш, ладонью ударив по входной двери, открыл её и вошёл в полумрак дома. В одной из комнат он увидел Иосифа, который сидел за столом, хмуро уставившись в хозяйственную книгу, в которой он делал только ему понятные расчёты и записи.
Кивнув вошедшему в комнату брату, Иосиф с иронией спросил:
— Ну, добытчик, много принёс дичи? Оставил хоть что-нибудь в лесу для развода?
— Да особенно хвастаться нечем, но на обед нам хватит, — в тон ему ответил Тадеуш. — А что у тебя случилось: вид у тебя такой, словно сегодня тебе сообщили самую плохую новость в жизни?
Иосиф нервно вскочил с места, отшвырнув в сторону стул.
— А ты как будто не знаешь, что поместье заложено за 20 000 злотых, а мы не можем в срок рассчитаться с этим долгом. Мы на грани разорения. А может, — продолжил он с сарказмом, — у тебя, такого умного, есть какие-нибудь предложения, пак нам выпутаться из этой ситуации?
— Что ты мне ставишь это в укор? Я чем могу, тем тебе и помогаю по хозяйству. Ты же старший брат и всё взял в свои руки после смерти отца! — Тадеуш заговорил с братом, постепенно повышая голос. Ему очень не нравилось, когда Иосиф в таком тоне, подобно отцу, начинал разговаривать с ним или с кем-нибудь из слуг. И теперь Тадеуш проявил характер и дал понять Иосифу, что тот не прав.
Иосиф, почувствовав в интонации брата противостояние, махнул обречённо рукой:
— Да уж, на твою помощь мне рассчитывать нечего.
Тадеуш отвернулся от Иосифа и подошёл к окну. Осматривая двор, он вдруг вспомнил недавнюю встречу в лесу.
— Когда я возвращался сегодня домой, то встретил по дороге карету Юзефа Сосновского с его женой и дочками, — сказал Тадеуш тихо, как будто про себя. — Я слышал, что Юзеф Сосновский в большом почёте и служит при дворе короля у канцлера Михаила Чарторыского. А ведь наш покойный отец дружил с ним в молодости, — продолжил он свои размышления, уже повернувшись лицом к брату.
Иосиф непонимающе уставился на Тадеуша.
— А какой нам прок от их прежней дружбы? Может быть, ты предлагаешь пойти на поклон к нему, попросить, чтобы выручил детей друга в тяжёлое для них время? — Иосиф засмеялся тому, что он же только что произнёс.
Тадеуша осенила какая-то мысль, и он поближе подошёл к Иосифу. В волнении от того, что эта идея не пришла ему в голову раньше, он пояснил брату:
— Ну, не скажи: я слышал, что Юзефу Сосновскому предложили должность воеводы. А кое-кто поговаривает, что именно он станет гетманом Великого княжества Литовского. Как ты думаешь, составит ли пан Сосновский мне протекцию в Варшаве?
Тесно мне здесь, Иосиф, учиться хочу в Вильно или Варшаве... или на службу устроиться куда-нибудь.
Иосиф задумался о том, что только что сказал ему младший брат. Он тоже начал вспоминать, что имя Юзефа Сосновского часто произносилось в семье Костюшко в разговоре родителей, и всегда о нём говорили только хорошее.
— Ты думаешь, он вспомнит тебя или меня после стольких лет? А впрочем, почему и нет? Ты, в отличие от меня, не склонен к тихой сельской жизни. — Иосиф внимательно посмотрел на Тадеуша и прямо спросил его: — Когда думаешь ехать в Варшаву? Ведь Юзеф Сосновский, насколько я знаю, там в сейме заседает?
— Да завтра же и поеду, а чего ждать? Прикажу конюху приготовить коня и всё, что надо в дорогу. Если ты дашь мне немного денег, то коня, когда доберусь до Варшавы, продам. На первое время денег хватит. Пусть это и будет моя доля в наследстве, — Тадеуш говорил быстро, будто боялся, что брат передумает и не разрешит ему оставить родительский дом.
Но Иосиф и не думал об этом. Наоборот, отъезд брата в Варшаву его вполне устраивал. «Если Тадеушу удастся устроить свою личную жизнь в Варшаве, то он наверняка уже больше не вернётся в Сехновичи, и я останусь одним хозяином в поместье. А если бы Юзеф Сосновский помог ещё и с деньгами... Пусть едет, ведь действительно парень он умный, способный к наукам», — подумал Иосиф и согласно кивнул:
— Сам сказал, я тебя за язык не тянул. Езжай завтра в Варшаву. Только матери сообщи.
Но Тэкля слышала весь разговор сыновей, находясь в соседней комнате. Поздно вечером она позвала Тадеуша и вручила ему письмо для Сосновского. В письме Тэкля просила в память о покойном муже помочь сыну, устроить Тадеуша на службу и быть ему покровителем в этом сложном мире.
На следующий день рано утром крестьяне деревни Сехновичи, вышедшие отрабатывать барщину в поле, увидели своего молодого господина верхом на лошади, к седлу которой были подвязаны два баула с вещами и провизией. Тадеуш Костюшко направлялся в Варшаву на встречу со своей судьбой, которую готовила ему жизнь. Какой бурной она будет у него, он даже не догадывался. Да и что мог предположить простой шляхтич, у которого в кармане были только мелкие деньги да старая лошадь, которую в последние годы было жалко запрягать для тяжёлой лошадиной работы.
Правда, была ещё голова на плечах и амбиции, но такого добра на просторах Европы хватало в достаточном количестве. События же, происходившие в это время в Речи Посполитой и в других странах Старого Света, — вот что главным образом предопределило дальнейшую судьбу молодого шляхтича, который сейчас мирно покачивался в седле. Он мечтал лишь о каком-нибудь скромном месте на государственной службе среди чиновников Речи Посполитой или видел себя в рядах солдат её армии. Но какое именно место в истории он займёт в ближайшие десятилетия, Тадеуш не мог предположить.
Именно после смерти русской императрицы Елизаветы Петровны последовали события, которые на протяжении долгих лет потрясали европейские государства. Они-то и оказались судьбоносными в жизни девятнадцатилетнего Тадеуша Костюшко.
 а окном было темно, и до рассвета оставалось ещё много времени, когда Костюшко сбросил с себя одеяло и встал с кровати. Поднявшись с постели, он подошёл к столу, под которым стоял тазик с холодной водой, заранее им поставленный ещё с вечера.
Запалив свечу и присев за столом, Тадеуш поставил ноги в тазик и открыл учебник по французскому языку.
Костюшко, поступив в Рыцарскую школу, в начале учёбы по успеваемости отставал от других кадетов, так как был зачислен в то время, когда занятия уже шли полным ходом. Да и тех знаний, которые получил Тадеуш в школе в Любешове, явно не хватало. Поэтому и приходилось навёрстывать упущенное, изучать материал в дополнительное время, которое он мог выкроить только в такие ранние часы. А чтобы быть бодрым с рассветом и не заснуть над учебниками, Тадеуш ставил ноги в тазик с холодной водой. Так делал шведский король Карл XII, жизнеописание которого Костюшко изучил досконально, часами просиживая в библиотеке.
Для Тадеуша этот король и его судьба стали открытием. Оказывается, бывают и такие короли, которые не только ведут в сражение армии, побеждают своих врагов, но и живут иной, скромной повседневной жизнью, принимая ту пищу, которую едят солдаты его армии, спят на жёсткой постели и встают с рассветом, чтобы успеть за день закончить максимальное количество государственных дел.
Прочитав жизнеописание Карла XII, Костюшко с восторгом рассказывал потом о нём своим товарищам, с которыми сошёлся за время учёбы в Рыцарской школе. За его такие рассказы и пример, которому он следовал, подражая своему кумиру, Тадеуша по-доброму прозвали Шведом, на что он не обижался, а, скорее, гордился этим прозвищем.
Молодой кадет из провинции, который не мог похвастаться древностью рода, выучил почти наизусть Кодекс чести кадетов Рыцарской школы (Prawidla moraine dla szkola rycerskiey), который составил для них сам Адам Казимир Чарторыский. За годы учёбы в этом привилегированном учебном заведении Костюшко, к удовлетворению и гордости Юзефа Сосновского, проявил свои способности в полной мере и по многим предметам стал одним из лучших кадетов. За успехи в учёбе и положение лидера, которое Тадеуш достойно занимал среди своих товарищей, он был замечен и поощрён ещё задолго до окончания школы. Он был назначен на должность подбригадира с окладом в 72 злотых в месяц, а в 1769 году после присвоения ему звания капитана он получал уже 200 злотых в месяц. А в те времена такая сумма считалась хорошим доходом.
Кроме успехов в учёбе, Тадеуш Костюшко уже тогда приобрёл авторитет и среди тех, кто в ближайшем будущем станет элитой армии Речи Посполитой. Казимир Сапега, Иосиф Орловский, Потоцкий и другие кадеты школы, представители известных фамилий, считали Костюшко своим товарищем, а впоследствии, через много лет с гордостью вспоминали и рассказывали своим детям и внукам, что несколько лет учились вместе с ним.
Однако наступило время, когда на Костюшко обратили внимание не только его преподаватели.
Однажды во время перерыва между занятиями к Костюшко подошёл Казимир Сапега, с которым он поддерживал хорошие, дружеские отношения после злополучной дуэли. Сапега предложил Костюшко встретиться в укромном месте после занятий, пояснив, что разговор предстоит серьёзный и требует особой конфиденциальности.
— Перед тем, как я сообщу тебе то, зачем пригласил на этот разговор, дай мне слово шляхтича, что всё, что ты услышишь сейчас, останется между нами, — начал тихо и загадочно говорить Сапега, когда они с Костюшко уединились после занятий вечером в одном из учебных классов.
— Клянусь честью шляхтича, — ответил товарищу Костюшко, насторожившись от таинственности, с которой начал разговор недавний обидчик и соперник.
— Ты когда-нибудь слышал о неком тайном обществе вольных каменщиков? — задал вопрос Сапега после произнесённой его товарищем клятвы.
Костюшко сразу вспомнил недавний разговор с Иосифом Орловским, когда тот в один из вечеров в их небольшой комнате, где никого, кроме них, не было, почти шёпотом поведал Костюшко о том, что многие известные лица в Речи Посполитой, включая приближённых самого короля, являются членами тайного масонского общества, называя себя вольными каменщиками. При этом около часа они обменивались теми сведениями, которыми владели об этом обществе и целях его деятельности. Слухи о масонах ходили среди кадетов разные, но никто толком о них не знал. Да что могли знать эти юноши, не будучи сами посвящёнными вчлены этой таинственной организации. Но, как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
— Да, слышал, и, наверно, не я один, — ответил Тадеуш, ожидая от Сапеги нового вопроса.
— А что ты слышал о членах этого общества? — задал, как и ожидалось, ещё один вопрос Сапега.
— Да много разных разговоров идёт по школе, — уклончиво начал говорить Тадеуш. — Слышал, что эта организация создана влиятельными в государстве людьми.
— А что ещё? — продолжал допытываться Сапега.
— Ну, слышал, что целью масонских обществ является объединение усилий её членов для оказания помощи нуждающимся и создание нового сообщества людей, занимающихся благотворительной деятельностью. Вот и всё, что я могу тебе сказать.
Костюшко замолчал и внимательно посмотрел на Сапегу. Тот тоже молчал и, в свою очередь, также уставился на Тадеуша.
— А сам я с этими вольными каменщиками не знаком и общаться с ними не приходилось. А почему ты спрашиваешь меня о них, Казимир? — теперь уже Костюшко начал спрашивать у своего товарища. Ведь не просто так, из праздного любопытства, Сапега закрылся с ним в этом классе.
Сапега напустил на себя важный вид, приосанился, выдержал паузу и сказал:
— Тадеуш Бонавентура Костюшко! Я, Казимир Нестор Сапега, уполномочен от имени братьев вольных каменщиков сделать тебе предложение о вступлении в наше братство. Что ты скажешь по этому поводу?
Костюшко задумался. Предложение было неожиданным, и он немного растерялся. Он никак не предполагал, что Казимир Сапега может быть членом этого таинственного общества. Если его отец или кто-то из его родственников-магнатов, то это понятно. Но молодой человек — сын пусть даже известной в Речи Посполитой фамилии.
— Казимир, давай поговорим об этом не так торжественно и проще. Если это шутка, то не очень остроумная, а если ты серьёзно... — Тадеуш посмотрел на Сапегу, сохраняющего на своём лице выражение важности момента. Костюшко понял: это не розыгрыш. Такими вещами Сапега шутить не будет. Мысли проносились в голове у Тадеуша, но он не мог понять, почему именно он получил такое предложение.
«А может, многим кадетам уже это предложили, а кто-то даже вступил в братство? Я же об этом просто ничего не знаю. Наверно, теперь наступил и мой черёд принять решение», — подумал Костюшко и вопросительно посмотрел на товарища.
Казимир Сапега заметил, что Тадеуш в растерянности и не может ему ничего сказать. Он вспомнил себя на его месте, когда год назад получил такое же предложение от одного из братьев, и решил помочь Костюшко принять решение.
— Тадеуш, я уже почти год являюсь членом братства. Поверь, это достойные люди, которые желают только добра и делают многое, чтобы жизнь в нашем отечестве изменилась к лучшему. Наши братья есть не только в Речи Посполитой. Они живут во многих странах по всей Европе. И не только в Европе... — начал свои пояснения Сапега.
— Ну, почему всё-таки я? Почему твои братья обратили внимание на меня, молодого кадета из скромной семьи шляхтича? Я, в отличие от тебя, не могу похвастаться древностью рода. Я не богат и не имею за душой практически ничего? Ты же знаешь меня, Казимир, объясни, — спросил Тадеуш Казимира Сапегу, пытаясь одновременно привести свои мысли в порядок.
— У тебя есть ум, понятие о чести шляхтича, своим старанием в учёбе ты показал своё желание добиться в жизни гораздо большего, чего мог бы себе позволить простой шляхтич. И главное, ты был замечен и отмечен братьями среди многих тебе подобных, — достаточно подробно объяснил причину выбора его товарищ. — А это уже лично твоя заслуга, а не твоей родословной. Теперь тебе понятно, почему я разговариваю сейчас именно с тобой? — спросил Сапега, в упор смотря на Костюшко и следя за его реакцией.
Пока Сапега говорил, мысли в голове у Костюшко пришли в порядок, и он мог сосредоточиться и спокойно анализировать ситуацию. Он понимал серьёзность момента и то, что ответ ему Сапеге всё-таки надо давать.
«Интересно, кто из братьев меня выделил из всех курсантов школы? Кто ещё входит в братство из тех, кого я знаю и кто хорошо знает меня? Юзеф Сосновский? Орловский? Начальник школы? Он недавно долго разговаривал со мной, расспрашивая о моих успехах в учёбе, о моих планах и взаимоотношениях с другими кадетами», — размышлял Костюшко, одновременно обдумывая вариант ответа Сапеге.
— Предложение очень неожиданное, чтобы я дал тебе сразу ответ. Мне надо подумать, — ответил наконец он.
— Я понимаю. Иначе не могло и быть. Я даже рад, что ты не сразу принял решение. Это ещё раз подтверждает твою серьёзность в принятии решений по важным вопросам. Два дня тебе хватит, чтобы дать мне ответ? — Сапега радостно улыбнулся и похлопал дружески товарища по плечу.
— Хватит. Через два дня встретимся в это же время и на этом месте, — предложил Костюшко Сапоге, и тот кивнул в ответ. На этом будущие братья расстались.
Через два дня после уроков по верховой езде и фехтованию они вновь встретились в условленном мосте. Костюшко, к радости Сапеги, согласился стать членом тайного общества, а Сапега в свою очередь коротко объяснил ему процедуру посвящения в братство с пояснением проводимых при этом обрядов и определил время и место их проведения.
В ночь перед посвящением в члены братства мольных каменщиков Костюшко не спалось. Он ещё смутно представлял себя в качестве члена братства, но интуитивно принимал тот их образ жизни, который Тадеуш мог себе представить к тому времени из того, что он знал о масонах.
Масонские союзы возникли в Польше не так давно, во время правления Августа III. И если сначала король лояльно смотрел на данное новое течение общественной жизни Речи Посполитой, то вскоре ему пришлось высказать своё отрицательное мнение к масонам по требованию духовенства, которое осуждало деятельность этих союзов и по-своему подвергало преследованию их членов.
По этой причине общества масонов в Речи Посполитой в начале своего становления развивались слабо. К тому же основателями таких общественных объединений при правлении Августа III были в основном прибывающие в страну иностранцы, которых поддерживало в основном молодое поколение — дети магнатов. Поэтому молодые Огинские и Потоцкие следовали в деятельности по распространению масонства в своей родине тем же иностранным французским и немецким образцам.
Но с момента вступления на престол Станислава Августа Понятовского давление католической церкви на общества вольных каменщиков в Польше ослабло, и их дальнейшее развитие уже продолжилось с участием более широких слоёв польской и литовской шляхты. Вскоре появилось несколько отделов, которые из-за многочисленности членов масонских союзов делились на польский, немецкий и французский[14]. А общие совместные собрания, которые проводились масонами на территории Речи Посполитой, где они обсуждали наиболее важные свои вопросы, назывались «Великой варшавской ложей».
Среди польских масонских союзов была чётко определена их организационная структура и порядок деятельности, функции и отношения главной варшавской ложи к провинциальным. Устав масонов устанавливал чёткие правила и способы выбора должностных лиц отделов и варшавской ложи, определял их обязанности и обязанности членов организации, а также регламент заседаний.
Во главе польских масонов стоял великий магистр (мастер). В начале этого нового для Польши общественного движения одним из первых этой чести удостоился генерал Андрей Мокроновский. Позднее великими магистрами становились представители известных в Речи Посполитой фамилий. Членами этой тайной организации были многие представители польского королевского двора, включая короля Станислава Августа Понятовского.
Всего этого по молодости лет Костюшко мог и не знать к моменту его посвящения в братство вольных каменщиков. Но он знал главное — масоны своей целью ставят борьбу с предрассудками и искоренение религиозной нетерпимости, открывают приюты для стариков и нищих, организуют другие благотворительные мероприятия. Этого было достаточно, чтобы Тадеуш Костюшко принимал масонов душой и относился к ним с симпатией. Так что предложение молодого Сапеги легло на благодатную почву, и Костюшко духовно уже был вместе с новыми братьями.
Костюшко ввели в большую просторную с высоким потолком комнату кубической формы, напоминающую древнее святилище, в которой находились несколько мужчин, братьев, одетых в белые накидки с капюшонами, в поясах и белых перчатках. На груди у братьев мерцали церемониальные медали, а их лица были прикрыты капюшоном. Вся комната освещалась множеством свечей. У стены напротив входной двери стоял массивный трон, а вдоль стен расположились деревянные скамьи. На стене Костюшко успел заметить изображения символических знаков, напоминающих калейдоскоп символов Древнего Египта, Древнего Израиля, астрономические чертежи и что-то тому подобное.
Посреди квадратной комнаты размещался массивный алтарь чёрного цвета, на котором лежал двуручный меч.
Все присутствующие в комнате стояли, кроме одного, сидящего на троне с высокой спинкой — магистра «Великой варшавской ложи». Костюшко узнал в нём генерала Мокроновского, несмотря на то, что капюшон скрывал частично его лицо (генерал ранее несколько раз посещал Рыцарскую школу и даже читал лекции кадетам). Перед великим магистром стоял небольшой столик, на котором возвышалась украшенная изумрудами золотая чаша, наполненная красным вином.
Всё это бросилось в глаза Костюшко перед тем, как великий магистр поднялся при его приближении к трону. Стоящий рядом с генералом брат передал ему меч, лежащий на алтаре. Костюшко стоял перед алтарём с непокрытой головой в свободной, распахнутой на груди белой рубашке, левая штанина была закатана до колена, правый рукав подвернут до локтя, на шее висела петля — «вервие». Один из братьев, стоящий ближе к Костюшко, подошёл к нему, завязал ему глаза бархатной повязкой и вернулся на своё место.
Костюшко встал перед великим магистром на одно колено. В соответствии с установленным ритуалом тот поочерёдно на каждое плечо Костюшко положил лезвие меча. Тадеуш услышал от магистра вопрос, которого ожидал, и диалог посвящения в братство начался:
— Отвечай, по доброй ли воле и без принуждения становишься ты нашим братом?
— Да.
— Не имеешь ли корыстных или иных нечестивых помыслов, приобретая знания и становясь посвящённым в тайны братства?
— Нет, не имею.
— Тогда принеси обязательство, которое приносит каждый из нас, вступая в братство.
Великий магистр взял чашу с вином и поднёс её Костюшко. Кто-то из братьев развязал ему глаза, и Тадеуш, увидев перед собой чашу, произнёс:
— Пусть это вино станет для меня смертельным ядом, если я когда-нибудь при любых обстоятельствах осознанно нарушу своё обязательство.
Проговорив клятву, Костюшко поднёс ко рту чашу и медленно выпил вино. Перевернув чашу, показывая, что она пуста, под одобрительное кивание братьев Тадеуш протянул её великому магистру.
Великий магистр принял чашу, поставил её на прежнее место и вернулся к трону. Усевшись, он сделал рукой едва уловимый знак, и Костюшко на плечи надели плащ ордена масонов. В тот же миг зазвучала откуда-то из стены органная музыка. Ритуал посвящения в братство был завершён, и Костюшко сопроводили на его место рядом с Казимиром Сапегой, одетым в такой же, как у его друга, плащ с капюшоном.
На следующий день Тадеуш Костюшко и Казимир Сапега шли рядом по коридору школы и о чём-то мирно беседовали между собой. На безымянном пальце правой руки Тадеуша появился перстень со странным изображением, который ему передал Сапега после торжественного посвящения в братство вольных каменщиков. С этого памятного дня перстень станет для Тадеуша талисманом, который он не будет снимать до конца своей жизни.
Никто из преподавателей школы или кадетов, которые видели их в данный момент, не могли даже предположить, что эти двое молодых симпатичных людей ещё вчера вечером стали братьями в тайном обществе вольных каменщиков. Тем более никто из окружающих не мог даже подумать о том, что потомки навечно впишут их имена в историю Речи Посполитой.
а окном было темно, и до рассвета оставалось ещё много времени, когда Костюшко сбросил с себя одеяло и встал с кровати. Поднявшись с постели, он подошёл к столу, под которым стоял тазик с холодной водой, заранее им поставленный ещё с вечера.
Запалив свечу и присев за столом, Тадеуш поставил ноги в тазик и открыл учебник по французскому языку.
Костюшко, поступив в Рыцарскую школу, в начале учёбы по успеваемости отставал от других кадетов, так как был зачислен в то время, когда занятия уже шли полным ходом. Да и тех знаний, которые получил Тадеуш в школе в Любешове, явно не хватало. Поэтому и приходилось навёрстывать упущенное, изучать материал в дополнительное время, которое он мог выкроить только в такие ранние часы. А чтобы быть бодрым с рассветом и не заснуть над учебниками, Тадеуш ставил ноги в тазик с холодной водой. Так делал шведский король Карл XII, жизнеописание которого Костюшко изучил досконально, часами просиживая в библиотеке.
Для Тадеуша этот король и его судьба стали открытием. Оказывается, бывают и такие короли, которые не только ведут в сражение армии, побеждают своих врагов, но и живут иной, скромной повседневной жизнью, принимая ту пищу, которую едят солдаты его армии, спят на жёсткой постели и встают с рассветом, чтобы успеть за день закончить максимальное количество государственных дел.
Прочитав жизнеописание Карла XII, Костюшко с восторгом рассказывал потом о нём своим товарищам, с которыми сошёлся за время учёбы в Рыцарской школе. За его такие рассказы и пример, которому он следовал, подражая своему кумиру, Тадеуша по-доброму прозвали Шведом, на что он не обижался, а, скорее, гордился этим прозвищем.
Молодой кадет из провинции, который не мог похвастаться древностью рода, выучил почти наизусть Кодекс чести кадетов Рыцарской школы (Prawidla moraine dla szkola rycerskiey), который составил для них сам Адам Казимир Чарторыский. За годы учёбы в этом привилегированном учебном заведении Костюшко, к удовлетворению и гордости Юзефа Сосновского, проявил свои способности в полной мере и по многим предметам стал одним из лучших кадетов. За успехи в учёбе и положение лидера, которое Тадеуш достойно занимал среди своих товарищей, он был замечен и поощрён ещё задолго до окончания школы. Он был назначен на должность подбригадира с окладом в 72 злотых в месяц, а в 1769 году после присвоения ему звания капитана он получал уже 200 злотых в месяц. А в те времена такая сумма считалась хорошим доходом.
Кроме успехов в учёбе, Тадеуш Костюшко уже тогда приобрёл авторитет и среди тех, кто в ближайшем будущем станет элитой армии Речи Посполитой. Казимир Сапега, Иосиф Орловский, Потоцкий и другие кадеты школы, представители известных фамилий, считали Костюшко своим товарищем, а впоследствии, через много лет с гордостью вспоминали и рассказывали своим детям и внукам, что несколько лет учились вместе с ним.
Однако наступило время, когда на Костюшко обратили внимание не только его преподаватели.
Однажды во время перерыва между занятиями к Костюшко подошёл Казимир Сапега, с которым он поддерживал хорошие, дружеские отношения после злополучной дуэли. Сапега предложил Костюшко встретиться в укромном месте после занятий, пояснив, что разговор предстоит серьёзный и требует особой конфиденциальности.
— Перед тем, как я сообщу тебе то, зачем пригласил на этот разговор, дай мне слово шляхтича, что всё, что ты услышишь сейчас, останется между нами, — начал тихо и загадочно говорить Сапега, когда они с Костюшко уединились после занятий вечером в одном из учебных классов.
— Клянусь честью шляхтича, — ответил товарищу Костюшко, насторожившись от таинственности, с которой начал разговор недавний обидчик и соперник.
— Ты когда-нибудь слышал о неком тайном обществе вольных каменщиков? — задал вопрос Сапега после произнесённой его товарищем клятвы.
Костюшко сразу вспомнил недавний разговор с Иосифом Орловским, когда тот в один из вечеров в их небольшой комнате, где никого, кроме них, не было, почти шёпотом поведал Костюшко о том, что многие известные лица в Речи Посполитой, включая приближённых самого короля, являются членами тайного масонского общества, называя себя вольными каменщиками. При этом около часа они обменивались теми сведениями, которыми владели об этом обществе и целях его деятельности. Слухи о масонах ходили среди кадетов разные, но никто толком о них не знал. Да что могли знать эти юноши, не будучи сами посвящёнными вчлены этой таинственной организации. Но, как говорится, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
— Да, слышал, и, наверно, не я один, — ответил Тадеуш, ожидая от Сапеги нового вопроса.
— А что ты слышал о членах этого общества? — задал, как и ожидалось, ещё один вопрос Сапега.
— Да много разных разговоров идёт по школе, — уклончиво начал говорить Тадеуш. — Слышал, что эта организация создана влиятельными в государстве людьми.
— А что ещё? — продолжал допытываться Сапега.
— Ну, слышал, что целью масонских обществ является объединение усилий её членов для оказания помощи нуждающимся и создание нового сообщества людей, занимающихся благотворительной деятельностью. Вот и всё, что я могу тебе сказать.
Костюшко замолчал и внимательно посмотрел на Сапегу. Тот тоже молчал и, в свою очередь, также уставился на Тадеуша.
— А сам я с этими вольными каменщиками не знаком и общаться с ними не приходилось. А почему ты спрашиваешь меня о них, Казимир? — теперь уже Костюшко начал спрашивать у своего товарища. Ведь не просто так, из праздного любопытства, Сапега закрылся с ним в этом классе.
Сапега напустил на себя важный вид, приосанился, выдержал паузу и сказал:
— Тадеуш Бонавентура Костюшко! Я, Казимир Нестор Сапега, уполномочен от имени братьев вольных каменщиков сделать тебе предложение о вступлении в наше братство. Что ты скажешь по этому поводу?
Костюшко задумался. Предложение было неожиданным, и он немного растерялся. Он никак не предполагал, что Казимир Сапега может быть членом этого таинственного общества. Если его отец или кто-то из его родственников-магнатов, то это понятно. Но молодой человек — сын пусть даже известной в Речи Посполитой фамилии.
— Казимир, давай поговорим об этом не так торжественно и проще. Если это шутка, то не очень остроумная, а если ты серьёзно... — Тадеуш посмотрел на Сапегу, сохраняющего на своём лице выражение важности момента. Костюшко понял: это не розыгрыш. Такими вещами Сапега шутить не будет. Мысли проносились в голове у Тадеуша, но он не мог понять, почему именно он получил такое предложение.
«А может, многим кадетам уже это предложили, а кто-то даже вступил в братство? Я же об этом просто ничего не знаю. Наверно, теперь наступил и мой черёд принять решение», — подумал Костюшко и вопросительно посмотрел на товарища.
Казимир Сапега заметил, что Тадеуш в растерянности и не может ему ничего сказать. Он вспомнил себя на его месте, когда год назад получил такое же предложение от одного из братьев, и решил помочь Костюшко принять решение.
— Тадеуш, я уже почти год являюсь членом братства. Поверь, это достойные люди, которые желают только добра и делают многое, чтобы жизнь в нашем отечестве изменилась к лучшему. Наши братья есть не только в Речи Посполитой. Они живут во многих странах по всей Европе. И не только в Европе... — начал свои пояснения Сапега.
— Ну, почему всё-таки я? Почему твои братья обратили внимание на меня, молодого кадета из скромной семьи шляхтича? Я, в отличие от тебя, не могу похвастаться древностью рода. Я не богат и не имею за душой практически ничего? Ты же знаешь меня, Казимир, объясни, — спросил Тадеуш Казимира Сапегу, пытаясь одновременно привести свои мысли в порядок.
— У тебя есть ум, понятие о чести шляхтича, своим старанием в учёбе ты показал своё желание добиться в жизни гораздо большего, чего мог бы себе позволить простой шляхтич. И главное, ты был замечен и отмечен братьями среди многих тебе подобных, — достаточно подробно объяснил причину выбора его товарищ. — А это уже лично твоя заслуга, а не твоей родословной. Теперь тебе понятно, почему я разговариваю сейчас именно с тобой? — спросил Сапега, в упор смотря на Костюшко и следя за его реакцией.
Пока Сапега говорил, мысли в голове у Костюшко пришли в порядок, и он мог сосредоточиться и спокойно анализировать ситуацию. Он понимал серьёзность момента и то, что ответ ему Сапеге всё-таки надо давать.
«Интересно, кто из братьев меня выделил из всех курсантов школы? Кто ещё входит в братство из тех, кого я знаю и кто хорошо знает меня? Юзеф Сосновский? Орловский? Начальник школы? Он недавно долго разговаривал со мной, расспрашивая о моих успехах в учёбе, о моих планах и взаимоотношениях с другими кадетами», — размышлял Костюшко, одновременно обдумывая вариант ответа Сапеге.
— Предложение очень неожиданное, чтобы я дал тебе сразу ответ. Мне надо подумать, — ответил наконец он.
— Я понимаю. Иначе не могло и быть. Я даже рад, что ты не сразу принял решение. Это ещё раз подтверждает твою серьёзность в принятии решений по важным вопросам. Два дня тебе хватит, чтобы дать мне ответ? — Сапега радостно улыбнулся и похлопал дружески товарища по плечу.
— Хватит. Через два дня встретимся в это же время и на этом месте, — предложил Костюшко Сапоге, и тот кивнул в ответ. На этом будущие братья расстались.
Через два дня после уроков по верховой езде и фехтованию они вновь встретились в условленном мосте. Костюшко, к радости Сапеги, согласился стать членом тайного общества, а Сапега в свою очередь коротко объяснил ему процедуру посвящения в братство с пояснением проводимых при этом обрядов и определил время и место их проведения.
В ночь перед посвящением в члены братства мольных каменщиков Костюшко не спалось. Он ещё смутно представлял себя в качестве члена братства, но интуитивно принимал тот их образ жизни, который Тадеуш мог себе представить к тому времени из того, что он знал о масонах.
Масонские союзы возникли в Польше не так давно, во время правления Августа III. И если сначала король лояльно смотрел на данное новое течение общественной жизни Речи Посполитой, то вскоре ему пришлось высказать своё отрицательное мнение к масонам по требованию духовенства, которое осуждало деятельность этих союзов и по-своему подвергало преследованию их членов.
По этой причине общества масонов в Речи Посполитой в начале своего становления развивались слабо. К тому же основателями таких общественных объединений при правлении Августа III были в основном прибывающие в страну иностранцы, которых поддерживало в основном молодое поколение — дети магнатов. Поэтому молодые Огинские и Потоцкие следовали в деятельности по распространению масонства в своей родине тем же иностранным французским и немецким образцам.
Но с момента вступления на престол Станислава Августа Понятовского давление католической церкви на общества вольных каменщиков в Польше ослабло, и их дальнейшее развитие уже продолжилось с участием более широких слоёв польской и литовской шляхты. Вскоре появилось несколько отделов, которые из-за многочисленности членов масонских союзов делились на польский, немецкий и французский[14]. А общие совместные собрания, которые проводились масонами на территории Речи Посполитой, где они обсуждали наиболее важные свои вопросы, назывались «Великой варшавской ложей».
Среди польских масонских союзов была чётко определена их организационная структура и порядок деятельности, функции и отношения главной варшавской ложи к провинциальным. Устав масонов устанавливал чёткие правила и способы выбора должностных лиц отделов и варшавской ложи, определял их обязанности и обязанности членов организации, а также регламент заседаний.
Во главе польских масонов стоял великий магистр (мастер). В начале этого нового для Польши общественного движения одним из первых этой чести удостоился генерал Андрей Мокроновский. Позднее великими магистрами становились представители известных в Речи Посполитой фамилий. Членами этой тайной организации были многие представители польского королевского двора, включая короля Станислава Августа Понятовского.
Всего этого по молодости лет Костюшко мог и не знать к моменту его посвящения в братство вольных каменщиков. Но он знал главное — масоны своей целью ставят борьбу с предрассудками и искоренение религиозной нетерпимости, открывают приюты для стариков и нищих, организуют другие благотворительные мероприятия. Этого было достаточно, чтобы Тадеуш Костюшко принимал масонов душой и относился к ним с симпатией. Так что предложение молодого Сапеги легло на благодатную почву, и Костюшко духовно уже был вместе с новыми братьями.
Костюшко ввели в большую просторную с высоким потолком комнату кубической формы, напоминающую древнее святилище, в которой находились несколько мужчин, братьев, одетых в белые накидки с капюшонами, в поясах и белых перчатках. На груди у братьев мерцали церемониальные медали, а их лица были прикрыты капюшоном. Вся комната освещалась множеством свечей. У стены напротив входной двери стоял массивный трон, а вдоль стен расположились деревянные скамьи. На стене Костюшко успел заметить изображения символических знаков, напоминающих калейдоскоп символов Древнего Египта, Древнего Израиля, астрономические чертежи и что-то тому подобное.
Посреди квадратной комнаты размещался массивный алтарь чёрного цвета, на котором лежал двуручный меч.
Все присутствующие в комнате стояли, кроме одного, сидящего на троне с высокой спинкой — магистра «Великой варшавской ложи». Костюшко узнал в нём генерала Мокроновского, несмотря на то, что капюшон скрывал частично его лицо (генерал ранее несколько раз посещал Рыцарскую школу и даже читал лекции кадетам). Перед великим магистром стоял небольшой столик, на котором возвышалась украшенная изумрудами золотая чаша, наполненная красным вином.
Всё это бросилось в глаза Костюшко перед тем, как великий магистр поднялся при его приближении к трону. Стоящий рядом с генералом брат передал ему меч, лежащий на алтаре. Костюшко стоял перед алтарём с непокрытой головой в свободной, распахнутой на груди белой рубашке, левая штанина была закатана до колена, правый рукав подвернут до локтя, на шее висела петля — «вервие». Один из братьев, стоящий ближе к Костюшко, подошёл к нему, завязал ему глаза бархатной повязкой и вернулся на своё место.
Костюшко встал перед великим магистром на одно колено. В соответствии с установленным ритуалом тот поочерёдно на каждое плечо Костюшко положил лезвие меча. Тадеуш услышал от магистра вопрос, которого ожидал, и диалог посвящения в братство начался:
— Отвечай, по доброй ли воле и без принуждения становишься ты нашим братом?
— Да.
— Не имеешь ли корыстных или иных нечестивых помыслов, приобретая знания и становясь посвящённым в тайны братства?
— Нет, не имею.
— Тогда принеси обязательство, которое приносит каждый из нас, вступая в братство.
Великий магистр взял чашу с вином и поднёс её Костюшко. Кто-то из братьев развязал ему глаза, и Тадеуш, увидев перед собой чашу, произнёс:
— Пусть это вино станет для меня смертельным ядом, если я когда-нибудь при любых обстоятельствах осознанно нарушу своё обязательство.
Проговорив клятву, Костюшко поднёс ко рту чашу и медленно выпил вино. Перевернув чашу, показывая, что она пуста, под одобрительное кивание братьев Тадеуш протянул её великому магистру.
Великий магистр принял чашу, поставил её на прежнее место и вернулся к трону. Усевшись, он сделал рукой едва уловимый знак, и Костюшко на плечи надели плащ ордена масонов. В тот же миг зазвучала откуда-то из стены органная музыка. Ритуал посвящения в братство был завершён, и Костюшко сопроводили на его место рядом с Казимиром Сапегой, одетым в такой же, как у его друга, плащ с капюшоном.
На следующий день Тадеуш Костюшко и Казимир Сапега шли рядом по коридору школы и о чём-то мирно беседовали между собой. На безымянном пальце правой руки Тадеуша появился перстень со странным изображением, который ему передал Сапега после торжественного посвящения в братство вольных каменщиков. С этого памятного дня перстень станет для Тадеуша талисманом, который он не будет снимать до конца своей жизни.
Никто из преподавателей школы или кадетов, которые видели их в данный момент, не могли даже предположить, что эти двое молодых симпатичных людей ещё вчера вечером стали братьями в тайном обществе вольных каменщиков. Тем более никто из окружающих не мог даже подумать о том, что потомки навечно впишут их имена в историю Речи Посполитой.
 ороль Польши сидел за столом и просматривал список офицеров — выпускников Рыцарской школы 1769 года. Отдельным списком были выделены несколько фамилий, отличившихся в учёбе, на которых возлагались особые надежды со стороны государства. Все офицеры из второго списка должны были в ближайшее время отправиться во Францию для дальнейшего прохождения учёбы в престижных военных институтах. При этом финансирование их учёбы должно было осуществляться из казны Речи Посполитой.
— Не много ли офицеров мы собираемся отправить в Париж? — спросил Станислав Август Понятовский стоящего рядом Михаила Чарторыского, который составил и принёс этот список для утверждения королю.
— Это самые лучшие офицеры, за которых нам не будет стыдно в Европе, — ответил искренне Чарторыский.
Он-то прекрасно понимал важность данного события. Первые выпускники Рыцарской школы едут в Париж повышать уровень своих знаний. Четыре года их обучением в Варшаве занимались исключительно светские профессора, в большей части приглашённые из иностранных европейских университетов. И теперь их ожидает почётная миссия представлять в ведущей европейской стране свою родину и показать союзникам, какие достойные офицеры будут служить в армии Речи Посполитой. Чарторыский был уверен в этих молодых людях и в том, что они смогут за границей продемонстрировать свои знания, способности и уровень подготовки. Они были лучшие.
Рыцарская школа являлась детищем не только польского короля Станислава Августа Понятовского, но и князя Михаила Чарторыского. Князь лично составил для своих воспитанников «Кадетский катехизис», в дальнейшем ставший прообразом нравственной науки, которую обязали изучать в польских школах и университетах вместо Закона Божия. В этот труд были включены положения о нравственности, основанной не на религиозном догматизме, а на чувстве чести и достоинства, на обязательствах гражданина перед своим Отечеством.
Эта наука должна была побуждать человека к совершению добрых поступков. Причём они должны совершаться им не из корыстных ожиданий награды за добрые дела в земной жизни и не перед страхом наказания в будущей, после смерти. Совершенствование человека как личности, познание добра и зла через добродетель и пороки — вот основная идея нравственной науки, которая получила своё развитие через «Кадетский катехизис».
Понимая важность естественных наук, Михаил Чарторыский выписал из-за границы и разместил и здании Рыцарской школы машину, которая во время работы представляла траекторию движения небесных тел в соответствии с учением Коперника. И тогда будущие офицеры смогли увидеть, как велик окружающий их мир, и представить, к своему огорчению, как малы они по сравнению с ним. При участии этого государственного деятеля и по его инициативе вышли в свет ряд школьных учебников но истории, географии, грамматике, латинскому языку и другим предметам, которые преподавали в Рыцарской школе и в общеобразовательных замещениях Речи Посполитой.
Поэтому Михаил Чарторыский, стоя перед королём, как бы давал отчёт за проделанную им работу за последние пять лет. Именно с того момента, когда сейм обязал вновь избранного короля основать Рыцарскую школу, князь активно совмещал должность литовского канцлера и куратора этой школы. Результаты такой деятельности были налицо: канцлеру было чем гордиться.
— Надеюсь на ваш опыт и дальновидность и на то, что в этом списке достойные юноши. Я попрошу вас лично встретиться с каждым из них в отдельности и поговорить об их будущем, — попросил Чарторыского король.
Эта просьба была чистой формальностью. Король не знал, что Михаил Чарторыский уже провёл такое собеседование с выпускниками школы из второго списка и только после этого окончательно убедился в правильности своего выбора. Список офицеров, первых лучших выпускников Рыцарской школы, которым предстояло в ближайшее время прибыть во Францию для дальнейшей учёбы в военной академии, был полный и окончательный. И среди прочих в этом списке стояли фамилии Тадеуша Костюшко и Иосифа Орловского.
— И ещё, — Станислав Понятовский на секунду задумался, — пусть разумно расходуют те средства, которые казна им выделяет для учёбы за границей. Всё-таки я их понимаю: оказаться в Париже в их возрасте... Слишком много соблазнов, слишком много, — сказал король, вспоминая свои молодые годы. Взяв перо и обмакнув его в чернила, он решительно поставил подпись на бумаге, утверждая тем самым своё решение.
В честь окончания Рыцарской школы и присвоения офицерских званий её первым выпускникам в Варшаве в самом здании школы был устроен бал. На это торжественное мероприятие собрались представители известнейших фамилий со всей Речи Посполитой: Сапеги, Огинские, Потоцкие, Любомирские и, конечно же, Чарторыские. Станислав Август Понятовский собирался также принять участие в этом торжестве, и все ожидали в ближайшее время его прибытия. Но короля так и не дождались. Вместо него прибыл Михаил Чарторыский и дал указание начать торжественный вечер без коронованной особы.
Бывшие кадеты, а ныне офицеры армии Речи Посполитой исполнили «Гимн любви к Родине»[15]. К пению гимна присоединились все, кто присутствовал в зале:
ороль Польши сидел за столом и просматривал список офицеров — выпускников Рыцарской школы 1769 года. Отдельным списком были выделены несколько фамилий, отличившихся в учёбе, на которых возлагались особые надежды со стороны государства. Все офицеры из второго списка должны были в ближайшее время отправиться во Францию для дальнейшего прохождения учёбы в престижных военных институтах. При этом финансирование их учёбы должно было осуществляться из казны Речи Посполитой.
— Не много ли офицеров мы собираемся отправить в Париж? — спросил Станислав Август Понятовский стоящего рядом Михаила Чарторыского, который составил и принёс этот список для утверждения королю.
— Это самые лучшие офицеры, за которых нам не будет стыдно в Европе, — ответил искренне Чарторыский.
Он-то прекрасно понимал важность данного события. Первые выпускники Рыцарской школы едут в Париж повышать уровень своих знаний. Четыре года их обучением в Варшаве занимались исключительно светские профессора, в большей части приглашённые из иностранных европейских университетов. И теперь их ожидает почётная миссия представлять в ведущей европейской стране свою родину и показать союзникам, какие достойные офицеры будут служить в армии Речи Посполитой. Чарторыский был уверен в этих молодых людях и в том, что они смогут за границей продемонстрировать свои знания, способности и уровень подготовки. Они были лучшие.
Рыцарская школа являлась детищем не только польского короля Станислава Августа Понятовского, но и князя Михаила Чарторыского. Князь лично составил для своих воспитанников «Кадетский катехизис», в дальнейшем ставший прообразом нравственной науки, которую обязали изучать в польских школах и университетах вместо Закона Божия. В этот труд были включены положения о нравственности, основанной не на религиозном догматизме, а на чувстве чести и достоинства, на обязательствах гражданина перед своим Отечеством.
Эта наука должна была побуждать человека к совершению добрых поступков. Причём они должны совершаться им не из корыстных ожиданий награды за добрые дела в земной жизни и не перед страхом наказания в будущей, после смерти. Совершенствование человека как личности, познание добра и зла через добродетель и пороки — вот основная идея нравственной науки, которая получила своё развитие через «Кадетский катехизис».
Понимая важность естественных наук, Михаил Чарторыский выписал из-за границы и разместил и здании Рыцарской школы машину, которая во время работы представляла траекторию движения небесных тел в соответствии с учением Коперника. И тогда будущие офицеры смогли увидеть, как велик окружающий их мир, и представить, к своему огорчению, как малы они по сравнению с ним. При участии этого государственного деятеля и по его инициативе вышли в свет ряд школьных учебников но истории, географии, грамматике, латинскому языку и другим предметам, которые преподавали в Рыцарской школе и в общеобразовательных замещениях Речи Посполитой.
Поэтому Михаил Чарторыский, стоя перед королём, как бы давал отчёт за проделанную им работу за последние пять лет. Именно с того момента, когда сейм обязал вновь избранного короля основать Рыцарскую школу, князь активно совмещал должность литовского канцлера и куратора этой школы. Результаты такой деятельности были налицо: канцлеру было чем гордиться.
— Надеюсь на ваш опыт и дальновидность и на то, что в этом списке достойные юноши. Я попрошу вас лично встретиться с каждым из них в отдельности и поговорить об их будущем, — попросил Чарторыского король.
Эта просьба была чистой формальностью. Король не знал, что Михаил Чарторыский уже провёл такое собеседование с выпускниками школы из второго списка и только после этого окончательно убедился в правильности своего выбора. Список офицеров, первых лучших выпускников Рыцарской школы, которым предстояло в ближайшее время прибыть во Францию для дальнейшей учёбы в военной академии, был полный и окончательный. И среди прочих в этом списке стояли фамилии Тадеуша Костюшко и Иосифа Орловского.
— И ещё, — Станислав Понятовский на секунду задумался, — пусть разумно расходуют те средства, которые казна им выделяет для учёбы за границей. Всё-таки я их понимаю: оказаться в Париже в их возрасте... Слишком много соблазнов, слишком много, — сказал король, вспоминая свои молодые годы. Взяв перо и обмакнув его в чернила, он решительно поставил подпись на бумаге, утверждая тем самым своё решение.
В честь окончания Рыцарской школы и присвоения офицерских званий её первым выпускникам в Варшаве в самом здании школы был устроен бал. На это торжественное мероприятие собрались представители известнейших фамилий со всей Речи Посполитой: Сапеги, Огинские, Потоцкие, Любомирские и, конечно же, Чарторыские. Станислав Август Понятовский собирался также принять участие в этом торжестве, и все ожидали в ближайшее время его прибытия. Но короля так и не дождались. Вместо него прибыл Михаил Чарторыский и дал указание начать торжественный вечер без коронованной особы.
Бывшие кадеты, а ныне офицеры армии Речи Посполитой исполнили «Гимн любви к Родине»[15]. К пению гимна присоединились все, кто присутствовал в зале:
 а площади перед собором Парижской Богоматери стояли два молодых человека. Высоко задрав головы, они рассматривали скульптуры святых, установленные на этом дивном архитектурном творении. А вокруг бурлила жизнь большого города, столицы крупнейшего в Европе государства. Здесь же перед величественным собором проезжали кареты, бегали мальчишки, ходили женщины в белых чепчиках, служанки из господских домов выбирали овощи, мясо и вино, чтобы приготовить для своих хозяев завтрак, обед или ужин. В небольшой кузнице молодой кузнец делал мелкий ремонт, раздувая меха, а точильщик на переносном точильном камне точил ножи и топоры всем желающим. Торговцы овощами, мясом и разным бытовым товаром приглашали прохожих подойти именно к их лавке посмотреть лежащий на прилавке товар. Ну а купят у продавца что-либо или нет — это уже зависело от его мастерства и опыта.
— А не вернуться ли нам в гостиницу? — спросил на польском языке один молодой человек другого. — Скоро полдень, а нам надо ещё зайти к секретарю, узнать, когда нас примет министр.
— Посмотри, Иосиф, какая красота, какая архитектура... — ответил другой. — А впрочем, ты прав, пора. Пойдём, а сюда забредём как-нибудь в другой раз.
Костюшко и Орловский (именно они были этими молодыми людьми) быстрым шагом направились в соседнюю улочку, уступая дорогу карете с гербом какого-то французского аристократа. Уже второй день они бродили по Парижу, осматривая город и его здания, восхищались творениями рук человеческих и сравнивали их с аналогичными архитектурными шедеврами Варшавы и Вильно.
Через два дня после приезда в Париж и размещения в гостинице Костюшко, Орловский и другие офицеры, выпускники Варшавской рыцарской школы, прибыли в военное министерство Франции. Здесь каждый из них имел небольшую аудиенцию с военным министром этой страны, в ходе которой задавались похожие вопросы. После приёма у министра они были направлены к его секретарю. Чиновник военного ведомства уточнил предметы, которым приехавшие офицеры-иностранцы хотели бы уделить больше внимания, и новая жизнь для них началась.
Костюшко одним из первых попал на такое собеседование. В приёмной министра кроме него и его друзей толпились какие-то люди и бегали чиновники, таская бумаги с гербовыми печатями. В углу приёмной задумчиво сидели два старых аристократа в напудренных париках. Они опирались подбородками о свои трости с набалдашниками из слоновой кости и как будто всецело погрузились в свои воспоминания далёкой молодости. Казалось, что старики дремали, вспоминая прежние баталии, поражения или победы, в которых они принимали участие.
Тадеуш Костюшко внимательно изучал окружающую его обстановку и иногда бросал взгляд на этих стариков-аристократов, пока он и его товарищи ожидали приёма. Молодой офицер с какой-то жалостью смотрел на них, этих свидетелей былой истории и уходящей эпохи величия и расцвета Франции. Они уже все в прошлом, а у него всё впереди, в будущем, и это будущее казалось ему прекрасным, каковой и должна быть жизнь.
— Тадеуш Бонавентура Костюшко! — громко провозгласил секретарь военного министра, и Тадеуш отвлёкся от своих размышлений. Он поправил на себе камзол, машинально провёл ладонью по волосам и, держа треуголку в левой вытянутой руке, направился к двери. Первое, что бросилось в глаза Костюшко, когда он вошёл в большой овальный зал, было огромное, на всю стену полотно неизвестного ему художника. На нём был изображён эпизод какого-то сражения, на котором конные средневековые рыцари в доспехах поражали своими копьями противников — мавританских всадников. Под картиной за большим столом из тёмного дерева сидел маленький человек, военный министр Франции герцог Эгийон де Ришелье.
— Итак, молодой человек; — обратился к нему скрипящим и неприятным голосом сидящий, оторвавшись от чтения какой-то бумаги, — у вас отличные рекомендации. И чему вы хотите обучаться в Париже и вообще каковы ваши планы на время пребывания во Франции?
— Я бы хотел брать уроки по военной архитектуре, артиллерии и тактике. Меня также интересуют предметы, связанные со строительством мостов, шлюзов и дорог, каналов и плотин, — выпалил в ответ Костюшко и в упор, не моргая, посмотрел на министра.
— Всё это замечательно и похвально. Но я хочу вас предупредить, что вы находитесь во Франции, в её сердце — Париже, — министр внимательно посмотрел на молодого человека, раздумывая, как ему продолжить свою глубокую и важную мысль, — ...в месте, куда, к сожалению, стекаются все вольнодумцы Европы: Монтескьё, Руссо и им подобные.
— Я собираюсь в Париже только учиться, — Костюшко начал понимать, куда клонит этот государственный чиновник.
Военный министр встал из-за своего стола, подошёл к молодому человеку, застывшему как изваяние. Он медленно обошёл его, осматривая сног до головы, и, подойдя вплотную к Костюшко, проговорил, почти не разжимая своих губ:
— Ну, тогда желаю вам успеха, молодой человек. Всю информацию о предстоящей учёбе вы будете получать у моего секретаря. Вы свободны.
Костюшко откланялся и развернулся к выходу.
— Но будьте бдительны и осторожны в выборе друзей в Париже, — уже в спину проговорил ему министр, и польский офицер чётким строевым шагом вышел из кабинета.
Костюшко быстро освоился с бурной жизнью большого города. Уже через пару месяцев учёбы в военной академии Франции он свободно гулял с друзьями по Парижу, отвечая улыбкой на игривые и призывные взгляды молодых парижанок. Он не боялся бродить по большому городу и в одиночестве, свободно ориентировался в нём, двигаясь по узким и кривым улочкам. Во время таких прогулок он размышлял о событиях последних дней, о прочитанной им недавно книге Руссо, мечтал о любви и женщине, которая станет матерью его детей (не меньше четырёх!), и о многом другом, о чём может мечтать мужчина в его годы.
Денег на проживание и питание, которые польские офицеры получили из королевской казны, было не так много, чтобы позволять себе излишества. Но, к счастью, у некоторых товарищей Костюшко были богатые родственники. Они периодически баловали своих чад дополнительными денежными суммами, которые шли в общую кассу для организации шумных пирушек. Не редко такие пирушки заканчивались дуэлями с французскими аристократами или офицерами.
Костюшко также принимал активное участие во всех подобных мероприятиях, но отличался спокойствием и рассудительностью даже после того, как выпивал не одну бутылку хорошего бургундского вина. Однако даже при всей своей рассудительности он никому не уступал, если дело касалось его чести, и поэтому не раз принимал участие в дуэлях и как секундант, и как дуэлянт.
По прошествии нескольких месяцев учёбы в Париже Костюшко из-за скудности своего прожиточного бюджета (отъезжая в Париж он получил 213 злотых и ещё 400 ему дал брат Иосиф) не стал завсегдатаем известных столичных салонов. В то лее время его уже узнавали во многих маленьких кофейнях, куда он заходил выпить чашку кофе[16] и съесть французскую булочку.
Постоянные посетители таких заведений, молодые французские аристократы и офицеры, дружески улыбаясь и поднимая в приветствии свои бокалы, обычно приглашали его за свой столик. Они много говорили о политике, обсуждали деспотическую королевскую власть, критиковали существующую в стране систему правления, открыто высказывали идеи Вольтера, Монтескьё, Руссо... Порой такие дискуссии переходили в серьёзные споры, которые иногда заканчивались очередным вызовом оппонента на дуэль.
Костюшко всё чаще становился не просто слушателем, но и участником подобных дискуссий, политических споров и просто обсуждений работ известных вольнодумцев, кумиров французской молодёжи. При этом он регулярно высказывал своё мнение по какому-нибудь вопросу и давал оценку тем или иным цитатам предвестников Французской революции. Находясь в Париже, Тадеуш в совершенстве овладел французским языком и читал произведения популярных философов в оригинале. Именно здесь, в Париже, среди революционно настроенной молодёжи и офицеров, с которыми Костюшко учился в военной академии, он обрёл новых друзей и проникся республиканскими идеями, которым уже не изменит на протяжении всей своей жизни.
Войдя в небольшое кафе на берегу Сены, Костюшко за одним из столиков заметил группу знакомых офицеров из военной академии. Вместе с ними сидели два аристократа, с которыми он тоже был знаком и даже участвовал в каком-то диспуте о высших идеалах человека. По разгорячённым лицам присутствующих Костюшко догадался, что он опять попал на очередной спор, но его желудок требовал пищи, а мозг отказывался принимать участие в подобном мероприятии, не удовлетворив первого.
За соседним столом также сидели офицеры, это были швейцарские гвардейцы, среди которых Костюшко тоже имел хороших знакомых. Один из швейцарцев, капитан Питер Цельтнер, заметил его и приветливо помахал рукой, приглашая присесть за свой стол. Рядом с Питером уже сидел молодой человек, по виду богатый аристократ.
Все сидящие за столами кивнули Костюшко как старому знакомому, а он не заставил себя долго уговаривать и через пару секунд уже пристроился на стуле между Питером и молодым аристократом, заказывая себе скромный ужин.
— Знакомься, мой младший родной брат Франц, — представил Питер, указывая Костюшко на молодого человека, сидящего рядом с ним. — Кстати, будущий скульптор, берёт уроки в Королевской академии живописи и скульптуры.
Симпатичный, невысокого роста, немного полноватый юноша привстал и поклонился Костюшко. Вежливо откланявшись в ответ и усевшись на своё место, Костюшко поневоле слушал очередную дискуссию за соседним столом, которая была в самом разгаре.
— Ещё старик Вольтер отмечал, что социальное равенство — это и наиболее естественная, и наиболее химерическая идея, — широко размахивая правой рукой продолжал свою речь один из молодых аристократов. — На нашей несчастной планете люди, живущие в обществе, не могут не разделяться на два класса: на богатых, которые распоряжаются, и бедных, которые им служат. Это закон общества и закон любого государства. И я считаю, что это справедливо.
— Ещё бы, — вдруг вставил своё слово с сарказмом Питер Цельтнер, который также прислушивался к разговору, — «самая жестокая тирания — это та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости».
Костюшко, услышав ответ Питера, наморщил лоб. Он уже где-то читал или слышал эту фразу.
— Не декламируйте мне Монтескьё, — парировал первый спорщик, напоминая Костюшко имя известного автора цитаты, которую произнёс только что старший Цельтнер. — Он сам противоречит себе в своих высказываниях о свободе, законах и справедливости. Именно он представляет свободу как право делать всё, что дозволено законами. Кстати, сам же и отмечает, что свобода личности и свобода гражданина не всегда совпадают.
И здесь спокойным голосом вступил в разговор Костюшко, заметив по тону голосов спорщиков, что они не скоро остановятся и, возможно, очень скоро перейдут на взаимные оскорбления. А это уже никак не входило в его планы: он не успел утолить свой голод и не собирался в очередной раз выступать в роли секунданта, лишаясь при этом хорошего ужина среди своих друзей.
— Друзья мои, успокойтесь, — миролюбиво начал говорить Костюшко, и все присутствующие повернули свои головы в его сторону. — Все мы находимся под властью законов, законов Божьих и законов государства. И прислушайтесь к мудрому Руссо: «если Высшее существо не сделало мир лучшим, значит оно не могло сделать его таким». — Костюшко сделал паузу и посмотрел на главного, как ему казалось, спорщика. — «И если общественная польза не сделала правилом нравственную справедливость, она может сделать из закона орудие политического тиранства», как это бывало раньше и что мы имеем сейчас.
Все за столом приумолкли, обдумывая последнюю фразу и размышляя, что можно добавить к сказанному. Но Костюшко не стал ждать продолжение философской беседы, а повернулся к хозяину кафе, который стоял за стойкой в ожидании очередного заказа.
— Хозяин! Подайте бургундского и ещё чего-нибудь поесть, — попросил он.
— И для всех. Плачу за всё я, — вдруг заявил младший Цельтнер к удовольствию всех присутствующих.
На этом все споры по поводу республиканских идей французских философов закончились, и разговоры потекли о последних новостях французского двора.
Ужин прошёл в спокойной и дружеской обстановке. Костюшко поближе познакомился с Францем Цельтнером. Оказалось, что этот молодой человек, решив посвятить свою жизнь созданию великих скульптурных творений, уже полгода проводил все дни в мастерских академии художеств. Но, к сожалению, он не смог найти свою музу в этом направлении и решил вернуться к себе на родину в Швейцарию в Салюрн, где его отец, судя по всему, привлечёт его к торговым делам.
— Он сразу был против моего увлечения, — объяснял Костюшко позицию своего отца Франц. Помолчав немного, он глубоко вздохнул и печально добавил: — А я, глупец, не слушал его. Побывав в Италии и увидев великие творения Микеланджело, я возомнил, что смогу создать хоть что-либо подобное у себя на родине и тем самым увековечу своё имя.
— А я тебе сразу сказал, что отец прав: делом надо заниматься, отцу помогать, — подключился к разговору Питер.
— Да, ты тоже был прав. Если таланта нет, то его в мастерских не вырастишь, — грустно сделал заключение несостоявшийся скульптор.
— Ну наконец-то дошло до тебя, — Питер Цельтнер безобидно улыбнулся широко и нежно, по-родственному обнял младшего брата и предложил: — Езжай домой, Франц, и жди меня. Я закончу свою службу, вернусь в Салюрн генералом, — Питер задумался о чём-то, а потом добавил: — Если не убьют в каком-нибудь историческом сражении.
— Не болтай дурного, — прервал товарища Костюшко. — Вот увидите: всё у вас будет хорошо. Франц будет помогать отцу и станет банкиром, продолжателем дела, а ты вернёшься домой живым и здоровым в генеральских эполетах со славой героических побед твоей армии, командовать которой тебе уготовано судьбой.
— Твои слова да Богу в уши, — довольный таким предсказанием своей судьбы заключил Питер. — Тадеуш, друг! Если тебе понадобится в жизни помощь, ты только скажи. Мы с братом всегда откликнемся.
Питер начал хмелеть от выпитого вина. Он почти ничего не ел, а только раз за разом прикладывался к кружке с бургундским.
— В самом деле, Тадеуш, я присоединяюсь к словам Питера, — поддержал своего брата Франц. В отличие от брата, он почти ничего не пил, но с удовольствием с завидным аппетитом объедал очередную куриную ножку. — И наш отец, и я, и брат — мы всегда будем рады видеть вас в нашем доме. Друг моего брата — мой друг.
У Тадеуша от умиления набежала слеза. Ему приятно было находиться среди таких замечательных людей. Он с сожалением вспомнил своего старшего брата Иосифа: никогда ничего подобного он не говорил своему младшему брату, никогда Тадеуш не слышал от него ласкового слова и слов поддержки родного человека.
«Как хорошо иметь таких друзей! Как здорово, что я встретил их в этой стране», — думал Костюшко, также немного захмелев от выпитого вина.
Выйдя поздно вечером из кофейни, Костюшко с братьями Цельтнер ещё долго бродил вдоль Сены, наслаждаясь тёплым вечером, красотой реки и тем приятным общением друг с другом, когда в разговоре с друзьями всегда чувствуется взаимопонимание и единство взглядов. Все трое надеялись на то, что всё лучшее ещё впереди, что жизнь только напирает свои обороты и преподнесёт ещё всем немало приятных неожиданностей, интересных событий, богатства и славы, красавиц жён и кучу прелестных ребятишек в семье.
Чётко планируя по устоявшейся привычке вечером свой следующий день, Костюшко умудрялся обучаться не только в военной академии Франции. По предложению Франца Цельтнера он начал посещать Королевскую академию живописи и скульптуры, где успевал брать платные уроки по рисованию. Иосиф Орловский, будучи более ограниченным в своих желаниях, не поддержал своего друга в его стремлениях как можно больше увидеть, услышать, познать и научиться, пока они находятся в Париже. Он проще относился к существующей действительности и больше занимался собой и развлекался, насколько позволял ему его бюджет. А позволял он ему значительно больше, чем Костюшко, так как Орловский периодически получал денежные переводы от своего отца, чего не имел Тадеуш. Этот факт также стал ещё одним поводом к тому, что друзья понемногу теряли между собой ту связь равенства и братства, которая существовала между ними в тесной комнате Рыцарской школы.
Когда же Костюшко начал открыто говорить Орловскому о республиканских идеях, высказывать свои предположения о возможных грядущих преобразованиях во Франции и в Европе, то друг его слушал без интереса. Он не поддержал эту тему разговора и только однажды спросил Костюшко, подойдя вплотную к нему и внимательно посмотрев ему в глаза:
— Ты это серьёзно?
— Серьёзней не бывает, — ответил уверенно Костюшко товарищу и по его реакции, выразившейся в скептической улыбке, вдруг понял, что Орловский не разделяет его новое мировоззрение. Более того, он даже не пытается понять Костюшко и разобраться в причинах, которые привели его друга к новым идеалам.
После этого короткого разговора Тадеуш и Иосиф продолжали снимать одну комнату на двоих, ходили вместе на занятия и участвовали в совместных пирушках с друзьями. Однако того чувства молодого братства, откровенности и дружбы между ними уже не было. Что-то невидимое и чужое стало между бывшими неразлучными друзьями, и это изменение и отчуждение в их отношениях было принято обоими по взаимному молчаливому согласию.
а площади перед собором Парижской Богоматери стояли два молодых человека. Высоко задрав головы, они рассматривали скульптуры святых, установленные на этом дивном архитектурном творении. А вокруг бурлила жизнь большого города, столицы крупнейшего в Европе государства. Здесь же перед величественным собором проезжали кареты, бегали мальчишки, ходили женщины в белых чепчиках, служанки из господских домов выбирали овощи, мясо и вино, чтобы приготовить для своих хозяев завтрак, обед или ужин. В небольшой кузнице молодой кузнец делал мелкий ремонт, раздувая меха, а точильщик на переносном точильном камне точил ножи и топоры всем желающим. Торговцы овощами, мясом и разным бытовым товаром приглашали прохожих подойти именно к их лавке посмотреть лежащий на прилавке товар. Ну а купят у продавца что-либо или нет — это уже зависело от его мастерства и опыта.
— А не вернуться ли нам в гостиницу? — спросил на польском языке один молодой человек другого. — Скоро полдень, а нам надо ещё зайти к секретарю, узнать, когда нас примет министр.
— Посмотри, Иосиф, какая красота, какая архитектура... — ответил другой. — А впрочем, ты прав, пора. Пойдём, а сюда забредём как-нибудь в другой раз.
Костюшко и Орловский (именно они были этими молодыми людьми) быстрым шагом направились в соседнюю улочку, уступая дорогу карете с гербом какого-то французского аристократа. Уже второй день они бродили по Парижу, осматривая город и его здания, восхищались творениями рук человеческих и сравнивали их с аналогичными архитектурными шедеврами Варшавы и Вильно.
Через два дня после приезда в Париж и размещения в гостинице Костюшко, Орловский и другие офицеры, выпускники Варшавской рыцарской школы, прибыли в военное министерство Франции. Здесь каждый из них имел небольшую аудиенцию с военным министром этой страны, в ходе которой задавались похожие вопросы. После приёма у министра они были направлены к его секретарю. Чиновник военного ведомства уточнил предметы, которым приехавшие офицеры-иностранцы хотели бы уделить больше внимания, и новая жизнь для них началась.
Костюшко одним из первых попал на такое собеседование. В приёмной министра кроме него и его друзей толпились какие-то люди и бегали чиновники, таская бумаги с гербовыми печатями. В углу приёмной задумчиво сидели два старых аристократа в напудренных париках. Они опирались подбородками о свои трости с набалдашниками из слоновой кости и как будто всецело погрузились в свои воспоминания далёкой молодости. Казалось, что старики дремали, вспоминая прежние баталии, поражения или победы, в которых они принимали участие.
Тадеуш Костюшко внимательно изучал окружающую его обстановку и иногда бросал взгляд на этих стариков-аристократов, пока он и его товарищи ожидали приёма. Молодой офицер с какой-то жалостью смотрел на них, этих свидетелей былой истории и уходящей эпохи величия и расцвета Франции. Они уже все в прошлом, а у него всё впереди, в будущем, и это будущее казалось ему прекрасным, каковой и должна быть жизнь.
— Тадеуш Бонавентура Костюшко! — громко провозгласил секретарь военного министра, и Тадеуш отвлёкся от своих размышлений. Он поправил на себе камзол, машинально провёл ладонью по волосам и, держа треуголку в левой вытянутой руке, направился к двери. Первое, что бросилось в глаза Костюшко, когда он вошёл в большой овальный зал, было огромное, на всю стену полотно неизвестного ему художника. На нём был изображён эпизод какого-то сражения, на котором конные средневековые рыцари в доспехах поражали своими копьями противников — мавританских всадников. Под картиной за большим столом из тёмного дерева сидел маленький человек, военный министр Франции герцог Эгийон де Ришелье.
— Итак, молодой человек; — обратился к нему скрипящим и неприятным голосом сидящий, оторвавшись от чтения какой-то бумаги, — у вас отличные рекомендации. И чему вы хотите обучаться в Париже и вообще каковы ваши планы на время пребывания во Франции?
— Я бы хотел брать уроки по военной архитектуре, артиллерии и тактике. Меня также интересуют предметы, связанные со строительством мостов, шлюзов и дорог, каналов и плотин, — выпалил в ответ Костюшко и в упор, не моргая, посмотрел на министра.
— Всё это замечательно и похвально. Но я хочу вас предупредить, что вы находитесь во Франции, в её сердце — Париже, — министр внимательно посмотрел на молодого человека, раздумывая, как ему продолжить свою глубокую и важную мысль, — ...в месте, куда, к сожалению, стекаются все вольнодумцы Европы: Монтескьё, Руссо и им подобные.
— Я собираюсь в Париже только учиться, — Костюшко начал понимать, куда клонит этот государственный чиновник.
Военный министр встал из-за своего стола, подошёл к молодому человеку, застывшему как изваяние. Он медленно обошёл его, осматривая сног до головы, и, подойдя вплотную к Костюшко, проговорил, почти не разжимая своих губ:
— Ну, тогда желаю вам успеха, молодой человек. Всю информацию о предстоящей учёбе вы будете получать у моего секретаря. Вы свободны.
Костюшко откланялся и развернулся к выходу.
— Но будьте бдительны и осторожны в выборе друзей в Париже, — уже в спину проговорил ему министр, и польский офицер чётким строевым шагом вышел из кабинета.
Костюшко быстро освоился с бурной жизнью большого города. Уже через пару месяцев учёбы в военной академии Франции он свободно гулял с друзьями по Парижу, отвечая улыбкой на игривые и призывные взгляды молодых парижанок. Он не боялся бродить по большому городу и в одиночестве, свободно ориентировался в нём, двигаясь по узким и кривым улочкам. Во время таких прогулок он размышлял о событиях последних дней, о прочитанной им недавно книге Руссо, мечтал о любви и женщине, которая станет матерью его детей (не меньше четырёх!), и о многом другом, о чём может мечтать мужчина в его годы.
Денег на проживание и питание, которые польские офицеры получили из королевской казны, было не так много, чтобы позволять себе излишества. Но, к счастью, у некоторых товарищей Костюшко были богатые родственники. Они периодически баловали своих чад дополнительными денежными суммами, которые шли в общую кассу для организации шумных пирушек. Не редко такие пирушки заканчивались дуэлями с французскими аристократами или офицерами.
Костюшко также принимал активное участие во всех подобных мероприятиях, но отличался спокойствием и рассудительностью даже после того, как выпивал не одну бутылку хорошего бургундского вина. Однако даже при всей своей рассудительности он никому не уступал, если дело касалось его чести, и поэтому не раз принимал участие в дуэлях и как секундант, и как дуэлянт.
По прошествии нескольких месяцев учёбы в Париже Костюшко из-за скудности своего прожиточного бюджета (отъезжая в Париж он получил 213 злотых и ещё 400 ему дал брат Иосиф) не стал завсегдатаем известных столичных салонов. В то лее время его уже узнавали во многих маленьких кофейнях, куда он заходил выпить чашку кофе[16] и съесть французскую булочку.
Постоянные посетители таких заведений, молодые французские аристократы и офицеры, дружески улыбаясь и поднимая в приветствии свои бокалы, обычно приглашали его за свой столик. Они много говорили о политике, обсуждали деспотическую королевскую власть, критиковали существующую в стране систему правления, открыто высказывали идеи Вольтера, Монтескьё, Руссо... Порой такие дискуссии переходили в серьёзные споры, которые иногда заканчивались очередным вызовом оппонента на дуэль.
Костюшко всё чаще становился не просто слушателем, но и участником подобных дискуссий, политических споров и просто обсуждений работ известных вольнодумцев, кумиров французской молодёжи. При этом он регулярно высказывал своё мнение по какому-нибудь вопросу и давал оценку тем или иным цитатам предвестников Французской революции. Находясь в Париже, Тадеуш в совершенстве овладел французским языком и читал произведения популярных философов в оригинале. Именно здесь, в Париже, среди революционно настроенной молодёжи и офицеров, с которыми Костюшко учился в военной академии, он обрёл новых друзей и проникся республиканскими идеями, которым уже не изменит на протяжении всей своей жизни.
Войдя в небольшое кафе на берегу Сены, Костюшко за одним из столиков заметил группу знакомых офицеров из военной академии. Вместе с ними сидели два аристократа, с которыми он тоже был знаком и даже участвовал в каком-то диспуте о высших идеалах человека. По разгорячённым лицам присутствующих Костюшко догадался, что он опять попал на очередной спор, но его желудок требовал пищи, а мозг отказывался принимать участие в подобном мероприятии, не удовлетворив первого.
За соседним столом также сидели офицеры, это были швейцарские гвардейцы, среди которых Костюшко тоже имел хороших знакомых. Один из швейцарцев, капитан Питер Цельтнер, заметил его и приветливо помахал рукой, приглашая присесть за свой стол. Рядом с Питером уже сидел молодой человек, по виду богатый аристократ.
Все сидящие за столами кивнули Костюшко как старому знакомому, а он не заставил себя долго уговаривать и через пару секунд уже пристроился на стуле между Питером и молодым аристократом, заказывая себе скромный ужин.
— Знакомься, мой младший родной брат Франц, — представил Питер, указывая Костюшко на молодого человека, сидящего рядом с ним. — Кстати, будущий скульптор, берёт уроки в Королевской академии живописи и скульптуры.
Симпатичный, невысокого роста, немного полноватый юноша привстал и поклонился Костюшко. Вежливо откланявшись в ответ и усевшись на своё место, Костюшко поневоле слушал очередную дискуссию за соседним столом, которая была в самом разгаре.
— Ещё старик Вольтер отмечал, что социальное равенство — это и наиболее естественная, и наиболее химерическая идея, — широко размахивая правой рукой продолжал свою речь один из молодых аристократов. — На нашей несчастной планете люди, живущие в обществе, не могут не разделяться на два класса: на богатых, которые распоряжаются, и бедных, которые им служат. Это закон общества и закон любого государства. И я считаю, что это справедливо.
— Ещё бы, — вдруг вставил своё слово с сарказмом Питер Цельтнер, который также прислушивался к разговору, — «самая жестокая тирания — это та, которая выступает под сенью законности и под флагом справедливости».
Костюшко, услышав ответ Питера, наморщил лоб. Он уже где-то читал или слышал эту фразу.
— Не декламируйте мне Монтескьё, — парировал первый спорщик, напоминая Костюшко имя известного автора цитаты, которую произнёс только что старший Цельтнер. — Он сам противоречит себе в своих высказываниях о свободе, законах и справедливости. Именно он представляет свободу как право делать всё, что дозволено законами. Кстати, сам же и отмечает, что свобода личности и свобода гражданина не всегда совпадают.
И здесь спокойным голосом вступил в разговор Костюшко, заметив по тону голосов спорщиков, что они не скоро остановятся и, возможно, очень скоро перейдут на взаимные оскорбления. А это уже никак не входило в его планы: он не успел утолить свой голод и не собирался в очередной раз выступать в роли секунданта, лишаясь при этом хорошего ужина среди своих друзей.
— Друзья мои, успокойтесь, — миролюбиво начал говорить Костюшко, и все присутствующие повернули свои головы в его сторону. — Все мы находимся под властью законов, законов Божьих и законов государства. И прислушайтесь к мудрому Руссо: «если Высшее существо не сделало мир лучшим, значит оно не могло сделать его таким». — Костюшко сделал паузу и посмотрел на главного, как ему казалось, спорщика. — «И если общественная польза не сделала правилом нравственную справедливость, она может сделать из закона орудие политического тиранства», как это бывало раньше и что мы имеем сейчас.
Все за столом приумолкли, обдумывая последнюю фразу и размышляя, что можно добавить к сказанному. Но Костюшко не стал ждать продолжение философской беседы, а повернулся к хозяину кафе, который стоял за стойкой в ожидании очередного заказа.
— Хозяин! Подайте бургундского и ещё чего-нибудь поесть, — попросил он.
— И для всех. Плачу за всё я, — вдруг заявил младший Цельтнер к удовольствию всех присутствующих.
На этом все споры по поводу республиканских идей французских философов закончились, и разговоры потекли о последних новостях французского двора.
Ужин прошёл в спокойной и дружеской обстановке. Костюшко поближе познакомился с Францем Цельтнером. Оказалось, что этот молодой человек, решив посвятить свою жизнь созданию великих скульптурных творений, уже полгода проводил все дни в мастерских академии художеств. Но, к сожалению, он не смог найти свою музу в этом направлении и решил вернуться к себе на родину в Швейцарию в Салюрн, где его отец, судя по всему, привлечёт его к торговым делам.
— Он сразу был против моего увлечения, — объяснял Костюшко позицию своего отца Франц. Помолчав немного, он глубоко вздохнул и печально добавил: — А я, глупец, не слушал его. Побывав в Италии и увидев великие творения Микеланджело, я возомнил, что смогу создать хоть что-либо подобное у себя на родине и тем самым увековечу своё имя.
— А я тебе сразу сказал, что отец прав: делом надо заниматься, отцу помогать, — подключился к разговору Питер.
— Да, ты тоже был прав. Если таланта нет, то его в мастерских не вырастишь, — грустно сделал заключение несостоявшийся скульптор.
— Ну наконец-то дошло до тебя, — Питер Цельтнер безобидно улыбнулся широко и нежно, по-родственному обнял младшего брата и предложил: — Езжай домой, Франц, и жди меня. Я закончу свою службу, вернусь в Салюрн генералом, — Питер задумался о чём-то, а потом добавил: — Если не убьют в каком-нибудь историческом сражении.
— Не болтай дурного, — прервал товарища Костюшко. — Вот увидите: всё у вас будет хорошо. Франц будет помогать отцу и станет банкиром, продолжателем дела, а ты вернёшься домой живым и здоровым в генеральских эполетах со славой героических побед твоей армии, командовать которой тебе уготовано судьбой.
— Твои слова да Богу в уши, — довольный таким предсказанием своей судьбы заключил Питер. — Тадеуш, друг! Если тебе понадобится в жизни помощь, ты только скажи. Мы с братом всегда откликнемся.
Питер начал хмелеть от выпитого вина. Он почти ничего не ел, а только раз за разом прикладывался к кружке с бургундским.
— В самом деле, Тадеуш, я присоединяюсь к словам Питера, — поддержал своего брата Франц. В отличие от брата, он почти ничего не пил, но с удовольствием с завидным аппетитом объедал очередную куриную ножку. — И наш отец, и я, и брат — мы всегда будем рады видеть вас в нашем доме. Друг моего брата — мой друг.
У Тадеуша от умиления набежала слеза. Ему приятно было находиться среди таких замечательных людей. Он с сожалением вспомнил своего старшего брата Иосифа: никогда ничего подобного он не говорил своему младшему брату, никогда Тадеуш не слышал от него ласкового слова и слов поддержки родного человека.
«Как хорошо иметь таких друзей! Как здорово, что я встретил их в этой стране», — думал Костюшко, также немного захмелев от выпитого вина.
Выйдя поздно вечером из кофейни, Костюшко с братьями Цельтнер ещё долго бродил вдоль Сены, наслаждаясь тёплым вечером, красотой реки и тем приятным общением друг с другом, когда в разговоре с друзьями всегда чувствуется взаимопонимание и единство взглядов. Все трое надеялись на то, что всё лучшее ещё впереди, что жизнь только напирает свои обороты и преподнесёт ещё всем немало приятных неожиданностей, интересных событий, богатства и славы, красавиц жён и кучу прелестных ребятишек в семье.
Чётко планируя по устоявшейся привычке вечером свой следующий день, Костюшко умудрялся обучаться не только в военной академии Франции. По предложению Франца Цельтнера он начал посещать Королевскую академию живописи и скульптуры, где успевал брать платные уроки по рисованию. Иосиф Орловский, будучи более ограниченным в своих желаниях, не поддержал своего друга в его стремлениях как можно больше увидеть, услышать, познать и научиться, пока они находятся в Париже. Он проще относился к существующей действительности и больше занимался собой и развлекался, насколько позволял ему его бюджет. А позволял он ему значительно больше, чем Костюшко, так как Орловский периодически получал денежные переводы от своего отца, чего не имел Тадеуш. Этот факт также стал ещё одним поводом к тому, что друзья понемногу теряли между собой ту связь равенства и братства, которая существовала между ними в тесной комнате Рыцарской школы.
Когда же Костюшко начал открыто говорить Орловскому о республиканских идеях, высказывать свои предположения о возможных грядущих преобразованиях во Франции и в Европе, то друг его слушал без интереса. Он не поддержал эту тему разговора и только однажды спросил Костюшко, подойдя вплотную к нему и внимательно посмотрев ему в глаза:
— Ты это серьёзно?
— Серьёзней не бывает, — ответил уверенно Костюшко товарищу и по его реакции, выразившейся в скептической улыбке, вдруг понял, что Орловский не разделяет его новое мировоззрение. Более того, он даже не пытается понять Костюшко и разобраться в причинах, которые привели его друга к новым идеалам.
После этого короткого разговора Тадеуш и Иосиф продолжали снимать одну комнату на двоих, ходили вместе на занятия и участвовали в совместных пирушках с друзьями. Однако того чувства молодого братства, откровенности и дружбы между ними уже не было. Что-то невидимое и чужое стало между бывшими неразлучными друзьями, и это изменение и отчуждение в их отношениях было принято обоими по взаимному молчаливому согласию.
 ранцузский король Людовик XVI по традиции своей страны всегда противостоял во внешней политике Англии, самой мощной морской державе. Но в этой державе не всё шло гладко и хорошо. Первый предупредительный сигнал прозвучал из американских колоний. Там вспыхнул конфликт между простыми колонистами, английскими чиновниками и королевскими военными гарнизонами. Противостояние быстро набирало силу, и вскоре конфликт перерос в серьёзные военные действия. Колонистам потребовалась помощь, и Людовик XVI с удовольствием принял предложение молодого маркиза де Лафайета (тем более, что королевской казне это ничего не стоило) по сбору добровольцев-волонтёров в армию Вашингтона. Король Франции без особых возражений и расспросов дал своё согласие и благословление на этот международный благородный порыв 18-летнего искателя приключений.
— А из каких средств вы собираетесь финансировать свою экспедицию? — спросил монарх молодого аристократа, выслушав только что его предложение по оказанию помощи Континентальной армии.
— После смерти моего деда, маркиза де Ла Ривьер, я получил в наследство всё его состояние. Так уж получилось, что его смерть превратила меня в богача, — пояснил королю молодой маркиз. — Так что корабль, который поплывёт к берегам Америки, и вся его команда принадлежат мне.
— Похвально, похвально... — удовлетворённо кивнул головой Людовик XVI и тут же добавил, изобразив на своём лице выражение печали: — Поверьте, маркиз, я скорблю о кончине вашего деда. Он был одним из достойных генералов моей армии.
— А набор добровольцев я прошу организовать с помощью десятка французских офицеров, которые изъявят желание отправиться по моему призыву в Америку, — выразил таким образом маркиз королю свою просьбу.
— Ну что же, десяток офицеров мы вам выделим в качестве военных советников. Ну а если вы добьётесь определённых успехов, оказывая помощь Вашингтону, — Людовик XVI усмехнулся, произнеся последние слова, — то мы подумаем об увеличении числа наших солдат на американском континенте.
— Так я могу действовать? — спросил будущий маршал Франции своего короля, довольный результатом оказанного ему приёма.
— Да, конечно. И можете начинать хоть с сегодняшнего дня. Соответствующие распоряжения я дам военному министерству, — ответил ему, улыбаясь, Людовик XVI и махнул рукой, давая понять маркизу, что вопрос решён и дополнительного его обсуждения не требуется[17].
Мари Жезеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Лафайет — вот полное имя молодого маркиза, которому повезло родиться в известнейшей французской семье аристократов. По отцу и по матери он принадлежал к так называемому дворянству шпаги, а из шести унаследованных им имён родители выбрали одно — Жильбер. Это имя родители определили в память о Жильбере де Лафайете, маршале Франции и соратнике деревенской девушки Жанны д’Арк, названной при жизни Орлеанской девой и ставшей после своей трагической смерти легендой Франции.
Своего отца, гренадерского полковника, кавалера ордена Святого Людовика Луи Кристоф Рок Жильбер дю Мотье, маркиза де Лафайета, маленький Жильбер не знал, так как тот погиб за пару месяцев до его рождения во время Семилетней войны с англичанами в сражении при Хастенбеке. Мать его тоже рано ушла из жизни, неожиданно скончавшись в возрасте 33 лет в 1770 году.
Оставшись сиротой, Жильбер уже через год после смерти матери в 13 лет был зачислен во вторую роту мушкетёров короля — элитарную гвардейскую часть, известную под названием «чёрные мушкетёры», и со временем дослужился там до звания лейтенанта.
Став богатым наследником после смерти деда, Жильбер де Лафайет в свои 18 лет вёл светский образ жизни, как и полагалось отпрыску знатного рода. Посещая светские салоны известнейших французских фамилий, он всегда находился в окружении таких же именитых сверстников. Эти молодые и богатые люди с интересом познавали жизнь во всём её многообразии и впитывали в себя, как губки, всё новое, что происходило во Франции и за её пределами. Расширяя свой кругозор, меняя своё мышление и восприятие окружающего мира, французская молодёжь высшего света изучала работы Руссо и Вольтера, грезила переменами и готова была принять участие в любой авантюре. Главное в чём-то заявить о себе и записать своё имя в историю.
И такой шанс у них появился в 1776 году, когда молодое парижское сообщество узнало о восстании в североамериканских колониях и принятии Декларации независимости, а также ознакомилось с содержанием этого документа. Именно тогда на одном из светских приёмов Жильбер де Лафайет со своими друзьями встретился и познакомился в Версале с доверенным лицом Вашингтона квакером и истым республиканцем Генри Ли. Он вместе с Бенджамином Франклином[18] и Джоном Адамсом[19] с дипломатической миссией был послан за помощью во Францию и справился со своей ролью блестяще[20].
Тогда молодой американский патриот, появляясь в известных домах Парижа, отрыто высказывал спои республиканские взгляды и имел ошеломляющий успех у светской французской молодёжи. Под впечатлением этого знакомства богатый отпрыск известной аристократической французской фамилии и принял решение о своём участии в войне с английской короной за независимость нового государства. Удовлетворённый результатом проведённых переговоров с королём, де Лафайет подал просьбу о временном его увольнении с королевской службы в запас «по состоянию здоровья». Однако только в августе 1777 года уже на втором корабле, снаряженном на собственные средства, маркиз Жильбер де Лафайет смог прибыть на американский берег, где ему предстояло стать очередным героем Соединённых Штатов.
Перед отплытием в Америку он успел встретиться с Бенджамином Франклином и рассказал ему о своих планах по участию в войне против англичан. Но при этом он выдвинул дипломату два важных условия: все расходы по снаряжению военной экспедиции в Соединённые Штаты маркиз берёт на себя и отказывается от всякого жалованья и какой-либо иной материальной компенсации за свою службу. Франклин был искренне тронут благородным порывом молодого человека и не стал его отговаривать от данной затеи. Тем более что именно для этих целей американский дипломат и находился во Франции, оставив в Америке свою семью на целых восемь лет.
Уже через несколько дней после беседы короля с молодым маркизом не один десяток офицеров французской армии изъявили желание отправиться на поиски приключений на далёком американском континенте, но военный министр сразу ограничил их численность. Франция не могла так явно выступать в этой войне на стороне американских колонистов против английской регулярной армии. Подобная активность Франции могла быть расценена европейскими монархами как открытое вмешательство во внутренние дела Великобритании. А вот несколько французских офицеров в армии Вашингтона не будут являться поводом для объявления войны одной державой другой.
На многолюдных торговых площадях Парижа в эти дни можно было видеть бравых сержантов, которые собирали добровольцев в батальон маркиза де Лафайета. Они устанавливали плакаты, призывающие всех желающих получить возможность переплыть океан за чужой счёт. Кроме десятка кадровых офицеров французской армии в батальон записались добровольцы разных профессий, образования и происхождения. Но главным условием для получения бесплатного пропуска на корабль маркиза де Лафайета, отплывающего в далёкую и загадочную Америку, было умение владеть оружием и подписание контракта. Условия контракта были жёсткими: волонтёр-доброволец переходил в полное распоряжение командиров этого военного подразделения.
Маркиз де Лафайет был хоть и молод, но дальновиден: он не просто собирал с улиц всяких бродяг, готовых плыть куда попало, лишь бы хорошо платили (конечно, среди волонтёров попадались и такие). Желающих уплыть в Америку на корабле, где тебе выдадут денежное пособие, будут кормить и поить, было так много, что среди них пришлось делать специальный отбор. В батальоне должны были служить наиболее пригодные для данной экспедиции люди, понимающие основную её цель и державшие до этого в руках оружие. В результате такого отбора на палубе корабля маркиза де Лафайета подобрались в основном добровольцы, которые осознанно плыли в неизвестную им страну и готовы были принять на себя все тяготы жизни военного времени.
ранцузский король Людовик XVI по традиции своей страны всегда противостоял во внешней политике Англии, самой мощной морской державе. Но в этой державе не всё шло гладко и хорошо. Первый предупредительный сигнал прозвучал из американских колоний. Там вспыхнул конфликт между простыми колонистами, английскими чиновниками и королевскими военными гарнизонами. Противостояние быстро набирало силу, и вскоре конфликт перерос в серьёзные военные действия. Колонистам потребовалась помощь, и Людовик XVI с удовольствием принял предложение молодого маркиза де Лафайета (тем более, что королевской казне это ничего не стоило) по сбору добровольцев-волонтёров в армию Вашингтона. Король Франции без особых возражений и расспросов дал своё согласие и благословление на этот международный благородный порыв 18-летнего искателя приключений.
— А из каких средств вы собираетесь финансировать свою экспедицию? — спросил монарх молодого аристократа, выслушав только что его предложение по оказанию помощи Континентальной армии.
— После смерти моего деда, маркиза де Ла Ривьер, я получил в наследство всё его состояние. Так уж получилось, что его смерть превратила меня в богача, — пояснил королю молодой маркиз. — Так что корабль, который поплывёт к берегам Америки, и вся его команда принадлежат мне.
— Похвально, похвально... — удовлетворённо кивнул головой Людовик XVI и тут же добавил, изобразив на своём лице выражение печали: — Поверьте, маркиз, я скорблю о кончине вашего деда. Он был одним из достойных генералов моей армии.
— А набор добровольцев я прошу организовать с помощью десятка французских офицеров, которые изъявят желание отправиться по моему призыву в Америку, — выразил таким образом маркиз королю свою просьбу.
— Ну что же, десяток офицеров мы вам выделим в качестве военных советников. Ну а если вы добьётесь определённых успехов, оказывая помощь Вашингтону, — Людовик XVI усмехнулся, произнеся последние слова, — то мы подумаем об увеличении числа наших солдат на американском континенте.
— Так я могу действовать? — спросил будущий маршал Франции своего короля, довольный результатом оказанного ему приёма.
— Да, конечно. И можете начинать хоть с сегодняшнего дня. Соответствующие распоряжения я дам военному министерству, — ответил ему, улыбаясь, Людовик XVI и махнул рукой, давая понять маркизу, что вопрос решён и дополнительного его обсуждения не требуется[17].
Мари Жезеф Поль Ив Рош Жильбер дю Мотье, маркиз де Лафайет — вот полное имя молодого маркиза, которому повезло родиться в известнейшей французской семье аристократов. По отцу и по матери он принадлежал к так называемому дворянству шпаги, а из шести унаследованных им имён родители выбрали одно — Жильбер. Это имя родители определили в память о Жильбере де Лафайете, маршале Франции и соратнике деревенской девушки Жанны д’Арк, названной при жизни Орлеанской девой и ставшей после своей трагической смерти легендой Франции.
Своего отца, гренадерского полковника, кавалера ордена Святого Людовика Луи Кристоф Рок Жильбер дю Мотье, маркиза де Лафайета, маленький Жильбер не знал, так как тот погиб за пару месяцев до его рождения во время Семилетней войны с англичанами в сражении при Хастенбеке. Мать его тоже рано ушла из жизни, неожиданно скончавшись в возрасте 33 лет в 1770 году.
Оставшись сиротой, Жильбер уже через год после смерти матери в 13 лет был зачислен во вторую роту мушкетёров короля — элитарную гвардейскую часть, известную под названием «чёрные мушкетёры», и со временем дослужился там до звания лейтенанта.
Став богатым наследником после смерти деда, Жильбер де Лафайет в свои 18 лет вёл светский образ жизни, как и полагалось отпрыску знатного рода. Посещая светские салоны известнейших французских фамилий, он всегда находился в окружении таких же именитых сверстников. Эти молодые и богатые люди с интересом познавали жизнь во всём её многообразии и впитывали в себя, как губки, всё новое, что происходило во Франции и за её пределами. Расширяя свой кругозор, меняя своё мышление и восприятие окружающего мира, французская молодёжь высшего света изучала работы Руссо и Вольтера, грезила переменами и готова была принять участие в любой авантюре. Главное в чём-то заявить о себе и записать своё имя в историю.
И такой шанс у них появился в 1776 году, когда молодое парижское сообщество узнало о восстании в североамериканских колониях и принятии Декларации независимости, а также ознакомилось с содержанием этого документа. Именно тогда на одном из светских приёмов Жильбер де Лафайет со своими друзьями встретился и познакомился в Версале с доверенным лицом Вашингтона квакером и истым республиканцем Генри Ли. Он вместе с Бенджамином Франклином[18] и Джоном Адамсом[19] с дипломатической миссией был послан за помощью во Францию и справился со своей ролью блестяще[20].
Тогда молодой американский патриот, появляясь в известных домах Парижа, отрыто высказывал спои республиканские взгляды и имел ошеломляющий успех у светской французской молодёжи. Под впечатлением этого знакомства богатый отпрыск известной аристократической французской фамилии и принял решение о своём участии в войне с английской короной за независимость нового государства. Удовлетворённый результатом проведённых переговоров с королём, де Лафайет подал просьбу о временном его увольнении с королевской службы в запас «по состоянию здоровья». Однако только в августе 1777 года уже на втором корабле, снаряженном на собственные средства, маркиз Жильбер де Лафайет смог прибыть на американский берег, где ему предстояло стать очередным героем Соединённых Штатов.
Перед отплытием в Америку он успел встретиться с Бенджамином Франклином и рассказал ему о своих планах по участию в войне против англичан. Но при этом он выдвинул дипломату два важных условия: все расходы по снаряжению военной экспедиции в Соединённые Штаты маркиз берёт на себя и отказывается от всякого жалованья и какой-либо иной материальной компенсации за свою службу. Франклин был искренне тронут благородным порывом молодого человека и не стал его отговаривать от данной затеи. Тем более что именно для этих целей американский дипломат и находился во Франции, оставив в Америке свою семью на целых восемь лет.
Уже через несколько дней после беседы короля с молодым маркизом не один десяток офицеров французской армии изъявили желание отправиться на поиски приключений на далёком американском континенте, но военный министр сразу ограничил их численность. Франция не могла так явно выступать в этой войне на стороне американских колонистов против английской регулярной армии. Подобная активность Франции могла быть расценена европейскими монархами как открытое вмешательство во внутренние дела Великобритании. А вот несколько французских офицеров в армии Вашингтона не будут являться поводом для объявления войны одной державой другой.
На многолюдных торговых площадях Парижа в эти дни можно было видеть бравых сержантов, которые собирали добровольцев в батальон маркиза де Лафайета. Они устанавливали плакаты, призывающие всех желающих получить возможность переплыть океан за чужой счёт. Кроме десятка кадровых офицеров французской армии в батальон записались добровольцы разных профессий, образования и происхождения. Но главным условием для получения бесплатного пропуска на корабль маркиза де Лафайета, отплывающего в далёкую и загадочную Америку, было умение владеть оружием и подписание контракта. Условия контракта были жёсткими: волонтёр-доброволец переходил в полное распоряжение командиров этого военного подразделения.
Маркиз де Лафайет был хоть и молод, но дальновиден: он не просто собирал с улиц всяких бродяг, готовых плыть куда попало, лишь бы хорошо платили (конечно, среди волонтёров попадались и такие). Желающих уплыть в Америку на корабле, где тебе выдадут денежное пособие, будут кормить и поить, было так много, что среди них пришлось делать специальный отбор. В батальоне должны были служить наиболее пригодные для данной экспедиции люди, понимающие основную её цель и державшие до этого в руках оружие. В результате такого отбора на палубе корабля маркиза де Лафайета подобрались в основном добровольцы, которые осознанно плыли в неизвестную им страну и готовы были принять на себя все тяготы жизни военного времени.
 страивая свою жизнь на новом месте и в новых для себя условиях, Тадеуш Костюшко всё ещё терзался мыслями о Людовике и её потере. То, что она потеряна для него навсегда, он узнал после того, как получил письмо от брата Иосифа, где тот сообщил, что его любимая всё-таки вышла замуж за сына князя Любомирского.
«Ну что ж, значит, не судьба», — успокаивал себя Тадеуш, но по ночам иногда до утра ворочался в постели и часами не мог уснуть, вспоминая недавние события, из-за которых круто изменилась вся его жизнь.
Время пребывания Тадеуша Костюшко во Франции в 1776 году после его побега было не лучшим периодом в жизни бывшего капитана армии Речи Посполитой. Без денег, без постоянной работы или службы, не имея своей крыши над головой, он оказался в сложном положении. В Париже Костюшко восстановил свои старые связи с офицерами французской армии, с которыми учился в военной школе Мерсер. Узнав от него причины возвращения в столицу, эмоциональные товарищи помогли ему определиться с проживанием в большом городе и устроили в частную школу учителем фехтования. Теперь Костюшко мог обеспечить себя деньгами и не зависеть в этом плане от своих друзей. В то же время встреча со своим старым другом Питером Цельтнером, ставшим уже майором швейцарской королевской гвардии, оказалась для Костюшко судьбоносной.
— Недолго, однако, ты отсутствовал во Франции, — крепко обнимая Костюшко, радовался встрече, как ребёнок, Цельтнер. — Но всё равно я ужасно рад тебя видеть.
Он долго не отпускал Костюшко из крепких объятий, не веря своим глазам, что его друг вновь оказался в Париже. Когда же тот всё-таки освободился из его рук, то Цельтнер взял с него слово, что сегодня же вечером они навестят одно приличное заведение и отметят встречу.
Костюшко даже и не думал отказываться от такого предложения. Скорее наоборот, с удовольствием принял приглашение, и в тот же вечер за бутылкой хорошего вина долго рассказывал другу о своих «приключениях».
— Да, бывает, брат, всякое в этой жизни, — вывел аксиому Питер и приложился к кружке. — Ну и что ты будешь теперь делать? — полюбопытствовал швейцарец, задумавшись о чём-то на несколько секунд.
— Пока не знаю, — честно ответил Костюшко. — Но я не собираюсь всю жизнь учить отпрысков французских аристократов держать правильно в руках шпагу и наносить точно удары.
— И это правильное решение, — вдруг, радостно улыбаясь, заявил Цельтнер. — Ия тебе дам дельный совет, за который ты мне сегодня проставишь бутылку бургундского!
— Сначала совет, потом бургундское, — ответил Костюшко и приготовился слушать.
— Принимается, — одобрительно кивнул Цельтнер и сразу стал серьёзным. — Ты слышал, что в английских колониях в Америке сегодня неспокойно? Назревает война. Сам понимаешь, Великобритания не в восторге от того, что огромные территории её колоний вдруг станут независимыми.
— А управлять новым государством будут фермеры и охотники, — попробовал пошутить Костюшко.
— Точно. Теперь подумай, если начнётся война, то разве тебе не найдётся среди этих охотников достойное место?
Цельтнер сделал несколько больших глотков из своей кружки и продолжил:
— Своих солдат не хватает, как и денег... Сам понимаешь, какая у них может быть армия? — с насмешкой добавил гвардеец.
— Так ты предлагаешь мне отправиться в Америку? — уже вполне серьёзно спросил Костюшко.
— Советую. Кроме этого, я предлагаю там встретиться с одним умным человеком. Он был проездом в Париже несколько лет назад, но успел здесь за короткое время создать себе авторитет. Интереснейшая личность, скажу я тебе, — рассказывал Цельтнер своему другу.
— И как зовут эту «личность»?
— Бенджамин Франклин.
— И где я смогу с ним там встретиться? — усмехнулся Костюшко, понимая глупость своего вопроса и сложность своего положения.
— А это уж как тебе повезёт. А если повезёт, то тогда не волнуйся. Этот американец хоть и светский лев, но прост в общении, — с азартом игрока продолжал объяснять Цельтнер свой план. — В Париже он успел блеснуть в высшем обществе, посетить театр, посидеть за карточным столом, пообщаться с дамами.
Цельтнер поднял указательный палец вверх, намекая, что сейчас он приступит к самому главному.
— У меня есть очень хорошие связи в том обществе, где бывал этот джентльмен.
— И как зовут эту «связь»? — улыбаясь, спросил Костюшко.
— Мадам Анна-Катрин, вдова философа Клода Андриана Гельвеция. Я тебя с ней познакомлю. Удивительная женщина: красива, как Афродита, умна, не капризна, понимает всё с полуслова.
— Она мне даст рекомендательное письмо к этому американцу?
— Вряд ли. Но если тебе повезёт и ты с ним встретишься, то, я думаю, ты произведёшь на него впечатление. Заодно можешь обмолвиться, что лично знаком с мадам.
Цельтнер недвусмысленно снова поднял указательный палец вверх.
— Что ты можешь ещё про него рассказать? — как разведчик, начал выуживать нужные сведения у товарища Костюшко.
Цельтнер задумался на несколько секунд.
— Остроумен, умён, всеобщий любимец любого общества, республиканец, в Париже посещал масонскую ложу «Девять сестёр», какой-то учёный, — коротко изложил он основное и замолчал, раздумывая, что ещё может добавить к сказанному.
Костюшко задумался. Его товарищ предложил ему покинуть Париж и стать наёмником в далёкой Америке. «Ну и пусть. Может, это лучшее, что я могу себе позволить в моём положении, — подумал он. — Начну всё с начала, а там будет видно. Может быть, повезёт встретиться и с этим (как его там зовут) Бенджамином Франклином».
Пока Костюшко сидел в раздумье, Цельтнер с сочувствием смотрел на него и допивал своё вино.
«Жаль, конечно, с ним расставаться, — подумал он. — Но в его ситуации лучше начать свою военную карьеру с простого солдата, чем в какой-нибудь европейской армии офицером, где любой младший чин сможет попрекнуть его изменой своей родине. А ведь Тадеуш спуску никому не даст и ещё до первого сражения может пасть от удара клинка более опытного дуэлянта».
страивая свою жизнь на новом месте и в новых для себя условиях, Тадеуш Костюшко всё ещё терзался мыслями о Людовике и её потере. То, что она потеряна для него навсегда, он узнал после того, как получил письмо от брата Иосифа, где тот сообщил, что его любимая всё-таки вышла замуж за сына князя Любомирского.
«Ну что ж, значит, не судьба», — успокаивал себя Тадеуш, но по ночам иногда до утра ворочался в постели и часами не мог уснуть, вспоминая недавние события, из-за которых круто изменилась вся его жизнь.
Время пребывания Тадеуша Костюшко во Франции в 1776 году после его побега было не лучшим периодом в жизни бывшего капитана армии Речи Посполитой. Без денег, без постоянной работы или службы, не имея своей крыши над головой, он оказался в сложном положении. В Париже Костюшко восстановил свои старые связи с офицерами французской армии, с которыми учился в военной школе Мерсер. Узнав от него причины возвращения в столицу, эмоциональные товарищи помогли ему определиться с проживанием в большом городе и устроили в частную школу учителем фехтования. Теперь Костюшко мог обеспечить себя деньгами и не зависеть в этом плане от своих друзей. В то же время встреча со своим старым другом Питером Цельтнером, ставшим уже майором швейцарской королевской гвардии, оказалась для Костюшко судьбоносной.
— Недолго, однако, ты отсутствовал во Франции, — крепко обнимая Костюшко, радовался встрече, как ребёнок, Цельтнер. — Но всё равно я ужасно рад тебя видеть.
Он долго не отпускал Костюшко из крепких объятий, не веря своим глазам, что его друг вновь оказался в Париже. Когда же тот всё-таки освободился из его рук, то Цельтнер взял с него слово, что сегодня же вечером они навестят одно приличное заведение и отметят встречу.
Костюшко даже и не думал отказываться от такого предложения. Скорее наоборот, с удовольствием принял приглашение, и в тот же вечер за бутылкой хорошего вина долго рассказывал другу о своих «приключениях».
— Да, бывает, брат, всякое в этой жизни, — вывел аксиому Питер и приложился к кружке. — Ну и что ты будешь теперь делать? — полюбопытствовал швейцарец, задумавшись о чём-то на несколько секунд.
— Пока не знаю, — честно ответил Костюшко. — Но я не собираюсь всю жизнь учить отпрысков французских аристократов держать правильно в руках шпагу и наносить точно удары.
— И это правильное решение, — вдруг, радостно улыбаясь, заявил Цельтнер. — Ия тебе дам дельный совет, за который ты мне сегодня проставишь бутылку бургундского!
— Сначала совет, потом бургундское, — ответил Костюшко и приготовился слушать.
— Принимается, — одобрительно кивнул Цельтнер и сразу стал серьёзным. — Ты слышал, что в английских колониях в Америке сегодня неспокойно? Назревает война. Сам понимаешь, Великобритания не в восторге от того, что огромные территории её колоний вдруг станут независимыми.
— А управлять новым государством будут фермеры и охотники, — попробовал пошутить Костюшко.
— Точно. Теперь подумай, если начнётся война, то разве тебе не найдётся среди этих охотников достойное место?
Цельтнер сделал несколько больших глотков из своей кружки и продолжил:
— Своих солдат не хватает, как и денег... Сам понимаешь, какая у них может быть армия? — с насмешкой добавил гвардеец.
— Так ты предлагаешь мне отправиться в Америку? — уже вполне серьёзно спросил Костюшко.
— Советую. Кроме этого, я предлагаю там встретиться с одним умным человеком. Он был проездом в Париже несколько лет назад, но успел здесь за короткое время создать себе авторитет. Интереснейшая личность, скажу я тебе, — рассказывал Цельтнер своему другу.
— И как зовут эту «личность»?
— Бенджамин Франклин.
— И где я смогу с ним там встретиться? — усмехнулся Костюшко, понимая глупость своего вопроса и сложность своего положения.
— А это уж как тебе повезёт. А если повезёт, то тогда не волнуйся. Этот американец хоть и светский лев, но прост в общении, — с азартом игрока продолжал объяснять Цельтнер свой план. — В Париже он успел блеснуть в высшем обществе, посетить театр, посидеть за карточным столом, пообщаться с дамами.
Цельтнер поднял указательный палец вверх, намекая, что сейчас он приступит к самому главному.
— У меня есть очень хорошие связи в том обществе, где бывал этот джентльмен.
— И как зовут эту «связь»? — улыбаясь, спросил Костюшко.
— Мадам Анна-Катрин, вдова философа Клода Андриана Гельвеция. Я тебя с ней познакомлю. Удивительная женщина: красива, как Афродита, умна, не капризна, понимает всё с полуслова.
— Она мне даст рекомендательное письмо к этому американцу?
— Вряд ли. Но если тебе повезёт и ты с ним встретишься, то, я думаю, ты произведёшь на него впечатление. Заодно можешь обмолвиться, что лично знаком с мадам.
Цельтнер недвусмысленно снова поднял указательный палец вверх.
— Что ты можешь ещё про него рассказать? — как разведчик, начал выуживать нужные сведения у товарища Костюшко.
Цельтнер задумался на несколько секунд.
— Остроумен, умён, всеобщий любимец любого общества, республиканец, в Париже посещал масонскую ложу «Девять сестёр», какой-то учёный, — коротко изложил он основное и замолчал, раздумывая, что ещё может добавить к сказанному.
Костюшко задумался. Его товарищ предложил ему покинуть Париж и стать наёмником в далёкой Америке. «Ну и пусть. Может, это лучшее, что я могу себе позволить в моём положении, — подумал он. — Начну всё с начала, а там будет видно. Может быть, повезёт встретиться и с этим (как его там зовут) Бенджамином Франклином».
Пока Костюшко сидел в раздумье, Цельтнер с сочувствием смотрел на него и допивал своё вино.
«Жаль, конечно, с ним расставаться, — подумал он. — Но в его ситуации лучше начать свою военную карьеру с простого солдата, чем в какой-нибудь европейской армии офицером, где любой младший чин сможет попрекнуть его изменой своей родине. А ведь Тадеуш спуску никому не даст и ещё до первого сражения может пасть от удара клинка более опытного дуэлянта».
 нглийский король Георг III был возмущён открытым вооружённым противостоянием колонистов английским войскам. О Континентальном конгрессе он вообще высказался в весьма нелестных выражениях. Для наведения порядка и приведения колонистов в прежнее состояние подчинения законам Британии английский монарх послал в Америку подкрепление в виде дополнительного военного контингента. Это решение стало катализатором в развитии дальнейших событий, которые, в конце концов, привели Англию к потере колоний с огромной территорией.
В ответ на это решение английского короля 15 мая 1776 года Континентальный конгресс принимает резолюцию о преобразовании североамериканских колоний в независимые от метрополии штаты-республики. Республиканец Генри Ли уже 7 июня 1776 года на заседании Конгресса вносит «резолюцию независимости», на основе которой 4 июля этого же знаменательного года была составлена и принята Декларация независимости. А до этого исторического для всех Соединённых Штатов дня ещё 14 июня 1776 года II Континентальный конгресс принял постановление о создании регулярной армии и уже на следующий день избрал и утвердил её главнокомандующего.
Такое решение Конгресса оказалось как нельзя удачным: 44-летний богатый плантатор Джордж Вашингтон уже имел опыт участия в военных действиях1. Как политик он прекрасно понимал важность момента и своевременность постановки вопроса о государственности и независимости колоний. Как плантатор Вашингтон предвидел, какую выгоду из этого получат деловые люди из числа коренных (исключая, конечно, индейцев) жителей всех штатов. Уже в первый год активного противостояния Англии и колонистов будущий главнокомандующий понял бесплодность попыток примирения с метрополией. Демонстративно облачившись в военную форму, Вашингтон появлялся на собраниях Континентального конгресса и ожидал своего часа. И этот час наступил.
После окончания заседания многие выходившие из зала депутаты подходили к своему коллеге от штата Виргиния Джорджу Вашингтону с поздравлениями. Но некоторые из них, собравшись в небольшие группы, стояли в стороне и обсуждали способности и возможности только что избранного главнокомандующего. Кто-то открыто выражал ему свои наилучшие пожелания, а кто-то мысленно сочувствовал ему. Ведь Вашингтону предстояло создать первую в истории Соединённых Штатов армию, которая в ближайшее время должна выступить против английских регулярных вооружённых сил. А это не так просто сделать, когда до этого времени твоим главным занятием в жизни была организация труда чернокожих рабов на своих плантациях.
— Я вас поздравляю, Джордж, — крепко сжимая Вашингтону ладонь, долго тряс его руку Томас Джефферсон. — Теперь все штаты надеются, что мы оправдаете их доверие и в ближайшее время надерёте задницу английским генералам.
Вашингтон уже устал принимать поздравления и слегка морщился от высокопарных слов поздравляющих и от зубной боли, которая его мучила в последнее время. Он старался меньше улыбаться, чтобы его коллеги-депутаты не замечали пустоту на месте одного из его зубов в верхней челюсти.
«Скорее бы домой, — думал Вашингтон, — срочно надо уладить все домашние дела, дать указания управляющему, так как я, наверно, уже не скоро займусь ими. Да и зуб надо поставить».
Вашингтон от рождения имел не очень хорошие зубы (сказывалась наследственность), и уже после сорока лет ему пришлось лишиться нескольких таких нужных маленьких частей в верхней челюсти. Дубной врач, рекомендованный Джорджу Вашингтону его соседом-плантатором, вместо удалённых больных зубов установил ему новые. Они были вырваны из челюсти какой-то лошади, отшлифованы и закреплены на штифтах в челюсть Вашингтона. Операция по замене зубов была сложная, неприятная и болезненная. Сначала больные зубы нужно было удалить, потом была длительная процедура подгонки и закрепления новых зубов.
Вашингтон вздрогнул от воспоминаний тех ощущений и боли, которые ему пришлось пережить, но собрался с мыслями и вернулся обратно к событиям, участником которых он только что стал. После недолгих дебатов собрание депутатов II Континентального конгресса большинством голосов проголосовало и утвердило Джорджа Вашингтона главнокомандующим вооружённых сил новой армии, которую ему ещё предстояло создать. И это сейчас больше беспокоило Вашингтона, чем его больной зуб. Ведь в ближайшее время на его плечи ляжет вся ответственность за то, какой будет эта война: успешной для нового государства или позорной с полным поражением и возвращением к прежним временам. Вашингтон только сейчас полностью осознал те последствия, которые могут наступить лично для него в случае, если он не сумеет сделать то, к чему его только что обязал Конгресс. Тогда уже у Джорджа Вашингтона ничего не будет: ни плантации, ни богатства, ни самой жизни. Победить или погибнуть. Существовало только два варианта его будущего, и Вашингтон был нацелен исключительно на первый, не допуская даже в мыслях наступления второго.
Вновь избранный главнокомандующий обладал всеми талантами, необходимыми для должности такого высокого ранга: организаторскими способностями, выдержкой, дальновидностью, умением быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать верные решения. Положительный результат этих решений со временем был очевиден всем: создав армию фактически на пустом месте, Вашингтон прошёл с ней долгий путь от осады Бостона в 1776 году до капитуляции английских войск у Йорктауна в 1781 году.
Правда, Континентальная армия пока не являлась армией в полном смысле этого слова. В начале своего создания она состояла из тех же многочисленных ополченцев и минитменов, вчерашних охотников и фермеров. Плоховооружённая и необученная, сражаться с регулярными британскими войсками на равных эта армия ещё не могла.
Новоявленные солдаты, бывшие охотники, прекрасно стреляли из-за укрытия, но дать серьёзный бой по всем правилам воинского искусства они ещё были не способны. Кроме этого, дисциплина у такой армии «из народа» была не на высоком уровне. Устав от войны и трудностей, солдаты дезертировали и возвращались на свои фермы. Только со временем из многочисленного ополчения, прошедшего тяжёлые испытания и испившего горечь поражений, перенеся голод и лишения, сформировался костяк американской армии. Он постепенно пополнялся и получал опыт побед, обретая силу и авторитет настоящей боеспособной армии нового независимого государства. Уже через несколько лет, благодаря упорству и энтузиазму Вашингтона, а также благодаря усилиям иностранных военных инструкторов-специалистов типа прусского офицера фон Оттендорфа (иначе говоря, профессиональным наёмникам-волонтёрам), Континентальная армия Соединённых Штатов стала заслуженно носить это название.
нглийский король Георг III был возмущён открытым вооружённым противостоянием колонистов английским войскам. О Континентальном конгрессе он вообще высказался в весьма нелестных выражениях. Для наведения порядка и приведения колонистов в прежнее состояние подчинения законам Британии английский монарх послал в Америку подкрепление в виде дополнительного военного контингента. Это решение стало катализатором в развитии дальнейших событий, которые, в конце концов, привели Англию к потере колоний с огромной территорией.
В ответ на это решение английского короля 15 мая 1776 года Континентальный конгресс принимает резолюцию о преобразовании североамериканских колоний в независимые от метрополии штаты-республики. Республиканец Генри Ли уже 7 июня 1776 года на заседании Конгресса вносит «резолюцию независимости», на основе которой 4 июля этого же знаменательного года была составлена и принята Декларация независимости. А до этого исторического для всех Соединённых Штатов дня ещё 14 июня 1776 года II Континентальный конгресс принял постановление о создании регулярной армии и уже на следующий день избрал и утвердил её главнокомандующего.
Такое решение Конгресса оказалось как нельзя удачным: 44-летний богатый плантатор Джордж Вашингтон уже имел опыт участия в военных действиях1. Как политик он прекрасно понимал важность момента и своевременность постановки вопроса о государственности и независимости колоний. Как плантатор Вашингтон предвидел, какую выгоду из этого получат деловые люди из числа коренных (исключая, конечно, индейцев) жителей всех штатов. Уже в первый год активного противостояния Англии и колонистов будущий главнокомандующий понял бесплодность попыток примирения с метрополией. Демонстративно облачившись в военную форму, Вашингтон появлялся на собраниях Континентального конгресса и ожидал своего часа. И этот час наступил.
После окончания заседания многие выходившие из зала депутаты подходили к своему коллеге от штата Виргиния Джорджу Вашингтону с поздравлениями. Но некоторые из них, собравшись в небольшие группы, стояли в стороне и обсуждали способности и возможности только что избранного главнокомандующего. Кто-то открыто выражал ему свои наилучшие пожелания, а кто-то мысленно сочувствовал ему. Ведь Вашингтону предстояло создать первую в истории Соединённых Штатов армию, которая в ближайшее время должна выступить против английских регулярных вооружённых сил. А это не так просто сделать, когда до этого времени твоим главным занятием в жизни была организация труда чернокожих рабов на своих плантациях.
— Я вас поздравляю, Джордж, — крепко сжимая Вашингтону ладонь, долго тряс его руку Томас Джефферсон. — Теперь все штаты надеются, что мы оправдаете их доверие и в ближайшее время надерёте задницу английским генералам.
Вашингтон уже устал принимать поздравления и слегка морщился от высокопарных слов поздравляющих и от зубной боли, которая его мучила в последнее время. Он старался меньше улыбаться, чтобы его коллеги-депутаты не замечали пустоту на месте одного из его зубов в верхней челюсти.
«Скорее бы домой, — думал Вашингтон, — срочно надо уладить все домашние дела, дать указания управляющему, так как я, наверно, уже не скоро займусь ими. Да и зуб надо поставить».
Вашингтон от рождения имел не очень хорошие зубы (сказывалась наследственность), и уже после сорока лет ему пришлось лишиться нескольких таких нужных маленьких частей в верхней челюсти. Дубной врач, рекомендованный Джорджу Вашингтону его соседом-плантатором, вместо удалённых больных зубов установил ему новые. Они были вырваны из челюсти какой-то лошади, отшлифованы и закреплены на штифтах в челюсть Вашингтона. Операция по замене зубов была сложная, неприятная и болезненная. Сначала больные зубы нужно было удалить, потом была длительная процедура подгонки и закрепления новых зубов.
Вашингтон вздрогнул от воспоминаний тех ощущений и боли, которые ему пришлось пережить, но собрался с мыслями и вернулся обратно к событиям, участником которых он только что стал. После недолгих дебатов собрание депутатов II Континентального конгресса большинством голосов проголосовало и утвердило Джорджа Вашингтона главнокомандующим вооружённых сил новой армии, которую ему ещё предстояло создать. И это сейчас больше беспокоило Вашингтона, чем его больной зуб. Ведь в ближайшее время на его плечи ляжет вся ответственность за то, какой будет эта война: успешной для нового государства или позорной с полным поражением и возвращением к прежним временам. Вашингтон только сейчас полностью осознал те последствия, которые могут наступить лично для него в случае, если он не сумеет сделать то, к чему его только что обязал Конгресс. Тогда уже у Джорджа Вашингтона ничего не будет: ни плантации, ни богатства, ни самой жизни. Победить или погибнуть. Существовало только два варианта его будущего, и Вашингтон был нацелен исключительно на первый, не допуская даже в мыслях наступления второго.
Вновь избранный главнокомандующий обладал всеми талантами, необходимыми для должности такого высокого ранга: организаторскими способностями, выдержкой, дальновидностью, умением быстро ориентироваться в сложных ситуациях и принимать верные решения. Положительный результат этих решений со временем был очевиден всем: создав армию фактически на пустом месте, Вашингтон прошёл с ней долгий путь от осады Бостона в 1776 году до капитуляции английских войск у Йорктауна в 1781 году.
Правда, Континентальная армия пока не являлась армией в полном смысле этого слова. В начале своего создания она состояла из тех же многочисленных ополченцев и минитменов, вчерашних охотников и фермеров. Плоховооружённая и необученная, сражаться с регулярными британскими войсками на равных эта армия ещё не могла.
Новоявленные солдаты, бывшие охотники, прекрасно стреляли из-за укрытия, но дать серьёзный бой по всем правилам воинского искусства они ещё были не способны. Кроме этого, дисциплина у такой армии «из народа» была не на высоком уровне. Устав от войны и трудностей, солдаты дезертировали и возвращались на свои фермы. Только со временем из многочисленного ополчения, прошедшего тяжёлые испытания и испившего горечь поражений, перенеся голод и лишения, сформировался костяк американской армии. Он постепенно пополнялся и получал опыт побед, обретая силу и авторитет настоящей боеспособной армии нового независимого государства. Уже через несколько лет, благодаря упорству и энтузиазму Вашингтона, а также благодаря усилиям иностранных военных инструкторов-специалистов типа прусского офицера фон Оттендорфа (иначе говоря, профессиональным наёмникам-волонтёрам), Континентальная армия Соединённых Штатов стала заслуженно носить это название.
 лавнокомандующий вооружёнными силами повстанцев Тадеуш Костюшко был вне себя от того, что ему только что сообщили. С одной стороны, восстание получало всенародный размах и поддержку, с другой — жестокость, с которой происходили эти события, напоминали ему казни аристократов во Франции.
«Якуб, Якуб... Что же ты, пся крев, наделал?» — про себя ругался Костюшко, прекрасно понимая, что тень от этих жестоких расправ ложится и на него. События на его родине и во Франции как будто писались одним пером и одним сценаристом.
— Немедленно собрать ко мне на совещание всех командиров полков и офицеров штаба, — голосом, не допускающим промедления, приказал Костюшко своему адъютанту и секретарю Немцевичу и Фишеру. Когда же большая часть приглашённых им командиров прибыли в штаб восстания, Костюшко обратился к ним с гневной речью, которую не ожидали услышать от него офицеры его армии.
— Паны офицеры! — начал говорить Тадеуш Костюшко, внимательно вглядываясь в каждое лицо. — Как вы хотите освобождать свою родину? Как варвары, которые не разбираются, кто прав или виноват, уничтожая всё и всякого на своём пути без суда и следствия? Или как цивилизованная нация, которым не чужды такие понятия, как справедливость, гуманизм и правосудие?
Костюшко осмотрел собравшихся. Все молчали, понимая, что Костюшко имел в виду.
Некоторые из них уже слышали о восстании горожан в Варшаве и Вильно и искренне считали, что нет серьёзных поводов для волнения. Кто-то поддерживал подобные действия польских «якобинцев» над «изменниками» и «москалями», а кто-то осуждал, как Костюшко, их скоропалительные решения и их действия. Но большая часть его подчинённых понимали, что подобные казни, напоминающие простую и дикую расправу, не придадут авторитета такому благородному движению, как борьба за независимость родины. Скорее наоборот, такие действиявосставших многих заставят задуматься о своей судьбе и о своём будущем. Сегодня без суда казнили шляхтичей в Варшаве и Вильно, а завтра начнут вешать по всей Речи Посполитой.
— Вы понимаете, кому на руку подобные события? — продолжал метать молнии руководитель восстания. — Вы представляете, как наше благородное дело и движение будут восприниматься в Европе, если подобные расправы в освобождённых нами городах превратятся в систему? А в других городах Речи Посполитой после того, что произошло в Варшаве и Вильно, мы много найдём тех, кто поддержит нас?
Наконец генерал Мадалинский первый нарушил тягостное молчание присутствующих:
— Регулярная польская армия не участвовала в этих расправах, а с виновными в самосудах надо ещё разобраться... — Мадалинский замолчал, раздумывая, что бы ещё добавить в защиту тех, из-за кого их собрал у себя главнокомандующий. — Восстание набирает силу, и подобные явления неизбежны, когда в борьбу вовлекаются народные массы.
Костюшко с усталостью человека, преодолевшего пешком большое расстояние, сел. Он понимал, что ситуация выходит из-под контроля, и необходимо жёстко разобраться во всём, что произошло за эти дни в Варшаве и Вильно. Подобные действия восставших в дальнейшем необходимо исключить. Но как это сделать, как поступить с теми, кто уже совершил эти казни? В противном случае вся территория Речи Посполитой будет похожа на долгую дорогу в Рим. Но только вместо распятых на крестах восставших рабов из армии Спартака могут стоять виселицы с местными помещиками и шляхтой.
— Я сам поеду в Варшаву и предам суду виновных, — вынес решение Костюшко. — А ваша обязанность — не допускать в дальнейшем подобных действий со стороны подразделений, командирами которых вы все являетесь... Никаких самосудов!
Костюшко выполнил своё обещание и прибыл вскоре в столицу. По его требованию семь самых ярых участников расправы над арестованными во время варшавского восстания были осуждены и повешены. Поддерживая революционное управление Варшавы, Костюшко издал приказ о разоружении варшавских граждан, получивших оружие во время восстания 6 апреля 1794 года.
Но и этим не закончилось разбирательство руководителя восстания с теми, кто поддержал самосуд. Костюшко тайным распоряжением велел сформировать отряд национальной гвардии Варшавы из самых активных участников варшавского восстания и включить в его состав участников тех позорных казней. Не желая больше пролития крови, он предоставил им возможность искупить свою вину с оружием в руках на самых передовых укреплениях города.
В своём обращении к народу Костюшко осудил расправы, а также предупреждал о наказании всякого, кто будет учинять подобное самоуправство, включая оскорбление пленных. А то что Костюшко не бросал слов на ветер, подтверждали семь виселиц с польскими Робеспьерами.
После победы под Рацлавицами, восстания в Варшаве и Вильно армия повстанцев стремительно увеличивалась, пополняясь за счёт отрядов волонтёров, а также регулярных частей польской армии, которые поддерживали борьбу за независимость своей родины. Они массово переходили на сторону восставших, подчиняясь Костюшко, и именно из них он формировал вооружённые силы освободительной армии.
Но не все офицеры польской армии сразу принимали и поддерживали восставших. Некоторые из них колебались, делая нелёгкий выбор между отставкой и службой в армии Костюшко. Однако чем шире восстание охватывало просторы Речи Посполитой, тем решительней в своём выборе в пользу восстания становились настоящие патриоты.
Командир татарских полков генерал-майор Юсуф Белик отказался выполнять приказания военного коменданта Варшавы генерала Станислава Макроновского. Он был информирован о событиях, которые совсем недавно произошли в столице Польши, а у генерала-татарина были свои убеждения и своё отношение к верности присяге, воинской доблести и чести. Они коренным образом отличались от того, что произошло в дни восстания в Варшаве.
Но вскоре в столицу для наведения порядка прибыл лично Тадеуш Костюшко, а ещё через несколько дней генерал Белик получил письмо от польского короля, в котором с удивлением прочитал:
«...Ты должен знать, что произошло не только в Кракове, но и в Варшаве. И что произошло после, и что не время ни о чём думать, как только об общей обороне. Уже теперь всем вместе надо спасаться — единством и мужеством... Постарайся собрать и объединить кого только сможешь, как солдат, так и волонтёров из татарских и польских народов». Это был призыв в поддержку восстания от самого короля! И генерал-майор Юсуф Белик принял решение: уже в конце апреля 1794 года армия Костюшко пополнилась новыми кадровыми офицерами и новыми полками татарской конницы.
Воинские подразделения формировались по всей Речи Посполитой и из различных народностей, населяющих её территорию; литвины, поляки и даже евреи создавали на местах боевые отряды и направляли их в армию Костюшко.
Из-за границы на родину возвращались польские офицеры, которые до этого времени служили в иностранных легионах или просто жили вдали от родины. Они спешили стать под знамёна полков Костюшко и принять участие в защите Отечества. Маленькими ручейками небольшие вооружённые отряды двигались в сторону Варшавы, чтобы соединиться с основными силами восставших и влиться в одну из вновь созданных Костюшко дивизий или армий.
По всей стране проходили патриотические выступления среди различных слоёв населения в поддержку восстания. Шляхта слала Костюшко акты местных собраний, где они подписывались в верности и готовности отдать свои жизни за правое дело свободы и независимости родной страны.
В конце апреля 1794 года Костюшко объявил «посполитое рушение», призывая стать под знамёна всё мужское население Речи Посполитой от 15 до 50 лет. Дополнительно он издал Полонецкий универсал, обещая крестьянам полное освобождение и уменьшение повинностей. Костюшко казалось, что пройдёт ещё немного времени, и вся страна выступит единым фронтом против русских, австрийских и прусских войск. Вот-вот наступит перелом, и Речь Посполитая опять обретёт полную независимость в границах времён прежнего своего величия. Но пошло не так, как предполагал руководитель восстания.
Первыми, кто не поддержал Костюшко после выхода Манифеста 7 мая 1794 года, были представители католического духовенства. Шляхта также показала свой своенравный характер и отказывалась выполнять приказы Костюшко отправлять каждого пятого крестьянина с косой в армию. Многие шляхтичи в Манифесте увидели не будущую силу и свободу родины, а ограничение своих вольностей, которые они имели ещё со времён прадедов.
Сами же крестьяне в большей своей массе либо не были знакомы с призывами Костюшко, либо не верили им. По своей ментальности и убогости они решили подождать и посмотреть, чья сила возьмёт верх и кто кого одолеет первым: Костюшко «москалей» или наоборот. Многие из них не желали отрываться от своих земельных наделов, от жён и детей (кто их будет кормить, если кормилец падёт на поле брани?), а жить так, как они жили, крестьяне привыкли. Главное — чтобы не было войн, которые им изрядно надоели, да чтобы на столе был хлеб.
В результате к лету 1794 года Костюшко не сумел собрать в свою армию и ста тысяч солдат, хотя рассчитывал, что соберётся около четырёхсот тысяч. Финансов в казне не хватало, пожертвований от патриотов поступало мало, шляхтичи саботировали приказания Костюшко, а республиканская Франция не спешила поделиться гвардейцами. У неё и своих проблем хватало в это время.
Но сложнее всего Костюшко было «управлять» шляхтой и генералами своей армии. Хоть он и обладал диктаторскими полномочиями, но повсеместно контролировать ситуацию не мог. Некоторые генералы, получив в своё распоряжение дивизию или иное крупное воинское соединение, чувствовали себя спасителями нации и игнорировали указания Костюшко, зная его доброту и мягкость. Проявляя инициативу, они вели боевые действия самостоятельно, без согласования с общим планом восстания, либо, наоборот, бездействовали, когда необходимо было принимать серьёзные решения, не ожидая указаний главнокомандующего. Между генералами армии Костюшко часто возникали споры, влекущие открытые неприязненные отношения. Так, например, Мадалинский терпеть не мог Яна Домбровского, который стремился довести боеспособность польской кавалерии до современного европейского уровня. При этом все предложения последнего Мадалинский открыто игнорировал, называя их «немецкими выдумками». Домбровского такое отношение оскорбляло, а подобная неприязнь двух известных генералов не приносила пользы общему делу восстания.
А русские, прусские и австрийские армии уже подходили к границам Речи Посполитой, собирая силы, чтобы раз и навсегда покончить с этим своенравным государством и получить в свои владения новые земли.
лавнокомандующий вооружёнными силами повстанцев Тадеуш Костюшко был вне себя от того, что ему только что сообщили. С одной стороны, восстание получало всенародный размах и поддержку, с другой — жестокость, с которой происходили эти события, напоминали ему казни аристократов во Франции.
«Якуб, Якуб... Что же ты, пся крев, наделал?» — про себя ругался Костюшко, прекрасно понимая, что тень от этих жестоких расправ ложится и на него. События на его родине и во Франции как будто писались одним пером и одним сценаристом.
— Немедленно собрать ко мне на совещание всех командиров полков и офицеров штаба, — голосом, не допускающим промедления, приказал Костюшко своему адъютанту и секретарю Немцевичу и Фишеру. Когда же большая часть приглашённых им командиров прибыли в штаб восстания, Костюшко обратился к ним с гневной речью, которую не ожидали услышать от него офицеры его армии.
— Паны офицеры! — начал говорить Тадеуш Костюшко, внимательно вглядываясь в каждое лицо. — Как вы хотите освобождать свою родину? Как варвары, которые не разбираются, кто прав или виноват, уничтожая всё и всякого на своём пути без суда и следствия? Или как цивилизованная нация, которым не чужды такие понятия, как справедливость, гуманизм и правосудие?
Костюшко осмотрел собравшихся. Все молчали, понимая, что Костюшко имел в виду.
Некоторые из них уже слышали о восстании горожан в Варшаве и Вильно и искренне считали, что нет серьёзных поводов для волнения. Кто-то поддерживал подобные действия польских «якобинцев» над «изменниками» и «москалями», а кто-то осуждал, как Костюшко, их скоропалительные решения и их действия. Но большая часть его подчинённых понимали, что подобные казни, напоминающие простую и дикую расправу, не придадут авторитета такому благородному движению, как борьба за независимость родины. Скорее наоборот, такие действиявосставших многих заставят задуматься о своей судьбе и о своём будущем. Сегодня без суда казнили шляхтичей в Варшаве и Вильно, а завтра начнут вешать по всей Речи Посполитой.
— Вы понимаете, кому на руку подобные события? — продолжал метать молнии руководитель восстания. — Вы представляете, как наше благородное дело и движение будут восприниматься в Европе, если подобные расправы в освобождённых нами городах превратятся в систему? А в других городах Речи Посполитой после того, что произошло в Варшаве и Вильно, мы много найдём тех, кто поддержит нас?
Наконец генерал Мадалинский первый нарушил тягостное молчание присутствующих:
— Регулярная польская армия не участвовала в этих расправах, а с виновными в самосудах надо ещё разобраться... — Мадалинский замолчал, раздумывая, что бы ещё добавить в защиту тех, из-за кого их собрал у себя главнокомандующий. — Восстание набирает силу, и подобные явления неизбежны, когда в борьбу вовлекаются народные массы.
Костюшко с усталостью человека, преодолевшего пешком большое расстояние, сел. Он понимал, что ситуация выходит из-под контроля, и необходимо жёстко разобраться во всём, что произошло за эти дни в Варшаве и Вильно. Подобные действия восставших в дальнейшем необходимо исключить. Но как это сделать, как поступить с теми, кто уже совершил эти казни? В противном случае вся территория Речи Посполитой будет похожа на долгую дорогу в Рим. Но только вместо распятых на крестах восставших рабов из армии Спартака могут стоять виселицы с местными помещиками и шляхтой.
— Я сам поеду в Варшаву и предам суду виновных, — вынес решение Костюшко. — А ваша обязанность — не допускать в дальнейшем подобных действий со стороны подразделений, командирами которых вы все являетесь... Никаких самосудов!
Костюшко выполнил своё обещание и прибыл вскоре в столицу. По его требованию семь самых ярых участников расправы над арестованными во время варшавского восстания были осуждены и повешены. Поддерживая революционное управление Варшавы, Костюшко издал приказ о разоружении варшавских граждан, получивших оружие во время восстания 6 апреля 1794 года.
Но и этим не закончилось разбирательство руководителя восстания с теми, кто поддержал самосуд. Костюшко тайным распоряжением велел сформировать отряд национальной гвардии Варшавы из самых активных участников варшавского восстания и включить в его состав участников тех позорных казней. Не желая больше пролития крови, он предоставил им возможность искупить свою вину с оружием в руках на самых передовых укреплениях города.
В своём обращении к народу Костюшко осудил расправы, а также предупреждал о наказании всякого, кто будет учинять подобное самоуправство, включая оскорбление пленных. А то что Костюшко не бросал слов на ветер, подтверждали семь виселиц с польскими Робеспьерами.
После победы под Рацлавицами, восстания в Варшаве и Вильно армия повстанцев стремительно увеличивалась, пополняясь за счёт отрядов волонтёров, а также регулярных частей польской армии, которые поддерживали борьбу за независимость своей родины. Они массово переходили на сторону восставших, подчиняясь Костюшко, и именно из них он формировал вооружённые силы освободительной армии.
Но не все офицеры польской армии сразу принимали и поддерживали восставших. Некоторые из них колебались, делая нелёгкий выбор между отставкой и службой в армии Костюшко. Однако чем шире восстание охватывало просторы Речи Посполитой, тем решительней в своём выборе в пользу восстания становились настоящие патриоты.
Командир татарских полков генерал-майор Юсуф Белик отказался выполнять приказания военного коменданта Варшавы генерала Станислава Макроновского. Он был информирован о событиях, которые совсем недавно произошли в столице Польши, а у генерала-татарина были свои убеждения и своё отношение к верности присяге, воинской доблести и чести. Они коренным образом отличались от того, что произошло в дни восстания в Варшаве.
Но вскоре в столицу для наведения порядка прибыл лично Тадеуш Костюшко, а ещё через несколько дней генерал Белик получил письмо от польского короля, в котором с удивлением прочитал:
«...Ты должен знать, что произошло не только в Кракове, но и в Варшаве. И что произошло после, и что не время ни о чём думать, как только об общей обороне. Уже теперь всем вместе надо спасаться — единством и мужеством... Постарайся собрать и объединить кого только сможешь, как солдат, так и волонтёров из татарских и польских народов». Это был призыв в поддержку восстания от самого короля! И генерал-майор Юсуф Белик принял решение: уже в конце апреля 1794 года армия Костюшко пополнилась новыми кадровыми офицерами и новыми полками татарской конницы.
Воинские подразделения формировались по всей Речи Посполитой и из различных народностей, населяющих её территорию; литвины, поляки и даже евреи создавали на местах боевые отряды и направляли их в армию Костюшко.
Из-за границы на родину возвращались польские офицеры, которые до этого времени служили в иностранных легионах или просто жили вдали от родины. Они спешили стать под знамёна полков Костюшко и принять участие в защите Отечества. Маленькими ручейками небольшие вооружённые отряды двигались в сторону Варшавы, чтобы соединиться с основными силами восставших и влиться в одну из вновь созданных Костюшко дивизий или армий.
По всей стране проходили патриотические выступления среди различных слоёв населения в поддержку восстания. Шляхта слала Костюшко акты местных собраний, где они подписывались в верности и готовности отдать свои жизни за правое дело свободы и независимости родной страны.
В конце апреля 1794 года Костюшко объявил «посполитое рушение», призывая стать под знамёна всё мужское население Речи Посполитой от 15 до 50 лет. Дополнительно он издал Полонецкий универсал, обещая крестьянам полное освобождение и уменьшение повинностей. Костюшко казалось, что пройдёт ещё немного времени, и вся страна выступит единым фронтом против русских, австрийских и прусских войск. Вот-вот наступит перелом, и Речь Посполитая опять обретёт полную независимость в границах времён прежнего своего величия. Но пошло не так, как предполагал руководитель восстания.
Первыми, кто не поддержал Костюшко после выхода Манифеста 7 мая 1794 года, были представители католического духовенства. Шляхта также показала свой своенравный характер и отказывалась выполнять приказы Костюшко отправлять каждого пятого крестьянина с косой в армию. Многие шляхтичи в Манифесте увидели не будущую силу и свободу родины, а ограничение своих вольностей, которые они имели ещё со времён прадедов.
Сами же крестьяне в большей своей массе либо не были знакомы с призывами Костюшко, либо не верили им. По своей ментальности и убогости они решили подождать и посмотреть, чья сила возьмёт верх и кто кого одолеет первым: Костюшко «москалей» или наоборот. Многие из них не желали отрываться от своих земельных наделов, от жён и детей (кто их будет кормить, если кормилец падёт на поле брани?), а жить так, как они жили, крестьяне привыкли. Главное — чтобы не было войн, которые им изрядно надоели, да чтобы на столе был хлеб.
В результате к лету 1794 года Костюшко не сумел собрать в свою армию и ста тысяч солдат, хотя рассчитывал, что соберётся около четырёхсот тысяч. Финансов в казне не хватало, пожертвований от патриотов поступало мало, шляхтичи саботировали приказания Костюшко, а республиканская Франция не спешила поделиться гвардейцами. У неё и своих проблем хватало в это время.
Но сложнее всего Костюшко было «управлять» шляхтой и генералами своей армии. Хоть он и обладал диктаторскими полномочиями, но повсеместно контролировать ситуацию не мог. Некоторые генералы, получив в своё распоряжение дивизию или иное крупное воинское соединение, чувствовали себя спасителями нации и игнорировали указания Костюшко, зная его доброту и мягкость. Проявляя инициативу, они вели боевые действия самостоятельно, без согласования с общим планом восстания, либо, наоборот, бездействовали, когда необходимо было принимать серьёзные решения, не ожидая указаний главнокомандующего. Между генералами армии Костюшко часто возникали споры, влекущие открытые неприязненные отношения. Так, например, Мадалинский терпеть не мог Яна Домбровского, который стремился довести боеспособность польской кавалерии до современного европейского уровня. При этом все предложения последнего Мадалинский открыто игнорировал, называя их «немецкими выдумками». Домбровского такое отношение оскорбляло, а подобная неприязнь двух известных генералов не приносила пользы общему делу восстания.
А русские, прусские и австрийские армии уже подходили к границам Речи Посполитой, собирая силы, чтобы раз и навсегда покончить с этим своенравным государством и получить в свои владения новые земли.
 катерина II в этот день плохо себя чувствовала. Она приказала подвинуть кресло к окну и села в него, наблюдая за обычной суетой во дворе дворца. Подъезжали и отъезжали кареты и всадники, куда-то спешили дворцовые служащие, а стареющая императрица вдруг обратила внимание на сосульки, которые свисали с крыш, и с удивлением подумала, что раньше их просто не замечала.
Голова у Екатерины опять разболелась, и она позвала придворного лекаря. Осмотрев матушку-императрицу, он накапал в серебряную рюмку какого-то лекарства и дал ей выпить. Через некоторое время голова перестала болеть, императрица почувствовала себя лучше и готова была начать свой рабочий день.
— Позовите ко мне Александра Андреевича, — приказала она, и главный чиновник Коллегии иностранных дел буквально через минуту уже стоял перед ней с докладом.
Российская императрица уважала и ценила этого исполнительного и умного государственного деятеля, который все свои награды и почести получал вполне заслуженно. Ещё в 1775 году по рекомендации графа Румянцева никому не известного Безбородко вдруг назначили статс-секретарём Екатерины II. С того момента и началось стремительное возвышение этого человека, который ранее служил в канцелярии графа, являлся его доверенным лицом и вёл секретную переписку фельдмаршала.
За короткое время Безбородко сумел стать просто незаменимым для российской императрицы. А после смерти Панина в 1783 году Безбородко стал вторым членом Коллегии иностранных дел и отлично справлялся со своими обязанностями. Но поскольку место канцлера всё это время оставалось вакантным, то фактически он исполнял его обязанности и был главным советником Екатерины II в делах внешней политики.
Императрица по достоинству оценила преданную службу Безбородко, и в 1784 году ему был пожалован титул графа, а за успешное заключение русско-турецкого мира в Яссах в 1791 году он был награждён грамотой, масличной ветвью и деревнями с 4981 душой крепостных. И это после того, как Безбородко вступил в открытый конфликт с самим фаворитом императрицы Платоном Зубовым!
— Ну, здравствуй, Александр Андреевич. Извини, что заставила тебя так долго ждать, — добродушно и ласково приветствовала императрица Безбородко. — Что-то нездоровится мне в последнее время.
— Да полно, матушка, что вы... Дай Бог вам здоровья и жизни сто лет, — ответил смущённый таким обращением чиновник.
Императрица грустно улыбнулась. «Старость не в радость, — подумала она, — а стареть ох как не хочется». Но вслух по-деловому спросила:
— Давай докладывай, что в Польше опять происходит.
Безбородко откашлялся, сделал глубокий вдох и раскрыл свою рабочую папку с бумагами.
— 24 марта сего года в Кракове собрались польские генералы со своими полками, шляхта, горожане, а также другой чёрный люд, — бойко начал свой доклад вельможа. — Они открыто объявили войну России, Австрии и Пруссии, а также провозгласили руководителем восстания польского генерала Тадеуша Костюшко.
— Погоди, Александр Андреевич, — остановила Екатерина доклад, — напомни мне, кто этот генерал и чем знаменит? Почему именно его поставили во главе этого бунта?
Безбородко перебрал в своей папке бумаги и достал нужный лист. Опять откашлявшись, он пробежал глазами текст и продолжил доклад:
— Тадеуш Бонавентура Костюшко, 48 лет, литвин, выпускник Рыцарской школы в Варшаве, воевал в Соединённых Штатах в армии Вашингтона, дослужился там до генерала, награждён в числе лучших офицеров почётным орденом Цинциннати. В последней войне отличился в сражении с генералом Каховским и был награждён орденом «Виртути Милитари». После окончания войны уехал во Францию.
— Какая интересная биография у этого Костюшко, — опять прервала Екатерина II доклад. — И везде-то он успевает: и в Америке, и в Польше... Да, это не Емелька Пугачёв. Читай дальше.
— В день своего избрания «высшим и единственным Начальником» польских бунтовщиков Костюшко обнародовал «Акт восстания граждан, жителей Краковского воеводства».
— И что это за документ?
— В нём говорится о вас, матушка, и о короле прусском... — Безбородко немного замялся, но решил изложить императрице всю суть документа. — Якобы данные монархи создали государство тирании. Кроме этого, Костюшко распространил воззвание к армии, к гражданам, к духовенству и к женщинам.
— К женщинам? — удивилась императрица, высоко подняв брови.
— Да, к женщинам, — подтвердил Безбородко.
— Ладно, докладывай далее.
— Тот же «Акт» возложил политическое руководство восстанием на Высший национальный совет и определил в воеводствах местные органы управления — комиссии. Те же, в свою очередь, должны организовывать надзорное управление на местах. Создаются и новые революционные суды.
— Да, серьёзно этот Костюшко взялся за дело, — покачала Екатерина II головой, удивляясь, что события разворачиваются с такой быстротой. Ей стало ясно, что заговор готовился уже давно, а её Тайная канцелярия ничего не знала либо ей не доложили... Вот он дух Французской революции, бродит уже по всей Польше и Великому княжеству Литовскому.
Екатерина II редко повышала голос и старалась не выглядеть раздражённой в присутствии своих придворных, но в данный момент она не сдержалась и недовольно спросила, ударив ладонью по подлокотнику кресла:
— А что наши гарнизоны в Польше, что предпринято для погашения бунта?
— Наш гарнизон в Варшаве в одну ночь был вырезан бунтовщиками. Погибло 2265 солдат и офицеров, а в Вильно и в других гарнизонах происходило примерно то же.
Императрица глубоко вздохнула. Неприятная тупая боль, с утра поселившаяся у неё в голове, опять напомнила о себе. «Ну вот и всё. С поляками надо кончать раз и навсегда, — решила Екатерина II. — А Станислав Понятовский всё-таки не послушался меня. А зря... Теперь пусть не обижается. Слишком тяжела для него польская корона. Пора её снимать».
— Немедленно вызвать из отставки графа Румянцева, — распорядилась российская императрица, вспомнив о своём знаменитом фельдмаршале, который решил отдохнуть от ратных дел на старости лет. — Пусть он возглавит наши войска, и дайте ему все полномочия на этот счёт.
— Слушаюсь, матушка, — поклонился Безбородко и по указанию Екатерины удалился исполнять её приказ.
А императрица опять повернулась к окну, постепенно успокаиваясь и прислушиваясь, как стихает головная боль. Перед дворцом картина почти не изменилась: по-прежнему продолжалась дворцовая повседневная суета. Тёплые апрельские лучи соли да через стекло приятно грели лицо Екатерины II, и она незаметно для себя задремала.
катерина II в этот день плохо себя чувствовала. Она приказала подвинуть кресло к окну и села в него, наблюдая за обычной суетой во дворе дворца. Подъезжали и отъезжали кареты и всадники, куда-то спешили дворцовые служащие, а стареющая императрица вдруг обратила внимание на сосульки, которые свисали с крыш, и с удивлением подумала, что раньше их просто не замечала.
Голова у Екатерины опять разболелась, и она позвала придворного лекаря. Осмотрев матушку-императрицу, он накапал в серебряную рюмку какого-то лекарства и дал ей выпить. Через некоторое время голова перестала болеть, императрица почувствовала себя лучше и готова была начать свой рабочий день.
— Позовите ко мне Александра Андреевича, — приказала она, и главный чиновник Коллегии иностранных дел буквально через минуту уже стоял перед ней с докладом.
Российская императрица уважала и ценила этого исполнительного и умного государственного деятеля, который все свои награды и почести получал вполне заслуженно. Ещё в 1775 году по рекомендации графа Румянцева никому не известного Безбородко вдруг назначили статс-секретарём Екатерины II. С того момента и началось стремительное возвышение этого человека, который ранее служил в канцелярии графа, являлся его доверенным лицом и вёл секретную переписку фельдмаршала.
За короткое время Безбородко сумел стать просто незаменимым для российской императрицы. А после смерти Панина в 1783 году Безбородко стал вторым членом Коллегии иностранных дел и отлично справлялся со своими обязанностями. Но поскольку место канцлера всё это время оставалось вакантным, то фактически он исполнял его обязанности и был главным советником Екатерины II в делах внешней политики.
Императрица по достоинству оценила преданную службу Безбородко, и в 1784 году ему был пожалован титул графа, а за успешное заключение русско-турецкого мира в Яссах в 1791 году он был награждён грамотой, масличной ветвью и деревнями с 4981 душой крепостных. И это после того, как Безбородко вступил в открытый конфликт с самим фаворитом императрицы Платоном Зубовым!
— Ну, здравствуй, Александр Андреевич. Извини, что заставила тебя так долго ждать, — добродушно и ласково приветствовала императрица Безбородко. — Что-то нездоровится мне в последнее время.
— Да полно, матушка, что вы... Дай Бог вам здоровья и жизни сто лет, — ответил смущённый таким обращением чиновник.
Императрица грустно улыбнулась. «Старость не в радость, — подумала она, — а стареть ох как не хочется». Но вслух по-деловому спросила:
— Давай докладывай, что в Польше опять происходит.
Безбородко откашлялся, сделал глубокий вдох и раскрыл свою рабочую папку с бумагами.
— 24 марта сего года в Кракове собрались польские генералы со своими полками, шляхта, горожане, а также другой чёрный люд, — бойко начал свой доклад вельможа. — Они открыто объявили войну России, Австрии и Пруссии, а также провозгласили руководителем восстания польского генерала Тадеуша Костюшко.
— Погоди, Александр Андреевич, — остановила Екатерина доклад, — напомни мне, кто этот генерал и чем знаменит? Почему именно его поставили во главе этого бунта?
Безбородко перебрал в своей папке бумаги и достал нужный лист. Опять откашлявшись, он пробежал глазами текст и продолжил доклад:
— Тадеуш Бонавентура Костюшко, 48 лет, литвин, выпускник Рыцарской школы в Варшаве, воевал в Соединённых Штатах в армии Вашингтона, дослужился там до генерала, награждён в числе лучших офицеров почётным орденом Цинциннати. В последней войне отличился в сражении с генералом Каховским и был награждён орденом «Виртути Милитари». После окончания войны уехал во Францию.
— Какая интересная биография у этого Костюшко, — опять прервала Екатерина II доклад. — И везде-то он успевает: и в Америке, и в Польше... Да, это не Емелька Пугачёв. Читай дальше.
— В день своего избрания «высшим и единственным Начальником» польских бунтовщиков Костюшко обнародовал «Акт восстания граждан, жителей Краковского воеводства».
— И что это за документ?
— В нём говорится о вас, матушка, и о короле прусском... — Безбородко немного замялся, но решил изложить императрице всю суть документа. — Якобы данные монархи создали государство тирании. Кроме этого, Костюшко распространил воззвание к армии, к гражданам, к духовенству и к женщинам.
— К женщинам? — удивилась императрица, высоко подняв брови.
— Да, к женщинам, — подтвердил Безбородко.
— Ладно, докладывай далее.
— Тот же «Акт» возложил политическое руководство восстанием на Высший национальный совет и определил в воеводствах местные органы управления — комиссии. Те же, в свою очередь, должны организовывать надзорное управление на местах. Создаются и новые революционные суды.
— Да, серьёзно этот Костюшко взялся за дело, — покачала Екатерина II головой, удивляясь, что события разворачиваются с такой быстротой. Ей стало ясно, что заговор готовился уже давно, а её Тайная канцелярия ничего не знала либо ей не доложили... Вот он дух Французской революции, бродит уже по всей Польше и Великому княжеству Литовскому.
Екатерина II редко повышала голос и старалась не выглядеть раздражённой в присутствии своих придворных, но в данный момент она не сдержалась и недовольно спросила, ударив ладонью по подлокотнику кресла:
— А что наши гарнизоны в Польше, что предпринято для погашения бунта?
— Наш гарнизон в Варшаве в одну ночь был вырезан бунтовщиками. Погибло 2265 солдат и офицеров, а в Вильно и в других гарнизонах происходило примерно то же.
Императрица глубоко вздохнула. Неприятная тупая боль, с утра поселившаяся у неё в голове, опять напомнила о себе. «Ну вот и всё. С поляками надо кончать раз и навсегда, — решила Екатерина II. — А Станислав Понятовский всё-таки не послушался меня. А зря... Теперь пусть не обижается. Слишком тяжела для него польская корона. Пора её снимать».
— Немедленно вызвать из отставки графа Румянцева, — распорядилась российская императрица, вспомнив о своём знаменитом фельдмаршале, который решил отдохнуть от ратных дел на старости лет. — Пусть он возглавит наши войска, и дайте ему все полномочия на этот счёт.
— Слушаюсь, матушка, — поклонился Безбородко и по указанию Екатерины удалился исполнять её приказ.
А императрица опять повернулась к окну, постепенно успокаиваясь и прислушиваясь, как стихает головная боль. Перед дворцом картина почти не изменилась: по-прежнему продолжалась дворцовая повседневная суета. Тёплые апрельские лучи соли да через стекло приятно грели лицо Екатерины II, и она незаметно для себя задремала.
 олодным октябрьским днём колонна польских повстанцев медленно входила в Матеевицы. Моросил мелкий осенний дождь, и дороги превратились в густую и вязкую кашу. Местные жители стояли вдоль дороги, наблюдая непривычное для них скопление вооружённых людей, и не скрывали своего сочувствия к уставшим от долгого перехода солдатам.
Костюшко сидел на коне, наблюдая за движением армии. Когда мимо него проходили уставшие косиньеры, они поднимали бодро свои головы, их шаг становился твёрже. Солдаты с улыбкой приветствовали своего вождя, размахивая мокрыми шапками. Когда же Костюшко оставался позади, их намокшие от дождя плечи опускались, шаги становились всё медленнее, а руки с трудом держали их простое «народное» оружие. Костюшко всё замечал и понимал, что его армия устала и ей нужен отдых. Тем более что, но сведениям разведки, корпус Ферзена находился уже недалеко.
— Остановимся здесь, — дал Костюшко распоряжение, и вестовые поскакали вдольколонны, информируя командиров полков о наступлении долгожданного отдыха. А вечером того же дня в самом большом и по-домашнему уютном доме на совещание к Костюшко собрались командиры кавалерийских полков и отрядов косиньеров. Здесь же присутствовали командир татарских конников Ахматович и командир артиллерии.
Главнокомандующий внимательно посмотрел на командиров. Теперь от них зависел исход предстоящего сражения и, возможно, судьба всего восстания. Вероятнее всего, уже завтра многие из них не доживут до ночи. А будет ли жив сам Костюшко? Этого никто, кроме Господа Бога, также сказать не мог. Такова она — судьба военного человека.
Костюшко бил озноб: усталость и напряжение последних дней подорвали его здоровье, и крепкий организм не выдержал нечеловеческих физических и моральных нагрузок.
— Паны командиры! — Костюшко старался говорить твёрдым голосом, но в груди у него что-то оборвалось, и он сильно закашлялся. «Не хватало ещё заболеть перед сражением», — ругал сам себя Костюшко и постарался унять кашель. Когда ему удалось сделать это, Тадеуш снова посмотрел на молчавших своих соратников. Они ожидали его приказаний и распоряжений.
— Завтра мы должны вступить, возможно, в самое важное сражение в нашей жизни, — начал опять говорить главнокомандующий. — Если мы сумеем разбить корпус Ферзена, то Суворов не решится штурмовать Варшаву без дополнительных сил. Следовательно, мы выиграем время, и русская армия вынуждена будет отойти на зимние квартиры.
— Но у русских большой численный перевес, — напомнил начальник штаба Костюшко, которому это не понравилось. Он об этом сам прекрасно знал, но сейчас надо было поднять боевой дух армии, а не напоминать о тех трудностях, которые их ожидают завтра.
— В сражении можно победить не только числом, — вдруг резко повысил голос Костюшко. — Может вы забыли, но я напомню всем, что корпус Сераковского превосходил по численности армию Суворова, но почему-то потерпел поражение. Или вы забыли, за что мы сражаемся, а может, в наших сердцах угас дух борьбы за свободу Родины?
Видимо, слова Костюшко достигли цели: присутствующие офицеры подняли головы, и по их горящим глазам Костюшко понял, что они готовы хоть сейчас пойти на своего врага.
Около часа Костюшко обсуждал с командирами план предстоящего сражения. Хуже всего было то, что до сих пор не было никаких известий от Ионинского, а разведка не могла доложить о точной численности русских войск, о количестве орудий и дислокации войск противника. Во время совещания так же поступали предложения об отходе и о возвращении за оборонительные заграждения Варшавы. Однако большинством участников этого военного совета было принято решение поутру начать сражение и победить или погибнуть в бою.
И завтра наступило... Костюшко на вороном жеребце бодро гарцевал перед строем. Ночью у него был жар, но верный Томаш напоил командира горячим чаем с какими-то травами и дал выпить вишнёвой настойки. Проспав пару часов, Костюшко к утру почувствовал себя настолько лучше, что сейчас выглядел перед своими солдатами так, что они не могли даже и подумать, что он болен.
Ранним утром по-прежнему моросил дождь, ощущалась осенняя прохлада, а стелющийся по полю туман затруднял определить расположение русской армии. Но когда туман рассеялся, солдаты с двух сторон уже стояли на своих позициях, готовые ринуться в бой. Костюшко посмотрел в сторону врага, и его взору открылась вся диспозиция противника. А она была более выгодной и удобной, чем у его армии.
Раздались первые залпы орудий с обеих сторон, и почти одновременно противники пошли на сближение. Легкокрылые польские уланы и полк татарских конников полковника Мустафы Ахматовича попытались обойти русскую пехоту, но были встречены казачьими полками генерала Давыдова. Этот русский генерал умудрился незаметно переправить 4000 своих солдат через болото, и их появление с левого фланга Костюшко оказалось неприятной неожиданностью. Ахматович в бою был зарублен, а атака польских и татарских кавалеристов захлебнулась. Теперь казаки Давыдова находились напротив главных сил Костюшко на расстоянии ружейного и картечного огня, а русские пушки продолжали изрыгать из себя своё содержимое на протяжении всего сражения.
Трижды войска Костюшко отбивали атаки превосходящего по численности противника штыками и косами. Однако сначала был сломлен их правый фланг, а в ходе боя были разбиты и взяты в плен генералы Сераковский, Коминский и Князевич. Ещё один кавалерийский полк повёл в бой сам Костюшко. Своим личным примером он надеялся увлечь за собой солдат и поднять их боевой дух. Но была и другая причина, почему главнокомандующий повстанцев ринулся в это сражение, а не следил за ним со стороны, отдавая приказания своим адъютантам и вестовым офицерам. В какой-то момент он, реально оценив силы противника, понял, что его армию может спасти только чудо. И тогда Костюшко принял решение умереть или выйти победителем из этого сражения, но шансов на благополучный исход было ничтожно мало.
«Матка Воска, спаси и сохрани. Помоги нам...» — помолился он про себя перед своей последней атакой, но ничего сверхъестественного не произошло. Свежая кавалерия, направленная Ферзеном в самую гущу боя, предрешила исход этого сражения.
Врезавшись в гущу русской пехоты на левом фланге, Костюшко находился в том состоянии, когда человек уже не может контролировать свои действия и тем более действия целой армии. Размахивая саблей направо и налево, он пытался пробить хоть какую-нибудь брешь в этой куче человеческих тел. Какой-то русский гренадер направил на Костюшко штык ружья, но грозное оружие русских солдат вонзилось в его лошадь. Смертельно раненный жеребец поднялся на дыбы и упал на бок, придавив собой всадника. Второй гренадер попытался воткнуть штык в тело главнокомандующего повстанческой армией, но находившийся рядом Томаш поспешил на помощь своему командиру. Он успел выстрелить в гренадера, и острый штык только ранил Костюшко в плечо. Этот поступок стоил Томашу жизни: налетевший на лошади казак рубанул его саблей, и свет навсегда исчез из глаз верного и преданного ординарца. Он замертво свалился рядом со своей лошадью на землю, раскинув широко руки, словно пытался изо всех сил удержаться на ней.
А вокруг Костюшко становилось всё меньше тех, кто мог его ещё спасти. Кругом шло кровопролитное сражение, и его уже не было видно среди лежащих мёртвых тел и ещё живых сражающихся между собой людей. Костюшко попытался вытащить ногу из-под лошади, но не смог. Тогда он выхватил из-за пояса один пистолет и успел его разрядить в какого-то русского солдата. Вытащив второй пистолет, Костюшко направил его на второго врага, но, мгновенно передумав, направил ствол пистолета себе в висок и нажал на спуск. Видимо Богу было угодно, чтобы Костюшко ещё пожил на этом свете, и пистолет дал осечку. Второй попытки застрелиться Костюшко уже не дали: молодой корнет ударил его палашом по голове, и он потерял на какое-то время сознание.
олодным октябрьским днём колонна польских повстанцев медленно входила в Матеевицы. Моросил мелкий осенний дождь, и дороги превратились в густую и вязкую кашу. Местные жители стояли вдоль дороги, наблюдая непривычное для них скопление вооружённых людей, и не скрывали своего сочувствия к уставшим от долгого перехода солдатам.
Костюшко сидел на коне, наблюдая за движением армии. Когда мимо него проходили уставшие косиньеры, они поднимали бодро свои головы, их шаг становился твёрже. Солдаты с улыбкой приветствовали своего вождя, размахивая мокрыми шапками. Когда же Костюшко оставался позади, их намокшие от дождя плечи опускались, шаги становились всё медленнее, а руки с трудом держали их простое «народное» оружие. Костюшко всё замечал и понимал, что его армия устала и ей нужен отдых. Тем более что, но сведениям разведки, корпус Ферзена находился уже недалеко.
— Остановимся здесь, — дал Костюшко распоряжение, и вестовые поскакали вдольколонны, информируя командиров полков о наступлении долгожданного отдыха. А вечером того же дня в самом большом и по-домашнему уютном доме на совещание к Костюшко собрались командиры кавалерийских полков и отрядов косиньеров. Здесь же присутствовали командир татарских конников Ахматович и командир артиллерии.
Главнокомандующий внимательно посмотрел на командиров. Теперь от них зависел исход предстоящего сражения и, возможно, судьба всего восстания. Вероятнее всего, уже завтра многие из них не доживут до ночи. А будет ли жив сам Костюшко? Этого никто, кроме Господа Бога, также сказать не мог. Такова она — судьба военного человека.
Костюшко бил озноб: усталость и напряжение последних дней подорвали его здоровье, и крепкий организм не выдержал нечеловеческих физических и моральных нагрузок.
— Паны командиры! — Костюшко старался говорить твёрдым голосом, но в груди у него что-то оборвалось, и он сильно закашлялся. «Не хватало ещё заболеть перед сражением», — ругал сам себя Костюшко и постарался унять кашель. Когда ему удалось сделать это, Тадеуш снова посмотрел на молчавших своих соратников. Они ожидали его приказаний и распоряжений.
— Завтра мы должны вступить, возможно, в самое важное сражение в нашей жизни, — начал опять говорить главнокомандующий. — Если мы сумеем разбить корпус Ферзена, то Суворов не решится штурмовать Варшаву без дополнительных сил. Следовательно, мы выиграем время, и русская армия вынуждена будет отойти на зимние квартиры.
— Но у русских большой численный перевес, — напомнил начальник штаба Костюшко, которому это не понравилось. Он об этом сам прекрасно знал, но сейчас надо было поднять боевой дух армии, а не напоминать о тех трудностях, которые их ожидают завтра.
— В сражении можно победить не только числом, — вдруг резко повысил голос Костюшко. — Может вы забыли, но я напомню всем, что корпус Сераковского превосходил по численности армию Суворова, но почему-то потерпел поражение. Или вы забыли, за что мы сражаемся, а может, в наших сердцах угас дух борьбы за свободу Родины?
Видимо, слова Костюшко достигли цели: присутствующие офицеры подняли головы, и по их горящим глазам Костюшко понял, что они готовы хоть сейчас пойти на своего врага.
Около часа Костюшко обсуждал с командирами план предстоящего сражения. Хуже всего было то, что до сих пор не было никаких известий от Ионинского, а разведка не могла доложить о точной численности русских войск, о количестве орудий и дислокации войск противника. Во время совещания так же поступали предложения об отходе и о возвращении за оборонительные заграждения Варшавы. Однако большинством участников этого военного совета было принято решение поутру начать сражение и победить или погибнуть в бою.
И завтра наступило... Костюшко на вороном жеребце бодро гарцевал перед строем. Ночью у него был жар, но верный Томаш напоил командира горячим чаем с какими-то травами и дал выпить вишнёвой настойки. Проспав пару часов, Костюшко к утру почувствовал себя настолько лучше, что сейчас выглядел перед своими солдатами так, что они не могли даже и подумать, что он болен.
Ранним утром по-прежнему моросил дождь, ощущалась осенняя прохлада, а стелющийся по полю туман затруднял определить расположение русской армии. Но когда туман рассеялся, солдаты с двух сторон уже стояли на своих позициях, готовые ринуться в бой. Костюшко посмотрел в сторону врага, и его взору открылась вся диспозиция противника. А она была более выгодной и удобной, чем у его армии.
Раздались первые залпы орудий с обеих сторон, и почти одновременно противники пошли на сближение. Легкокрылые польские уланы и полк татарских конников полковника Мустафы Ахматовича попытались обойти русскую пехоту, но были встречены казачьими полками генерала Давыдова. Этот русский генерал умудрился незаметно переправить 4000 своих солдат через болото, и их появление с левого фланга Костюшко оказалось неприятной неожиданностью. Ахматович в бою был зарублен, а атака польских и татарских кавалеристов захлебнулась. Теперь казаки Давыдова находились напротив главных сил Костюшко на расстоянии ружейного и картечного огня, а русские пушки продолжали изрыгать из себя своё содержимое на протяжении всего сражения.
Трижды войска Костюшко отбивали атаки превосходящего по численности противника штыками и косами. Однако сначала был сломлен их правый фланг, а в ходе боя были разбиты и взяты в плен генералы Сераковский, Коминский и Князевич. Ещё один кавалерийский полк повёл в бой сам Костюшко. Своим личным примером он надеялся увлечь за собой солдат и поднять их боевой дух. Но была и другая причина, почему главнокомандующий повстанцев ринулся в это сражение, а не следил за ним со стороны, отдавая приказания своим адъютантам и вестовым офицерам. В какой-то момент он, реально оценив силы противника, понял, что его армию может спасти только чудо. И тогда Костюшко принял решение умереть или выйти победителем из этого сражения, но шансов на благополучный исход было ничтожно мало.
«Матка Воска, спаси и сохрани. Помоги нам...» — помолился он про себя перед своей последней атакой, но ничего сверхъестественного не произошло. Свежая кавалерия, направленная Ферзеном в самую гущу боя, предрешила исход этого сражения.
Врезавшись в гущу русской пехоты на левом фланге, Костюшко находился в том состоянии, когда человек уже не может контролировать свои действия и тем более действия целой армии. Размахивая саблей направо и налево, он пытался пробить хоть какую-нибудь брешь в этой куче человеческих тел. Какой-то русский гренадер направил на Костюшко штык ружья, но грозное оружие русских солдат вонзилось в его лошадь. Смертельно раненный жеребец поднялся на дыбы и упал на бок, придавив собой всадника. Второй гренадер попытался воткнуть штык в тело главнокомандующего повстанческой армией, но находившийся рядом Томаш поспешил на помощь своему командиру. Он успел выстрелить в гренадера, и острый штык только ранил Костюшко в плечо. Этот поступок стоил Томашу жизни: налетевший на лошади казак рубанул его саблей, и свет навсегда исчез из глаз верного и преданного ординарца. Он замертво свалился рядом со своей лошадью на землю, раскинув широко руки, словно пытался изо всех сил удержаться на ней.
А вокруг Костюшко становилось всё меньше тех, кто мог его ещё спасти. Кругом шло кровопролитное сражение, и его уже не было видно среди лежащих мёртвых тел и ещё живых сражающихся между собой людей. Костюшко попытался вытащить ногу из-под лошади, но не смог. Тогда он выхватил из-за пояса один пистолет и успел его разрядить в какого-то русского солдата. Вытащив второй пистолет, Костюшко направил его на второго врага, но, мгновенно передумав, направил ствол пистолета себе в висок и нажал на спуск. Видимо Богу было угодно, чтобы Костюшко ещё пожил на этом свете, и пистолет дал осечку. Второй попытки застрелиться Костюшко уже не дали: молодой корнет ударил его палашом по голове, и он потерял на какое-то время сознание.
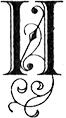 юнь 1812 года выдался в Париже сухим и жарким. Парижские обыватели, спасаясь от палящих солнечных лучей, сидели по многочисленным столичным кофейням, обсуждая последние новости, которые доходили до парижан о жизни их кумира — Наполеона Бонапарта. Самой животрепещущей темой таких разговоров и возникающих при этом споров была тема возможной войны с Российской империей. Пойдёт ли Наполеон войной на Россию? А если он всё-таки решится объявить царю Александру I войну, то дойдёт ли до Москвы и как быстро это произойдёт? В маленьких кофейнях, на улицах среди торговцев и в покоях дворцов — везде в эти дни витал дух спора и делались ставки.
12 июня 1812 года парижане ещё не знали, что бравые гвардейцы Наполеона уже перешли по мостам через Неман и двинулись вглубь огромного, по сравнению с территориями других стран Европы, государства. Более 600 000 солдат французской армии, как воды полноводной реки, втекали и втекали в Россию, чтобы всего лишь через год раствориться и исчезнуть на её просторах. Так исчезают в океане любые реки, впадающие в него, навсегда смешавшись с солёными безбрежными водами.
Заядлые спорщики не могли допустить даже и кошмарных снах, что всего лишь через два года войска уже другого императора, русского, совместно с войсками союзных армий будут маршировать по Елисейским Полям, а почти мифические страшные казаки будут забегать в парижские ресторанчики и требовать подать им по-быстрому выпить стопку водки. При этом они на ходу будут закусывать каким-нибудь поднесённым перепуганным официантом (или симпатичной и ничего не пугающейся официанткой) куском мяса с французской булочкой.
Но всё это будет только через два года. За это время тысячи и тысячи французских женщин ста нут вдовами, а французские мальчишки и девчонки — наполовину сиротами. И всё это совершится по воле только одного человека, стоящего 12 июня 1812 года на берегу полноводной реки, по руслу которой ещё пару часов назад проходила граница, установленная и утверждённая двумя императора ми в 1807 году.
Солдаты французской армии, маршируя стройными колоннами совместно с солдатами союзных армий перед императором Франции, понимали, что они идут воевать, а не на прогулку. И они были готовы к этой войне. В последние годы их обожаемый Наполеон Бонапарт не знал поражений, и практически вся Европа, кроме этих горячих испанских вояк, уже покорилась военной мощи Франции и её полководцу. Теперь же пришла очередь наступить на лапу и русскому медведю, накинуть ему на шею тяжёлый ошейник и заставить плясать французский канкан.
Практически все солдаты, проходившие в этот исторический момент по трём мостам, перекинутым через Неман, были уверены, что война будет победоносной и скоро закончится. Каждый из них надеялся остаться в живых, а после отдыха на зимних квартирах вернуться домой в свою горячо любимую Францию. Те же, кто не имел ничего, кроме солдатской формы и ружья, мечтали получить от своего щедрого императора хороший кусок земли на необъятных российских просторах и жениться на русской красавице. Офицеры просто стремились сделать военную карьеру, а польские легионеры хотели наконец-то победить русскую армию, взять реванш за поражение Польского восстания 1794 года и восстановить государственность своей родины.
Наполеон стоял на холме, возвышающемся над низиной принеманского берега, и смотрел на всю эту лавину людей, готовых ради него по одному только его жесту устремиться туда, куда он их пошлёт. Он гордился своей армией, собранной им по всей Европе в одну мощную организованную силу, подчинённую воле одного человека — его воле.
Вот скачут польские гвардейские уланы. Они храбры в атаке и быстры, как молния. Поляки с радостью пошли воевать под знамёнами его непобедимой армии, желая восстановить Речь Посполитую в том виде, в каком она была в лучшие годы своего существования: независимым и огромным государством «от моря до моря».
Наполеону их было как-то даже по-человечески жаль. «Такого государства у них уже никогда не будет. Сейчас этого не допускают русские, а после и поражения от моей армии подобного не допущу и я. В Европе должен быть один хозяин, один дирижёр всей её политической жизни, и конкуренты здесь мне не нужны», — думал Бонапарт, внимательно наблюдая за переправой польских кавалерийских полков.
За польскими уланами следовали гвардейские конные шассеры. Эти бойцы, вооружённые саблей и карабином, изматывали в бою противника и были искусны как в конном строю, так и в рукопашном бою. При верном выборе направления главного удара для конных шассеров можно было с уверенностью готовиться к празднованию очередной победы над противником.
Голландские гренадеры, вооружённые мушкетами лучших немецких и голландских мастеров, стройными колоннами двигались вдоль берега Не мана уже со стороны русской территории. Это была элита его армии. Но драгуны императрицы всё-таки были главным по значимости вооружённым подрав делением в армии Наполеона.
Император с гордостью смотрел на этот элитные отряд тяжёлой кавалерии, для которой офицером назначал лично он сам. Это был цвет офицерского общества: чтобы удостоиться чести быть зачисленным в это подразделение, офицер должен был иметь десятилетний стаж службы в кавалерии, участвовать в сражениях и, естественно, остаться при этом в живых. Драгуны императрицы (или императорская гвардия) были так названы в честь супруги Наполеона Жозефины де Богарне. Наполеон берег этих драгун и решался направлять их в бой только в тех случаях, когда явно намечался перелом в сражении в пользу французской армии. Именно в этот момент и нужно было нанести ещё один, но окончательный удар по практически уже побеждённому противнику.
Французский император с тринадцатилетним опытом правления стоял в раздумье на прибрежном холме, возвышаясь, как монумент, над огромной массой людей. И когда солдаты замечали своего императора, застывшего в величественной позе, они приветствовали Бонапарта радостными криками. О чём он думал в этот момент? Конечно же, Наполеон чувствовал гордость за то, чего он сумел достигнуть за последние пятнадцать лет жизни. Франция под его руководством стала сильнейшей державой в Европе, а монархи-соседи заключили с бывшим капитаном артиллерии военный союз. Его внешние и внутренние враги не раз пытались свергнуть Наполеона Бонапарта с императорского трона, но у них ничего не вышло. И теперь перед ним лежит земля очередного государства, которое Наполеону Бонапарту предстоит покорить, а царя Александра сделать своим союзником. И тогда в Европе родится новая империя, равной которой не было ещё в мире. Однако маленький червь сомнения всё-таки настойчиво вкрадывался в его самоуверенное Я.
Первый внутренний голос ему говорил: «Подумай ещё раз, всё взвесь и рассчитай свои возможности. Перед тобой огромная страна с непонятным полуазиатским народом, от которого можно ожидать чего угодно... Ещё не поздно остановить их... Тебя за это никто не осудит и не упрекнёт. Твой авторитет останется непоколебимым, а твои действия посчитают за проявление цивилизованного гуманизма и гением стратегии. А император Александр I всё поймёт и опять будет называть тебя своим братом, радуясь тому, что ты просто показал свою силу без пролития крови... Уже вся Европа у твоих ног. Может, хватит воевать и пора творить?..»
Но второй, уверенный и настойчивый голос, перебивал первый, тихий и слабый: «Уже поздно Тебя не поймут и посчитают за слабость, если ты остановишь армию. А значит, у твоих противников появится мысль, что тебя можно испугать. Тебя, императора Франции, покорителя Европы! Перед тобой противник, который отступает, не оказывая сопротивления. Кто твой противник? Император Александр? Этот слащавый отпрыск, которому судьба подарила шанс родиться в семье царской кропи и стать наследником российского трона, но ничего не смыслящий в военном деле? Кого ещё может противопоставить тебе Россия? Суворова уже нет Кутузов? Он стар и немощен, годы жизни его уже на исходе. Багратион ещё молод и горяч. Барклай де Толли для русской армии так и останется иностранцем, и император Александр I не осмелится поставить его во главе всей русской армии. Кто там ещё? А больше никого и нет... Ты и только ты одержишь победу. Захватив Москву, ты поставишь на колени всю Россию. Такова психология русского человека...»
И наполеоновская армия продолжала своё движение на восток. Казалось, что никакая сила не сможет удержать этот нескончаемый поток люден, несущих на своих штыках смерть и разрушение Люди шли убивать людей. Они были движимы силой воли одного человека, который возомнил себя богом на земле. На деле же он был простой смертный: у него уже болело сердце от физических перс грузок, связанных с его бурной деятельностью. Периодически он чувствовал, как раздувалась печень от частых перееданий, от жирной и острой пищи, которую он любил откушать, а ночью Наполеона беспокоили колики в почках от выпитого вина, которое он был не прочь употребить за едой. А сколько было съедено и выпито с представителями высшего света, общества сверхчеловеков! Многие из них, став его союзниками и сподвижниками, полагали, что жизнь с императором Франции будет прекрасной и длинной и всё лучшее в этой жизни, включая будущую победу над Россией, ещё впереди.
И только Шарль Талейран, этот политик и священнослужитель в одном лице, имел иное мнение. Когда министр иностранных дел Франции убедился в том, что поход наполеоновской армии на Россию неизбежен, а новая война не за горами, он вслух тихо сказал сам себе (так как больше никому не доверял):
— Ну вот и всё. Это начало конца.
Он сел за стол, приказал секретарю никого не принимать и начал сочинять письмо правительству Великобритании, которое тайно отправил в Лондон на следующий день.
Огромная разноплеменная армия Наполеона, двигаясь с боями вглубь России, захватила Могилёв, Витебск и 3 августа 1812 года подошла к Смоленску. Но 4 августа с ходу взять этот город, где стояли укрепления, воздвигнутые ещё русским царём Годуновым, французские солдаты не смогли. Русские войска под командованием Паскевича и Раевского достойно встретили врага, который понёс существенные потери, а потом быстро и незаметно оставили город.
Когда Наполеон осматривал в подзорную трубу укрепления Смоленска, на котором не увидел его защитников, его посетили первые сомнения в успехе этого военного похода. Видя, что русская армии продолжает отступать, в голове у французского императора уже появилась мудрая мысль остановить движение своих войск на восток и довольствоваться достигнутым. Тем более, со стороны столицы Рос сии пришли неутешительные известия: корпус от прославленного маршала Никола Удино провалим поход на Санкт-Петербург. Из 30 000 французских солдат, которым предстояло захватить этот город на реке Неве, уцелело не более 5000, а сам Удимо был ранен и едва не попал в плен. Однако мудрил мысль почему-то не задержалась в голове Нано леона, а благоразумные сомнения уступили его амбициям, желанию прославить своё имя в истории ещё один раз. Он должен короноваться именно и Москве и стать императором ВОСТОКА! Наполеону нужно было покорить сердце России, и тогда он отдал своей армии роковой приказ: «Идём на Москву!».
Наполеон жаждал генерального сражения, но вместо этого российская глубинка, как губка воду, втягивала в себя колонны французской армии. А за это время российская дипломатия сделала своё «чёрное» дело: Россия заключила мир с Турцией и скрепила союз со Швецией. И здесь нервы у Наполеона не выдержали: «Турки дорого заплатят мне за эту ошибку!» — в гневе кричал он, но турки были далеко и не слышали его сердитых выкриков. Они не простили Наполеону гибель 4000 своих солдат, расстрелянных по его приказу во время военного похода французской армии в Египет.
Собранная Наполеоном со всей Европы армия продолжала упрямо двигаться строго на восток и дошла до подмосковной деревни Бородино, где наконец-то дождалась генерального сражения. Среди сотен тысяч солдат многонациональной французской армии, которые участвовали в нём, сражались десятки тысяч поляков и литвинов. Против них в атаку шли их соплеменники, гродненский и белорусские полки в составе 1-й русской армии генерала Барклая-де-Толли. И когда судьба сводила их схлестнуться в смертельной схватке, они прокалывали друг друга штыками и разрубали саблями, с одной и с другой стороны слышались слова: «Пся крев!» и «О, Матка Боска!», раздавались крики ярости, боли или ужаса на их родном языке[53].
Оставив десятки тысяч убитых возле этой ранее неизвестной деревни, русская армия отступила непобеждённая, а поле величайшей битвы девятнадцатого века осталось за французской армией, которая в этот день потеряла 47 генералов. Однако победителем Наполеон себя пока не считал. После этого сражения он и его генералы ожидали «цивилизованной» сдачи Москвы и ключей от древней российской столицы. Время шло, а со стороны противника никто так и не явился на поклон императору-победителю с ключами от Москвы. Тогда Наполеон решил двинуть армию к конечной цели своего военного похода. Когда же его взору открылся город, к которому он так стремился, Наполеон с удивлением осмотрел его в подзорную трубу, стоя на Поклонной горе. Москва была озарена огнём пожаров.
«Что за дикая страна! — возмутился он, разобравшись, что город горел не по его приказу. — Неужели император Александр отдал приказ сжечь Москву?» Недоумение, гнев и растерянность недолго царили в мыслях Наполеона. Постепенно он взял себя в руки и приказал двигаться дальше. Теперь император Франции был уверен, что российская армия полностью деморализована и неспособна оказывать сопротивление, а большинство мирных жителей в панике и ужасе бегут из города. «Но почему же всё-таки никто не встречает меня с ключами от Москвы? — продолжал он недоумевать. — Ведь война практически закончена...»
Однако для главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова это было только началом Отечественной войны. «С потерею Москвы ещё не потеряна Россия. Первой задачей поставлю сберечь армию...» — заявил он на военном совете в Филях, хотя морально ему как русскому фельдмаршалу отдать такой приказ было тяжело. Кутузов решил без боя оставить Москву, сохранить армию и продолжать активные боевые действия против союзнических войск наполеоновской армии. Никого не посвящая в свои планы, он приказал армии тайно двигаться на юго-запад и перекрыть дорогу французам на юг России. Тем самым он исключал возможность армии противника обеспечить себя продуктами, верно полагая, что голодный солдат воевать не будет. При этом, наряду с регулярной армией, Кутузов использовал небольшие партизанские соединения, которые отбивали у неприятеля обозы с продовольствием, уничтожая их небольшие отряды. Русский фельдмаршал, сам того не сознавая, повторил Вашингтона, который выбран такую же стратегию и тактику во время Войны за независимость Соединённых Штатов. Она-то и оказалась выигрышной в похожей ситуации в России.
После вступления французской армии в Москву и страшного пожара, который уничтожил а этом городе более половины деревянных строений. Наполеон понял, что его «звезда» почему-то стала затухать. Начался процесс разложения дисциплины в его армии, а французские солдаты всё чаще и чаще ощущали чувство голода и хронически не доедали. Кутузов категорически отказывался вести переговоры о перемирии, а небольшие отряды казаков и гусаров, а также простые русские крестьяне вели широкомасштабную партизанскую войну. Эта «варварская» Россия не вписывалась в рамки ведения войны на тех условиях, при которых Наполеон водил в сражения свою армию на полях Европы. Наконец пришло время, и император Франции понял, что Москва для него — это мышеловка, в которую положили большой кусок бесплатного сыра. И тогда Наполеон принял решение, что пора срочно выбираться из неё, пока не захлопнулась дверца[54].
Отход французской армии из Москвы, сначала организованный и выглядевший как простое оставление завоёванного города, вскоре превратился в обыкновенное бегство полков всех союзных армий подальше от этой холодной и варварской страны. Причём отступление проходило по Старой Смоленской дороге, по которой ещё недавно браво маршировала наполеоновская гвардия, окрестности которой были разграблены французами и сожжены самими русскими «варварами». Из шестисоттысячной наполеоновской армии, которая ещё летом 1812 года бодро маршировала на восток по дорогам Российской империи, из рокового для неё похода возвратилось домой только около 27 000 солдат.
Почему-то очень быстро в России начались холода, и теплолюбивые итальянцы, швейцарцы и французы постоянно мёрзли, укутывая свои тела в любые тёплые одежды. А когда наступила настоящая русская зима с её жуткими морозами и снегом, то родные места им казались просто раем. Солдатам Наполеона уже не нужны были русские земли и поместья, не нужны были и русские жёны даже да ром без всякой войны. Только бы скорее выбраться из России, где за каждым деревом им мерещилась засада из вооружённых вилами и топорами русских крестьян.
юнь 1812 года выдался в Париже сухим и жарким. Парижские обыватели, спасаясь от палящих солнечных лучей, сидели по многочисленным столичным кофейням, обсуждая последние новости, которые доходили до парижан о жизни их кумира — Наполеона Бонапарта. Самой животрепещущей темой таких разговоров и возникающих при этом споров была тема возможной войны с Российской империей. Пойдёт ли Наполеон войной на Россию? А если он всё-таки решится объявить царю Александру I войну, то дойдёт ли до Москвы и как быстро это произойдёт? В маленьких кофейнях, на улицах среди торговцев и в покоях дворцов — везде в эти дни витал дух спора и делались ставки.
12 июня 1812 года парижане ещё не знали, что бравые гвардейцы Наполеона уже перешли по мостам через Неман и двинулись вглубь огромного, по сравнению с территориями других стран Европы, государства. Более 600 000 солдат французской армии, как воды полноводной реки, втекали и втекали в Россию, чтобы всего лишь через год раствориться и исчезнуть на её просторах. Так исчезают в океане любые реки, впадающие в него, навсегда смешавшись с солёными безбрежными водами.
Заядлые спорщики не могли допустить даже и кошмарных снах, что всего лишь через два года войска уже другого императора, русского, совместно с войсками союзных армий будут маршировать по Елисейским Полям, а почти мифические страшные казаки будут забегать в парижские ресторанчики и требовать подать им по-быстрому выпить стопку водки. При этом они на ходу будут закусывать каким-нибудь поднесённым перепуганным официантом (или симпатичной и ничего не пугающейся официанткой) куском мяса с французской булочкой.
Но всё это будет только через два года. За это время тысячи и тысячи французских женщин ста нут вдовами, а французские мальчишки и девчонки — наполовину сиротами. И всё это совершится по воле только одного человека, стоящего 12 июня 1812 года на берегу полноводной реки, по руслу которой ещё пару часов назад проходила граница, установленная и утверждённая двумя императора ми в 1807 году.
Солдаты французской армии, маршируя стройными колоннами совместно с солдатами союзных армий перед императором Франции, понимали, что они идут воевать, а не на прогулку. И они были готовы к этой войне. В последние годы их обожаемый Наполеон Бонапарт не знал поражений, и практически вся Европа, кроме этих горячих испанских вояк, уже покорилась военной мощи Франции и её полководцу. Теперь же пришла очередь наступить на лапу и русскому медведю, накинуть ему на шею тяжёлый ошейник и заставить плясать французский канкан.
Практически все солдаты, проходившие в этот исторический момент по трём мостам, перекинутым через Неман, были уверены, что война будет победоносной и скоро закончится. Каждый из них надеялся остаться в живых, а после отдыха на зимних квартирах вернуться домой в свою горячо любимую Францию. Те же, кто не имел ничего, кроме солдатской формы и ружья, мечтали получить от своего щедрого императора хороший кусок земли на необъятных российских просторах и жениться на русской красавице. Офицеры просто стремились сделать военную карьеру, а польские легионеры хотели наконец-то победить русскую армию, взять реванш за поражение Польского восстания 1794 года и восстановить государственность своей родины.
Наполеон стоял на холме, возвышающемся над низиной принеманского берега, и смотрел на всю эту лавину людей, готовых ради него по одному только его жесту устремиться туда, куда он их пошлёт. Он гордился своей армией, собранной им по всей Европе в одну мощную организованную силу, подчинённую воле одного человека — его воле.
Вот скачут польские гвардейские уланы. Они храбры в атаке и быстры, как молния. Поляки с радостью пошли воевать под знамёнами его непобедимой армии, желая восстановить Речь Посполитую в том виде, в каком она была в лучшие годы своего существования: независимым и огромным государством «от моря до моря».
Наполеону их было как-то даже по-человечески жаль. «Такого государства у них уже никогда не будет. Сейчас этого не допускают русские, а после и поражения от моей армии подобного не допущу и я. В Европе должен быть один хозяин, один дирижёр всей её политической жизни, и конкуренты здесь мне не нужны», — думал Бонапарт, внимательно наблюдая за переправой польских кавалерийских полков.
За польскими уланами следовали гвардейские конные шассеры. Эти бойцы, вооружённые саблей и карабином, изматывали в бою противника и были искусны как в конном строю, так и в рукопашном бою. При верном выборе направления главного удара для конных шассеров можно было с уверенностью готовиться к празднованию очередной победы над противником.
Голландские гренадеры, вооружённые мушкетами лучших немецких и голландских мастеров, стройными колоннами двигались вдоль берега Не мана уже со стороны русской территории. Это была элита его армии. Но драгуны императрицы всё-таки были главным по значимости вооружённым подрав делением в армии Наполеона.
Император с гордостью смотрел на этот элитные отряд тяжёлой кавалерии, для которой офицером назначал лично он сам. Это был цвет офицерского общества: чтобы удостоиться чести быть зачисленным в это подразделение, офицер должен был иметь десятилетний стаж службы в кавалерии, участвовать в сражениях и, естественно, остаться при этом в живых. Драгуны императрицы (или императорская гвардия) были так названы в честь супруги Наполеона Жозефины де Богарне. Наполеон берег этих драгун и решался направлять их в бой только в тех случаях, когда явно намечался перелом в сражении в пользу французской армии. Именно в этот момент и нужно было нанести ещё один, но окончательный удар по практически уже побеждённому противнику.
Французский император с тринадцатилетним опытом правления стоял в раздумье на прибрежном холме, возвышаясь, как монумент, над огромной массой людей. И когда солдаты замечали своего императора, застывшего в величественной позе, они приветствовали Бонапарта радостными криками. О чём он думал в этот момент? Конечно же, Наполеон чувствовал гордость за то, чего он сумел достигнуть за последние пятнадцать лет жизни. Франция под его руководством стала сильнейшей державой в Европе, а монархи-соседи заключили с бывшим капитаном артиллерии военный союз. Его внешние и внутренние враги не раз пытались свергнуть Наполеона Бонапарта с императорского трона, но у них ничего не вышло. И теперь перед ним лежит земля очередного государства, которое Наполеону Бонапарту предстоит покорить, а царя Александра сделать своим союзником. И тогда в Европе родится новая империя, равной которой не было ещё в мире. Однако маленький червь сомнения всё-таки настойчиво вкрадывался в его самоуверенное Я.
Первый внутренний голос ему говорил: «Подумай ещё раз, всё взвесь и рассчитай свои возможности. Перед тобой огромная страна с непонятным полуазиатским народом, от которого можно ожидать чего угодно... Ещё не поздно остановить их... Тебя за это никто не осудит и не упрекнёт. Твой авторитет останется непоколебимым, а твои действия посчитают за проявление цивилизованного гуманизма и гением стратегии. А император Александр I всё поймёт и опять будет называть тебя своим братом, радуясь тому, что ты просто показал свою силу без пролития крови... Уже вся Европа у твоих ног. Может, хватит воевать и пора творить?..»
Но второй, уверенный и настойчивый голос, перебивал первый, тихий и слабый: «Уже поздно Тебя не поймут и посчитают за слабость, если ты остановишь армию. А значит, у твоих противников появится мысль, что тебя можно испугать. Тебя, императора Франции, покорителя Европы! Перед тобой противник, который отступает, не оказывая сопротивления. Кто твой противник? Император Александр? Этот слащавый отпрыск, которому судьба подарила шанс родиться в семье царской кропи и стать наследником российского трона, но ничего не смыслящий в военном деле? Кого ещё может противопоставить тебе Россия? Суворова уже нет Кутузов? Он стар и немощен, годы жизни его уже на исходе. Багратион ещё молод и горяч. Барклай де Толли для русской армии так и останется иностранцем, и император Александр I не осмелится поставить его во главе всей русской армии. Кто там ещё? А больше никого и нет... Ты и только ты одержишь победу. Захватив Москву, ты поставишь на колени всю Россию. Такова психология русского человека...»
И наполеоновская армия продолжала своё движение на восток. Казалось, что никакая сила не сможет удержать этот нескончаемый поток люден, несущих на своих штыках смерть и разрушение Люди шли убивать людей. Они были движимы силой воли одного человека, который возомнил себя богом на земле. На деле же он был простой смертный: у него уже болело сердце от физических перс грузок, связанных с его бурной деятельностью. Периодически он чувствовал, как раздувалась печень от частых перееданий, от жирной и острой пищи, которую он любил откушать, а ночью Наполеона беспокоили колики в почках от выпитого вина, которое он был не прочь употребить за едой. А сколько было съедено и выпито с представителями высшего света, общества сверхчеловеков! Многие из них, став его союзниками и сподвижниками, полагали, что жизнь с императором Франции будет прекрасной и длинной и всё лучшее в этой жизни, включая будущую победу над Россией, ещё впереди.
И только Шарль Талейран, этот политик и священнослужитель в одном лице, имел иное мнение. Когда министр иностранных дел Франции убедился в том, что поход наполеоновской армии на Россию неизбежен, а новая война не за горами, он вслух тихо сказал сам себе (так как больше никому не доверял):
— Ну вот и всё. Это начало конца.
Он сел за стол, приказал секретарю никого не принимать и начал сочинять письмо правительству Великобритании, которое тайно отправил в Лондон на следующий день.
Огромная разноплеменная армия Наполеона, двигаясь с боями вглубь России, захватила Могилёв, Витебск и 3 августа 1812 года подошла к Смоленску. Но 4 августа с ходу взять этот город, где стояли укрепления, воздвигнутые ещё русским царём Годуновым, французские солдаты не смогли. Русские войска под командованием Паскевича и Раевского достойно встретили врага, который понёс существенные потери, а потом быстро и незаметно оставили город.
Когда Наполеон осматривал в подзорную трубу укрепления Смоленска, на котором не увидел его защитников, его посетили первые сомнения в успехе этого военного похода. Видя, что русская армии продолжает отступать, в голове у французского императора уже появилась мудрая мысль остановить движение своих войск на восток и довольствоваться достигнутым. Тем более, со стороны столицы Рос сии пришли неутешительные известия: корпус от прославленного маршала Никола Удино провалим поход на Санкт-Петербург. Из 30 000 французских солдат, которым предстояло захватить этот город на реке Неве, уцелело не более 5000, а сам Удимо был ранен и едва не попал в плен. Однако мудрил мысль почему-то не задержалась в голове Нано леона, а благоразумные сомнения уступили его амбициям, желанию прославить своё имя в истории ещё один раз. Он должен короноваться именно и Москве и стать императором ВОСТОКА! Наполеону нужно было покорить сердце России, и тогда он отдал своей армии роковой приказ: «Идём на Москву!».
Наполеон жаждал генерального сражения, но вместо этого российская глубинка, как губка воду, втягивала в себя колонны французской армии. А за это время российская дипломатия сделала своё «чёрное» дело: Россия заключила мир с Турцией и скрепила союз со Швецией. И здесь нервы у Наполеона не выдержали: «Турки дорого заплатят мне за эту ошибку!» — в гневе кричал он, но турки были далеко и не слышали его сердитых выкриков. Они не простили Наполеону гибель 4000 своих солдат, расстрелянных по его приказу во время военного похода французской армии в Египет.
Собранная Наполеоном со всей Европы армия продолжала упрямо двигаться строго на восток и дошла до подмосковной деревни Бородино, где наконец-то дождалась генерального сражения. Среди сотен тысяч солдат многонациональной французской армии, которые участвовали в нём, сражались десятки тысяч поляков и литвинов. Против них в атаку шли их соплеменники, гродненский и белорусские полки в составе 1-й русской армии генерала Барклая-де-Толли. И когда судьба сводила их схлестнуться в смертельной схватке, они прокалывали друг друга штыками и разрубали саблями, с одной и с другой стороны слышались слова: «Пся крев!» и «О, Матка Боска!», раздавались крики ярости, боли или ужаса на их родном языке[53].
Оставив десятки тысяч убитых возле этой ранее неизвестной деревни, русская армия отступила непобеждённая, а поле величайшей битвы девятнадцатого века осталось за французской армией, которая в этот день потеряла 47 генералов. Однако победителем Наполеон себя пока не считал. После этого сражения он и его генералы ожидали «цивилизованной» сдачи Москвы и ключей от древней российской столицы. Время шло, а со стороны противника никто так и не явился на поклон императору-победителю с ключами от Москвы. Тогда Наполеон решил двинуть армию к конечной цели своего военного похода. Когда же его взору открылся город, к которому он так стремился, Наполеон с удивлением осмотрел его в подзорную трубу, стоя на Поклонной горе. Москва была озарена огнём пожаров.
«Что за дикая страна! — возмутился он, разобравшись, что город горел не по его приказу. — Неужели император Александр отдал приказ сжечь Москву?» Недоумение, гнев и растерянность недолго царили в мыслях Наполеона. Постепенно он взял себя в руки и приказал двигаться дальше. Теперь император Франции был уверен, что российская армия полностью деморализована и неспособна оказывать сопротивление, а большинство мирных жителей в панике и ужасе бегут из города. «Но почему же всё-таки никто не встречает меня с ключами от Москвы? — продолжал он недоумевать. — Ведь война практически закончена...»
Однако для главнокомандующего русской армией Михаила Кутузова это было только началом Отечественной войны. «С потерею Москвы ещё не потеряна Россия. Первой задачей поставлю сберечь армию...» — заявил он на военном совете в Филях, хотя морально ему как русскому фельдмаршалу отдать такой приказ было тяжело. Кутузов решил без боя оставить Москву, сохранить армию и продолжать активные боевые действия против союзнических войск наполеоновской армии. Никого не посвящая в свои планы, он приказал армии тайно двигаться на юго-запад и перекрыть дорогу французам на юг России. Тем самым он исключал возможность армии противника обеспечить себя продуктами, верно полагая, что голодный солдат воевать не будет. При этом, наряду с регулярной армией, Кутузов использовал небольшие партизанские соединения, которые отбивали у неприятеля обозы с продовольствием, уничтожая их небольшие отряды. Русский фельдмаршал, сам того не сознавая, повторил Вашингтона, который выбран такую же стратегию и тактику во время Войны за независимость Соединённых Штатов. Она-то и оказалась выигрышной в похожей ситуации в России.
После вступления французской армии в Москву и страшного пожара, который уничтожил а этом городе более половины деревянных строений. Наполеон понял, что его «звезда» почему-то стала затухать. Начался процесс разложения дисциплины в его армии, а французские солдаты всё чаще и чаще ощущали чувство голода и хронически не доедали. Кутузов категорически отказывался вести переговоры о перемирии, а небольшие отряды казаков и гусаров, а также простые русские крестьяне вели широкомасштабную партизанскую войну. Эта «варварская» Россия не вписывалась в рамки ведения войны на тех условиях, при которых Наполеон водил в сражения свою армию на полях Европы. Наконец пришло время, и император Франции понял, что Москва для него — это мышеловка, в которую положили большой кусок бесплатного сыра. И тогда Наполеон принял решение, что пора срочно выбираться из неё, пока не захлопнулась дверца[54].
Отход французской армии из Москвы, сначала организованный и выглядевший как простое оставление завоёванного города, вскоре превратился в обыкновенное бегство полков всех союзных армий подальше от этой холодной и варварской страны. Причём отступление проходило по Старой Смоленской дороге, по которой ещё недавно браво маршировала наполеоновская гвардия, окрестности которой были разграблены французами и сожжены самими русскими «варварами». Из шестисоттысячной наполеоновской армии, которая ещё летом 1812 года бодро маршировала на восток по дорогам Российской империи, из рокового для неё похода возвратилось домой только около 27 000 солдат.
Почему-то очень быстро в России начались холода, и теплолюбивые итальянцы, швейцарцы и французы постоянно мёрзли, укутывая свои тела в любые тёплые одежды. А когда наступила настоящая русская зима с её жуткими морозами и снегом, то родные места им казались просто раем. Солдатам Наполеона уже не нужны были русские земли и поместья, не нужны были и русские жёны даже да ром без всякой войны. Только бы скорее выбраться из России, где за каждым деревом им мерещилась засада из вооружённых вилами и топорами русских крестьян.
 изнь небольших городков Швейцарии однообразна и, возможно, поэтому скучна. Каждое утро солнце всходит из-за горных склонов, и по узким улочкам начинается движение людей. Раньше всех молочницы разносят по домам горожан молоко после первой утренней дойки коров, затем появляются торговцы небольшого рынка. Они аккуратно раскладывают свой товар на прилавках, и, наконец, к этим торговцам спешат первые покупатели свежих овощей, фруктов и мяса, чтобы запастись ими на целый день. Постепенно на улочках появляется всё больше и больше людей, спешащих куда-то по своим повседневным делам, без которых немыслима обычная человеческая жизнь, основой которой всегда были пища, тепло и крыша над головой.
В центре Салюрна располагались аккуратные дома зажиточных горожан, среди которых выделялся двухэтажный каменный дом успешного дельца и торговца, а в последние четыре года бургомистра этого города Франца Цельтнера. Когда-то в молодые годы он хотел стать скульптором и даже брал уроки в Париже, наивно мечтая создавать вечные творения рук человеческих в память о себе и своём времени. Но начинающий скульптор вовремя остановился, осознав, что кроме желания творить и созидать, нужен ещё и талант. Тогда Франц вернулся в город своего детства и стал успешным продолжателем дела отца.
Уже почти три года рядом с домом брата жил Питер Цельтнер со своей семьёй и своим другом Тадеушем Костюшко. Старый американский генерал вскоре стал живой достопримечательностью Салюрна. Несмотря на погодные условия, он каждое утро в одно и то же время выезжал на серой и спокойной кобылке на прогулку. Пунктуальные швейцарцы, выглядывая на улицу из своих уютных домов, шутили с соседями, что по точности времени прогулок генерала можно корректировать время на часах башни городской ратуши.
По устоявшейся привычке Костюшко встал с рассветом и уже в шесть часов утра пил утренний кофе. В гостиной дома он был в полном одиночестве, если не считать слуги, который этот кофе ему приготовил и принёс.
— Шарль, как там моя кобыла? Ты сказал конюху, что она немного хромает? — придирчиво спросил Костюшко слугу.
— Не извольте беспокоиться: с ней всё в полном порядке, — заверил Шарль, улыбаясь во весь рот.
Он давно привык к ворчанию этого странного старика, которого его хозяин считал членом своей семьи наравне с семьёй своего родного брата. Шарль, как и все слуги в этом доме, с приязнью относился к Тадеушу Костюшко и старался выполнить все его пожелания и запросы, хотя их было не так много.
Допив кофе, Костюшко вернулся к себе в комнату переодеться для верховой езды. Погода стояла сырая с мелким осенним дождём, но упрямый генерал решил не менять своих привычек и начал готовиться к очередной утренней прогулке по городу. Он оделся теплее, взял хлыст, трость и ещё раз осмотрел придирчиво комнату: всё ли у него в порядке.
Комната Костюшко на первом этаже дома была небольшая, но уютная. Мягкая кровать аккуратно заправлена, все вещи лежали на своих местах, а одежда также аккуратно была почищена и развешана в небольшом платяном шкафу. На стене его комнаты висели именная шпага и два портрета известных людей, к которым Костюшко относился с большим уважением, но перед которыми никогда не преклонялся.
Первый, портрет Джорджа Вашингтона, напоминал Костюшко годы, проведённые в Соединённых Штатах, про которые он вспоминал с ностальгической грустью. Восемь лет жизни он посвятил этой стране, но никогда не сожалел, что потом вернулся в Речь Посполитую. Второй же, портрет Станислава Августа Понятовского, навевал иные мысли: об упущенных возможностях, совершенных ошибках и горечи потери родины, которую он всегда хотел видеть свободной и независимой. Они так и не смогли создать государство, которое могло бы стать образцом демократии и народовластия, если бы они тогда победили... Ах, если бы можно было повернуть время вспять! Сколько бы можно было исправить, изменить, не допустить стольких жертв и всё равно добиться того, к чему стремились.
Но чудес на свете не бывает, и прошлого не вернёшь. Каждый вечер Костюшко целовал свою воспитанницу, желал всем Цельтнерам спокойной ночи и уходил спать в свою комнату. Он долгое время лежал в постели с открытыми глазами и, уставившись в чёрный ночной потолок, всё думал, думал и думал... Когда же поздней ночью сон всё-таки закрывал его веки, к нему приходили сны, которые были продолжением его беспокойных мыслей. А рано утром, проснувшись на рассвете, Костюшко легко восстанавливал в своей памяти содержание снов, удивляясь тому, что так хорошо их запомнил.
Тадеуш Костюшко ещё раз внимательно осмотрел себя в зеркало: в последние полгода он осунулся и как-то сразу постарел, превратившись в обыкновенного деда, который носит генеральский мундир. Такое резкое изменение произошло после того, как он получил из далёких и родных его сердцу мест известие о смерти брата Иосифа. Тогда Тадеуш позвал нотариуса и оформил отказ от наследства и дополнительно составил своё духовное завещание (Сехновичский тестомент), дав вольную всем крепостным, которые могли бы стать его собственностью после смерти брата.
Костюшко поднял свой заострившийся подбородок вверх, одёрнул полы генеральского мундира и бодрым шагом, почти не опираясь на трость, вышел во двор. Конюх уже стоял у ворот с осёдланной лошадью в ожидании её хозяина и приветливо снял свою шляпу, заметив, как тот выходит из дома. Угостив кобылу куском сахара, Костюшко легко для его возраста вскочил в седло и тронул поводья. Через пару минут всадник и лошадь уже двигались по узким улочкам Салюрна, а встречные горожане привычно приветствовали Костюшко. Некоторые из них, найдя повод остановиться и передохнуть, вступали с ним в короткую беседу, которую чаще всего начинал сам Костюшко.
— Как дела, Густав? — спрашивал он какого-нибудь торговца овощами.
— Всё в порядке, — отвечал тот, приветливо улыбаясь, — да только жена уже четвёртую дочку родила, а я сына хочу.
— Лучше стараться надо, — шутил Костюшко. — Ну а с дочкой поздравляю!
И оба мимолётных собеседника, кивнув друг другу на прощание, продолжали свой путь дальше.
Когда, медленно раскачиваясь в седле, Костюшко выезжал на дорогу, ведущую из города, то ему навстречу часто встречались крестьяне, которые направлялись в Салюрн в поисках хоть какой-либо работы. Последние два года в Швейцарии, как и в соседних странах, стояла непривычная засуха, которая привела к гибели части урожая, разорив тем самым немалое количество этих тружеников полей. В поисках работы они направлялись толпами в города, надеясь там заработать хоть немного денег и прокормить семью до следующего урожая.
Поравнявшись с такой жертвой небесной канцелярии, Костюшко приостанавливал свою кобылку и подзывал крестьянина к себе. Тот, не понимая толком, что от него понадобилось этому странному старику в военной форме, робко подходил к Костюшко.
— Тебя как зовут? — спрашивал Костюшко горемыку.
— Франц, — неуверенно и тихо отвечал тот, и тут же получал от Костюшко золотую монету.
Пока крестьянин с глупым видом рассматривал и пробовал на зуб этот кусочек дорогого металла, что-то пытаясь произнести в ответ за этот щедрый подарок, Костюшко, не ожидая благодарностей, отъезжал от него на приличное расстояние.
Генерал мог позволить себе такую роскошь, как раздавать золотые монеты тем, кому он считал нужным. В Салюрне он входил в список богатых людей, но не все знали, откуда у этого старика столько денег. Кто-то считал, что у Костюшко большая генеральская пенсия, кто-то предполагал, что этот «транжира» получил от кого-то богатое наследство, но домыслы так и оставались домыслами. На самом же деле щедрые подаяния нищим Костюшко делал из тех сумм, которые он получал из-за границы в виде процентов от денег, которые лежали в английском банке Баринга. А сумма на его банковском счёте накопились немалая.
В 1799 году Костюшко решил вернуть деньги, полученные от Павла I при своём освобождении, обратно в Россию. Но, взбешённый такой «неблагодарностью», русский император не принял их, а отослал обратно в английский банк. Так «подарок» и остался в одном из лондонских банков никем не востребованным, однако Костюшко исправно получал проценты и раздавал золотники нищим.
В это пасмурное прохладное октябрьское утро Костюшко как всегда ехал верхом по обычному маршруту. Дождь уже прекратился, и городок окутал густой туман, который проникал под одежду и холодил тело старого генерала. Проезжая мимо костёла, он слез с лошади, снял свою треуголку и перекрестился. Несмотря на сырость и утреннюю прохладу, на крыльце костёла, стоя на коленях, горячо молилась какая-то молодая женщина.
Костюшко, не надевая головной убор, тихо подошёл к молящейся и некоторое время стоял в нескольких шагах от неё, наблюдая непривычную картину такого активного проявления веры. Наконец женщина встала с колен и заметила странного старика, который уже несколько минут стоял позади её.
— Что, тоже старые грехи мучают? — незлобно спросила она Костюшко, и он увидел, что перед ним стоит цыганка.
Генерал не сразу нашёлся, что ей ответить на такой неожиданный вопрос. Но справившись с мимолётной неловкостью, он согласно кивнул в ответ и неожиданно для себя спросил:
— Погадаешь?
Цыганка оглянулась на костёл, подошла поближе к Костюшко и заглянула ему в глаза.
— А зачем тебе это надо? — лукаво спросила она, продолжая внимательно смотреть на Костюшко, как будто пыталась заглянуть ему внутрь.
— Хочу знать своё будущее, — попытался усмехнуться генерал, но усмешка вышла какая-то глупая и грустная.
Цыганка не попросила его ладонь для гадания и не достала карты, предлагая рассказать, что было, что есть и что будет. Она посмотрела своими чёрными глазами куда-то за спину Костюшко и тихо ему сказала:
— Не буду я тебе гадать... У тебя будущего уже нет.
Сказав свои роковые слова, цыганка опять повернулась к костёлу, перекрестилась и быстрым шагом отошла от Костюшко, скрывшись через несколько мгновений в утреннем вязком тумане.
Питер в это утро решил поспать попозже. Погода за окном не обещала солнечный день, а Питеру, в отличие от Костюшко, хотелось прогуляться по городку пешком. Спустившись в гостиную, он заметил кухарку Анну и Шарля, который сервировал стол для тех, кто ещё не позавтракал.
— Доброе утро! — поздоровались они, и Питер кивнул в ответ.
— А что, наш доблестный генерал уже вернулся со своей прогулки? — спросил он слугу, намереваясь позвать Костюшко, чтобы тот составил ему компанию в утреннем чаепитии.
— Нет, господин, ещё не вернулся, — смущённо ответил Шарль, и Питер взволнованно посмотрел в окно. На дворе опять начал моросить дождь, и от неприятного ощущения сырости и осеннего холода Питер поёжился и опять обратился к Шарлю:
— Не случилось бы чего с ним, — сказал он, стараясь не выдавать нарастающего волнения. — Может, послать кого-нибудь ему навстречу?
— Я уже сказал конюху, чтобы он запрягал лошадь, — ответил догадливый слуга.
Но никого посылать не понадобилось, так как входная дверь отворилась, и вместе с утренним туманом в дом вошёл «пропавший» генерал.
— Ну наконец-то, — раскинув широко руки, загрохотал радостно хозяин дома. — А мы уже с Шарлем гадаем, не уехал ли ты в Париж? — попытался пошутить бывший полковник швейцарской гвардии.
— Не дождётесь, — в тон ему ответил Костюшко. — Я ещё не так сильно надоел вам, чтобы так быстро уезжать. Ещё лет десять придётся потерпеть старика, — пытаясь казаться жизнерадостным, добавил он, но сильно закашлялся и, не раздеваясь, рухнул в кресло.
Услышав шум взволнованных голосов, из своей комнаты появилась Таддеи и тут же составила компанию Шарлю, который стаскивал с Костюшко мокрый плащ и сырой генеральский мундир.
— Ну разве можно так долго ездить на лошади в такую погоду, — выговаривала она своему крёстному, серьёзно беспокоясь о его здоровье.
— Ничего, ничего, — пытался ещё шутить Костюшко. — Яще польска не згинела, — почему-то проговорил он на польском языке строчку из марша польских легионеров, пока его одевали в тёплый домашний халат и поили горячим чаем.
Но все усилия по восстановлению бодрого состояния генерала и предупреждения наступления простуды оказались запоздалыми и тщетными. В тот же вечер у Костюшко поднялась температура, и в наступившей горячке он начал бредить.
Прибывший в такой известный дом лекарь пытался давать ему пить какие-то микстуры, делал кровопускание, но жар не спадал. Так прошёл целый день, а вечером всё семейство Цельтнеров собралось в большой гостиной, в волнении ожидая, когда лекарь сообщит, что больному стало лучше. Прошло ещё несколько часов, но лекарь выходил из комнаты Костюшко только лишь для того, чтобы выпить чашку бодрящего кофе с марципаном, а после этого вновь возвращался к больному.
И если мужчины старались казаться спокойными, то Таддеи в сильном волнении ходила всё время по дому в ожидании, что её крёстному станет лучше.
— Не волнуйся, всё будет хорошо, — настойчиво пытался успокоить племянницу Франц, который и сам переживал, что ничем не может помочь больному.
«Всё будет хорошо, всё будет хорошо…» — повторял он про себя, хотя надежды на выздоровление, судя по виду обеспокоенного лекаря, было, по-видимому, мало.
— Да, всё будет хорошо, — ободряюще поддержал брата Питер. — Тадеуш — сильный человек... Он не может, он просто не имеет права долго болеть... Он...
Неожиданно двери в комнату Костюшко отворились, и лекарь взволнованным голосом позвал всех из гостиной в комнату больного:
— Быстрее... Идите к нему... Он всех зовёт к себе.
Таддеи, а за ней все остальные побежали на зов, словно боялись упустить что-то очень важное, не услышать или не увидеть.
В полутёмной комнате, освещённой тремя свечками, лежал в своей постели Тадеуш Бонавентура Костюшко, боевой генерал двух государств, который в течение жизни успел удостоиться внимания нескольких европейских монархов. Но в глазах всех присутствующих в этот момент в небольшой комнате он был просто дорогим и близким им человеком.
Костюшко осмысленным взглядом оглядел всех стоящих возле его постели людей. Пытаясь улыбнуться, он приподнял голову, но из-за слабости опять опустил её на подушку. Его губы начали двигаться, и все услышали его последние слова, произнесённые на этом свете:
— Я рад, что вижу вас всех здесь... Спасибо вам, что вы... — больной закашлялся и речь его прервалась.
Через некоторое время, когда кашель прекратился, Костюшко посмотрел на Питера.
— Питер, моё завещание... Мы невольны в своих поступках, но иногда... — попытался ещё что-то осмысленное сказать Тадеуш Костюшко, но не успел.
Взгляд его вдруг остановился, он судорожно два раза вздохнул, и зрачки закатились вверх под веки. Последний медленный выдох, и душа этого удивительного человека навсегда покинула его тело.
изнь небольших городков Швейцарии однообразна и, возможно, поэтому скучна. Каждое утро солнце всходит из-за горных склонов, и по узким улочкам начинается движение людей. Раньше всех молочницы разносят по домам горожан молоко после первой утренней дойки коров, затем появляются торговцы небольшого рынка. Они аккуратно раскладывают свой товар на прилавках, и, наконец, к этим торговцам спешат первые покупатели свежих овощей, фруктов и мяса, чтобы запастись ими на целый день. Постепенно на улочках появляется всё больше и больше людей, спешащих куда-то по своим повседневным делам, без которых немыслима обычная человеческая жизнь, основой которой всегда были пища, тепло и крыша над головой.
В центре Салюрна располагались аккуратные дома зажиточных горожан, среди которых выделялся двухэтажный каменный дом успешного дельца и торговца, а в последние четыре года бургомистра этого города Франца Цельтнера. Когда-то в молодые годы он хотел стать скульптором и даже брал уроки в Париже, наивно мечтая создавать вечные творения рук человеческих в память о себе и своём времени. Но начинающий скульптор вовремя остановился, осознав, что кроме желания творить и созидать, нужен ещё и талант. Тогда Франц вернулся в город своего детства и стал успешным продолжателем дела отца.
Уже почти три года рядом с домом брата жил Питер Цельтнер со своей семьёй и своим другом Тадеушем Костюшко. Старый американский генерал вскоре стал живой достопримечательностью Салюрна. Несмотря на погодные условия, он каждое утро в одно и то же время выезжал на серой и спокойной кобылке на прогулку. Пунктуальные швейцарцы, выглядывая на улицу из своих уютных домов, шутили с соседями, что по точности времени прогулок генерала можно корректировать время на часах башни городской ратуши.
По устоявшейся привычке Костюшко встал с рассветом и уже в шесть часов утра пил утренний кофе. В гостиной дома он был в полном одиночестве, если не считать слуги, который этот кофе ему приготовил и принёс.
— Шарль, как там моя кобыла? Ты сказал конюху, что она немного хромает? — придирчиво спросил Костюшко слугу.
— Не извольте беспокоиться: с ней всё в полном порядке, — заверил Шарль, улыбаясь во весь рот.
Он давно привык к ворчанию этого странного старика, которого его хозяин считал членом своей семьи наравне с семьёй своего родного брата. Шарль, как и все слуги в этом доме, с приязнью относился к Тадеушу Костюшко и старался выполнить все его пожелания и запросы, хотя их было не так много.
Допив кофе, Костюшко вернулся к себе в комнату переодеться для верховой езды. Погода стояла сырая с мелким осенним дождём, но упрямый генерал решил не менять своих привычек и начал готовиться к очередной утренней прогулке по городу. Он оделся теплее, взял хлыст, трость и ещё раз осмотрел придирчиво комнату: всё ли у него в порядке.
Комната Костюшко на первом этаже дома была небольшая, но уютная. Мягкая кровать аккуратно заправлена, все вещи лежали на своих местах, а одежда также аккуратно была почищена и развешана в небольшом платяном шкафу. На стене его комнаты висели именная шпага и два портрета известных людей, к которым Костюшко относился с большим уважением, но перед которыми никогда не преклонялся.
Первый, портрет Джорджа Вашингтона, напоминал Костюшко годы, проведённые в Соединённых Штатах, про которые он вспоминал с ностальгической грустью. Восемь лет жизни он посвятил этой стране, но никогда не сожалел, что потом вернулся в Речь Посполитую. Второй же, портрет Станислава Августа Понятовского, навевал иные мысли: об упущенных возможностях, совершенных ошибках и горечи потери родины, которую он всегда хотел видеть свободной и независимой. Они так и не смогли создать государство, которое могло бы стать образцом демократии и народовластия, если бы они тогда победили... Ах, если бы можно было повернуть время вспять! Сколько бы можно было исправить, изменить, не допустить стольких жертв и всё равно добиться того, к чему стремились.
Но чудес на свете не бывает, и прошлого не вернёшь. Каждый вечер Костюшко целовал свою воспитанницу, желал всем Цельтнерам спокойной ночи и уходил спать в свою комнату. Он долгое время лежал в постели с открытыми глазами и, уставившись в чёрный ночной потолок, всё думал, думал и думал... Когда же поздней ночью сон всё-таки закрывал его веки, к нему приходили сны, которые были продолжением его беспокойных мыслей. А рано утром, проснувшись на рассвете, Костюшко легко восстанавливал в своей памяти содержание снов, удивляясь тому, что так хорошо их запомнил.
Тадеуш Костюшко ещё раз внимательно осмотрел себя в зеркало: в последние полгода он осунулся и как-то сразу постарел, превратившись в обыкновенного деда, который носит генеральский мундир. Такое резкое изменение произошло после того, как он получил из далёких и родных его сердцу мест известие о смерти брата Иосифа. Тогда Тадеуш позвал нотариуса и оформил отказ от наследства и дополнительно составил своё духовное завещание (Сехновичский тестомент), дав вольную всем крепостным, которые могли бы стать его собственностью после смерти брата.
Костюшко поднял свой заострившийся подбородок вверх, одёрнул полы генеральского мундира и бодрым шагом, почти не опираясь на трость, вышел во двор. Конюх уже стоял у ворот с осёдланной лошадью в ожидании её хозяина и приветливо снял свою шляпу, заметив, как тот выходит из дома. Угостив кобылу куском сахара, Костюшко легко для его возраста вскочил в седло и тронул поводья. Через пару минут всадник и лошадь уже двигались по узким улочкам Салюрна, а встречные горожане привычно приветствовали Костюшко. Некоторые из них, найдя повод остановиться и передохнуть, вступали с ним в короткую беседу, которую чаще всего начинал сам Костюшко.
— Как дела, Густав? — спрашивал он какого-нибудь торговца овощами.
— Всё в порядке, — отвечал тот, приветливо улыбаясь, — да только жена уже четвёртую дочку родила, а я сына хочу.
— Лучше стараться надо, — шутил Костюшко. — Ну а с дочкой поздравляю!
И оба мимолётных собеседника, кивнув друг другу на прощание, продолжали свой путь дальше.
Когда, медленно раскачиваясь в седле, Костюшко выезжал на дорогу, ведущую из города, то ему навстречу часто встречались крестьяне, которые направлялись в Салюрн в поисках хоть какой-либо работы. Последние два года в Швейцарии, как и в соседних странах, стояла непривычная засуха, которая привела к гибели части урожая, разорив тем самым немалое количество этих тружеников полей. В поисках работы они направлялись толпами в города, надеясь там заработать хоть немного денег и прокормить семью до следующего урожая.
Поравнявшись с такой жертвой небесной канцелярии, Костюшко приостанавливал свою кобылку и подзывал крестьянина к себе. Тот, не понимая толком, что от него понадобилось этому странному старику в военной форме, робко подходил к Костюшко.
— Тебя как зовут? — спрашивал Костюшко горемыку.
— Франц, — неуверенно и тихо отвечал тот, и тут же получал от Костюшко золотую монету.
Пока крестьянин с глупым видом рассматривал и пробовал на зуб этот кусочек дорогого металла, что-то пытаясь произнести в ответ за этот щедрый подарок, Костюшко, не ожидая благодарностей, отъезжал от него на приличное расстояние.
Генерал мог позволить себе такую роскошь, как раздавать золотые монеты тем, кому он считал нужным. В Салюрне он входил в список богатых людей, но не все знали, откуда у этого старика столько денег. Кто-то считал, что у Костюшко большая генеральская пенсия, кто-то предполагал, что этот «транжира» получил от кого-то богатое наследство, но домыслы так и оставались домыслами. На самом же деле щедрые подаяния нищим Костюшко делал из тех сумм, которые он получал из-за границы в виде процентов от денег, которые лежали в английском банке Баринга. А сумма на его банковском счёте накопились немалая.
В 1799 году Костюшко решил вернуть деньги, полученные от Павла I при своём освобождении, обратно в Россию. Но, взбешённый такой «неблагодарностью», русский император не принял их, а отослал обратно в английский банк. Так «подарок» и остался в одном из лондонских банков никем не востребованным, однако Костюшко исправно получал проценты и раздавал золотники нищим.
В это пасмурное прохладное октябрьское утро Костюшко как всегда ехал верхом по обычному маршруту. Дождь уже прекратился, и городок окутал густой туман, который проникал под одежду и холодил тело старого генерала. Проезжая мимо костёла, он слез с лошади, снял свою треуголку и перекрестился. Несмотря на сырость и утреннюю прохладу, на крыльце костёла, стоя на коленях, горячо молилась какая-то молодая женщина.
Костюшко, не надевая головной убор, тихо подошёл к молящейся и некоторое время стоял в нескольких шагах от неё, наблюдая непривычную картину такого активного проявления веры. Наконец женщина встала с колен и заметила странного старика, который уже несколько минут стоял позади её.
— Что, тоже старые грехи мучают? — незлобно спросила она Костюшко, и он увидел, что перед ним стоит цыганка.
Генерал не сразу нашёлся, что ей ответить на такой неожиданный вопрос. Но справившись с мимолётной неловкостью, он согласно кивнул в ответ и неожиданно для себя спросил:
— Погадаешь?
Цыганка оглянулась на костёл, подошла поближе к Костюшко и заглянула ему в глаза.
— А зачем тебе это надо? — лукаво спросила она, продолжая внимательно смотреть на Костюшко, как будто пыталась заглянуть ему внутрь.
— Хочу знать своё будущее, — попытался усмехнуться генерал, но усмешка вышла какая-то глупая и грустная.
Цыганка не попросила его ладонь для гадания и не достала карты, предлагая рассказать, что было, что есть и что будет. Она посмотрела своими чёрными глазами куда-то за спину Костюшко и тихо ему сказала:
— Не буду я тебе гадать... У тебя будущего уже нет.
Сказав свои роковые слова, цыганка опять повернулась к костёлу, перекрестилась и быстрым шагом отошла от Костюшко, скрывшись через несколько мгновений в утреннем вязком тумане.
Питер в это утро решил поспать попозже. Погода за окном не обещала солнечный день, а Питеру, в отличие от Костюшко, хотелось прогуляться по городку пешком. Спустившись в гостиную, он заметил кухарку Анну и Шарля, который сервировал стол для тех, кто ещё не позавтракал.
— Доброе утро! — поздоровались они, и Питер кивнул в ответ.
— А что, наш доблестный генерал уже вернулся со своей прогулки? — спросил он слугу, намереваясь позвать Костюшко, чтобы тот составил ему компанию в утреннем чаепитии.
— Нет, господин, ещё не вернулся, — смущённо ответил Шарль, и Питер взволнованно посмотрел в окно. На дворе опять начал моросить дождь, и от неприятного ощущения сырости и осеннего холода Питер поёжился и опять обратился к Шарлю:
— Не случилось бы чего с ним, — сказал он, стараясь не выдавать нарастающего волнения. — Может, послать кого-нибудь ему навстречу?
— Я уже сказал конюху, чтобы он запрягал лошадь, — ответил догадливый слуга.
Но никого посылать не понадобилось, так как входная дверь отворилась, и вместе с утренним туманом в дом вошёл «пропавший» генерал.
— Ну наконец-то, — раскинув широко руки, загрохотал радостно хозяин дома. — А мы уже с Шарлем гадаем, не уехал ли ты в Париж? — попытался пошутить бывший полковник швейцарской гвардии.
— Не дождётесь, — в тон ему ответил Костюшко. — Я ещё не так сильно надоел вам, чтобы так быстро уезжать. Ещё лет десять придётся потерпеть старика, — пытаясь казаться жизнерадостным, добавил он, но сильно закашлялся и, не раздеваясь, рухнул в кресло.
Услышав шум взволнованных голосов, из своей комнаты появилась Таддеи и тут же составила компанию Шарлю, который стаскивал с Костюшко мокрый плащ и сырой генеральский мундир.
— Ну разве можно так долго ездить на лошади в такую погоду, — выговаривала она своему крёстному, серьёзно беспокоясь о его здоровье.
— Ничего, ничего, — пытался ещё шутить Костюшко. — Яще польска не згинела, — почему-то проговорил он на польском языке строчку из марша польских легионеров, пока его одевали в тёплый домашний халат и поили горячим чаем.
Но все усилия по восстановлению бодрого состояния генерала и предупреждения наступления простуды оказались запоздалыми и тщетными. В тот же вечер у Костюшко поднялась температура, и в наступившей горячке он начал бредить.
Прибывший в такой известный дом лекарь пытался давать ему пить какие-то микстуры, делал кровопускание, но жар не спадал. Так прошёл целый день, а вечером всё семейство Цельтнеров собралось в большой гостиной, в волнении ожидая, когда лекарь сообщит, что больному стало лучше. Прошло ещё несколько часов, но лекарь выходил из комнаты Костюшко только лишь для того, чтобы выпить чашку бодрящего кофе с марципаном, а после этого вновь возвращался к больному.
И если мужчины старались казаться спокойными, то Таддеи в сильном волнении ходила всё время по дому в ожидании, что её крёстному станет лучше.
— Не волнуйся, всё будет хорошо, — настойчиво пытался успокоить племянницу Франц, который и сам переживал, что ничем не может помочь больному.
«Всё будет хорошо, всё будет хорошо…» — повторял он про себя, хотя надежды на выздоровление, судя по виду обеспокоенного лекаря, было, по-видимому, мало.
— Да, всё будет хорошо, — ободряюще поддержал брата Питер. — Тадеуш — сильный человек... Он не может, он просто не имеет права долго болеть... Он...
Неожиданно двери в комнату Костюшко отворились, и лекарь взволнованным голосом позвал всех из гостиной в комнату больного:
— Быстрее... Идите к нему... Он всех зовёт к себе.
Таддеи, а за ней все остальные побежали на зов, словно боялись упустить что-то очень важное, не услышать или не увидеть.
В полутёмной комнате, освещённой тремя свечками, лежал в своей постели Тадеуш Бонавентура Костюшко, боевой генерал двух государств, который в течение жизни успел удостоиться внимания нескольких европейских монархов. Но в глазах всех присутствующих в этот момент в небольшой комнате он был просто дорогим и близким им человеком.
Костюшко осмысленным взглядом оглядел всех стоящих возле его постели людей. Пытаясь улыбнуться, он приподнял голову, но из-за слабости опять опустил её на подушку. Его губы начали двигаться, и все услышали его последние слова, произнесённые на этом свете:
— Я рад, что вижу вас всех здесь... Спасибо вам, что вы... — больной закашлялся и речь его прервалась.
Через некоторое время, когда кашель прекратился, Костюшко посмотрел на Питера.
— Питер, моё завещание... Мы невольны в своих поступках, но иногда... — попытался ещё что-то осмысленное сказать Тадеуш Костюшко, но не успел.
Взгляд его вдруг остановился, он судорожно два раза вздохнул, и зрачки закатились вверх под веки. Последний медленный выдох, и душа этого удивительного человека навсегда покинула его тело.