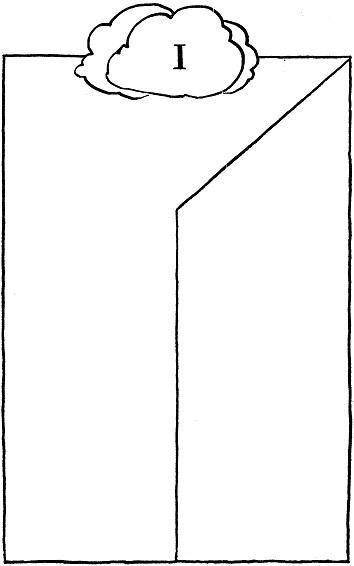I
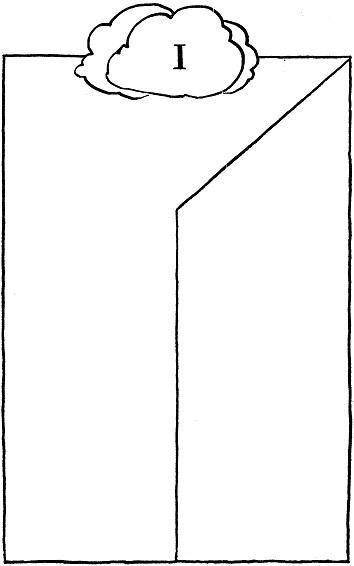

Минута слабости
Так... Попробуйте пошевелить этим пальцем... Нетушки! А этим... ясно! — Доктор задрал мою ладонь, потом резко убрал свою руку. — Держать!! — рявкнул он, но пальцы мои безжизненно шлепнулись на стол. — Так... — Доктор вытер пот. — И давно у вас не действует рука?
— Да примерно... с сегодняшнего утра.
— И что же с ней произошло?
— Странный вопрос в устах доктора! Это я у вас как раз хотел бы узнать!
— Ну так расскажите, что с вами произошло.
— Абсолютно ничего! Проснулся — и вот...
— Так мы, друг, далеко с тобой не уедем! Ну — раскалывайся, не бойся! Ты, конечно, можешь меня не уважать, ты прав — врачи разные бывают, но тайну мы четко храним.
— Нет у меня никаких тайн!
Доктор задумчиво покусал свою дикую, спутанную бородку, потом вздохнул, помял мне предплечье:
— Здесь чувствуешь что-нибудь?
— Здесь чувствую!
— А без руки, без правой, согласен жить?
— Не согласен!
— Тогда рассказывай!
— Ну, я вижу, в какой-то дискуторий попал. Всего вам доброго!
— Ладно... — Он снова пожевал бородку. — Дождись конца приема!
— Зачем?
— По бабам пойдем!
— Хорошо, — я пожал левым плечом.
Опять ждать! Всю жизнь я кого-то жду, кто должен вот-вот выйти и распорядиться мной. Но в этот раз, как говорится, не рыпнешься, от наглого этого бородана зависит все... на данном этапе. На следующем, видимо, от кого-то другого... и так, видимо, уже до конца!
Сначала я решил, что он просто куражится и издевается, — прошло уже сорок минут после окончания приема, а он не появлялся. Я метался по газону у поликлиники, потом вбежал внутрь... нет, не издевается: у кабинета все еще кипела толпа — вопли, скандалы — не такая уж сладкая жизнь и у него самого!
Наконец появился — одетый, кстати, как самый крутой фарцовщик, но нынче трудно судить о людях по одежде, все, в общем-то, стремятся одеться как фарцовщики — были бы деньги.
Из красивой белой «тачки», припаркованной тут же, стали сигналить ему, махали какие-то брюнеты и блондинки, но он, надо отдать ему должное, о чем-то коротко с ними переговорил, посмеялся, помахал рукой — и направился ко мне, расстегнув курточку на мохнатом брюхе, отдуваясь — жара!
— Наверное, вам не с руки... в свободное ваше время! — Гримаса злобы все еще сводила мне рот.
— А то не твоя забота! — грубо ответил он. Сунул огромную толстую лапу: — Пашков!
Пытка начинается с транспорта.
Весь вытянувшись, как горнист на пьедестале, торчишь на углу, до рези в глазах всматриваешься, когда же наконец в дальнем, загибающемся за край земли конце улицы проклюнутся все-таки рога троллейбуса! Вздыхаешь, переступаешь на другую ногу, потом начинаешь внушать себе, что не так уж тебя интересует этот троллейбус — слава богу, навидался троллейбусов на своем веку! Но досада вдруг выныривает опять, причем уже не в виде досады, а в виде самой раскаленной белой ярости, ярости против кого-то, кто смеет так нагло и спокойно распоряжаться твоим временем и самим тобой, кто, усмехаясь и, может быть, даже сыто рыгнув, говорит: «Этот-то? Ну — этот ничего, постоит! Куда он денется!» И «этот» действительно стоит, разве что шарахнет с отчаяния ногой по урне, но урна, оказавшись неожиданно из какого-то тяжелейшего материала, даже не шелохнется.
И главное — чем больше ждешь, тем — как это ни парадоксально — больше остается! Потому что когда очень уж долго троллейбуса нет — это означает, что он не прошел еще и в обратную сторону, означает, что его нет еще и на кольце, — стало быть, он должен проследовать сначала туда, а потом, постояв и развернувшись, неторопливо двигаться к тебе. Урну удалось все-таки сбить, но пойдет ли это на пользу — очень сомнительно!
Ждешь теперь троллейбуса хотя бы
туда — уж туда-то хотя бы пора уж ему пройти — но даже и на такие твои уступки нет отзвука — и эта
пытка пренебрежением повторяется, как минимум, дважды в день. Теперь откуда, спрашивается, брать уверенность в себе, в том, что ты чего-то добился в жизни, — если даже дряхлый, дребезжащий и разваливающийся троллейбус тобой пренебрегает. Откуда быть в тебе веселью и доброте, надежде хоть на какое-то благополучие, если в элементарной возможности — сесть нормально в троллейбус и ехать — тебе отказано?
С таких примерно ощущений начинается день. И страдания твои удваиваются, если рядом с тобой стоит свежий, не привыкший к такому человек — родственник или друг — и с изумлением поглядывает на тебя: неужели ты каждый день такое выносишь?
— Да — выношу! Представь себе! А что ты можешь мне предложить?
Доктор Пашков мялся, сопел, потом вдруг выскочил на мостовую.
— Падай! — он распахнул передо мной дверцу. — Не могу ждать — терпения не хватает! — поделился он.
Ну что ж... молодец, что не можешь! — подумал я.
— Больницу на Костюшко знаешь? — панибратски обратился он к «шефу». — Даю три юксовых, если довезешь за десять минут!
Шофер поглядел флегматично-анемично, конечностями еле шевелил — но дело, видно, не в этом: машина летела, проламывая хлынувший дождь, полоски воды, дрожа, карабкались вверх по ветровому стеклу.
Когда мы взлетели по пандусу к стеклянным дверям, я сунулся в карман, но рука, вильнув, «заблудилась»: два пальца попали в карман, три, «отлучившись в сторону», торчали снаружи. Проклятье! Неужели теперь так будет всегда?!
— Ладно, башляю! — Пашков вытащил толстый бумажник.
— Да, а как вообще насчет финансовой стороны? — пряча руку под пиджак, осведомился я.
— А сколько не жалко тебе?
— Ну, пока что... моя рука... двугривенного не поднимет.
— Значит — сколько поднимет? — усмехнулся Пашков.
Мы вошли в холл, ежась я читал светящиеся надписи: «Реанимация», «Хирургия»...
— Вперед! — проговорил Пашков, вытягивая из сумки белый халат, набрасывая сзади на себя. — Это мой! — небрежно кивнул он в мою сторону.
— С чего ты взял, что я твой? — спросил я, когда мы миновали вахтершу.
— Никому тебя не отдам! — Пашков вдруг дернулся ко мне, лязгнул зубами.
Мы вошли в огромный, тускло освещенный лифт. Пашков придвинулся ко мне и со зверской своей ухмылкой спросил:
— Ну честно, не боись, — что с рукой?
— Перенапрягся слегка! — я пожал плечом.
— Если слегка — тогда тебе не сюда!
Пашков отодвинулся в угол лифта, вдвинули больного на носилках, на четвертом этаже его выкатили, мы вышли следом. Мы долго шли по бесконечному коридору.
— Да, если что — ты мой родич!
— Ясно.
Я лежал голый на липкой медицинской кушетке, в кабинке, отгороженной белыми простынями с черными штампами, и из меня, как из святого Себастьяна, торчали иглы — из колена, из щиколотки, из предплечья, из мочки уха.
Вдруг послышался назойливый, то приближающийся, то удаляющийся звон... Комар! Словно зная, что тут не положено шевелиться, он спокойно уселся мне на грудь, долго деловито топтался, ища точку, наконец вонзил и свою иглу... Тоже, профессор!
Но даже если троллейбус приходит быстро — везет ли он тебя к счастью? Отнюдь! Трудно обнаружить счастливца, для которого совершаются все эти бессмысленные дела, — во всяком случае ко мне они не имеют прямого отношения... Все это вроде бы кому-то надо — но кому? Одна встреча тянет другую — но обнаружить, так сказать, первоначальный толчок так же трудно, как и определить первый толчок, давший движение Вселенной, — все движется, цепляется... но где начало и в чем конец?
Знаешь только: надо зайти туда-то, добиться того-то. Зачем? Это дело, видимо, не твоего ума! Дел этих бесконечно много, но в чем их приятность и польза — трудно сказать... глаза не разбегаются, а я бы сказал наоборот — сбегаются, хочешь глядеть неподвижно в одну и ту же точку перед собой. Специально купил себе сапоги-скороходы, настолько отвратительные, что все в них хочется делать стремительно.
Рядом вдруг оказалась сладко улыбающаяся физиономия китайца.
Ах, да! — постепенно вспомнил я. К своему другу-китайцу, магу иглоукалывания, пропихнул меня Пашков. Сюда, по его словам, люди годами пытаются попасть — а я благодаря его протекции оказался утыкан иглами буквально за секунду.
Китаец по одной вытащил иглы, протер места втыка ваткой.
Простынный занавес поднялся, и появился прокуренный Пашков, поднял двумя пальцами мою руку, как замороженного судака...
— ...Нетушки! — опередив его, сказал я.
— А ты думал? Сразу за рояль? Это поломать все легко — а склеить... Неизвестно еще, что у тебя там, — тем более ты не желаешь нам об этом сказать...
Вчера примерно в это же время я плелся по Невскому около Дома книги. Увидев огромную очередь, покорно встал.
— Чего там? — подбегая вслед за мной, спросил старичок.
— Книга, наверное! — я пожал плечом.
— Какая книга-то?
— Откуда я знаю?
— А коли не знаешь, так чего стоишь? — удивился он.
— Так, может, и не хватит еще! — с надеждой проговорил я.
И большинство дел сейчас я делаю с тайной надеждой, что они не получатся!
Довольно страшно — воспоминания неприятные! — подносить к руке электрический провод, хотя и оформлено это в виде элегантного медицинского прибора — но суть-то не меняется! Тряхнуло, перед глазами полупрозрачные круги.
— Это пытка тебе, чтобы раскололся! — перед затуманившимся взором лицо Пашкова.
Я молча снова повел электрод к руке... Интересно: даешь ток в запястье — вся ладонь вдруг заворачивается вверх, словно какой-то потусторонней силой. Сама рука уже какая-то не моя — очень белая и в то же время непривычно грязная: рука руку больше не моет, а обмывать — как-то еще непривычно... Снова поднес электрод — ладонь, дрожа, задралась... «Рука трупа!» Фильм ужасов! Огромные сборы!.. Выучился постепенно поднимать любой палец по заказу: подносишь электрод к одному определенному месту на запястье — поднимается мизинец, к другому — указательный! Большой успех юного натуралиста!
Любой уже шаг теперь причиняет страдание! Любой! Выделили дачу — казалось бы, прекрасно! Часа полтора, однако, пришлось кружиться возле фигуры с повязкою «Комендант», приговаривая умильно:
— Да какая славная на вас повязочка! Да как складно она на вас сидит! Шили — или покупали готовую?
Зажав наконец в потном кулачке ключ, с бьющимся сердцем взлетаю на крыльцо, всаживаю ключ в замок... Не поворачивается! Что же делать?! Только спокойно, спокойно, не подавать виду, будто что-то стряслось, — вежливо улыбаться, разговаривать с проходящими — просто ты заговорился и забыл про замок!
Щелкнул! Ура!
Две большие затхлые комнаты, с железной круглой печкой в одной из них... Так... А куда эта дверь с крючком?.. На общую кухню... Прелестно, прелестно! И помойное ведро! Просто великолепно!
Дважды радостно подпрыгнул, потом испуганно оглянулся: не поднимут ли соседи скандал? Есть уже, к сожалению, такой опыт, все рассматривается теперь через призму испуга, с бесшабашностью удалось покончить года четыре назад. А жаль того времени, когда жил как хотел! А теперь думаю сразу же отнюдь не о дачной неге и наслаждениях, наоборот — какие опасности могут тут быть?
Ясно, весь скарб придется покупать, тратить деньги на неинтересные, некрасивые предметы... Что делать? Поплелся по горячей мягкой пыли к хозяйственному магазину. Несколько раз с грохотом обгоняли цыгане на телегах — здесь большое поселение оседлых цыган — на всякий случай дружески махал им рукой.
Вступил наконец в прохладу и полутьму магазина, словно в холодную воду пруда. Долго приглядывался к полкам — глаза не сразу перестроились после слепящего солнца... Отличные эмалированные ведра! И чайники! Таких в городе не найдешь!
Сбоку почувствовал какое-то неудобство — повернувшись, увидел бывшего хозяина теперешних наших дачных комнат, вытесненного в этом году нами в упорной борьбе. Хоть все вроде бы произошло по закону — его аренда истекла, наша потекла, все равно присутствует ощущение вины — с повышенным подобострастием кинулся я к нему.
— Здравствуйте! Извините — в полутьме вас не сразу увидал!
— Здравствуйте! — стеснительно, но холодно отвечал он.
На мою ослепительную улыбку реагировать он явно не пожелал. Ну ясно, все-таки обидно ему: шесть лет жил в этих комнатах и не тужил, и вдруг откуда-то появился я, он, понятно, считает меня интриганом и подлецом, — но не может же дочь моя жить без воздуха? Его-то жила здесь шесть лет! Но все равно — он обижен, хотя прожил в моих комнатах шесть лет, а я пока что — не более восьми минут.
— Вы что... здесь где-то подсняли? — ласково поинтересовался я.
Не глядя в мою сторону, он молча кивнул.
— Так вам что? — повернулась продавщица к нему.
Он вдруг с каким-то отчаянием глянул на меня, потом отвернулся и пробормотал:
— ...Керосиновую лампу!
Я вышел на улицу. Ничего себе — отдых на даче! Представляю, как он ненавидит меня — за то, что я выпихнул его, причем в такую дыру, где и электричества, оказывается, нет! И вдвойне ненавидит теперь, когда я так неловко узнал об этом! Занесло меня сюда!
Вернувшись, я сидел на стуле. Послышался стук.
— Да-да! — бодро выкрикнул я.
Вошел очаровательный мальчик с огромными пытливыми глазами — могли бы быть и поменьше! Кидая любознательные взгляды на мои вещи, стал задавать наивно-очаровательные вопросы: а как вас зовут? а что вы любите? а есть ли дети?
«Отвали, мальчик, без тебя тошно!» — вот что хотелось бы сказать.
Но вдруг нельзя? Вдруг от него тут, такого очаровательного, многое зависит? Вдруг он, будучи общим любимцем, заправляет здесь всем? Таких мальчиков просто обязаны все любить — таков закон!
И я, радостно улыбаясь, бодро отвечал на бесчисленные его вопросы — расслабляться ни в коем случае нельзя! Может, когда-нибудь, лет через пятнадцать, можно будет расслабиться — но навряд ли.
— Сейчас пойдем в лес! — безапелляционно проговорил мальчик.
— Знаешь... я сейчас занят, — пробормотал я.
— Пойдем, пойдем, — по-хозяйски проговорил он. — Зачем же вы на дачу приехали, если лесом не интересуетесь?
Подловил! — подумал я. Сердце бешено заколотилось.
— Ты прав! — улыбнулся я. — Надо идти!
Я стал натягивать ботинки — шнурки не влезали в дырки.
— Сейчас! Я быстро! — Так и не зашнуровав, я бросился догонять мальчика, который, даже не оглядываясь, уходил в кусты.
У кустов я оглянулся — во всех почти окнах маячили лица.
— В лес пошел! В лес зачем-то пошел! — очевидно, передавалось из уст в уста.
В городе я жил хоть и неказисто, но хотя бы анонимно — никто не знал, куда я иду, — а тут каждый твой шаг на виду!
Мы быстро углублялись в лес. Дорога, видимо, была когда-то очень красивой, но сейчас была вся перекорежена транспортом, в глубоких ямах с темной водой дергались как по команде стаи головастиков.
Прогулка не доставляла ни малейшего удовольствия, — но об этом, как говорится, и речи нет, — я даже забыл, когда в последний раз я делал что-либо, доставляющее удовольствие!
— А еду вы убрали или нет? — вдруг останавливаясь, спросил мальчик.
— Какую еду? — я тоже остановился.
— Ну — со стола, со стола! — дважды, как слабоумному, повторил мальчик.
— А надо было убрать?
— Ну разумеется! — воскликнул он.
— А что, украдет кто-нибудь? — улыбнулся я. — ...Кошки?
— Не кошки. Крысы, — серьезно проговорил он.
— Крысы?
Мальчик хмуро кивнул:
— Обнаглели до предела. Вчера сотня, наверное, крыс, сросшихся хвостами, в вашей комнате кружилась.
— Сросшихся?!
Мальчик кивнул.
Возле розовой сосны, освещенной солнцем, дрожало полуневидимое облачко с радужным отливом.
— Дикие пчелы, — пояснил мальчик. — Не делайте резких движений, а то закусают!
С приклеенной к устам улыбкой я медленно прошел под облаком... Надо же! Дикие пчелы! Как интересно!
На краю солнечной лужайки мальчик остановился:
— Все! Дальше не пойдем!
— Ну почему же?
— Там змеевник.
— ...Что?
— Змеевник. Клубки змей.
— А.
Картина сельского рая понемногу затуманилась завесой ужаса.
— Неинтересно с вами гулять! — вдруг резко проговорил мальчик и, повернувшись, зашагал по дороге.
С безразличным видом я еще пошатался по лесу. В чахлых кустах я увидел ржавую свалку, кинул туда жадный взгляд: много вещей, необходимых на даче! — но взять что-либо не решился: что скажут, если я появлюсь с вещами со свалки?
Мальчик стоял у ограды, нюхая сирень. На меня он не смотрел, но чувствовалось, что он ищет примирения.
— Когда стемнеет — наломай, пожалуйста, сирени и принеси мне! — Не повторяя приказания дважды, я резко повернулся и твердым шагом взошел на крыльцо.
Я слегка отдохнул от напряжения, потом вышел, направился к женщине в войлочной шляпе, склонившейся над грядкой.
— Бог в помощь! — развязно выкрикнул я.
Женщина разогнулась, досадливо посмотрела на меня, подняла руку с запачканными землей пальцами, утерлась тыльной стороной.
— Будете копать огород? — поинтересовалась она.
— Да надо бы! — заговорил я. — Как-никак оба родители агрономы, всю жизнь свою копались в земле! (Уже и родителей зачем-то приплел!)
Женщина молча смотрела на меня.
— Ну до чего же прелестно у вас! — не сдержавшись, я сорвался и зачастил. — Ну просто какой-то японский садик!
— Фальшиво! — вдруг четко проговорил внезапно очутившийся рядом мальчик. — Очень фальшиво! Закидать вас тухлыми яйцами и гнилыми помидорами!
Не поворачиваясь к нему, я продолжал с лучезарной улыбкой глядеть на женщину.
— Торфу бы надо достать, — устало проговорила она.
— Можно! — небрежно сказал я. — Сколько надо? Мешок?
— Мешок? — удивленно повторила женщина и, отвернувшись, продолжила работу.
Так! И тут провал!
С достоинством я поднялся в комнату, но, заперев дверь, сразу же рухнул на кровать — ну и ложе, все пружины торчат, то и дело скатываешься, как по горному склону, не лежанка, а какой-то спортивный снаряд!
Раздался грозный стук — в дверях стояла разгневанная огородница, держа за руку раскрасневшегося мальчонку.
— Ясно теперь, что вы за человек! Сами трусите, а мальчика посылаете ломать сирень!
Ну все! Теперь можно смело вешаться! Ждать особенно нечего — судьба определилась — и все дело заняло каких-нибудь два часа!
До вечера я пролежал, сражаясь с пружинами, в полутьме все-таки вышел, схватил возле сарая лопату, вскопал грядки, потом граблями тщательно разровнял, старательно: если кровать у меня такая кривая, то пусть хотя бы грядушки будут ровные!
В полной уже тьме пробрался на свалку, приволок все-таки в комнату огромную ржавую конструкцию, напоминающую кровать. Осторожно лег... Тяжелый день — хотя ничего трагического вроде бы не происходило... а иных дней, наверное, уже не будет!
Перед носом маячила изогнутая зазубренная железяка, — так и не смог я, несмотря на все усилия, ее отломать, — приходилось лежать неподвижно, не шевеля головой.
Я глядел на железяку перед носом — на стене от нее легла странная тень — и с отчаянием думал: «Господи! Как я, бывший щеголь и сноб, пивший кофе только двойной, носивший пуловеры только ручной ирландской работы, дошел до этого лежания на утиле, с ржавой пикой, приставленной к носу?»
— Ну и что? Такая ерунда повергает тебя в отчаяние? — удивился Пашков.
— Да, но если она непрерывна!
...Ночь мучился на этой конструкции, оставить ее нельзя, раз уж с такими муками притащил.
...Следующий день ползал по огороду, пытаясь наладить разбитые отношения... безуспешно! Вечером пришел на автобус — ехать на станцию. Автобус, естественно, опоздал. Наконец появился — грязный, расхлябанный, и водитель с вызывающим выражением лица: «Да, вот опоздал, и буду опаздывать, и ничего вы со мной не сделаете — ну попробуйте!» Долго непонятно стоял, потом тронулся — видимо, заметив двух бегущих, — отъехал тогда, когда им метра четыре оставалось добежать! Салон весь скрипит, ходит ходуном, из сидений вырезаны куски, торчит вата. Потом вдруг пошел удушливый дым — явно горим! — но никого это почему-то не удивило, все полусонные продолжали сидеть.
— А побыстрей нельзя? — не выдержав, обратился я к водителю. — Так на поезд опоздаем, а другого не будет нынче!
— Да? — криво усмехнулся. — А ты по такой дороге можешь успеть? И я — нет!
— А что же она такая у тебя?
— У меня? — выразительно глянул, умолк.
Автобус не ехал, а шел вприсядку.
— Да то Санька Ермаков, — пояснил мне сосед, — в позапрошлый год за женой своей гнался на бульдозере!
— И что же он — на ходу землю рыл?
— Ну! — широко улыбнулся сосед.
Вот так вот, подумал я, и догонят, и раздавят, и зароют!
Но и водитель — тоже хорош! Как только появилась опасность успеть на поезд, тут же, быстро глянув на часы, сбавил скорость — я ясно увидел, как он, сладострастно улыбнувшись, подвинул рычаг.
— Что ж ты делаешь, сволочь? — проговорил я.
— Так! — он аккуратно заглушил мотор, повернулся ко мне...
Драться? Но если драка — тогда-то уж наверняка не успеем!
Проглотить!.. Ежедневно глотаем такое — потом удивляемся, что слабеет наш организм!
— Ну... а отвлечься от этого ты пробовал? Встряхнуться? Ведь и приятные вещи на свете существуют! — сказал Пашков.
— Отвлечься? Конечно, пробовал! Вся молодость, можно сказать, на это пошла! И теперь иногда пробую!..
Недавно, поздним уже вечером, ехал на такси через какой-то темный пустырь — вдруг рация у ног водителя засипела, потом послышался капризный голос диспетчерши:
— «Семерочка»! Слышишь меня? Прими заказик. Улица Димитрова, дом сто восемь, корпус два, квартира сто семнадцать... Телефончик — двести шестьдесят восемь восемьдесят четыре семнадцать... Шалатырина! Да! Ша-латырина!
Я вскочил на заднем сиденье, снова сел, потирая макушку, — хорошо, что в машине мягкий потолок.
— Спасибо! — крикнул я водителю, выскакивая из машины.
— Э, э! А платить?!
— Ох, да! Извините! — я протянул ему деньги. Дома я сразу прошел в кабинет, закрылся... Зачем-то неправильно сказала мне фамилию при расставании — изменила последний слог — но все равно я ее нашел!
Познакомились мы в прошлую осень на юге, на уединенном нудистском пляже — там собирались люди, отринувшие условности...
Далекий полуостров, с облачным всегда небом и странным светом, идущим из воды. Пыльные заросли кизила, тамариска. Симпатия местных кур, сбегающихся вперевалку со всех дворов, дружба местных черных свиней, их сырые лежбища под сводами субтропического леса. Пляж с длинными ветками, протянувшимися над песком, — мне долго потом снилось все это — и в эту ночь приснилось опять.
Утром я, все еще блаженствуя после сна, вышел на кухню.
— Кому-то из нас сегодня надо в школу идти! — вздохнула жена.
— Зачем это?
— Окна мыть!
— Ясно! И идти, видимо, мне?
Жена молча отвернулась.
— Ну хорошо! — Специально одевшись в самую рванину, грохнув дверью, я выскочил на улицу.
Вся будка на остановке троллейбуса была залеплена объявлениями: «Две студентки...», «Одинокий...», «Просьба вернуть...» — все лихорадочно ищут свое счастье. Может, и мне подклеить маленькое объявленьице: «Молодой человек со странностями снимет комнату»?
Когда мы учились в школе, проблемы мытья стекол возникнуть в принципе не могло! Была у нас нянечка, или, как ее называли, — техничка, баба Ася, и ей в голову не могло прийти предложить кому-то вымыть стекла вместо нее! И в таких проблемах я погряз! Зачах на мелочах!
Нет уж — хватит! Я вошел в будку с выбитым стеклом, сунул палец в диск...
Я вспомнил печальный ее отъезд с маленького деревянного вокзальчика с галерейкой, с подвешенными на длинных нитках цветами в горшках. Мы стояли, грустно обнявшись, друг-свинья терлась нам об ноги, бойкие местные паучки быстро сплели свои паутинки — между нею и мной, между поездом и вокзалом.
— Алло! — послышался в трубке хрипловатый ее голос.
— ...Как живешь? — справившись наконец с дыханием, выговорил я.
— Ты где? — после паузы спросила она.
— Близко.
— Давай!
Всегда она была лихой! Не помню, на чем я мчался — на такси? Верхом?
— Ах, как нехорошо! — прислонившись ко мне в темной прихожей, говорила она. — Разбил девушке жизнь и смылся!
— Никакой твоей жизни я не разбивал! (Губы сами собой расплывались в блаженной улыбке.) Чашку разбил — это было, а жизни не разбивал!
Мы вошли в комнату. Стоял таз с грязной водой, в углу — швабра.
— Просто падаю с ног! — поделилась она.
— Успеваем? — обняв ее, произнес я любимое наше слово.
— Смеешься? — вздохнула она. — Я не знаю даже, когда посуду помыть!
— Я помою! — я стал собирать тарелки со стола.
— Серьезно? — как завороженная, она пошла за мною на кухню. — Ну просто девушка потеряла всякий стыд! — Торопливо чмокнув меня, она лихо схватила мой пиджак, умчалась в комнату. Оттуда послышалось дребезжанье стульев, потом донесся вдруг громкий мужской голос, мучительно знакомый, и в то же время удивительно фальшивый — слава богу, никто из моих знакомых таким голосом не разговаривал... Муж? Но его голоса я не слышал никогда... Телевизор! Телевизор ей интереснее меня!
Потом вдруг сквозняк понес по кухне бумажки, хлопнула дверь. Дочурка ее без всякого интереса глянула на меня нахальными глазками.
— Мама! — завопила она. — Надо тебе в школу идти — окна мыть!
— ...Слышал? И так всю жизнь! — Тамара вошла ко мне на кухню, опустилась на табурет.
— Я помою, — проговорил я.
— Окна? — удивилась она.
— О чем говорить? Какая школа?
— ...Опаздываете, молодой человек! — строго проговорила учительница, кутаясь в шаль. — Вы чей отец?
— ...Я за Шалатырину... Просто я люблю это дело!
— С таким уж увлечением не трите! — кокетливо проговорила мамаша с соседнего подоконника. — Так и стекла могут вылететь!
И пускай!
Вымыв сотню, наверное, окон, я бросился звонить. От чистых стекол на теневой стороне улицы дрожали рябые солнечные зайчики.
— ...Маша? — послышался ее голос в трубке. — Это ты, Маша? Плохо тебя слышно! Перезвони завтра — сейчас мы с Виктором уходим в кино!
Так! Уже Маша! Отлично!
Потом я долго ехал в троллейбусе. Компостерные вырубленные кружочки тихо, как снег, падали мне на голову и на плечи...
Так! Вымыл окна не в той школе — и это все!
— ...И больше ты не видел ее? — поинтересовался Пашков.
— Ну почему же? В следующий раз мазал яблони у нее на даче.
— Чем?
— Ну, существует такая смесь — навоз с известью. Вкручиваешь кисть в эту массу, потом с чавканьем выдергиваешь. Сначала, когда ведешь кистью по дереву, цвет получается желтовато-зеленоватый. Сразу же вылетают все мошки, образуют облачко вокруг ствола. Потом цвет становится ослепительно белым. Мошки постепенно возвращаются на ствол, но там, надо надеяться, ничего хорошего их не ждет... Еще можно добавить: много капель янтарной смолы красиво просвечиваются вечерним солнцем. Потом она везла меня на машине домой и я, уронив набрякшие руки между колен, по-крестьянски так тяжело, рассудительно думал: «Что же это выходит? Лишняя обуза? Нет, еще одну обузу мне не поднять!..» Кстати — на утро следующего дня я почувствовал впервые эту слабость в кисти — словно ее туго-натуго перетянули бечевкой, потом отпустили...
— А ты не пробовал все это подальше послать — жить так, как хочется тебе?
— Пробовал! Конечно, пробовал! Недавно совсем решил: а пошло оно все к черту!
Оставил семье записку неопределенного содержания, выскочил. И только выруливаю в такси на Невский — вижу: на уголке толпится народ! Вылезаю — так и есть: дают овсяные хлопья «Геркулес» — во как они нужны — и для дочки, и для собачки! И вот уж час от загула отнял, со старушками в очереди простоял! Ну ничего! — злорадно думаю. За это будет отдельная месть! Изрядную, правда, сумму пришлось вбухать: двадцать пачек по тридцать семь копеек — вот и считай! И куда денешься теперь, когда такой груз на руках? Только домой, сдаваться. Ну нет уж! Пошел быстро на Московский вокзал, открыл автоматическую ячейку хранения, стал злобно запихивать туда «Геркулес»... Ты у меня весь туда влезешь, мой милый, хоть ты и Геркулес! Утрамбовал, захлопнул! Стряхнул ладонь о ладонь! Вот так вот!.. Теперь бы только номер ячейки и шифр не забыть — на всякий случай надо бы записать! Бегу через Лиговку — у зоомагазина народ... так и есть — дают червячков для рыбок! Месяца два они у меня червячков не ели — полиняли, скуксились... Что делать, а?!
С червячками в бумажке выскочил из магазина. С ненавистью на них посмотрел: вряд ли какой-нибудь хорошенькой девушке понравятся мои червячки! Копошатся, буквально что сапфирами переливаются в бумажке. И в камеру хранения их не засунешь — настоящий друг червячков разве может так поступить?
Иду с червячками по Невскому, мимо идут красавицы, навстречу им — стройные красавцы, и руки, что характерно, абсолютно свободны у них!
Господи, думаю, до чего я дошел — какие-то червячки командуют мной! Ну нет, не поддамся им! Свернул в какую-то сырую темную арку, нашел там ржавую консервную банку, положил червячков туда, сверху заткнул куском газеты — чтобы не разбежались, накрыл неказистым ящиком — чтобы не похитили! Рука об руку стряхнул... Вот так вот!
Выскочил на проспект, но на всякий случай все-таки обернулся: надо номер дома записать, а то не найду потом червячков — пропадут!
Кругом праздничная жизнь бурлит, а я бормочу, чтобы не забыть: дом номер 119, под аркой налево, ящик 5678, шифр 1237... Нет, думаю, это не гульба! Зашел быстро на почту, взял телеграфный бланк, четко записал: 119, 5678, 1237. Засунул в портмоне — ну вот, теперь легче, теперь мозг и душа распахнуты навстречу свободе!
А вот и бар! Красота! Поднимаюсь по ковровым ступенькам, приглядываюсь в полумраке... жизнь бурлит! Подхожу к освещенной стойке бара — и в ужасе отшатываюсь! Чудовищная провокация! Стоят, поблескивая, банки растворимого кофе! Полгода ищу! У жены давление пониженное — кофе помогает, особенно этот. На всякий случай спрашиваю у бармена:
— Это что у вас?
— Растворимый кофе.
— И продаете?
— Пожалуйста!
— Две банки, пожалуйста!
Семнадцать рубликов! Вот и считай. Рубль остался на всю гульбу! В следующий раз, когда вот так соберусь погулять, деньги уж лучше сразу же в урну выброшу — приятнее будет!
Купил пачку сигарет, пять коробок спичек — то и дело дома спичек не оказывается! Элегантно выкурил сигарету, высокомерно глядя по сторонам. И все! Пора, видно, в обратный путь, клады мои расколдовывать! Еле расколдовал!
Уже на подходе к дому (в руках пачки «Геркулеса», за пазухой холодные банки, червячки за щекой — больше некуда!) вижу — у пивного ларька народ гуляет. Пошел мелкими шажками, придерживая пачки подбородком, говорю первому:
— Не в службу, а в дружбу — в нагрудном кармане у меня пятнадцать копеек должны быть, достань, пожалуйста, купи маленькую пивка и в рот мне влей!
— У тебя рук, что ли, нет? — говорит.
— Есть, да видишь, все заняты!
— Ну хорошо.
Взял маленькую, вылил мне в рот, — чуть червячков с пивом не проглотил!
— Спасибо! — хотел кивнуть, но не получилось: подбородок упирался в пакеты. Подошел к парадной, гляжу — валяется газовая плита, вместе с трубами вырванная. Вот это люди гуляют — не то что я!
Поднялся домой. Ссыпал всю эту дребедень на стол, червячков выплюнул в аквариум — лишь тут покой почувствовал, почти что блаженство!
Жена, вешая пиджак мой в шкаф, записку в кармане нашла.
— Телефон, что ли, чей записан?
— Конечно, только совершенно не помню чей!
— Бедно живем! — глядя в шкаф, вздыхает жена.
— Ну что я сделать еще могу?! Подарить свою рубашку тебе?
— А что? Мужские рубашки сейчас в моде! — оживилась.
— Так подарить? Или тебе больше нравится быть несчастной?
Обиделась, ушла.
Спал я, надо заметить, неспокойно. Наутро голосок ее из соседней комнаты:
— Вставай, Ленечка, завтрак готовь!
Некоторое время не вставал, надеялся еще, что мягкий знак просто мне пригрезился в конце, — но по долгой последовавшей паузе понял: нет, не пригрезился!
— Вот ты попрекаешь меня, — за завтраком говорю жене. — А люди вон как гуляют: целые газовые плиты выбрасывают во двор!
— Старые-то они выбрасывают, — вздохнула жена, — но им вместо этих новые ставят — цветные, эмалевые, то ли финские, то ли венгерские...
Да... все всего добиваются, один я такой несмышленыш — ничего не могу!.. Всё! — сказал я себе. Хватит тебе холить свою гордость — никому она, как выяснилось, не интересна! Иди, проси! Унизят? Ничего! Оскорбят? Перетерпишь! Зато все будет как у людей! Тщательно брейся и поезжай!
Поплелся я в ванную, приступил к бритью. Каждое утро эта мука — но что же делать? Что же осталось в жизни приятного? Долго думал — так и не вспомнил! Ну вот — мыло в глаз угодило, откуда тут мыло-то оказалось — неясно! Потом спохватился: чуть было бровь не сбрил! Как это бровь оказалась в районе бритья? Отвлекаешься! Кончил наконец бриться, смыл остатки мыла водой, посмотрел на себя в зеркало — и от ужаса закричал! Побрил не ту часть головы! Верхнюю! Абсолютно голый череп сверкает, лампочку отражает! Вот это да! Раньше я таких ошибок не делал!
Но оделся все-таки, вышел. Все с некоторым испугом на меня глядят. Троллейбуса дождался, поехал. И странно — почему-то именно за ним пчела увязалась, бьется и бьется в стекло — ну буквально что перед моим носом.
Вот дура-то! — снисходительно думаю. Не понимает, что стекло-то ей все равно не пробить!
И тут троллейбус останавливается, складывает двери, пчела влетает в салон и жалит меня в голову! Проклятье! Даже слезы у меня выступили — от боли и от обиды! Да, видно, не случайно я голову выбрил — тут целая цепь! Видно, прохудилась моя защита!.. Недавно видел я женщину, сбитую машиной, — вернее, только ноги ее торчали из-под покрывала: грязные туфли и чулки, причем чувствовалось — не сейчас они испачкались, а давно, то есть давно уже плохо она жила, прохудилась ее защита — и вот результат... И моя защита прохудилась — теперь жди!
Доехал я до службы своей, дверь открыл и сразу же застонал. Десять лет уже вижу одно и то же: мокрая грязная тряпка у двери, все привычно уже трут об нее свои абсолютно чистые и сухие ноги и дальше уже идут, печатая грязь. Сколько я бился с этим, особенно пока был молодой и горячий!.. Бесполезно! Однажды даже, карьерой рискуя, похитил эту тряпку, думал — все перевернется. На следующее утро пришел — тишь да гладь. Точно такая же тряпка на том же месте лежит!
Вытер (как все, выделяться нельзя!) свои абсолютно чистые подошвы, сделал их грязными, прошел по коридору, по следам предшественников... Целый день с рабочего места Тамаре Семеновне этой звонил, которая газовыми плитами заведует... Бесполезняк!
— Тамары Семеновны нет!
— А где же она?!
— Наверное, она каждому не обязана отчитываться!
Сразу после службы (нет уж, своего я добьюсь!) помчался в ее приемную, досидел до конца. Секретарша, вставая, говорит:
— Конечно, вы можете и после моего ухода оставаться, но через десять минут сигнализация включится, вас как взломщика заберут!
— Спасибо!
Выскочил на воздух. До ночи по городу носился — неохота в таком состоянии домой идти.
Совсем поздно, в темноте уже, подходил к парадной. И вдруг споткнулся о водопроводчика, упал. Утром еще, когда я уходил, он на этом самом месте на коленях стоял, пытался шланг починить, из которого в неправильном месте хлестала вода. Сейчас он плашмя уже лежал, но борьбу не прекращал, зубами пытался закрутить проволоку на шланге.
— Извини! — лег рядом с ним. — Может, выпьем?
Он изумленно на меня посмотрел.
— ...Воды?
— Ну почему же? Может, чего другого удастся достать?
Удалось! Прямо в подсобке водопроводчика и уснул. Проснулся от резкого ощущения какой-то беды, сел... Рука вроде как затекла — пальцы не шевелятся... Поднимаю правую руку левой — пальцы разваливаются в стороны, как увядшие лепестки, — не дотянуться пальцами до запястья, не щелкнуть ногтями по обоям!
— Давай-ка под кипяток ее! — водопроводчик испугался.
Долго держал ее под кипятком — только кожа покраснела, рука не двигается!
Выхватил руку из-под струи, тряс ее, как градусник, колол вилкой...
Безрезультатно!
Попытался хотя бы чашку с водой поднять — кисть сразу изогнулась «утиной шейкой», а чашка даже не сдвинулась! Всё!
Левой рукой вытер пот со лба, потом левой же поднял чашку, хлебнул... Вот такая теперь жизнь!
— А чего это за горе у тебя вчера было? — водопроводчик сразу же поспешил отмежеваться. — С чего это ты так?
Солнце встало... И тут же бессильно упало.
Зашел я домой, переоделся — тяжело переодеваться, когда одна рука без толку торчит... и — к тебе!
— Ну ясно теперь! — сказал Пашков. — Нерв перележал, и еще целый комплекс причин: нервное истощение, плюс алкоголь...
— Теперь будь внимательным! — сказал Пашков. — Эти люди — йоги. Делают чудеса. А на чудо вся наша с тобой надежда. Думаешь, как они переламывают кирпич? Рукой? Ничего подобного! Сгустком энергии, которая у них идет перед рукой, — энергию эту засасывают из космоса и сосредотачивают в руке... Понял, к чему клоню?
— Ну щелкни по лбу меня! — через пару часов умолял Пашков. — Ведь приятно же — по лбу щелкать?
— Ну смотри же — тысяча рублей! Одной бумажкой! Видел когда-нибудь? Схватишь — будет твоя! Ну, умоляю! — Пашков грохнулся на колени.
Я поелозил рукою по бумажке — может, прилипнет — но она не прилипала...
— Что есть прекраснее женской груди? Ну прикоснись, не бойся!
Утром мы понуро брели ко мне домой.
На кухне сидела жена и мой верный друг Никпёсов, появляющийся только в минуты несчастий.
— Это доктор Пашков! — представил я собравшимся. — Отличный, между прочим, доктор! Правда, мы с ним в канаву сейчас упали, — но это неважно!
Никпёсов сухо поклонился Пашкову. Голова Пашкова и так висела на груди. Видно, переживал: всю ночь со мной провозился, и неудачно!
— Ну ясно! — жена вздохнула. — Давно уже все плохо у тебя, а рука — это уже так... результат!
— Да у меня все нормально! А рука — пустяк.
— И что же ты думаешь теперь делать? — спросила она.
— В теледикторы думаю пойти! Им руки ведь не нужны!
— Не ерничай! — проникновенно заговорил Никпёсов. — У тебя случилась беда, и всем нам надо крепко покумекать, как из беды этой выкарабкаться! — положил руку свою на руку жены.
— Да отвали ты! — проговорил я. — Какая беда? Да выпил бы ты с мое — у тебя и не это бы отнялось!
— Ты сам прекрасно осознаешь, что все это — не случайность! — Никпёсов произнес. — Причина — в твоем общем упадке, а это — всего лишь следствие! Да, да! Ну что ты сделал за последнее время?
— «Пил — и упал со стропил!»
— Вот именно, — с мягким укором Никпёсов произнес.
— А тебе этого мало?
...Да, карьера у меня — как у знаменитого футболиста Гарринчи. Сначала соглашался играть только за миллион, потом дрогнул, согласился за миллион без копейки — и понеслось! Теперь соглашаюсь уже за стакан семечек — никто не берет!
— Может, — сказала жена, — тебе на курсы понижения квалификации пойти? Ведь ясно, что прежнюю работу ты не сможешь выполнять.
— Почему это? У меня ведь рука парализовалась, а не голова!
Жена вдруг заплакала.
— Ну что ты? — я гладил ее по голове левой рукой. — Ну чего ты хочешь, чтобы я сделал? Плиту? Будет! Ну — что еще?
— Вот! — жена вдруг разжала кулачок, в нем лежала какая-то желтая косточка.
— ...Что это?
— Зуб сломался. И подклеить нечем!
— И это сообразим!
— Тамары Семеновны нету! — сказала секретарша.
— Ну а где же она?
Секретарша игриво посмотрела на меня: какой настойчивый!
— Ладно, — вздохнув, решилась она. — Попытайтесь ей домой позвонить. Попробуйте с ней по-человечески поговорить — она ведь тоже человек!
— Ясно... — я тупо глядел на записанный секретаршей телефон. Почему он такой знакомый? Тамара Семеновна... Так это же Тамара!
Я давил и давил на звонок. Наконец щелкнула щеколда.
— Вот уж не ожидала! — проговорила она. — Думала, ты обиделся в прошлый раз!
— Глупая! Ну за что же? — правую руку на всякий случай в кармане держал.
— Ну проходи... — подумав, она посторонилась. — Только не обращай внимания — у меня там разгром. Ну, как старый друг, думаю, простишь.
Вот как! Уже и друг!
В этот раз она, в виде исключения, сказала правду: столы были сгромождены в центре комнаты, скатерти скомканы, тарелки в засохших салатах, размокших окурках, рюмки опрокинуты.
— Хорошо живете! — воскликнул я.
— Да Витька вчера повышение получил, — как бы недовольно проговорила она, — и главное, не мог уж заранее предупредить! — Она надула губки. — Ну, крутилась, как могла. В основном — салаты, салаты, салаты! — Она махнула рукой. — Еще яйца делала, — доверительно сообщила она. — Сначала хотела с икрой, но потом пришлось с рубленой селедкой. — Она с удовлетворением оглядела столы. — Ну, горячее, конечно, тоже было, но тут все уже трепались и не заметили, по-моему! В конце начальник Витькин хотел уже из моей туфельки пить — но Витька не разрешил!
Видно, я был нужен ей в качестве подружки, чтобы делиться.
— Ну хорошо, — перебил я. — Что нужно помогать тебе? Мыть? Стирать? Только вот рука не совсем... но это неважно!
— Проти-ивный! А из туфельки пить?
— Сейчас! Только желудок освобожу!
Я закрылся в уборной. Может быть, элегантно повеситься? Рано!
— А ты такой же проти-ивный, как тогда! — только я вышел, она провела мне по шее своей ручкой, я дико вскрикнул, боль перерезала горло.
Я быстро глянул в зеркало — кровь!
— Ой, прости, пожалуйста! — всполошилась она. — Это я тебя алмазиком нечаянно — тут у меня такой противный алмазик — царапается!
Ну, если алмазом — тогда ничего! Ежели алмазом — другое дело! Алмазом — всегда пожалуйста!
«Что это за шрам у тебя на горле?» — «Да это тут алмазом меня...» — «A-а. Это хорошо!»
Я пошел в ванную, набросал грязных вещей в таз.
— Серьезно собираешься стирать?
— Конечно!
— Проти-ивный! — все время крутилась рядом, самое было время ее ущипнуть — но рука не поднималась. Что-нибудь по хозяйству, чувствую, еще можно, а что-нибудь более волнительное — ни в какую! Да, понял я, дело дрянь! Если уж на такое не поднимается — это конец!
Спина ее гладко уходила вниз, внизу плавно поднималась, как Кавголовский трамплин, — даже перехватило дыхание... Не поднимается рука!
— Ну и ладно! — она обиженно повернулась и ушла.
В прихожей стала набирать номер... Мужа вызывает? Это конец!
— Бо-орька? —
заговорила она. — Ну это я! Ну — Томка, противная девчонка! Что значит — не помню? — голос ее вдруг зазвенел. — Тамара Семеновна! Вспомнил теперь?!
Даже я испуганно заметался. Королева микрорайона! Новая аристократия! Так вот какая она!
— ...Ну-у Бо-орька! — снова затянула она. — Ну я хочу лы-ытки! Ну лы-ы-ытки! Найдешь! — Она вдруг резко бросила трубку. — Бараньи лытки, видишь ли, не может найти! Он всем нам обязан! Совсем народ обнаглел! — Ее яростный взгляд уткнулся в меня. — Ты это куда?
— Должен срочно идти! — стал топать в прихожей, показывая, как именно должен идти.
— Зачем это?
— Белых крысок кормить. Завел, понимаешь, белых крысок! Беда! Если не покормишь их вовремя — скандал!
— Обождут! — начальственно уже так произнесла.
— Крыски?.. Да ты не знаешь, какие они! — слезы вдруг навернулись мне на глаза. — ...Да не только в них дело, — взял наконец себя в руки... (Ну, а в чем же еще?) — Что, если Виктор нас застанет? (Вот!)
— Ну и пусть! — губки надула. — Не будет таким противным, как вчера!
Выходит, чаровнице этой все равно: пусть мы изувечим друг друга — лишь бы не были такими противными!
Пошел на кухню — выпить чашку воды... Вот, значит, знаменитая эта плита! И за такую дрянь я собирался платить самым ценным на свете веществом? Идиот!.. Есть такая порода людей — все время внушают себе: «Ну уж поунижаюсь еще немного, пока не встану окончательно на ноги! А там перестану!» Не перестанешь! Если вставать на ноги — то только резко, иначе всю жизнь свою останешься на коленях!
Я схватил подстаканник, несколько раз с отчаянием ударил себя по голове... Был бы первый случай в криминалистике: убил себя подстаканником! Но не получилось.
Поставил подстаканник на место, решительно в комнату к ней вошел.
— Должен признаться тебе, — сказал я. — Я не бескорыстно к тебе пришел.
— А зачем? — впервые какой-то интерес у нее в глазах появился.
— ...Хотел плиту через тебя достать!
— Проти-ивный! — явно при этом оживилась. — А какая тебе нужна плита?
— Об этом хотелось бы в конторе поговорить, — неожиданно сказал.
— Ой, зачем в конторе? Ведь я же здесь!
— А мне бы хотелось в конторе! — тупо повторил.
— Ну и пожалуйста! — плечиком повела. — Только не получится там у тебя ничего!
— А это мы посмотрим!
Отомкнул дверь, выскочил на улицу.
Примчался в контору.
— Опять это вы? — секретарша говорит.
— Опять! — говорю. — И «опять» это будет, покуда... Пока не...
Сбился! Толкнул дверь — заперта!
— Я вам ясным языком говорю — Тамары Семеновны сегодня не будет... Неужели, — на жаркий шепот вдруг перешла, — вы с ней по-человечески не сумели договориться?
— Не сумел!
— Ну и ходи голодный! — совсем уже нагло мне говорит.
— Ну хорошо... — Поднял левой рукой правую руку, посмотрел — вряд ли уже когда-нибудь пригодится теперь... Размахнулся! Бабах!! ...Треск. Облако штукатурки... Поднялся я с другого уже пола — был на линолеуме, поднялся с паркета. Дверь отлетела к дальней стене.
— Вот так вот, приблизительно, — отряхиваясь, говорю.
— Ну и чего вы добились? — бледная секретарша в проеме стоит.
— Своего.
— А зачем клей хватаете? — понемногу стала в себя приходить.
— Жене зуб подклеить. Подклею — сразу же верну.
Через минуту, наверное, вбежал домой... Вся комиссия в сборе — жена, Никпёсов, Пашков.
— Вернулся? — обрадовалась жена.
— Вернулся! Но если вы думаете, что и дальше будете ездить на мне... во — фигу видали? — я показал.
— А рука-то работает у тебя! — сказала жена.
Выполняю машинописные работы
Открывать глаза не хотелось. В темноте я протянул руку к столу — нащупал письмо. Содержание его было примерно таким:
«Уважаемый товарищ! Если у вас есть совесть или хотя бы жалость — перестаньте присылать нам ваши отвратительные рассказы! У двух сотрудников нашего журнала началась после прочтения их нервная горячка, трое уволились, остальные находятся в глубочайшей депрессии. Кроме этого, напечатаны рассказы ваши на омерзительной бумаге, от чего у оставшихся сотрудников началась злостная почесуха...»
Ну — насчет бумаги — это они зря! Нормальная бумага, куплена в магазине. Насчет рассказов, может, и правильно, а вот насчет бумаги — напрасно!
Я открыл глаза.
— Вставай! — грубо проговорила жена. — И я готовлю сразу ужин — чтобы не возиться с завтраком и обедом.
Сели мы ужинать (в восемь утра!), жена уже с жалостью на меня смотрит. Если бы с ненавистью — еще бы ничего, — но что с жалостью — это тяжело.
— Может, тебе не свое печатать? — жена говорит.
— В каком смысле — «не свое»? — я встрепенулся.
— В обычном! — жена объясняет. — Как машинистка на работе у нас. Мало того, что жалованье гребет — сто двадцать рублей, еще непрерывно в рабочее время печатает для клиентов. И знаешь, сколько берет? Тридцать копеек за страницу! Десять страниц за час — трешка!
— Но ведь это же унизительно!
— Зато надежно! Давай сейчас напечатай объявление, в двадцати экземплярах: «Выполняю машинописные работы. Быстро, дешево, элегантно». Развесь на всех столбах — и пойдет дело. За день тридцать страниц отстучишь? Девять рублей! В месяц — двести семьдесят!
— Заманчиво, конечно. А своего, значит, совсем не печатать?
— А зачем?
— Вообще-то правильно, — я вздохнул. Пошел к себе в кабинет, распечатал объявление, побрел на улицу, расклеил на столбах.
Первым явился довольно-таки странный клиент: с землистым неподвижным лицом, на плече — засохшая глина. Где он глину на плечо брал, в разгаре зимы — не очень понятно. Принес рукопись в газете — килограммов на пятнадцать.
— Мне крайне срочно! — надменно так говорит.
— Ну хорошо, — говорю, — напечатаем срочно!
За неделю перепечатал его труд — тысяча листов! — о коренном переделывании климата на земле. В конце недели приходит. Глина на месте — уже это мне достаточно подозрительным показалось.
Забирает он рукопись — почему-то сваливает в огромный мешок — и расплачивается со мной старыми деньгами: большими, нежно-зелеными, с нарисованными на них танкистами в шлемах.
— Вы что? — спрашиваю его. — ...Сумасшедший?
— Да! — гордо говорит. — А что? Разве я забыл вас об этом предупредить?
— Да, — говорю. — Как-то, знаете ли, забыли! Впрочем — сумасшедшему можно простить некоторую рассеянность!
Следующий тоже довольно подозрительный тип пришел. Рукопись в газете.
— Извините, — говорю ему. — Нет ли у вас справки какой-нибудь?
Грозно посмотрел на меня:
— Какой это справки?
— Ну — что вы не являетесь сумасшедшим?
Он еще более грозно на меня посмотрел:
— А вы — не являетесь?
— Я — нет. Я машинист, я на машинке печатаю — как я могу являться при этом сумасшедшим?
— Тогда идиотских вопросов не задавайте!
— ...Ну ладно. Тогда другого рода вопрос: какими будем расплачиваться деньгами?
У него глаза вылезли из-под очков.
— Нашими! — отрубил.
— Я понимаю, что нашими. Новыми, старыми?
Он долго неподвижно смотрел на меня, потом схватил рукопись со стола, направился к выходу. Тут жена, радостно улыбаясь, бросилась наперерез:
— Не сердитесь, все будет хорошо! Это он разговаривает так странно, а печатает — залюбуешься! Оставьте вашу рукопись, не беспокойтесь. Через три дня заходите — будет готова!
На меня взгляд метнула — пошла его провожать. Тот тоже метнул на меня взгляд, удалился. Неплохое, вообще, начало!
Рукопись называлась «Неугомонный Ермилов». Герой романа, Антон Ермилов, неделями не ночевал дома, непрерывно обретаясь на разных стройках (это помимо основной своей работы — хирургом), вмешиваясь абсолютно во все, что встречалось на его пути. (Представляю, какую ненависть он должен был у всех вызывать!) Наконец, где-то к концу года он брел домой, и вдруг увидел на перекрестке «отчаявшегося человека с лицом скульптора». Ермилов пошел с ним в его мастерскую, где несколько ночей подряд помогал ваять огромную, до потолка мастерской, скульптуру рабочего. И вот работа была готова. Ермилов, пристально сощурившись, обошел фигуру, потом вдруг схватил лопату и с размаху ударил фигуру под коленки. Фигура закачалась и рухнула, куски ее раскатились по углам мастерской.
— Спасибо! — воскликнул скульптор и крепко пожал Ермилову руку.
Сделав это дельце, Ермилов направился наконец к себе домой. Дома все вздрогнули, услышав скрип открываемого замка.
— Что новенького? — бодро проговорил Ермилов.
Все молчали.
Только сын Володька скорбно кивнул на сервант, в котором тучно громоздился излишне красивый, аляповатый сервиз.
— Ясно! — выговорил Ермилов. Скулы его бешено заиграли. Он сорвал со стола аляповатую скатерть, подошел с нею к серванту и, не обращая внимания на кликушеские цеплянья жены и дочери, по-медвежьи сгреб весь сервиз в скатерть и, по-медвежьи ступая, подошел к окну и перевалил весь сервиз через подоконник. (А что, если кто там шел?) Жена и дочь некрасиво заголосили. Только сын Володька одобрительно мотнул густым чубом:
— Правильно, папка, так им и надо!
«Ершистый паренек растет! — любовно глядя на него, думал Ермилов. — Весь в меня!»
Далее они с ершистым Володькой уезжают на далекую стройку, чтобы и там, видно, не оставить камня на камне, — дальше я не печатал, решив дать себе маленький передых. Да-а, не такой уж легкий это труд! Молоко, во всяком случае, должны давать.
Тут раздался звонок — вошла роскошная дама. Такое объявление принесла:
«Утеряно колье возле стоянки такси. Просьба вернуть за приличное вознаграждение. Адрес...»
— Это я вам мигом отстучу! — радостно говорю.
(Все-таки не похождения Ермилова!) — Только давайте немножко изменим текст: «...просьба вернуть за неприличное вознаграждение»! Скорее принесут!
Тут я почувствовал страшный удар. Отлетел под стол. Вылезаю — никого нет. Да-а-а, — вот как она поощряется, добросовестность в работе!
Помазал лицо кремом «После битья», потом пинками загнал себя за стол, с отвращением, еле касаясь клавиш, перепечатал «Ермилова».
На третий день хозяин пришел. Стал смотреть.
— Вот тут исправь! — запросто так, уже на «ты». — У меня написано: «Увидев Антона, Алла зарделась...»
— А у меня как? — с любопытством заглянул.
— А у тебя напечатано: «Увидев Антона, Алла разделась». Полная чушь!
— Ну почему же — полная?
— И вот здесь у тебя, — пальцем ткнул. — Напечатано «прожорливый».
— А у тебя как? — в рукопись его заглянул.
— У меня — «прозорливый»!
— Но у меня же лучше!
— Быстренько перепечатай.
— Знаете... пожалуй, не перепечатаю!
— Перепечатаешь как миленький!
— Почему это?
— Почему? — усмехнувшись, посмотрел на меня, потом расстегнул вдруг пальто, высунул из него кончик колбасы. — ...Ну как?
— Потрясен, конечно. Но перепечатывать не буду.
— Не будешь, говоришь? — стал, смачно откусывая, жевать колбасу. — Не будешь, значит?
Жена пришла.
— Чего это тут чесноком запахло? — Увидела гостя: — А-а-а, это вы! Чего это вы тут делаете?
— Да вот, — он усмехнулся. — Ваш так называемый супруг строптивость демонстрирует — при этом о семье своей не думает! — он положил колбасу на край стола.
— Сейчас как дам в лоб! — в ярости проговорил я.
— Ах вот как уже заговорил?
— Да примерно что так!
— Ну, пожалеешь об этом!
Неплохое, вообще, начало!
Ушел он, якобы в трансе. Но колбасу забрал. Потом долго еще — я из окна смотрел — шатался от столба к столбу, объявления мои срывал. Вот за это спасибо ему!
Искушение
Приведя свою тетю в восторг,
Он приехал серьезным, усталым.
Он заснул головой на восток
И неправильно бредил уставом.
Утром встал — и к буфету, не глядя,
Удивились и тетя, и дядя:
«Что быть может страшней
Для нахимовца —
Утром встать и на водку накинуться!»
Вот бы видел его командир!
Он зигзагами в лес уходил.
Он искал недомолвок, потерь.
Он устал от кратчайших путей.
Он кружил, он стоял у реки,
А на клеши с обоих боков
Синеватые лезли жуки
И враги синеватых жуков.
Да-а-а, — дослушав, проговорил редактор. — Не лезет ни в какие ворота! Ну ладно уж, попробуем поставить ваш стих на девяносто седьмой год, — может, к тому времени вкусы изменятся?
— Но сейчас же только восемьдесят четвертый!
— И то это большая удача, — ответил редактор. — Всех новых поэтов ставим на девяносто девятый, только для вас с огромным трудом удалось выхлопотать девяносто седьмой!
— Но это же... через тринадцать лет!
— Ничего, они быстро пройдут! — утешил редактор.
— Но как же я буду жить эти годы?
— Придумайте что-нибудь, — сказал он. — На одну поэзию трудно прожить — это верно.
— Ладно, что-нибудь придумаю, — проговорил я. — До свидания.
— Стихотворение-то оставьте! — засмеялся редактор. — Ничего, не успеете оглянуться, как девяносто седьмой год подойдет!
«Ну да — не успею оглянуться, как и жизнь пройдет!» — подумал я.
Прямо от редактора я направился к другу Дзыне — он разбирается, что к чему, все нити жизни держит в руках.
— Что делать, старик?
— Спокойно! — сказал Дзыня. — У тебя способность — в рифму говорить! Один человек из сотни, наверно, такой способностью обладает — да ты как сыр в масле будешь, буквально нарасхват! Кстати — на кондитерской фабрике бывал когда-нибудь?
— Нет, но охотно схожу! А что там?
— Крутые дела там завариваются, старик! — в упоении Дзыня заговорил. — Новые люди там к власти пришли. Раньше там старики заправляли — я имею в виду, в отделе печатных пряников, поэтому и надписи на них допотопные были: «Не возжелай жену ближнего», «Семеро одного не ждут» — подобная рухлядь. А теперь новые люди туда пришли, нашенские ребята, хотят, естественно, новое содержание туда вдуть — им такие раскованные чуваки, вроде тебя, вот как нужны! — Дзыня, запереживав, сам перешел на раскованный стиль. — А какой там тираж — знаешь? Другим и не снилось!
— Ну, отлично! — обрадовался я. — Выражу себя в пряниках! Отлично! И сколько слов на прянике должно быть?
— Ну ясно, что не сто! — Дзыня говорит. — Слова четыре, максимум пять. Словам тесно, мыслям просторно, старик!
— Все! — торопливо одеваться стал. — Тяжелый, изматывающий труд!
Домой как на крыльях прилетел.
— Все! — жене говорю. — Скоро деньги лопатой будем грести! Готовься!
— Да я уже давно готова! — жена говорит.
Четким шагом прошел я в свой кабинет, уселся. Часов, наверное, десять непрерывно сидел — одно только странное двустишие сочинил:
«Да — значит, я червяк пустой, червяк с проломленной башкой!»
...Вряд ли это для пряников подходит! Какие-то непечатные получаются пряники! Вряд ли миллионам читателей пряников будет про меня интересно читать! Зря я бодрился — явно обречено это было на провал!
Снова к Дзыне поплелся.
— Ну ничего! — Дзыня говорит (настоящий друг!). — Первый блин комом! Другое попробуем! — Вдруг вытащил из шкафа резиновые голубые бахилы на гофрированной подошве. — Вот! — с гордостью поставил. — Это тебе!
— Откуда? — изумился я.
— Аванс! — проговорил Дзыня. — От нашей обувной промышленности тебе!
— И что же она хочет? — я спросил.
— Ничего! — радостно Дзыня ответил. — Не стесняют тебя! Понимают — хоть и обувщики, — что настоящий художник по принуждению не может работать. Говорят: «...если хоть как-то вскользь про обувь упомянет — мы уже будем считать, что не зря аванс этот выдали ему!» Гляди, что за вещь! — Дзыня расстегнул молнию на бахилах и стал вынимать одну за одной, как матрешек, разную обувь: в резиновых были вставлены кожаные зимние на меху, в элегантных кожаных зимних прятались черные лакиши, в них были вставлены замшевые домашние. — Понял теперь? — Дзыня говорит. — Можно по отдельности носить, а можно вместе всё, одно в другом, — так богаче. Кажется, в поэзии тоже такой прием есть — шкатулка в шкатулке? — Дзыня деликатно разговор перевел с грубо-материальной темы на более изысканную.
— Есть, кажется, — пробормотал я, не в силах оторвать глаз от «аванса». — Но давай, я сначала одну возьму, а потом уже, если стоящее что-нибудь о ней напишу, — возьму вторую.
— Не надо меньшиться! — Дзыня царственным жестом придвинул мне все. — Там тоже люди сидят, всё понимают. Даже если и пропадет эта пара у них, как-нибудь не обедняют, — там знаешь какой размах! Но только ты уж сам, если совесть у тебя, постараться должен...
— Понимаю! — я отрывисто кивнул. Слезы душили меня. — Значит — верят!
Домой эту роскошь в руках нес: пока доверия не оправдал, марать не стоит. Закрылся в кабинете, поставил «аванс» перед глазами, стал сочинять.
«Обувь ты, обувь ты, обувь ты женская!» — писал я. Слезы струились по щекам. Потом я слегка протрезвел, заработала мысль.
Странно — а почему женская? Передо мной ведь стоит мужская? И потом, какая-то тональность не та: реклама ведь должна бодрое чувство вызывать, а тут слезы душат и автора и читателя. Может быть: «Обувь ты, обувь ты, обувь ты детская»? Еще хуже. Что же это за обувь такую наши дети вынуждены носить, про которую в таком плачевном тоне говорится?
Да, видно, не получится ничего у меня. До ночи просидел — ничего. Всю ночь ощущение гибели преследовало меня. Писал, чтобы в отчаяние не впасть: «Я тертый калач, я тертый калач...»
Утром вышел на кухню, собрал, брякая, бутылки в рюкзак, пошел сдавать — может, хоть это получится?
Действительно, думаю, зачем этот алкоголь? Сдам посуду сейчас, куплю килограшек гороху — отлично проживем до девяносто седьмого!
Но не получилось. Приемный пункт был закрыт на огромный замок — правда, оба приемщика здесь оказались: катались среди разваленных ящиков, дрались. Одновременно подняли окровавленные лица:
— У нас выходной!
— Я вижу.
Потом просто уже так, исключительно для справки, зашел в гастроном, в винный отдел. Ну и толковище, ну и бой там идет!
Конечно, понял вдруг я, держаться нелегко, но и опускаться ведь — вон как тяжело! Вон сколько энергии требуется для этого!
Уж лучше я пойду Дзыне позвоню!
Дзыня отрывисто говорит:
— Приезжай!
Почему-то в этот день у него мрачное настроение было. Сказал:
— Видно, ты вообще к этому не способен!
— К чему?
— К зарабатыванию денег. Знаешь, такой фильм был — «Не для денег родившийся». Еще молодой Маяковский там играл. Так вот — это про тебя!
— Ну почему же?! — говорю. — Просто тема обуви мне не близка! Другое что-нибудь дай, увидишь: клочья полетят!
— Да-а-а, — Дзыня на меня посмотрел. — Ведь полный завал в жизни у тебя, а оптимизм буквально тебя душит! А у меня в порядке все — а мне грустно!
— Потому оптимизм меня и душит, что полный завал. Причина твоего пессимизма — в полном твоем благополучии, причина моего оптимизма — в полном моем провале. Просто — другого выхода нет. Ну — спытай еще раз меня, прошу!
Гримаса тут лицо Дзыни исказила — ну ясно, неохота ему взваливать новую обузу.
— Ладно — пойдем, что ли, чаю попьем! — Дзыня вздохнул.
Вскипятили мы чай, по стаканам разлили.
— Да не звени ты ложечкой так! — в полной уже ярости Дзыня закричал. — Всю душу уже вызвенил — сил нет.
— Ну хорошо, — я сказал. — В следующий раз буду газетой чай размешивать, чтобы не звенеть!
Попили мы чаю, в молчании, складки на лице Дзыни разгладились немного.
— Ну ладно! — говорит. — Попробуем еще! Тут в театре Музыкальной Комедии работенка светит!
— Оперетта «Подзатыльники при свечах»? — спрашиваю.
— Выше бери!
— Куда же выше!
— Эх, масштаба нет у тебя! — Дзыня вдруг на шепот перешел. — ...Мюзикл «Анна Каренина» — ясное дело, в стихах! Не ожидал?
— Честно говоря, не ожидал! — я забормотал. — Ну — если бы я был вровень с Толстым, или по пояс хотя бы... Да и честно говоря, не нравится мне этот роман!
— Да ты что — вообще уже? — Дзыня заорал. — Болт за мясо не считаешь? Обнаглел? «Анна Каренина» не нравится ему! Да понимаешь ли ты, что если я сейчас поэту Двушайкину позвоню — он через полчаса уже полную подтекстовку принесет, а через час деньги уже получит — четырнадцать тысяч. А ведь он не чета тебе — три жены, четыре дачи, машина, и то не осмелится сказать, что «Анна Каренина» не нравится ему! На пустом месте гонор у тебя!
— Ну и пусть!
Разругались, разошлись. Ночью уже Дзыня мне позвонил:
— Извини, вспылил! Ладно — есть еще один вариант. Из медицинского журнала «Нёбо» звонили дружки — подписи им под антиалкогольным плакатом нужны. Справишься? Уж эта-то тема, надеюсь, тебе близка? — Дзыня улыбнулся.
— Ну спасибо тебе! — я Дзыне сказал.
Через час, приблизительно, из мглы небытия появился текст: «Нил чинил точило, но ничего у Нила не получилось. Нил налил чернил. Нил пил чернила и мрачнел. Из чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил. Пчелу пучило. Вечерело».
Перечел текст — и отпрыгнул в ужасе от стола, в угол забился. Потом в испуге в зеркало заглянул: голова нормальной вроде бы формы, как и у всех — откуда же в ней такие зловещие образы берутся?
Дзыне позвонил — в полпервого ночи уже:
— Хочу приехать!
— Вот, — Дзыне текст протянул. — Надо, видимо, с этим кончать — уже сам себе какими-то ужасными сторонами открылся, словно чадом каким-то из преисподней повеяло.
— Да-а-а! — Дзыня прочел мой текст, долго молчал. — Действительно: бог оградил тебя от всякой халтуры.
— Чем же это? — польщенно я уже поинтересовался.
— Полной твоей безмозглостью!! — Дзыня заорал.
— Ну спасибо тебе! — Я вынул бахилы из мешка. — Вот — всё в полной ценности и сохранности: в резиновых бахилах элегантные кожаные на меху, в кожаных зимних черные лакиши, в лакишах — замшевые домашние. Получи!
— Да-а, — Дзыня со вздохом говорит. — Честно теперь скажу: никакая обувная промышленность не обращалась к тебе, я сам тебе эту обувку дал, надеялся хоть так к реальной жизни тебя привлечь!
— Да так я и понял, — я вздохнул.
Тяжело было домой идти! Что жене с дочкой сказать? Не способен ни на что?
К художнику Чёртушкину забрел на чердак — увидел, что он работает еще, свет горит.
Захожу — среди пустого чердака стоит перед мольбертом.
— Ну как жизнь? — Чёртушкина спрашиваю.
— Не видишь разве? — на картину кивнул. — А у тебя как?
— Плохо! — стал жаловаться ему. — Совершенно концы с концами не свести!
— А разве их надо сводить? — удивленно Чёртушкин говорит. — Впервые слышу!
— А не надо? — я обрадовался.
— Конечно, нет! Дело надо делать, а не концы какие-то сводить!
— Правильно! — говорю.
Перед уходом моим мне Чёртушкин говорит:
— Возьми изоляционную ленту с мольберта — приклей меня на ночь к стене.
— Зачем это? — я испугался.
— Да сплю я так.
К ночи похолодало, потом потеплело, потом снова похолодало — на тротуарах такие каточки образовались, метра по полтора. Скользил я по ним, и вдруг вспомнил: «Да, значит, я червяк пустой, червяк с проломленной башкой!» Что-то тут есть... Но что там, интересно, дальше?
Домой радостный вбежал. Жена увидела:
— Деньги получил?
— Как тебе такое в голову могло прийти?!
До утра сидел. Утром вдруг Дзыня пришел — сам уже:
— Радуйся! — говорит. — Все думал про тебя и в конце концов такую работу тебе нашел, на которой практически не нужен мозг.
— Какую же это? — от стиха оторвался.
— А? — Дзыня гордо огляделся. — Редактором кладбища! Не ожидал? А то на памятниках там пишут что попало — ни в какие ворота не лезет!
— А смерть разве лезет в какие-то ворота? — спросил я.
— Что ты хочешь этим сказать? — Дзыня не понял.
— Пусть пишут, что хотят, — сказал я.
Шаг в сторону
Когда дела твои заходят в тупик, умей сделать шаг в сторону и почувствовать, что жизнь — безгранична!
Вот — этот случайный дворик, в который я наобум свернул с тротуара — мгновение назад его не было, и вот он есть. Нагретые кирпичи. Фиолетовые цветы. Шлак.
Выйдя из-под холодной, вызывающей озноб арки в горячий двор, я постоял, согреваясь, потом пошел к обшарпанной двери, растянул ржавую пружину. Снова сделалось сыро — я поднимался по узкой лестнице со стертыми вниз светло-серыми ступенями.
У двери на третьем этаже из стены торчала как бы ручка шпаги с буквами на меди: «Прошу повернуть!» Я исполнил просьбу — в глубине квартиры послышалось дребезжанье.
Хозяин, с маленькой лысой головкой, в спортивном трикотажном костюме, открыл, отвернувшись.
— Водопроводчик! — неожиданно для себя сказал я.
И пошел за хозяином. Большая светлая комната была скупо обставлена — только по стенам. На пыльном столике у окна стоял аквариум, затянутый ряской. В мутной зеленоватой воде толчками плавали полурыбки-полуикринки: крохотная стекловидная головка, прозрачный хвостик и животик — темная икринка.
Хозяин пошел по комнате ножками в маленьких кедах.
— ...Вот, Саня! — обращаясь к гостю, скромно сидевшему на пыльном диване, продолжил он. — Уезжаю, значит. Преподавателем... Спортлагерь «Лесная сказка». Само название, я думаю, уже достаточно за себя говорит!
Он вышел в коридор, потом вернулся.
— Ванна там! — показал он мне.
— Ничего, ничего, не беспокойтесь! — ответил я.
Хозяин удивленно посмотрел на меня.
— Ты что, Коля, корюшки намариновал? — проговорил гость с дивана. — Дай рубануть!
Коля повернул к нему светлую лысеющую головку.
— Для тебя, Саня, все, что угодно! — сказал он, особо отчеканивая «для тебя».
С серой ложкой и блюдцем он подошел к высокой стеклянной банке у стены, поднял крышку, снял желтоватую засохшую марлю и, присев боком, скрипя ложкой изнутри по боку банки с радужным отливом, осторожно поднимал и складывал в блюдце белесых ломающихся рыбок. Потом круговым роскошным движением обсыпал все добытой из маринада морковью и, пристукнув, поставил блюдце перед другом на столик.
— ...А мне можно? — проговорил я.
Коля, скрипнув зубами, достал из серванта второе блюдце, уже более резкими движениями наполнил его и, поставив рядом со мной на стул, вышел.
Не было ничего нелепей этого сидения над десятью переломанными рыбками, тем не менее я не мог сдвинуться, пошевелиться, чтобы не спугнуть давно забытое и вдруг снова пришедшее ощущение удивительной тайны и полноты жизни. За высокой балконной дверью громоздилась крыша дома напротив со стеклянной башенкой наверху — внутри нее сидела женщина и, склонившись, шила. Прямоугольники света на паркете то наливались светом, то тускнели.
— ...Поехали с Пекой, — заговорил хозяин, неожиданно появляясь. — С одним корешем сговорились, живет на Понтонной: «Пожалуйста, говорит, приезжайте, ловите — мне эта корюшка — во!» — Николай провел по горлу маленькой крепкой ладошкой. — ...Взяли у него сачок, вышли на мостки. Зачерпнешь — штук десять-двенадцать бьется. За полчаса нафугачили два рюкзака... — Коля торопливо вышел и снова вошел. — ...Говорю: «На всякий пожарный через кладбище пойдем — белая ночь!» — «Да ну-у!» — говорит. Ну, ты Пеку знаешь! Вышли на шоссе — с ходу милиция. «Откуда корюшка?» — «Купили!» — «Ладно, — говорят. — Идите, и чтобы вас с вашей корюшкой мы больше не видели!» Сначала к Пеке зашли. Ленка спит. Пека говорит: «Жена! Я принес много рыбы!» — Коля вздохнул. — ...А рыжая моя приехала в «Лесную сказку» — у нас воскресник был, по уборке территории: «Где был прошлой ночью?» ...Вот так вот! ...Лесная сказка! — задумчиво проговорил он и вышел. — ...Что-то Пеки нет — должен уже прийти! — через секунду возвращаясь, проговорил он. И быстро вышел, впервые за все время понятно зачем — вымыть блюдца.
Все в комнате: раскладное кресло, диван — было по-дачному пыльно, то есть — как бывает пыльно, когда хозяева на даче, хотя здесь хозяин комнаты только что собирался уезжать.
Поставив относительно вымытые блюдца в сервант, Коля глянул на вытянутые ромбом часы, вздохнув, подсел под огромный рюкзак, зацепил лямки, привычно напрягся, медленно поднялся. Посмотрел на меня — и я торопливо вскочил со стула.
На площадке Коля подергал дверь лифта и пружинисто побежал вниз ножками в маленьких кедах.
— Ну... — сказал Коля, подходя к мотоциклу и надевая шлем. — Приезжай, Саня! Грибы, рыбалка!
Я отцепил от заднего сиденья второй шлем, застегнул его у себя на подбородке, уселся. Коля изумленно и долго смотрел на меня — но я не реагировал, неподвижно уставясь перед собой в одну точку. Я твердо решил Колю не упускать. Саня и Коля обменялись недоуменными взглядами. Саня пожал плечом.
Я сидел неподвижно и только до боли в позвоночнике резко отклонился, когда мотоцикл рванул с места.
Мы вылетели на шоссе, и здесь, на просторе, Колина злость вроде бы рассеялась. Несколько раз он даже оборачивался, что-то кричал — видимо, представляя на заднем сиденье верного Пеку, но слова его рвало, уносило, разобрать ничего было невозможно. Иногда я тоже открывал рот, но сразу же наполнялся упругим, тугим воздухом.
Потом мы свернули, стало тихо, безветренно, и наши сложные, непонятные отношения возвратились.
...Я проснулся почему-то на террасе, на втором этаже. Солнце висело уже низко, через открытую форточку грело лицо. Внизу по травянистому двору ходил Коля, с ним какой-то человек в галифе. Приседая, разводя маленькие ручонки, Коля что-то рассказывал. Потом донесся их смех — удивительно тихо.
Я спустился по глухой деревянной лестнице с затхлым запахом, вышел на воздух, начинающий холодеть. Калитка скрипнула еле слышно — после гонки на ветру уши еще не откупорились.
Сразу же за оградой начиналась гарь: черные торчащие палки, пятна сгоревшего мха, зола. В углу кармана, где крошки, я нащупал кончиками пальцев несколько семечек, на ходу машинально их грыз. Одна семечка оказалась горелой, я вздрогнул, почувствовав гарь и внутри себя.
Потом я вышел в поселок. Уже стемнело. Низко пролетел голубь, скрипя перьями. По булыжной улице шли солдаты, высекая подковками огонь, похожий на вспышки сигарет в их руках.
Ночевал я на пристани, вдыхая бесконечный темный простор перед собой.
Утром я плыл куда-то на пароходе, наполненном людьми. Сначала он шел недалеко от берега, потом свернул на глубину. Сразу подул ветер, задирая листья кувшинок светлой стороной, ставя их вертикально в рябой воде.
День приезда
Ночь в поезде я не спал. Когда вагон, заскрипев, остановился в Бологом, я слез с полки, вышел в коридор, потом на площадку. Платформа была тускло освещена фиолетовым светом. Проводник, зевая, стоял у вагона. Потом сделал шаг, двумя пальцами выдернул из урны бутылку и поставил на площадку.
Вторую часть ночи я маялся на откидном стульчике в коридоре. Медленно светало, в кустах стоял мокрый туман. Туман был и в городе, пока я ехал на троллейбусе до дому.
Когда отсутствуешь даже недолго, обязательно кажется, будто что-то без тебя произошло — причем что-то явно нехорошее!
Еще из троллейбуса я пытался рассмотреть свои окна: занавески вроде на месте — но это еще ни о чем не говорит. Я выскочил на тротуар, подошел к дому. Для скорости хотелось запрыгнуть в окно (первый этаж!), но, сдерживая себя, я неторопливо вошел в парадную, вставил ключ, со скрежетом повернул. Запах в квартире прежний — это уже хорошо. Пахнет паленым — перед уходом гладили, значит, ничего трагического не произошло. Еще — запах едкой вьетнамской мази: значит, дочка снова в соплях, но в школу все-таки пошла — молодец! — хоть и не знала, что я сегодня приеду.
Можно слегка расслабиться, неторопливо раздеваться, оставляя вещи на стульях... Я зашел в туалет, потом на кухню.
Жена и дочь молча и неподвижно сидели на табуретах. Сколько же они так просидели, не шелохнувшись?! — Вы... чего это?! — наконец выговорил я.
— ...Ты? — произнесла жена. Лицо ее медленно принимало нормальный цвет.
— А вы кого ждали? — спросил я.
— Мы?.. Да кого угодно! — сказала жена, переглянувшись с дочкой.
— Как это? — проговорил я, опускаясь на табурет. — Да очень просто! — уже по обычаю весело сказала жена. — Свой ключ эта балда где-то потеряла, мой ключ я оставила ей в ящике на лестнице — и этот пропал! Сосед нам открыл.
— Ну и как бы вы ушли сейчас без ключей? — вздохнул я. — А если бы я не приехал?
— Но ты же приехал! — радостно произнесла жена.
Поразительное легкомыслие! Сам же его в ней воспитал когда-то — и сам теперь на этом горю!
— Ну а куда же делся ключ из ящика? — спросил я.
— Наверное, кто-то спер! — жена махнула рукой.
— Что значит спер? — тупо проговорил я.
Жена пожала плечом.
— ...Ну, как жизнь?! — неестественно бодро повернулся я к дочери.
— Нормально! — почему-то обиженно проговорила она.
— Ну вспомни... куда ты дела свой ключ?
— Папа, ну откуда я знаю? — трагическим басом произнесла она, с грохотом отодвинула табурет, ушла к себе, стала там с дребезжанием передвигать стулья.
Замечательно! Все, значит, как и раньше: полная невозможность узреть хотя бы краешек истины! Или вымыслы, или тайны, охраняемые басовитыми воплями, оскорбленным таращеньем глаз. Никакого сдвига!
А я-то уезжал в непонятной надежде... Ну что же — начнем все сначала!
Я ушел в свой кабинет, разложил бумаги, долго тупо глядел на них... Но куда же мог деться ключ? Ящик у нас не запирается — но не мог же ключ выскочить сам? Значит?.. Я снова пошел на кухню.
— А как ты опустила в ящик ключ, — спросил жену, — в голом виде или в конверте каком-нибудь?
— Нормально опустила! — морщась, она пробовала из ложки горячий бульон. — В бумажку завернула и бросила, думала — в бумажке ей легче будет взять.
— А кто-нибудь мог видеть — или слышать, — как ты опускала его?
— Да нет... Вроде бы никто. Дворничиха лестницу мыла, но вроде бы не видела.
— Ясно! — я ушел в комнату, стал переставлять рюмки в серванте — опять они неправильно расставили их!
Да нет, вряд ли тут вмешались какие-то тайные силы — откуда им взяться в нашем скучном дворе? Не хватает еще начать представлять руку в черной перчатке, лезущую в ящик, — до таких штампов я еще не дошел! Уж лучше пускай ограбят, чем опускаться на такой уровень сознания! При всей своей фантазии не могу представить образ грабителя... одежду... лицо... что-то нереальное!
...И как мог он узнать, что именно в этот день жена положила ключ именно в ящик? Полная ерунда! Наверняка — дочь вынула ключ, пошла по обычаю шататься и потеряла ключ из ящика, как и свой, — а теперь выкручивается, неумело как всегда, оставляя в сознании ближних и возможность ограбления и возможность обмана.
Я снова пошел на кухню:
— Может, врежем новый замок?
— А! — сдувая волосы со лба, сказала жена. — Не будет ничего!
— Пр-равильно! — я поцеловал ее в ухо.
Замечательное легкомыслие!
— Ну вспомни, на всякий случай, — проговорил я. — Ты точно ключ в ящик опустила?
— Так, — она посмотрела на меня. — Совсем уже? Ни о чем более серьезном не можешь поговорить?
— Я ничего, ничего! — забормотал я.
Из комнаты дочери раздался надсадный кашель: всегда она простужается в это время года, а батареи, как назло, ледяные — давно уже пора топить, но не топят.
— Какой-то вентиль там сломался у них! — увидев, что я взялся за батарею, сказала жена. — Обещали к сегодняшнему дню починить — а пока газом согреваемся! — она кивнула на четыре синих гудящих цветка над плитой.
— Ну все, я пошла! — простуженным басом проговорила дочь в прихожей. Мы вышли к ней.
— Нормально оделась-то хоть? — оглядела ее жена. — ...Ты когда вернешься сегодня? — повернулась она ко мне.
— Часов, видимо, в десять, — помолчав для солидности, ответил я.
— Значит — видимо или невидимо, но в десять будешь?
— Да, — я кивнул.
— А как же мы попадем в квартиру? — спросила жена.
— Так! — я разозлился. — Значит, я теперь, как Иванушка-дурачок, должен неотлучно находиться у двери?
— А ты ей ключ отдай! — жена кивнула на дочь.
— Да? Чтобы эта балда потеряла последний ключ?
— Папа! — простуженным басом проговорила дочурка.
— Ну хорошо, хорошо! — сдавшись, я протянул ей ключ. — Только не шляйся нигде — без тебя мы домой не попадем!
— Хорошо! — отрывисто проговорила дочь и, положив ключ в сумку, ушла. Мы слушали ее затихающий кашель.
— Ну и п! — вздохнула жена, глядя в окно.
Действительно, с небес надвигалось что-то невообразимое.
— Но теперь-то когда ты придешь?
— Теперь-то, когда я уже не прикован к двери, как каторжник, точность в секундах уже необязательна? Нормально приду!
Я пошел обуваться. Холод был такой, что замерзшие пальцы в носках громко скрипели друг о друга, почти что пели!
Потом я стоял в парадной, пережидая начавшийся вдруг град — горизонтальные белые линии штриховали тьму, горох стрекотал по люкам, машинам. Действительно — ну и «п»!
Весь день я был прикован мыслями к двери, и когда мчался домой, смотрел из автобуса — все окна в доме уже светились, кроме наших!
Я вбежал в парадную: жена с переполненной сеткой сидела на площадке.
— Та-ак! — проговорил я. — Неужели даже тогда, когда у нее единственный ключ, она не может вернуться вовремя? Ну что же это за дочь?!
Жена только тяжко вздохнула.
Жильцы, проходя мимо нас, подозрительно косились. Дочка явилась где-то возле семи — встрепанная, распаренная.
— Так. И в чем же дело? — строго проговорил я. — А где сумка твоя?
— Автобус увез!
— Как?!
— Обыкновенно. Зажал дверьми, когда вылезала, и увез. Поехала на кольцо — там никто ничего не знает! — дочка заморгала.
— Ясно!.. И ключ, разумеется, в сумке?
Дочка кивнула.
Я сел в автобус. Он долго ехал среди глухих заводских стен. Представляю, какое у дочери было настроение, когда она здесь ехала, без сумки и без ключа!
В желтой будке на кольце я долго базарил — мне всё пытались объяснить, что кто-то ушел, а без этого кого-то ничего не возможно, — наконец я ворвался в заднее помещение и схватил с полки заляпанную грязью дочуркину сумку. Давно я не был таким счастливым, как на обратном пути! Кашель дочки я услышал еще с улицы.
— Совсем она расклеилась! — вздохнула жена.
— Надо в аптеку сходить! — басом проговорила дочь.
В дверях аптеки стоял какой-то Геркулес, довольно-таки неуместный в таком учреждении, как аптека, и вышибал всех желающих войти, хотя до закрытия было еще двадцать минут. Я поднял на него урну, он отскочил.
— Извини, дорогой! — сказал я ему, выбегая из аптеки.
Потом я сидел до двух ночи перед горящими конфорками, не решаясь уйти, время от времени прикасаясь к батареям — когда же кончится этот холод! В два часа в батареях забулькало, они стали наливаться теплом. Я радостно погасил конфорки и пошел спать.
Жена спала раскидавшись, и вдруг тело ее напряглось, кулачки сжались — видно, обиды дня достали ее во сне.
Вдруг сердце мое прыгнуло... Что такое?! Я прислушался... Тихий скрип!.. Кто-то открывал наш замок! Я бесшумно вышел в прихожую — точно: язычок медленно выходил из прорези!
Что делать, а? Хватать молоток? Неужели я встречусь сейчас лицом к лицу с чистым злом?
В испуге я распахнул дверь в туалет, стукнул по рычагу. Загрохотал водопад. Скрип тут же прервался, язычок вернулся. Ах — не любишь?!
Я вытер пот. После долгой тишины скрип возобновился. Я стал хлопать дверцей холодильника, снова стукнул по рычагу. Вся техника в ход!
Прошелестели быстрые, прилипающие к линолеуму шаги.
— Ты чего тут? — спросила жена.
— Живот! — довольно злобно ответил я.
— Все Шалатыеву свою не можешь забыть? — усмехнулась она.
Я возмущенно вскочил. Жена ушла в кухню, потрясла грохочущий коробок, чиркнула спичкой. Долго сидела там, потом, брякнув крышкой ведра, ушла.
И снова послышался скрип! Идиот! Что он, не слышит ничего? Послышался душераздирающий кашель дочери. И снова скрип!
Я подскочил к двери, распахнул ее, успел услышать шаги, умолкнувшие внизу.
— Слушай — отстань, а?! — на всю лестницу заорал я. — Без тебя голова разламывается, честное слово!
Я выдернул из замка оставленный ключ, захлопнул дверь и, больше не задерживаясь, пошел спать. Хватит на сегодня!
Рано утром я пошел умываться и вздрогнул: какая вдруг холодная сделалась вода!
Я выглянул в кухню — за окном лежал розовый снег! Я стоял, тихо ликуя, и вдруг руки в черных перчатках легли на подоконник. Я застыл. Мгновение руки были неподвижны, потом двинулись друг к другу, слепили крепкий снежок и скрылись за краем.
В кухню вошла, позевывая, жена с будильником в руке. Из будильника тихо вытекали остатки звона.
Излишняя виртуозность
Вдобавок ко всем неприятностям, — купил еще портфель с запахом! Сначала, когда покупал его, нормальный был запах. Потом походил два дня по жаре — все! — пахнет уже, как дохлая лошадь.
В магазин пришел, где его брал. Говорят: — Ничего страшного. Это бывает. Кожа плохо обработана, — портится.
— Ну и что? — спрашиваю.
— Не знаем, — говорят. — Лучше всего, думаем, в холоде держать.
— ...Портфель?
— Портфель!
— Все ясно. А деньги вернуть не можете?
— Нет. Не можем.
— Ну, ясно. Огромное вам спасибо.
Пришел на совещание в кабинет к научному руководителю своему, с ходу открыл его холодильник, поставил туда мой портфель.
Тот спрашивает (обомлел от такой наглости!):
— У вас там продукты?
— Почему же продукты! — говорю. — Бумаги!
Долго так смотрел на меня, недоуменно, потом — головой потряс:
— Ну что ж, — говорит. — Начнем совещание.
Пришел я после этого домой, на кухню пошел. Сгрыз там луковку, как Буратино.
...Буратино съел Чипполино...
Главное, — как в аспирантуру поступил, — денег значительно меньше стало почему-то!
Жена выходит на кухню, спрашивает:
— Какие у тебя планы на завтра?
— Побриться, — говорю, — постричься, сфотографироваться и удавиться!
О, о! Заморгала уже!
— А белье, — говорит, — кто в прачечную сдаст?
— Никто!
Потом, вздыхая, ушла она, а я все про случай на совещании думал. Теперь точно уже руководитель мой будет за ненормального меня держать. Требовать будет, чтобы я в кабинет к нему как маленький самолетик влетал — раскинув широко ручонки и громко жужжа!
Жена заснула уже, а я все на кухне сидел. Разглядывал календарь польский большой, с портретами знаменитостей, которые в этом месяце родились: Булгаков... Элла Фитцжеральд... Буратино. Меня почему-то нет, хотя я тоже в этом месяце родился!
Ну, аспирантура — это еще что! Гораздо печальнее у меня со стихами получилось.
Написал неожиданно несколько стихов, послал их в один журнал. Напечатали. Потом даже в Дне
Поэзии участвовал, — выступал в парке культуры с пятью такими же поэтами, как я.
Сначала — вообще пустые скамейки были, потом забрели от жары две старушки в платочках. Поэты, друг друга от микрофона оттаскивая, стали на старушек испуганных стихи свои кричать. Старушки совершенно ошеломленные сидели, потом побежали вдруг, платки поправляя.
До сих пор без ужаса вспомнить тот момент не могу.
Все! Хватит!
Пора кончать!
Из кожи вон вылезу, а своего добьюсь (а может, и чужого добьюсь).
Часов примерно в пять утра бужу жену:
— Все! Вставай и убирайся!
Она испуганно:
— Из дома?!
— Нет. В доме!
Потом вдруг звонки пошли в дверь — ворвался мой друг Дзыня — давно не виделись, радостно обнялись:
— Это ты, что ли? Надо же, какой уродливый стал!
— А ты-то какой уродливый!
— А ты-то какой некрасивый!
— А я зато был красивый.
Засмеялись.
Отец Дзыни, вообще, довольно известный дирижер был. Дирижировал всю дорогу, жили они неплохо: породистая собака, рояль. Теперь уже, конечно, не то. Серебро продали. Бисер уронили в кашу. Рояль разбит. Собака умирает. Минор.
Правда, Дзыня сам дирижирует теперь, — но пока без особого успеха.
Сели на кухне, я быстро перед ним, как на молнии, всю душу открыл. Дзыня говорит:
— Ты неверно все делаешь! Стихи надо по заказу писать, к случаю, тогда и деньги и известность — все будет!
— А думаешь, удастся мне: стихи сочетать и научную деятельность?
— Уда-астся! — Дзыня говорит.
— А давай, — говорю, — я буду писать стихи, а ты будешь их пробивать. А считаться будет, что мы вместе их пишем.
Дзыня подумал одну секунду:
— Давай!
— Только ты все же, — говорю, — серьезной музыкой занимаешься, я — наукой. А для стихов, мне кажется, нам псевдонимы придумать надо.
Долго думали, напряженно, придумали наконец:
Жилин и Костылин.
Дзыня говорит:
— Я немного вздремну, а ты работай! На карнизе лягу, чтобы тебе не мешать.
Лег Дзыня на карнизе спать — я голову обвязал мокрым полотенцем, стал сочинять.
Час просидел — два стихотворения сочинил, но каких-то странных.
Первое:
Жали руки до хруста
И дарили им Пруста.
С какой это стати, интересно, я должен кому-то дарить Пруста?
Второе:
С праздником Восьмого марта
Поздравляем Бонапарта!
При чем тут Бонапарт — убей меня бог, не понял! Да-а. Видно, краткость сестра таланта, но не его мать!
Дзыня просыпается, влезает в окно — бодрый уже такой, отдохнувший. Смотрит мои стихи:
— Годится!
Особенно готовиться не стали, выгладили только шнурки. Вышли на улицу, пошли. Первым учреждением на нашем пути «Госконцерт» был. Заходим в кабинет к главному редактору, — женщина оказалась, Лада Гвидоновна.
— Вы поэты? — спрашивает.
— Поэты!
С подозрением косится на мой пахучий портфель, — не хочу ли я тут подбросить ей труп?
— Ну что ж, — говорит. — Давайте попробуем! Тут заказ поступил, от ГАИ — ОРУДа песню для них написать... Сможете?
— Сможем!
Сел я за столик у дивана, карандаш взял. Дзыня, верный товарищ, рядом стоял, кулаками посторонние звуки отбивал.
Минут двадцать прошло — готово!
Я пошел служить в ОРУД,
Это, братцы, тяжкий труд:
Столько лошадиных сил, —
А я один их подкосил!
Посади своих друзей.
Мчись в театр и в музей,
Но — забудешь про ОРУД —
Тут права и отберут!
Где орудует ОРУД,
Там сигналы не орут.
Не бывает катастроф
И любой всегда здоров!
Прочла Лада Гвидоновна. Говорит:
— Но вы-то понимаете, что это бред?
— Понимаем!
— Впрочем, — плечами пожала, — если композитор напишет приличную музыку, — может, песня и пойдет. Тема нужная.
— А какой композитор?
— Ну, маститый, надо думать, сотрудничать с вами пока не будет?
— Все ясно!
Вышли мы на улицу, Дзыня говорит:
— Знаю я одного композитора! На последнем конкурсе я симфонией его дирижировал... Полный провал! Думаю, он нам подойдет.
Приехали к нему, какая-то женщина — то ли жена, то ли мать, а может, дочь? — говорит:
— Он в Пупышево сейчас, там у них творческий семина-ар!
— Ясно!
Стали спорить с Дзынею, кому ехать:
— Ты Жилин, — говорю. — Ты и поезжай!
— Ты перепутал все! — говорит. — Ты Жилин!
На спичках в конце концов загадали, — выпало, конечно, мне ехать!
Сначала я не хотел пахучий портфель свой брать, потом вдруг жалко как-то стало его, — пусть хоть воздухом свежим подышит, погуляет!
Пока ехал я туда, волновался: все-таки Пупышево, элегантное место, Дом Творчества!
Но к счастью, все значительно проще оказалось: домик стоит, на краю болота, поднимается холодный туман.
И все.
Зашел я внутрь, по тускло освещенным коридорам походил... Никого!
Потом вдруг запахи почуял... Столовая.
Вхожу — официантка мне грубо говорит:
— Ну что? Долго еще по одному будете тащиться? Через десять минут ухожу, кто не успел — пусть голодный ходит... Вы что заказывали?
Что я заказывал? Довольно трудный, вообще, вопрос.
— Сырники или морковную запеканку?
Прям даже и не знаю, что предпочесть!
— А мяса нельзя?
Посмотрела на меня.
— Ишь! Мяса!.. Один хоть нормальный человек оказался!
Приволокла мне мяса. Большая удача!
Подходит ко мне распорядитель с блокнотом:
— Сердыбаев? — говорит.
— ...Сердыбаев!
— Только что приехали?
— Да.
— Ну — как там у вас в Туркмении с погодой?
— Чудесно.
— С кем будете жить?
Прям, думаю, даже так?
Определился в шестой номер, где как раз нужный мне композитор жил. Вхожу — довольно молодой еще парень, сидит, кипятит кипятильничком в кружке кипяток.
— Ты что? — говорю. — Ужин же как раз идет! В темпе!.. Ну, пойдем!
Привел я его в столовую, говорю:
— Уж накормите его, — прошу!
После ужина композитор мне говорит:
— Может быть, сходим тут неподалеку в театральный Дом Творчества?
— Давай!
— Только у меня будет к вам одна просьба...
— Так.
— Если увидите там японок — не приставать!
— ...К японкам? Ну хорошо.
И пока шли мы с ним в темноте, я все хотел спросить у него: «А есть они там?»
Но не спросил.
А там вообще оказалось пусто! Только в столовой двое — явно не японского вида — стояли, раскачиваясь, по очереди пытаясь вложить замороженную коровью ногу за пазуху, нога со стуком падала, — и это всё.
Когда мы вернулись, композитор сказал:
— Не возражаете, если я открою окно?
— Пожалуйста!
Всю ночь я мерз. Ну, ничего! Не так уж это много: не приставать к японкам и спать при открытом окне. Ничего страшного.
Для моего скоропортящегося портфеля это даже хорошо!
Всю ночь я мерз — и с благодарностью почувствовал, как на рассвете композитор покрыл меня своим одеялом.
Во время завтрака подошел ко мне один из проживающих, сказал жалостливо:
— Вас, наверное, послушаются: скажите коменданту, чтобы не запирал бильярдную на замок.
Неожиданно я уже самым главным здесь оказался! И всюду так: издалека только кажется — дикая конкуренция, чуть ближе подходишь — никого!
После завтрака композитор мне говорит:
— Может быть, прогуляемся немного?
— Можно!
— Только единственная просьба! — он сморщился...
— Не приставать к японкам! — сказал я.
Он с удивлением посмотрел на меня:
— Откуда вы знаете?
— Но вы же сами вчера говорили!
— И вы запомнили?! — в глазах его даже слезы сверкнули!
«Да! — думаю. — Что же за сволочи его окружают, неспособные единственную запомнить, такую скромную просьбу?»
Неужто действительно — я самый хороший человек в его жизни?
На прогулке мы разговорились, я рассказал ему о своих делах, он — о своих... Выяснилось, кстати, что связано у него с японками: во время учебы в Консерватории влюбился он в одну из японок, с тех пор не может ее забыть. Все ясно!
После прогулки он сидел за роялем, что-то наигрывая, потом пригласил меня и заиграл вдруг прекрасную мелодию!
— Годится? — резко вдруг обрывая, спросил он.
— Для чего?
— Для твоего текста?
Мы обнялись. Обратно ехал я в полном уже ликовании! Здорово я все сделал! И главное — честно! И человеку приятно, и все счастливы!
Иной раз хочется, конечно, приволокнуться за хорошенькой японкой, — но можно же удержаться, тем более если человек просит!
Утром зашел я за Дзыней, понесли Ладе Гвидоновне песню.
Лада Гвидоновна наиграла, напела.
— Что ж, — говорит. — Для начала неплохо! Хотите кофе?
— Не знаем, — говорим.
— Учтите: мы только хорошим авторам кофе предлагаем.
— Тогда хотим!
Жадно выпили по две чашки. Лада Гвидоновна в какой-то справочник посмотрела:
— Вам за ваш текст полагается двадцать рублей.
— А за подтекст?
— А разве есть он у вас?
— Конечно!
— Тогда двадцать пять.
Стоим в кассу, — подходит к нам Эммануил Питонцев, руководитель знаменитого ансамбля «Романтики».
— Парни, — говорит, — такую песню мне напишите, чтобы английские слова в ней были.
— А зачем?
— Ну, молодежь попсовая — длинноволосая эта, в джинсах — любит, когда английский текст идет.
Приехал я домой, написал, — самую знаменитую нашу впоследствии песню:
Поручите соловью, —
Пусть он скажет: «Ай лав ю!»
Утром думаю: все, хватит! Пусть Дзыня теперь в Пупышево едет! А то текстов не пишет, с композитором не контактирует, а получает половину гонорара в качестве Костылина.
Вызываю его:
— Поезжай в Пупышево! Все я сделал уже, — на готовое, что ли, не можешь съездить? Подселишься к композитору в шестой номер и сразу же скажешь: что любишь тех, что при открытом окне любят спать, а ненавидишь тех, которые к японкам пристают. Запомнил? Или тебе записать?
— Запо-омнил! — Дзыня басит.
Уехал он, а я все волновался: ведь перепутает все, наоборот скажет!
Так и есть! Появляется, без каких-либо нот.
— Перепутал! — говорит. — Все наоборот ему сказал! Эх, записать надо было — ты прав.
— Ну и что он сказал?
— Сказал, что никакого дела иметь не будет.
— Ну, все ясно с тобой. Иди отдыхай.
Ушел он — жена подходит.
— Звонил, — говорит, — Фуфлович Вовка. В гости просился.
— Так... А еще кто?
— А еще Приклонские.
— Так... А из еще более бессмысленных людей никто не звонил?
— Нет.
— Все ясно. Позвонишь Фуфловичу — скажешь, что мы с Приклонскими договорились уже. Приклонским позвонишь, что Вовка Фуфлович к нам в гости напросился. Они как в позапрошлом году подрались, так отказываются вместе находиться.
— А кто же из них придет? — растерянно жена спрашивает.
— Никто! — говорю. — Взаимно уничтожатся!
— Жалко! — печально вздохнула. — Я люблю, когда гости приходят!
Ушла она спать, а я все думал: что же теперь с нашей музыкой будет?
Лег приблизительно около полуночи спать, — просыпаюсь под утро от дикого холода!
Гляжу, на диване композитор сидит.
— Извини, — говорит, — дверь у тебя не заперта оказалась. Я и окно открыл, — ты же любишь!
Вышли мы в кухню с ним.
— Извини, — композитор говорит. — Приехал, не смог удержаться. Только ты меня один понимаешь!
Вот это здорово!
— ...Напишешь что-нибудь сложное, — композитор продолжает, — сразу все в один голос: «Формальные ухищрения!» Что-нибудь новое — сразу: «Алхимия!» Простое что-нибудь — «Дешевая популярность!» Только тупость почему-то никого не пугает!
— Ну что ж, — говорю ему. — Чайку?
— А покрепче ничего нельзя?
— Можно! — говорю. — Только жену спроважу куда-нибудь.
Иду в спальню, бужу жену:
— Вставай и убирайся!
— В доме? — испуганно говорит.
— Нет. Из дома. Не видишь, что ли, — композитор пришел, работать с ним будем над новой песней.
Собралась она, на работу ушла. А может, и осталась она, — считалось, во всяком случае, что ее нет.
Поговорили мы с композитором обо всем. Выпили. Потом вдруг мне гениальная мысль в голову пришла:
— А может, и действительно, — говорю, — песню напишем?! Я вообще-то жене для отмазки сказал, что мы песню с тобой будем писать, — а может, мы и действительно напишем ее?
— Ну давай, — композитор говорит. — Только ведь рояля у тебя нет!
— А балалайка вот. Балалайка не годится?
Сели мы с ним — и за полчаса написали самую знаменитую нашу песню: «Поручите соловью — пусть он скажет: «Ай лав ю!»
— Здорово! — композитору говорю. — Сначала — только чтобы жену увести сказали, что над новой песней будем работать, а потом и действительно написали ее. То есть сразу двух зайцев убили! Понимаешь?
Но он не понял.
Эту песню многие потом исполняли, но первым исполнителем ансамбль «Романтики» был. Сначала, когда я увидел их, слегка испугался. Что ж это за «Романтики», думаю, фактически уже зачесывают на голову бороду! Но потом оказалось — все нормально! Выйдет Питонцев к микрофону, затрясет переливчатой своей гитарой:
— Па-аручите са-лавью...
Весь зал хором уже подхватывает:
— ...пусть он скажет: «Ай лав ю!»
Полное счастье!
Крутые ребята «Романтики» эти оказались. Первый раз потрясли они меня в одном доме культуры: зашли на минутку за бархатную портьеру на окне — и тут же вышли все в пиджаках из этого бархата!
Конечно, какой-нибудь сноб надутый скажет: «Романтики»? Фи!» Но кто знает его? А «Романтиков» знают все!
После каждого концерта, буквально, подруливают на машинах поклонники: директора магазинов, все такое... В общем, «торговцы пряностями», как я их называл. И везут в какой-нибудь загородный ресторан, где давно уже уплачено за все вперед, даже за битую посуду, или в баню какую-нибудь закрытого типа!
Особенно верными «Романтикам» поклонники с живорыбной базы оказались: везут после концерта к себе на базу — ловят рыбу в мутной воде, мечут икру! Портфели форели! Сига до фига!
Надо же, — какая жизнь у «Романтиков» оказалась!
И чуть было все это не рухнуло.
Однажды — мчусь я на встречу с ними, слышу вдруг: «Эй!»
Гляжу, друг мой Леха стоит. Вместе с ним работали, потом он, на что-то обидевшись, на ЗНИ перешел — Завод Неточных Изделий. Неважно, вообще, выглядит, надо сказать. Одет рубля так на четыре. Но гордый.
— Ну как живешь? — многозначительно так спрашивает меня.
— Нормально! — говорю. — Жизнь удалась. Хата богата. Супруга упруга.
— А я понял, — говорит, — что все неважно это! Считаю, что другое главное в жизни!
И замолк. Что же, думаю, он назовет? Охрану среды? Положение на Востоке? Но он вместо этого вдруг говорит:
— Столько подлецов развелось вокруг — рук не хватает! Вот, думаю — пощечину
этим запомнит любой подлец!
Вынимает из-за пазухи странное устройство, вроде мухобойки: к палочке приколочена старая подошва.
— Вот, — говорит.
Честно говоря, это меня потрясло!
— Да брось ты это, Леха! — говорю. — Давай лучше поехали со мной, отдохнем!
По дороге Леха мне говорит:
— А помнишь, у тебя ведь была мечта: поехать в глухую деревеньку, ребятишкам там математику преподавать, физику!
— Не было у меня такой мечты!
— Ну посмотри мне в глаза!
— Еще чего! — говорю. — Отказываюсь!
Приехали мы с ним на концерт, после концерта повезли нас живорыбщики на охоту. Все там схвачено уже было: утки, павлины. Вместо дроби стреляли черной икрой.
И только начался там нормальный разворот, слышу вдруг с ужасом: «Шлеп! Шлеп!» — Леха мухобойкой своей пощечины двум живорыбщикам дал.
— Леха! — кричу. — Ты что?!
С огромным трудом, с помощью шуток, прибауток и скороговорок отмазал его.
Вспомнил я, когда домой его вез: ведь давно уже клялся не иметь с ним никаких дел!
...Однажды уговорил он меня поехать с ним в туристский поход. Взяли две одноместных палатки, надувную лодку, забрались на дикий остров на Ладоге. Днем там ничего еще было, но ночью житья не было от холода и комаров. Леха каждую ночь вылезал, просил, чтоб я палатку его песком обкопал, чтобы щелей не оставалось для комаров. Днем намаешься как бог, да еще ночью просыпаешься вдруг от голоса:
— Эй! ...Закопай меня!
Слегка устал я от такой жизни. Сел однажды вечером в лодку, на берег уплыл, — там какая-то турбаза была. Никого не нашел там, — все в походе были, — только увидел на скамеечке возле кухни молодую повариху.
— Привет! — обрадованно говорю. — Ты что делаешь-то? Работаешь?
— Не! — отвечает. — Я отдежурила уже!
— А чего не идешь никуда?
— А куда идти?
— А поплыли на остров ко мне?
— Не!
— Думаешь, приставать к тебе буду?
— Ага.
— Да нет. Невозможно это. Знаешь, как холодно там? В двух ватниках приходится спать!
Нормальный человек, послушав нашу беседу, подумал бы: странно он ее уговаривает!
Но именно такие доводы, я знал, только и действуют.
— А люди там, — канючила она. — Что скажут?
— Да нет там никого. Я один.
— Честно?
— Ей-богу, один!
Долго плыли мы с ней по темной, разбушевавшейся вдруг воде, в полной уже темноте приплыли на остров. С диким трудом, напялив на нее два ватника, уговорил я ее залезть в палатку, — и тут появился Леха, с обычным своим ночным репертуаром:
— Эй! Закопай меня!
В ужасе выскочила она из палатки, увидела Леху и с криком «О-о-о!» умчалась куда-то в глубь острова. Всю ночь я ее проискал, утром только нашел на кочке посреди болота.
И поклялся я, когда обратно мы плыли: с Лехой больше никаких дел не иметь!
И вот надо же, — снова появился, притулился ко мне. Жена моя почему-то с горячей симпатией к нему отнеслась.
Только приходил (а он теперь часто стал приходить) — усаживались друг против друга на кухне и начинали горячо обсуждать заведомую чушь!
Но это еще не все, что произошло.
Однажды, — прихожу поздно вечером домой, вижу: сидит на кухне какой-то старичок.
— Кто это? — тихо жену спрашиваю.
— Не знаю! — плечами пожала.
— А кто же впустил его?
— Я.
— А зачем?
— А он приехал к родственникам, а их нет. Что уж я, не могу старичка пустить?!
Всегда так, с повышенной надменностью держится, когда чувствует, что совершила очередную глупость.
— Здесь сараюшк-а ста-яла, — старичок повторяет.
Какая такая сараюшка, — так и не добился я от него.
Ну ладно уж, положили его на нашу тахту, сами в кухне на раскладушке легли. Жена лежит в темноте, вздыхает. Потом говорит:
— ...Сегодня над церковью у нас журавли весь день кружились, кричали. Наверно, вожака потеряли!
— Ну — и что ты предлагаешь? ...К нам, что ли?!
Потом заснула она, а я долго лежал в темноте, руки кусал, чтобы не закричать!
Когда же это кончится, ее дурость?!
Потом заснул все-таки.
Просыпаюсь, иду посмотреть на старичка — и падаю. Старичка нет, и так же нет многого другого! Причем взято самое ценное, — диссертацию мою так не взял, хоть она на самом видном месте лежала!
— Вот ето да! — почему-то чуть ли не обрадованно жена говорит.
— Ну, довольна? — говорю. — Кого в следующий раз пригласишь? Думаю, прямо уже убийцу надо, — чего тянуть!
Обиделась, гордо отвернулась. Слезы потекли. Бедная!
И тут впервые у меня мысль появилась: а ведь погубит меня эта хвороба!
Снова теперь хозяйство нужно поднимать, — старичок даже кафель в туалете снял! Решил к Дзыне пойти на откровенный разговор: стихов никаких он не пишет, дел не делает, — а считается, как договорились, соавтором Костылиным и половину гонорара за песенки получает. Приезжаю к нему — и узнаю вдруг сенсацию: Дзыня, слабоумный мой друг, первое место на конкурсе молодых дирижеров занял и приглашение получил в лучший наш симфонический оркестр!
Вот это да! Балда балдой, а добился!
— Ну ты, — говорю, — чудо фоллопластики... Жизнь удалась?
— Удала-ась!
— Но как Костылин-то... соавтор мой... ты, наверно, теперь отпал?
— Это насчет песенок-то? Конечно! — Дзыня говорит.
Хороший он все-таки человек! Сам отпал, и не вниз, что морально было бы тяжело, — а вверх!
Позавтракали с ним слегка, — потом пригласил он меня на репетицию.
Встал Дзыня за пюпитр, палочкой строго постучал... Откуда что берется! Потом дирижировать начал. Дирижирует, потом оглянется на меня — и палочкой на молодую высокую скрипачку указывает!
В перерыве спрашиваю его:
— А чего ты мне все на скрипачку ту показывал?
— А чтоб видел ты, — гордо Дзыня говорит, — какие люди у меня есть! Что вытворяет она, — заметил, надеюсь?
— Конечно, — говорю. — А познакомь!
— А зачем? — дико удивился.
— Надо так.
— Ну хорошо.
Подвел Регину ко мне. Красивая девушка, но главное — сразу чувствуется, — большого ума!
«Что ж делать-то теперь? — думаю. — В ресторан — дорого, в кафе — дешево. В Филармонию — глупо. И жена опять будет жаловаться, что одиноко ей. И Дзыня говорит, что редко встречаемся...»
И тут гениальная мысль мне пришла: одним выстрелом двух зайцев убить — может быть, даже трех!
— А приходите, — Дзыне говорю, — завтра с Региной ко мне в гости!
Дзыня испуганно меня в сторону отвел:
— А как же...?
— Жена, что ли? Нормально! Скажешь, что Регина невеста твоя. Усек? Это часто среди миллиардеров практикуется, — когда едет он на курорт с новой девушкой, специальный подставной человек с ними едет. «Бородка» называется. Понимаешь?
— ...А ты разве миллиардер?
— Да нет. Не в этом же дело! Главное в «бородке»!
— А! — вдруг Дзыня захохотал. — Понял!
Даю на следующий день жене три рубля, говорю:
— Приготовь что-нибудь потрясающее — вечером гости придут.
— Гости — это я люблю! — жена говорит. — А кто?
— Дзыня, — говорю, — со своей девушкой.
Вечером захожу на кухню, гляжу: приготовила холодец из ушей! Решила потрясти ушами таких гостей!
Ругаться с ней некогда уже было — звонок, Дзыня с Региной пришли. Дзыня одет в какой-то незнакомый костюм, а на лице его — накладная бородка!
С кем приходится работать!
Затолкал я в ванну его, шепчу:
— Ты что это, а?
Дзыня удивленно:
— А что?
— Зачем эту идиотскую бородку-то нацепил?
— Ты ж сам велел, чтобы жена твоя меня не узнала!
— Зачем это нужно-то — чтобы она тебя не узнала?!
— А нет? Ну извини!
Стал лихорадочно бородку срывать.
— Теперь-то уже, — говорю, — зачем ты ее срываешь?
Вышли наконец в гостиную, сели за стол, отведали ушей.
«Колоссально! — думаю. — Сидим вместе все, в тепле. И довольны все, — особенно я! Замечательно все-таки! Какой-то я виртуоз!»
Потом Дзыня с моей женой за дополнительной выпивкой побежали, а я с Региной вдвоем остался. Быстренько оббубнил ее текстом, закружил в вихре танца, потом обнял, поцеловал.
Стал потом комнату оглядывать: не осталось ли каких следов? Вроде все шито-крыто. В зеркало заглянул, растрепавшуюся прическу поправить — и вижу вдруг с ужасом: в зеркале отражение осталось, как я Регину целую!
«Что такое?! — холодный пот меня прошиб. — Что еще за ненужные чудеса физики?!»
Долго тряс зеркало, — отражение остается! Примерно после получасовой тряски только исчезло.
Сел я на стул — ноги ослабли. Вытер пот. И тут дверь заскрипела, голоса раздались — вернулись гонцы.
Сели за стол, гляжу, — Дзыня снова все путает! С жены моей глаз не сводит, непрерывно что-то на ухо ей бубнит, Регина же в полном запустении находится!
Снова выволок его на кухню, шепчу:
— Регина же невеста твоя! Забыл? Скажи ей ласковое что-либо, обними!
— Понял! — говорит.
Подсел к Регине наконец, начали разговаривать. К концу он даже чересчур в роль вошел — обнимал ее так, что косточки ее бедные трещали! Забыл, видимо, что страсть должен он только
изображать!
Да, понял я. Видно, придется встречаться с нею наедине!
Договорился с нею на следующий день.
На следующий день собирался я на свидание с Региной, волновался, в зеркало смотрел... Да-а, выгляжу уже примерно как портрет Дориана Грея! Вдруг Леха является — как всегда, вовремя!
— Извини, — говорю, — Леха! Тороплюсь! Хочешь — вот с женой посиди!
Сели они друг против друга, и начал он рассказывать горячо о возмутительных порядках у них на Заводе Неточных Изделий. Жена слушала его как завороженная, головой качала изумленно, вздыхала. Меня она никогда так не слушала, — правда, я никогда так и не рассказывал.
Встретились с Региной. Довольно холодно уже было.
— В чем это ты? — удивленно она меня спрашивает. — В чьем?
— Да это тещина шуба, — говорю.
— Чувствуется! — Регина усмехнулась.
Такая, довольно грустная. Рассказывал мне Дзыня про нее, что год примерно назад пережила она какой-то роман, от которого чуть не померла. Разговорились, она сама сказала:
— Да, — говорит. — И в общем неплохо, что это было. Теперь мне уже ничто не может быть страшно. Больно может быть, а страшно — нет. Ну, а тебе как живется?
Была у нее такая привычка: все в сторону смотреть — и глянуть вдруг прямо в душу.
Стал я ей заливать, как отчаянно я живу, как стихи гениальные пишу, которые не печатают...
Прошли по пустым улицам, вышли к реке. Вороны, нахохлившись, сидят вокруг полыньи.
— О, смотри! — говорю. — Вороны у полыньи греются! Воздух холоднее уже, чем вода. Колоссально.
— Может, — пойдем погреемся? — она усмехнулась.
Стал я тут говорить, чтоб не грустила она, что все будет отлично!
Зашли мы с ней погреться в какой-то подъезд. Довольно жарко там оказалось. Потом уже, не чуя ног, спустились в подвал, — и так до утра оттуда не поднялись.
Потом уже светать стало, задремала она. Сидел я рядом, смотрел, как лицо ее появляется из темноты, бормотал растроганно:
— ...Не бойся! Все будет!
Потом — она спала еще — я вышел наверх.
Снег выпал — на газонах лежит, на трамваях. Темные фигуры идут к остановкам.
Ходил в темноте, задыхаясь холодом и восторгом, и когда обратно шел — неожиданно стих сочинил.
Посвящается Р. Н.
Все будет! Чувствуешь, — я тут.
Немного дрожь уходит с кожи.
Не спи! Ведь через шесть минут
Мы снова захотим того же.
Похолодание — не чувств, —
Похолодание погоды.
И ты не спишь, и я верчусь.
Уходят белые вагоны.
Все будет! Чувствуешь, — я тут.
Нам от любви не отвертеться.
Пройдут и эти шесть минут.
Пройдут... Пройдут! Куда им деться?
Написал на листке из записной, перед Региной положил, чтобы сразу же увидела, как проснется... Когда я снова вернулся — со сливками, рогаликами, — Регина, уже подтянутая, четкая, стояла, читала стих. Потом подошла ко мне, обняла. Потом, посадив ее на такси, я брел домой... Да, как ни тяжело, а разговора начистоту не избежать!
Открыл дверь — жена нечесаная стоит в прихожей. Вдруг звонок — входит Леха с рогаликами и сливками!
— ...В чем дело?! — задал я сакраментальный вопрос.
Леха гордо выпрямился:
— Мы намерены пожениться!
Вот это да!.. Я-то, слава богу, ничего еще не сказал, так что моральная вина ложится на них! Леха протянул мне вдруг свою мухобойку.
— Бей! — уронив руки, сказал он. — Я подлец!
— Ну что ты, Леха... — пробормотал я.
Едва сдерживая восторг, я выскочил, хлопнув дверью. Все вышло, как я втайне мечтал, — причем сделал это не я, а другие!
Какой-то я виртуоз!
На работу еще заскочил. Все как раз в комнате сидели — и тут вдруг с потолка свалился плафон. Вошел я, поймал плафон, поставил на стол — и под гул восхищения исчез опять.
Теперь бы, думаю, еще от композитора избавиться, чтобы все уже деньги за песни мне капали. Жадность уже душит — сил нет! Что я — не смогу музыку писать? Кончил, слава богу, два класса музыкальной школы — вполне достаточно.
Прихожу к композитору, говорю:
— Родной! Нам, кажется, придется расстаться!
— Почему?! — композитор расстроился.
— Понимаешь... я влюбился в японку!
Он так голову откинул, застонал. Потом говорит:
— Ну ладно! Я тебя люблю, — и я тебя прощаю! Приходи с ней.
— Нет, — говорю. — Это невозможно!
Обнял он меня:
— Ну, прощай!
И я ушел.
И Регина, кстати, тоже вскоре исчезла — уехала с Дзыней, ну и с оркестром, понятно, на зарубежные гастроли по маршруту Рим — Нью-Йорк — Токио. Перед отъездом, правда, все спрашивала:
— Может, не ехать мне, а? Может, придумать что-то, остаться?
— Да ты что? — я ей прямо сказал. — Такой шанс упустишь — всю жизнь себе потом не простишь!
В общем-то, если честно говорить, все у нас кончилось с ней. Меньше двух месяцев продолжалось, но, в общем-то, все необходимые этапы были. Просто, — от прежней жизни, похожей на производственный роман средней руки, с массой ненужных осложнений, искусственных трудностей, побочных линий, пришел я, постепенно совершенствуясь, к жизни виртуозной и лаконичной, как японская «танка»:
Наша страсть пошла на убыль —
На такси уж жалко рубль!
Все!
Уехала Регина, и я совсем уже с развязанными руками остался.
Ну ты даешь, Евлампий!
Что же, думаю, мне теперь такое сотворить, чтоб небу было жарко, и мне тоже? И тут гигантская мысль мне пришла: песню сделать из стиха, который я Регине посвятил!
Вскочил я в полном уже восторге — бежать, с Дзыней и с композитором делиться, но вспомнил тут: ведь нет уже их, сам же сократил этих орлят, как малопродуктивных!
Снял балалайку со стены — и песню написал. Назвал «Утро».
Немножко, конечно, совесть меня мучила, что из стихов, посвященных ей, песню сделал. Тем более — для «Романтиков»!
Крепко ругаться с ними пришлось. Видимо, общее правило: «Из песни слова не выкинешь» — не распространялось на них. Не понимают, — не только слово — букву и ту нельзя выкидывать! Одно дело — «когда я на почте служил ямщиком», другое — «когда я на почте служил ящиком»!
Порвал я с «Романтиками» — мелкая сошка. А эту песню мою — «Утро» — на стадионе на празднике песни хор исполнял. Четыре тысячи мужских голосов:
Все бу-удет — чу-увствуешь, я тут!
Да-а... Немножко не тот получился подтекст. Ну — ничего! Зато — слава!
Даже уже поклонницы появились. Особенно одна. Пищит:
— А я вас осенью еще видела, — вы в такой замечательной шубе были!
...А сейчас что, — разве я бедно одет?
Выкинул наконец свой пахучий портфель, вернее, на скамейке оставил, с запиской. Купил себе элегантный «атташе-кейс». При моих заработках, кажется, могу себе это позволить? А почему, собственно, должен я плохо жить? Можно сказать, одной ногой Гоголь!
С машиной, правда, гигантское количество оказалось хлопот: ремонт, запчасти, постройка гаража!
Еду я однажды в тяжелом раздумье, вдруг вижу — старый друг мой Слава бредет. Усадил я в машину его, расспросил. Оказалось, в связи с разводом лишился он любимой своей машины. Остался только гараж, — но гараж хороший.
«Колоссально! — вдруг мысль мне пришла, острая как бритва. — Поставлю мою машину в его гараж, пусть возится с ней — он это любит».
Загнали машину к нему в гараж, потом в квартиру к нему поднялись. Он порывался все рассказать, как и почему с женой развелся, а я успокоиться все не мог — от радости прыгал.
Замечательно придумал я! С машиною Славка теперь мучается, с бывшей женой-дурой — Леха, с композитором... не знаю кто! А я — абсолютно свободен. Какой-то я виртуоз!
Тексты за меня — нашел — один молоденький паренек стал писать. Врывается однажды сияющий, вдохновенный:
— Скажите, а обязательно в трех экземплярах надо печатать?
— Обычно, — говорю, — и одного экземпляра бывает много.
Потом даже выступление мое состоялось по телевизору.
В середине трансляции этой — по записи — выскочил я на нервной почве в магазин. Вижу вдруг в винном отделе двух дружков:
— О! — увидели меня, обомлели. — ...А мы тебя по телевизору смотрим!
— Вижу я, как вы меня смотрите!
Подвал наш с Региной отделал к возвращению ее. При моих заработках, кажется, могу я себе это позволить?
Бархатный диван. Стереомузыка. Бар с подсветкой.
Неплохо!
Правда, в подвале этом раньше водопроводчики собирались, и довольно трудно оказалось им объяснить, почему им больше не стоит сюда приходить. Наоборот — привыкать стали к хорошей музыке, тонким винам. Приходишь — то один, то другой, с набриолиненным зачесом, с сигарой в зубах, сидит в шемаханском моем халате за бутылочкой «Шерри».
По Регине, честно говоря, я скучал. Но и боялся ее приезда. Много дровишек я наломал — с ее, особенно, точки зрения.
Конечно, ужасным ей покажется, что я из стихотворения, посвященного ей, — песню сделал для хора!
И вдруг читаю однажды в газете: вернулся уже с гастролей прославленный наш оркестр! А ни Регина, ни Дзыня у меня почему-то не появились.
Звоню им — никого не застаю.
Мчусь в Филармонию на их концерт.
Регина! Дзыня!
Дзыня обернулся перед концертом и вдруг меня в зале увидел — почему-то смутился. Взмахнул палочкой, дирижировать стал. Дирижирует, робко взглянет на меня — и палочкой на пожилую виолончелистку указывает.
В антракте подошел я к нему:
— Почему это ты все на пожилую виолончелистку мне указывал?
Дзыня сконфуженно говорит:
— Хочешь — познакомлю?
— Как это понимать?! — на Регину смотрю.
— Понимаешь, — Дзыня вздохнул. — Ты так доходчиво объяснял, как жениха мне Регининого изображать, что я втянулся как-то. Мы поженились.
Вот это да!
И это я, выходит, уладил?
Ловко, ловко!
Можно даже сказать — чересчур!
Пошел к себе в подвал, выпил весь бар.
Ночью проснулся вдруг от какого-то журчанья. Сел быстро на диване, огляделся — вокруг вода.
Затопило подвал, трубы прорвало!
Всю ночь на диване стоял, к стене прижавшись, как княжна Тараканова. Утром выбрался кое-как, дозвонился Ладе Гвидоновне (единственный вот остался друг!).
Она говорит:
— В Пупышево с завтрашнего дня собирается семинар, — поезжайте туда!
Ну что же. Можно и в Пупышево. Все-таки связано кое-что с ним в моей жизни!
Перед отъездом не стерпел — соскучился — зашел в старую свою квартиру, навестить бывшую жену и Леху... Главное, — говорил мне, что проблемы быта не интересуют его, а сам такую квартиру оторвал! Нормальная уже семья: жена варит суп из белья, муж штопает последние деньги.
Потом уединились с Лехой на кухне.
— Плохо! — он говорит. — Совершенно не хватает средств!
Обещал я с «Романтиками» его свести.
Три часа у них просидел, больше неудобно было — пришлось уйти. Ночевал я в ту ночь в метро — пробрался, среди последних, спрятался за какой-то загородкой — больше мне ночевать было негде.
Утром пошел я к Славке в гараж — поехать хоть в Пупышево на своей машине!
Но и это не вышло. Машина вся разобрана, сидит Славка в гараже среди шайбочек, гаечек. Долго смотрел на меня, словно не узнавая.
— Это ты, что ли? — говорит.
— А кто же еще?
— Что — неужели дождь? — на плащ мой кивнул.
— А что же это, по-твоему?
— А это вино, что ли, у тебя?
— Нет. Серная кислота! Не видишь, что ли, — все спрашиваешь?
Но машину собрать так и не удалось.
Пришлось поездом ехать, дальше — автобусом. Долго я в автобусе ехал... и как-то задумался в нем. Не задумался — ничего бы, наверно, и не произошло. Вышел бы в Пупышево, и покатилось бы все накатанной колеей. Но вдруг задумался я. Пахучий портфельчик свой вспомнил. Как там хозяин-то новый, — ставит его в холодильник-то хоть?
Очнулся: автобус стоит на кольце, тридцать километров за Пупышево, у военного санатория.
Водитель автобуса генералом в отставке оказался. Другой генерал к нему подошел, из санатория. Тихо говорили они. Деревья шумели.
Оказывается, генералы в отставке хотят водителями автобусов работать.
А я и не знал.
И не проехал бы — не узнал.
Вышел я, размяться пошел.
Стал, чтобы взбодриться чуть-чуть, о виртуозности своей вспоминать. Ловко я все устроил: то — так, это — так...
Только сам как-то оказался ни при чем!
Можно сказать — излишняя оказалась виртуозность!
Э, э! В темпе! — понял вдруг я. — Всё назад!
Я быстро повернулся и, нашаривая мелочь, помчался к автобусу.
Никогда
Тяжело возвращаться домой с чувством вины после некоего трудно объяснимого отсутствия!
Выручает пес. Только откроешь дверь в напряженную, густую тишину, пытаясь хотя бы по запахам торопливо определить, что в доме нового (слов тут дождешься еще не скоро!), как сразу же радостно слышишь, как он, клацнув когтями, торопливо сваливается с дивана, и вот цепочка цоканий быстро приближается к тебе, и вот уже он, забыв об остром запахе псины, которого в обычное время стесняется, ликующе прыгает рядом с тобой, пытаясь достать до лица и лизнуть тебя в губы. Отчаянно, безрассудно взлетает он на высоту, в три раза превосходящую его рост, падает страшно, со стуком костей, но тут же, забыв на время о боли, снова прыгает, как пружина. Вопли боли и восторга смешиваются и дополняют друг друга.
— Ну здорово, здорово! — ласково приговариваю я (надо же как-то начинать говорить, и такое вот начало— самое подходящее). — Никому, видимо, не интересно, что за эти сутки было со мной! (Это уже попытка защиты нападением.) ...Вот единственный, кто любит меня! — присев на корточки, я почесываю подрагивающую ногу развалившегося на полу пса.
И тут жена не выдерживает и произносит, как ей кажется, надменно и строго:
— Можешь хотя бы погулять с псом?
— Пожалуйста! — скорбно произношу я. — Если это некому больше сделать...
Но все внутри меня прыгает от счастья, даже руки вздрагивают, когда я снимаю с электросчетчика поводок: «Отлично! И на этот раз обошлось, все будет нормально — пес спас».
Поняв, что сейчас с ним пойдут гулять, он начинает подпрыгивать еще выше.
— Ну ты, шорт бешаной! — басом кричит жена, пытаясь на лету поймать его в ошейник.
Подпрыгивая, мы сбегаем с песиком к лифту. Отлично! Тайное ликование душит меня. Домой я уже вернусь — умно! — не после полуторасуточного непонятного отсутствия, а после трогательной прогулки с собачкой.
В лифте пес встал на задние лапы, передние вручил мне, горячо дышал, преданно глядя в глаза. Действительно — только для него все мои недостатки не имеют значения!
Выскочив из лифта, он начал быстро-быстро скрести дверь — толчком я открыл ее: приятно чувствовать себя, хотя бы в глазах песика, — всемогущим. Мы вышли в обклеенный желтыми листьями, пахучий двор. Я отстегнул поводок, и пес, шумно принюхиваясь, побежал таинственными зигзагами вперед. Я с наслаждением вздохнул, расслабился... Да — правильно я рискнул! Доброта жены — и восторженность песика — спасут всегда!
Блаженство мое, однако, длилось недолго. Спутник мой, надо признаться, немало постарался для того, чтобы прогулка эта вытеснила из моей памяти все мое темное прошлое. Немало пришлось поноситься за ним по всем помойкам в округе, — пока он не обследует их досконально, он не успокоится. Несколько раз он надолго пропадал, потом вдруг, дразня меня, появлялся из-за какого-нибудь угла с поганой костью или свисающей тряпкой и, благополучно отметившись, снова исчезал.
Извелся я, надо сказать, неслабо (но это ведь и входило в мои планы!). Наконец он приполз к парадной на брюхе, печально поскуливая, бросая на меня снизу вверх скорбные взгляды сквозь свисающие на глаза грязные кудри. Мгновенно почувствовав, что я на него, в сущности, не сержусь, он перевернулся на спину — чтобы я после всего этого чесал еще ему его помойное брюхо!
— Ну молодец, молодец! — я чесал его палочкой. — Сволочь, но молодец... Сволочной молодец.
Домой я, как втайне и рассчитывал, вернулся уже измученный и возмущенный.
— Сама гуляй со своим обормотом! — бешено закричал я, швыряя поводок.
После этого я проследовал на кухню и уже надменно развалился за столом:
— Дадут мне в этом доме поесть или нет?!
— Ну объяснис! — в дурашливой своей манере, без мягкого знака, заговорила жена. — Ну, где ты ночью был? Объяснис! — миролюбиво повторила она.
— Рассказывать немножко долго, — скорбно проговорил я (кефир с сипеньем выдавливался из бутылки). — Но ты же знаешь — я всегда все делаю правильно! Верь мне — и все будет хорошо.
— Ну, а что ты делаешь правильно, а? Ну скажи! Ить интересно! Сделай хотя бы подмек.
— Нет! — сурово проговорил я. — Вдруг ничего еще не получится!
— А что — не получится?! Ну скажи!
— Разговор на эту тему окончен! — я с достоинством удалился в кабинет.
«Качество ковроткачества» — так называлась статья, над которой я, забыв обо всем, трудился уже шесть месяцев.
Только я распечатался — вошла жена. Села, вздохнула.
— Ну что? — прерываясь, с досадой проговорил я.
— Еще спрашиваешь? По-твоему, все в порядке?
— А что такое?
— А ты не заметил — что дочь твоя ни слова не сказала с тобой? Даже не поздоровалась.
— Действительно! А что произошло?
— Чаще надо дома бывать! То самое, что происходит уже три года!
— Ясно! — я со вздохом поднялся.
Уже много раз пытался я поговорить с дочерью — ничего не получалось! И вот опять... Дикий, какой-то загнанный взгляд, прилипшие ко лбу волосы. И не понять — в чем же дело? По-моему, все в относительном порядке, — но это по-моему... Я сел рядом и, пытаясь заглянуть ей в глаза, начал рассказывать, в который уже раз, про великих моих современников, стараясь говорить неофициально, душевно: у них тоже были свои горести, слабости, беды — у каждого человека они есть. Однако они сумели же все преодолеть и сделать как подобает... Пустой взгляд, устремленный мимо. Рассказы мои абсолютно не действуют. И так, к сожалению, бывает всегда: ничто чужое не пригождается в жизни — ни от дедов, ни от отцов, только своя собственная материя годится, — поэтому помочь нечем, хотя сердце и разрывается!
— Ну а какие новости в свете? — я суетливо перепрыгнул на развязный тон. — Что слышно в сфере поп-музыки?
— Итальянцы приехали! — хриплым после долгого молчания голосом проговорила она.
— Ну и как? — зачастил я. — Трудно с билетами?.. Невозможно?.. Так вот, — торжественно произнес я. — Считай, что билеты на итальянцев у тебя в кармане!
Никаких эмоций.
Хмуро, глядя в стену, она кивнула. Я вышел.
На кухне тяжело вздыхала жена.
— А как в школе-то у нее? — спросил я.
— Говорит, что все в порядке...
— В порядке! А сама-то ты? Так до сих пор и не сходила к врачу? Ну чего ты боишься?!
...Хотя — что я говорю? Понятно — «чего боишься»!
Мы помолчали.
Ночью пес не давал нам спать — лежа в кровати на боку, все бежал за кем-то, бил лапами, азартно хрипел и подскуливал... За кем он гонится каждую ночь?!
Утро было
тихое, ясное.
Я поднялся, вошел в кабинет. Пес уже стоял на столе, глядя в окно. Вот он увидел на улице что-то приятное — замотал обрубком хвостика, радостно заурчал.
— Ладно, иди, иди. Здесь не театр тебе!
Я сел работать. К восьми утра я закончил статью. К девяти отнес ее одному умному человеку. Умный человек прочитал статью, тонко усмехнулся:
— Крепко, крепко! Только подкатка колоссов, старик!
— В каком смысле?
— Только колосс какой-то может тебе помочь напечатать это! Без колосса — бесполезняк! Евроколосс нужен.
— Что значит — евро?
— Колосс европейского масштаба — вот что! Надо тебе в Муравьевку мчаться, в дом отдыха колоссов!
— Ясно.
Пошел домой, стал к ответственной поездке готовиться — почистил гуталином ботинки, портфель. Жена мне волосы пригладила.
— А кепку зачем берешь — тепло ведь?
— Я буду ее застенчиво мять в руке.
— Пр-равильно! — сказала жена.
Приехал я в Муравьевку, пришел к дому отдыха колоссов. Внизу, в холле, список приколот. Стал читать:
— Нетёлкин, Златобрюхов, Пауковский, Позлащан, Постращан, Проторчан...
Тут один мелкий колосс подошел, знакомый мой. Очень много он всегда говорит о том, что из простых смазчиков произошел, — неплохую, надо сказать, на этом карьеру сделал: купил уже джинсы, джин, джип, что-то там еще... Фамилия его Свекрухин была, но он переделал на Сверкухина... Умно!
— ...облупщиком работал, змеевщиком...
— Подожди... Стараканамский, Закрывайголову, Широченков...
Через холл, седенькие уже совсем, Смотрицкий с Магницким прошествовали, только почему-то перепутали немножко: Смотрицкий нес в руке «Арифметику» Магницкого, а Магницкий — «Грамматику» Смотрицкого.
— ...Езмь, Порошковер, Юрий Дутых, Кчемубов, Абыгорев, Шутулый, Хухрец, Плачес, Угомонтов... Вот, наконец-то мой... комната № 17.
Взлетел на второй этаж, в холле на втором этаже увидел его с другими колоссами.
— Вы? — удивился, но как-то уж очень величественно, словно бы заранее уже готовился удивиться. С широко раскрытыми объятьями ко мне подошел, три раза резко причмокнул меня к своим щекам. Ну ясно, перед другими колоссами приятно — приехал ученик.
Пошли с ним по коридору, устланному бобриком, шел в теплых домашних туфлях. Женщина в белом халате нам встретилась, деликатно в сторону его отозвала, о чем-то спросила. Он так задумался глубоко, потом седой гривой встряхнул, сказал решительно:
— Знаете — пожалуй, все-таки с гречкой!
Женщина кивнула почтительно, прошла. Привел он меня в комнату к себе, в кресло усадил. В машинку, я заметить успел, довольно-таки странный ввинчен был текст: «И профессии они выбрали одинаковые, оба юристы: Юрий — следователь, а Мстислав — дворник...»
— Немного доброго коньяку?
— Пожалуй.
— Так слушаю вас.
Подал я ему «Качество ковроткачества» — он полстраницы прочитал, тяжко вздохнул.
— Вам плохо?
— А, об этом уж я не думаю! — рукой махнул. — Дело в том, милый вы мой, что помочь я вам ничем не смогу! Скорее наоборот!
— В каком смысле — наоборот? — пробормотал я.
— В обычном! — он развел руками. — Если бы вы нас не только почитали, но и читали, — он трогательно улыбнулся, — может, знали бы тогда, что я всю свою сознательную жизнь именно борьбе с коврами посвятил. Так что — не то что помощь... Наоборот. При каждом удобном случае — палки в колеса! — благодушно добавил он.
— Но вы же ходите по ковру!
Вот этого, наверное, не следовало говорить!
Он сокрушенно развел руками, в смысле: «Что же делать?»
Мы помолчали.
— Ну а как вы... вообще? — поинтересовался он.
— Как-то... непонятно! — растроганный вниманием, излишне разоткровенничался я. — В отличие от вас, — я жалко улыбнулся, — никак не могу найти себе врагов!
— Хорошо живет — врагов у него нет! — как бы в сторону, как бы невидимому собеседнику, добродушно сказал он.
Вот так вот! — с отчаянием подумал я. У меня нет осенней обуви, но нет и врагов! А он сейчас в теплых тапочках пойдет по мягкому ковру кушать гречку, и кроме того — на зиму у него засолено несколько баночек отличных врагов!
До этого я уже выпил застенчиво, потом вызывающе, но тут я выпил уже принципиально! Вскоре я вывалился из дома на воздух, с отчаянием огляделся: ни черта у них тут не поймешь — солнце то здесь, то там!
Потом я трясся в автобусе... Замечательно! Всегда был мастером по созданию препятствий, но такого препятствия себе еще на воздвигал! И главное — заняло совсем мало времени и сил. Так что — насчет палок в колеса могу не беспокоиться! Молодец!
В городе я сразу заметил толпу юнцов возле касс. С ходу врезался в гущу, с криком: «Мне для дочери!» — пробился без очереди, взял два билета на итальянцев, лучшие места.
Домой гордый вошел (о поездке почти забыл!).
— Ликуй! — дочке билеты протянул.
— Спасибо! — вяло проговорила.
Никаких эмоций... А я-то надеялся!
Ночью пес опять бежал по кровати, непонятно куда.
Утром жена сказала зло:
— Ну вставай, что ли! Хоть кровать застелю!
— Да стели прямо на меня — все равно я не нужен никому!
Потом все-таки поднялся, побрел в кабинет... Перечитал «Качество ковроткачества»... Замечательно! Колоссальные дефекты! Поэтому и не нравится никому! Напишу когда блестяще — тогда и будет все отлично! Ну конечно!
Работал.
Вошла вдруг жена.
— А ты знаешь? — сказала. — Что Костя в городе?
— Как? Где? — я вскочил.
— ...В «Европейской».
— Звонил?! Ну, я к нему! — стал лихорадочно одеваться.
Примчался в «Европейскую», ворвался в номер. Костя поднялся из золоченого кресла... уже седенький, сухонький, в шерстяной кофте — и встретил меня довольно сухо.
— Звонил?! — спросил я его.
— Нет, еще не успел, — равнодушно ответил. — Знаешь, мне нужно тут выйти...
— О чем речь? Подожду!
Посмотрел он на меня, потом вдруг со столика кипятильничек взял, в карман себе положил... Правильно. Действительно — мало ли что? Потом еще раз зоркими очами номер оглядел — взял с тумбочки трубочку с валидолом, в карман положил, где — я заметил — еще две таких трубочки лежат. Замечательно! Валидолу пожалел.
— Знаешь! — виновато замялся. — Я, наверное, только к вечеру вернусь, так что лучше тебе...
— Понимаю.
Вышел из гостиницы — сердце в голову колотило. Вот так вот всегда! Лечу — и нарываюсь! Мог бы догадаться! «Звонил»! Как он мог звонить, когда у меня и телефона-то нет! Пора бы уже, кажется, что-то и соображать!
Побрел к дому. Дома — праздник! Дочь исправилась наконец-то, честно сказала про двойку. Торты, шампанское!
— Ну молодец! — ей говорю. — Начало есть! Ну покажи отметку-то хоть — дай полюбоваться-то!
— А у нас... дневники собрали, — глаза забегали.
Опять ложь!
— Ну это-то зачем тебе надо?! Ради каких-то жалких тортов?!
— Нужны мне ваши торты! — трахнула дверцей, ушла к себе.
Убито посидели с женой на кухне.
— Что же это такое? Что же с ней делать-то?! — застонал я.
— Удивляешься? А сам? Тоже все врешь! — закричала жена.
— Что я вру?!
— Все! Где ты был позавчера? Думаешь, я не понимаю?
— Я же сказал! Для дела!..
— Да? И где это дело?
— Ну все! — я вскочил. — ...Чтобы завтра же сходила к врачу — ясно? И сказала бы наконец чистую правду — что у тебя! Понятно?! — хлопнув дверью, я ушел в кабинет... И пес забрался под кровать и весь вечер не вылезает — вроде заболел. Опять ветеринара вызывать — минимум четвертной. Продают пса за бесценок, а после, когда привяжешься к нему, выкачивают миллионы!
Я разыскал жену на балконе.
— А я тебя по дыму нашел! — обрадованно сообщил я.
Утром жена растолкала меня:
— Вставай, любимый! Всё г! — Они с дочкой захихикали.
Я это воспринял как оскорбление, резко поднялся, брякая, собрал в сетку молочные бутылки, побрел под мелким дождичком их сдавать. Так провожу свой отпуск! Продавец молочного, красавец брюнет, заорал:
— Убери поганые бутылки свои!
— Что-то ты больно горяч для молочного отдела!
— Всякий тут вякать еще будет! — Он схватил горсть творожной массы, швырнул, глаз мне залепил...
Задрав голову, зажмурившись, на ощупь до дома дошел. Жена открыла.
— Что с тобой?!
— Выскреби быстро из глаза в какую-нибудь баночку... Представляешь — бесплатно!
— Тебя Костя ждет.
— Где?!? — радостно завопил, в комнату бросился.
Обнял, поцеловал. Он говорит:
— Скажи честно... ты кипятильничек не брал?
— Да что там кипятильничек! Я самовар тебе подарю! Вот!
Когда Костя, растроганный, ушел, я бросился было в кабинет, работать, но тут снова хлопнула дверь — дочурка пришла. Гордо показала дневник с двойкой — все верно, не обманывала она нас!
— Ну, а сейчас что намереваешься делать?
— Гулять!
Пес с грохотом свалился с кровати, цокая когтями, стал радостно прыгать.
— Да не с тобой, балда!
Мы засмеялись, все трое... Наконец-то! И пес радостно прыгал... Чем не счастье?
Вернулся в кабинет, набросился на статью — ну сейчас-то она поддастся! Сломалась машинка... Гляжу — буквы бьют по бумаге, а следов нет! Подбрасыватель сломался, который черную жирную ленту под буквы подбрасывает, — поэтому и следов нет... Неправда — останутся следы! Во втором и третьем экземплярах, где копирка подложена, — останутся! Стал печатать... хотя и странно, когда следов никаких не видишь. Подошла жена, долго изумленно смотрела, как я бойко стучу, а следов не остается.
— Ты что это делаешь?
— Печатаю!
— ...А где же буквы?
— Там, в глубине.
— А ты уверен, что там они есть?
— Уйди!
Стучал я по чистому листу и думал с отчаянием: ну когда же будет так, чтобы все хорошо?
И понял вдруг: а никогда! Никогда такого не будет, чтобы все было хорошо! И надеяться на надо, мучиться зря!
И только понял я это — сразу словно гора с плеч упала... «Никогда!» Не надо и мечтать! Колоссальное облегчение почувствовал. Вот хорошо... От радости даже по машинке кулаком стукнул — все же не зря она мне дана! Помогает сосредоточиться.
В мягкой манере
Поздней ночью, прервав тишину, зазвонил резко телефон. Я выдернул розетку — и почти сразу же позвонили в дверь... Ну, вот они и пришли! Жена и дочь, вскочив, молча пялились на меня — но чем я мог их успокоить?
Началось все с легкомысленной вроде бы встречи с другом Юрком — мы крепко обнялись, потом свернули в знакомую «щель».
— Ну... в мягкой манере? — пробормотал Юрок.
Тут только я заметил, что он держит рюмку как-то не так — растопыренной ладошкой.
— Что это? Новый стиль? — кивнув на его руку, спросил я.
— Ага! — мрачно усмехнулся Юрок. — Старый нам больше не подходит! — Поставив рюмку, он поднял руку, и я увидел, что два пальца — указательный и средний — перерезаны белым шрамом, торчат, как палочки.
— Та-ак, — проговорил я. — Как же это?
— Обыкновенно! — усмехнулся Юрок. — Одного обормота за ножик схватил!
— Ну и как же ты теперь... мячик ловишь? (Юрок был известный баскетболист.)
— А никак! — окончательно помрачнев, ответил он. — Я теперь ножики ловлю... такое хобби!
— Так, — тоже ставя рюмку, поинтересовался я. — И где же... эта сволочь?
— А там же, где и был! — ответил Юрок.
— Но конкретно — где же? — повторил я.
И вот это «где» теперь здесь, у двери моего дома!
— Так. Быстро в кабинет! — я стал запихивать туда жену и дочь.
— Ну ясно! — закричала жена. — Опять от Шалатыриной этой твоей телеграмма! — она рванулась к прихожей.
Мелькнула юркая мысль: может, действительно все это назвать — «Телеграмма от Шалатыриной»? Тогда уж точно: сколько бы ни было за дверью людей — все покатятся! Но потом я счел этот прием недостойным и, молча запихнув их в кабинет, замкнул. Спрятав ключ, я двинулся к прихожей. С лестницы доносились приглушенные голоса... Так! Совещаются — ломать или нет? Ясно, что поднимать шум на весь дом им тоже не с руки, — я взбодрился.
— ...Да бесполезная эта экскурсия! — морщился Юрок, когда мы мчались еще туда на такси. — Их там целая контора!
— Поглядим! — воинственно говорил я (надо признаться, что рюмочная, где я был с Юрком, являлась в тот день далеко не первой).
Мы вылезли из такси у довольно обшарпанной двери, и я с удивлением отразился в вывеске: «Диетическая столовая».
— Тут, — Юрок мрачно кивнул, — они всем заправляют.
— Чем заправляют-то? Простоквашей? А тебя как сюда занесло?
— Да желудок иногда прихватывает, — виновато пробормотал Юрок.
Мы вошли, увидели большой скучный зал, драпированный светлыми, цвета савана, холстами.
Я бы, честно говоря, просто времени пожалел править тут, непонятно кем и в таком скучном месте.
Но «контора» — человек двадцать — была, видимо, довольна. Резко выделяясь среди обычных посетителей, людей скромных, а порой и болезненных, эти, нарушая все правила, сдвинули вместе два стола около стойки и, развалясь, как только умели, перебрасывались простодушными шутками с довольно пожилой буфетчицей. При этом — о, упоение властью! — они позволяли себе сидеть в помещении, не снимая кепок!
— Который? — направляясь к ним, громко спросил я Юрка.
— Вот этот! — Юрок показал на главаря, сидевшего в самой мохнатой кепке.
— Извините, — я подошел к нему. — Разрешите представиться: Валентин!
— Феоктист, — процедил он, даже не прикоснувшись к кепке.
— У меня к вам, — вежливо заговорил я, — отвратительная просьба: нельзя ли щелкнуть вас по носу — я имею в виду, за десять рублей?
Он медленно начал приподниматься.
— Эх, где наша не пропадала! — вскричал Юрок, врезая с левой в ухо подкрадывающемуся заместителю.
— Вот так вот, в мягкой манере! — воскликнул я.
В скором времени мы оказались на улице.
— Вот так вот! — тяжело дыша и вытирая кровь (у меня), говорил Юрок. — Феку этого весь город знает, а прищучить никак не могут — свидетели боятся.
— И ты, что ли, боишься? — я поглядел на него.
— У меня еще и жена есть, — пробурчал он. — Вот так! — забывшись, он сунул мне руку, но, вспомнив, запрятал ее. — Ну все!
Он повернулся и пошел. Едва не плача, я смотрел ему вслед... Такой человек!
Постояв, я вернулся в столовую.
— Извините, это опять я, — тронув Феку за кепку, проговорил я. — Много вашего времени я не займу — хочу просто сказать, что большего кретина, чем ты, белый свет еще не видал!
Фека заиграл крутыми скулами — большой мастер!
— И вы могли бы свои слова записать? — проговорил заместитель, подсаживаясь сбоку.
— С наслаждением! — я достал из портфеля лист, написал: «Справка. Дана в том, что большего кретина, чем предъявитель сего, на свете не существует». Я положил лист перед Фекой. — И вам выпишу, — я повернулся к заместителю. — «И вы все кретины, — написал я, — раз слушаетесь этого ублюдка...» Пожалуйста!
— А не могли бы вы расписаться?
— Ради бога!
— А вам не трудно проставить свой адрес?
— Пожалуйста!
И вот они появились — причем через неделю, когда я легкомысленно начал уже надеяться, что все обошлось, и ночью — когда все страшное кажется страшным вдвойне! Да, не обошлось! Знаменитое кретинское выражение— «за все на свете надо платить», видимо, все-таки имеет ход — во всяком случае среди кретинов.
Дверь дрогнула. Ну, ясно... Я осторожно открыл, выскользнул через щель и захлопнул за собой. Все в сборе! Надо же — дисциплина у них!
— Извините, лампочка не работает! — проговорил я. — Так что?
— Слушай меня внимательно, — проговорил Фека, элегантно одетый во все «цвета ночи». — Твоих мы пока не трогаем... пока! — он поднял грязный палец. — Но если... — он задумался. — ...Почисть-ка ботинки! — вдруг ухмыльнулся он. Компания разулыбалась.
— Бесплатно? — спросил я.
— А то нет, — проговорил Фека.
— Сейчас... секундочку, — я нырнул в прихожую, вынырнул обратно. — Гуталина нет! — я преданно глядел на него. Фека медленно поднял руку, подержал мое лицо в своих пальцах.
— За неделю если... мне не понравишься — хана тебе... и твоим тоже! — Он отпихнул мое лицо, зашагал вниз по лестнице. Облегченно гомоня, команда двинулась за ним.
Разбитый, я вернулся домой.
— Так. От Шалатыриной твоей телеграмма, все ясно! — выскакивая из кабинета, завопила жена.
— Не от Шалатыриной... спи спокойно, — проговорил я и стал раздеваться.
Что же делать? — с отчаянием думал я. Сколько раз говорил себе: не предпринимай никаких действий в пьяном виде! Расхлебывай теперь! Надо как-то понравиться ему... но как?
На следующий день брел я после работы в метро. Шерстяной клубок пыли гнало ветром по мраморному полу. Вдруг в середине его что-то сверкнуло... копейка! Я обрадованно схватил ее. Вот оно! Все равно она не моя — отнесу этому!
Я долго рвался в диетическую столовую. Возмутительно — рабочее время, а у них закрыто! Наконец высунулся небритый громила в гардеробской униформе, — странный они штат набирают в диетическую столовую!
— Что надо? — хрипло спросил. — Закрыто на мероприятие!
— Мне Фека нужен!
— Так бы сразу и говорил, — он обозначил щель.
— А простому едоку, значит, нельзя? — все еще воинственно проговорил я, входя.
Феоктист как раз стоял во главе стола с бокалом в руке, видно собирался толкнуть какой-то основополагающий спич. Тут я.
— Вот... принес! — я протянул Феоктисту руку.
— Сколько там? — не поворачиваясь, только профилем ухмыльнулся Феоктист.
— Копейка.
Феоктист окаменел. За столом вдруг кто-то хрюкнул — видно, пробрался все-таки какой-то насмешник в их штат!
— Нет, честно, — думал, нужно тебе! — выкрикивал я, покуда вышибала выкидывал меня за дверь. — Так... ну ладно! — Я спрятал копейку в карман, поправил свою шляпку, пошел домой. Как-то сдавалось мне, что чем-то подкосил Феку мой приход, — во всяком случае, чувствовал я, что не скоро он теперь захочет меня видеть.
Жизнь, однако, рассудила иначе. На следующий день суббота была — решил я два дела сделать: брюки погладить и макулатуру сдать. Включил я утюг и за макулатурой полез. Сунул руку в сундук — ударился о дно — ни одной бумажки! Примчался как бешеный в столовую подскакиваю к Феке:
— Ты взял?
— Что именно? — в этот раз повернулся ко мне.
— Макулатуру мою!
Снова кто-то хрюкнул — видно, насмешник еще жив, как ни странно!
— Что ты мелешь? — стиснув зубы, Фека проговорил.
— Нет, честно! Если нужно тебе — так и скажи. А если дочурка в школу унесла — другой разговор. Обрывки газет, этикетки винные... Брал?
Тут двое уже хихикнули — видно, у насмешника напарник завелся. Фека долго тупо смотрел на меня, потом повел шелковой бровью — на меня сразу накинулись со всех сторон, стали валить. Совсем уже обессилел я, вдруг вспомнил: я же утюг дома выключить забыл!
— Э, э! — налетчикам кричу. — Погодите, ребята! Утюг забыл выключить — надо сбегать! ...Да вы что — человеческих слов не понимаете, что ли?! — расшвырял их всех по углам, вскочил, добежал домой, выдернул утюг — дымился уже! — со спокойной теперь душой обратно вернулся. — Ну так что? — к Феке обратился. — На чем мы остановились... так брал или нет?
Снова драка пошла, но как-то довольно вяло уже она протекала — приблизительно по одному удару в час, не больше, — чувствовалось, предельно уже надоела всем такая жизнь.
Ехал домой я и про Феку думал: что же такой бедный-то он — на макулатуру позарился!
Вдруг орлиным своим взглядом увидел я шапочку: еще бы момент — и в эскалатор ее утянуло, еле ухватил! Истоптанная немножко, конечно, но колоссально модная — с кисточкой, с надписью иностранными буквами: «Канада». У Феки, как я понял, только кепка, а на зиму ничего!
Гардеробщик, он же вышибала, уже как своего меня пропустил, усмехаясь, и вслед за мной прошел — поглядеть, что будет? А Фека, наоборот, увидев меня, к кухне метнулся — видно, плохие какие-то предчувствия вызвал у него мой приход.
— Ну, и что ты принес? — с усмешкой, плохо уже замаскированной, заместитель спрашивает, а Фека тем временем рвется на кухню, но дверь не открывается — заклинило, видно.
— Отстань ты! — заместителю говорю. — Не к тебе я — к нему! — подхожу к Феке, прижавшемуся в углу, протягиваю шапочку.
— Что это? — он спрашивает.
— Не видишь разве? Шапочка! Такие в моде теперь! Ну, конечно, подштопать вот тут придется, простирнуть — и носи!
И тут все исчезло передо мной. Чем-то жахнул он меня по голове, — жалко, я не в шапочке был!
Очнулся я в больнице: на койке лежу, вокруг такие же травмированные, как я. Поднялся, опираясь на спинку, — могу стоять! — пошел, покачиваясь, в туалет, и там увидел, в мутном зеркале, что из головы моей два усика торчат. Зашивали, значит, голову — серьезное дело! До какого же отчаяния дошел человек, если может так жахнуть ни с того ни с сего!
На ужин нам морковную запеканку давали, но я ее практически не ел — думал о Феке. Глубокой уже ночью собрался, поехал к нему. Как в народе говорится — ответный визит. Адрес, что интересно, тут же в больнице узнал, оказывается, он совсем недавно в желудочной палате лежал. Давно я уже что-то подозревал — неспроста он в диетической столовой окопался, бедняга! Так что морковная запеканочка в самый раз — ничего горячего и острого ему нельзя! Пошатывало меня слегка, от головы, но все-таки отыскал его квартиру, нажал звонок.
— Что надо? — чей-то голос спрашивает, то ли женский, то ли мужской.
— Да вот — запеканочку принес! — жалобно говорю. — Запеканочка-то ему в самый раз! — Впустили.
Вошел в комнатку его, луной освещенную.
— Покушай-ка! — за плечо его потряс.
Вскочил он, по стене распластался, вытаращил глаза:
— Нет, нет! — закричал. — Ни за что!
Видимо, за привидение меня принял, поскольку весь забинтованный я был, кроме глаз.
Метнулся к выключателю он, несколько раз пытался нажать — но пружиной каждый раз отбрасывало его.
— Ну чего боишься-то? — ласково говорю. — Это же я! Вот запеканочку тебе принес, почти нетронутую, — обязательно докушать ее должен перед сном.
Зубы лязгали у него по ложечке — я его с ложечки решил покормить. Докушал все же. После запеканки, естественно, набрался сил, довольно злобно уже сказал, на блюдечко кивнув:
— А за это тебе будет отдельная месть!
— Ну конечно! — говорю. — Конечно! Раз уж работа у тебя такая — всем мстить. Конечно!
После этого я домой пошел — ночевать было негде у него, скромная квартирка, да и разбогатеешь ли — с такими, как я?
Прихожу я домой и застаю отчаянный разгром: дочка рвется гулять, совсем уже на ночь глядя, а жена, естественно, не пускает ее.
— Мама! — дочка басит. — Но я сказала же тебе: у меня важные дела!
Бегает. Чувствуется, если не выпустить ее — раскатает всю квартиру по бревнышку.
— Но ведь поздно уже, пойми! — вовремя, как всегда, появляясь, проговорил я. — Мало ли кто может сейчас по улицам шататься! (Я-то, к сожалению, понимал, кого имею в виду!)
— Плевать я на них хотела! — дочка говорит. — Меня только те интересуют, кто нужен мне!
— Пр-равильно! — жена говорит.
— Ладно! — дочке говорю. — Иди! Только поосторожней.
— Я все знаю, папа!
Ушла. Некоторое время я по-пластунски за ней полз, на повороте она увидела меня, потрясла кулаком.
Долго стоял, смотрел — пока она в автобус не села.
Молодец, дочурка! — подумал я. — Ничего не боится! Это только я, видно, к старости уже, начал страхи себе какие-то создавать!
На обратном пути варежку нашел, чуть-чуть рваную. Надо будет Феке ее отнести — пока, к сожалению, только одну!
И вырвал грешный мой язык
Все, чего удалось добиться к сорока годам, — этой дачки, поделенной к тому же на три части. Общая прихожая, заваленная всяким хозяйственным хламом — ржавыми керосинками, лыжными креплениями; чистенькая маленькая кухонька, деревянный туалет с круглым отверстием и маленьким окошком под потолком.
Иногда, особенно вдали, можно слегка погордиться — все-таки ценят! — но когда живешь здесь, особенно третий день подряд, ясна вся ничтожность твоего успеха!
Узкая комната с жестяным цилиндром печки в углу, тахта, круглый столик с липкой клеенкой и много едкого дыма, появляющегося при попытке хоть как-то нагреть это помещение!
Дача! Работа! Семья! Сцепка слов, напоминающая те тончайшие паутинки, которые плел упорный паучок над бездной между перилами двенадцатого этажа гостиницы в Пицунде. Как он упорно сцеплял свои кружева — так и я пытаюсь сплести паутинку из слов, заткать ими провалы — но безуспешно.
Я сошел с черного мокрого крыльца, пошел по тропинке среди голых кустов. Самая яркая мысль за последние дни: что здесь, в загородных магазинах и не в сезон, должно скопиться некоторое количество дефицита, — и я третий уже день хожу по промтоварным магазинам в округе, поднимаюсь по лестницам в душные помещения с запахами одеколона и лежалой одежды, сонно брожу в синеватом дрожащем свете трубок и, не обнаружив ничего привлекательного, ухожу — как ни странно, удовлетворенный: ведь попадись там нечто такое, что заставило бы мое сердце учащенно биться, — это было бы трагедией: денег у меня всего полтора рубля. А так — ничего нет, и я доволен. И я упорно шляюсь по магазинам уже не с целью найти нужную вещь, а наоборот, с желанием, чтобы нигде ее не было, — и на такой зыбкой, извращенной основе держится моя жизнь последних дней, а может быть, и последних лет!
Телефонная будка у платформы тягостно напоминает мне о делах, оставленных в городе. Я захожу, набираю первый номер — самый легкий — и в будке начинает нетерпеливо пошевеливаться бодрячок-весельчак, который сразу же начинает плести слова-паутинки над бездной:
— Здорово! Ну как ты? Все путем? (Что — «путем»? Что он несет?) Надо бы увидеться — есть кое-какие мыслишки! (А мыслишка — всего одна: в какой теперь пойти магазин, где бы не встретить ничего такого, что бы меня взволновало!)
Дальше все раздвоилось: мрачные мысли мои пошли тяжелым темным строем куда-то, как эти тучи над платформой, а язык немолодого, дряблого, почти пятидесятилетнего, но одетого в молодежном стиле бодрячка в будке нес свое:
— Понял, понял! (Уже вроде бы с другим абонентом?) Значит, работа моя вам не подошла? Понимаю! (Что, интересно, он может тут понимать?) Значит, когда вам позвонить?.. Двадцать шестого?.. Что?.. Двадцать восьмого?.. Двадцать девятого? А во сколько?.. Когда угодно?.. Понял, понял! Огромное вам спасибо! (За что это, интересно?)
На лице еще блуждает радостная улыбка, язык, еще несколько раз дернувшись в гортани, успокаивается.
Боишься бездны?! Плетешь над нею паутинку? А из чего она?!
Что хорошего может быть в том, что статью, над которой ты работал два года, в которую ты вложил все самое ценное, что у тебя сейчас есть, — зарубили? Что в этом хорошего — объясни?
Но радостная, восторженная, мальчишески непосредственная (такие ценятся вдвойне!) улыбочка еще продолжает почему-то блуждать по почти уже беззубым устам. Три зуба сверху, два внизу — последние мостики над темнотой. Скоро не станет их, и тьма всё захватит.
Я шел по сырой извилистой улице среди пустых дач, с нарастающим отчаянием нащупывая языком обломки зубов: хорошо еще, что совпадают верхние и нижние, так что с закрытым ртом лицо сохраняет еще остатки вытянутой надменности, не превращается в шамкающую гармошку, в пустой кошелек, — но рухнут еще два зуба, и ты старик.
Вдруг в голубеньком домике с надписью «Промтовары» блеснуло окно — или это отразился закат? С кем торговать тут, в пустом поселке?
Я поднялся на сырое крыльцо, рванул набухшую дверь, вошел в тускло освещенное помещение, со вздохом посмотрел на полки.
Зачем я пришел сюда? Я уже объяснял зачем!
Я пошел в дальний угол магазина. Сердце пару раз прыгнуло: а вдруг? Что — вдруг? Схема уже известная — хожу повсюду, чтобы ничего не найти. Боюсь найти — нет у меня ни на что сил и средств! Так зачем же хожу? Какие пустые, перекрученные наизнанку чувства движут мной, — странно, что их хватает для того, чтобы жить и передвигаться!
— Закрываемся — будете чего брать?
Я принюхался — может быть, обоняние, как чувство почти забытое, атавистическое и поэтому менее всего истрепанное, сохранило какие-нибудь желания? Волнующий запах дегтя — но деготь как-то странно покупать? Для чего? Умирать будем — и то не решимся ни на что такое, чего нельзя было бы объяснить решительно всем, хотя большинству — в том числе и этой продавщице — абсолютно безразличны твои поступки.
Деготь отпал. Остались еще какие-то простые физические радости: гнуть, тянуть, крутить — что-нибудь такое. Вот это, пожалуй, подойдет — клей «Момент» — можно будет что-то склеить, а потом с удовлетворением подергать: не оторвать! Здорово повезло — в городе этого клея не бывает. Большая удача!
Продавщица молча подала тюбик — могла бы, кстати, и завернуть... но я давно уже ни с кем не скандалю — только улыбаюсь!
Когда я вышел из магазина, было уже темно: светилось только небо, улица и дома исчезли. Тем лучше — не надо их рассматривать, возбуждать мысли по поводу этих домов и их отсутствующих хозяев.
У платформы я посмотрел на освещенную изнутри телефонную будку — единственный кубик света, храм, где можно еще раз попытаться сплести над бездной паутинку слов, — уходить на всю ночь за платформу, в темноту пока еще страшно. Презирая себя, я все-таки подошел к будке. Громко скрипнула дверь в вечерней тишине. Открыл перед телефоном свой кошелек: стыдно в моем возрасте иметь такой, почти игрушечный кошелечек. Я всунул в дырочку палец, стал сворачивать по кругу тугой диск. Хорошо, если бы диски эти вообще можно было бы повернуть лишь в момент крайнего отчаяния или крайнего счастья, — насколько содержательнее стали бы разговоры, — а легкость поворачивания диска позволяет нам не ценить свои слова, говорить что попало, лишь бы говорить, лишь бы стоять в освещенной будке среди тьмы!
— ...Здравствуйте!.. Вы помните меня?.. Да, да!.. Когда перезвонить?.. В следующем году? Огромное вам спасибо, всего доброго!
Как ненавижу я свою легкость! Другому не могут дать что-то немедленно — он уходит в ярости, хлопнув дверью, а мне надменно и рассеянно обещают что-то, может быть, года через два — и я выхожу абсолютно счастливый, мелко кланяясь, глубоко и проникновенно понимая все трудности того, кто не может мне сейчас ничего дать: «Конечно, конечно!..» Какой удачей я считал свой легкий характер раньше — и как я ненавижу его теперь, когда четко и безжалостно оказываюсь вытесненным на периферию людьми мрачными и тяжелыми. Но уже нет сил не улыбаться, когда отталкивают тебя, — маска легкости уже приросла! — это тем более обидно, что никакой легкости нет, есть тонкая блестящая паутинка над бездной, на которой я балансирую, как паучок, — а зачем? — по всем делам мне давно уже положено упасть, но я не упаду, буду улыбаться, пока останется хоть один зуб, говорить: «Ничего, ничего! Огромное вам спасибо!» и «Когда перезвонить? Двадцать шестого?.. Ах, двадцать восьмого?.. Тридцать девятого?!.. Все понял! До свидания!»
...Это человек легкий, с ним можно не церемониться — он зайдет и тридцать девятого, ну и что из того, что такого числа нет, — он человек легкий, он согласился!
С такими мыслями я шел к даче. Только глубокой осенью, за городом, понимаешь истину: как мало на земле света и как много тьмы! Это мысль тяжелая, мы боимся ее, слетаемся на свет фонаря, как мошкара, пытаемся внушить себе, что это еще день, хотя день наш давно уже прошел, — и я не выдержу и завтра же, наверное, полечу к какому-нибудь фонарю, чтобы поскорей забыть то печальное, что понял я, побывав в темноте, и язык мой, празднословный и лукавый, который я никак не решусь вырвать, снова начнет обманывать всех и в первую очередь — меня самого.
Я вошел в темный дом, принюхался, положил замечательную свою добычу — клей «Момент» в стакан возле умывальника, прошел в узкую комнату, потрогал жестяной цилиндр печки — еще теплится — и, не зажигая света, разделся и лег. Не надо света, слабого и обманного, — пусть будет темнота!
Нет, никогда я не решусь обнаружить свою мрачность перед людьми — с детства был хорошо воспитан, часами со светлой улыбкой смотрел на абсолютно неподвижный поплавок, боясь своим недовольством обидеть — кого? Рыбу? Поплавок? Того, кто привел меня на это место и посадил? Абсолютно непонятно! Но я сидел и сидел. Так и теперь: ни в коем случае нельзя, чтобы кто-то догадался, что терпение мое кончилось, — наоборот — улыбка, радостный тон: «Тридцать девятого? Договорились! Всего вам доброго! Кланяйтесь своим!»
Голова расходилась, никак уже не заснуть! Выпить, что ли, казенного? Под столом в коричневой бутылке с бумажкой, прижатой резинкою, плескалось немного спирта. На бумажке, помнится, написано карандашом «Проявитель», но в бутылке спирт — неделю назад я кинул туда горсточку рябины... Я нашел в темноте чашку, нагнул бутылку, нашел чашкою в темноте рот... Бр-р-р! Гадость! Может, спирт превратился в проявитель, согласно надписи? Но вскоре по разгоревшейся в холоде коже лица, по вспышке ликования (все отлично, ничего страшного, все живы, дела идут!) почувствовал — нет, нормальный спиртяга! Теперь бы подобрать уютный сон — последнее время на сны главная надежда, только вот на языке уж больно погано, все-таки он сделан не из стекла, как те линзы, на протирание которых в достаточном количестве отпускается этот спирт!
Я поднялся, вышел в прихожую к умывальнику.
Может быть, все не так уж и плохо? — побежали блудливые мыслишки. Может, моя любимая статья, в которую я вложил все оставшиеся силы, не зарублена еще окончательно? Почему, собственно, силы беды должны быть лучше организованы, чем силы счастья? Наверняка у противников моих тоже есть сомнения, угрызения совести, приступы неуверенности, — зачем отказывать им в таких всеобщих человеческих проявлениях? Может быть, именно сейчас, когда вроде бы все уже кончено, ветер понемножку начинает тянуть в обратную сторону?.. Как же! Жди! Вместо того чтобы крепко спать, противники твои угрызаются совестью! Тем более из-за того, что сделано, по их убеждениям, абсолютно справедливо!
Хватит себя успокаивать! Почему мы боимся хоть раз заглянуть в глаза беде? Беда от этого, понятно, не изменится, но, может, изменимся мы, станем покрепче?
...А может, еще сбегать позвонить, — еще не поздно что-то сформулировать иначе, что-то представить полуудачей, договориться на будущее?
Нет уж, хотя бы здесь, когда ты один в темноте, имей силы почувствовать неудачу сполна, не порти такую крупную беду мелкой суетой! Буквально сам себя изловил за шиворот у двери, впихнул обратно: не будь дерьмом! Почисть свои оставшиеся зубы и спи! И не болтай хотя бы здесь: «Утро вечера мудренее!» Утро вечера мудрёнее! — вот это правильно. Господи, ну и пасту стали выпускать — клейкая, к тому же отдает спиртом, — а как раз от вкуса спирта во рту я надеялся с ее помощью избавиться! Ладно. Я вернулся в комнату, свернулся в комок, согрелся и начал засыпать. Самое пошлое, что можно подумать, что сейчас, ночью, кто-то занимается улучшением твоих дел. Ничего этого нет. Все у тебя очень плохо! Спи.
Будильник задребезжал как будто сразу же, будто ночи и не было. Все было так, как я и предчувствовал: за окном серая мгла, настроение отвратительное, рта раскрывать не хочется, тем более — какое счастье! — и незачем его раскрывать: еды больше нет, «гуд монинг» говорить некому.
Сполоснуться немного можно, но снова лезть щеткой в рот лень, да и как-то неуютно — сырость и холод проникнут в организм, хоть немного прогревшийся под одеялом. Я поставил пасту обратно в стакан, рядом с универсальным клеем «Момент», столь удачно купленным вчера. От желудка поднялся зевок, но зевнул я почему-то только ушами — рот не открывался. Пригнувшись к мутному зеркалу на стене, я развел губы в японской улыбке, напряг, как штангист, мускулы на затылке — рот оставался закрытым, верхние и нижние зубы не разнимались!
Уже догадываясь обо всем, я выхватил из стакана тюбик клея — так и есть, с двух сторон вдавленности от пальцев, никто кроме меня их сделать не мог. Я быстро понюхал щетку — так и есть — вот откуда необычный вчерашний вкус! Я стал лихорадочно перечитывать инструкцию: «Изделие намазать тонким слоем и сжать!» Так я и сделал: намазал зубы и сжал. «В случае правильного выполнения инструкции склейка сохраняется практически навечно». Замечательно! Я стал глухо, с закрытым ртом, хохотать. Довольно странный получился хохот — я испуганно умолк. В прихожей стоял стол с разным хламом, я вытащил ящик, начал копаться там... хотя что я надеялся найти? Тисочки? Но куда их вставлять? Ацетон? Ацетон, наверное, растворит клей — но ведь и зубы он, наверное, растворит? Вот — то, что нужно, — резиновая груша! Можно вечно молчать — но не голодать же? Я вставил грушу острым кончиком в дыру между зубами. Отлично! С клизмой, торчащей между зубов, я вернулся в комнату. Надо теперь купить жидкой пищи. Я оделся, вышел на улицу. Утром, оказывается, был заморозок — трава побелела.
Проходя мимо будки на платформе, я глухо, с закрытым ртом, захохотал: не дождетесь от меня больше жалких слов — лучше и не ждите!
В магазине я молча набрал кефиру, суповых пакетиков — молча, не отвечая на необязательные вопросы продавщицы, прошел контроль, — с утра мы начинаем болтать и размениваем, быть может, то великое, что созрело бы в голове или в душе.
Я шел обратно, стараясь не замечать тех мелких явлений дачной пристанционной жизни, что раньше умиляли меня, приводили в восторг. Хватит трепаться по пустякам — пора хотя бы помолчать!
II


Кровь и бензин
Сколько чувств я вез в Москву, сколько мыслей, сколько разговоров! Этим я и распугал всю клиентуру. Люди боятся сейчас слишком большого эмоционального подъема. Говоришь шестьдесят слов в минуту — они уже поглядывают на тебя настороженно, переходишь на семьдесят — начинают с тоской коситься в сторону, при восьмидесяти уже пускаются в откровенное бегство. Я понимал, что ничего патологического в моем состоянии нет, с каждым бывает такое — тем более тщательно каждый демонстрирует, что не имеет с этим ничего общего.
Последнего спугнутого мной я словил уже у самой двери, ведущей в глубины его учреждения. Увидев меня, он схватился за дверь и во время разговора ее не отпускал — наоборот, всячески демонстрировал ее мне, как свидетельство своей занятости: уж он и оглаживал ее, и озабоченно проверял, не скрипит ли пружина, и сколупывал ноготком какие-то комочки, прилипшие к ней.
— Ну если что — вы знаете мой новый телефон? — бубнил я.
Он озабоченно сморщился (зачем ему мой новый телефон?), потом, видно, решил хоть таким способом избавиться от меня. С тяжким вздохом он все-таки отпустил на минуту свою дверь, проводив ее таким взглядом, словно плыл на ней в океане. Потом выхватил из портфеля блокнот, вспомнив фамилию, открыл букву — потом вдруг в его взгляде что-то мелькнуло, он уложил блокнот обратно и, оторвав угол газеты, нацелил карандаш...
— Да ничего... не надо! — убито пробормотал я и побрел куда-то по садам и огородам.
Осталась, собственно, одна непроваленная явка — мой родной кузен. Но теперь, как я понимал, следовало действовать с исключительной осторожностью. Позвони я ему и скажи (со скоростью хотя бы шестьдесят слов в минуту): «Дорогой, я очень хочу тебя видеть!» — он с ходу почувствует излишний, к чему-то обязывающий накал и ускользнет. Всю свою жизнь он отличался пугливостью. Еще в студенческие годы, приехав однажды ко мне на встречу Нового года, он стремительно отбыл на поезде 23.59 исключительно из-за того, что мы в этот вечер поругались в пивном баре с официантом.
Так что действовать надо было с крайней осмотрительностью. Я тщательно выспался, аккуратнейше выбрился и лишь после этого набрал номер. Услышав «ал-лё», я бодро проговорил:
— Привет, дорогой! Ну — только ты можешь меня спасти!
— В каком смысле? — настороженно проговорил он.
— Нужно за сегодняшний день поспеть сразу же во множество мест. Успеть всюду — только на колесах! Дела не особенно...
— Это меня не интересует! Ты где?
— Как всегда — на Пушкинской площади! Это ведь единственное место, которое я знаю в Москве.
— Ну хорошо. Сейчас приеду, только заправлюсь! — проворчал он.
Прибыл он действительно очень скоро.
— Ох уж эти петербургские интеллигенты! — проворчал он, отщелкивая дверцу, но чувствовалось, что он был доволен тем, что потребовался исключительно как «тачковладелец» — и не более того.
Бензин, но не кровь! — так, видимо, решил про себя он.
— Так. Ну — куда? — он, потянувшись через меня, захлопнул дверцу (вечно эти пассажиры недозахлопывают дверцы!).
— Хитровку знаешь?
— Ну разумеется! — он задвигал рычагами.
Он явно успокоился — дело простое! Мы плыли по узким улочкам, потом по длинной наклонной улице съехали на низкую пустынную площадь.
— Прошу! Самый центр Хитровки! Вот в этом здании находился знаменитый трактир «Утюг»!
— Трактиры меня не интересуют! — холодно проговорил я, вышел, зашел за угол, через минуту вернулся. Постепенно выработалась модель. Я называл самые отдаленные уголки. Ворча: «Бензину на вас не напасешься», он доставлял меня туда — а по пути мы худо-бедно общались. Но не дай бог признаться ему, понял я, что ничего конкретного в этих удаленных уголках мне не надо, что меня интересует лишь сам процесс передвижения, — Сашок бы меня просто не понял.
Макароны с шоссе Энтузиастов! Вы разве не знаете, что макароны надо покупать исключительно на шоссе Энтузиастов?! Мелькала Москва — конструктивистская, с серыми прямыми углами домов, с длинными балконами через весь фасад, старинная — с крохотными утопленными окошечками, шли дома извилистого модерна начала века, сменяясь огромными, с «архитектурными излишествами», домами пятидесятых...
— Так. Куда теперь?
— Так. Теперь только на Башиловку — и все!
Больше мне совесть не позволяла его морочить — пора было сдаваться...
— Не терплю — терять время даром! — разоткровенничался Сашок. — Зато мой обожаемый шеф не может без этого жить — каждый вечер собирает всю колонию...
— Какую колонию? — удивился я.
— Ну — всех наших, живущих там...
— А-а...
— И заставляет всех «спивать» печальные песни... Тарас Григорьевич, — говорю я ему, — в окружающих нас горах и джунглях живет четырнадцать совершенно различных племен, и пока мы доскональнейшим образом не изучим их язык, философию, экономику — работа наша будет блужданием в тумане!.. «Обожди, хлопец, не части, я что-то худо сегодня соображаю!» — Сашок усмехнулся. — Но скоро, по имеющимся у меня сведениям, ситуация изменится. Жду назначения!.. Да — вот твоя Башиловка! — Сашок резко тормознул.
Я зашел в парфюмерный, тупо постоял... купил зеленый шампунь
«Крапива» в длинной бутылке. «Крапива» с Башиловки! Это элегантно!
— ...Ну и как же ты его обскакал? — поглядев на Сашка, спросил я.
— Того, кто стоит на месте, и обскакивать-то особенно не нужно... Теперь куда?
— Теперь только в центр.
Думаю, что и сам он теперь понимал, что мы ездим просто так, — но признаться себе в этом он не мог!
— Но решающие события, разумеется, произошли одиннадцатого июля!
— И что же произошло одиннадцатого июля... Что-то не то сказал? — я осекся под взглядом Сашка.
— Да-а-а! — после долгой паузы заговорил он. — Верно гласит восточная мудрость: «Нелюбопытный человек подобен одноглазому».
— Да нет... я любопытный! Просто запамятовал!.. Ну — что?
— Одиннадцатого июля в удаленной, но малоромантичной стране, где тянет лямку твой бедный родственник, произошел государственный переворот — к власти пришли военные!
— А, да! Конечно, слыхал... Ну а ты... был там?
Под высокомерным взглядом Сашка я чувствовал себя все более бестолковым.
Наконец он снова заговорил:
— Накануне одиннадцатого июля, уйдя с очередной бессмысленной спевки, причем уйдя уже несколько демонстративно, я вернулся в свой коттедж. Я посидел в шезлонге на террасе, затем ушел в холл. Стояла нечеловеческая духота. Я понимал, что не усну, — Сашок перешел на псевдолитературный стиль, свойственный так называемым «репортажам с настроением». — Веера пальм, словно сделанные из дранки, сухо стучали в мгновенно наступившей темноте, — Сашок со смаком закурил. — Было слегка тревожно. Я понимал, что демонстративный мой уход так не сойдет мне с рук, и прикидывал — какую бомбу подведет он под меня? Обвинит в перерасходе бензина, якобы на мои собственные нужды?.. Хозяйственник он, надо признать, прижимистый, но умелый... Ясно было одно — отношения с шефом вошли в критическую зону, маски были сброшены, предстояла открытая борьба — кто кого? Причем, я думаю, не надо говорить, что возможности были несколько неравные! — Сашок щегольски стряхнул пепел. — Вдруг из тьмы, окружавшей меня, донеслись выстрелы. Я насторожился. Вообще, там нередко постреливают — но тут дробь выстрелов была что-то слишком уж частой... Нетерпеливо расхаживая по террасе, я дождался рассвета — радио вдруг прервало передачи и умолкло. Резко взошло солнце — в тропиках оно всходит мгновенно, словно выныривает! — и я увидел, что шоссе, ведущее к центру города, перекрыто — два крупнокалиберных пулемета торчали по сторонам шоссе, возле них передвигались солдаты — в касках, в бриджах американского стиля. Переворот давно уже назревал — но пока никто еще во внешнем мире не знал, что он произошел. Я понял — это мой звездный час! — Сашок вдруг выпрямился, почти доставая головой до потолка. — Я накинул пиджак, неторопливо спустился со ступенек, сел в свою верную «Тойоту» и неторопливо поехал на пулеметы...
— Но у тебя ведь «Жигули»! — может быть, не совсем кстати встрял я.
— Это здесь у меня «Жигули»... Ровно в восемь ноль-ноль мне надлежало быть в офисе у телетайпа — остальное не играло никакой роли!.. Справедливости ради надо отметить, — не совсем охотно, но старательно выговорил он, — передо мной уже проехала по шоссе одна машина, солдаты даже отсалютовали ей — видимо, это был один из главарей переворота... следом поехал я. Солдаты медленно повернули дула пулемета к машине. Я сидел в машине, как истукан, неподвижно глядя перед собой. Краем глаза я увидел, что солдаты заколебались. Если человек так спокойно едет по пустому шоссе — то, наверное, имеет на это право? Один из них все же, подняв руку, двинулся к машине. Не понижая — но и не повышая скорости, я, не поглядев на него, проехал мимо. И здесь я впервые почувствовал, что значит это выражение — «затылком чувствовать дуло»!
— Да-а-а! — я вытер пот. Я, кажется, тоже «почувствовал дуло». — Ну — а дальше? — спросил я.
— Дальше все очень просто! — Сашок сбросил оцепенение, расслабился. — Ровно в восемь ноль-ноль я вошел в мой офис — на счастье, он не был еще оцеплен (он будет оцеплен через полчаса). Радио как раз передавало речь нового диктатора. Обычный набор трескучей демагогии, — сморщился Сашок, — будто бы все это проделано исключительно в интересах народа, и так далее... Я подошел к телетайпу и передал сообщение. Конец последней фразы был обрублен. Но у нас, журналистов, твердое правило — вся главная информация должна быть упакована в первой фразе, так что обрубленная концовка придала моему сообщению дополнительный эффект. У телетайпа в Москве дежурил мой приятель, Витя Капков. Он передал сообщение по каналам, так и оставив концовку обрубленной, добавив лишь слова: «На этом связь с нашим корреспондентом оборвалась». Скоро об этом знал Нью-Йорк, Париж, Рим!
— ...А как — связь оборвалась?
— Ворвались солдаты, — спокойно и буднично проговорил Александр.
— Да-а-а... Ну и как все было потом?
— Все так, как и должно быть. Шеф добрался в офис только на следующий день. Естественно, он рвал и метал. К тому же он не понимал — следует ли мне тут же врезать строгача за самоуправство, или представить к награде за инициативу? К счастью, сообщение из Москвы поставило все на свои места, шеф понял, что его звезда закатилась, пожал мне руку и ушел петь свои грустные песни! — Сашок широким жестом выкинул окурок в окно.
Мы мчались в четвертом ряду от тротуара в потоке машин по широкому Садовому кольцу... Да-а-а! Москва взбадривает!
— А что там с Семеном у вас произошло? — поинтересовался я.
— А что? — холодно проговорил он. — То, что и должно было произойти с недобросовестным человеком! Вскоре после вылета из Москвы — это было, кажется, на самолетной стыковке в Агре — он затащил меня в бар и прерывистым шепотом сказал: «Знаешь, я почувствовал страшную тоску по родине!» — и под эту тоску тут же выпил три или четыре «хайболла». Пожав плечами, я сказал, что не поздно еще вернуться, — в ответ он выпил еще. И уже на месте он каждый вечер являлся ко мне, жаловался на тоску и стаканами глушил мою водку, — видимо, родина у него прочно ассоциировалась с водкой. Уничтожив все мои запасы, он стал ходить к другим. На чужбине от тоски, сам понимаешь, никто не может отмахнуться. Но он всем уже надоел. Кончилось тем, чем и должно было кончиться, — он был доставлен в полицейский участок из одного... экзотического заведения за попытку уйти, не расплатившись. Он кричал, что давал сувенир — русскую матрешку, что о таких матрешках мечтает все прогрессивное человечество и только эти негодяи не оценили ее! Ночью он явился ко мне в самом расхристанном виде: «Выручай, друг!» Я принял его в самой первой от входа комнате и сказал, что не хочу тонуть вместе с ним. Потом он пытался мне всучить, как бы в подарок, не совсем приличную пепельницу — видимо, чтобы я, рискуя карьерой, пронес ее через таможню, а в Москве бы он потребовал ее обратно! Удивительно, как быстро упал этот некогда... вполне порядочный человек! Через два дня он уже мог заливать свою тоску... так сказать, из первоисточника! — Сашок накинул темные очки, как бы отгораживаясь от всех нелепых людей.
— А ты как... с женой там был? — после паузы спросил я.
Сашок удивленно поднял брови:
— Разве ты не знаешь, кто моя жена? Корифейка в Большом! Если мы и сталкиваемся с ней более чем на час — то исключительно при случайном скрещении наших рейсов где-нибудь в аэропорту Аддис-Абебы...
— И идете в элегантный бар! — с завистью проговорил я. — Вот бы мне так встретиться с моей женой!
— Ты плохо представляешь себе эту среду! — с горечью проговорил он. — Единственное развлечение, которое они позволяют себе, — это перебирать ячневую крупу! У моей жены имеется уже изрядная коллекция курьезов, найденных в крупе!
— Да-а-а... Здорово... Но шмоток ты ей, наверное, кучу оттуда навез?
— Ты думаешь, она наденет вещи оттуда? Даже если Париж и то... уже дико раздражает ее!
Мы ехали в подавленном молчании, потом он вдруг подрулил к тротуару и подошел к ослепительной красавице на остановке — я даже зажмурился от страха: что он, с ума сошел? — подходит к такой! Когда я разожмурился, Сашок что-то строго выговаривал красавице, та робко кивала. Потом он вернулся в машину, резко захлопнул дверцу и нервно закурил.
— Ну... ты суров! — придя наконец в себя, выговорил я. — Разве можно так разговаривать... с такой!
— К сожалению, она совершила несколько непростительных ошибок!
— Разве такие красавицы совершают ошибки?
— Увы! — коротко ответил Сашок.
— А кто это, а? — оглядываясь, еще надеясь увидеть ее в последний раз, спрашивал я.
— Это... мой крест.
— Отличный у тебя крест... дал бы немножко поднести!
— Ты не справишься! — сухо ответил он.
Потом, у прекрасного дома в стиле «модерн», с русалками и водорослями по фасаду, Сашок остановился вдруг уже по собственной инициативе.
— Минуту подожди меня, — проговорил он, вылезая.
— Я тоже вылезу, похожу... Вряд ли ты вернешься через минуту.
Но он спустился по изогнутой лестнице (стиль «волна») действительно через минуту.
— Как — уже? — я захохотал. — Да — сурово у вас!
— Человек занят, — сухо проговорил Сашок.
— И чем же?
— Работает!
— В выходной?!
— У журналистов нет выходных!.. Архитектор Шехтель! — гордо кивнул он, когда мы уже объезжали угол дома.
— Ну а ты-то здесь при чем? — постепенно наглея, проговорил я.
Теперь, когда Сашок сам показал себя бездельником перед своим более сосредоточенным коллегой, я несколько распоясался, стал с упорством командировочного требовать наслаждений. Мы ткнулись в несколько точек, но нигде не было мест — удостоверение Сашка в роскошном дерматине не производило на швейцаров ни малейшего впечатления.
— Ну что же... придется ехать в клуб! — с горечью проговорил он. — Правда, там могут быть некоторые нежелательные встречи... Надеюсь, ты можешь хотя бы там стараться держать себя прилично?
— Попытаюсь! — слегка обидевшись, проговорил я.
Мы остановились у чугунной ограды Дома журналистов. Очкастый крепыш, стоящий при входе, почтительно поклонился нам. Вот — наконец-то Александр привез меня в свое место!
Мы прошли через зальчик с телевизором и шахматами — некоторые сгрудились у телевизора, некоторые у досок. В маленьком буфетике мы выпили кофе, скушали по крохотно-изысканному бутерброду с семгой.
С Александром время от времени раскланивались люди, умело сочетающие замечательные зарубежные одежды с чисто местным, московским апломбом. В общем чувствовалось, что Александра здесь чтят, — вряд ли кто здесь называет его Сашок — лишь я, с воспоминаниями детства...
Тут он поднялся, сказав, что ему необходимо позвонить. Судя по неясным, отрывистым фразам, он разговаривал с коллегой, к которому мы только что неудачно заезжали: «...и много еще работы?.. так... ну хорошо!» Чем-то расстроенный, Александр повесил трубку. Затем мы по полированной деревянной лестнице спустились в туалет. Даже здесь чувствовалась солидность учреждения — светло-зеленый кафель, элегантные светильники, большие хвойные таблетки под уютно журчащими, прохладными струйками воды. Но апофеоза не получилось — вдруг из маленькой дверки выскочила растрепанная ведьма в криво застегнутом синем халате и, размахивая грязной тряпкой, завопила:
— Куда претесь, пьяные хари? Не видите — подтерла только что, пол сырой! А ну геть отсюда!!
Тряпка свистела в опасной близости от наших лиц, кляксы попадали на щеки, — мы попятились. Старуха с грохотом захлопнула дверь.
Молча мы вышли на улицу. Сашок стирал капли с лица. Глаз у него подергивался. Мы сели в автомобиль.
— Просто — не хочется губить старой женщине остаток жизни! — проговорил наконец Сашок.
Да-а-а... Не дают у нас заноситься, умеют сбить лишнюю спесь!
— Все! Хватит! — он рванул с места. — Работать!
Мы летели среди космических стеклянных домов Нового Арбата. Скинув скорость, он подъехал к дому-книжке, достающему до облаков. Выключил мотор.
— Так. Ну что? — в наступившей вдруг тишине деловито заговорил он. — Что у тебя завтра за дела? Какие встречи? Может быть, я могу чем-то помочь?
— Да нет, спасибо! (Как-нибудь с моей мамой, а также с теткой — его, кстати, матерью, я сумею встретиться сам!) ...Поднимусь?
— Ну пожалуйста... Только ведь знаешь — женщин нет дома.
— Ну ничего! — я уже как будто его утешал.
Консьержка, выглянув из своей светелки, расплылась в улыбке. Мы поднялись на лифте, вошли в обитую светлой кожей дверь, прошли через широкую прихожую в кухню с красным колпаком зарубежной вытяжки над газовой плитой.
— Так... Работать! — Сашок рывком поднял машинку на кухонный столик.
В кухню ворвался стройный одиннадцатилетний Митя.
— Как дела? — несколько вдруг заискивающе проговорил Сашок.
— Отвратительно! — раздувая ноздри, заговорил Митенька. — Сегодня был у Тимура, и он, размораживая холодильник, осмелился предложить мне какого-то тухлого судака: «Все равно мы уезжаем!»... За кого он нас принимает?! Кажется, мы занимаем достаточно высокое общественное положение! Я требую, чтобы ты непременно объяснился с его родителями!
— Объяснюсь... непременно... — пролепетал Сашок. Рядом с сыном он выглядел несколько растерянно и мешковато. — Но разве ты не узнаешь? Это же наш дядя Валя!
— Узнаю... с трудом! — скользнув взглядом по мне, отрубил Митенька.
— Почему это? — пробормотал я.
— Опустились донельзя! — припечатал он. — Для чего в вашем возрасте этот живот... обвисающие щеки? Занялись хотя бы теннисом, что ли! — хлопнув дверью, Митенька удалился.
Мы долго подавленно молчали.
— Так... Работать! — Сашок резко снял с машинки чехол.
— И много у тебя работы? — поинтересовался я.
— Достаточно! Ты уже будешь... ночевать у тети, а я буду еще трудиться!
— Почему это — у тети? Я у тебя буду ночевать!
Он пожал плечом и забарабанил, как профессиональная машинистка: та-та-та, та-та-та, та-та-та!
Зазвонил телефон. Александр сорвал трубку.
— Да-а-а? — вальяжным голосом затянул он. — Здравствуйте, Аделаида Касимовна! Как вы отдыхаете? Похорошели чертовски, я думаю! Что Федор Кузьмич?
— ...чудесно, чудесно! — доносилось из трубки. — Здесь буквально все по высшему классу! Когда я выхожу на воздух — из столовой или из нашего корпуса, у меня такое ощущение, что мне дают чистый кислород!
Ну и особа! Ей, видите ли, дают!
Улыбка его была настолько механической, что он даже забыл ее на лице, она тускло освещала комнату, как луна...
— Для газеты статья? — спросил я, когда стук на секунду прервался.
— Да нет... — задумчиво проговорил он. — Не для газеты... бери выше!
— Ну а вот скажи, только честно! — Час сумерек, как мне казалось, располагал к откровениям. — Как ты сумел так подняться? Связи?
— Делать что-то надо! — Сашок вдруг разозлился. — Пока вы там у себя, тряся седыми уже бородами, бурно обсуждаете в углу, как лучше отпроситься у начальника за билетами в Филармонию, — я в это время... под пулями!.. — он неожиданно всхлипнул.
Насчет билетов — это он здорово сказал! Прямо под дых!
В облаках стали включаться стеклянные комнаты-кабины — Сашок, не поднимая головы, щелкнул кнопкой, выключая интим.
— Ну все! Работать! — он завинтил новый лист и опять застучал.
Здорово это у него: проник в суть жизни, всплакнул, и вот уже снова работает — и на все это потеряно минуты полторы... Да-а-а, местной деловитости стоит поучиться!
Под стук машинки я задремал в кресле, потом перевалился на кушетку. Вдруг дверь распахнулась, влетел усатый дед в кипенно-белом исподнем, пластая перед собою воздух саблею, закричал:
— Прекратить! Не даете спать!
Я ошарашенно сел на кушетке. Сабля так и свистела над нашими головами. Я думал, что Сашок испугается, уступит, — но неожиданно он, оскалившись, схватил поварешку и, прикрываясь, как щитом, крышкой мусорного ведра, начал сражаться. Некоторое время они звонко фехтовали, потом дед, видимо удовлетворенный, повернулся и ушел.
Сашок в ту же секунду рухнул на табурет и снова стал печатать: та-та-та! та-та-та! та-та-та!
Под этот стук я опять уснул, и проснулся, когда стук прервался. Сашок сидел, уронив голову. Галстук был приспущен, на отставшем от шеи крахмальном воротнике виднелись выпуклые грязные полоски.
— А? — Сашок встрепенулся, выкатил на меня свои круглые глаза. — Ты откуда? Приехал, что ли?
Мы горячо обнялись.
— А до этого, что ли, ты меня за другого принимал?
— А, да. Мы уже виделись! Вот черт!
Он еще не успел напустить на себя важность, был такой, как раньше.
— Хорошо бы твои женщины... спустились на минутку со своих высот... и выстирали бы тебе рубашку! — сказал я.
— Да зачем им спускаться с высот! — с горечью проговорил он.
Мы с ним наконец-то поглядели друг другу в глаза.
— Так! — тут же заговорил он. — Сколько времени? Уже четыре? Надо работать.
— Да ты вроде закончил уже, — я кивнул на груду напечатанных листов.
— Это так!.. В четыре утра я сажусь обычно за главный свой труд!
Он полез в буфет, достал со дна толстый переплетенный том, положил его почему-то к себе на колени и начал писать.
— Как-то не разобрать, что ты пишешь! — попытавшись приглядеться, проговорил наконец я. — Почерк очень неясный!
— А зачем нужен ясный? — с болью проговорил он. — Все равно не оценят! Может быть — лет через сто! — во взгляде его мелькнуло легкое безумие.
— А что это? — я кивнул на том.
— Проект спасения человечества! — чуть слышно прошептал Сашок. — Кто-то должен же беспокоиться об этом, — скромно добавил он.
— Ясно, — тоже шепотом проговорил я.
Он снова стал карябать. Я, будучи человеком слабым, снова уснул. Когда я проснулся, было уже светло. Сашок спал сидя, пламенно прижав свой том к животу. Лицо его было отечное, измученное, блестело испариной, на щеках чернела внезапно вдруг выросшая щетина.
— Так! — проснувшись от моего взгляда, он выкатил круглые свои глаза, быстро перевел их на ходики. — Половина седьмого! Надо собираться! Душ, бритье! — энергично, подхлестывая себя, заговорил он. — Кофе можешь сварить? — он повернулся ко мне. — Надеюсь, там у вас хотя бы кофе умеют варить?
Я с треском молол зерна, ссыпал кофе в латунный кувшинчик — и вдруг почувствовал, что волнуюсь: от имени своего города кофе варю!
Гиганты
В последний день пребывания в Москве я все же решил зайти к Стасу. В каждый свой приезд я обязательно заходил к нему — и сейчас вроде бы положено исповедаться. Сделался он суров, особенно в последние годы, добровольно взвалив на себя гигантский труд — стал считать себя «совестью эпохи». Ну, или, во всяком случае, — совестью нашей компании. Никакой «нашей компании» давно уже нет, а он есть, и все обязаны исповедоваться ему — так, во всяком случае, принято. И когда шел я к нему в этот раз, поджилки тряслись: наверняка я что-то накузьмил, о чем он непременно узнал и теперь осуждает.
Я смотрел из окошка трамвая... удивительный город Москва: возносятся до небес космические строения из каких-то полупрозрачных материалов и в то же время сохраняются почти без изменений уголки истории. Причем, если двухсот-трехсотлетние дома демонстрируются и реставрируются, то пятидесяти-шестидесятилетние как-то выпадают из поля зрения, стоят в том же виде, плюс изменения от времени и погоды, и грустно попадать в такие места.
В одном из таких мест, в длинном двухэтажном бараке, и жил теперь Стас, страдалец-профессионал, — в другом каком-то месте он и не мог бы жить!
Я поднялся по затхлой деревянной лестнице на второй этаж, шел по коридору с длинными половицами вдоль множества дверей... такая коридорная система часто встречалась, помню, в детстве. В Ленинграде такого уже теперь не найти, но в Москве можно встретить любые чудеса.
Стас молча открыл дверь, пропустил. И даже об этой холодной встрече пришлось договариваться по телефону заранее, — причем только такой суровый человек, как Стас, способен назначить дружескую встречу на полшестого утра! Это ему кажется единственно возможным, более того — переполняет гордостью: вот какой загруженный человек — дружеским встречам может уделить только несколько секунд перед рассветом!
Помню, когда мы с ним дружили более интенсивно и встречались чаще, уже тогда поступки его были насыщены какой-то настырной пунктуальностью. Однажды мы с ним не расставались несколько суток в поисках писчей бумаги по сорок шесть копеек пачка, причем пачки по сорок семь копеек и по сорок пять вызывали у него лишь презрительные усмешки.
«Ну что я тебе буду объяснять — все равно не поймешь!» — говорила эта мудрая и усталая усмешка.
— Ну вот — гляди! Отличная ведь бумага! — я все-таки надеялся его совратить. В ответ он молча выходил из магазина...
И так же он вел себя и в остальном. Однажды он решил вдруг осчастливить человечество, взять в свои руки разящее перо и написать роман о пьянстве (тогда именно пьянство почему-то попало под его разгневанный взор). Но в управлении милиции (начал сверху!) не захотели — или не смогли — дать ему точную цифру алкоголиков...
Негодуя, он порвал рукопись.
— А без точных цифр нельзя было? — робко поинтересовался я.
— О, господи! — с кротким вздохом произнес он. «С кем приходится общаться!» — очевидно, должно было прозвучать далее. На этом мы и расстались тогда... Поэтому можно себе представить, как рвался я к нему в этот приезд!
— Ну как ты, вообще? — наконец нарушил тягостное молчание я (он, видимо, твердо решил молчать, «цепко», как ему думалось, оглядывая меня). — Не пишешь больше? (я вспомнил о его единственной попытке).
Стас скорбно усмехнулся.
Встреча явно не ладилась. Мы протиснулись через узкое длинное пространство в довольно большую, но пустоватую комнату-кабинет, потом через еще более узкое пространство (как он тут протискивается, такой гигант?) в совсем крохотную спальню и присели с прямыми спинами на стулья.
Я огляделся... Да-а-а... Стас давно уже отказался от всех внешних форм преуспеяния, сосредоточившись исключительно на внутренних, — поэтому и такую квартирку следовало считать грандиозным подарком. Работал он, насколько известно, воспитателем в девичьем общежитии — причем серьезно!
— Ну как ты? — пытался я реанимировать разговор. — Все так же? Кстати, когда запустишь меня в свой огород в качестве козла?
— К сожалению, огорода больше не существует! — усмехаясь лишь одним уголком, вымолвил он.
— Погорел?! На чем?
— К сожалению, все значительно скучнее... Просто обнаружилась другая, еще более засохшая нива.
— Которую немедленно надо оросить!.. Слезами, я имею в виду, слезами!
Стас кротко вздохнул.
— К сожалению, мне пора! — он чопорно поднялся, как после неудачных дипломатических переговоров.
Протиснувшись через узкости, мы вышли в коридор, спустились по лестнице.
— Да! — я еще раз попытался оживиться. — А как тут наш Кузя?
— Понятия не имею! Я давно уже не подаю ему руки!
Молодец! Всегда находит двух-трех людей, которым демонстративно не подает руки! (Мне, кстати, тоже не подал!) Это какую же силу надо иметь, чтобы руки не подавать! У меня, помню, рука парализована была — и то я подавал, как мог, — а чтоб уметь здоровую руку не подать!.. Гигант!
— А что произошло все-таки? — поинтересовался я.
— С людьми подобного сорта никогда ничего не происходит. Просто — торгует своими способностями, оптом и в розницу!
— И почем?
— Если ты дальше намерен вести разговор в таком тоне...
— Извини! — я захлопнул рот.
Мы молча прошли по горбатому московскому переулку и спустились к маленькой серо-белой церквушке. Стас вдруг многозначительно остановился. Я тупо поглядывал то на него, то на церковь.
— Матюша Казаков! — выговорил Стас.
— Где? — я стал испуганно озираться по сторонам.
Стас кивнул на купол.
— А-а, — проговорил я. Мы помолчали. Я не знал, сколько в таких случаях полагается стоять.
Потом мы сдвинулись, перешли улицу, прошли вдоль каменной стены и свернули в церковный двор.
— На заутреню, что ли? — я остановился.
— К сожалению, наших грехов уже не замолить. — вымолвил он.
Интересно, что он имел в виду?
Церковный двор оказался заставлен бело-красными пикапами.
— Так ты на «скорой» теперь работаешь?
Стас широко развел руками, как бы говоря: «Что делать? Кто-то должен!»
Он подошел к пикапу, отпер сначала заднюю дверцу, потом кабину. Уселся за руль. Я сел рядом.
— Считаю своим долгом тебя сопровождать!
— Все ерничаешь? — проговорил Стас.
— Нет, серьезно! Давно мечтал посмотреть, как тут работают, и вот подвернулся близкий друг!
— Работа эта не предназначена для праздного любопытства... Впрочем — спроси у врача! — он кивнул на подходившего пышноволосого брюнета.
— Извините — вот к другу... проездом... а он едет! Нельзя ли с вами мне? Я и подмогну, коли что! — я почему-то перешел на просторечие.
— Ну пожалуйста! — пробормотал врач несколько удивленно. — По-новой на комбинат! — сказал он Стасу.
Прибежала молоденькая медсестра, и мы поехали. Водить он стал классно — маленькие домики так и мелькали!
— А что там... на комбинате? — крикнул я.
— Ханыги! — отрывисто проговорил Стас. — Работают, потом что-то натворят, их судят и направляют туда же... Несчастные, в сущности, люди! — добавил он.
В конце старинного дряхлого тупика перед нами разъехались в стороны железные ворота. У длинного стеклянного здания мы остановились. Возле желто-синего газика клубились люди.
— Где? — деловито спросил Стас у милиционера.
Тот показал на темный вход в здание. От широкого гулкого зала была отгорожена, стенками не до потолка, фанерная каморка. Там на топчане, под плакатами по технике безопасности, лежал небритый человек с желто-зеленым лбом, покрытым потом.
На груди его лежала зеленая куртка.
— Опять это Хвощ! — проговорил доктор.
Тот вдруг вскочил, мелькнул кулак — доктор еле успел уклониться, кулак со всей силы врезался в плакат: «Не работай без заземления!»
— Тихо, тихо! — Стас перехватил руку. — Давай, давай... баиньки! — он с помощью медсестры уложил вдруг осевшего Хвоща на носилки.
Я, стараясь хоть чем-то помочь, поднял с пола куртку — на ней было темное пятно:
— Положить?
— В ноги! — отрывисто скомандовал Стас.
У выхода нас нагнал торопливо хромающий человек.
— Стоп! — он поднял ладонь. — В куртке казенный микрометр у него!
— Посмотри! — скомандовал мне Стас.
Я быстро перерыл карманы, вытащил тяжеленький инструмент в дерматиновом чехольчике.
— Отдать? — спросил Стас у Хвоща.
Тот, слизывая с губы пот, кивнул. Когда мы задвигали его в машину, голова его болталась почти безжизненно. Стас закрыл заднюю дверь, и мы с ним вернулись в кабину.
— Ну — а ты как живешь? — вдруг спускаясь из своей высокой задумчивости, поинтересовался Стас.
Вопрос был хамским уже просто в силу колоссального его запаздывания, а во-вторых, — боюсь, что именно на это он и бил, — чем особенным мог я похвастаться, когда рядом шла работа в «Реанимационной»?
— Уезжаю... в этот... Трудногорск... Тундрогорск! Ладно — не буду тебе мешать. Надеюсь, меня хоть выпустят отсюда?!
Не прощаясь, я выскочил из кабины и ушел.
...Уже вечером, после всей суеты последнего командировочного дня, я брел по широкому центральному переулку, освещенному закатом. До поезда оставалось четыре часа. Вдруг я остановился у большой парикмахерской. Я долго вглядывался через витрину внутрь... и вспомнил ее. В детстве почти все летние каникулы я жил с бабушкой у тети Люды в Москве, ходил по городу один... Потом все это забылось, и вдруг сейчас вспомнилось, как колоссально важное! Я ясно вдруг вспомнил, как заходил тогда в эту парикмахерскую, — каждый раз это было для меня счастьем. Парикмахерская эта — с полированным деревом стен, с овальными зеркалами в резных рамах — вызывала у меня ощущение покоя, счастья, особенно когда она была просвечена вечерним солнцем, как сейчас, — именно это время в ней я любил.
Потом я приезжал в Москву в юношеские годы — то была совсем уже другая Москва, потом, уже у взрослого, — третья... а эта Москва совсем было потонула — и вдруг неожиданно снова всплыла!
— Зайду! — решил я.
Гардероб был точно такой же, и столик с плюшевой скатертью... Я вошел, щурясь от солнца, в зал, сел в кресло к пожилому парикмахеру... знаком или незнаком?
— Постричь и побрить! — попросил я и откинулся в кресле, смутно надеясь на возвращение прежнего блаженства.
Парикмахер, зевнув, начал стричь. По первым же прикосновениям его пальцев я почувствовал, что он чем-то недоволен, и состояние это мгновенно передалось и мне..... Глупо было надеяться — то время прошло, да и сама парикмахерская... амальгама на зеркалах отстает, коробится по углам трепаной зеленой подкладкой. Зоны бывшего твоего счастья не стоят без изменений — и если ты не посещаешь их, они распадаются. Вдруг его пальцы вздрогнули и задвигались весело, четко. Какой поворот его мыслей послужил этому причиной? Явно, что дело не во мне. Я вытянул шею вбок и поймал в зеркало появившегося из темного гардероба высокого статного старика в светло-сером костюме.
— Здравствуйте, Сергей Иваныч! — раскланялся он с моим мастером.
— Здравствуйте, Константин Алексеич! — радостно ответил парикмахер. — Будьте любезны, подождите одну минутку.
— Так вам, наверное, за неделю надо звонить — а я уж так! — он сокрушенно развел руками.
— Да нет — какое там за неделю! Отстал от жизни! — как бы сокрушенно проговорил мастер, но в голосе его звучало совсем другое: у нас-то все правильно, это другие сходят с ума с их новыми нелепыми модами.
Они с улыбкой смотрели друг на друга, видимо зная друг друга давно и радуясь встрече. И даже то, что нужно немножко подождать, устраивало их — так солидней. И даже во мне (хотя со мной и собирались расправиться за «минутку») поднялось какое-то блаженство: я снова оказался в своей любимой и почти забытой парикмахерской, где мастера и клиенты относятся друг к другу с бескорыстной почти любовью — клиенты за то, что мастера здесь высочайшего уровня, тонкой, без тени подобострастия, обходительности, мастера же любят клиентов за их простоту, всякое отсутствие позы и постоянство — в своих важных делах клиенты эти не забывают про них и, вырвав минутку, всегда приходят именно к ним.
И этот гость тоже явно был из гигантов — это сразу определяется по движениям, по интонациям голоса, по вроде бы простым речам — от которых почему-то подмывает вытянуться во фрунт. Но парикмахер, старый виртуоз, почти не глядя на мою голову, но работая безупречно, добродушно перешучивался с гостем.
— Пожалуйте! — изящным жестом мастер сдернул салфетку (часть их взаиморасположения досталась и мне). — В кассу, пожалуйста! — с достоинством он отстранил мятый мой рубль.
И кассирша, седая интеллигентка, отсчитала мне сдачу до копейки — здесь царили сейчас порядочность и корректность, отвергающие всякие новые, мутные и неясные течения... и все это возродилось мгновенно, с появлением великолепного старца.
Нужно было уходить, но ноги не шли, я понимал, что в таком заколдованном царстве могу уже не оказаться больше никогда. Я медлил, как бы потрясенно разглядывая какой-то старый журнал на столике.
Крупняк, — так я назвал про себя величественного посетителя, — выпрямив плечи и голову, легким шагом прошел по паркету и опустился в кресло, над которым мастер, без всякого притом подобострастия, успел два раза взмахнуть салфеткой. Я понимал, что дальнейшее в их встрече будет носить слишком личный характер — присутствие соглядатая здесь по меньшей мере неуместно — однако ноги мои не шли.
— Как обычно? — спросил мастер, слегка склоняя голову набок.
— Да уж поздно мне моду менять! — величественно-добродушно пророкотал крупняк. — Да и волос мало уж, для новых-то мод!
— Да и я, надо признаться, им не обучен! — с гордостью проговорил мастер. Великолепный дуэт!
— Как Анна Тимофеевна? — донеслось оттуда.
— Да ползает понемножку по даче!
«Кто же он?» — я кинул вороватый взгляд в зеркало... Ну, ясно! Один из корифеев заповедного МХАТа — ведь МХАТ же рядом, через два дома — как же я сразу не сообразил! Только там остались такие величественные старики, холеные вплоть до мешочков под глазами, осыпанные всеми возможными званиями и наградами, но, к сожалению надо признать, слегка недобравшие, в наш век «трамвайного кино», широкой популярности у публики, не достигшие мгновенного всеобщего узнавания в общественных местах, и тайком, с надменной горечью, переживающие это, и все-таки страстно надеющиеся на узнавание.
Тем более я должен исчезнуть, раз не узнаю! Я вышел на улицу — но азарт мой почему-то не исчез. Я нырнул в будку чистильщика: все-таки дождусь выхода крупняка — уж больно сильно он чем-то меня разбередил!
Он вышел — замечательно постриженный, освеженный, нарядный, наверняка мастер почистил ему обшлага щеточкой — такой обычай, ныне забытый, я тоже откуда-то помнил. Он повернулся — в сторону от МХАТа — и неторопливо, но горделиво двинулся по пустому широкому тротуару. Шаг его был пружинист и легок, движения отточены и сильны.
Нет, лицо его безусловно знакомо — но скорее как тип, конкретные его черты все-таки незнакомы... артиста маститого, пусть даже не очень популярного, я бы все же узнал — а не маститым, с его повадками, он быть просто не может... Значит... Кто же он? Известный дирижер, объехавший со своим прославленным оркестром весь мир? Нет... Чего-то в нем не хватает... а, понял: иностранных вещей! В последние годы ведь именно они обозначают жизненный успех. А старик этот был одет зажиточно, но отечественно — я бы сказал, он олицетворял собой тип фаворита пятидесятых годов. Дирижер, вернувшийся из турне, наверняка не удержался бы и надел — несмотря на всю свою маститость — какую-нибудь зарубежную молодежную курточку, оправдываясь жарой... нет, этот старик был одет не так! В курточке представить его я бы просто не рискнул — да этак он сразу бы потерял всякое уважение мастера и прочих людей, а это дороже какой-то курточки!
Он завернул в прохладную молочную закусочную, долго и слегка капризно разговаривал с продавщицей — но и здесь, видимо, его знали и любили именно таким. Из мраморных глубин вышел к прилавку сам заведующий, величественно отстранив практикантку, крашеную девчонку с хриплым голосом, и стал обслуживать сам... и снова произошло тайное общение членов ордена («...Мы-то с вами понимаем друг друга, но вовсе не обязательно объяснять всем...»). Это было не просто поедание творога, то было действо... и все вокруг бессознательно подтянулись... что не исключало вовсе внезапного срыва, скандала, криков — все это вспыхивает неожиданно и бурно, — поэтому я поспешил выйти вслед за ним.
Он прошел под цветущими липами (стволы росли из отверстий в середине круглых узорчатых решеток) и остановился под вывеской «Такси». Невозможно было представить его в хвосте длинной безнадежной очереди, да еще под дождем (такое подворачивалось, в основном, мне), как и невозможно было представить его с тычками и криками лезущего без очереди — поэтому и очереди, естественно, не оказалось вовсе.
Он не простоял и минуты: такси, проехавшее по той стороне, в тени тополей, плавно развернулось и подкатило к нему. Ясно, что мимо такого клиента проехать невозможно!
Он опустился на сиденье, через секунду — не раньше — потянулся захлопнуть дверцу, но тут шофер, губастый, в натянутой кепке, что-то пробурчал, он недоуменно посмотрел на шофера, потом, радушно улыбаясь, посмотрел на меня:
— Вы не к Таганке едете?
— К Таганке!
— Присаживайтесь! В приятном обществе и дорога короче! — Он проговорил «в обшшестве», но эта некоторая подчеркнутая простонародность лишь усиливала ощущение величия.
В его «обшшестве» я готов был ехать куда угодно!
Приятно после долгого перерыва снова мчаться по Москве, перекатывая по нёбу вкусные названия московских улиц: Остоженка, Пречистенка, Волхонка! У широких белых ступенек, поднимающихся к высотному дому, он повернулся к водителю:
— Остановите, пожалуйста! Задержу вас на минуту — запамятовал купить сыр! — с извинением за задержку он обращался ко мне, что, кстати, правильно.
— Сыр понадобился ему! — громко проговорил водитель, когда тот еще и не отошел и вполне мог услышать (на что, видимо, водитель и рассчитывал). Апеллировал водитель ко мне, с присущей ему, как видно, злобной нахрапистостью, без сомнений зачисляя меня в свои единомышленники.
— Я тоже выйду! — пробормотал я.
Тот с немой яростью уставился на меня. Слегка помедлив, я все же вышел. Старик не спеша поднимался по ступенькам (величественный, надо признать, вход в магазин!). Я вошел следом за ним. Так. И этот магазин я вспомнил! Тогда я часто заходил сюда, хоть ничего и не покупал, просто блаженствовал в его мраморной прохладе, наслаждался комфортом, духом взаимной любезности, цветными пирамидами вин и фруктов (каждый фрукт в специальной гофрированной бумажке!). Тогда у меня не вызывали удивления эти магазины, с огромными цветными панно под потолком, изображающими «Праздник урожая» или «Вытаскивание невода», где каждый рыбак был как Аполлон!
Крупняк неторопливо шел через зал, шаги его гулко отдавались под высоким потолком... Зачем такие потолки? Достаточно и таких, как в теперешних магазинах: снял шапку — и спокойно пройдешь!
Я шел на приличном расстоянии за ним. Теперь я разглядел, что он был удивительно крепок: широчайшие плечи, мощные, чуть кривоватые ноги... Навряд ли он деятель искусств. Быть может — полярный летчик? Ведь именно они были «небожителями» своего времени, затмевая кинозвезд. И лица у них были как на подбор — мужественные, открытые, красивые — лучше, чем у кинозвезд, которые их играли.
Он подошел к отделу, и пожилая полная продавщица встрепенулась, поправила кокошник... Состоялся короткий любезный разговор — и он отошел от прилавка со свертком, завязанным ленточкой. Я совершенно оторопел: видел ли я вообще хоть когда-нибудь такую упаковку?! И куда делись толпы, осаждающие этот магазин?! Исчезли!
Нет, ясно — все совершается именно так, а не иначе исключительно благодаря ему, без него все распадется — большую московскую квартиру разделят враждующие дети, или в нее въедет кто-то совсем иной... На просторной даче будет жить одна Анна Тимофеевна, разошедшись со всеми... а какая семья была при нем! Хорошо, я успел это изловить, хотя бы на излете! Как бы мне этого не забыть!.. Может, мне сделаться таким?..
Да нет — для этого явно требуется положение и деньги!.. Да нет, дело не в этом. Вряд ли у него такое уж поднебесное положение, если он сам ходит по магазинам. Деньги? Вряд ли наш шофер более любезен с теми, с кого он дерет три шкуры! Дело не в деньгах! И костюм у него — добротный, но изрядно поношенный — теперь я разглядел...
Генерал? Может быть... Хотя тон и жесты его немного слишком любезны для генерала, те разговаривают короче и резче — я работал в их санатории и сразу узнаю их... Так кто же он? Мы снова уселись в такси.
...Еще я любил тогда стоящие в стороне от главных линий тихие, асфальтовые, всегда освещенные солнцем боковые аллеи Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки... Из зарослей экзотического кустарника выглядывали ажурные восточные павильоны — «Павильон вин», «Павильон цветоводства». Дни напролет бродил я тогда по этой уютной и как бы слегка зачарованной территории (в тогдашнем счастливом состоянии ничуть не удивляясь полному отсутствию вокруг людей, и в частности — собственно работников сельского хозяйства). Сколько я провел там часов! Теперь не поверить!
...Между тем водитель давно уже упорно что-то говорил, обращаясь в основном ко мне, как к более близкому:
... — Андрюха и женился на ней, дурак! Вернее, как: сходил пару раз к ней в общежитие, она — хоп! — вещички собрала и явилась. Сперва так телепались, потом добила она его — записались! Теперь как к ним ни придешь — сразу: «По рублю, по рублю!» Андрей выпьет, брык — и лежит. А Любка орет: «Еще! Еще!» Толстая стала, растрепанная... То ли с Тульской, то ли с Ярославской области она.
— А вы сами откуда? — спросил я водителя (чувствуя почему-то вину перед демонстративно молчащим «гигантом»).
Почему я не могу быть таким? В чем разница? Рост приблизительно тот же, мешочки под глазами тоже имеются...
— Я? — удивленно проговорил водитель. — Сроду москвич! Еще предки мои извозчики тут были!
Мы ехали по какой-то странной местности, заросшей чертополохом, среди старых, уже покинутых жителями домов. Потом пошли кладбища, и снова оставленные дома, и снова кладбища...
— Тупик знаешь этот? — спросил водитель. — Жена тут в сумдоме у меня! — он вдруг громко захохотал.
Я вопросительно глянул на старика: безопасно ли с таким водителем ехать дальше? Но тот застыл, как мраморное изваяние.
— Ну ничего! — продолжил водитель. — Тут ко мне шастает одна. Шастает и шастает. Общаемся с ней.
— Ну и где же вы... общаетесь с ней? — не в силах остановить этот чудовищный разговор, спросил я.
— А где ты сидишь! — он обернулся ко мне и громко захохотал.
— Остановите, — вдруг проговорил старик.
— Сколько можно-то? — обозлился водитель. — Останавливались уже!
— Поездка закончена. Сколько с меня? — старик с отвращением протянул деньги.
Вот — разница! Я так никогда не смогу! И довольно стыдно мне как бы азартно доискиваться до его профессии — я ведь прекрасно понимаю, что не в профессии дело!
— Тут же кладбища одни! — удивленно проговорил водитель.
Старик молча отдал деньги и вышел. Мы сидели молча и неподвижно.
— В монастырь подался! — кивнув на поднимающийся за склепами купол, несколько смущенно проговорил водитель.
— Я тоже выхожу.
— Ты-то куда?
— Прощай! — я вышел.
— Э, э! — высунулся он. — А деньги?
— Деньги ты уже получил!
Я разыскал среди склепов телефон-автомат, набрал номер опального Кузи. Какого черта?!
— ...А он в мастерской у себя! — сказала его мать. — Сообщаю телефон...
— Спасибо! — повесил трубку, торопливо набрал.
— ...Здорово! — радостный голос Кузи. — Ты где?
— На кладбище.
— На каком?
Я выглянул к проходившей мимо женщине:
— Скажите, на каком я кладбище?.. Спасибо. На Калитниковском! — сказал я в трубку.
— Отлично! — вскричал он.
— Почему это?
— Потому что рядом совсем! Крутицкое подворье! Бери тачку! Плачу!
Тот водитель еще ждал, понимая, что сам я отсюда не выберусь, но я подождал другое такси — так оно будет дешевле!
Крутицкое подворье. Кирпичные монастырские строения, двор за глухими стенами. По крыльцу с тяжелым навесом — в глухую темную башню, по темной лестнице (ни звука не доносится!) взбежал наверх, и сразу — свет и простор!
— Понял, какой
вид? — сказал довольный Кузя. — И телефон!
Вид был, действительно, обширный, хотя и несколько запущенный: старые облезлые строения с окнами-бойницами, какие-то грязные полувысохшие рвы, засохшие деревья.
— Ну как? — горделиво проговорил Кузя.
— Да-а-а... Ну а как ты, вообще, живешь? Со Стасом рассорился...
— Я с ним? Это он! Сначала пилил сколько лет, что как-то не так я живу, а в заключение даже избил!
— Как?!
— Да довольно хитро. Пришел в гости со мной к одной девице, которая настолько якобы тонкая, что все ей пошлостью кажется. Скажешь фразу какую-нибудь — бац по уху! Следующую более осторожно уже говоришь, снова: бац!.. «Знаешь, — Стасу говорю, — я, пожалуй, пойду!» ...Ну и бог с ним! — Кузя надулся.
— Но ты, говорят, талант свой продал?
— Кто это говорит?! ...Ну ясно. Нет! Продал я, образно говоря... левую руку... а талант — ну никак не могу продать, как ни пытаюсь! Нынче что котируется? Разный там романтизм, кубизм. А я суперреалист: что вижу — то и рисую. И все. Никаких таких выводов: мол, это надо прекратить, а другое начать!.. За это Стас и презирает меня, что я не прогрессивный! Так что с талантом моим я могу в наше время только ненависть у всех вызвать!
— Ну, вызови у меня!
— Хочешь?
...Он открыл два огромных полотна: «Внучок капает бабушке в глаз» и «Оставление большинства вещей лучшему другу». Во внучке он с пугающей точностью изобразил себя, а «другом», которому оставляется большинство вещей, оказался я.
... — Сип ты белоголовый! — проговорил я.
— Вот так! ...А левую руку, признаюсь, продал. И, должен заметить, исключительно удачно: и кормит она меня, и поит, и одевает! Вот за этот костюм чуть не сотню отдал!
— И что за последнее время сделала левая твоя?
— Показать? Вот! — он достал кефир в бумажной упаковке, поставил на стол.
— Так она же... пустая? — удивился я.
— Ну! — гордо проговорил Кузя.
— Так ты хочешь сказать... что ты оформил ее?
— Ну!
— Так это же знаменитая вещь!
— А ты думал?! — Кузя горделиво оглянулся по сторонам со своей башни.
Изящная вощеная пирамидка, окаймленная двумя зелеными гирляндами клеверных листиков.
— А почему ты тут клевер изобразил?
— Так корова же клевер ест!
— Глубоко копнул! Жаль только, что без подписи! — я повертел упаковку. — ...А ты подписывай!
— А что — это идея, — скромно откликнулся он. — Пойдем тут... в одну молочную закусочную. Уж там-то знают меня! Уж настолько я знаменит!
И действительно — только мы с ним пришли в ближайшую молочную закусочную, как сразу же нас провели к директору, и тут же были вынуты из холодильного шкафа свежайшие кисломолочные продукты.
Кузя чуть пригублял, кочевряжился:
— Ряженка сегодня не того...
Потом мы спустились в зал, как объяснил Кузя — узнать мнение народа.
— Товарищи! — гулко заговорил я среди кафельных стен. — Среди нас присутствует автор оформления кефира в бумажной упаковке! Поприветствуем его!
— Кончай, слышишь? Кончай! — еле шевеля губами, шипел Кузя.
Действительно, народ тут был самый разнообразный — от академиков до... был даже один тип, смутно знакомый, в разных ботинках: один ботинок — брезент, другой — чистая кожа, хоть и грязная... Откуда-то я его знал — хотя откуда я мог знать такого типа?
— Хвощ! — закричал я.
Сегодня утром я нес его на носилках! Какой длинный день!
Хвощ испуганно повернулся ко мне, потом все-таки взял со стола стакан, подошел.
— Давно оттуда? — видимо, все-таки принимая меня за кого-то другого, поинтересовался он.
— Да как сказать... — проговорил я.
Повисла пауза. Хвощ задумчиво смотрел на свои ноги.
— А ботинки-то не мои... — Не сводя глаз с ботинок, он протянул руку, налил кефиру из нашей пирамидки, выпил одним глотком. — ...Точно — не мои! — Уже совсем уверенно он вылил остатки, выпил. — Погоди! — он деловито отошел за другой столик.
— Во тип! — восхищенно проговорил Кузя. — Ботинки, видишь ли, не его! На самом деле — кефиру дико захотел, и все дела!
Здесь было его царство, все нравилось ему.
— Извини! — проговорил я, вышел на улицу к автомату.
— ...Говорите! — раздался в трубке требовательный голос Стаса.
— Это снова я. Тут бывший клиент твой, Хвощ!
— Уже?! — закричал Стас. — Ведь сбежал, сволочь! Из реанимации сбежал!
— ...А сильно, вообще, задело его?
— Да нет, не очень. Лезвие наполовину было изоляционной лентой обмотано, чтобы не глубоко... Так сказать — вариант «для своих». Ну и как он там?
— Да нормально, по-моему... Говорит, что ботинки не его.
— Это он может! — заорал Стас. — Потом появится еще, будет требовать деньги за свои ботинки! Тут — еле оклемался — стал с ходу требовать четвертной, который якобы был засунут у него в чехол микрометра, который я отдал!
— Ну и как?
— Пришлось мне на трамвае уже снова тащиться туда, искать этот проклятый микрометр... Ну и конечно же, ничего! Слушай — не в дружбу, а в службу... потрогай у него пульс. Умеешь, надеюсь?
— Пробовал когда-то... Сейчас.
Я оставил трубку висеть, сам вернулся в закусочную, отыскал Хвоща.
— Тихо! — сказал я ему. — Сейчас пульс у тебя буду считать.
— Можно, — Хвощ не без удовольствия подал мне запястье.
— Тихо!
Закусочная умолкла.
— Ну как?
— ...Семьдесят.
— Как часы! — хвастливо проговорил Хвощ.
— Семьдесят! — доложил я в трубку.
— Ну тип! — проговорил Стас. — Вы с Кузнецовым, надо думать?
— С каким Кузнецовым? ...A-а, с Кузей! Да.
— Вы все-таки поосторожнее там.
— Да мы в молочной закусочной.
— Да ладно врать-то!
— Нет, честно!
— Да-а-а... видно, совсем он уже ослабел, если по молочным закусочным ходит.
— Да нет, в отличной форме. Наоборот...
— Пока, — проговорил Стас и повесил трубку.
Я вернулся. Кузя уже куражился вовсю — надписывал всем пирамидки, очередь к нему была длиннее, чем на раздачу.
— Можно, и я распишусь, как твой друг?
— Ну что же — можно, пожалуй! — благосклонно проговорил он.
Потом я мчался в метро на вокзал, и вдруг мне захотелось записать этот день — давать ему уйти было нельзя! «Ну подожди, — уговаривал я себя, — в поезде будет время на это!» Но просто чесотка какая-то открылась в руке! Фломастер у меня был (бывший Кузин), но писать абсолютно было не на чем! На билете? Опасно!.. Как я себя клял! Уж пора бы понять, что иногда следует иметь под рукой листик бумаги! И тут я увидал на полу очень даже неплохой обрывочек. Дрожа от страсти, я поглядывал на него. Если я вдруг брошусь к нему, меня явно все примут за ненормального — настолько я еще соображал. Вот сейчас будет остановка, люди пойдут, и тогда, в общей неразберихе!.. Черт, как долго тут едут!.. Остановка. Пошли! Только бы не унесли на подметке! Я кинулся вниз.
Потом, абсолютно счастливый, я секунду передохнул и начал записывать. Помещалось, к сожалению, только сокращенно: «В посл д преб в М...» — на вокзальной почте надо будет переписать...
Немного успокойся!
Утром ткнул вилку в розетку — электробритва сразу же загорелась. Ничего! Нормально! Побрился горящей электробритвой, вышел из гостиницы... Так, отлично. Стоит напротив дощатая будка, на ней объявление: «Здесь продается молоко подмосковного колхоза «Борец». Выпил литр. Прекрасно! Каждый день — литр отличного борцовского молока — и все будет в порядке!
На автобусной остановке — толпа. Полтора часа, говорят, автобуса не было. Нормально! Домчимся так!
Через лесок выскочил на шоссе. Тут дорога не как у нас — тут с горы на гору. Сначала пустой был асфальт, потом пошли навстречу ровные порции машин, где-то впереди нарезанные светофором.
Вбежал на очередную гору — и обомлел: вся Москва подо мной — золотые колокольни, шпили домов!
Вдохнул поглубже — и бросился туда!
У самого города уже — попутка тормознула:
— Давай подвезу.
— Да нет, спасибо. Не надо. Столько уже прошёл — остались пустяки.
Вошел в город, бросился в телефонную будку, набрал номер. Первая фраза уже заготовлена была:
— Здравствуйте! Это такой-то сякой-то? Говорит такой-то сякой!
Но нет — не откликается никто! Пробежал некоторые знакомые ориентиры — храм Георгия в Ендове, Биргс-Коллегию — снова в будку, номер накрутил... Глухо! Видно, специально пожертвовали одним аппаратом, опустили в сметану — чтобы нельзя было к ним дозвониться.
Ничего!
Мимо серой стены древнего Китай-города — в узкий дворик, где все Управления. Мимо вахтера промелькнул — ветром у него сдуло фуражку... Четвертый этаж... Комната четыреста один... четыреста два... четыреста двадцать один... Вот! Вбежал в приемную. Секретарша куда-то вышла, только большой стол стоит, заваленный бумагами. Открыл словно приклеившуюся кожаную дверь в сумрачный кабинет. Человек оторвал лицо от стола.
— Здравствуйте! — звонко говорю. — Вы такой-то сякой-то? Я такой-то сякой.
И тут — как грязной тряпкой по радостному лицу:
— Выйдите вон!
— В каком смысле? — я опешил.
— В буквальном! — лицо наконец-то задвигалось, что-то вроде кривой ухмылки появилось на нем.
— Но вы, наверное, не поняли! Я такой-то сякой!
— Ну и что?
— У меня замечательная заявка.
— Как вы думаете — если я лично начну рассматривать все заявки — что будет?
«Да ничего не будет! — подумал я. — Потоньше немножко будешь!»
Но не сказал.
— Да что же это такое? — он снова застонал. — Куда же она убегает все время?
— Поискать?
— Выйдите вон!
Кто? Я — «выйдите вон»? Ну нет уж!
— Я выйду, — говорю, — но при одном условии. Вы тоже должны выйти!
— Зачем это?
— На воздух! Поглядите — на вас лица нет!
— Да? — озабоченно в зеркальце погляделся. — Впрочем, естественно... И кстати — обед уже. Поэтому эта и убежала... Прошу.
— Как там погода? — уже почти дружески на лестнице меня спросил.
Думаю — какую же погоду сказать? Ведь знаю же себя — какую скажу, такая и будет! Все могу!
— Моросит! — говорю.
— Естественно! — усмехнулся уже почти довольно.
Вышли, пошли по дождю — чувствую, с погодой я ему под самое настроение попал. Увидел он очередь — рванулся туда.
— Извините, — обернулся ко мне. — Вас, наверное, это не интересует?
— Ну почему же? — говорю. — Пить, наверное, не буду, но в очереди с удовольствием постою.
Постояли мы в очереди с ним — совсем уже как родные стали.
— Что-то, — усмехнулся, — во всем этом даже привлекательное есть!
— А что, вообще, случилось? — доверительно спрашиваю.
Начал рассказывать. Разруха в семье. Неприятности на работе. Нормальный набор. Потом говорит:
— Домой, что ли, зайти? Ничего, правда, хорошего там нет...
— Ну зачем же так? — говорю. — Обязательно зайдем!
Он уже как на последнюю надежду свою на меня посмотрел.
— А не боитесь?
— Чего это?
— Неудачливостью моей заразиться!
— Ерунда!
Накупили в магазине полные руки, идем. Старушка остановилась, головой покачала. Говорит:
— Я бы с вам пошла!
— Вот видишь! — говорю. — «Она бы с нам пошла!» Не все потеряно!
Пришли к нему домой. Действительно — разруха полная: жена ушла, холодильник унесла. Ушел он в туалет, вынес капающий целлофановый пакет.
— Вот, — говорит, — теперь я продукты в бачке храню, в целлофановом пакете.
— Умно!
— Вот вам цветок, — говорит, — я всем знакомым теперь по горшку раздаю, у меня они погибнут — мертвая зона!
— Да брось ты! — стал взбадривать его. — Однажды у меня было похуже твоего — топиться уже пошел, и у самой проруби червонец нашел! Домой босиком прибежал, с радостным криком: «Этак хоть каждый день!» Вот, заявку подпиши — и все будет отлично!
— Серьезно?
— Абсолютно!
— Ну ладно... — подумал, подписал.
— Все! — говорю. — Я ушел!
— Ну подожди!
— Чего?!
— Подожди!
В какие-то дальние комнаты ушел, пропадал там, наверное, целую вечность... потом послышался какой-то нарастающий грохот. Вышел с шахматами.
— Может, сыграем?
— Почему нет? Жахматы — любимая моя игра! В жахматы — завсегда готов! Только сделаем так: я играю в жахматы и одновременно в ванной моюсь — давно не мылся.
— Как же это? — он удивился.
— Запросто! Сейчас увидишь.
Сделал я несколько ходов, ванна тем временем наполнилась, ушел мыться. Вышел, вытираясь, — он спит. Резко поднялся — фигуры со стуком попадали из лица.
— Закончим?
— К сожалению, не получается! — говорю. — Должен бежать! Тебе, кстати, тоже надо идти — перерыва осталось одиннадцать минут.
На прощанье дал ему ценный совет:
— Ты за эту неприспособленность свою держись! В ней вся твоя сила!
Оставил абсолютно озадаченного его, ушел. Вот так вот. Будет еще мне говорить: «Выйдите вон!»
Понесся по бульвару. Вот так вот. Упоение делом. Дело прежде всего. Не к обеду будь сказано — я очень деловой.
Пытался немножко сдерживать себя — слишком уж энергичным нельзя быть. Однажды, в студенческие еще годы, мчался через двор с четвертого зачета на пятый — все непременно сразу сделать хотел! — и столкнулся с железной совковой лопатой дворничихи, что снег на машину кидала... до сих пор на губе рубец — но то и дело забываю об этом!
Немного успокойся. Слишком уж энергичным быть нельзя. У одного моего энергичного друга родились четверо детей от разных женщин в разных концах страны в один день! Когда спрашивают его, как это получилось, он только жалобно стонет. Но это не про меня. К энергии еще и голову не худо иметь — и у меня она есть! У меня четверо детей одновременно в разных концах не родятся, а если родятся — значит, это будет мне зачем-либо нужно! Все могу!
Снова в Управление ворвался. Второго, который нужен мне был, с ходу в коридоре встретил, лицом к лицу. Тот что-то буркнул и куда-то юркнул. Врешь, не уйдешь!.. Ага, проходной кабинет! Выскочил в коридор — тень его уже на лестнице мелькнула... Ух, зайчик!
Борцовское молоко играло во мне. Лестница привела меня в подвал — вряд ли он сюда... Значит — свернул. Немножко поднимемся. Светлый коридор. Распахивал двери: «Извините, извините...» Так. Здесь нет. Значит, все-таки в подвал... Ну, ясно! Тут целые катакомбы — проход в другое здание! Врешь, не уйдешь... Подвал затоплен немножко, но это хорошо — легче будет потом разыскать его по следам.
Вдруг наткнулся на неожиданное препятствие: дверь заколочена досками крест-накрест — когда успел? — и огромное бревно перегораживает дорогу, наискосок подпирает потолок.
Декорация! Рванул — с потолка посыпалось! Ерунда! Со всей силы рванул — и все исчезло... Кирпичом, наверное, стукнуло по башке. Очнулся не знаю когда. Тьма, и не пошевелиться. Вот так вот. В подвал этот, как я понял, лет сто уже никто не заходил, и еще через сто лет кто-то зайдет — только такой безумец, как я. Все сразу захотел! Хорошо, хоть есть чем дышать. Видно — не весь дом обвалился, а только часть. «Все могу!» Немного успокойся.
Долго неподвижно сидел — потом, как мышка, начал вытаскивать по одному камешку, испуганно поглядывая вверх... так... еще камешек...
...Выбрался тихий, скромный. Ни в какое Управление больше не пошел — побрел тихо в баню за семнадцать копеек (раньше все норовил за четыре рубля!). Шел по мосткам, среди скромных людишек... в каждом, наверное, такая глубина!
В бане сразу же пришлось такую широкую спину тереть — обо всем было время подумать... Немного успокойся.
В предбанник вышел. В киоске давали носки, по одиннадцать копеек, рванулся без очереди — но сам себя за шиворот удержал... Немного успокойся!
Друг моего друга
Приятно уезжать в Москву! Радостно, празднично идешь вдоль темно-рубиновых вагонов «Стрелы», яркое освещение из-под низкого гофрированного потолка рисует как бы сцену, на которой каждый показывает себя: «Да, вот так! У меня, слава богу, и в этом году все хорошо, я снова спешу по делам в Москву (а мелкая сошка и неудачники по делам в Москву не ездят, а тем более на «Стреле»!)».
Мелькают знакомые лица — в обычной жизни они знакомы лишь по экранам, — но здесь, на этом празднике, все равны, и, скромно ликуя, прогуливаются по платформе — это лучшие минуты из всего путешествия.
Потом, под торжественное мычание «Гимна великому городу», поезд медленно проходит вдоль платформы и окунается в темноту. Все несколько разочарованно разбредаются по своим купе — словно чего-то ждали, а этого не произошло, опять ожидание счастья, которое вот-вот должно было произойти, обмануло... хотя в чем, собственно, дело? Все нормально — поезд отошел точно по расписанию!
Долго, сколь возможно долго стоишь в коридоре, но тьма за окном все беспросветнее, и, вздохнув, сдвигаешь дверь и заходишь в купе. Едущие с тобой главные инженеры — мне все время попадаются главные инженеры, — плотные, уже без пиджаков, в крахмальных рубашках с приспущенными галстуками, сгрудившиеся в синеватом свете у столика, — отвлекаются на мгновение в твою сторону и снова возвращаются к напористому, громкому разговору о производстве.
Потом, в синеватом свете ночника, ворочаешься на полке, иногда ударяясь головой о зачехленную лампочку над подушкой, время от времени выгибаясь дугой и подтягивая под себя почти уже наполовину сползший матрас, и наконец, где-нибудь уже в пятом часу, понимаешь с отчаянием: нет! Не заснешь! Никогда не мог спать в поездах — и сегодня не будешь!
Хмурое, туманное утро, неказистые московские пригороды. И вот ты оказываешься на вокзальной площади, грязной и неуютной, среди измотанных вокзалами людей, словно бы живущих тут уже постоянно, с мешками, чемоданами, с плачущими детьми.
Куда исчез праздник, столь обнадеживающая прогулка под софитами вдоль «Красной стрелы»? Не было этого!
Я забрался в телефонную будку — даже в будке вокзальный запах! — набрал телефон матери.
— Ты откуда? — удивленно проговорила она. — ...Просто так или по делу?
Небритый, измученный я приехал к матери: ну и метро тут в Москве, ну и расстояния! Торопливо поговорил с мамой — слова мои доносились ко мне как бы издали, с каким-то звоном, потом полез в ванну, долго мылся — словно после многолетнего перерыва, потом лег на твердые прохладные простыни — и погрузился в блаженство.
Потом — умиротворенный, выспавшийся, поевший знакомого маминого супа — независимо от города, воды и продуктов суп ее имеет индивидуальный, сразу узнаваемый привкус! — я в халате и тапочках шурина уселся в уютном кресле у телефона.
Так... Я с наслаждением пролистнул страницы записнухи большим пальцем. Сначала, конечно, звонок любимому братану!
— Говорите! — послышался сухой и неприязненный голос секретарши (что значит Москва — деловой город!).
— Александра Дмитриевича, пожалуйста! — слегка поперхнувшись, проговорил я.
— Да-а-а-у! — послышалась знакомая раскатистая реплика.
— Привет, оболтус! — помолчав, сказал я.
— Петр Иваныч? — словно не расслышав меня, залопотал он. — Слушаю вас... Коллегия... во сколько?
Я понял, что Саня «лепит туфту», и радостно встрепенулся.
— В шесть — можешь?
— Возмо-ожно, возмо-ожно!
— Все! На том же месте! — проговорил я и повесил трубку.
Так! Отлично! Сашок все такой же!
Я обежал все любимые в Москве места и к шести нетерпеливо подходил к метро. Какой стал Сашок? Какая стрижка? Наверное, уже начал лысеть?
На месте, однако, оказался друг Сашка — Федя — обиженно ходил, поглядывая на прыгающие цифры на электронных часах над кассами.
— Ты? — изумленно проговорил он.
Он откинул голову, смеясь, протянул руки, потом мы поцеловались.
— А где же Сашок?
— Понятия не имею! — похохатывая, ответил Федя. — Полчаса назад позвонил мне, знаешь, как это он умеет, коротко и надменно, и приказал быть здесь в восемнадцать — и непременно ждать его, он, может быть, задержится! Ничего больше не объяснил — словом не обмолвился, что ты приехал!
— Ну как вы, вообще, тут? Как Сашок?
— Сашок? — Федя немного помедлил. — ...Сошел с ума! — вдруг выпалил он.
— Как? — изумился я.
— Обыкновенно, как сходят с ума! Сейчас увидишь!
— Интересно!
Мы вышли из-под навеса метро, ходили по краю широкого тротуара, я жадно вглядывался в людей, проходящих мимо, — все-таки особая в Москве толпа — праздничная и как-то тонизирующая!
За спиной моей скрипнули тормоза — я быстро повернулся — Сашок неторопливо, слегка надменно вылезал из автомобиля — длинные руки его при этом почти доставали до земли. Он запер дверцу и только тогда повернулся ко мне. И то до этого еще успел быстрым ревнивым взором окинуть стоящие у тротуара машины — в основном иностранные.
— Здесь паркуются только представители истэблишмента, старик! — была первая его фраза. Он погладил бок своего «Жигуленка» и только тогда поднял свой взор на меня.
— Ну а вовремя ты никак приехать не мог?
— Клерк, старик, клерк! — не с сожалением, а с каким-то, наоборот, упоением проговорил он. — Белый воротничок!
— Который, надо отметить, довольно грязный! — хохотнул Федя.
— Ну куда? В нашу? — нетерпеливо предложил я.
Сашок поморщился.
— «Но это же так неизысканно!» — опередил его реплику Федор.
— Ну хорошо! — надменно согласился Сашок. — Только я за рулем!
— Ну понятно, понятно! — я успокаивающе обнял его за талию.
Сашок все не мог отойти от своего автомобиля.
— Режут, сволочи! — со вздохом проведя ладонью по крыше, объяснил он наконец свою хмурость. — Лучший жестянщик, из Отдела Обслуживания иностранных представителей, делал — и все равно заметно! — больше не пытаясь уже сдерживаться, он впал в уныние. — Заметно что-нибудь? — он с надеждой кивнул на крышу автомобиля.
— Да... какие-то буквы прочитываются, — вынужден был признать я. — И что же тут было написано?
— «За Галю Пон»! Причем портновским ножом, самым острым! — он страдальчески сморщился, словно резали его самого.
— За какую Галю?
— Если бы я знал! Да нет, — лицо его вдруг просветлело. — Знаю я — это за Зота!
Федя кинул на меня быстрый взгляд: «Вот оно! Началось!»
— Кто ж это — Зот? — безразлично, и даже с зевком, спросил я.
— Так. Один приятель. — Сашок явно не желал беседовать на эту тему с непосвященными. — Ну — пошли?
Мы спускались по темной узкой лестнице все ниже — наконец, оказались в помещении без окон, с белесыми солевыми потеками на потолке.
— Ну хорошо... Только быстро! — присаживаясь за столик, проговорил Сашок.
— Ну как ты... вообще? — налаживал я разговор. — Как лето? Как отдыхал? Загорел, вообще! Где был?
— Да тут, — сморщился Сашок, — в одном изысканном тихом местечке... известном только очень узкому кругу, — он скучающе оглядывал углы: куда его завели?
— Ну да, мне рассказывали потом, — вмешался Федя. — Сашок даже купался там в белых перчатках!
— Просто соль немного разъела руку... — устало проговорил Сашок, — а в одной перчатке купаться... согласись — несколько экстравагантно!
— Да и в двух — тоже неслабо! — сказал я. — Но в чем же еще... изысканность этого места?
— В чем? — Сашок даже воинственно приподнялся. — Например, в том, что на моих глазах на пляже... один человек за минуту проиграл тысячу! Причем спокойно, словно фантик, — отдал пачку денег, толщиной с дышло, и как ни в чем не бывало пошел купаться!
— Точно — купаться? — сказал я.
— Представь себе! — с достоинством ответил Сашок.
— Может, просто дал пачку подержать, чтобы не замочить? — пришел мне на помощь Федор.
Сашок устало ухмыльнулся и не ответил.
— Но в воде уж точно... ждали его двое водяных... с ордером и конфискацией!
— Сразу видно — провинция! — оглядел меня Александр. — Двое водяных в это время его ждали на террасе, мучась тем, что нагревается винтовая водка!
— Ну и ты, видимо, был одним из этих водяных? — уточнил Федя.
— Может быть! — Сашок гордо выпрямился.
Федор кинул на меня взгляд: «Оно!»
— Ну слава богу! — проговорил я. — Тогда-то я хоть немного успокоился за него!
— Напрасно! — надменно проговорил Сашок. — На следующий день двое подстерегли его на набережной, схватили за ноги и головой ударили о парапет!
— За что? — испугался я. — Мало проиграл?
— Ты вообще, — медленно произнес Сашок, — имеешь какое-нибудь представление о реальной жизни или нет?
— Да-а-а... это изысканное местечко не для меня... мне бы что-нибудь попроще! — проговорил Федя.
— А никто тебя туда и не пустит! — оглядел его Александр.
— Ну ладно! — я торопливо поднял одну из принесенных кружек. — Старый друг — лучше новых двух!
— Не всегда! — холодно проговорил Александр.
Это уже серьезно! Наступила тишина.
— Да вы вообще-то... общаетесь тут? — оглядывая своих друзей, воскликнул я.
Сашок отрешенно молчал.
— Однажды только... полгода примерно назад, — заговорил Федор, — решил почему-то меня пригласить. «Будут только представители истэблишмента, старик!» Пришел я — еды никакой. На кухню забрел — может, там, думаю, удастся поживиться? Гляжу: кто-то маленький, худенький, по виду мальчик, стоит коленями на газете, засунув голову в духовку... Я завопил, конечно, за ноги вытащил его...
— Иностранный дипломат был, прическу делал! — устало повернувшись ко мне, пояснил Сашок.
— Ну, я не выдержал, естественно, стал хохотать, — пояснил Федя.
— Непрофессионально, старик! — сморщился Сашок.
— А помните, — заговорил я, — как мы на катере плыли и влетели в тумане на камни? Всю ночь, от холода дрожа, швыряли друг другу теплые вещи, говорили: «Прикинь!» — и бешено хохотали.
— Этого не могло быть по трем причинам, — выходя из своих мыслей, скрипуче заговорил Сашок...
— Ну хорошо, хорошо! — сломался я. — Чувствую — ты и больше причин сможешь назвать!
Повисла тяжелая тишина.
— Ну хорошо... Так и что твой Зот? — окончательно сдался я. — Чем замечателен?
— Рассказать? — проговорил Сашок. — Ну ладно — дай-ка! — он прихлебнул из моей кружки. — Пример, понятный вам. Ехали оттуда уже в Крым — в Крыму наши жены вместе отдыхали, — вскользь отметил Сашок. — Ну, естественно, поиздержались...
— Ну еще бы... тысячу в день на пляже... не считая винтовой, — съязвил Федор.
Александр, вздохнув, посмотрел на него.
— ...едем, — пренебрежительно махнув на него ресницами, продолжил Александр. — Да еще в Керчи позадержались немного — уютный, кстати, городишко... только переправа к нему через пролив — ночь, туман — ну просто как через Стикс! — глаза Александра засверкали, голос зазвенел. — Ну, едем уже через степной Крым — я ничего вообще не вижу вокруг, кроме пыли... Тачки наши стали одного цвета, хотя у него — кофе с молоком...
— У тебя — кровь с молоком! — хохотнул Федор.
— ...гляжу — Зот надел свои «полароиды» и все время зыркает по сторонам. Через поселок я думал проскочить, вдруг Зот поднимает руку: «Притормозим!» Подъехали к правлению колхоза, заходим — прохлада, мрамор — после духоты и пыли уже приятно! Заходим к начальнику — тот, как говорится, деятель новой формации: мышцы, джинсы. Карточка Зота, естественно, никакого впечатления на него не произвела — скромный московский оффис! — тут Сашок от упоения даже прикрыл глаза. — Сидит боком к нам, нажимает какие-то клавиши — этакий провинциальный Ференц Лист. «Слушаю вас! (На всякий случай вежливо говорит, все-таки москвичи!) К сожалению, время у меня очень ограничено!» — нажимает клавиши. «Если вы уделите мне пару минут, — смиренно так Зот говорит (кругленький, лысый, серенький пиджачок), — я, наверное, смогу вам дать один небезынтересный совет! Выйди, Сашок, на пару минуток, покури!» И сидели они там полтора часа!
— И не устал ты курить? — съязвил Федя.
— Выходят — начальник обнимает Зота за талию (она, надо сказать, довольно обширная у него), выводит нас на улицу и заводит в неказистенький такой хлев...
— Отлично! — захохотал Федя.
— ...а под ним — первокласснейшая сауна! А под ней — совсем уже в земле — потайной погреб, из лучших местных вин, которые только на экспорт идут... Короче — вылезли мы оттуда только на третий день, вместе с начальником — бледные, как картофельные ростки! К женам приехали — те отшатнулись в ужасе: «Откуда это вы! Видно, хохлушки какие-то недели две от мужей вас в погребе прятали!» Но — далеки от истины оказались, как и всегда, — Александр снисходительно усмехнулся. — Кстати, когда мы выехали оттуда, Зот говорит мне: «Вот так вот! Ты, когда приезжаешь в какое-то место, сразу же ищешь, где тут бабы, а я — где тут начальство? Ты любишь с триппером уезжать, а я вот так — чтобы полный багажник дынь, и провожал чтобы как минимум первый заместитель». Кстати, — упоенно продолжил Сашок, — Зот вообще любит в бане работать...
— Банщиком, что ли? — на этот раз не удержался я.
Сашок только лениво глянул на меня: «Изощряйся, изощряйся!»
— ...и когда он в баню идет — весь крупняк, местный, ну и приехавший специально со всех сторон, кого проблемы разные взяли за горло, — тоже всеми правдами и неправдами пытаются в эту баню прорваться — ну, не в общедоступную, разумеется. И вот сидят чинно в предбаннике — причем в галстуках, костюмах — понимают, что не мыться сюда приглашены, — наконец вываливается Зот из парной, с прилипшими волосами, весь в красных пятнах — кожа очень белая у него, краснеет пятнами... Отдуваясь, никого не замечая, долго сидит — после сауны, действительно, не сразу очухаешься... Потом делает наконец первое движение — тоненькой струйкой нацеживает в чашку чайку из самовара, кидает в рот диабетическую конфетку — и обращает наконец свой мутный взгляд на первого: «Так. Слушаю вас! Только, пожалуйста, папочку раскройте, у меня руки мокрые — боюсь замочить!» Будто бы руку вытереть не может! Куражится просто — знает себе цену! Только глянет, зевнет: «Вам профиль листа следует уменьшить на полмиллиметра — и все злейшие враги станут друзьями!» Сдвигает папочку, обращает глаза на следующего: «У вас что? ...Вам следует, не далее как завтра, обратиться на Читинский горнообогатительный комбинат — о них мало кто знает, но они-то вам и нужны! Следующий! ...А ваши желания абсолютно необоснованны», — третьему режет, будто и не понимая, какой это силы человек!
Сашок эффектно умолк.
— Ну, а потом, конечно, сказочный сабантуй! — не сдержав зависти, проговорил я.
— Да нет... Как говорит Зот: «Свои цистерны мы уже, видимо, выпили». К сожалению — диабет! — Сашок развел руками.
— У тебя, что ли?
— Да нет...
— Так что, в Крыму тогда, в подвале том, тебе, видимо, пришлось его выручать?
— Возможно, возможно, — рассеянно проговорил Александр.
— Знаешь, — не выдержал я. — Был в свое время в Москве такой знаменитый юродивый — Корейша, к нему тоже все рвались!..
— На юродивого как раз ты больше похож! — вскользь оскорбил меня он.
— Ну а почему же тогда, — влез ревнивец и правдолюбец Федя, — он советы свои гениальные на рабочем своем месте не дает?!
— Там он, будь спокоен, хлеб тоже даром не ест! Но сам понимаешь — время не резиновое. Да и потом, сам понимаешь — там текучка, всякие пункты, параграфы... Как Зот говорит: «Кабинет цепенит!»
— Ну ясно! — я повернулся к Феде. — А художнику баня сподручней! Там можно все параграфы побоку!
Сузив глаза, Александр посмотрел на меня, как на чужого.
— Как ненавижу я вот таких, что делают все «от» и «до», а что в этом промежутке никакой пользы — это не волнует их абсолютно! А ведь ноль от их деятельности, а честь их — честь старой девы, не нужная никому!
— А ты зато — евнух в гареме! — распалился и я.
— Точно! — завопил Федя. — Однажды попал я с ними в баню... Подхалимы все, Зота этого окружив, журили его, что он с диабетом его — курит. Тут Сашок вбежал, с пакетиком диабетических, прислушался, с ходу сориентировался... Так пальчиком Зоту пригрозил: «...И выпивает!» — визгливо так крикнул и захихикал.
— Вот именно! — сказал я. — Если Зот этот... такой великий человек, то ты-то здесь при чем? А?
— А я горжусь, что такой великий человек дружит со мной!
— А ты уверен? И доказательства есть?
— ...Попроще... чтобы поняли вы... В прошлый год — сдала наша шарашка работу. Лишнего не будем болтать — но что ситуация в мире от этого повернулась градусов на сто восемьдесят — это точно. Ждем — сверху ни слуху ни духу. К празднику в газете награды — про нас пшик! Шеф вызывает меня: «Александр Дмитриевич — вся надежда на вас!»
— ...«Курьеры, курьеры, тридцать пять тысяч одних курьеров!»
— Я — к Зоту! — не прореагировав даже щекой, продолжил Сашок. — Тот покумекал маленько. Хоть область, в общем-то, не его... «Ну ясно, — говорит, — там компашка Шпитального держит дверь... но
для друга придется постараться!» Через месяц в газете — всем награды: шефу — «Трудовое», мне — «Знак Почета»!
— Так у тебя орден есть? — изумился я.
— Есть. Только не ношу — пиджак жалко, — мельком проговорил Александр.
— ...Да нет... — сказал я. — ...И что за имя такое непонятное — Зот? Может быть — Изот?
— Зато это имя, пусть и непонятное, — вспылил Сашок, — знает вся Москва, а твое, пусть и понятное...
— Ну спокойно, спокойно! А то так можно и дерзостей друг другу наговорить!
— А может — он не ради тебя, а просто ради справедливости это сделал? — спросил Федор.
— Одно другому не мешает! — гордо выпрямился Сашок.
— Да нет — какая там справедливость? — обращаясь исключительно к Федору, засмеялся я. — Просто обделывает человек свои делишки — и все!
— Ну, ну! Елдычь! — презрительно проговорил Сашок. — Но только при мне самом было однажды — меня-то уж не стесняется он — колоссальный куш ему предлагали — хватило бы на всю жизнь, да еще и осталось! А Зот — высыпал из кошелька мелочь: «Может быть, наоборот, я вам немножко одолжу?» Вот так!.. И притом — сфера влияния совершенно фантастическая! Казалось бы, театр — что может быть дальше? Но он знает всех, и все знают его. Хотя пьес он не пишет, ролей не дает. Просто — мозг! Скажем — появился в столичном театре новый главный. Читаем на даче у Зота интервью... дачка у него скромная, я бы даже сказал — убогая! — вскользь, но с гордостью вставил он, — ну, все как обычно в таких случаях говорят: «Современность... наш долг перед Чеховым...» Интересно — что за этим кроется? — мучаюсь я. «Что же здесь интересного? — вздыхает Зот. — Ясное дело — сибиряков своих будет тащить!» «Как? Он из Смоленска же вроде переведен?» — «Ну а где рос?» И действительно — буквально через месяц читаешь репертуар: Умных, Смазливых, Холодец — сплошные сибиряки, даже Пиранделло — и то ставит сибиряк!
— Да-а-а... — сдался я. — ...И откуда же такой... супер-Зот?
— Москва, старик! — в упоении проговорил Сашок. — ...Кстати — неприятности у него сейчас, — сморщился Сашок, — с машины началось, якобы машину не там поставил. Ну — Зот в амбицию — когда он прав, не отступит! Теперь такое раскрутилось!
— Неужели он с ГАИ сладить не может?
— Да при чем здесь ГАИ! — отмахнулся Сашок.
Мы долго прочувствованно молчали.
— Рассказать вам, какой это человек? — проникновенно вдруг проговорил Сашок.
— Ну расскажи. А то мы давно что-то не слышали про него.
— Так слушайте! — пропуская мою иронию мимо, проговорил он. — Там... ну, в элегантнейшем том местечке, мы с ним теннисом занимались — ну для начала, как водится, в стенку стучали...
— Скромность, оказывается, тоже присуща им, — ввинтил Федя.
— И как мячик за стенку улетал — на автобазу, возвращался, естественно, весь в мазуте. Этакий белый ангел забегает туда — чумазые шофера вручают ему, естественно, кусок мазута, усмехаясь черными ртами. Зот терпел, терпел, потом говорит: «Ну ладно!» И пошел сам! Ждал я его — полчаса прошло, сорок минут. Забеспокоился, пошел туда. Гляжу — стоят трое шоферюг, беседуют о своих распредвалах — причем душевно так! «Куда же Зот делся?» — думаю я. И только по мячику в руке узнал его — один из трех! Ну и не стоит, думаю, говорить, что мячики возвращались после этого кипенно-белые...
— В ацетон их опускали! — встрял Федя.
— Ну ладно — где здесь телефон? — проговорил Сашок.
— Сейчас сделаем! — сказал я.
Александр ушел.
— Да-а-а... и давно у него это началось? — поглядев ему вслед, спросил я.
— Да уж с год! — проговорил Федя. — Да... прямо в душу нам плюнул!
— Да-а-а... с душой у нас хорошо... а вот с умом, видимо, плохо! — сказал я.
Вернулся ликующий Сашок — давно я не видел его таким счастливым.
— Все отлично! — заговорил он. — Перевернулось дело, на пользу ему... Ну был, естественно, звонок... Люблю Москву! — он вдруг стукнул по столу. — Всегда в ней клокочет что-то такое... незаметное, впрочем, для посторонних глаз! (Это относилось уже ко мне.) Ну — идете?
— А ты куда?
— К Зоту еду на дачу. Хочет немного отдохнуть.
— А ты ему зачем?
— А чтобы не лезли всякие! — проговорил Александр почти враждебно.
— Может, хоть дотуда довезешь? — попросил я. — Хоть места посмотреть, где такие люди живут!
— Но обратно отвезти не смогу!
— Ну конечно, конечно!
Мы мчались по Москве, среди светло-серых зданий до неба, по высоким мостам — все-таки я тоже люблю Москву...
— Зимой ездили с ним к цыганам, — пребывая в упоении, рассказывал Сашок. — Небольшой особнячок, живут родители и трое красавиц дочерей. Одна была — имя: Алмаза. Говорю ей: «Запиши телефон!» Она смеется: «Карандаша нет!» — «Во всем доме, — спрашиваю, — нет?» — «Во всем доме!» — «Ну запиши тогда чем-нибудь другим», — прошу. «Ладно!» — говорит. И записала алмазом на стекле! Через неделю приехали — морозец был — телефон мой, нацарапанный на стекле, морозцем посеребрен! «Люблю тебя, — Алмаза говорит, — телефон твой серебром вышила!» ...А Зот закрылся с двумя деятелями в комнате, и продымили там до утра!
Сашок чуть не врезался в грузовик — но не придал этому абсолютно никакого значения!
Потом мы с Федором ползали по огороду, в зарослях хрена, и разглядывали издалека домик, где скрылся наш друг.
— А я бы на месте этого Зота по-другому бы все тут сделал... простая изба... посередине — нетесаный стол, у стен — нетесаные скамейки.
— Нетесаный телевизор, в виде колоды...
— И несколько неотесанных друзей!
Потом, давясь от хохота, уже в темноте, мы по-пластунски ползли через огород, осуществляя операцию «Умывальник» — наливали в его умывальник коньяк — нам казалось это колоссально смешно, что у такого человека — даже в умывальнике коньяк!
— Постой! — с пустой уже бутылкой в руке вспомнил я. — А вдруг у него действительно диабет?.. Давай уж сами лучше выпьем тогда!
На бряканье из домика выскочил Сашок.
— Кто тут? — рявкнул он. Он подходил к нам медленно, явно боязливо. — A-а... это вы, оболтусы! — вздохнул с колоссальным облегчением. — Чего это вы тут? — Он принюхался. — Ну ладно, дайте мне — только быстро! — Он хлебнул из горсти коньяка.
— Может — завтра удастся увидеть твоего кумира? — взмолился я.
Сашок замотал головой:
— Завтра чуть свет... везу в глухую деревеньку его... грыжу заговаривать!
— А сам? Разве он не может?.. Извини, извини! Слушай — у меня ведь тоже грыжа! Полгода назад делали операцию — и вроде бы по новой полезло! Ну? Брату ведь не откажешь?!
На следующий день мы сидели с великим человеком в темных сенцах кривой, перекореженной избушки.
Появилась бабка — вся тоже какая-то перекрученная, в грязной юбке, — но именно эта ее «хухрёмность» и набивала ей, видимо, цену!
Удивительный город — Москва! Усиленно тянется к вершинам европейского лоска — и вдруг резко поворачивается к такой вот бабке!
Зот вернулся удивительно быстро.
— Не поладили! — усмехнулся он, запихивая баночку икры обратно в портфель.
— Что же она потребовала? Миллион? — ревниво проговорил Сашок.
— Хуже! Перевести аглофабрику, которая сейчас проектируется тут, за сотню километров отсюда — якобы от святых мест. Причем знает абсолютно точно, к кому обращаться! И я даже знаю, чья это рука! — он был радостно возбужден. — Придется мне с грыжей ходить! — вздохнул он.
Сашок за его спиной бросил мне гордый взгляд.
Мы осторожно перебрались через щербатый, покосившийся мост, сели в машину.
— Кстати, — впервые обращаясь прямо ко мне, проговорил Зот. — Ваш брат — величайший поэт! Как он рассказывает о нашей скромной поездке в Вишневку! Я сам заслушиваюсь!
— Да-а? А я-то думал — он циник!
— Ну что вы! Величайший романтик!
— Ладно! Хватит трепаться-то! — ласково-сварливо проговорил Сашок, выруливая на шоссе.
Уже поздней осенью, забыв о бодрящих московских впечатлениях, я тупо сидел перед мокрым окном в кресле — и вдруг как-то по-особому зазвонил телефон.
Междугородняя! — после некоторого ошаления понял я, и хотя трубку последнее время не снимал, тут решил снять.
— Владимир Григорьевич? — быстро заговорил знакомый голос. — С вами говорят из Москвы. Постарайтесь освободить завтрашний день — у вас будут очень серьезные гости.
Голос был мне знаком — Сашок! — но текст был мне абсолютно неясен.
— От чего — освобождать-то? — озадаченно проговорил я.
— В общем — мы с вами договорились: после поезда нас завезут в гостиницу, а затем мы заедем за вами на машине!
— Зачем? — проговорил я. В ответ пошли короткие гудки.
Всю ночь я беспокойно ворочался: чем вызван этот приезд — может, они хотят что-то от меня? Но мне им дать абсолютно нечего — кроме духовного богатства у меня ничего нет! Я даже хотел звонить ночью домой Сашку, но потом подумал: зачем? — он и так прекрасно знает, что у меня есть, а чего нет!
Наконец я забылся тревожным сном.
Разбудил меня снова звонок — теперь он был местным, но это еще больше встревожило меня: значит, приехали!
— Владимир Григорьевич! — совсем рядом заговорил голос Сашка. — Вы готовы?
— К чему?
— Мы уже в номере, сейчас делаем некоторые необходимые дела, а дальше... — прикрыв, наверное, трубку рукой, он некоторое время с кем-то разговаривал. — Дальше мы можем за вами заехать.
Дальнейшая программа, видимо, ложилась на меня. Но что я мог предложить?
— Ты с Зотом, что ли? — после паузы проговорил я.
— Да, мы с Зотом Николаевичем! — после паузы строго проговорил Сашок.
— Жду! — безвольно проговорил я.
Я побрился, погладил брюки, надел их и в неясном ожидании уселся у окна.
— Что, вообще, происходит? — выходя из спальни, спросила жена.
— Я сам не понимаю! — я пожал плечами, глядя в окно. — Зачем-то приехали, что-то им от меня надо, но что — абсолютно не понимаю!
Вдруг раздался короткий, какой-то очень незнакомый звонок. Я открыл дверь — на площадке стоял Сашок, в солидном сером костюме, в темном галстуке.
— Добрый день! — склонив гладко причесанную голову, произнес он.
Жена, которая знала его уже двадцать лет, с недоумением смотрела на него.
— Сашок... что это с тобой? — выговорила она.
— А что такое? — подняв бровь, он посмотрел на нее затуманенным взглядом. — Я забираю Владимира Григорьевича с собой. Вы имеете что-либо против?
— Да вообще-то... я все имею против!
— сказала жена.
— Ну ладно, — вздохнув, он отвернулся от нее. — К сожалению — на дискуссии у нас нет времени! Ты готов?
— Вообще-то... да.
— Тогда идем.
— Ну... если в вытрезвиловку попадете, — с отчаянием завопила жена, — домой лучше не появляйтесь!
— Ну что ты, Нося! — Сашок наконец одарил нас своей улыбкой. — О чем ты говоришь? Все будет сделано на высочайшем уровне, элегантно!
— Чтоб вечером был! — ткнув меня в бок, хмуро проговорила жена.
— Постараюсь! — я пожал плечом.
— Я тебе дам — постараюсь!
Мы с Сашком вышли на лестницу — дверь с грохотом закрылась за нами.
— Да... отстали вы тут! — после некоторого скорбного молчания проговорил, шагая вниз, Сашок.
— ...От чего?
Он промолчал.
— Вообще — чего вы приехали-то? — останавливаясь на ступеньке, поинтересовался я.
— Да тут... маленькое дельце! — небрежно ответил Сашок и снова зашагал.
— Для вас, может, и маленькое, а мне не по силам! — защищался я.
— Не беспокойся — от тебя абсолютно ничего не потребуется!
— А!.. Ну а в чем тогда дело?
— Просто — Зоту надо немного встряхнуться. Некоторые неприятности...
— На работе?
— Ты же знаешь — другие сферы жизни его не интересуют!
— Ах, да... И что будем делать?
— Может быть, поездка в ваш город, полный поэзии и неординарности, как-то поможет ему развеяться.
— Полный поэзии, говоришь?
— А что — разве нет? — строго спросил меня Сашок.
— Да есть вроде кое-что, — растерянно проговорил я.
— Надеюсь! — капризно проговорил Сашок.
— Так... Что же тут придумать?.. Может, к художнику Чёртушкину закатимся в мастерскую?
— Думаю, в этом нет необходимости, — снисходительно улыбнувшись, произнес Сашок. — Все уже организовано, причем на самом высоком уровне! Все, что от тебя потребуется, — это немного эрудиции и обаяния!
— Ну... постараюсь уж! — вытирая невесть откуда явившийся пот, проговорил я.
Мы вышли в наш двор.
— А где машина-то?
Сашок указал на длинную серую «Волгу».
— «Волга»?! Вот это да!.. А откуда машина?
— Из министерства, — сухо ответил Сашок.
— А разве у нас в городе есть министерства? — удивился я.
— Они везде есть! — еще более сухо ответил Сашок.
Из машины в мятом сером костюме навстречу нам вылезал Зот, он подошел ко мне — мы неожиданно обнялись и троекратно, по-русски, крепко расцеловались.
До этого он как-то скрывал свою любовь ко мне, но момент, который он сейчас переживал, видимо, требовал открытости чувств.
У передней дверцы машины стоял, вытянувшись, молодой красавец в сером костюме и роговых очках. Я оглянулся на Сашка: надо ли расцеловываться и с этим, но Сашок, мгновенно поравнявшись со мной, шепнул еле слышно:
— Это водитель.
Я просто пожал водителю руку и забрался на заднее сиденье. За мной туда же взобрался Сашок — Зот уселся впереди. Мы долго молчали. Потом Зот тяжко вздохнул. Не зная, правильно ли я делаю, я потряс рукой его плечо. Зот благодарно кивнул. Мы тронулись.
Долгое время мы ехали молча. Сквозь сплошной дождь я вдруг стал различать, что мы выехали из города и едем куда-то по пустому шоссе.
— Куда это мы? — наконец решившись, поинтересовался я.
— На дамбу! — ответил Зот.
— На какую дамбу? — удивился я.
— Как — на какую? Перегораживающую залив.
— А. А зачем?
— Ну... не знаю, — Зот вопросительно посмотрел на безмолвного шофера. — Насколько мне известно — это самое крупное, что делается у вас?
— Вообще-то да, — несколько сконфуженно проговорил я.
Мы молча свернули с асфальта на разъезженную земляную дорогу. Нас стало заваливать с боку на бок, кидать друг на друга. То и дело, обдавая грязью, нас обгоняли огромные БелАЗы — каждое колесо их было выше нас. Из-за дождя было видно не далее чем на три метра. Наконец, чисто интуитивно, водитель наш затормозил над каким-то обрывом. Мы свинтили вниз стекла и стали смотреть. На тускло различимую площадку перед нами вползали задним ходом огромные самосвалы, сваливали с себя гору бетона в опускающиеся откуда-то сверху, из облаков, ковши на тросах... площадка под ними дребезжала. Зот долго неподвижно смотрел. Мне лично показался странным этот способ избавляться от стресса — но у каждого это, говорят, происходит индивидуально.
Наконец Зот слабо взмахнул рукой, мы развернулись и поехали. Все молчали — поскольку главный наш человек не задал нам никакого конкретного направления разговора.
— Что... еще куда-нибудь едем? — не выдержав наконец молчания, спросил я.
— Все! Теперь только культурная программа! — выходя из оцепенения, произнес Сашок. Мы уже ехали по городу.
— Нам рекомендовали осмотреть храм Иоанна Настоятеля... реставрируемый... — повернувшись ко мне, сказал Зот.
— А-а-а... это где, кажется, фрески Нестерова? Интересно бы... Но кто нас туда пустит?
— Об этом можешь не беспокоиться! — снова высокомерно проговорил Сашок.
У развалин храма, обнесенных забором, мы вышли, поеживаясь под дождем.
— Вон калитка! — приглядевшись, указал Сашок. Зябко подняв воротники, мы пошли туда. Мы вошли через калитку в огороженное пространство. Там, брякая цепью вдоль длинной проволоки, заметался и залаял огромный пес. Из храма вышел старик в кепке.
— А ну, быстро отсюда! — хрипло заорал он.
Зот посмотрел на Сашка — тот, прямой и надменный, пошел к старику.
— Скажите, любезный, — нараспев заговорил Сашок, — где... так сказать... жрица этого храма?
Старик недоуменно смотрел на него.
— Анну Сергеевну вам позвать? — наконец проговорил старик.
— Да... будьте так любезны! — слегка наклонив голову, проговорил Сашок.
Старик, оглядываясь, ушел, потом появился. За ним, накинув кожаное пальто, шла строгая, стройная женщина с тонким лицом, мрачноватым взглядом.
— Скажите, пожалуйста, чтоб водитель нас подождал! — сказал Сашок старику.
— Простите... вы ко мне? — оглядывая нас, проговорила женщина.
— Здрас-с-сте! — пользуясь почти одними шипящими, произнес Сашок. — Вот товарищи, — находясь от нас на почтительном расстоянии, он сделал сдержанный жест рукой, — интересуются... ходом ваших работ.
— Каких именно... работ? — в некоторой рассеянности проговорила она.
— Для начала — будьте так любезны... уведите нас с дождя! — произнес Сашок.
— Ох — извините, что заставила вас мокнуть! — проговорила, спохватившись, она. — Прошу! — она указала тонкой рукой на вход.
— Ну что вы, что вы! — сразу став выше и стройнее, заговорил Зот. — Это мы должны извиняться, что вытащили вас! — подняв руку, он выстрелил над их головами зонтом, цепко засеменил рядом с нею, держа зонт.
— Азартнейший мужик! — придерживая меня за локоть, с восторгом шепнул мне Сашок.
В храме было темно и сыро, поднимались леса. Мы долго ходили за ней по пыльному каменному полу, слушая объяснения. А вот и фрески Нестерова... Ну... чувствуется, что не совсем искренне, что сделано на заказ. Но, как говорится — а что делать?..
— ...Известно всем, и теперь вы, очевидно, сами убедились, что здесь содержится самая большая часть фресок в нашем городе... Но, к сожалению, не знаю, то ли восстанавливаем мы их, то ли разрушаем. В прошлом году все лето с таким энтузиазмом работали над их реставрацией — и лучшие мозаичисты города, и просто студенты... Потом пришла зима, и оказалось, что не подключено отопление. Фрески покрылись инеем. Наконец, после всех наших слез, отопление подключили. Тут мы стали молить, чтобы тепло давали бережно, постепенно — но кто-то врубил на максимум в первый день. Фрески посыпались — из сделанного удалось спасти лишь половину.
— Чудовищно! — скрипнув зубами, проговорил Зот.
Мы помолчали.
— А восточная часть собора, как видите, до сих пор просто не подведена под крышу, так что говорить о каких-либо гарантиях — просто несерьезно! — она подняла руку к хмурому небу над дальним концом храма.
Мы помолчали.
— Объясните, как такое могло получиться? — с трудом сдерживаясь, проговорил Зот.
— Обыкновенно, — пожав плечом, усмехнулась она. — Наша стройка ни к каким торжественным датам не приурочена, поэтому и работа идет тяп-ляп... то и дело отбирают каменщиков, штукатуров, маляров. С прежним начальником управления Василием Андреевичем Лампасовым мы еще как-то находили общий язык, но вот пришел новый — и все прервалось... последнее, что нам кинули, — тысячу некондиционного кирпича! «Жрите, что дают» — так было сказано.
— Если вас не затруднит, — с пугающей, леденящей вежливостью проговорил Зот, — не могли бы вы назвать фамилию, имя и отчество этого человека?
— Пожалуйста! Я уже ничего не боюсь! — сказала Анна Сергеевна. — Дербенюк, Геннадий Сидорович!
Зот неподвижно застыл. Желваки катались по его лицу. Ветер сменился, сюда стали долетать капли — но он не реагировал.
— Вы... знаете его? — посмотрела на него Анна Сергеевна.
— К сожалению, да! — отрывисто произнес Зот. — Не откажите, пожалуйста, в любезности, не могу ли я воспользоваться вашим телефоном?
— Пожалуйста, — Анна Сергеевна показала на фанерную выгородку, заклеенную плакатами по технике безопасности. Зот стремительно ушел туда, набрал номер, со сдерживаемой яростью с кем-то разговаривал. Наконец он вышел оттуда.
— Можете больше не беспокоиться — у вас больше не будет никаких проблем! — галантно целуя ей руку, проговорил Зот.
Мы помолчали. Дождь, однако, доставал.
— Надеюсь, — поклонившись, проговорил Зот, — у нас будет еще возможность обо всем поговорить! — Он повернулся и зашагал, успев уколоть Сашка тяжелым, приказывающим взглядом.
В некоторой неловкости мы остались втроем. Покашливание гулко отдавалось под сводами храма... Когда мне очень нравится женщина и в то же время я понимаю, что ничего не могу ей предложить, — я стараюсь в ее сторону вообще не смотреть, что может быть принято за угрюмость и даже злобность — совершенно ошибочно! Я понимал, что из нас троих Анна Сергеевна хуже всех оценила меня — но что делать?
Сашок, решительно кашлянув, с абсолютно прямым корпусом пошел вперед.
— Божественная Анна Сергеевна! — жирным голосом зарокотал он. — Разрешите поблагодарить вас за совершенно волшебные минуты в вашем обществе. Ваша сдержанность, интеллигентность еще раз напомнили нам, в городе сколь высокой культуры мы находимся!.. И один бестактный вопрос: если у вас нет никаких серьезных планов на сегодня, не могли бы вы разделить дальнейшие наши странствия? — склонив голову набок, он застыл.
Повисла пауза. Ну, дела! Такого оборота я не ждал!
— Ну вообще-то, — вдруг улыбнувшись, проговорила она, — планы, конечно, были, но... — она развела руками, — бороться с таким напором... просто невозможно! Ладно — подождите меня, минут пять!
— Мы будем с внешней стороны! — сделав сдержанный жест рукой, Сашок поклонился, и мы вышли.
Зот, сидя на переднем сиденье, нервно дымил. Через зеркальце он уткнул в Сашка взгляд — тот слегка прикрыл ресницы.
Анна Сергеевна вышла из калитки и, увидев машину, несколько остолбенела. Сашку понравилась такая реакция — он выскочил, открыл дверцу, усадил ее.
— Здрасьте! — она поздоровалась с водителем, тот молча поклонился.
— Так... куда прикажете? Мы в полном вашем распоряжении! — с некоторым отчаянием во взоре проговорил Зот.
— Даже не знаю... что именно вас интересует? — проговорила она.
— К сожалению, в этом городе мы абсолютные профаны, — заговорил Сашок. Если вы приедете к нам, а что вы приедете к нам, я в этом не сомневаюсь, — то вопроса, как провести время, поверьте, у нас не возникнет. Но здесь... — он развел руками. — Я думаю, мы прислушаемся к мнению нашего друга? — он вдруг всем корпусом повернулся ко мне.
Так и знал, что втравит меня! Кроме мастерской художника Чёртушкина, у меня нет абсолютно ничего — но вряд ли это подходит к данной ситуации?
— Ну, не знаю... — пробормотал я. — Надо подумать...
— В Эрмитаже сейчас выставка из Франции... но попасть туда совершенно невозможно! — сказала она.
— К Эрмитажу! — мягко коснувшись плеча шофера, сказал Зот.
Очередь к Эрмитажу началась еще за километр.
— Ну давайте, я пока займу, — заволновался я. — А вы сидите в машине...
— Очередь? Это неэлегантно! — поморщился Сашок.
— Ну почему? Мое любимое хобби — стоять в очередях!
— Своим хобби ты займешься, когда мы уедем! — холодно сказал мне Сашок. — К служебному входу, пожалуйста! — коснувшись плеча водителя, проговорил он.
В зале выставки среди полотен великих мастеров мы оказались абсолютно одни.
— Я попросил, чтобы никого не пускали! — капризно проговорил Сашок. — С этими полотнами лучше общаться интимно!
— А люди должны мокнуть под дождем? — проговорил Зот.
— Полчаса, я думаю, роли не играют! — ответил Сашок.
Вскоре мы спускались по лестнице. У гардероба Зот снова посмотрел на Сашка, поцеловал Анне Сергеевне руку и вышел.
— Анна Сергеевна! — снова запел Сашок. — Спасибо вам за еще один праздник, который вы нам подарили. Если мы вам не очень надоели, не могли бы вы оказать нам еще одну милость — разделить с нами скромную трапезу?
Я подумал: как Зот не боится, что она влюбится не в него, а в Сашка... но он не боялся — Сашку, видно, было этого не положено, да и работал он явно ради чистого искусства.
— А где трапеза? — глянув на часы, спросила она.
— Думаю, наш друг подскажет нам какое-либо уютное местечко, — глядя на меня мутным, как у глухаря, взглядом, пропел Сашок.
— Не знаю... может быть... в «Восточный»? — невольно поддаваясь его интонации, проговорил я.
Снова мы ехали... остановились у подъезда... поднялись по мраморной лестнице. Метрдотель сразу направился к нам.
Однажды в коридоре родного учреждения я с изумлением увидел старикашку, который вел себя с необъяснимой развязностью: он шел, элегантно покачиваясь, по коридору (который своей узостью вроде бы исключал покачивания), да еще волок за шеи двух роскошных красавиц. «Что ему позволяет так себя вести?» — с недоумением глядя ему вслед, вопрошал я. И только увидя у подъезда роскошный «Ягуар», я все понял. Так и тут — от нас исходил несомненный «аромат автомобиля», причем явно необычного, — и опытный метрдотель это сразу почуял.
— Слушаю вас! — почтительно склоняясь, проговорил он.
— Вот, товарищи, — почтительно показывая на нас рукой, заговорил Сашок, — хотели бы... так сказать... в личном контакте... — он потерял нить, но тут же ухватил, — ознакомиться с работой... вверенного вам учреждения!
Метрдотель в некоторой растерянности взирал на него. Взгляд Сашка был тускл и непроницаем.
— Вам... столик? — наконец сообразив, проговорил метрдотель.
— Да, хотелось бы! — снисходительно проговорил Сашок.
— ...В последний раз запрещаю тебе... распускать хвост! — яростно сказал Зот Сашку, когда мы уселись.
— А что я такого сказал? — Сашок недоуменно поднял бровь.
Подошел официант...
— Ну, — Зот поднял бокал, — за нашу случайную, но, как мне кажется, закономерную встречу!
— Судя по темпу — вы сегодня уезжаете? — усмехнувшись, проговорила Анна Сергеевна.
Я хихикнул. Сашок пристрелил меня взглядом.
— Да... мы уезжаем... — ставя бокал на стол, медленно проговорил Зот, — но это не означает, что все сказанное мной не имеет веса!
— ...К Дербенюку! — приказал он, когда мы вышли и сели в машину. Вскоре мы остановились у обшарпанного подъезда. — Вызови мне его сюда! — со сдерживаемой яростью приказал он Сашку.
Дербенюк стоял под дождем в тренировочном костюме и домашних тапочках, и Зот, открыв дверь машины, отчитывал его.
— Будет исполнено... будет исполнено! — кивая, повторял Дербенюк.
Тут меня удивил поступок нашего водителя, которого я, надо признаться, считал уже за робота... он вдруг вылез под дождь, раскрыл над Дербенюком зонт и стоял, прикрывая его.
Вот единственный человек, подумал я, который не побоялся совершить человеческий поступок — вопреки ситуации, по зову души, не побоявшись опалы и хулы!
— Все понял? — сказал наконец Зот Дербенюку. Тот кивнул. — Надеюсь, у этой женщины, — Зот кивнул на Анну Сергеевну, — не будет больше проблем!
— Не будет, — глядя исподлобья, глухо произнес Дербенюк.
— Только не надо благодарить! — отгораживаясь от Анны Сергеевны ладонью, произнес Зот.
— Я не буду благодарить, — ответила она. — Мне ничего не нужно... такой ценой. Дербенюк уже пытался меня катать... на этой машине.
Повисла пауза. Я посмотрел на водителя, потом на Зота. Водитель медленно сложил зонт и уселся в кабину.
— Гони! — захлопывая дверцу, скомандовал Сашок. Машина рванула через дождь.
— Замечательно! Настоящие места Достоевского! — восхищенно глядя по сторонам, воскликнул Сашок.
— Мне сюда, если можно, — показала она. — Остановитесь вот здесь.
Все сидели молча.
— Анна Сергеевна, — медленно поворачиваясь к ней, заговорил Зот. — Вы... воскресили меня. Вы заставили меня... посмотреть на себя... печальными глазами. У меня к вам... последняя просьба... Разрешите войти в ваш дом... хотя бы краем глаза увидеть атмосферу, в которой рождаются такие люди, как вы! Сказать «благодарю» вашей матери, если она жива, отцу, если он есть, дочери, если она существует, за такую мать! Разрешите? — он поднял на нее страдальческие глаза.
— Ну пожалуйста, — проговорила она.
Они ушли в маленький двухэтажный дом. Переулок был узкий — машина доставала от тротуара до тротуара.
Сашок, оставшись, в нетерпении ерзал — он действительно страдал!
— Возмутительно! Ничего не налажено! — эти слова он почему-то обратил к шоферу. — И зачем, вообще, этот беспрестанный дождь! — в бешенстве закричал он уже на меня.
Наконец из глубокого подъезда, освещенного тусклой лампочкой, вышел Зот, почему-то прикрываясь воротником плаща. Он сел в машину. Мы молчали.
— На вокзал, — обронил Зот.
Машина двинулась сквозь стену дождя. «Дворники» не успевали разгонять тяжелые струи.
— Удивительная женщина! — заговорил наконец Зот. — Настоящая петербуржанка! Строгость! Сдержанность! И под всем этим — скрытая страсть!
— Скрытая? — усмехнулся Сашок (в тепле машины его несколько развезло).
Зот метнул на него бешеный взгляд. Он умолк.
— Кстати, — обернулся Зот, — весь этот дом некогда принадлежал ее предкам!
— Старинный, разумеется, род? — значительно подняв бровь, произнес Сашок.
— Нет. Просто чиновники, — скромно и одновременно с достоинством проговорил Зот.
Машина вывернула на Невский.
— Я ей говорю, — Зот никак не мог остановиться, — может быть... хоть когда-то в чем-то вам понадобится помощь... достаточно влиятельного лица? Я сделаю все, что угодно!.....«Дурак», — сказала она.
Мы понимающе помолчали.
— Надеюсь — все координаты имеются? — строго спросил Сашок, почему-то у шофера.
— Не нужно, — произнес Зот.
Мы вышли к вокзалу. Уезжал Зот, по-моему, еще в большем стрессе, чем приехал... Впрочем, умному человеку все идет на пользу, даже поражения.
— Надо было в Сочи лететь! — ежась под промозглым дождиком, сказал Сашок.
III


По-нашему, по-водолазному
Однажды, в полном уже отчаянии от своей жизни, я ехал куда-то, сам не зная куда.
Найду какой-нибудь тихий уголок, думал я. И буду жить спокойной жизнью, как все! Вон как безмятежно дремлют люди во всем вагоне!
Против меня, склонив голову на грудь, спал человек в съехавшей на лоб мокрой шапке: он спал тогда, когда я вошел в еще пустой и темный вагон, не проснулся он, когда набились люди и потеснили его, и когда вагон задрожал и ярко осветился, и сейчас, когда мы долго уже ехали среди снежных равнин, он продолжал безмятежно спать.
Вот! — с умилением глядя на него, думал я. Человек устал и честно спит! Жизнь у него, видно, трудная, но ясная, лишенная тех неразрешимых противоречий, в которые имел глупость забраться я. Поспит, и где надо — проснется, и выйдет в свою ясную жизнь!
Я с завистью смотрел на его тяжелые красные руки — на левой кисти можно было разобрать расплывчатую фиолетовую наколку «Шура».
И с любовью у него, видимо, все в порядке: раз полюбив свою Шуру, он верен ей до конца. Иначе бы, ясное дело, такой цельный человек вытравил бы надпись.
Потом я начал слегка беспокоиться: не проспит ли он с его гармонией и честной безмятежностью нужную ему станцию?
Это мне все равно, где выходить, — а у него на этой станции вся его жизнь!
Вагон качнуло. Он уже сознательным, не сонным движением удержал равновесие, потом медленно поднял голову: седая растрепанная челка, обветренное красное (словно без кожи) лицо, выцветшие светло-голубые глаза. Он долго, не мигая, смотрел на меня, — я почувствовал какое-то беспокойство. В общем, идея взять этого человека за образец слегка заколебалась.
— Так смотреть неприлично! — наконец не выдержал я.
— А может, ты мне нравишься? — усмехнулся он.
— Ну что уж во мне такого особенного? Разве что глаза? — я разозлился.
Интеллигентная старушка с двумя внуками, сидевшая рядом со мной, предчувствуя надвигающуюся ссору, торопливо, но подчеркнуто культурно обратилась к нему (культурным обращением, как подсказывал ей опыт, можно разрешить любые конфликты):
— Простите, пожалуйста, что я вмешиваюсь, — мне показалось, вы живете за городом?
Он неохотно перевел свой тяжелый взгляд с меня на нее.
— Почему это? — проговорил он.
— Извините, так мне показалось, — заторопилась она. — Просто мы с внуками (она сделала жест в сторону благовоспитанных внуков) намеревались в прошлое воскресенье поехать за город, но потом погода слегка подпортилась, а потом снова разгулялась, и мы расстроились, что не поехали...
Она хитро глянула на меня: «Видите, как легко уладить конфликт, — нужно лишь сразу взять верный тон!»
— Правильно! — проговорил сосед.
— Правильно, что не поехали? — виртуозно, как ей казалось, ведя разговор в нужном направлении, улыбнулась соседка.
— Правильно, что расстроились! — отрубил он.
Повисла тяжелая пауза — старушка явно была потрясена крушением стройной своей конструкции.
— Слушай! — не выдержал наконец я. — Мог бы и повежливей разговаривать!
Не отвечая, он долго неподвижно смотрел на меня светло-голубыми своими глазами, потом вдруг повернулся к соседу по скамейке — солдату с расстегнутым воротничком.
— Вот козел! — кивая в мою сторону, проговорил он.
Я вскочил:
— Слушай, ты!
Он лениво смотрел на меня снизу вверх.
— Может, выйдем? — в ярости проговорил я.
Он посмотрел мимо меня в окно, потом вдруг поднялся и пошел в тамбур. Там мы встали друг против друга. С издевательской усмешкой глядя мне прямо в глаза, он закурил.
— Может, извинишься? — пробормотал я.
Вагон вдруг задрожал и остановился. С шипеньем разъехались двери.
Он сдвинул меня и вышел на платформу.
— Нет, погоди! — разгорячившись, я вышел за ним. — Ты куда?
Он внимательно посмотрел на меня.
— Ра-бо-тать! — с издевательской четкостью, по слогам проговорил он, причем тон, как я почувствовал, относится не столько ко мне, сколько к работе. — Могу идти? — он усмехнулся.
Двери электрички со стуком соединились, слегка отскочили друг от друга и снова соединились.
— Так! — с отчаянием понял я. С ним-то все в порядке, он приехал куда ему нужно, а я вот влип в очередную нелепую историю. Когда пойдет следующий поезд — неизвестно! И главное — непонятно, чего я хочу!
— Погоди-ка! — я обогнал его на узкой тропинке (пришлось по колено залезть в снег). — А... природа... тут есть?
— Природы — вот так вот! — он резанул ладонью по горлу.
Я пошел от платформы за ним. Может быть, все-таки он приведет меня в тихий уголок?
— ...А не боишься? — вдруг останавливаясь, повернулся он.
— Тебя, что ли? — воинственно отозвался я.
— Ну-ну! — проговорил он и пошел дальше.
Мы прошли хилые заросли и вышли на широкую дорогу. Вдоль нее тянулся черный кустарник, а дальше уходило бескрайнее белое поле, без единого темного пятнышка.
— Озеро! — после некоторого умственного напряжения понял я.
— Пять кэмэ отсюда! Пешочком? — ухмыльнулся он.
— А у тебя машина? Так чего спрашиваешь? — отозвался я.
Мы молча прошли по дороге вдоль озера километра полтора — я, честно говоря, едва поспевал за ним, потом он вдруг резко остановился, протянул мне свою красную, раздутую, словно нарывающую, ладонь:
— Виктор.
Я едва смог обхватить его руку двумя своими.
Потом нас бесшумно — по снегу — догнал грузовик с крытым кузовом. Виктор сел почему-то в кабину, мне пришлось карабкаться наверх.
Ничего! — подпрыгивая там в обнимку со скамейкой, утешал себя я. Там, куда мы едем, не все же такие типы, как этот!
Но там, куда мы приехали, выбор оказался невелик. На краю широкой поляны, спускающейся к озеру, темнела избушка. Рядом стоял черный трофейный легковой автомобиль — мрачное изделие фашистов — примерно на три метра длиннее и на целый этаж выше всех ныне существующих автомобилей.
Возле него копошился кругленький старичок в ватнике. Услышав нас, он живо обернулся своим скуластеньким личиком с пуговками-глазками, которые с интересом и, как мне показалось, с симпатией глянули на меня.
— Так. Штирлиц на месте! — отрывисто проговорил Виктор.
Мы, почему-то не здороваясь (так, видимо, было надо), вошли в темноватую кухню с грязной плитой, над которой сушились валенки и носки.
Виктор с размаху натянул шапку на крюк и небрежно развалился на скамейке, ногами своими в кирзовых сапогах перегораживая всю кухню и как бы приглашая меня действовать в той же манере.
Аккуратными маленькими шажками вошел старичок, тщательно вымыл руки под рукомойником, подбивая ударами железный сосок вверх, неторопливо вытер ладони, потом подошел ко мне и, ласково улыбаясь, протянул ладошку.
— Павел Иванович! — отрекомендовался он.
Виктор сидел молча, не меняя позы.
— Опять за свое? — наконец повернулся к нему Павел Иванович.
— А за чье же? — с вызовом проговорил Виктор.
— Опять дружков своих привозишь сюда?
Я смущенно вскочил, но каменная рука Виктора придавила меня к скамейке:
— Сидеть!
Я понял, что стал предметом — вроде воздушного шарика — в какой-то давней и напряженной игре.
— Сидеть! — повторил Виктор и своими светло-голубыми глазами с вызовом уставился на Павла Ивановича.
«Вот так вот!» — казалось, говорил его взгляд, но как — «вот так вот» — я не понимал.
— Та-ак! — яростно заговорил Павел Иванович. — Свалился на мою голову напарничек хренов! — По голосу его я почувствовал, что он не так уж прост, привычка командовать явно прослушивалась в нем. — Удружили! — Он на коротеньких своих ножках пошел через кухню, по дороге зафутболив пустое ведро, и скрылся в комнате за толстой дверью с клочками кожи и ваты.
Я поглядел на Виктора и вдруг с изумлением увидел блеснувшие на его глазах слезы — столь быстрого изменения его состояния я не ожидал.
— Всю жизнь вот так! — с отчаянием в задрожавшем голосе заговорил Виктор. — Хочешь людям помочь, а в результате!.. Брата у себя прописал — теперь его жена в суд на меня подает. Тут — пожалел, старичку хотел помочь — а старичок этот оказался еще тот!
Вскочив, Виктор зашагал по кухне, потом нервно ушел за другую тепло обитую дверь.
Помедлив, я вошел за ним, — пытался постучать по вате, но не получилось.
В большой светлой комнате стояли табурет и кровать, на кровати валялись скомканные грязные рубахи, кальсоны, пассатижи и мутная алюминиевая тарелка с засохшей надкушенной картошкой, из бока которой торчала вилка.
По этой детали характер хозяина вырисовывался довольно четко: надкусил картошку, но доесть было некогда, швырнул на кровать и куда-то умчался.
Теперь Виктор швырнул в общий ком еще и пальто и оказался в толстом грубом свитере с высоким горлом и черном клеенчатом комбинезоне.
Виктор побегал по комнате, потом вдруг, как подкошенный, упал на продавленный диван, лежал, подперев голову рукой, — в другой руке вдруг оказалась какая-то маленькая книжонка (впрочем, может, в такой ладони нормальная книжка казалась маленькой), он почитал ее секунд пять, потом вдруг со стоном швырнул ее, книжка, шурша страницами, опустилась в углу, — Виктор снова поднялся и начал ходить. Что-то безумно его мучило — но что?
Дверь приоткрылась, и заглянул излучающий благодушие Павел Иванович.
— Извольте откушать! — пропел он. Столь морально израненный человек, каким был, видимо, Виктор, наверняка почувствовал в этом долю язвительности.
Виктор молча вышел в кухню, брякнулся на скамью. Из своей походной сумки я выставил на стол те припасы, с которыми намеревался начинать новую жизнь, — среди припасов была и бутылка водки. Я поставил ее в центр стола. Павел Иванович, лучезарно улыбаясь, с любовью взял ее за горлышко и поставил под стол. Виктор метнул яростный взгляд.
— Чайку? — ласково проговорил Павел Иванович в конце трапезы, поднимая большой закопченный чайник. Я молча поблагодарил, Виктор глядел в пространство.
— ...Чаечку? — любовно произнес Павел Иванович.
Виктор вдруг резко вскочил. Он сорвал с вешалки тулуп, залез сразу в оба рукава.
— Куда это ты? — удивленно проговорил Павел Иванович.
— Ра-бо-тать! — с издевательской четкостью проговорил Виктор.
— А, хорошо, — миролюбиво проговорил Павел Иванович и тоже стал одеваться.
И я тоже надел свое пальто — с какой стати я буду сидеть здесь один?
— А можно, я с вами пойду? — попросился я.
— Городской мальчик хочет пощекотать нервы, — ухмыльнулся Виктор.
— На льду-то прижигает! — глянув на мой наряд, проговорил Павел Иванович.
— Ничего! — бодро произнес я.
Мы вышли на воздух. Виктор завел стоящий под навесом снегоход «Буран», подпрыгивая на кочках, подкатил к нам. Павел Иванович взял в руки корыто с уложенной в нем слоями сетью, уселся, а я прильнул к нему сзади, на самом кончике длинного сиденья. Сначала мы ухнули с горки вниз, потом помчались по ровному белому пространству. Действительно — на льду «прижигало»: ярчайшее солнце и непрекращающийся ледяной ветер, — хоть я и скрывался сразу за двумя спинами.
После страшного пути, показавшегося бесконечным, мы наконец слезли со снегохода, размяли ноги.
Постановка сетей зимой, «прошнуровывание» их подо льдом от проруби к проруби — дело, можно сказать, отчаянное, к концу я уже не чувствовал ни рук, ни ног, ни лица: все это было у меня теперь изо льда.
Уже оказавшись в избушке, я долго сидел неподвижно, как стеклянный, и только, наверное, через час, после макарон с тушенкой и чашки чая, начал понемногу оттаивать.
Виктор, по сволочному своему характеру, всячески демонстрировал мне (а главным образом, Павлу Ивановичу) , что прошедший сейчас рабочий эпизод является пустячным и, может быть, даже зряшным по сравнению с прошедшей его трудовой биографией, полной настоящих испытаний.
— Вот в прошлый ноябрь случай был, — прихлебывая чай, разглагольствовал он. — Я тогда на траулере ходил. — Он бросил высокомерный взгляд на Павла Ивановича. — В шторм шлюпку смыло с борта, а я как раз один был наверху. Шлеп в воду, и поплыл. Вскарабкался на шлюпку — комбинезон, фартук, резиновые сапоги — и потом миль двенадцать на веслах, пока траулер не догнал. У него, на счастье, движок заглох. Ну, тут и я появляюсь в машинном отделении. «А ты где был? — помощник говорит. — Обыскались тебя!» — «Да я в гальюне сидел!» — говорю. Ну, движок тогда еще «Четыре-ча» стоял, ну ты ж сам понимаешь! — он пренебрежительно отвернулся от Павла Ивановича и обращался исключительно ко мне, как к посвященному. — Это счастье: зажег баночку с керосином, подогрел — с полтыка завелся! — Виктор небрежно ткнул на стол пустую чашку. — Сам знаешь: моторист — это тот, кто гайку в восемь миллиметров может на десятимиллиметровый болт натянуть!
— Ну все, понес! — проговорил Павел Иванович.
Виктор наградил его коротким пренебрежительным взглядом и снова повернулся ко мне:
— А еще случай был. В субботу и воскресенье пили на борту, потом говорим: «Ну ладно пить, надо и дело делать!» Бросили бутылку коньяка в воду, в закол, стали работать. К вечеру к нам милицейский один приехал. Мы подняли закол, а там бутылка коньяка. Тот вылупился. А мы спокойно: «Это еще что! Бывает, по ящику попадается!» — Виктор сипло захохотал.
Павел Иванович сплюнул.
— А в позапрошлом году миногу ловили, — продолжал Виктор, обращаясь исключительно ко мне. — Там бросается такая корзиночка на течении, вода идет сквозь нее, ну и образуется турбулентность, — слово это он выговорил небрежно, но с достоинством, — минога турбулентность любит, заходит — тут и поднимают ее! — Виктор окончательно поставил чашку на стол и вдруг положил тяжелую свою руку мне на плечо. Знание нами обоими законов турбулентности ставило, видимо, нас на голову выше всех окружающих.
— То-то тебя с траулера и турнули! — злорадно проговорил Павел Иванович и ушел к себе.
— Двадцать лет уже, как подчиненных у него нет, а все командует! — вслед ему проговорил Виктор. — Пытался тут еще на мебельной фабрике командовать — и оттуда понесли!
— Почему?
— Потому что дуб! — растягивая свой огромный рот, проговорил Виктор.
Виктор нервно налил себе еще чаю, мы молча прихлебывали, нервно думая, каждый о своем, вдруг Виктор пригнулся к окошечку.
— Так... вдруг откуда ни возьмись! — проговорил он.
Я тоже пригнулся к окошку. К избушке, плавно покачиваясь, подъезжала светло-зеленая, острая и низкая иностранная машина.
Павел Иванович тут же вышел на кухню и, сложив руки на животике, скромно сел на скамейку.
Из машины вылез ослепительный красавец в роскошной дубленке, но без шапки. Он аккуратно запер дверцу машины, потом потоптался в сенях, пригнувшись вошел в кухню и вежливо поздоровался на чисто русском языке.
— Садись! — буркнул Виктор.
Павел Иванович, скорбно поджав губы, кротко кивнул.
Гость сел. Я нацедил ему чаю. Тот вежливо поблагодарил. Мы в полной тишине пили чай. Гость, подняв длинные ресницы, вдруг внимательно посмотрел на Виктора — тот злобно мотнул головой в сторону Павла Ивановича. Чаепитие продолжалось в молчании.
— Да, — тихим своим голосом вдруг обратился к Виктору гость. — Я же привез тебе, что обещал!
Он поднялся, почти задевая потолок этого убогого и чумазого жилья, аккуратно вышел.
— Отличный чувак! — доверительно сообщил мне Виктор. — Маляр пятого разряда, в Отделе обслуживания иностранцев — только по машинам! Зато весь Питер и рвется к нему! Но понимает человек, что такое кожа рук! — Виктор поднял руку тыльной стороной, пошаркал другой рукой. — Терка! На том и познакомились: мазал я как-то руки свои, смесь: аммиак, спирт, глицерин — немного смягчает. Гляжу — какой-то фрайер вошел. «О! — говорит. — Та же проблема!» И стал мне крем «Ленинград» привозить — единственный, помогает который, после него старая кожа отмершая как перчатка с руки снимается — отлично!
Гость вернулся к столу и положил пять аляповато раскрашенных тюбиков.
После этого мы выпили еще по чашке в полном молчании. Виктор швырял яростные взгляды на Павла Ивановича — тот своей невозмутимостью напоминал Будду.
Гость неторопливо допил чашку, вежливо поблагодарил, поднялся. И только на выходе уже, согнувшись под притолокой, он обратился вдруг к Павлу Ивановичу:
— Да, а вы не подскажете, случайно, где здесь рыбы можно купить? — гость виновато улыбнулся.
— В магазине! — вежливо проговорил Павел Иванович.
— Спасибо! — поблагодарил гость и вышел.
Машина отъехала. Пауза продолжалась минуты полторы.
— Ну все! — Виктор вдруг вскочил, уронив табурет. — Хватит!
Он с грохотом убежал в свою комнату и тут же выскочил с двустволкой в руке, подскочил к Павлу Ивановичу. Тот невозмутимо прихлебывал чай.
Виктор резко повернулся, выскочил из избушки. В окно я увидел, как он стремительно углубляется в заросли. Потом хлестко, с небольшими паузами, донеслись восемь выстрелов. Я в испуге вспомнил, что недавно читал об открытии охоты на кабанов, но стрелял ли он в кабана, было неизвестно. Во всяком случае, это было не самоубийство — вряд ли кто кончает с собой восемью выстрелами.
Вернулся Виктор уже в полной темноте. Потом мы сидели в комнате — Виктор на своей кровати, я на продавленном диване без валиков.
— Как это можно — людям рыбу не продавать?! — страдальчески говорил Виктор. — Ты не ленись, поймай больше, но продай! Устроил тут полковничью дачку себе! Всем говорит: рыба в магазине! Ему, может, и есть там рыба, а где нашему брату ее взять? — Виктор хрястнул себя кулаком по тельняшке. — Честный нашелся! Да за такую честность!.. — Виктор задохнулся. — Да за кого меня теперь мои кореши будут держать?!
Страстные слова Виктора доносились ко мне глухо, как сквозь воду. Все вокруг словно пылало, кружилось и плыло — кажется, я простудился, и теперь...
Посреди очередного его страстного монолога я поднялся, как сомнамбула, и вышел в холодную кухню, где пытался щепками разжечь огонь, чтобы вскипятить хотя бы чайник.
Из своей комнаты вышел Павел Иванович в меховой жилетке, посмотрел на меня, вернулся к себе и вышел с легкой горячей шалью в одной руке и двумя резными пахучими листиками в другой.
— Вот, — отрывисто проговорил он. — Камфарная герань! Комочком вот так сомни, — Павел Иванович показал как, — и в оба уха заткни. Шалью завяжи — и к утру все пройдет!
— Не надо песен! — проговорил появившийся в кухне Виктор. — Герань эту себе в уши положите — мы с корешем сейчас в баньку помчимся, пропарим его как следует, и все будет тип-топ!
Опять я сделался шариком в их игре, но я все воспринимал уже как бред, поэтому сам больше никакой активности не проявлял.
Павел Иванович плюнул на раскаленную печку и ушел. Виктор напялил на меня свой тяжелый черный тулуп, широкие меховые пимы и, как большую куклу из японского театра, вывел на улицу.
Там уже было абсолютно темно. Я почувствовал под собой жесткое и холодное сиденье снегохода, потом оно вдруг дернулось вперед — я едва успел ухватиться за спину Виктора.
Небо было черное. Снег — белый. Виктор включил фары, и два рябых размытых столба ушли во тьму.
Лед ходил под нами ходуном, тошнотворно вдруг проседал, но это почему-то не пугало Виктора — он мчался куда-то в темноту.
Вдруг лед особенно резко ушел вниз, сердце прыгнуло, я ухватился за плечи Виктора еще крепче и вдруг увидел, что наискосок нашему маршруту мчится на бешеной скорости «Волга» с сияющими фарами. Так же неожиданно она исчезла — лед под нами ощутимо приподнялся.
— Разъездились тут... как на проспекте! — одеревеневшим языком проговорил наконец я.
Потом я вдруг увидел чуть в стороне от нашей трассы продолговатое темное тело на белом снегу.
— Стой! — тут я сразу пришел в себя, стал дергать Виктора за рукав.
— Ну? — Виктор выключил скорость, приглушил мотор, но продолжал поворотами ручки ярить его.
— Человек! — кивая в сторону тела, прокричал я.
— ...Ну и что? — глянув туда, Виктор снова повернулся ко мне.
— Но... как же?
— Все нормально! Поспит немножко, ночью проснется — ночью налим отлично берет!
Мы помчались. Оказывается, какая жизнь тут бурлит в темноте — я и не знал.
Мы въехали на пологий берег и вскоре были уже в бане.
Мы забрались в парилку, и тут Виктор продолжил свой страстный монолог:
— Нельзя рыбу продавать людям! Килограммы экономят, а тонны губят! Камнеломы эти — днем камень рвут, а ночью — рыбу. Причем лосось, ценное самое, тонет мертвый, не взять — а им это до феньки!
— Камнеломам? — спросил я.
— Камнелобам! — проговорил Виктор, с вызовом глядя на огромного человека, сплошь состоящего словно бы из булыжников. — Ну ничего, я тут шороху наведу, — все руки не доходили, а вернее — ноги!
Булыжный человек глянул на Виктора и спустился с полка.
— Рыбаки эти чертовы! — проговорил он уже внизу. — Нажрутся вечно и выступают!
— Нажравшихся тут нет! — звонко выкрикнул Виктор. — Нажравшиеся остались там, в заливе! — он мотнул головой.
Вокруг него так и клубилась какая-то суматоха, непрерывно он что-то затевал. Для начала он выгнал всех из парилки (для того якобы, чтобы вычистить ее), потом вдруг выяснилось, что не идет горячая вода, — Виктор с приближенными (среди которых, конечно, мотался и я) вышел в соседнее холодное помещение, где поднимался почти до потолка горячий бак. Виктор потрогал его ладонью, потом быстро полез босыми ногами по ржавой лесенке наверх. Двумя руками он отвинтил писклявую широкую крышку бака, сморщившись, долго смотрел туда, потом вдруг перекинул внутрь ноги. «Х-ху!» — отрывисто произнес он и исчез в люке.
Приближенные, столь внезапно потерявшие своего предводителя, растерянно переминались на холодном полу. Я схватился уже руками за перила, собираясь полезть, — но тут над горловиной бака показался сжатый кулак, потом с поворотом вылез розовый локоть, потом голова с прилипшими волосами и вытаращенными глазами. Виктор, упираясь локтями, выдернул себя из люка, некоторое время лежал под потолком плашмя, как вареный рак, потом вдруг опустил руку и разжал кулак — оттуда, распрямляясь, выпало что-то блестящее.
— Целлофана кусок в трубу залез! — словно вареным голосом проговорил Виктор и, свесив ноги, начал спускаться по лесенке. Вслед за ним мы вернулись в зал. Мощные струи, заполняя все помещение паром, били уже из ржавых кранов с деревянными ручками, сотрясая тазы.
Оказалось, однако, что наша с ним одиссея на этом не кончилась. Когда мы вышли из бани, Виктор вдруг решительно свернул по берегу совсем не в ту сторону, где был оставлен наш верный снегоход.
— Куда ты? — настигая его, спросил я.
— В Ровное, — отрывисто ответил он.
— Зачем?
— Надо!
Ничего себе «Ровное» — приходится карабкаться по горам!
— А... куда там? — изо всех сил стараясь не отставать от него, поинтересовался я.
— В общежитие, — проговорил он.
— ...В женское?
Виктор энергично кивнул.
— А... зачем? — задал я робкий вопрос. Виктор усмехнулся. Но что-то все вокруг мало напоминало ожидаемое: мы забрели в какую-то совсем дикую местность — словно не на земле. Какие-то гигантские глыбы громоздились по краям дороги, закрывая небо.
— Слышь, Володька, дай-ка закурить! — вдруг резко останавливаясь, проговорил мой Вергилий.
— Я не Володька! — проговорил я, все же протягивая ему пачку.
— Да? — Виктор строго посмотрел на меня. — А почему мне тебя всю дорогу Володькой хочется называть?
— Вот уж не знаю! — я пожал плечом.
Он снова быстро пошел, вытянув шею — словно папироса тащила его вперед.
Наконец в окружающей тьме я увидел какую-то белую
табличку на столбике, радостно бросился к ней — все-таки след цивилизации среди полной дикости! Прочитав табличку, я остолбенел.
«Внимание, внимание! Пребывание в радиусе километра от этого знака смертельно опасно! Ведутся камнеломные взрывные работы! Предупреждение о взрыве — два длинных гудка».
Виктор видел табличку, но прошел мимо нее абсолютно равнодушно. Я попытался догнать его — но вдруг ноги мои ослабли и отказались идти: глухо, как из-под земли, пошел низкий тягучий гудок. Он тянулся, наверное, полчаса и вдруг оборвался.
Так! — я вытер пот, прислушался. В ушах звенело от глубокой тишины. Гудок всего один — слава богу, не то! И тут стал нарастать второй гудок.
Так. Ну ясно. За километр отсюда я уже не убегу! Я остановился, широко, до хруста, распахнул рот (где-то я слышал, что при взрыве надо распахивать рот), и стоял, глядя на яркую луну — словно надеясь туда вознестись.
Взрыва все не было. Куда все же лучше — вперед или назад? Я побежал вперед, обогнал Виктора, презрительно сплюнувшего. И снова из-под земли пошел протяжный гудок. Оборвался. Потом второй. Остановившись, я снова распахнул рот и смотрел на луну.
Так можно и ангиной заболеть! — подумал вдруг я, запахнул рот и помчался.
Дорога, освещенная луной, спускалась в узкую долину среди холмов — там светились окнами несколько длинных одноэтажных домов. По улице пробежала собака, больше не было видно ни души. Да, с виду не скажешь, что это такой уж рай! — подумал, дрожа от холода, я.
— Тут в прошлый раз, — кивая на длинный дом, проговорил он, — развыступался один — пора его укоротить!
— Так мы драться, что ли, идем? — остановился я.
— Ну? — Виктор кивнул.
У двери была табличка «Женское общежитие камнедробильного треста». Виктор рванул дверь, прошел по коридору, уверенно, без стука, распахнул дверь в конце. Посреди комнаты под абажуром стоял стол, у стен — диван и много кроватей. Что характерно — комната эта, судя по занавесочкам и салфеточкам, была женской, но находились в ней одни лишь плечистые мужчины — и это, видимо, вполне устраивало Виктора.
Нагло, не здороваясь, он вошел в комнату, плюхнулся на диван, с грохотом сбросил на пол свои ботинки и смело оглядел заполняющих комнату. Потом вдруг вытащил из-за пазухи бутылку, из кармана огромный нож, одним движением срубил полупрозрачную пробку. Не нравящийся ему «козел», которого мы до этого видели в бане, присутствовал здесь, поэтому ноздри Виктора хищно раздувались.
— Между прочим, — кивнув вниз, проговорил он, — пробка в ботинок попала. Может, все-таки кто-то вынет?
Такое поведение среди огромных камнеломов казалось мне абсолютным безумием!
— Здравствуйте! — я робко нарушил зловещую тишину, но никто не ответил.
— Ну что? — Виктор повысил голос. — Не самому же мне вынимать?!
Я испуганно сжался: сейчас на нас обрушится каменный обвал!
Но тут появилась хорошенькая камнеломша и увела упирающегося Виктора, разбрасывающего хулу, прочь из комнаты. Обо мне он даже не вспомнил.
Ну все! — я сжался в комочек. Сейчас обвал обрушится на меня одного!
Но камнеломы вдруг начали миролюбиво играть в карты.
Потом появилась бутыль с мутной жидкостью.
— Ну давай, голован! — наливая из бутыли, предложил мне «булыжный».
— Почему это ты меня голованом зовешь?! — мятежный дух Виктора вселился в меня.
— Ну а кто ж ты? — добродушно проговорил «булыжный».
— Ну что же, ладно, — сразу смирился я.
— С баллона? — отхлебнув, поинтересовался кудрявый.
— С какого баллона? — я отвел стакан ото рта.
— От сжиженного газа, — пояснил «булыжный». — В баллоне от сжиженного газа около полулитра спирту остается.
— A-а! — почему-то с удовлетворением произнес я.
Если от сжиженного газа — тогда-то хорошо! И действительно, скоро я плыл в горячем блаженстве. И тут вдруг домик тряхнуло — сначала дошел толчок воздуха, потом звук. Я в испуге вскочил. Камнеломы невозмутимо продолжали играть — но в этой повышенной невозмутимости явно скрывалось волнение.
— Так, значит? — в комнату ворвался Виктор, на этот раз в виде античного героя: лепной торс, длинные трусы, смелый взгляд. — Рвете? Ну все! Начну вырубать по одному!
Он бросился к столу — я встал на его пути, отпихнул. Пусть лучше уж дерется со мной, чем сразу со всей камнебойной компанией.
Он легко сковырнул меня вбок и подскочил к столу.
— Чего ты здесь-то поешь? — не отводя глаз от карт, произнес «булыжный». — Ты туда иди! Боишься?
— Можно! — воинственно проговорил Виктор. Он вышел и тут же вернулся уже корректный, в майке. — Можно! — он снова исчез и снова появился, уже в свитере. Так, то выскакивая, то появляясь, он оделся. — Можно! — Он вбил ноги в ботиночки, накинул пальтецо и выскочил. И я, конечно, за ним — как же он без меня?
— Можно! — повторил Виктор, устремляясь в темноту.
— Но... наверное... как-то иначе действовать надо, — с трудом поспевая за ним, проговорил я.
— Как?! — Виктор вдруг остановился, яростно уставился на меня.
— Ну... наверное — писать? — неуверенно пробормотал я.
— Писать! — презрительно изменив ударение, проговорил он и рванулся вперед.
Снегоход наш сиротливо притулился на пустом берегу. Из-подо льда доносились какие-то равномерные, глухие вздохи... Волны? Значит — где-то озеро вскрылось? Я слегка поежился... Остаться? Ну нет уж! Вся моя дальнейшая жизнь будет жалкой, если я сейчас останусь!
«Буран» взревел под отчаянным всадником — я еле успел плюхнуться сзади. И вот мы ухнули вниз, сердце оступилось, залопотало. Рябые пятна от фар прыгали впереди. Кидало сейчас почему-то значительно сильнее, чем по пути сюда.
Вдруг озноб ужаса охватил меня: «Буран» заскользил вниз по какой-то наклонной горке — какие могут быть горки на льду?
— Прыгай! — обернувшись, рявкнул Виктор.
Я, как лягушка, прыгнул вбок. Быстро пополз в сторону на четвереньках, потом медленно поднялся на ослабевшие ноги, осторожно повернулся.
Виктор плавно, напоминая памятник, погружался вместе со снегоходом. Потом слез на лед.
«Буран» полз на боку в черную дымящуюся полынью. Огромная льдина со скрипом поворачивалась под ним, как крышка сундука.
На самом краю «Буран», зацепившись рулем, слегка помедлил, словно размышляя: купаться ему в такую погоду или нет, — потом все-таки решил: «Купаться!», отцепился ото льдины и исчез. Через минуту пришел белый пузырь... Все!
— Так... Приговорили машину! — произнес Виктор. — И главное — на том же месте!
— На каком? — дрожа от холода и страха, проговорил я.
— В прошлом году одним тут на этом самом месте снегоход доставал! Потом два месяца в больнице валялся — так ни одна сукадла папирос пачки не принесла!
Я протянул свою пачку. Оскалившись, Виктор кивнул.
— Ну... так какие соображения, городской мальчик? — закурив, поинтересовался он.
— Никаких... пока, — я попытался улыбнуться заледеневшим лицом.
— Ну давай, давай... шарь во лбу! — куражился Виктор.
— Может — кран подогнать? — наконец решился предложить я.
— Ну да — чтобы «Бурану» не было скучно одному! Так, с тобой все ясно! Стой здесь! — Виктор решительно скрылся в темноте.
Замерзая, я бегал вокруг полыньи, сначала как можно дальше от нее, потом, боясь ее потерять, немножко приближался.
Господи! — с отчаянием думал я. Что я здесь делаю? Вместо того чтобы спокойно сейчас спать с геранью в ушах, как советовал мне милейший Павел Иванович, я почему-то нахожусь здесь, ночью в Ладоге, на проседающем льду!
Много часов, как мне показалось, спустя я увидел приближающийся силуэт.
— Захожу в баню, — заговорил Виктор. — С ходу: «Кто знает меня?»
— Ну и что? Никого не нашлось? — с трудом шевеля каменными губами, проговорил я.
— Да нет — вызвался один, сейчас придет! — небрежно ответил Виктор.
И действительно, к нам приближался какой-то свет, и вскоре, следуя за светом своего фонарика, подбежал человек в трикотажном домашнем костюме и мягких тапочках.
— Сколько тут? — спросил он Виктора. — Метров шесть?
— Да все двенадцать есть! — вздохнул Виктор. — Ну, пошли!
Приблизительно через час — я уже не чуял от холода ни рук, ни ног — я снова услышал их голоса, но приближались они в этот раз почему-то медленно — ругань их слышалась примерно с одного расстояния. Наконец я увидел их: они волокли тросом два бревна, одно короткое, круглое, другое длинное, с торчащими толстыми ветками, — оно ехало верхом на первом.
Они остановились метрах в трех от пролома во льду, бросили длинное бревно поперек короткого. Потом долго задумчиво курили.
— Может быть, начнем что-то делать? — не выдержав, подошел я к ним. — Знаете, я как-то замерз!
Они встали, поправили длинное бревно на коротком, закрепили трос на конце длинного, потрогали сучья на другом его конце. Получился, как понял я, ворот, — только тащить предстояло не ведро из колодца, а тяжелый агрегат со дна Ладоги!
— Ничего, сейчас согреешься! — проговорил Виктор, швырнул окурок в дымящуюся воду («Да, окурком ее не согреешь!» — ежась, подумал я). Потом он скинул пальто, ботинки и брюки. Взял в левую руку трос и осторожно, боком подошел к воде.
— И-эх! — вдруг завопил он и прыгнул ногами вперед.
Высунувшись из воды, он со всхлипом заглотнул воздух и исчез. Я чуть не скулил от ужаса: как он там сейчас, в темноте?!
Два кольца троса, оставшиеся на льду, прыгали, как дерущиеся кобры, потом резко дернулись и исчезли.
Напарник сидел на бревне, позевывая, почесываясь, поплевывая на снег.
— Часов нет у вас? — нервно спросил я.
— Не-а! — лениво ответил он.
Потом вдруг пришло несколько пузырей. Я вскочил... Неужели все?! Я быстро, но все-таки медленнее, чем было нужно, сбросил тулуп, пимы, брюки, снова надел пимы, направился к воде, стал их стягивать, потом тщательно устанавливать... никогда я еще не презирал себя так!
На трос из воды выпрыгнуло что-то белое... ладонь! Потом с поворотом вылез локоть... потом с плеском высунулся Виктор — прерывисто дыша, он смотрел вытаращенными глазами перед собой.
— Ну как ты?! — бросился я к нему.
— ...Нормально! — сплюнув, ответил он.
Через месяц Виктор появился у меня на службе.
— Душновато тут у тебя! — проговорил он, оглядывая комнатку, заставленную столами. — Может, на воздух?
— Сейчас... только у шефа спрошу! — разгибаясь после долгого сидения, пробормотал я.
— Момент! — Виктор резко повернулся. Я испуганно рванулся за ним.
— Здравствуйте! — он смело вошел в кабинет, протянул свою натруженную руку.
Начальник как бы недоуменно застыл за столом.
— ...Что вам угодно? — наконец выговорил он. Я всегда поражался этой его способности — выговаривать буквы так медленно.
— ...Парализована, что ли? — кивнув на неподвижную его руку, поинтересовался Виктор.
— С чего вы взяли? — проговорил шеф.
— А почему не подаете?
Пртрясенный шеф протянул руку.
— А у меня — парализована, — Виктор отвернулся. — ...Вот так вот, по-нашему, по-водолазному! — выходя из кабинета, проговорил он.
Море глупости
Закончив СХШ — среднюю художественную школу, Виноградов не стал поступать в Академию художеств.
Дело в том, что обычный путь, по которому, как считается, приходят художники, Виноградова не устраивал.
Поступать год за годом в Академию художеств, подавать на комиссию какие-то ученические рисунки с натуры, чтобы потом, после долгой учебы, сделаться подражателем художников прошлых веков?
Уж в чем, в чем, а в этом он разбирался!
Короче, он стал рисовать дома и по совету своего старого приятеля Шицкого поступил такелажником в музей, где, как сказал Шицкий, «подобралась неплохая компашка».
Виноградов вышел на работу и сразу понял: да, это действительно то, что ему сейчас требуется! Кроме бригадира, профессионального такелажника, остальную часть бригады составляли ребята, собирающиеся посвятить свою жизнь искусству: Алик Сатановский, сын академика, ушедший из дома, писал гениальные стихи, Сережа Кошеверов был замечательным знатоком истории и философии, а сам Шицкий, приятель Виноградова, продвигал вперед живопись и, кроме того, был большим специалистом по магии и оккультизму.
Вначале Виноградов был в восторге: какие подобрались ребята! Наверняка каждый из них скажет свое слово — причем, несомненно, новое!
Да и вообще, работать в музее было интересно: перекладывая на тележку обломок какой-нибудь мраморной стелы, вдруг почувствовать: ей две тысячи лет!
Кроме того, атмосфера в музее была замечательной: научные сотрудники музея, особенно молодые, охотно разговаривали с ними, признавали их глубокие знания, горячо спорили, зачастую забывая, кто из них научный сотрудник, а кто — такелажник. Нигде больше Виноградов не слышал таких глубоких разговоров об искусстве, как здесь, в такелажной подсобке музея!
Но, честно говоря, единственным художником, которого Виноградов любил, был К. — художник довольно известный, хотя и не настолько, насколько заслуживал. Но эту свою любовь Виноградов хранил в тайне: приятелям его по музею, этим такелажникам-максималистам, К., конечно, не нравился (а если бы и нравился — они ни за что даже себе в этом бы не признались).
Но К. стоял теперь довольно высоко, и не в характере Виноградова было нагружать своими проблемами людей, особенно тех, кого уважал и любил. Тем более ясно, что К. — художник абсолютно своеобразный — тоже прошел те же преграды, которые предстояло преодолеть ему, и тревожить его лишний раз Виноградов не хотел.
Выйдя в пятницу с работы чуть живым — оформляли новую экспозицию, — Виноградов медленно пошел по Невскому и вдруг, на беду свою, встретил Сидоренкова — старого знакомого, чуть ли не по яслям, уже тогда бойкого не по летам мальчугана. Последние годы он вроде бы исчез и вдруг — надо же! — появился вновь.
— Куда идешь? — сразу же спросил Сидоренков.
— Да надо... тут... на Васильевский, — смешавшись, проговорил Виноградов.
— Так это ж в другую сторону! — сразу же сказал Сидоренков.
— А может, мне так охота?
— Языком-то не мели, — строго сказал Сидоренков. — Пойдем, я на четырнадцатый тебя посажу.
— А я не хочу на четырнадцатый!
— Так куда тебе — не пойму? — продолжал Сидоренков.
— Домой поеду, — сдаваясь, сказал Виноградов.
— ...Тогда тебе в метро, — неумолимо произнес Сидоренков.
— ...Нет.
— Языком-то не мели! Раз уж едешь куда-то — так надо думать, как быстрее доехать. Логично?
— Не все, что логично, обязательно хорошо. Понимаешь?
— Нет, — подумав, сказал тот. — Так что ж, по-дурацки жить?
— Да! Я хочу по-дурацки! — Виноградов отошел к стене и, отламывая, стал кусать штукатурку.
— Пошли. Есть тут одно отличное место, — снисходительно сказал Сидоренков.
«Сейчас покажет, как надо правильно есть штукатурку», — усмехаясь, подумал обессиленный Виноградов.
По пути Сидоренков начал подробно расспрашивать Виноградова о его жизни: «...Не пойму... а это как же?.. А это?»
«Ну что тебе надо? — с ненавистью думал Виноградов. — Ведь ничего же тебе не надо!»
— Так что же, у тебя пенсии не будет? — нащупав, наконец, самое главное, изумился Сидоренков.
— А у тебя сколько пенсия будет? — спросил его Виноградов.
— Девяносто, — не моргнув глазом, ответил тот.
С трудом отвязавшись наконец от Сидоренкова, Виноградов пошел дальше по Невскому.
Он вспомнил вдруг, что недавно слышал, будто Вася Макевнин, окончивший СХШ за три года до него, стал неожиданно крупным художником; тот же, говоривший, сказал и адрес макевнинской мастерской.
Виноградов доехал по адресу, прошел два двора, открыл дверь и по темному короткому отростку лестницы спустился в полуподвал. Дверь была приоткрыта, чтобы выходил дым, — что-то жарилось.
Макевнин лежал на дощатом топчане, в серой рубахе, выбившейся на брюхе.
— О... старые кадры! — добродушно прогудел он, протягивая руку. — Нашим людям всегда рады!
Виноградов осматривал темноватую мастерскую.
— Слышал, я тут чуть было опять не зопил?! («Зопил» — было любимое слово Макевнина). Спасибо, Риммуля меня спасла.
— А кто это — Риммуля? — настороженно спросил Виноградов.
Макевнин повел глазами в сторону маленькой темной комнатки, заменявшей кухню. (Там она. Не болтай!) Виноградов кивнул.
— Видал, какую я тут церквуху намалевал? — Макевнин кивнул на темное полотно с торчавшими по краям нитками, стоявшее на полу у стены.
Виноградов взял полотно в руки, долго стоял, абсолютно не зная, что сказать... Да, действительно, — церквуха... все правильно. Постояв так, он вдруг (потом он очень гордился этой находкой) чуть повернул картину, как бы для того, чтобы изменить ракурс освещения.
— Да-а-а-а... — неопределенно проговорил Виноградов, ставя полотно с торчащими нитками на место.
Но Макевнина, видимо, такая оценка вполне устраивала.
Вдруг из маленькой комнатки, заменявшей кухню, вышла высокая сутулая женщина в шляпке, с ножом в руке.
— Тиша, а где у тебя лук? — спросила она, сухо кивнув Виноградову.
— Там, Риммуленька, под столом, в картонной коробке.
«Значит, вот Риммуленька, которая спасает, — мельком подумал Виноградов. — Все ясно».
— А К., случайно, у тебя не бывает? — неожиданно даже для себя спросил Виноградов.
— Тебе что, нравится этот фигляр? — презрительно проговорил Макевнин. — Наляпать каких попало красок на холст — это всякий может. А где у него содержание? Где глубина?
«Все ясно», — устало подумал Виноградов. Он плохо уже соображал — зачем он здесь так долго находится? Он давно уже знал, что Макевнин художник слабый, добирающий якобы «глубинностью»... Ну что ж!..
Виноградов собирался уже подняться, чтобы идти, — в этот момент раздался топот ног, голоса: к Макевнину пришли еще гости — принесли еду, выпивку, при этом держались они почтительно, даже подобострастно!
— Где вы раскопали такую прелесть?! — спросил гость, подняв с пола «церквуху».
— Далеко! — грубо ответил Макевнин. — Такси туда не ходят.
Все понимающе заулыбались.
Воспользовавшись тем, что все смотрели в другую сторону, Виноградов пошел.
На темной лестнице вдруг кто-то взял его сзади за локоть. Он обернулся — Риммуля.
— Простите, — сухо проговорила она. — У меня к вам конфиденциальный разговор — там, внизу, было неловко... Зачем вы ходите к Тише?
— Не знаю, — озадаченно пробормотал Виноградов. (Действительно, этого он не знал.)
— Так вот, прошу вас больше не приходить!
«Что за напасть?» — мгновенно вспотев, подумал Виноградов.
— А почему? — глупо спросил он.
— Вы прекрасно знаете (?!!), у Тихона есть... известная слабость, и всякие лишние гости — тем более такие бессмысленные — ему ни к чему.
— ...Простите, — пробормотал он.
«Да-а! — проходя обратно по дворам, думал он. — Правильно говорит иностранная поговорка: «Определиться — значит сузиться». Вот Макевнин сузился — церквухи, а может, и был таким, — и все у него ясно и четко. Приходят определенные гости, любители церквух, приносят выпивку и еду, и даже специальные амазонки охраняют тухлый его дар!»
Было уже поздно стремиться сегодня еще куда-то. Он поехал домой. Вообще, родители в свое время выменяли эту квартиру как отдельную, но потом неожиданно обнаружились антресоли, на которых жил маленький старичок. И вот родителей уже нет, а старичок прекрасно живет...
— Ну, как дела? — бодро спросил он, когда Виноградов зашел к нему.
Прожив большую часть жизни на антресолях, из них последние двадцать лет в основном сидя в валенках и душегрейке перед телевизором, он тем не менее мнил себя обладателем колоссальной мудрости и считал своим делом воспитывать Виноградова.
— Как дела? Что нового? Как здоровье? — вопросы были одни и те же, и отвечать на них нужно было быстро и обязательно одно и то же — любое изменение, даже простая перестановка слов повергали соседа в полное недоумение.
Но сейчас ему было не до разговоров — он напряженно смотрел в телевизоре хоккей.
— Просто жалко этих американцев! — наконец сочувственно проговорил он. — Просто жалко, по-человечески, — что с ними тут делают!
Виноградов посмотрел на него, потом — на огромных американских хоккеистов, жующих резинку, и особой жалости, надо признаться, к ним не испытал.
Следующий день был свободный. Виноградов поехал в Манеж, на осеннюю выставку.
В первом зале он увидел одну из макевнинских церквух.
Во втором зале висела картина К.
— Так... все ясно! — посмотрев на картину, пробормотал он.
На картине был двухэтажный дом — «Дом счастья», как сразу же назвал его Виноградов. Все вокруг дома было наполнено ощущением счастья, и сделано это было отнюдь не только с помощью света — свет как раз в картине был неяркий. Это походило на знакомый всем сон: когда оказываешься вдруг в каком-то месте, где, точно знаешь, никогда не был, и в то же время чувствуешь, что был здесь когда-то счастлив.
Как это было сделано — абсолютно непонятно!
Вечером была еще одна радость — передавали из Манежа интервью с несколькими художниками, и среди них был К.
Сначала он говорил плохо, потом сказал фразу удивительно точную и неожиданную: «Если хочешь сказать что-то новое, надо сказать это как минимум дважды, иначе все подумают, что ты просто оговорился».
— Скажем дважды! — радостно бормотал Виноградов. — Если понадобится — и трижды!
Весь следующий воскресный день он с наслаждением рисовал. Вечером вдруг раздался звонок, он хотел крикнуть: «Не открывайте!», но старичок уже радостно бубнил с кем-то в передней.
Дверь в комнату отворилась... Риммуля!
«Проклятье... как она здесь-то меня нашла? Море глупости пришло от чего-то в движение!»
— Добрый день! Точнее, вечер! — отрывисто заговорила она. — Мне Тиша все рассказал. (Что — «все»?) Простите, я была с вами недопустимо резка.
— А... ну, это ничего, — нетерпеливо проговорил он.
— Нельзя ли хотя бы одним глазком взглянуть на ваши работы?
— Пожалуйста, хоть тремя! — ответил Виноградов, потом только сообразив, что формулировка эта может ей не понравиться.
Виноградов поставил на диван две последние свои работы.
— ...Отсвечивает, — пробормотал он, утирая пот.
Римма, откинув голову, долго, неподвижно глядела на работы.
— Поздравляю! — неожиданно проговорила она. — В нашем полку прибыло!
Она энергично тряхнула ему руку. Минут девять, шатаясь по комнате, Виноградов выслушивал речь Риммы.
Вот оно, оказывается, что... Талант! Та-ла-лант!
— Простите, не могу отказать себе в удовольствии представить вас Георгию Михайловичу.
— А кто это Георгий Михайлович?
— Мой муж.
— А-а-а.
— С ним вы можете откровенно поговорить о ваших делах. Едемте.
— Неудобно... вдруг окажутся какие-нибудь лишние люди...
— Кого вы имеете в виду?
— Ну... Онегин, Печорин.
— Ну что вы!
Виноградов залез по пояс в темный шкаф, выискивая, что бы надеть, потом выбрал почему-то теплый свитер. И они вышли.
— Извините, — уже на улице вдруг спохватилась она. — Я заскочу на минутку в кафешку — все-таки не худо бы предварительно позвонить...
— Все чудесно! — появляясь, проговорила она. — Георгий Михайлович нас ждет. Правда, он слегка приболел, но это ничего.
В метро Римма долго разговаривала с каким-то огромным человеком с рыжей бородой.
— ...я ей говорю: Танюша, милая! — доносилось до Виноградова. — Ты пойми, он же незаурядный человек, нельзя... Она мне говорит: Риммуля, милая!..
«Вряд ли так было — Риммуля, милая! Врет!» — внезапно вдруг почувствовал Виноградов.
Георгий Михайлович оказался плотным человеком, с волосами, торчавшими из ушей и носа.
— Простите великодушно, что принимаю вас в халате, — добродушно улыбаясь, говорил он. — Как говорится, сражен недугом. Тем не менее весьма рад, что Риммуля вас к нам приволокла. Всякое свежее лицо, тем более... Художник! Да-да, не спорьте! Но расскажите же, как у вас получилось? Неужели же ваши картины ни разу не выставлялись? Непременно поговорю о вас с Александром Прокофьевичем. На него иногда нисходит, — насмешливо-успокоительно рокотал Георгий Михайлович.
Обласканный, напоенный чаем Виноградов поздним уже вечером приехал домой.
В понедельник (удачи идут полосой!) он, к счастью, заболел гриппом, видимо заразившись от Георгия Михайловича, — можно было не идти в музей, а рисовать.
Правда, вечером неожиданно явился Шицкий, вроде навестить больного коллегу, но привел зачем-то с собой большую команду — как выяснилось, «магов и оккультистов».
Они потребовали от него принести таз с водой и, встав возле таза на колени, долго смотрели в воду, потом, неожиданно крикнув: «Астрал!», вместе шлепнули ладонями по воде и долго внимательно смотрели, какими путями стекает по стенкам вода.
Часов около двенадцати они ушли, но остались Шицкий и самый главный маг — бритый наголо, с забинтованным лбом.
Сперва маг долго молчал, потом вдруг предложил выделить свое астральное тело. Виноградов испуганно отказался.
Потом Шицкий вызвал Виноградова из комнаты в коридор.
— У тебя пока поживет, — проговорил Шицкий, кивая в сторону мага.
— Нет уж!
— Ты что?! — изумленным шепотом заговорил Шицкий. — Знаешь, что это за человек?! В памяти людей будет жить!
— Ну и пусть живет в памяти людей, а не в моей квартире!
— Так, да?
— Да, выходит, что так!
Поработать после их ухода уже не вышло — сосед на антресолях жалобно кашлял. Расстроенный, Виноградов бродил по коридору, потом вдруг, решившись, поднял трубку и позвонил.
— Извините, Георгий Михайлович, наверное, я поздно звоню?
— Ну что вы!.. Мы же с Риммулей настоящие полуночники. В доказательство могу сообщить, что супруги моей еще нет дома! — добродушно-шутливо рокотал его голос. — Но помним о вас денно и нощно.
— ...Большое вам спасибо, Георгий Михайлович! — растроганно сказал Виноградов.
Всю следующую неделю он работал, а вечера проводил в основном у Георгия Михайловича.
Однажды он встретился там со своим другом: Алик Сатановский читал стихи.
Присутствовали: всем известный С. (знаменитый тем, что в пятьдесят пятом году первый прошел от Дома отдыха до моря в шортах, что было тогда поступком большого гражданского мужества), еще один, элегантно-красивый редактор утренней зарядки, известный своими прогрессивными взглядами в области зарядки, и Георгий Михайлович.
«...И пойду я с по-сохом по-суху!» — раскачиваясь, читал Сатановский.
Все тонко улыбались, и Виноградову тоже пришлось тонко улыбаться, хотя он слышал уже подобные вирши десятки раз.
Дальше начались возгласы: «О, Дюфи!», «О, Делани!», «Босх есть Босх!» (Надо быть совсем уже ненормальным, чтоб утверждать обратное.)
...Да, не надо иметь особой смелости, чтобы говорить, что Клее — гений, — через сорок лет после его смерти!
Единственным умным человеком казался тут Виноградову трехлетний хозяйский ребенок, который подошел к нему и доверительно сказал:
— Спать хочу, ну буквально валюсь с ног!
Но его никто не слышал и не понимал.
— Георгий Михайлович, — наконец, не выдержав, врезался Виноградов в разговор. — А как с моими делами — вы обещали узнать?
— Уверен, уверен, что все будет благополучно, убежден в вашем таланте, более того — являюсь горячим его поклонником, более того — активным его проповедником! Вот свидетели не дадут соврать — не далее как перед самым вашим приходом...
— Но вы же не видели еще моих картин.
— Мне достаточно слов моей супруги, у Риммули — безошибочное чутье!
— Но может быть, все-таки зайдете? Найти меня легко...
— Нет, нет! — шутливо поднимая руки, проговорил Георгий Михайлович. — И не пытайтесь объяснять — не пойму. Абсолютный топографический идиот!
...Короче, стало ясно, что картины его он смотреть и не собирается.
Пользуясь тем, что разговор переметнулся, Виноградов вышел в прихожую.
— ...что делать — все мы смертны! — доносился густой голос Георгия Михайловича.
«Даже тут — врет!» — подумал Виноградов.
— Сматываетесь? — сказал Георгий Михайлович, появляясь в прихожей. — Разрешите, пользуясь случаем, всучить последний мой труд.
Через два дня он снова позвонил Георгию Михайловичу, хотя было уже ясно, что тут все глухо. Достаточно было прочитать хотя бы одну строчку его статьи: «...Роман написан весьма умело, хотя и недостаточно искусно даже для обычной ремесленнической поделки...» Что означает эта фраза? Видимо, ничего!
«Есть ли берега у моря глупости?» — уже с отчаянием думал Виноградов, слушая гудки.
— ...Георгий Михайлович? — заговорил он. — Здравствуйте. Это Виноградов. Помните, вы хотели про меня поговорить... кажется, с Алексеем Прокофьевичем, если не ошибаюсь?
— ...Я с ним говорил, — после паузы произнес Георгий Михайлович.
— Обо мне?
— ...Ну конкретно о вас мы не говорили, но вообще-то я высказал ему все, что хотел!
— Не верьте ему — он все врет! — вдруг послышался в трубке звонкий юношеский голос.
Потом послышалась какая-то возня и снова рокочущий бас Георгия Михайловича:
— А что мой последний опус? Прочли?
— Конечно.
— С неослабевающим интересом? — пошутил Георгий Михайлович.
— С ослабевающим.
— ...Как?
— С ослабевающим!
— Да... так о нашем деле, — после долгой паузы заговорил он снова. — Зайдите ко мне во вторник... нет, во вторник сложно... в субботу.
— А кто вам сказал, что я вообще собираюсь к вам заходить? — сказал Виноградов и, насладившись паузой, бросил трубку...
Когда в понедельник, еле волоча ноги, он вернулся с работы, сосед встретил его уже в прихожей.
— Только что заходил ваш приятель, кажется, Сидоренков, — весьма разумный молодой человек.
«Спелись!» — подумал в ужасе Виноградов. И в тот же миг раздался резкий звонок.
«Не открывайте!» — хотел крикнуть он, но сосед уже радостно брякал щеколдой.
Вразвалку, не здороваясь, Сидоренков прошел в его комнату и, подбоченясь, стал рассматривать картину.
— Грудь же не так рисуется... Дай.
С огромным трудом Виноградов оттащил его от полотна.
— Не раздевайся... сейчас идем.
— Куда?!
— ...Не твоего ума дело.
Виноградов покорно поплелся за ним.
Они приехали в какое-то двухэтажное учреждение. (Вывеску Виноградов не успел разглядеть.) Они поднялись на второй этаж и пошли по коридору.
— Дизайном занимался?
— Нет.
— Будешь.
Он открыл дверь. Посредине большой светлой комнаты на столе стоял гроб.
— Вот! Для тебя приберег! — кивая в сторону предмета, проговорил Сидоренков.
— В каком смысле — для меня?.. Дизайн гроба?
— Доволен?
— Нет!
...Когда они вышли наконец из учреждения, Сидоренков сказал:
— Эх ты! Ведь по деньгам ходил!.. По колено же в золоте ходил! Не пойму, зачем надо так по-дурацки жить!
Кое-как отвязавшись от него, Виноградов долго бежал и наконец, запыхавшись, прибежал к пивному ларьку.
В согнутой руке он поднес кружку ко рту, вытянул трубочкой губы, предчувствуя наслаждение.
— Да пиво же не так пьется! — сказал вдруг Сидоренков, появляясь рядом. — Дай!
Виноградов протянул ему кружку.
— Натыкается сначала соль по ободку, — Сидоренков вытянул из кармана щепоть соли... — После берется яйцо. — Сидоренков почему-то любил безличные обороты.
Виноградов покорно пошел в магазин, принес яйцо.
— ...протыкается с двух сторон иглой...
«Где же иглу взять?»
Сидоренков достал из кармана булавку.
— ...протыкается и выдувается в пиво... И пьется. Только так.
«Вот сволочь! — глядя на Сидоренкова, думал Виноградов. — Даже если я буду умолять, например... хотя бы похоронить меня в гробу неустановленной формы — скажем, как круглый пенал, — так ведь не даст, будет всем доказывать, что гроб нормальной формы гораздо удобнее!»
К Макевнину, что ли, поехать?
Уже спустившись к Макевнину в мастерскую, Виноградов услышал там блеяние Георгия Михайловича, но, махнув рукой, все же вошел. Кроме Георгия Михайловича и Риммули, укутав в подбородок шарф, сидел Шицкий. (Он-то как здесь оказался?)
— Ты почему не был на похоронах Ц.? — внезапно устремляя на Виноградова свой взгляд, жестко спросил Шицкий.
— Просто... когда кто-то знакомый умирает, я стараюсь не видеть, как его хоронят!
— Ладно, хватит цапаться-то! — добродушно проговорил Макевнин. — Лучше выпьем. Один раз все ж таки живем!
«Ты-то, по-моему, уже много раз живешь!» — глядя на Макевнина, подумал Виноградов.
— Смотри, какую я церквуху намалевал...
Кроме уже знакомых лиц тут еще находился поэт Савельев — совсем недавно, видимо, притулившийся к этому дому, автор поэтического сборника «Стакан зари».
Ко всем остальным тут Виноградов уже как-то привык, но стихи Савельева он воспринимать спокойно не мог.
«Без березы не мыслю России!» Колоссально оригинально! А кто — мыслит? И тем не менее Савельев регулярно выступал перед аудиториями, готовился новый его сборник, имя его повсюду звучало.
И вообще, недавно понял вдруг Виноградов, эти люди занимались отнюдь не искусством, а лишь устраивали свои дела.
Макевнин через своего друга — рыхлого инспектора-искусствоведа — то и дело загонял свои картины в какие-то дальние города. Георгий Михайлович пачками печатал свои бессмысленные статьи. И даже специалист по магии и оккультизму Шицкий, которого трудно было назвать просто нормальным, и тот, как недавно Виноградов с изумлением узнал, успешно загонял свои «Шары», которые рисовал.
— Ненавижу! — тихо проговорил Виноградов.
— ...Кого? — опешил Макевнин.
— Тут — всех!
— А-а-а-а... ясно! — вставая с топчана, заговорил Макевнин. — То-то я давно уже приглядываюсь — что, думаю, за человек? Теперь ясно! Ясно, откуда ветер дует!
— Молчи, болван! — почувствовав вдруг на глазах слезы, Виноградов шлепнул Макевнина ладошкой по лбу.
— А-ах, уже так? — запел Макевнин.
Они били его довольно крепко — Макевнин и, как это ни странно, Шицкий, не жалея сил, времени и, главное, — таланта!
Наконец Виноградов, защищенный Георгием Михайловичем, выскочил наверх. Чтобы пройти по городу в таком растерзанном виде, не привлекая внимания, Виноградов решил прикинуться пьяным, и эта остроумнейшая, как ему почему-то показалось, выдумка вдруг привела его в полный восторг.
Он шел, раскачиваясь, распевая.
Вот тут, вспомнил он, находится один «дом», где не так давно в уютной компании вел он приятные разговоры об искусстве и, уходя, получил приглашение «забегать», — видимо, для осуществления продления аналогичных бесед.
«Представляю, какой будет шок, если прийти сейчас — окровавленным и попросить хлеба!» — Виноградов усмехнулся, и с этой усмешки, видимо, и началась новая полоса его жизни.
На другой день он после работы долго ходил по городу, хотя болела нога: обломок колонны вдруг стал падать с тележки, и пришлось подставить ногу... но это неважно! Важно — как замечательно было все то, что он видел вокруг.
...Вот хлопнула дверца машины, и голуби, столпившиеся возле крошек, вдруг вздрогнули — все одновременно. Потом один голубь вдруг решительно пересек лужу и дальше шел, уже печатая мокрые крестики. Виноградов оглянулся — не видит ли этого кто-то еще? Но люди, сидевшие на скамейках, не смотрели на это, вернее, смотрели, но не понимали, насколько это важно и интересно!
Виноградов понял вдруг, что даже если он сблизится с К., тот не сможет сказать ему ничего более важного, чем: «Ходи! Смотри! Работай! Остальное устроится!»
Когда стемнело, Виноградов пошел в Публичную библиотеку: глаз его не насытился, хотелось смотреть еще — пусть даже то, что увидели до него старые мастера.
Взяв несколько альбомов, Виноградов пошел по рядам и вдруг увидел Сережу Кошеверова, монтажника-эрудита, — макушка его чуть торчала из-за исторических томов, заполнивших стол.
— Здорово... в вуз готовишься? — проговорил Виноградов.
— Да нет, — не совсем довольный тем, что его оторвали, ответил Сергей. — Перед свиданием с одной особой решил освежить в памяти некоторые даты.
— А когда свидание-то? — оглядывая стопу книг, поинтересовался Виноградов.
— Да уже пора! — со вздохом ответил Кошеверов.
— Давай, отнести помогу, — Виноградов поднял часть книг.
Они подошли к сдаче. Кошеверов пребывал в глубокой задумчивости.
— Стоп! — вдруг проговорил он. — Забыл, когда была битва при Фермопилах!
— Но, может быть... это неважно? — решился предположить Виноградов.
— Глупости-то не говори! — строго глянув на него, проговорил Кошеверов и понес книги обратно к столику.
«Молодец!» — почти с завистью подумал Виноградов.
Поздним вечером неожиданно позвонила Риммуля.
— Я вам звоню по поручению Тихона, — заговорила она. — Он признает, что вчера вспылил, и готов принести вам свои извинения. Короче, он хотел бы с вами встретиться.
«Да нет, «вспылил» — это немножко не то слово», — подумал Виноградов.
— А где вы находитесь-то? — спросил Виноградов (просто для того, чтобы хоть что-то сказать).
— У К., — сухо ответила Римма.
— У К.! — от горя Виноградов чуть не выронил трубку. — У К.!!
Неужели и его тоже захлестнуло море глупости?
Не может этого быть... Тогда — конец!
— А что вы там делаете-то? — после долгого молчания проговорил он.
— Так. Некоторые не совсем приятные функции, — отрывисто проговорила Римма.
— Что за функции-то — не пойму. Яснее говорите! — закричал Виноградов.
— Что может яснее-то быть? — усмехнувшись, сказала Римма. — Сорвался снова наш уважаемый мэтр!
— Не может быть!
— Приезжайте — убедитесь.
— Ага... можно, я приеду?! — закричал Виноградов.
— Пожалуйста! Адрес вы, надеюсь, знаете?
Виноградов поехал в сторону К.
Вообще он что-то не слышал, чтобы хоть один талантливый человек за всю историю человечества спился, но вдруг!..
Ему открыла скромно-торжествующая Римма, провела его в кухню. За круглым столом сидела хмельная группа: Шицкий, расстегнуто-нечесаный Макевнин и, к ужасу Виноградова, Сидоренков!
— Да-а... зопил старик! Зопил! — раскачиваясь, горько-радостно заговорил Макевнин. — Я его предупреждал!
Виноградов оглядел всю эту компанию, потом спросил удивленно:
— А где К.?
— С утра не приходил! — сдержанно-скорбно произнесла Римма.
И вдруг в кухню вошел К. — причесанный, гладко выбритый и, что самое поразительное, абсолютно трезвый — только что вернувшийся из бассейна, как он сообщил. Он долго пытался объяснить, что с ним-то как раз все в порядке и вообще он никогда не пьет. Но это не помогало — за его спиной все многозначительно переглядывались, вздыхали, шептали друг другу: «Ну, видишь? Что я тебе говорил?»
Видимо, уже отчаявшись, К. неожиданно подошел к Виноградову.
— Вы, кажется, единственный здесь человек, с которым можно нормально говорить...
«Неужели я пересек наконец море глупости?» — подумал Виноградов, следуя за ним.
Крутежные парни
Из вуза меня, помнится, с пятого курса выгнали. Нелегко было этого добиться, — но нам с Мишанькою это удалось. В институт не ходили, всю дорогу, разодетые как петухи, возле гостиниц болтались.
Однажды — вываливается из ресторана толпа итальянцев:
— Мадонна! — руками машут. — Мадонна!
Мы с ходу с Мишанькой смекнули: «мадонна» — это значит «икона»!
— Есть! — говорю. — Очень старая! Олд!
Тут почему-то всполошились они, залопотали, потом всё же подходят ко мне: «Ну что же, — олд так олд!»
Привез я их ко мне, на кухню икону вынес (сам недавно нарисовал, на старой доске) — они вдруг шарахнулись все, как черти от ладана.
— Но! — загомонили. — Но! Вот — мадонна! — на соседку толстую мою показывают, которая палкой в баке белье мешала.
Тут муж ее из комнаты вышел:
— Я счас покажу вам мадонну! — говорит.
Драка началась, милиция появилась. Потом отпустили всех, а нас с Мишанькой оставили почему-то.
И скоро из вуза нас выгнали. А осенью в армию забрали.
Отслужил я два года, думаю: все! Надо другую жизнь начинать! Надо к другу Семену поближе держаться, — он в армию мне писал, что вуз он закончил, все в полном ажуре!
Звоню Семену домой, узнаю рабочий его телефон. На работе говорят:
— Семен Аркадьич в местной командировке! Здорово обрадовался я, когда это услыхал! «В местной командировке» — наверняка это значит, в бане! Помню, когда мы с Семеном в вузе еще учились, главным удовольствием было для нас: соскочить с занятий в баню на Фонарном.
Еду, вхожу туда — и первый, кого я вижу в предбаннике, — Сеня! Обнялись. С ним еще какой-то человек, по виду солидняк. Считается, что он к телефонам отношение какое-то имеет. Правда, — сам он отрицает, но люди верят. Приносят дефицит.
— Угощайся! — Семен мне говорит.
Съели весь дефицит, — потом Семен солидняку говорит:
— Да, кстати! Когда мы с Людкой у тебя были в последний раз, она там оставила у тебя золотой браслет. Поищи.
Тот смотрит на нас с каким-то ужасом.
Ну и люди! — наверное, думает. Съели весь дефицит, а теперь еще требуют какой-то браслет!
Рядом с Сеней один сотрудник его сидит. Посидит, галстук приспустит, — потом как закричит:
— Нет! Не могу я, — в рабочее время!
Вскочил в отчаянии, убежал. Потом тихо появляется, садится. Снова крик:
— Нет, — не могу, не могу!
Семен так, не глядя, руку ему на плечо положил. Тот сник сразу, раздеваться стал.
На прощанье Семен мне говорит:
— Ну заходи, я всегда, в общем-то, тут.
Все знают уже здесь его, уважают. Банщик подносит телефон:
— Семен Аркадьич, вас директор ваш спрашивает!
— Вот козел! — с досадою Семен говорит.
«Да! Шикарно, — думаю, — устроился!»
Через некоторое время узнаю: оказывается, начальство их все думало, как с посещениями бани в рабочее время бороться, — и решило, с отчаяния, перевести все их КБ в баню!
Теперь еду уже прямо туда. Вхожу в моечную, гляжу: кульманы их стоят, столы. Семена нет. В парилке его нашел: лежит, таким маленьким веничком себя обрабатывает, типа букетика. Виртуоз!
— Хорошо, — говорю, — устроились. Мне к вам нельзя?
Семен садится на скамью, веско так говорит:
— В наши дни наукой заниматься — смысла нет. Надо в сферу обслуживания идти, — вот где деньги!
Узнаю с удивлением: он уже увольняется отсюда, устраивается официантом в пивной бар!
Через неделю примерно прихожу туда, гляжу: Семен одет уже во все модное, на руке японские часы.
— Крутиться, — говорит, — надо! Крутиться! Вон видишь — те, у окна? Крутёжные парни! На станции автообслуживания работают, — меньше сотни в день не уносят! Но за место это — усек? — с ходу полтора куска отдай! Ну ладно, — сжалился, — покажу тебе, как надо крутиться!
После работы его вышли с ним. Гляжу, — у него как в «Сказке о рыбаке и рыбке» — машина уже, в ней —
магнитофон!
Круто берем с места. Мчимся куда-то по шоссе. В лесу вздремнул я немножко, просыпаюсь: стоим на берегу моря, белые барашки набегают из темноты.
— Что за море-то? — протерев глаза, спрашиваю Семена.
— Неважно, — отрывисто Семен говорит.
«Какие же, — в тьму вглядываюсь, — могут быть тут дела?»
Вдруг появляется из темноты человек, подходит к окошку машины, что-то шепчет. Вылезаем, идем по мокрому песку. Приходим на какой-то пирс, садимся в белый катер. Двинули, в полную темноту, вокруг только черные волны, величиной с дом.
— Куда плывем-то? — наконец спрашиваю.
— За мылом, — Семен говорит.
«Что же такое? — думаю. — Может, — думаю, — все это мне снится? Да нет, сны-то у меня простые как раз, а тут таинственно все и непонятно!»
Пригорюнился на носу катера, вижу вдруг: ныряя в волнах, прыгает вверх-вниз большой светлый куб!
— О! — говорю.
— Где?! — сразу встрепенулись.
Подгребли туда, подцепили багром. Действительно, мыло в упаковке. Видимо, так теперь модно. Дальше плывем — еще ныряют два куба... Сжалился наконец Семен, объяснил:
— Тут невдалеке сухогруз на камни напоролся. Экипаж вертолетами сняли, а груз вываливается через дыру. Ничего, все равно за границу бы унесло!
Перегрузили мыло в машину, поехали назад. Поспали на полпути в машине, утром въехали в город. Приехали к Семену, развернули упаковку, разложили мыло по отдельным кускам.
Потом снова выехали. Семен пошептался с продавщицей мороженого, договорился, что я на время лоток ее займу. Надел я ее халат, косынку для конспирации повязал. Стою, продаю как бы мороженое, наиболее солидным покупателям шепчу:
— Мыла надо?
Все вздрагивают, смотрят с изумлением: что за олух такой, почему в косынке?
— Какого мыла-то? — спрашивают.
— Самого лучшего!
Но никто почему-то не брал! Вдруг появляется мороженщина, сильно навеселе:
— Ты чего это, — орет, — за тележкой моей делаешь?! А ну, геть отсюда, — знаем мы таких!
Стал я напоминать ей шепотом нашу договоренность — ничего такого, оказывается, не помнит. Хотел я хотя бы мыло свое вытащить, — кричит:
— А ну руки прочь! Будет тут всякий руки запускать!
Гляжу, — уже милиция проталкивается через толпу. Сбросил я косынку, передник и — бежать!
Прибегаю, тяжело дыша, к Семену в бар.
— Да, — презрительно Семен говорит. — Не крутежный ты парень! ...Ну ладно, — попробую тебя на место ткнуть!
Отошел к людям, пошептался. Возвращается, говорит:
— Есть местечко одно. Для себя держал, — но так и быть, отдаю! На пункте приема стеклопосуды.
— Стеклопосуды? — говорю. — Как-то не очень...
— Да ты что?! — Семен заорал. — Люди на этом большие деньги делают!
Ну хорошо...
Поехал, оформился. Главным на этом пункте друг Семена, Григорий, работал. И еще два подсобника кроме меня — Колян и Толян (хотя обоим уже лет по пятьдесят).
— Ну как, — спрашиваю их, — жизнь?
— Нормально! — отвечают. — Всё — в ломбарде, квитанции — дома!
Радостно захохотали.
И пошло!
Приходишь к открытию — очередь уже стоит. Холод, туман.
Первой обязательно сухонькая старушка стоит с кошелкой, темной рукой то и дело под платком проводит. Всем, кто к очереди подходит, говорит:
— Да ты став бутылки сюды! Став! Посуше тут, — став!
За ней еще несколько старушек, разговаривают, кивая, о своих зятьях, дальше — плотный мужчина в бурках. Потом седой джентльмен подошел с догом, величественно принес в сетке одну молочную бутылку. Первая старушка сразу ему:
— Став сетку-то сюда! Став!.. А сам в уборную погрейся иди, — хорошая тут уборная, теплая! — одобрительно головой закрутила.
После джентльмена какой-то согнутый подошел, ко всем в очереди начал с разговорами приставать. И что характерно, говорить не может — что-то с горлом, видимо, у него. Только какое-то клокотанье слышно, когда черную трубочку-резонатор к горлу приставит, — но поболтать, видимо, любит.
Потом странник какой-то явился в зеленом балахоне, брякая, опустил рюкзак. Снова старушка засуетилась:
— Сюды став, сюды!
Потом громогласный один подошел:
— Уважаемые граждане, где это я тут стоял? Мне в поликлинику еще надо, восемьдесят шестую форму заполнять, — устраиваться еду на «Госметр»!
Плотный мужчина в бурках поворачивается к нему:
— Мне-то уж ты не говори, не надо никакой восемьдесят шестой, мне-то уж не заливай!
«Что, — думаю, — за наглый тип еще прет?!»
Вдруг старушка поворачивается к нему, кивая, говорит:
— Стоял! Передо мною стоял! Иди, — став бутылки сюды!
«Что ж, — думаю, — творится-то такое?»
Расстроился даже!
Какой-то старичок с кошелкой быстро через газон бежит.
— Давай! — громогласный гудит. — Не думай о картошке, дуй по грядам!
Встал громогласный перед старушкою. Стоят на спуске под навесом, под ногами холодная лужа, доски настелены, — качаются, хлюпают. Громогласный смотрит наверх, щель в навесе из бетонных блоков показывает:
— О! Замазали! Сначала вмазали как следует, потом стали замазывать! — мне почему-то подмигнул. — ...Ладно, бабки, идите вперед! — вдруг говорит.
Выходит тут из двери Григорий в замшевой жилетке, прикалывает на дверь кусок картона, достает авторучку «Паркер». Все замирают. Григорий думает некоторое время, потом пишет: «Ввиду отсутствия тары не принимается следующая посуда...» Вдруг поворачивается к очереди, спрашивает глумливо:
— Ну, — что написать?
Женщины сразу же льстиво:
— Гриша у нас добрый! Гриша у нас красивый!
Гриша усмехается:
— Ну ладно! Напишу пока банки трехлитровые, — погляжу потом на ваше поведение!
Седой джентльмен с догом пытается возражать:
— Что такое? Возмутительно!
Григорий долго неподвижно на него смотрит:
— А у тебя — вообще не приму!
Меня увидал:
— Заходи.
Закрывает дверь, открывает окошечко. Начинает рабочий день:
— Ну ты, старая дура! Куда суешь вонючие свои бутылки? На рубль у тебя. Иди, иди!
Джентльмен, слышу, с женщинами спорит, громогласный что-то кричит. И главное, давно уже стоят, по горло в тумане, но когда подъезжает вдруг задом машина под загрузку, — что означает задержку еще минимум на час, — все вдруг оживляются, начинают кричать, под предводительством громогласного:
— Пря-ма! Пряма давай!.. Еще давай!.. Хорош!
Даже стыдно обманывать таких людей!
Потом, крюком зацепив по три нагруженных ящика, тащишь их по цементному полу к уходящей вверх ленте транспортера, Колян ставит ящики на ленту, Толян наверху подает их в машину. Руки деревенеют, становится трудно дышать. Снова закрыв окошечко, Григорий неторопливо уходит с шофером в магазин оформлять бумаги.
В жизни я еще так не страдал, как работая на этом «крутежном местечке»!
И в итоге, подсчитав доходы, всего-то дает нам Григорий с Коляном и Толяном по рублю: «Гуляй, Ваня, ешь опилки, — я директор лесопилки!»
Садится в свои «Жигули», уезжает. А мы с Коляном и Толяном к зоомагазину бредем, где дружки их стоят, бормоча: «Есть мотыль, есть мотыль!» (Или: «Нет мотыля, нет мотыля!») Соединяемся, идем к гастроному. Санек, который ящики там таскает, спрашивает:
— Ну что? Давай достану!
Деньги берет, выносит, якобы скрытно: вино «Рыбное»! Сомнительная, вообще, вещь! Стоим кружком: Толян, Колян, Санек, я... Еще кто-то, — якобы чей-то брат. Причем — человек, который явно не может быть ничьим братом. Такое открытое лицо, — но уж лучше б оно у него было закрытое!
Прекрасная компания: Коля пьет как лошадь, Толя пьет как лошадь, Саня пьет как извозчик!
Однажды, помню, ко мне пришли. Выпили. Закусили почему-то грампластинкой, — впервые столкнулся с таким обычаем.
Поработал я так месяца два.
Нет, думаю, надо отсюда валить — а то пропаду!
Явился к Семену в бар. Тот только так презрительно головой издали покачал и не подошел. Потом отвлекла меня одна трагическая картина: какой-то человек хочет зайти в бар — но швейцар берет его рукой за лицо и выталкивает. Человек снова появляется — швейцар снова выталкивает его.
— Не наш человек! — усмехаясь, поясняет Семен. — А у Якимыча нашего глаз наметан, — поэтому он его и пластает!
Потом, сжалившись почему-то, пускает Якимыч человека этого в зал, и я узнаю вдруг его: это же Дзыня, мой лучший друг! Посадил я его к себе, стали мы радостно говорить: оказывается, он за годы, что мы не виделись, крупным дирижером стал (как и его отец). Я видел афиши с его фамилией, — но думал, что это его отец, а это, оказывается, он!
Семен вдруг подошел, спрашивает меня:
— Кто это?
Я, на радостях, говорю.
— Познакомь-ка нас! — Семен говорит.
— Это зачем это? — я испугался.
Но Семен сам уже к Дзыне подошел.
— Салют! Есть дельце небольшое, куска на два. Надо моего человека в оркестр к вам устроить. Зарубежные гастроли, то-се. Узнай, что там и как, и завтра на работу мне звони. Только не позже десяти, — в десять я линяю отсюда! Усек?
Конечно, думаю, он тебе симфонию сократит, только чтобы до десяти успеть позвонить!
Но вижу, Дзыня покорно взял телефон, кивнул, в портмоне положил. Потом деньги вытащил — за пиво платить — Семен величественно рукой:
— Эти глупости пусть тебя не волнуют!
Потом шли мы уже с Дзыней по улице, а я, честно говоря, успокоиться все не мог. Может, я не говорил никому, но классическую музыку, честно, самым лучшим на свете считаю! В ней, мне кажется, самое лучшее откладывается, что существует в каждое время! Не хватает еще только, чтоб «крутежные ребята» и в эту сферу проникли!
Испугался, — на следующий день на концерт даже пошел. И поначалу казалось все мне, что какой-то уже дружок Семена проник в оркестр, уверенно казалось — кто-то фальшивит!
Так, горестно думаю, один уже есть! Скоро еще Григорий, приемщик стеклопосуды, подтянется сюда, Колян-Толян, дружки их из зоомагазина! Речитативом: «Нет мотыля, нет мотыля!»
Кошмар!.. Но потом — дирижировал дальше Дзыня, и понял я: померещилось! Ну слава богу! Выходит, есть сферы еще, куда «крутежным парням» не достать!
Подождал его у выхода.
— Ну как? — он спрашивает меня.
— Колоссально!
— Слушай... — Дзыня задумался. — Двухкопеечной у тебя нет?
— Для тебя, — говорю, — сделаю!
Вывернул все карманы, гляжу — вообще ни копейки нет! Поглядел по сторонам — никого поблизости нет, только под аркой на той стороне двое дерутся.
Подбежал я к ним, говорю:
— Извините, ребята, — двухкопеечной не найдется?
Не отвечают еще! Наоборот, — повалились на асфальт, начали кататься! Стал я верхнего тогда трясти:
— Слышите меня или нет? Двухкопеечную прошу!
Вскочил тут один из них, оскорбленный:
— Что такое, вообще? Люди дерутся, можно сказать, в кровь, — а этот с двухкопеечной монетой пристал!
Обиженно ушел.
Другой дал.
Оттащил я ту монету другу, он зашел в телефонную будку, стал звонить.
— Занято! — с облегчением говорит.
— А что? — спрашиваю. — Важный звонок?
— Да дружку твоему Семену обещал позвонить. Все-таки пивом нас угощал... неудобно!
— Удо-обно! — говорю.
— Думаешь, — можно не звонить?
— Конечно!
Радостно отдали монету бывшему дерущемуся, пошли.
Недели через две оказался я у Семена в баре. Семен какой-то задумчивый был. Сел ко мне, молча оглядывал зал. Потом грустно так говорит:
— Кому бы подарить полтора куска?
Стал я вертеться перед ним, всячески стараясь попасться ему на глаза, — но нет, кандидатура моя чем-то неподходящей показалась ему.
И вдруг вижу — спускается в бар — кто бы вы думали?! Мой друг Мишанька! С которым мы раньше... Радостно обнялись.
— Ну как ты? — спрашиваю его.
— Кручусь, кручусь!
Гляжу, — прекрасно одет, какая-то голупоглазенькая девушка с ним!
Вдруг, — подходят к Мишаньке три грузина и начинают его трясти! Оказалось, какую-то партию зонтиков обещал он привезти им и не привез! Гляжу, у Мишки даже веснушки побелели от страха!
— Ну спокойно! — подошел к ним. — Сказал — привезет, значит — привезет!
— А ты кто? — один из них меня отвел. — Мы тут всё делаем, нас все знают тут!
— Зачем вы, — говорю, — приезжаете сюда, только нацию позорите свою!
— Я родился здесь! — выпрямился гордо.
— Где — здесь? В баре, что ли? — говорю.
Ну — этого он вынести уже не мог! Потасовка пошла. Еле отбился от них, на улицу выскочил, бегу.
Где ж, думаю, Мишанька, мой верный друг?!
А он, оказывается, вместе с ними за мной гнался, изрыгая, как и они, гортанные проклятья!
Догнал он меня наконец, шепчет:
— Я с тобой... Я с тобой!
— Ясно.
— Сейчас камнем тебя по голове стукну. Так надо, старик!
— Ладно, — говорю. — Только не убей!
Наутро посмотрел я на себя... Все, думаю, надо от этих крутежных парней валить!
Однажды только — случайно к Семену заскочил, горло промочить.
Принес он мне пиво — чистая вода!
И главное, — пить практически не пьет, машина уже есть, девушками не интересуется! Какая его цель?!. Непонятно! Видимо — сесть.
Подсел потом ко мне, спрашивает:
— Тебе онколог не нужен?
— Зачем?!
— Да ходит тут один, пиво пьет...
— А, ясно, — говорю. — Нет!
— А что же твой друг-дирижер не звонит? Могу и ему устроить!
— Не надо!
Выскочил я оттуда, как из пекла, по улице побежал...
Какое счастье, что я избавился наконец от этого идиота!
...Однажды Дзыня говорит мне вдруг:
— Видел вчера во сне этого дружка твоего, Семена. Сначала все что-то мне предлагал... потом исчез.
— Надоел он мне, — говорю. — Увидишь его во сне — так и передай.
Вариант
Я часто ее вижу. То, иногда, будто мы танцуем в большом зале — тесном, горячем, и она вдруг посмотрит на меня — весело, ласково, именно на меня.
Или еще. После какой-то страшной неудачи, ночью, прихожу к ней, звоню. Она открывает, и я сразу падаю в прихожей. Потом лежу в ее комнате — голова на диване, все остальное на ковре, и она поит меня теплым молоком и говорит, говорит...
Только в том-то и дело, что нет ее. Не существует. Посмотреть на меня со стороны — спокойный человек, благополучный, и никто и представить себе не может, насколько я готов, спекся.
Лето я еще прожил. Все-таки лето. Отпуска, командировки. Барак на берегу озера, в лесу. А по воде, в километре друг от друга, стоят баржи с аппаратурой. И катер по утрам всех по ним развозит. Наша самая последняя, в узкой лесной бухте. По берегам валуны, мох, сосны. Баржу солнце нагревает, в трюме душно, сено навалено, солнце просвечивает пыль...
Но сейчас-то уже осень. Холодно, дождь. А ее все нет. И где ее взять? У каждого человека, особенно определившегося, как я, круг замкнут. Сослуживцы. Соседи. Друзья. Подруги друзей. И все. Дальше не проникнуть. И вот, еду я сейчас в метро, после работы, и смотрю. Сидит рядом девушка. Вообще, ничего. Если не приглядываться. А если приглядеться... то, конечно, тоже ничего. Кой-какая красота все же есть... Но так и чувствуется, что эта красота с трудом ей далась, с напряжением. Потому она теперь с ней так и носится, озабочена, зла. Но все-таки ничего... И когда она встала и пошла, я руку к ней протянул и пробормотал что-то не очень внятное. Так она даже не повернулась, просто прошла мимо и все, словно меня и нет.
Тут меня прямо бешенство взяло. Понятно! Из таких женщин, из не чудесных женщин. Понятно, все верно... Буду я еще разговаривать с каким-то психом в метро... Понятно. Сколько я от них злобы натерпелся, словно самое главное у них злоба, словно самое главное — облажать тебя, унизить, потом повернуться и пойти: тук-тук-тук. А куда — это уже неважно. Обычно некуда, но делается вид, что срочно.
Кто мне в жизни моей нравился, все не такие были, — конечно, на шею не бросались, но хоть чувствовалось, что вот, два живых человека. А эта пошла себе, не оглядываясь. Гордая. Хотя при чем здесь гордость? Идиотизм.
Так я расстроился, чуть не заплакал. На сиденье лег и глаза закрыл. Да нет, я понимаю. Я и сам-то не такой уж общительный. Иногда просто лень, когда устанешь. Но хоть сигнал какой-то надо подать, что да, мол, я тебя вижу. Хоть порычать немножко, или тихо зубами полязгать. Уж я не знаю. Хоть и сам-то хорош. Мой-то восклицательный знак где? Зачем ей из-за такой мелочи рисковать? Вот она и притворяется, что не видит. Да и не очень, честно, хотелось...
Всего один раз я решился. Стояли в темной парадной, один мой дальний приятель, я и его знакомая, с трубкой телефонной. И вдруг понял я: вот сейчас она закончит, и они уйдут, и забудет она меня, и лицо забудет, и на улице встретит — не узнает... Так мне вдруг от этого стало тоскливо! И я, как стоял, так специально взял и повалился. Ящик деревянный свалил со стены, ее, приятеля, и еще двух спортсменов, которые очереди дожидались. Но то особый был прилив, каждый день так не нападаешься. Да и в том случае, как выяснилось, совершенно напрасно я падал...
О, моя остановка! Вскочил, выбежал. Вот здесь ждать, в этом мраморном зале. Пустой, гладкий. Эхо. Специально построен, чтобы она с одного конца говорила: «Прощай, любимый!», и чтоб он, ее любимый, с другого конца отвечал: «Прощай!» — гулко, как из бочки...
Вот и Слава выскочил. Свежий, праздничный, как всегда.
Мы идем в толпе...
— Слушай, — вдруг Слава говорит, — хочешь настоящего кофе попробовать?
Настоящий кофе! Кофе индийский (арабский). Большая удача... «Знаете, мы всегда мелем кофе сами, в этой электрической мельнице...»
— А где это?
— Да здесь, поблизости. Одна теплая компания.
Ну что ж, можно. В свое время в разных я бывал компаниях...
...Окна открыты, валит пар, мебели никакой. Все стоят в пальто...
Или... Стеклянная дрожащая будка на краю цеха... Руки пахнут машинным маслом. Жидкость булькает, через интервалы, в единственный граненый стакан, из тяжело наклоняемой зеленоватой бутылки. А закуска — полукаменная сушка, затерявшаяся в столе среди бумаг...
— А кто хоть там будет?
— Да так. Три соломенных вдовы. Два графомана. В основном, все из университета.
А, понятно. Тоже знаю. Интеллектуалочки. Эстеточки. Снобочки. Торшер. Тахта. Черные чулки. Феллини-Антониони. А жрать нечего.
Но все оказалось не так ужасно.
Был там маленький носатый человек, заказавший телефон с Москвой и поэтому то и дело выбегавший в коридор, — как выяснилось потом, известный режиссер. В глубоком кресле лежал обессиленный доцент, только что, как он сам сказал, поставивший шестнадцать двоек.
Были два элегантных джентльмена из столь неудачно выступавшей в том сезоне футбольной команды «Зенит».
Был спокойный молчаливый грузин, по фамилии Комикадзе, который, собственно, и угощал сегодня всю компанию.
Вдруг я почувствовал — что-то приближается... что-то такое, для чего все и собрались... И вдруг все загудели... тихо... я сначала думал, мне слышится... а потом все громче, громче, и вдруг... запели. Старинные песни, грустные. Очень здорово пели.
Мне Комикадзе сказал:
— Ты пока не пой. Я кивну, когда тебе вступать.
Но так и не кивнул.
Женщин было трое. Две, хоть и действительно в черных чулках, все же вполне, а третья, хозяйка — та вообще в большом порядке.
Потом мы ехали со Славой в метро, уже пустом.
— А что, — спросил я, — это вся ее квартира?
— Ну да. А она женщина слабая, так у нее каждый вечер человек двадцать пасется.
— А муж ее где же?
— Муж, честно говоря, объелся груш.
— Понятно.
Дальше мы ехали молча.
После этого, как-то незаметно, я стал бывать у нее все чаще... Уже сама квартира была очень интересной. Сначала темный широкий коридор, и от него уходят в стену узкие скрипучие лесенки, и там были маленькие комнатки, с пыльными цветными стеклами, заваленные всяким уютным хламом. Хотя сама главная комната была довольно обычна — широкая тахта, низкий столик, бордовый свет торшера. У изголовья потрескивал приемник... Я словно уже помнил все это.
В другом углу, до потолка — жестяной цилиндр печки. Дом был старый, и отопление печное. Перед горячей дверцей железный лист, а дальше валялась изодранная медвежья шкура. Здесь, открыв дверцу и грея лицо от огня, и любил я сидеть.
Она тоже грелась у печки, улыбалась мне оттуда, сверху.
Постепенно набиралась вся компания.
Нервный носатый человек.
Те же элегантные зенитовцы, всё более веселые с каждым новым своим поражением.
Спокойный умный грузин Комикадзе, с которым мы очень подружились, хотя не сказали друг другу ни слова.
В общем, обычная компания, которую я тоже откуда-то помнил. И в ней я провел довольно много вечеров. Я как-то привык к ним всем. Еще только одного здесь не хватало... Почему-то во всех таких компаниях — знаменитых артистов, футболистов, и в этом роде, — обязательно присутствует непонятный засаленный человек, нестриженый, мятый. Он все ест, пьет, со всеми груб, одет в лыжный костюм или рваный пиджак, но все эти гладкие, значительные люди никогда не смеются над ним, а вроде бы даже немного боятся, и с восхищением, тряся головой, повторяют его пьяные речи.
А он... Словно веет от него всей грязью и тяжестью, страданьями, какие только есть в жизни...
Но всегда он на почетном месте. То ли видят они в этом какое-то свое искупление? То ли считают его пророком? То ли принимают это за связь с землей? Неизвестно. Но присутствует он всегда. Оказался он и здесь. К нам он редко выходил. Обычно все дни спал где-то там. Только иногда, если засиживались допоздна, было слышно, как он вставал, ходил по дальним комнатам, что-то двигал. Но присутствие его чувствовалось все время, поэтому веселье здесь никогда не бывало безоглядным и полным.
Однажды я зашел в неурочное время и увидел его. Сидел он всклокоченный, в меховой телогрейке, и точил ножи на специальной ржавой машинке с колесиком... Тяжелое лицо... Медленный взгляд... Молчанье...
Она тоже была дома — варила на кухне пельмени, внесла их на тарелке, посыпанные зеленым сыром.
— О, — только сказала, — пришел...
Мы молча стали есть. Она все поглядывала то на меня, то на него.
— Ты чего в эту курточку врядился? — спросила она у меня. — Ведь снег уже?
— Правильно, — вдруг хрипло заговорил он, — видно, что человек понимает. В одежде должен быть драматизм. Это действует. Я, помню, летом хотел снять свитер, а потом думаю — не-ет!
Я ничего на это не ответил.
Тогда он обратился к ней, стал все исправлять, что бы она ни говорила... или на ее вопросы вообще не отвечал. Даже головы не поворачивал. А потом вдруг стал ей говорить, что она и делает все не так... Она даже заикаться стала. Совершенно он ее задавил. Потом замолчал, накалывал пельмени на вилку и жевал. И вдруг встал и ушел. И оставил нас думать — чего ж это он ушел? Демонстративно? Или просто так?
И такой беспокойный, тяжелый след оставляли все его поступки. Потом я узнал о нем: стоило ему выйти в город, как он сразу же ввязывался в истории, ночевал неизвестно где.
Может, она давно бы и бросила его, но одно дело, если брошенный сядет в автобус и уедет, а если — где он?.. что с ним?.. опять, наверно, попал в какую-нибудь беду?.. с его характером это вполне возможно... А?.. И тут уж всякие оттенки чувств, типа «любишь — не любишь», никакой роли не играли...
Однажды я узнал случайно, как его зовут. Разговаривал он по телефону, какую-то Ладу Гвидоновну спрашивал, и я услышал случайно, как его зовут. Николай Андреев. Знакомое что-то имя. То ли по радио слышал, то ли видел на афишах... Ну да — сценарий Н. Андреева. Какие-то не очень знаменитые фильмы, но все же... Но главное — припоминаю — удивительно все гладкие, благополучные. Будто всё везде в порядке. Ни его жизнь, ни его характер как-то совершенно в них не отражались. Будто и не он писал. Удивительно.
Сначала я думал, что он хоть от деловых знакомых скрывает свои приключенья. Отнюдь! Совсем наоборот. И как ни странно, это ему даже пользу приносило. Потому что — я понял — если хочешь удержать напряженный интерес, непременно нужно, чтобы тебя время от времени вели — вырывающегося, выламывающегося, за рукав, квартала два, приговаривая:
— Ну, Коля, брось! Ну Коля, Коля, не надо. Зачем? Держись, Коля. Да оставь ты этого дурака, пойдем. Ну Коля, Коля! Коля!! Прекрати сейчас же, слышишь?!
И любой, самый солидный и высокий человек, накануне участвовавший в этой переделке, при встрече не удержится, усмехнется, подмигнет — и все, контакт установлен! А недели через две нужно опять: чтобы утром кто-то входил в комнату, заставленную столами, и, разматывая шарф, говорил:
— А наш-то Андреев — слышали? Опять попал в историю. Ужас, ужас! Что делать? Да и мы — тоже хороши...
И все остальное уже не имеет значения, — подумаешь, мелкие недочеты в сценарии, когда автор сейчас, может быть... Все-таки наш человек, надо выручать... А?
То есть со всеми редакциями и студиями он поступал примерно так же, как и с ней, — заставлял постоянно за себя волноваться. У себя в Москве все студии обчистил, теперь приехал сюда...
И я вдруг понял, что если жить вроде меня — спокойно, скрывая свою боль, — ну, и привет!
Я давно это замечал — то, что я скрываю свои эмоции, отнюдь не способствует ходу дел.
А если, как он, давить на всех своей жизнью — за этим все что хочешь пройдет.
Вот он, ходит — нестриженый, грязный, а дела его совсем неплохи.
Вы, наверно, тоже знаете таких несчастных, расхристанных людей, у которых прекрасно идут дела!
В общем, я его понял. И специально приходил, садился напротив и часами молчал...
Скоро мне нужно было опять на озеро ехать, и я зашел к ней проститься. Она в кухне, в платке, расстроенная...
— Все, — говорит, — бросил он меня...
И стала делиться переживаниями. Почему-то все обожают делиться со мной переживаниями. С другими их набираются, а со мной делятся.
— Уже у другой живет... У женщины-каучук... Конечно... И знаешь, что сказал? Пока этот супермен с бычьей шеей сюда ходит, моей ноги здесь не будет.
— А кто это... супермен?
— Ты... не узнал?
Она засмеялась.
— И главное — никогда раньше не звонил, а сейчас звонит, каждый день. Вот, говорит, я тебя бросил, и тебе, наверно, тяжело... Только ты не думай, что я хорошо живу... Я тоже очень плохо живу! Утешает! Не отпускает.
Потом я ехал в машине — светло-зеленый фургон, внутри радиостанция, приборы, лебедка, трос... Качало, бросало... Сидел я на лебедке, за стену держался... Вскоре я был на барже, на покрытой инеем, замерзшей соломе... Вынимал из проруби мягкий, чуть схваченный лед и укладывал его рядом мокрой тяжелой кучкой... Потом осторожно, по миллиметру, опускали в воду излучатели...
Теперь со мной на барже работал Эррья, карел, заросший, в порванной шапке, в валенках. Местный, с озер.
Часов по двенадцать мы с ним работали, молча. Только однажды вечером присел он на сваренный из железных уголков верстак, снял свою шапку и говорит:
— Ну, так мы еще, может, и успеем... Хорошо еще, что сейчас на базе лаборантки той вашей нет, Соньки...
— А что она тебе?
— А то не знаешь? Тут бы такая заваруха началась! Чуть ей кто понравится — сразу с ним. У тебя, случайно, с ней ничего не было?
— Нет...
— Ох, попадись она мне! — закричал, даже удивил меня, — всегда такой спокойный был карел.
— А тебе-то чего, — я даже покраснел, хорошо, что в темноте не видно, — чем она тебе-то мешает?
— Чем? — заговорил он. — Чем? Знаешь мою сестру? В столовой здесь работает. Очень хорошая. Добрая. Дома все делает. А замуж выйти все не может. Плачет по ночам — я слышу. А почему? А потому, что такие, как Сонька, всех мужиков легким хлебом накормили.
Пришел я, лег на деревянный топчан, в окне свет белый, ровный, неподвижный — от снега.
Неужели, думаю, действительно так все связано? И правда, что они за дуры все, вечно с ними какие-нибудь несчастья. Как-то печально все получается...
Разнервничался, голова заболела. И не заснуть уже никак. Встал, вышел.
Старуха, в тулупе, у ворот:
— Куда ж это вы, на ночь глядя?
— Пройдусь немного, проветрюсь...
Сначала я и правда хотел пройтись, а потом пошел, и пошел... Вокруг пусто, темно, ни души... Машины попутной, конечно, никакой, и всю ночь я пешком шел... Поле ровное, столбы гудят. Иногда от ветра из снега поднимется белая фигура — и ко мне.
Ветер холодный, мокрый, вся правая часть лица от него окоченела, а по левой, наоборот, пот льется — так быстро я шел.
А дорога непонятная — то снег по пояс, то голый, обледенелый горб, очень холодный, скользкий.
И вдруг из-за леса выскочил немой, голубоватый, дымящийся луч-прожектор. Вокруг ночь, темень, а я иду почему-то освещенный.
Всю ночь шел, и только под утро замечать стал, что снег вроде грязнее становится — значит, скоро станция.
Влез я в вагон. Полумрак, запах мокрой одежды в тепле, тихие разговоры — я даже не сразу их услышал.
И такой мокрый, оттаявший, тихий, руки красные, шелушатся, лицо опухло, — видно, поотморозил в поле, — постучал ей в дверь, она открыла, в своем мохнатом боксерском халате, заспанная, испуганная, и обрадовалась, и, кажется, сама удивилась, что так обрадовалась. Поглядел на нее незаметно... Вроде получше стала. Хоть выглядит теперь нормально, по-человечески.
— Ну, как твои дела?
— Мои-то, — говорю, — в порядке...
— Ну, у тебя всегда все в порядке...
Пришел я на кухню, сел над газом — фиолетовый цветок гудит, и от него тепло, тепло, и я заснул.
Слышу сквозь сон шум воды, бултыхается тяжелая струя, потом вдруг перестала, и только капли щелкают.
— Иди, мойся.
Пар, зеркало запотело. Полная ванна, вода горячая, зеленоватая... Потом стала серая, мыльная... Вышел я красный, скулы блестят.
— Ложись, спи.
— А ты?
— Я — посижу.
— Лучше полежи.
— Молчи, распаренная рожа. Спи...
И тут я все вспомнил, вскочил:
— Ах, пардон! Это же Колино место!
Тут она так обиделась!
— Дурак ты! Если хочешь знать, для справки, Коля здесь ни разу и не был... не так был прост... Главное для него — духовная власть. А спал он в той комнате, на полу. Для драматизма.
Она засмеялась. Мне нравилось, что она может уже слегка над этим издеваться...
Когда я проснулся, она уже ушла. Было светло, по крыше над окном стучали лопатой, и летели глыбы снега. Проснулся я легко, светло, в том состоянии, в котором, наверно, и надо жить, и вдруг все вспомнил, и сразу устал.
А ее все не было, и только вечером, в темноте, позвонила из гулкого помещения.
— Здесь Николай. Приезжай, пожалуйста, а?
Мы все сидели над круглым столом, покрытым сползающей скатертью, над тарелками с остатками бастурмы.
Николай молчал, и от него волнами на всех шла тяжесть. Он прекрасно все чувствовал — и мое сопротивление ему, и что ее в последнее время подвинуло ко мне, как к человеку спокойному, надежному...
К тому времени ресторан был уже полон табачного дыма, лязга, все были неспокойны, вертелись, оглядывали соседние столы, уходили куда-то звонить, возвращались, сидели боком, словно готовясь вскочить... Для Андреева самая малина... И он уже плыл в ней, плыл.
— Ну ладно, — говорил он, — так, да? Ну ладно, ладно, давайте... что же...
Он навалился на стол, нагнав на скатерть морщину, опрокинул бордовый соус, его клетчатая грязная рубашка расстегнулась...
— Ну что ты? — говорила она, пытаясь застегнуть ему рубашку. — Ну что?
— Уйди! — закричал он. — Все уйдите, все! И этот — тоже здесь...
Он неожиданно схватил тяжелую зеленую бутылку и, сверкнув ею, плеснув, бросил в сторону Комикадзе, который, впрочем, на это даже не повернулся.
Сдвигая стул, Николай медленно съехал на пол.
Почему, подумал я, почему он может позволить себе роскошь выскочить за все пределы, сбросить с себя все, и падать, падать в бесконечность, беспамятство, куда — я вдруг почувствовал — так легко, жутко и так сладко падать... И проснуться в незнакомом месте...
Почему я не могу так? Почему я должен держаться?
Вот, теперь его нужно поднимать...
— Ну, все ясно, — вдруг сказал Комикадзе, — обычная программа. Пошли.
Мы спускались по скользкой лестнице, последней шла она — плакала, оборачивалась, но шла.
— Ведь ночь уже, — говорила она, — а у него, я знаю, даже на трамвай нет. Что будет?
— С ним-то? — засмеялся Комикадзе. — С ним-то ничего не будет. Напишет сценарий, получит деньги, возьмет такси и прекрасно доедет.
Потом я стоял с ней у ее парадной. Вокруг уже темно, пусто, холодно. И тут, надо сказать, я повел себя несколько нелояльно. Стал ныть, что хорошо бы сейчас кофе попить, или того же чайного гриба...
А она вдруг грустно так говорит:
— Ну что уж ты... Уж не входи, а?
Поцеловал я ее, сел в такси и уехал — Р-Р-Р-Р!!
И больше я ее почти не видел... Иногда только звонили друг другу. Только слышал я, что живет она вроде ничего, и работа ее движется... И с Андреевым я долго не встречался... Только месяца через четыре случайно встретил его как-то на улице... Вернее, сначала я того зенитовца увидел — не помню его по фамилии... Уже весна начиналась, отовсюду капало, и стоял он на солнце, грелся, шапку меховую снял...
— Привет! — говорю.
— О, привет!
— Ну, как дела?
— Хорошо. Из команды отчислили...
Хотел рассказывать, но тут выходит из магазина Андреев, с пакетом, тянет зенитовца за рукав и вдруг видит меня.
— Здорово.
— Здравствуй...
— Ну, как дела?
— Послушай, — говорю, — ты с ней виделся?
— С кем? A-а... Да, как-то встретились случайно на студии.
— Так что ж ты ей напорол, будто я на учете в диспансере состоял?
— Не помню. Может, и сказал.
— Так зачем же, — говорю, — врать, да потом еще забывать?
— А что правда? — говорит. — Встретились две группы молекул, и от колебаний в верхней части одной из них получилось несколько звуков определенной частоты. Вот это — правда. А остальное все — уже нами придумано.
— Знаешь, — говорю, — надоели мне эти твои теории...
— Ну и ладно. Пока.
Гляжу, идет через улицу — маленький, нестриженый, грязный, а главное — убежденный...
Я тоже пошел, а из головы у меня все не вылезает:
— Встретились две группы молекул...
Вот так, думаю, он и действует на людей...
Потом, много уже времени прошло, вдруг звонит мне она:
— Знаешь, — я слышала, Николай к себе домой хочет возвращаться. Он тут у меня сто рублей забыл, еще с того времени. Отнеси ему, пожалуйста, а?
Шел я к нему в гостиницу — уже лето совсем было, тепло, хорошо, — и думал:
«Неужели на него жизнь так и не подействовала? Неужели за все это время и не изменился совсем?»
Пришел я в гостиницу, узнал номер. Поднимаюсь, вхожу. Никого. Только на полосатом, колючем одеяле лежала такая большая треугольная коробка с надписью: «Игрушечный вертолет». Почему-то его покупают все загульные командировочные перед отъездом. И по приезде, распаковав его еще на лестнице, входят в прибранную комнату, где тихо и тревожно ждут его жена и ребенок, и еще с порога запускают этот огромный прозрачный пропеллер, а они молча сидят и смотрят, как он, вращаясь, висит под потолком, а потом косо падает и, стукнув, плоско ложится к их ногам.
Грибной поезд
Сразу из всех дверей, как волосы между зубьями расчески, полезли люди, быстро пересекли мраморный зал, сгрудились у эскалатора.
Резиновый потный поручень прилипает к руке, время от времени приходится с тихим шелестом отрывать ладонь, переносить вперед — поручень поднимается чуть медленней, чем ступеньки.
Выкинутый эскалатором наверх, я по инерции пошел быстро, как по делу, потом, опомнившись, замедлил шаги.
Наши, как и было условлено, стояли у четвертой платформы: Чачаткин, Ломняев, Бих, Выдринос, Бульбулевский, Постоев, Алексейчики, Разношеев, Иванов.
Оглядевшись, я подошел к совсем уже «своим», с которыми я работаю в одной комнате: Лидия Петровна, Анна Тимофеевна, Генка Козлачев и шеф.
Ну и маскарад!
Лидия Петровна вырядилась тепло, но кокетливо. Смелое декольте — под ним, правда, теплый свитер, но это не имеет уже значения.
Шеф отыскал где-то шляпу типа мухомор — видно, надеясь, что в этой шляпе грибы его примут за своего.
Генка Козлачев, по-моему, совершенно не понимает, куда едет, — никаких следов приготовлений на нем не заметно: обычная мятая, скрученная рубашка под сереньким пиджачком, нечищеные полуботинки.
Одна Анна Тимофеевна, как всегда, в абсолютном порядке: сухой рот сурово поджат, ватник, сапоги, косынка!
Все они ответили на мое приветствие несколько отчужденно: никто не ждал моего появления, никогда я еще не участвовал в этих поездках — и вдруг решил...
Подъехала задним ходом электричка, все, нажимая, стали вдавливаться внутрь. В дверях тесно — в вагоне пока еще свободно, быстро озирать свободные лавки — куда сесть?
— Сюда давай! — растопырив ладони сразу на двух скамейках, кричал Генка, но я, словно не услышав его, сел отдельно. Хоть два часа я буду принадлежать сам себе — ни семье, ни коллективу!
Против меня обрадованно плюхнулся какой-то дядя в лыжной шапочке, в щегольской финской куртке, с новеньким ведром, — чувствовалось, что он такой же дилетант, как и я.
Вообще — для меня это колоссальная капитуляция, что я здесь. Надо совсем уже ни на что не надеяться, чтобы на ночь глядя отправиться в мокрый лес.
У дяди напротив меня заиграли глаза, он вдруг приосанился, саркастически улыбнулся. Я с удивлением наблюдал эту метаморфозу, потом, сообразив, обернулся: две молодые красивые дылды, к сожалению не из нашей конторы, вошли в вагон. Не поглядев на нас, они прошли мимо, и теперь он следил за ними только по выражению моего лица. Поняв, что они прошли в следующий вагон, он вздохнул.
Вдобавок ко всему вагон оказался еще моторный — все скамейки вдруг задребезжали, затряслись.
— Говорят, плохо нынче с грибами? — покорно входя в новую свою роль, спросил «визави».
Футбол, грибы — как раньше я презирал все это. Думал, что никогда... Однако — жизнь всех обламывает... Жи-зень!
Электричка дернулась... Пошли знакомые станции. Кушелевка. Пискаревка...
Я сидел, тупо глядя в окно. Иногда сквозь стук прорывались голоса моих сослуживцев.
— ...Простите, я не расслышала — котируется или бойкотируется?
Это, конечно, Лидия Петровна. Они с Анной Тимофеевной в рабочее время заняты поворотом вспять двух великих сибирских рек — Оби и Лены. Лидия Петровна поворачивает Лену, Анна Тимофеевна — Обь.
Я закрыл глаза, собираясь вздремнуть, но прорезался Генка Козлачев:
— ...А кроме столовой он еще слесарем оформлен, по уборке вручную нечистот. Он и по канализации лазает, он же и мясо рубит. Понял, что значит блат?!
«Сомнительный какой-то блат!» — подумал я.
На станции Токсово к нашей скамейке протиснулись двое: один абсолютно сухой, другой — абсолютно мокрый! Мы выехали из-под навеса станции — капли с паучьей подвижностью побежали по стеклу.
И погода что надо — проливной дождь!
Вдруг от конца вагона стал накатываться какой-то грохот — по проходу быстро катил на роликовой платформе небритый человек в лыжной шапочке. Грохот прервался. Он остановился возле компании, играющей в карты, что-то бойко проговорил. Послышалось бульканье.
Потом он доехал до нашей скамейки, развернулся. Снизу вверх, словно бодая, с вызовом посмотрел на нас, потом вдруг отжался на руках.
— Садитесь! — испуганно приподнялся я.
— Я и так уж сижу! — усмехнулся он и, развернувшись, загрохотал дальше.
Курившие на площадке быстро отодвинули перед ним дверь, он «перепрыгнул» туда.
— ...Да есть «Жопорожец» у меня, и ноги железные есть! — донеслось оттуда, когда дверь на площадку вдруг отъехала. — И баян есть!
Вагон раскачивало на ходу, дверь со стуком снова задвинулась.
На станции Мюллюпельто все выходили толпами из вагонов, шли, заполнив платформу. Толстый луч уходил от электрички в дождь, рассеивался на мелких каплях.
Все спускались по ступенькам платформы, собирались на маленькой площади перед станцией. Время от времени подъезжали автобусы, светом фар выхватывая ветвистые облака дыма, мокрые кусты. Подошел наш автобус.
— Ну — займемся садизмом? — проговорил шеф, большой мастер учрежденческого юмора. — Занимайте места согласно купленным билетам! — басил шеф.
Почему-то в автобусе, в относительном тепле, и начался самый колотун — все сжались на сиденьях, пытались согреться. Один лишь шеф, в синем старомодном плаще, в широкой шляпе со стекающими струйками, сидя на приподнятом боковом сиденье возле кабины, не умолкал:
— А теперь настоятельно рекомендую всем нарушить спортивный режим! Так! Великолепно! Прошу! — Он по очереди протягивал всем на ножике свисающие ломтики розового сала. — Сам кормил, сам солил! В ванной на четвертом этаже держу поросят — Суворовский, восемьдесят шесть, квартира четырнадцать! — Он повернулся к шоферу: — Можно ехать! Если встретится ночной ресторан — тормознешь!
Закачавшись с боку на бок, автобус поехал. Вот он ухнул в глубокую яму, все схватились друг за друга, вода из-под колес с плеском хлынула по сторонам.
— Плавать все умеют? — послышался бодрый голос шефа.
— Может, поучите, Тихон Палыч? — игриво проговорила Лидия Петровна.
— Если супруге не настучите — поучу! — невозмутимо ответил шеф.
— Вы лучше грибы искать ее поучите! — не без язвительности произнесла Анна Тимофеевна.
В автобусе стало теплей, запахло нагревшейся сырой одеждой. Тусклые лампочки светили сквозь пелену пара. Голоса глухо доносились ко мне на заднее сиденье:
— ...Главное — какой там металл, какое напряжение!
— ...Я принципиально оставила тумбочку открытой — пусть только осмелятся!
— ...Пустым к нему лучше не подходи! Пустым он тебя в упор не видит!
— ...Я ей говорю: «А вам, простите, какое дело?»
— ...Он мне говорит: «Ты бритый гусь!» А я ему: «А ты человеческий поросенок!»
— ...Я ей говорю: «Милая девушка! Я, кажется, вас не задеваю — почему же вы считаете себя вправе...»
— ...Ну, слово за слово...
— ...В этом термостате только сухари сушить!
— ...Я ни-ког-да не вступаю в споры, но здесь принципиально...
— ...Если все это просчитать — года не хватит!
— ...И так еще хлопнула дверью, словно я во всем виновата, а не она!
— ...Ну — поговорили с ним по душам, под душем...
Круглая рожица, нарисованная пальцем на затуманившемся стекле, заплакала, потекла. Вот окна осветились снаружи — все стали протирать стекла, смотреть: два фонаря отодвигали наваливающуюся со всех сторон тьму, под ними дождь рябил лужу.
Потом к завыванию мотора примешался ровный глухой шум — мы проехали по мосту над невидимой речкой.
Лидия Петровна, расшалившись, кидала бумажные шарики в инженера Чачаткина. Чачаткин, видимо думая, что это мухи, досадливо отмахивался, увлеченный горячим спором с Алексейчиками:
— ...Кто же другой, как не мы!..
— Лидия Петровна, вы ведете себя неинтеллигентно! — сквозь зубы проговорила Анна Тимофеевна.
Лидия Петровна сразу сникла, превратилась в пожилую женщину в толстых очках.
Анна Тимофеевна, гордо выпрямившись, глядела по
сторонам: не требуется ли пресечь еще какой-либо беспорядок?
Генка Козлачев поучал шефа (что при любых других условиях было бы невозможно):
— ...Берешь какую хочешь резину — ну хочешь, я сам тебе принесу? И вырезаешь с нее тонкой полосой...
— Ох, Лидия Петровна! — залихватски проговорил шеф. — Увезу я вас все-таки в Париж! Что — до Парижа бензину хватит?
— До погоста бы хватило! — мрачно ответил шофер.
— Ша! Слушай сюда! — Генка упорно тянул шефа за рукав. — Вырезаешь не шире пальца, шире — бесполезняк!
— Вы, Лидия Петровна, окончательно упали в моих глазах! — Анна Тимофеевна, поджав губы, пересела на другое сиденье.
— Ша! Слушай сюда! — Генка по очереди приставал ко всем, гася только на мне свой взгляд.
— Внимание! Приготовить парашюты — скоро высадка! — снова поднял свой голос шеф.
— Отстань ты со своею резиной! — говорил Генке Алексейчик. — Все равно никому непонятно, кроме тебя, про что ты говоришь!
— Кто увидит гриб, уговор — до утра не срывать! — кричал шеф.
— А цветы, надеюсь, можно срывать? — кокетливо проговорила Лидия Петровна.
Шеф посмотрел на нее и тихо, но устало вздохнул.
Автобус въехал в яму, мотор отчаянно взвыл и заглох!
— Париж! — водитель почему-то зло глянул на шефа, вылез, хлопнув дверцей.
Все стали поодиночке подниматься, выходить, мелькать в свете фар, советоваться, пуская пар изо рта.
— Дуй на базу! — почему-то мне сразу сказал шофер, как только я спрыгнул на землю. — Скажи, сидим, — пусть на козле приедут!
— А почему мне такая честь? — я оглядывал по очереди всех, но все озабоченно отворачивались.
Ну, пожалуйста, — если я всем здесь такой чужой — могу уйти! Повернувшись, я пошел по дороге. Скоро свет фар рассеялся, стало темно; голоса за поворотом сделались словно стеклянными, потом пропали. Я шел не по дороге — ног не было видно, — а по небу, ориентируясь по тропинке звезд между деревьями. Я слышал только сиплое свое дыхание, шарканье-посвистывание сапог друг о друга.
Потом я вдруг остановился. Справа виднелись стволы деревьев. Значит, за ними что-то светлое. Озеро? Непохоже... Страх начал подниматься по ногам. Потом стали все четче пропечатываться длинные тени, они вытягивались, поворачивались, потом из-за поворота хлынул свет — завывая, медленно шел наш автобус.
С шипеньем сложились дверцы. Я залез наверх. Мы проехали еще метров сто, и свет уткнулся в ворота. Высокие светлые ворота со скрипом открылись в темноту. Сбоку, похлопывая ладошкой по распахнутому рту, стоял Виктор, начальник базы. Когда-то он работал у нас гальваником, потом по состоянию здоровья перевелся сюда. Как он живет тут, среди темноты?
Территория полого спускалась вниз, сначала в густой слоистый туман, потом — в воду.
— Слышишь, нет? — подняв палец вверх, сказал Виктор шефу.
В тишине послышался далекий стук.
— Что это? — настороженно выпрямилась Анна Тимофеевна.
— Сетки ставят! — усмехнулся Виктор.
— Но это же запрещено! — проговорила она.
— Работает, нет? — нетерпеливо сказал Генка, откручивая колесико, открывающее воду.
— Не работает! — зевая, проговорил Виктор.
Он повернулся, пошел по длинной своей тени к крыльцу, словно проглатывая ее. Все стали за ним подниматься на освещенную террасу. Длинные тени заходили по территории, переламываясь на стене тумана. Шеф протянул Генке, уже рухнувшему на колени перед насосом, химический сосуд:
— На! Разбавь и дай остыть!
Генка с бутылкой убежал в туман, послышалось бульканье, потом голова его высунулась словно из пуха.
— Вода прям как мертвая! — восхищенно проговорил он.
Женщины на террасе уже собирали стол. Лидия Петровна, пахнув прохладой, постелила свежую скатерть, разгладила.
— Меня увольте! — увидев скатерть, Чачаткин дернулся.
— Без согласия профсоюза уволить не могу! — хохотнул шеф.
— Что ж радио-то молчит! — крутя ручку репродуктора, проговорил Чачаткин. — Случись что — и не узнаешь!
— Без нас ничего не может случиться! — уверенно проговорил шеф, откупоривая банку огурцов, с хрустом откусывая один. — Это же разве огурцы? — он пренебрежительно осмотрел огрызок со следами зубов. — Вот сестра моя делает — это огурцы!
По любому, самому пустяковому вопросу у него свое мнение, окончательное и громогласное, — я бы, например, постеснялся так увесисто разглагольствовать об огурцах, — но именно поэтому он начальник, а я нет.
— Что ж такое? — хныкал Чачаткин. — Так я и не услышу последние известия?
— А что такое, вы считаете, могло произойти? — не удержался я.
Чачаткин только глянул на меня, досадливо махнул.
— У Виктора, мне кажется, имеется приемник! — не сводя с шефа глаз, промурлыкала Лидия Петровна.
— Серьезно?! — не веря своему счастью, воскликнул Чачаткин.
Он сорвался с места, простучал по ступенькам, по собственной длинной тени помчался к темному домику Виктора.
Потом появился Генка с разведенным спиртом, торопливо выпил и снова вернулся к своему насосу.
От спирта стало горячо и как-то туманно, разговор за столом развивался как-то странно, толчками, темы неожиданно и произвольно менялись, — постоянным оставался только накал.
— Почему — книги есть! — уверенно, как всегда, вещал шеф. — Но зачем же их давать в магазин, чтобы любой, кто попало, покупал? Нужно через предприятия их распространять — как, собственно, и делается! — весьма довольный собой, он умолк.
— Да пишутся ли теперь хорошие книги? — томно говорила Лидия Петровна. — После Тургенева разве можно что-то читать?
— Дрянь пишут! — уверенно поддержал появившийся Чачаткин, успокоившийся, видимо, по поводу положения в мире. — Недавно взял у дочери книгу — не смог читать!
— Да и о чем, собственно, теперь и писать? — гнула свою линию Лидия Петровна. — Разве есть теперь место чувствам?
Потом вдруг разговор перекинулся на браконьерство — тему эту подняла суровая Анна Тимофеевна. Я хотел было вставить, что — есть браконьеры или нет их — свежей рыбы в городе мы все равно не увидим, но вовремя осекся, представив, какой обвал обрушится на меня!
Я незаметно ушел в темную комнату, расстелил прохладную чистую постель, слегка поежившись, лег. А они еще долго клубились на террасе — стекла дребезжали от их голосов! О чем можно так горячо спорить всю ночь? Я бы собственный смертный приговор не стал оспаривать с таким напором и с такой безапелляционностью, — но именно поэтому, наверно, я так мало и преуспел!
Потом вроде я заснул, потом с неудовольствием проснулся оттого, что надо было выйти.
Ярко освещенная терраса со столом, заваленным объедками и окурками, была пуста — только в углу сидел осоловевший шеф, что-то бормоча. Лидия Петровна кокетливо крутила пальчиком колесико на его часах.
На воздухе был настоящий мороз. Струя, гулко ударяя по лопухам, дымилась. Когда я торопливо шел назад, я вдруг увидел Генку Козлачева, ползущего по белой от инея траве.
— Слышишь, нет? — увидев меня, Генка поднял руку.
Издалека донеслось чуть слышное тарахтенье.
— С «кошкой» плавают — сетку ищут! Тимофеевна всех завела! — сказал он.
— А ты чего не спишь? — плачущим (от зевка) голосом спросил я.
— Да пружина упрыгнула куда-то — не могу найти!
Я пару раз шаркнул ногой по траве и, исполнив свой моральный долг, побежал наверх.
— Свет на террасе не гаси! — не поднимая головы, крикнул Генка.
Потом, под утро уже, в комнате появились шеф и Чачаткин, сдавленно хихикая, не зажигая света и поэтому, естественно, все опрокидывая, они пробирались к своим кроватям. Уж лучше бы свет зажгли, чем все ронять!
Я вскочил, оделся, и вышел на холод.
Генка, найдя, видимо, пружину, свинчивал насос.
— Воды хочешь? — крикнул он, увидев меня.
Я открыл со скрипом ворота и пошел в лес. Хрустя мертвыми ветками, я забрался в чащобу, потом сел на какой-то валун. Сердце почему-то колотилось на весь лес.
Да-а, подумал я, а я еще смеялся над ними. А сколько страсти, оказывается, в каждом из них!
Я сидел на валуне неподвижно. Потом, вздрогнув, стал разглядывать темневший невдалеке силуэт. Пень? Или какой-то зверь? Потом вдруг оттуда донеслось сухое гулкое шарканье, налился красным светом огонек папиросы.
Вместе с рассветом пришел тихий моросящий дождь. Я стал приглядываться к человеку — он не сидел, а торчал из земли по пояс! Потом он вдруг оттолкнулся руками, подкатился на роликовой тележке ко мне.
— А я все гляжу: человек, что ли, или камень такой? — глядя на меня снизу, заговорил он. — Ну — господи благослови! — отжавшись на руках, он развернулся и покатил вдоль ярко-желтой песчаной канавы.
Гости и хозяева
Ох! Опять ежик раздавленный! — воскликнул Костя, поводя рулем влево. — И что их несет на дорогу!
— Ладно! Не переживай! — приходя в себя после крутого виража, произнес я. — Им уже никто не поможет... даже такой хирург, как ты.
— Да, их уже не соберешь! — мрачно проговорил Костя.
Некоторое время мы молчали. Шоссе было отличное. Голубые стрелки с белыми буквами четко показывали направление к любому, даже самому крохотному селению, хотя названия их казались невероятно странными — но, видимо, только для неподготовленного глаза.
— Соэ! — кивнув на указатель, произнес Костя. — Сокращенно: скорость осаждения эритроцитов!
— А вон смотри, какое странное название — Ныо!
— Да, этого тут хватает! — произнес Костя и снова замолчал.
Мелькнуло красивое трехступенчатое здание с разграфленной на три цвета витриной.
— Смотри — обычный деревенский магазинчик, а как сделан! — проговорил Костя.
— А вон — посмотри, какая красота! — воскликнул я, показывая на уютный хутор на холме, за ровным ярко-зеленым полем клевера и стеной мощных, ровных дубов.
— Да-а... потрясающе! — согласился Костя.
Мы наперебой восхищались открывающимися красотами, всячески заглушая в себе беспокойство перед встречей с семьями, оставленными тут на отдыхе месяц назад. Хотя что тут могло случиться? Правда, две недели уже мы не имели известий от них — но в этом не было ничего удивительного: ближайшая почта была от них в двенадцати километрах, как раз рядом с тем красивым магазином, мимо которого мы недавно проехали.
— Хаанья! — сворачивая по указателю на грунтовую дорогу, сказал Костя. — В переводе означает — Колдунья. И действительно, в прошлом году здесь все время происходили разные чудеса. Снимешь катушку со спиннинга, положишь на стул, отвернешься — катушки нет! Повесишь плавки сушиться во дворе, приходишь — плавок нет! Потом, конечно, находятся — где-нибудь в погребе, где, по идее, им абсолютно нечего делать...
Он умолк, сосредоточившись, — виражи на дороге были крутые, щебенка звонко барабанила по дну машины.
— О! Сейчас будет озеро! Вспомнил! — радостно воскликнул я.
Костя, не отрывая глаз от дороги, коротко кивнул.
Справа выскочило из-за деревьев огромное гладкое озеро, окруженное высокими ровными соснами, — да, красота здесь удивительная, надо признать, хотя я давно уже, в сущности, никак не реагировал на природу... Ну да, природа прекрасная, погода отличная — но твоих запутанных дел это ни в какой мере не улучшает!
Вообще последние годы я был против всяких дальних поездок — зачем? Живи тем, что окружает тебя, тем, что сделал ты сам, — а искать что-то на юге или на севере, восхищаться — ах-ах! — что толку? Все равно это жизнь не твоя... Ну, съездишь, истратив кучу времени и денег, ну, будешь полчаса после этого хорошо выглядеть — и все дела!
Гораздо больше я гордился в последние годы какой-нибудь красивой интригой на работе, расставляющей все по своим местам, — вот это действительно здорово, действительно интересно: сам все придумал, сам все организовал, сам и пожинаешь плоды — все законно!
Костя свернул еще раз, въехал на небольшую горушку, и открылась идиллия: гладкая мельничная запруда, отражающийся в ней белый длинный дом — кузница Яана, окруженная желтыми и синими цветами, деревянные мостки над водой с яркими тазами на них, и самое главное украшение хутора — длинный, высокий висячий мост, пролетающий над водами и соединяющий этот берег с хутором — деревянный настил моста переходил на том берегу в ступеньки крыльца, ведущего в дом.
Я торопливо вылез из низкой машины, распрямился и увидел освещенную низким оранжевым солнцем картину: жена сидела за столом на бетонной террасе над водой, бутылочка пива перед ней была просвечена солнцем, в бутылке лопались серебристые зеркальные плоскости, тонкие кружева дыма, развеваясь, медленно поднимались над ее головой. Она неподвижно смотрела в мою сторону, но, видимо, на что-то обиженная, как бы не замечала меня.
Дочка, загорелая, вытянувшаяся, стояла, нетерпеливо переступая, на подвесном мосту — мост слегка пружинил, подбрасывал ее... вместе с хозяйским сыном Альбертом они удили двумя удочками рыбу с моста.
Альберт, яростно сверкая своим огромным серым глазом, выдернул из гладкой вечерней воды трепыхающегося окунька, задрав удочку высоко, под самые кроны огромных деревьев, схватил колючее тельце в кулак.
— Противный! Опять мою рыбу поймал! — дочка стукнула сияющего Альберта кулачком в плечо и только после этого соблаговолила увидеть меня.
— О! Папулька! Привет! — слегка играя на публику (состоящую из одного человека), воскликнула она, пружиня, пробежала по мосту, чмокнула меня в губы.
Жена продолжала сидеть неподвижно, покуривая, глядя стеклянными глазами куда-то вдаль.
— Ну... что такое еще? — я довольно быстро перешел от идеальных воспоминаний к реальности.
— Гражданин, вам что-либо угодно? — медленно поворачиваясь ко мне, проговорила она.
Так, все ясно!
Я пошел выгружать багаж.
— Что, уже уезжаем? — глядя на машину, разочарованно проговорила дочурка.
— Да, в воскресенье поедем! — буркнул я.
Пока я там трудился не покладая рук, они тут валяли дурака — да еще встречают кое-как, словно я еще в чем-то и виноват!
Я молча поставил перед женой прозрачный пакет с палкой колбасы, с банкой растворимого кофе.
— О-о, — рассеянно проговорила она.
Из дома наконец выплыла Костина жена, Ляля, надменно кивнула и села с папиросой на скамейку, — видимо, они тут, крепко подумав, решили за что-то нас наказать — мало ли какие фантазии приходят в голову от безделья!
Я смущенно топтался у входа на мост — надо бы вроде поздороваться с хозяевами, и даже весело и оживленно о чем-то с ними поговорить... но я был пока не готов, да и знал их пока маловато — видел один только раз, месяц назад, когда Костя привез наши семейства на этот хутор — и в тот же вечер мы с ним уехали.
Костя, однако, не испытывал никакой нерешительности — нерешительность в характере хирурга была бы, очевидно, чертой самой неуместной, и если даже была она в его характере, он никогда ее не обнаруживал — слова его и поступки были всегда решительны и безапелляционны.
И тут, выгрузив вещи, перекинув полотенце через плечо, он молча и решительно пошел через пружинящий мост, зашел в хозяйский дом, вышел оттуда, вытирая руки, потом не спеша пошел к кузнице.
Я все еще возился, распаковывая узлы, когда Костя уже вернулся обратно, — если он и волновался, то виду не подал. Правильно говорят, что смелый боится один раз, а трус — всегда.
— Ну, что там? — как бы увлеченный распаковкой, вскользь поинтересовался я.
— Да — Яан там, — улыбаясь, Костя махнул маленькой рукой, — дымоходы в кузнице чистит — черный, как дьявол! Извиняется, что не может выйти поздороваться.
Эта традиционная эстонская вежливость... не означает ли она некоторую холодность?
— Ну а как тут вообще... все в порядке? — стараясь говорить бодро, спросил я.
— А что может быть не в порядке? — Костя удивленно взглянул на меня через очки. Уверенность его в благополучном исходе любого дела абсолютна, сомнения незнакомы ему, — тем более тут-то что за дела: приехали бабы отдыхать, какие тут могут быть серьезные проблемы?
— Ну что? Пойдем за червями? — вынимая зачехленные удочки, произнес он.
— Прямо так... сразу? — озирая не совсем пока ясную обстановку вокруг, пробормотал я.
— А чего ждать? — удивленно проговорил он.
Я посмотрел на наших жен, по-прежнему не реагирующих на наш приезд, на дочку, что колготилась с Альбертом на мосту... как-то надо было бы во всем этом разобраться... ну ладно!
— А... хозяйка где? — вытаскивая свои удочки, поинтересовался я. У нервного человека — своя география: как бы выбрать такой путь, где бы встретилось поменьше народу?
— Не знаю... на огороде, наверно, — глядя на закат, Костя думал совсем о другом: как будет клевать.
На огороде... значит, сейчас придется столкнуться. Ну что ж — все равно этого не избежать. Но для меня пройти по мосту мимо Альберта, оказавшегося вдруг в каких-то неожиданных отношениях с дочкой... уже неспокойно!.. Я-то думал — они вообще навряд ли познакомятся, все-таки разница в пять лет, а оказалось... и взгляды... и, якобы дружеские, тычки в плечо... Ну ладно! Так из-за абсолютных пустяков можно довести себя до ручки!
Я пошел за Костей через мост, на ходу как-то неопределенно помяв Альберту плечо, что должно было, видимо, обозначать дружеское приветствие. Мост закачался, тросы, удерживающие его, заходили, засипели.
Прекрасный вид открывался с моста — система зеркальных запруд, осененных высокими деревьями, уже несколько желтых листиков плыли по глади.
Мы обогнули дом, спустились по наклонному огороду в самый низ, где росла картошка, — примерно половина кустов была уже выкопана, темнела влажная земля, была воткнута лопата, — тут нам и предстояло копать червей.
— А где хозяйка-то? — я огляделся по сторонам.
— Да в теплице, наверное, — Костя пошел к стоящему на пригорке, просвеченному вечерним светом стеклянному домику. Согнувшись, я вошел туда вслед за ним. После свежего вечернего воздуха здесь было душно, влажно, пахло горячими помидорными стеблями.
Хозяйка, в аккуратном голубеньком халатике, в тонких резиновых перчатках, возилась в земле.
— Привет, Вийве! — сиплым своим голосом проговорил Костя.
— Страфстфуйте, страфстфуйте! — дружелюбно улыбнулась хозяйка. — Исфините — не могу подать руку — после, после!
— Хотим рыбку половить! — сказал Константин.
— Это хорошо! — бодро откликнулась Вийве. — Яан совсем не ловит рыбу, все время работает!
Пятясь, мы вылезли из домика, я с наслаждением (все-таки часть волнений позади) вонзил лопату в рыхлую землю и сразу же вывернул целый комок червей!
Когда мы шли с огорода обратно, из белой кузницы вышел хозяин — в черной робе, лицо и руки в саже.
— Страфстфуйте, страфстфуйте! — белозубо улыбаясь, произнес он. — Не смогу подойти — весь грязный. Еще поговорим! — он ушел в кузню.
Мы двинулись обратно через хутор. Какой порядок кругом, какая чистота, красота!
— Какие славные люди! — поднимаясь к мосту, растроганно сказал я Косте. — С незнакомыми, в сущности, людьми разговаривают так приветливо!
— Знают, что я лекарство им привез! — буркнул Костя.
— А что... кто-то из них болен? — я удивленно посмотрел на Костю.
Он хмуро кивнул.
— ...Хозяйка?
Он кивнул.
— Сильно?
— К сожалению, да.
— А что... здесь нет нужного лекарства?
— Его вообще нигде нет, — сказал Костя.
Альберт, когда мы переходили мост, стрельнул злым глазом — но его можно было понять: у него только начинало клевать, а мы помешали!
Стараясь ступать осторожно, я сошел с моста. Костя сволок с крыши машины резиновую лодку — она подпрыгнула от земли с тихим звоном, вытащил насос и стал подкачивать лодке бока — он, как и хозяева хутора, привык, видимо, работать безостановочно!
Тут, в своих роскошных длинных халатах, соблаговолили к нам приблизиться наши жены.
— Может быть, обратите хоть какое-то внимание на нас? — своим звонким голоском проговорила Ляля.
— О, красавицы! Очнулись! — проговорил Костя, и мы сели наконец-то за стол.
Подскочила дочурка, схватила горсть сухой нарезанной колбасы и умчалась куда-то с Альбертом.
— Однако... — глядя им вслед, проговорил я.
— Все уже тут знает! — с гордостью проговорила жена. — Всех ребят, все хутора! С утра до вечера носится!
— Думаешь, это хорошо? — с сомнением проговорил я.
Давно уже прошли времена, когда мы страдали от нелюдимости нашей дочки, — нелюдимость давно уже сменилась безумной общительностью.
Слегка подзакусив, мы с Костей тоже облачились в роскошные халаты, и вчетвером мы двинулись на озеро.
— Нет, ну здорово, да? — воскликнула жена, когда мы взошли на холм.
И действительно — в теплых лучах заходящего солнца перед нами открылась чудесная картина: к белому хутору на отдаленном холме, закрытому мощными дубами, пыля по сухой дороге, шли овцы; сытые гладкие коровы на ярко-зеленом лугу тянули в нашу сторону морды и страстно мычали.
— Представляешь — тут настолько жирное молоко, что у всех нас первое время было расстройство желудка — не привыкли, представляешь? — восторженно поделилась жена.
— Еще бы — если жрут чистый клевер! — кивая на ровный зеленый ковер, вздымающийся по холмам, проворчал Костя.
Ах вот почему пейзаж такой ровный и зеленый — покров этот выращивается и тщательно обихаживается!
Мы спустились к озеру.
— Видал? Прозрачнейшая вода. А какое дно! — жена ступила босиком на ровные песчаные складки под водой. — Чистота!
Она гордилась этим так, словно тут была некая и наша заслуга, — но, может, действительно, и была, во всяком случае и бумажки, оставшиеся от распаковки, мы тщательно сбили в один ком и отнесли на свалку — самую, наверное, элегантную свалку в мире, расположенную метрах в трехстах от хутора, живописно замаскированную в высоком каменном фундаменте старой мельницы.
Искупавшись, мы двинулись обратно. После чистой холодной воды, в колючей махре халата тело горело... Блаженство!
Мы подошли к аккуратному нашему флигелю (зимой здесь была мастерская, где Вийве занималась своими ткацкими делами). На цементном крыльце стояла металлическая сумка, до краев наполненная ровной, огромной, розовой, вымытой, словно детское личико, картошкой.
— Главное их правило — никогда никому не быть ничем обязанным, расплачиваться сторицей! — кивнув на картошку, произнес Костя.
— Замечательно! — с энтузиазмом воскликнул я.
Потом мы пили парное молоко на террасе, смотрели вниз, на извивающуюся среди красивых холмов ровную дорогу. Идиллия ничем не нарушалась — только в полном безветрии поднимались вверх дымки заночевавших у озера рыбаков. Вдруг на дороге, вдали, появилась длинная комета пыли, потом мы разглядели целую вереницу черных «Волг».
— К нам сворачивают! — вскакивая и запахивая на груди халат, воскликнул Костя.
Когда мы, более-менее переодевшись, вышли во дворик, «Волги» уже стояли у нашего крыльца. Шофер, выскочив, открыл дверцу, и оттуда вылез седой величественный старик в пасторском облачении — черном сюртуке, белом круглом воротничке.
— Здравствуйте! — улыбаясь, произнес он, сразу же признав в нас гостей. — Хозяин дома?
— Дома, — сориентировавшись первым, Костя указал рукой через мост.
Кивнув, первый священник ласково заговорил по-эстонски с зарычавшим на него хозяйским песиком. Из остальных машин тоже выходили священники. Церемония торжественно двинулась через мост. На том конце моста их встречал могучий Яан — уже умывшийся, в чистой рубашке, в шапке с длинным козырьком.
Они сразу же весело и как-то очень по-свойски заговорили.
— Понял? — гордо сказала мне Ляля. — Со всей Эстонии приезжают смотреть на этот хутор, и вот — даже делегация священников!
— Да-а-а... — откликнулся я, глядя туда.
Сначала они внимательно слушали объяснения Яана по поводу устройства знаменитого его моста (Яан провел пальцем по свисающему дугой мощному тросу, от которого шли тяги к настилу моста, священники восхищенно покачивали головами), потом они толпой, переговариваясь, двинулись в кузницу.
— Яан — знаменитый кузнец! Во всей Эстонии он один такой! Подсвечники, старинные дверные ручки, каминные решетки, щипцы — никто так не делает, только он! — сказала Ляля.
Потом толпа вышла — Яан дружески, но без тени подобострастия провожал их к машинам. Машины, рыча, отъехали, Яан помахал им рукой, потом, улыбаясь, повернулся к нам.
— ...Священники приезжали? — спросил я.
— Да, — кивнул он.
— Из Рыуге? — показала знание здешней жизни Ляля.
— Из Рыуге, из Урвасте... еще откуда-то! — Яан простодушно махнул рукой.
— Хутором любовались? — улыбнулся Костя.
— Да-a. Но не только! — сказал Яан. — Просили кое-что сделать для них.
— Ну — вы, конечно, согласились?! — глядя вслед удаляющейся процессии, спросила Ляля.
— Я сказал, что не точно. Что если будет время — я сделаю, — с достоинством ответил Яан.
— Ну, ясно, — проговорил Костя. — А пока что — вечером ждем вас с Вийве... так сказать, на дружеский ужин, по случаю приезда...
— Хорошо, мы будем, — сказал Яан.
Мы торжественно и старательно накрывали стол. Если и были прежде какие-то сложности в отношениях с хозяевами, то в этот вечер они должны исчезнуть — ради таких достойных людей не грех и постараться.
— О! Смотрите! — уже в темноте воскликнула Ляля.
Через мост шла Вийве, с завитыми волосами, в платье с кружевными манжетами и воротничком, за ней торжественно шел Яан в светлом костюме, тщательно причесанный, с огромным букетом гладиолусов в руке.
— Вот так вот! — торжественно сказала мне жена, словно во всем этом была и ее заслуга, а может быть, и была — к нехорошим, злым людям вряд ли бы так охотно и торжественно пошли хозяева!
— Добрый вечер! — поклонилась Вийве. — Извините, что не успели испечь пирог, в следующий раз должны пораньше сказать!
— Ну что вы! Зачем? Какой пирог? — наперебой взволнованно заговорили мы. — Садитесь, пожалуйста!
Мы усадили их на почетное место.
— Слушай — а где ребенок-то наш? — на секунду вырвавшись из начавшегося веселья, спросил я жену.
— Да шляется где-то, — небрежно, но с оттенком гордости сказала она.
Наконец появился ребенок, в мокром, прилипшем платье, весело встряхивая мокрыми волосами.
— Откуда ты? — строго проговорил я.
— Я сейчас озеро переплыла! Сама! — ответила дочь.
— Ну молодец, молодец! Иди переоденься! — сказал я.
Из темноты сверкал глазами Альберт.
— А потом? — спросила она.
— А потом — спать!
— А с вами — нельзя разве посидеть?
— Ну ладно уж... в честь приезда! — разрешил я.
— Ура! — Радостно подпрыгнув, дочка умчалась в дом.
«Ну не идиллия ли?» — блаженно подумал я.
Потом Яан торжественно допил чай, глянул на часы, что-то сказал по-эстонски Вийве, и они поднялись.
— Вы что — уже уходите? — с огорчением спросила Ляля.
— Ждем гостей! — улыбаясь, сказала Вийве.
— Как жаль! — проговорил я.
— Наоборот! — весело возразила она. — Вы тоже идете к нам в гости!
— О! — радостно воскликнули мы.
Мы снова — уже который раз за день — переоделись и торжественно двинулись через мост к хозяевам. Вскоре появились и гости — семья соседа, лесника Тойво. Первым вошел он — огромный, кудрявый, торжественно держа в мощных ладонях самодельный кремовый тортик, украшенный узором из черной и красной смородины. За ним вошла его семья. Семья была такая: красивая, крепкая, с толстыми крестьянскими руками и ногами жена Варио, и пятеро чистых, умытых, одетых в белые рубашки детей — два мальчика и три девочки — все белоголовые, синеглазые, воспитанные, подтянутые, но нисколько не скованные.
— Так уж вышло! — добродушно кивая на детей, не совсем чисто заговорил Тойво. — Сначала родилась дочь. Мне стали все говорить: бракодел! Я решил сделать сына, но родилась опять дочь! Мне все говорили: бракодел! Я решил идти до конца. И следующий родился сын. Мне стали все говорить: твоему сыну нужен товарищ! Но вместо товарища родилась снова дочь. И только пятым родился снова сын. Ничего! Я рад! Маленький оклад у лесника — восемьдесят рублей! И большой план — завтра надо сдать две тысячи веников. Но они помогают мне, — он кивнул на ребят. — Живем хорошо! Есть даже «Жигули» с кожаными ушами!
— Как это... новая модель? — недоуменно спросил я.
— «Жигули» с кожаными ушами! — загадочно улыбаясь, довольный, что задал мне загадку, повторил Тойво.
— Лошадь он имеет в виду! — пояснила Ляля. — Ему, как леснику, положена лошадь. Это сплошное умиление смотреть, как все пятеро детей усаживаются на круп и куда-нибудь едут!
— Теперь мало лесников, — сказал Тойво, — наверное, буду смотреть еще участок — тогда оклад будет сто двадцать рублей!
— Ну хорошо! — воскликнул я. — ...Красивый у вас лес, чистый! — желая сказать приятное столь приятному человеку, добавил я.
— Не-ет! — улыбаясь, Яан покачал головой. — При его отце лес чище был! А при деде его — еще чище! Сейчас плохой лес! — Яан задорно поглядел на Тойво.
Тойво посмотрел на него, потом вышел во двор и вернулся, замахиваясь на Яана огромным деревянным молотом для забивания кольев. Яан, испуганно закричав, заслонился руками. Все захохотали.
После ужина мы поднялись уходить, но оказалось, что впереди самое главное — музыка. Оказалось, что жена Тойво, Варио, закончила консерваторию. Стоя босыми крепкими ногами на полу, Варио достала из футляра скрипку и заиграла. Тойво уселся за фортепиано, Альберт взял аккордеон. Дети Тойво, привычно уже встав в ряд, запели ангельскими голосами. Я вдруг почувствовал, что слезы душат меня, отвернулся к стене. Уж такого, когда я ехал сюда, никак не ожидал.
— Да-а... — в наступившей, наконец, долгой тишине проговорил я. От слез на глазах пламя свечи расходилось лучами, давно, очень давно в последний раз смотрел я через слезы на пламя свечи... — Талантливые дети у вас!
— Да, это так! — довольно проговорил Тойво. — Но гений лишь один! — он указал на младшего.
— Ну — и это, как говорится, неслабо! — произнес Костя.
Все поднялись, заговорили, загомонили. Повернувшись к своим детям, Тойво что-то строго сказал им, и они, вежливо поклонившись, ушли.
— Послал их коров доить! — совсем уже довольный, пояснил Тойво.
— Да — вот это дети! — воскликнул я.
Потом Варио запела «Аве Мария», и снова пришлось глубоко вдыхать, удерживая слезы. Потом мы долго горячо прощались на крыльце... «И такое — на лесном хуторе, в двенадцати километрах от ближайшего поселка!» — думал я.
Потом мы по подвесному мосту вернулись к себе — но все не могли уснуть, восхищались.
— А где, кстати, наш ребенок? — наконец спохватившись, поинтересовался я.
— Сказала, что с Альбертом пойдут на озеро печь картошку... — слегка смущенно сказала жена. — Так все хорошо — пусть погуляют!
— ...Думаешь? — проговорил я.
Я резко проснулся глубокой ночью, поглядел — диванчик дочурки был пуст.
Я вышел на темный двор — за мостом, за деревьями в доме хозяев ярко горело окно.
— Ждут, — возвращаясь в комнату, сказал я жене. — Мне кажется, у них так не принято!
Она вздохнула.
К утру, однако, дочка обнаружилась (неизвестно только, когда она пришла?), разбудила, растормошила нас всех — давно уже не видал я ее такой радостной и оживленной!
После завтрака мы пошли пешком на соседнее озеро: какие ровные, плавные дороги, чистые яркие луга! Какое красивое озеро — и оказывается, оно сделано искусственно в прошлом веке обыкновенным мельником! Высочайшая культура!
Когда мы чинно, потрясенные окружающим великолепием, возвращались обратно, вдруг с боковой дороги кто-то выскочил на скрипучем велосипеде... Альберт! Он стремительно обогнал нас и вдруг резко затормозил — из-под колеса вылетел фонтан щебенки, его занесло, протащило, потом он резко вскочил, поглядел на нашу дочурку, — локоть его кровоточил, глаза сверкали.
— Опять сходишь с ума! — строго проговорила дочка, подходя к нему. Она сорвала подорожник, плюнула, приложила к его локтю. Они о чем-то заговорили: Альберт — яростно, дочурка — успокаивающе. Мы тактично проследовали дальше. Ну, дела! Видимо, дочурка в изучении Эстонии продвинулась гораздо дальше, чем мы!
— Все никак не успокоится этот Альберт! — сказала Ляля, когда мы отошли. — Два месяца уже, как из армии, и все не может найти себе места — мечется как угорелый, работать не хочет! Вийве и Яан очень переживают, хоть виду не подают!
— Эстонцы никогда виду не подают! — проговорил Костя, вздохнув. — Но жаль его — парень гениальный! Мы чинили в прошлый раз мой автомобиль — мгновенно понимает, что нужно делать! Но терпения нет!
Мы подошли к хутору.
— Конечно, не дай бог нам пережить то, что он в армии пережил! В самом пекле был паренек! — сказала Ляля.
— Между прочим, он уже самостоятельно работает! — сказала жена. — Недавно — выковал подсвечник и сразу нам показывать притащил!
— Ну — дай-то бог! — проговорил Костя.
После обеда все разбрелись кто куда — мы с Костей снова упорно накачивали лодку, жена после короткой, но яростной ссоры со мной ушла вниз, на мостки, обливаясь слезами, стирала. Потом я сидел на бетонной террасе над водой, писал в тетрадке. Видел, как к хозяйке пришла какая-то толстая седая женщина в пальто, они о чем-то говорили, потом прибежал Альберт, позвал Лялю. Вместе с гостьей они что-то обсуждали около дома. Жена на мостках прекратила стирку и, вытянув голову, жадно слушала разговор на крыльце. Вообще, при гениальной планировке хутора все время образовывались какие-то скульптурные группы: кто-то всегда стоял на высоком мосту, разговаривая с кем-то на мостках внизу, около бани, а кто-нибудь вовсе с высоты, из верхнего окошка флигеля, затерянного в кронах деревьев, взирал на все это.
Жена вернулась с тазом белья, незаметно кивнув, позвала меня в комнату.
— Ну — Лялька, вообще, дает! — тихо, но возмущенно проговорила жена. — Пришла Зельма, с соседнего хутора, приглашать на семидесятилетие своего мужа, и спросила Ляльку: как бы пригласить и нас с тобой? А Лялька таким светским тоном ей говорит: «Ну что вы, это им будет совсем неинтересно, — они так давно не виделись, им лучше побыть вдвоем!»
— Ну что ж... — пожимая плечами, ответил я. — Думаю, что из-за такой ерунды вряд ли стоит расстраиваться! Я прав?
— Для тебя все ерунда! — нервно проговорила она.
— Ну пойми, — сказал я, — хочется ей чем-то выделиться, доказать свои права аборигена — все-таки они с Костей гораздо раньше здесь обосновались. Нас уже, можно сказать, исключительно из жалости сюда привезли!
— Да? Ну, вообще, пускай, — согласилась вдруг жена.
Вечером Ляля стала торжественно одеваться к выходу.
— Мы с Костей так любим эти эстонские праздники! — щебетала она. — Так мило, сдержанно, почти совсем без выпивки, и тем не менее так весело, душевно — смеются, поют. И что больше всего меня умиляет — все это вместе с детьми, дети помогают подавать на стол, каждый знает свою партию в хоре! Неудивительно, что потом никто не уезжает отсюда — все остаются, продолжают дело родителей!
— Соседский мальчик, Урмас, — подхватила жена, — то он на тракторе, то сено сгребает, то доит коров — и при этом всегда чистенький, аккуратный!
— Ну — не скучайте тут без нас! — проговорила Ляля, и они ушли.
— А дочурка наша разве не идет? — увидев дочь, кротко несущую к погребу банку с вареньем, удивился я.
— Поссорилась со своим Альбертом... сказала, чтобы он больше к ней не подходил! — доверительно сказала жена.
Вышли торжественно собранные хозяева — Альберт был в белой рубашке, черной жилетке, черном галстуке, на плече его переливался аккордеон. Он с дочуркой глянули друг на друга и холодно разошлись. Надо же, какие драмы тут идут!
Поздней уже ночью, в полной тишине вдруг раздались быстрые, гулкие шаги через мост. И резко затихли. Потом, после долгой мучительной паузы, на террасе тихо брякнула посуда. Я осторожно выглянул из-за занавески. Чернел какой-то длинный силуэт.
— Там кто-то есть! — возвращаясь от окна, шепнул я жене.
Вдруг, в тишине, резко замычал и умолк аккордеон.
— Да... хорошо играет ваш зятек! — насмешливо проговорил Костя (они с Лялей давно уже вернулись и почти спали).
Мы фыркнули... Потянулась долгая напряженная пауза. Снова рявкнул аккордеон.
— Выходи! Дома никого! — простодушно крикнул Альберт.
— Ч-черт! — поднимаясь в лунном свете, проговорил Костя. Но дочурка, вскочив, опередила его, быстро оделась и вышла из флигеля. Я выглянул. Они стояли на мосту, дочка что-то внушала понурому Альберту, длинная тень от скрипящего фонаря на мосту металась по хутору. Наконец дочка вернулась.
— Ну что там? — спросила жена.
Дочка, прикинувшись спящей, ничего не отвечала.
Потом начались стуки — Альберт стучал то в одно окно, то в другое, а когда мы с Костей выскакивали, убегал в кусты — и через минуту стучал... тут уже было не до сна!
Сонные, измятые, утром мы вышли на площадку у дома. Да-а, правильно говорят, что идиллии нет нигде!
— Мы с Альбертом уезжаем в Выру! — небрежно жуя яблоко, сообщила дочурка после обеда.
— Как — в Выру? Зачем?
— Соскучились по светской жизни! — легкомысленно крутясь, проговорила дочь.
— Ну ладно — пусть съездит! — разрешила мать. — Она умница, — последние дни, — столько банок с вареньем накрутила!
— Да?
— Кстати — Выру очень милый городок, нам тоже надо будет как-нибудь туда съездить! — сказала Ляля.
В отдалении несколько смущенно появился Альберт, одетый в десантную форму без погон — сапоги, раскрытый на груди френч, берет, тельняшка.
— Мне Яан сказал, — пояснил Костя, — что сегодня у них встреча — всех ребят, что служили десантниками.
«Боюсь, добром это не кончится!» — подумал я.
Вечером, не утерпев, мы сами поехали на машине в Выру. По центральной улице плотно двигались толпы молодежи. Среди них, по три, по четыре, слегка вразвалку, с вызовом глядя на встречных, шли бывшие десантники — на углу их уже скопилась большая команда. Однажды нам показалось, что мы увидели мелькнувшую дочурку, мы рванули туда — но ее не было.
Уже в темноте мы услыхали в прихожей бряканье дужки ведра, вышли, включили свет... Альберт стоял на коленях перед ведром, дочка мыла ему ладонью окровавленное лицо.
Утром дочурка сидела с Альбертом на сложенных досках, выговаривала ему, он послушно кивал.
— Мы с Альбертом уезжаем в Ленинград! — сияя, подошла к нам она.
Я поперхнулся.
— Надо походить с ним по театрам, музеям, — озабоченно сказала дочурка. — Ему это необходимо!
— Ты думаешь? — пробормотал я.
— А ты думаешь — только тебе это нужно?
— Мне кажется, ты сошла с ума! — сказала жена.
— Почему, мама? — уже злобно проговорила дочь.
— Но ведь в воскресенье... мы совсем уже поедем в Ленинград! — сказал Костя.
— А мы вернемся в субботу! — весело сказала дочурка. — Честно, мама! Обещаю вам это!
— Знаю, как вы вернетесь! Нет, нет и еще раз нет! — от волнения я не мог попасть ложкой по яйцу.
— Нет, вернемся! — топнув ножонкой, воскликнула дочь.
— Не вернетесь... потому что не уедете! — спокойно сказал я.
Дочь, сощурившись, посмотрела на меня:
— Так, да? Ну тогда иди сам и говори хозяевам, что ты не хочешь, чтобы их сын ехал в Ленинград!
Ловко закрутила! Причем на свою собственную шею — вот что обидно!
— А каково будет бабушке беспокоиться о вас?! — сказал я.
— Она нас и не увидит! — воскликнула дочка.
— ...Ладно! — вставая, проговорила жена. — Сейчас я пойду к Вийве и спрошу у нее — с такой ли уж большой радостью отпускает она сына!
— Спроси!
— И спрошу!
Жена, придерживаясь за трос, пошла по мосту. С каким умилением мы смотрели на этот мостик еще позавчера! Вскоре по нему, улыбаясь, шла Вийве.
— Вийве! — заговорил я. — Вы как... не возражаете против того, чтобы ребята поехали в Ленинград? Ведь Альберт, мы знаем, должен работать... нехорошо отрывать его?
— Нет. Хорошо! — безмятежно улыбаясь, ответила Вийве. — Он выполнил уже свой заказ, осталось только оксидировать. Пусть едет!
Наступила тишина.
— Скажите... а вы не боитесь его отпускать? — спросила жена.
— Нет. Альберт честный, порядочный парень. Он дал мне слово, что все будет хорошо, — твердо сказала Вийве.
Да — добавлять тут уже было нечего!
— Ну хорошо... Мы боялись только, что вы возражаете... А если вы согласны... тогда пожалуйста! — пробормотал я.
— Ура! — дочка, подпрыгнув, умчалась за вещами.
Через мост, сияя, шел Альберт с черным атташе-кейсом в руке...
— Но в субботу, как договаривались, будьте здесь! — крикнул я вслед убегающим детям.
— Ну конечно, папочка! — счастливым голосом откликнулась дочь.
Мы неподвижно, как спущенные мячи, сидели на скамейке.
— А я уверена, что все будет хорошо! — сказала жена.
— Ладно! Хватит! Пора за дело приниматься, рыбу ловить! — Костя уже в который раз набросился на лодку...
Естественно, что ни в какую субботу они не приехали. Наступило ясное, солнечное утро — узкие полосы пробивались через бамбуковые занавески... Поезд в Выру приходил в шесть утра, если б они приехали, как обещали, то давно были бы дома... Но что поделаешь — надо вставать! Я поднялся, огляделся — комната была пуста. Я вышел во двор. Светило солнце. Улыбаясь, жена и Костя сидели за столом и пили молоко.
— Это так отец переживает за свою дочь — спит до одиннадцати! — сказала жена, и они засмеялись.
А и действительно — чего страшного? Жизнь продолжается! Теперь стояла проблема — как пройти через мост, спуститься к воде — и не встретить при этом хозяев... разговаривать, наверное, надо весело... получится ли? Но тут, к счастью, сверху спустилась заспанная Ляля и без особых мучений (а что ей, собственно, мучиться, не ее же дочь похитила хозяйского сына) пошла через мост, спустилась к бане. Через минуту я услышал, как они там разговаривают с Яаном... прислушался, вытянув шею, но слов не разобрал.
— Та-а-а... Та-а-а, — весело повторял Яан, но что именно «да», выяснить я пока не мог.
Наконец Ляля вернулась (ну сколько же можно заниматься туалетом!).
— Ну... что там? — как можно небрежнее поинтересовался я.
— Яан говорит, что сегодня будет баня.
— Да? — я вскочил из-за стола. — Но, наверное, надо помогать? Принести воды, дров... — я стал озираться вокруг.
— Нет. Не надо помогать! — появляясь рядом, проговорила Вийве. — Мы сами сделаем! Это наш долг! — она неторопливо, с достоинством, пошла через мост.
Какие люди! Представляю, что за кошки скребут у них на душе, — и как держатся!
— Надо... что-нибудь им подарить! — вскочил я.
— Что ты можешь им подарить?! — сказала жена.
— О! Крем для бритья! Отличный английский крем! Отнесу! — я побежал через мост.
Ночью, после бани и долгого чаепития, я часто выходил во двор и неизменно видел: за мостом, в их комнате, горит свет... в
последний раз это было уже перед рассветом... свет горел! Каким же надо быть бесчувственным, чтобы не думать об этом!
На следующий день мы уезжали — Косте надо было на работу, да и мне пора... С утра Яан скрывался в кузнице, оттуда доносился непрерывный стук — отчаяние свое он заглушал работой... самый прекрасный способ заглушать отчаяние! Единственный сын, на которого были все надежды... оказался таким. Страдание Яана можно было понять — и мы, ясное дело, понимали.
Мы молча, хмуро собрались. ...Да, не таким мы представляли конец отпуска. И дочурка, конечно, хороша — из-за нее, собственно, и заварилась вся каша... Погрузившись, мы молча стояли у машины. Ну что ж, никуда не денешься — надо идти прощаться с хозяевами.
— Вчера, — тихо говорила жена Ляльке, — уговорила взять ее лишние пять рублей — за яблоки, баню, то да се... Сегодня! — жена показала пальчиком на сетку с крупной картошкой, стоящей возле крыльца. — Вот так!
— Уже уезжаете? — к нам через мост шла Вийве.
— Уезжаем, — вздохнул я. — Жалко, вообще... Так у вас тут хорошо! — я оглянулся.
— Та, у нас хорошо, — сказала Вийве.
Мы помолчали. О детях не хотелось говорить — что тут можно сказать?
— Яан, наверное, не придет — он работает? — сказала жена.
— Нет, он придет. Он переодевается! — сказала Вийве.
Слезы подступили к моим глазам, я быстро отвернулся.
— Жаль, что уезжаете. Хорошая компания! — в светло-желтом костюме с галстуком появился Яан.
— Слушай, Вийве! — проговорил Костя. — Поехали с нами! Я положу тебя в лучшую больницу!
— Зачем? Я не хочу в больницу! — улыбнулась Вийве.
— Ну... — Костя обнял Яана, поцеловал Вийве. — Замечательные вы люди! — произнес он и сел в машину.
— Что... Альберту-то передать? — проговорил я.
— Он все знает! — сказала Вийве.
Мы поехали. Прекрасные пейзажи Эстонии разворачивались перед нами — огромные стада, ухоженные поля.
— Ну и почему, спрашивается, ему здесь не жить? — проговорил Костя.
— А я верю, что все будет хорошо! — сказала жена.
— Вы с Вийве — двое блаженных! — сказала Ляля.
Наконец, мы переехали границу Эстонии — и сразу затряслись на выбоинах! Печальная встреча!
Уже в темноте мы подъехали к дому. Наши окна не горели.
— Странно... и мамы, что ли, нет дома? — вылезая из машины, сказал я.
— Спит, наверное! — сказала жена.
Мама, выйдя в прихожую, только махнула рукой:
— Сами разбирайтесь! — и ушла к себе.
Мы стали разбираться.
Уже глубокой ночью ворвалась дочь.
— Ну? — закутавшись в одеяла, мы жмурились в прихожей.
— Альберта нет! — удерживая слезы, сказала она.
— Это мы видим! И где же он?
— Сначала все было хорошо, — заговорила она. — Мы ходили по выставкам, музеям... по Неве...
— Поэтому вы и не вернулись в срок?
Дочка потупилась.
— Потом он нашел... каких-то дружков...
— Ясно! И понимаешь, что это ты все устроила?
Дочка молчала.
— Ладно, — сказал я. — Давайте спать. Утро вечера мудренее!
Но пословица не оправдалась. Ни завтра, ни послезавтра Альберт не объявился, не звонили и с хутора.
— Да-а... Железные люди! — восхитился я. — «Альберт все знает!» И точка.
— А может — он уже там? — размечталась жена.
— Да нет. В таком случае они бы позвонили... сняли напряжение. Не те люди! — ответил я.
Вечером в среду, когда я вернулся, жена кинулась ко мне:
— Яан звонил!
— Так.
— Сказал, что Вийве завтра делают операцию.
— Так!
— Сказал, что перед операцией еще позвонит.
— Так...
— Ну — эти детишки! Мастера драматургии!
— Сволочи они!
— Кстати — наша не звонила?
— Ну что ты! Зачем? Она уже про это не помнит — у нее какие-то уже новые заморочки.
— Ясно.
— ...А операция тяжелая? — спросила жена.
— Ну как ты думаешь? Если б была пустяковая, Яан вряд ли бы терял свое достоинство и звонил!
— Да-а-а...
Мы долго понуро сидели на кухне. Наконец — заскрипел замок — ворвалась красная всклокоченная дочурка.
— Видела Альберта? — спросили мы.
Еще не отдышавшись, она кивнула.
— Ну как он... едет?
Она покачала головой:
— Сказал, что не уедет, пока не разберется... с одним, который тут его обидел.
— Ну почему — тут? — воскликнул я. — И там кто-то мог прекрасно его обидеть, зачем было приезжать?
— Наша очередь принимать гостей! — разведя руками, вздохнула дочурка.
...Я вспомнил вдруг, как Альберт, сияя, шел через мост с черным атташе-кейсом в руке...
Транзитник
Взяв билет, я рухнул на отполированную пассажирами скамейку. Думал — на минутку, но, вытянув усталые ноги, почувствовал: надо посидеть, расслабиться — весь день в беготне. На улицах холодно, пусто, а здесь тесно, тепло, с детства знакомые, хоть до конца и не разгаданные запахи.
Сосед — торопливо сдвинувшийся, давший мне местечко, громко посапывал — видно, простыл. Я косо — приличия не позволяют смотреть прямо — глянул на него. Небритые щеки, грязные ногти, скукоженная нейлоновая курточка неопределенного цвета, замасленные узкие брючки, потрепанные войлочные ботиночки, серая матерчатая шапка с торчащими ушами... На кисти татуировка, под глазами кожа воспаленная, яркие мелкие прожилки светятся, как спирали лампочки.
— Закурить не будет? — моргнув сразу двумя глазами и подшмыгнув носом, спросил он.
— Не курю! — ответил я. Потом, почувствовав, что ответил слишком надменно, добавил: — Нет, честно. Никогда не курил.
— Да я тоже малокурящий. Грудь прогреть! — он приложил к куртке грязную ладошку, похрипел.
— Проездом? — спросил я. Раз человек устал молчать, хочет поговорить — надо дать ему такую возможность.
— Не видно разве? — улыбнулся он.
— И откуда?
— С Бильдикана.
— Это на Севере?
— Восточная Сибирь.
— Долго ехали?
— Да как?.. Трое суток. До станции-то ребята подбросили меня, в кассу вошел, билеты лишь самые худые. Поезд две минуты всего стоит. Зацепишься — оттуда спихивают тебя: «Куда лезешь — здесь купированный!» В самый первый только пустили. Только влез, и тут же залязгало все — поехали. Тут сошел — компостируют лишь на следующий день.
— И что... никого знакомого здесь? — я поднялся, потом снова резко сел.
— Ну как? Прям тут в зале встретил одного. «Стой! — говорит. — Я тебя где-то видал! В Норильске?» — «Ну как, — поясняю, — вообще-то бывал...» То племянницы ездил на свадьбу — она там на пианино учит, — объясняя уже мне, говорил он, — вез, помню, семгу ей, и еще бюветку спирта прихватил.
— А много это? — поинтересовался я.
— Ну как? Обычная бюветка! — он с удивлением посмотрел на меня. — «Так что, — говорю, — он снова вернулся к исчезнувшему собеседнику, — бывать бывал, но не жил. Сам с Бильдикана, шофер». Ну, показали друг другу документы. Оба трезвые. «Евгений!» — руку подает. «Степан!» — «С Бильдикана? — говорит. — Стоп! Тогда ты Кольку Сердюкова должен знать!» — «Со второй, что ли, автоколонны?» — «Ну, не знаю, где он там у вас!» — «Так видал, но сам не знаком». — «Все! Раз ты Кольку знаешь — теперь ты мой кунак! Водишь давно?» — «С полста пятого». — «Руку! — снова пожал. — За мной!» С вокзала вышли, объехали гостиниц, верно, пять — ну хоть в порядок себя привести. «Даже и не заикайтесь!» — нам говорят. А одна — только мы взошли, сразу: «Выйдите!» — орет. «Так мы только взошли!» — «Выйдите!» — ноздри раздуват. Что с ней сделаешь — вышли. Прошвырнулись по магазинам, да уж какое там — глаза и не смотрят! Съехали в метро: в вагон сядешь, кемаришь. Доедешь до конца, перевалишься во встречный — снова спишь.
— Так метро же кольцевое есть! — воскликнул я. — Можно... хоть год ехать, не вставая!
— Да? То не знали мы. Поездили туда-сюда, снова в вокзал поднялись. Так спать не дают. Только задремлешь — трясут: «Гражданин! Тут спать не положено!» «Так что, — Женька говорит, — может, взбодримся?» Сунулись было в ресторан: «В рабочей одежде не пускаем!» А что я им — в кимоно должен машину перегонять? С Минска до Бильдикана — каково? «Ладно, — Жека говорит. — Им же хуже!» Нашли за заборами магазин, взяли склянку. Зашли за пакгауз, сели на ящики. Только разлить собрались — старуха в ватнике идет, с собакой на ремне, — сторожиха, видно. «А ну отсюда! Быстро сядете у меня!» Заткнули посудину, поднялись. Часа через два Женькин поезд подали — ну, в вагоне вроде разрешено! — Степан усмехнулся. — Вот, глаза залил, а душу нет!
— Так... Попробуем еще... Подняться можешь?
— А с чего бы нет?
— Сходим тогда?
Пройдя мимо железных багажных тележек, мы перешли вокзальную площадь, подошли к гостинице, уходящей в облака.
— Так были уж тут! — усмехнулся Степан.
— Без меня!
Я только глянул на надменную дежурную и сразу вошел в дверь с табличкой «Директор».
— Здравствуйте! Небольшой вопрос, — я протянул свое журналистское удостоверение. — Как вы относитесь к тому, что у вас в холле много уже часов сидит герой труда, работник одной из великих строек, — и никто даже не хочет по-человечески с ним поговорить?
Разгладив гримасу презрения, директор долго вглядывался в меня — велика ли опасность?
— Абсолютно с вами согласен! — наконец горячо заговорил он. — Не умеем мы еще работать по-настоящему! Вопросы надо решать немедленно и конструктивно! — строго сказал он мне. — Идемте!
Мы вышли в холл — он схватил руку Степана, прочувствованно тряс.
— Надолго к нам?
— Да у вас не загостишься! — усмехнулся Степан.
— Извините! Плохо еще работаем! Альбина Васильевна! — резко повернулся он к дежурной. — Что у нас с директорским фондом?
— Вы сами же запретили трогать его без вашего разрешения! — обиделась она.
— Так? И что же? — он бросил нам взгляд, приглашая посмеяться. — Вы боялись меня побеспокоить? Когда же кончится наконец это чинопочитание?! — в отчаянии он шлепнул ладонью по стойке. — Немедленно оформить товарищу номер из директорского фонда! — он глянул на часы, подчеркивая срочность.
— Спасибочки! — стянув треух, поклонился Степан. — Сейчас... на вокзал только забегу!
— За вещичками? — понимающе улыбнулся директор.
— Ну! А там еще с бабкой познакомился...
Директор нетерпеливо кивнул.
— С внучатами сутки уж сидит. Так тоже к вам приведу.
Дежурная вдруг прыснула. Директор метнул на нее гневный взгляд.
Я догнал Степана на величественных ступенях.
— Не-е-е... таких у нас нету! — вздохнул он.
— Да брось ты! — я разозлился. — Всякие у вас есть!.. К матери поедешь моей?
Степан с удивлением посмотрел:
— А она здесь, что ли, у тебя?
— Здесь... Подожди!.. — Я подошел к стоящему у тротуара длинному лимузину, распахнул дверцу. — На Юго-Запад довезешь?
— Пятера! — не поворачиваясь, проговорил седовласый водитель.
— Годится! — я поманил Степана.
— Ты бы газетку хоть постелил! — увидев влезающего Степана, промолвил водитель.
— У меня тряпочка есть, на вокзале в сундучке! — торопливо заговорил Степан. — Сам подкладываю, когда еду. К вокзалу подъезжай — я выйду с тряпочкой!
— Эта тряпочка годится? — я бросил на бархатное сиденье свой плащ.
— Твое дело, — неопределенно ответил водитель.
— Я надену тогда — так сохранней! — засуетился Степан. Утопая в моем плаще, он забрался в машину. Машина тронулась. — Мягко идет у тебя! — блаженно жмурясь, проговорил Степан.
— Что — не приходилось так мягко ездить? — обернулся водитель.
— Да как? — проговорил Степан. — Сейчас уже мягкая, кабина-то. То раньше, помню — как на заборе сидишь! Ватник постелешь да едешь. Потому у всех, кто водит с той поры, — радикулит, святая шоферская болезнь!
Водитель мрачно кивнул.
Мы объезжали огромный высотный дом. Сейчас, обсаженный облаками, он казался затерянной вершиной, доступной лишь альпинистам.
— Ну ничего! — вздохнув, обратился я к Степану. — На обратном пути все-таки полегче будет — в машине уже. Свой дом, как у улитки! — я попытался пошутить.
— Да нет, — ответил Степан. — БелАЗ сам-то крупный, а кабина тесна. Сигналит какой турист — так мимо проезжаешь, хоть и неловко, — тесна кабина, особо в ней не отдохнешь!
— ...Но, наверное, есть по пути всякие там кемпинги, мотели? — сказал я, абсолютно не будучи в этом уверенным.
— Это есть! — Степан усмехнулся. — Прошлый раз — гнали с приятелем два БелАЗа, видим вдруг: ведьма из засохшего дерева вырезана, перстом вбок указывает, а там терем стоит. Надпись: «Пансионат «Сказка»! И верно, что они ведьму поставили, а не какую-нибудь Марью-Красу... Заколдованное царство! На воротах — разрисованных, резных — самый нынешний такой, тяжелый замок. Постояли, утерлись, вдруг видим — старушка согбенная шастает по кустам, палкой листья там расшвыривает — то ли грибы ищет, то ли колдовскую траву. «Бабушка, — кричим. — Не знаешь, как внутрь попасть?» Подошла, снизу вверх подозрительно на нас поглядела... «Почему ж не знаю? — говорит. — Я тут кастелянша!» Отомкнула ворота, пустила. Сказка, действительно... Снаружи что терем, а изнутри — что сарай! Дрова во всех комнатах свалены, доски, кровати пустые, даже без панцирных сеток стоят. «Да-а-а, — в затылке чешем, — хоть сена-то можно принести?» — «Сена сколь угодно несите — вокруг хватает!» — «А с едой как у вас?» — «А как у вас! — бойко отвечает. — Коли есть что с собой — разогревайте, ешьте». — «А где кухня у вас?» — «Не, кухня закрыта. Комиссия была. Разжигайте, где ни есть, костер!» — «Так дождь идет! В комнате, что ли, разжигать?» — «А можно и в комнате!» — «Ясно! — приятель говорит. — Коли всё у вас тут так — то, наверно, и с бабами можно ночевать?» И тут — откуда что взялось — распрямилась аж, глазом полыхнула: «А вот это вот нельзя!»
Водитель хмыкнул.
— Зарабатываешь-то хоть хорошо? — оглянувшись на Степана, поинтересовался он.
— Быват! — подумав, неопределенно ответил Степан.
— Быват!.. А сейчас-то куда тебя везут?
— К маме едем моей — устраивает вас такой ответ?
— Родственник, что ли? — водитель впервые поглядел на меня.
— Все мы родственники!
— Ну, не знаю, — усмехнулся водитель. — Кое-кто, может, и от обезьяны произошел, а кое-кто — и от свиньи!
Мы молча ехали по шоссе, с одной стороны тянулась насыпь, с другой — бесконечная блочная стена.
— Так гостинец, наверное, надо купить! — забеспокоился Степан. — Есть там какой магазин?
— Не пойму только — вот ты от кого произошел? — поглядев на Степана, усмехнулся водитель.
— Так от отца с матерью... Тормозни-ка! — он коснулся водителя ладошкой. — Никак, солдатик крепко сидит.
На обочине, подняв заднюю стенку автобуса, солдат возился с мотором.
— Служба! — проговорил водитель, проезжая мимо.
— Да уж стань, я выйду! Знаю я, како то!
— Како, како! — я разозлился. — Что ты все по-своему тут! Не Сибирь!
— Так то хуже, чем Сибирь, — коль проезжают!
Мы резко качнулись вперед.
— Ну что? Сходишь, что ли, садовая голова? — водитель повернулся. Кивнув, Степан молча стал вылезать.
— Дальше не повезу! — зло посмотрел на меня водитель.
— Я и не поеду!
Степан уже шел от автобуса обратно.
— Плащ прими! — он протянул мне плащ. — Монтировку не сыщешь? — пригнулся он к окошку водителя.
Тот молча вылез, открыл багажник, вытащил зазубренную железяку.
— Ну, будь здоров, простота! — тряхнув через монтировку руку Степана, проговорил он, сел в машину, мотор зарычал.
— Постой... куда завезти-то тебе?
— Владей! А хочешь — солдату подари. И скажи там своим, что тут... тоже люди попадаются... — Он дал задний ход, собираясь развернуться.
— Погоди! Деньги-то не взял! — испуганно переложив монтировку, Степан торопливо расстегивал куртку.
— Лучше шапку себе нормальную купи! — Водитель поднял стекло и, развернувшись, уехал.
Задумчиво подбрасывая монтировку, Степан двинулся к автобусу. Солдат ждал, вытирая пот.
Незаметно толкнув Степана, я показал глазами надпись на борту: «Перевозка людей и грузов категорически запрещена». За стеклом громоздились какие-то приборы, светились шкалы.
Степан прочел надпись, потом с удивлением поглядел на меня.
— Ну дак и что? — проговорил он.
Действительно: ну дак и что?
Поддев монтировкой приводной ремень, они пытались надеть его на шкивы, прокручивая их. Снова и снова ремень слетал, монтировка срывалась, слышалось бряканье, — я в досаде уходил все дальше, возвращался и снова уходил. Наконец пошла долгая тишина. Я вернулся к автобусу, уже в темноте. Они стояли, распрямившись, Степан, закинув короткую руку, тер поясницу. Солдат убежал к кабине, погремел железками, бегом вернулся.
— Ну, спасибо вам. Без вас бы я тут сидел! — он ухватил руку Степана, потом, в порыве благодарности, тряхнул и мою.
Закрутилась белая мельничка дыма, автобус растворился.
Почему-то так же враскорячку, как и Степан, я спустился с шоссе к пожарному водоему — помыть руки. После того как солдат пожал мне руку, я тоже имел право ее мыть.
— К матери-то... поспеваешь сам? — разгоняя бензиновую пленку на поверхности, забеспокоился Степан.
— Непонятно. — Я глядел на пустое шоссе.
По насыпи потянулась вереница окон.
— Ну чо? Может, вскочим? — пытался он меня развеселить.
— Погоди... — я приподнялся.
Из-за изгиба белой стены выворачивала машина. Кабина, сдвинутая вбок, казалась светящимся глазом чудовища. Шофер маячил там, как зрачок.
Я выскочил на шоссе, вытянул руку. Машина с ревом прошла мимо. Колесо было выше меня. Мелькнула лесенка.
— Так то я пояснял тебе! — сразу оказавшись рядом, торопливо заговорил Степан. — Он и хотел тебя взять, да нельзя ему — кабина тесна!
Я хотел ехидно спросить, откуда он знает, что тот «хотел взять», — но посмотрел на него и не спросил.
Первая хирургия
Во всех казенных помещениях, где отрешаешься от себя и переходишь в другое состояние, обстановка неуютная и тоскливая, — почему же, спрашивается, здесь, в приемной больницы номер сто три, должно быть как-то по-другому? Чего ты, собственно, ждал? Все как всегда. Тусклые зарешеченные лампы под сводами, старый кафельный пол, осевший в сторону зарешеченного окна, белые топчаны, застеленные клеенкой. За окном, ясное дело, еще темно, — а чего ты ждал? — раннее утро ноября, — чего ты ждал?
Или, может быть, вместо больничной пижамы надеялся получить соболий халат? Хватит сходить с ума — переодевайся и иди.
— Ну кто там в первую хирургию? — нетерпеливо произносит невыспавшаяся, хмурая сестра. — Ты, что ли? Давай шевелись! — с фамильярной грубоватостью, присущей всем медработникам, произносит она.
Все правильно. А ты чего ждал? Невольниц гарема?
Широкий, с таким же скошенным кафельным полом, коридор, освещенный синими мертвенными лампами, потом — темная крутая лестница.
На холодной тесной площадке стоят уже больные в очереди к автомату — надо сообщить близким, как пережили они ночь.
Конечно, в более удобном месте автомат поставить было нельзя! — с привычным уже раздражением думаю я.
Вдоль очереди больных, спускающейся по лестнице, мы поднялись на второй этаж, в высокий коридор, с окном до пола в дальнем конце.
— Сюда тебе! — сеструха, как я уже прочно ее назвал, показала стеклянную полудверь (бывшая дверь была разделена теперь пополам).
Я вошел в узкий, обмазанный серой масляной краской пенал, в котором запах лекарств настаивался уже, наверно, лет сто. Вдоль стен стояли шесть коек, в два ряда.
Да-а... Говорили мне умные люди, что надо любыми путями устраиваться в Академию — там хоть условия.
В отчаянии я присел на свободную среднюю койку. На койке в углу лежал неподвижный распластанный человек с серым пористым лицом. С высокой стойки от перевернутых банок к нему тянулись резиновые шланги.
На крайней койке у двери лежало какое-то тело, глухо и, как мне показалось, яростно завернувшееся в одеяло.
На койках в другом ряду все одеяла были откинуты — клиенты вышли.
Я посидел, уперевшись ладонями в холодную кроватную раму, потом, резко вытолкнувшись, вышел в коридор.
Я долго шаркал по величественному этому коридору к светящемуся высокому окну, запотевшему в верхней его части.
У нижних стекол его в зарослях фикуса стояли больные в мятых пижамах и смотрели вниз на асфальтовый больничный двор: посередине двора желтел одноэтажный флигель с замазанными окнами, рядом фонарь дребезжал оторванной крышкой, возле его столба завивались уже спиральки снега, — да, вот уж и снег!
Из флигеля шестеро солдат вынесли на плечах обитый гроб. На крышке его топорщилась каракулевая папаха с алым верхом.
— Да... солидно дело поставлено! — с завистью и одобрением произнес кто-то.
— Тебя уж так не будут выносить! — подколол насмешник.
— Это уж само собой! — мрачно подтвердил он.
— В спецотделении лежал, — да не помогло!
Под медленные рыдания оркестра гроб донесли до автобуса.
— Небось из дуба гроб-то! — снова проговорил завистник.
Больной с короткими ногами и длинной забинтованной головой, качнув марлевыми «ушками», живо повернулся к нему, оживленно-простодушно заговорил:
— Нет, то не дуб! Сосна! Сосна! Но сделано хорошо! Чисто! — с ударением на «о» проговорил он.
Я посмотрел на заледеневший, заносимый узорами снега газон, и пошел.
— Большой, говорят, генерал был! — догоняя меня, проговорил «зайчик» с марлевыми ушами. Я свернул в палату, но и он оказался здешним, занял койку напротив.
Плюхнувшись, я лежал на спине. Вернулись еще двое: маленький человечек со сморщенным лицом, с крохотными ручками и ножками, с внимательным взглядом через очки, и длинный кудрявый парень в лыжном костюме, чем-то обиженный.
— Пойми ты! — говорил маленький, тщательно придерживая что-то ручонками на груди. — Он правильно к тебе пристал! Он, может, по форме был не прав, — разговаривал с тобой, как жандарм, — но по сути он прав! Дежурный врач — а больные шастают по больнице!
— А! — падая на койку, заговорил парень. — В Софье Перовской я был, здесь же на терапии лежал — нигде не было такого бардака! Не отделение, а..!
Он резко снял со спинки кровати наушники, натянул их на уши. К спинке его кровати была прикручена проводом лампочка — чувствовалось, что он устроился у себя в углу капитально, со знанием дела.
Он вдруг резко стащил наушники, глянул на «зайчика».
— Ну что, белая шапочка? — заговорил он. — Может, сыграем еще, или боишься? — видно было, что насмешки над этим наивным селянином составляют одну из немногих отдушин в теперешней его жизни.
«Зайчик» поднял свою длинную голову, простодушно улыбнулся — розовые шершавые щеки сложились по бокам, как мехи гармони.
— Можно, — выговорил он.
— А ты, капитан? — обратился парень к очкастенькому.
— Нет, Толя, — спасибо, не хочу! — сухо ответил капитан. — И ты, Петро, не играй! — он строго повернулся к «зайчику». — Жена что говорила тебе?!
Быстро переступая крохотными ножками, согнувшись и держа руки на груди, капитан вышел.
— Между прочим — отличный человек! — глянув на меня, произнес Толян. — Капитан был, первого ранга, весь мир объехал. Потом колоссальная неприятность у него вышла, результат — рак пищевода! А духом не сломился, приехал из Мурманска сюда, к профессору нашему пришел — он единственный в Союзе операцию эту делает: вырезает пищевод, вживляет кишку. И ждет: приживется кишка? Кой-где у капитана она прижилась, кой-где — нет еще. Поэтому и ходит, как мусульманин — согнувшись, руки прижав к груди. И хоть бы слово жалобы от него! — горячо закончил Толян.
Петро, подтверждая, кивал забинтованной головой.
В коридоре послышалось бряканье тележки, за тележкой вдвинулась неуклюжая наша сеструха.
— Ну чего? Кто по уколам соскучился? — заговорила она. — Давай стягивай свое тряпье! — скомандовала мне. — Да не передом (все захохотали). Перед твой никому не нужен — зад давай!.. Ну все — натягивай! — она шлепнула меня по ягодице. — А Акимов где?
— В третью палату пошел! — доложил Толян, который, видно, был уже здешним Вергилием, все знал. — Книжку там обещали ему дать, мемуары Жукова.
— Ну что ж, пусть побегает потом за мной! — проговорила сестра.
Она подошла к телу, неподвижно скорчившемуся под одеялом:
— А дедуля наш все спит?
— Видно, молодость свою увидал! — улыбаясь, вошел довольный капитан, бросил толстую растрепанную книгу на тумбочку.
— Ну, пусть спит тогда! — ответила сестра. — А ты попу свою давай!
Вздохнув, капитан безропотно исполнил ее приказ.
Выдернув иглу, она потерла место укола ваткой, потом встала, подошла к распластанному, дождалась, пока из перевернутой банки истекут последние капли, сняла, взяла с тележки новую прозрачную банку.
— Ну что, еще одну засосешь? — обратилась она к нему.
Губы распластанного впервые зашевелились.
Сестра подключила новую банку, повернула крантик на шланге.
— Ну все! — поворачиваясь, сказала она. — Все, кто на своих еще ногах, в столовую дуйте!
— Это разговор! — бодро вскочил Толян, схватил с тумбочки грязноватый граненый стакан. — А ты чего, не имеешь стакана? — поинтересовался Толян.
— А где мне его взять? — спросил я.
— А ты думал, — усмехнулась сестра, — принесут его тебе, вместе с блюдцем?!
— Он привык, что ему в койку все подают! — враждебно выговорил Толян, выходя из палаты.
— Между прочим... не мешало бы повежливей обращаться! — дрожа, я сказал сестре и, подпрыгнув, повернулся лицом к стене.
Как все это знакомо уже мне!
— Ну, — не пойдете в столовую? — капитан притронулся к моему плечу. — Тогда — простите!
Быстро переступая, он вышел в коридор, внес низкое глубокое кресло, сел в него. С шуршаньем расстегнул пижаму: под пижамой была розовая резиновая трубка, воткнутая в живот. Капитан вытащил из тумбочки воронку, какую-то бутылку. Держа поднятую вверх руку с воронкой, другой он заливал бурду из бутылки. Я лежал лицом к стене, но хлюпающие, чавкающие, давящиеся звуки засасываемого вещества доставали меня.
«Говорят еще про какой-то загробный ад! — с отчаянием думал я. — А вот это же и есть ад, — вполне, видимо, заслуженный каждым из нас!»
Хлюпающие звуки, перемежаемые вздохами капитана, длились. Потом, наконец, он встал, застегнул пижаму, спрятал в тумбочку бутыль и воронку, вынес кресло и сам ушел.
Я, наконец, повернулся, — бок затек.
Петро, свесив короткие ноги, сидел на своей кровати, виновато улыбаясь.
— А вы почему не обедаете? — выговорил я.
— Нельзя мне нынче кушать-то! — вздохнул Петро. — Доктор сказал, на операцию завтра повезут!
— А долго уже лежишь тут?
— Три дня уж!
Три дня!
— По случайности сюда и попал! — смущенно улыбаясь случайности своего визита, выговорил он. — К дочке в город приехал. Брусники ей привез, не пять ли кило? Взошел на лестницу к ней, и заметил ишшо, какие-то парни стояли. Помню еще, два парня и девка с ими. Поднял я руку к звонку — вдруг сзади меня чего-то как ахнет. Ну, дальше как затемнило все.
— А дальше что же?!
— Ушли. Шарфик взяли и очешник с очками. — Петр вздохнул. — Поднялся я, в звонок позвонил. Кровь по лицу идет. Дочка открывает: «Папочка, что с тобой?» Ну — вызвали «скорую», да сюда меня.
— Ну, а эти как же? Нашли?
— Следователь заходил сюда, записывал! — удовлетворенно кивнул Петро.
— А... оперировать тебе что же будут?
— То другое совсем! — как колоссальной какой-то своей хитрости, улыбнулся Петро. — Эт-та, как покушаешь жирного, так словно перепояшет всего! — заведя короткую руку за спину, Петро указал. — Как доктор пошел наутро, на что жалуетесь, — я и указал доктору-то! — гордо закончил Петро.
— ...Ясно! — выговорил я.
Время с обеда до вечера тянулось томительно. Я раз, наверное, пятьдесят прошаркал по коридору — от окна до курилки в дальнем конце, где собирались любители фольклора и местный Боккаччо, утопая в клубах дыма, вдохновенно говорил:
— Мы-то удивились еще: надо же смелый какой — один, а нас троих не боится! Подгребает к нашей лодке и говорит: «Здорово, браконьеры!»
Пауза. Аппетитная затяжка.
— «...Ладно! — рукой рубанул. — Рыба ваша меня не интересует». Показывает удостоверение: капитан КГБ! «Скоро, — говорит, — в этом месте диверсант должен границу переходить, так что глядите в оба. Чуть что — выстрел вверх!»
Я прошел мимо них в туалет. На подоконнике стояла огромная белая бутыль с хлоркой. В небе среди облаков скользила луна.
— ...Ну взяли, конечно, — возвращаясь обратно, услышал я. — А как?!
Все выжидательно молчали. Я остановился.
— А просто! — небрежно выговорил рассказчик. — Диверсант этот через порог шел, с камня на камень прыгал и, чтоб не смыло его, на палку опирался. — Оглядевшись, рассказчик взял в руку швабру с намотанной на нее мокрой тряпкой, уперся. — Сказали ему: «Стоять!», а он — тыр-пыр! — ни палку бросить не может, ни в карман залезть. Так и застыл! — рассказчик пренебрежительно отставил швабру, как Паганини, сыгравший на случайной скрипке.
Все молчали.
— А какой из себя диверсант-то этот был? — выговорил наконец кто-то.
— Да амбал, вроде вот этого! — рассказчик небрежно вдруг ткнул в меня.
Смертельно обиженный, я ушел.
В палате тем временем тоже завязался разговор.
— Это како тебе? — повернувшись к капитану, взволнованно говорил Петро. — С новым трактором норму подняли, а трактор тот вязнет на наших участках, слеги подводим под него, себя выташшыть не может, не то что лес. Пошел я к Агапьеву нашему — тот сидит, пишет статью: «Новая техника пришла в глухомань!» — «Почему ж в глухомань? — говорю. — У двоих нас техникум кончен». — «Ты политики не понимаешь!» — говорит. Ну, захлестнулись мы с ним. И с той поры никакой жизни не стало! Раньше, бывало, трактор хлыстов с участка приташшышь — месяц топишь. За березу — за ту ругались, а за осину — ту нет. Теперича хоть пруток подымешь — штраф!.. Тут жена пироги с капустой пекла, говорю ей: «Отнеси Агапьеву-то, может, пожалеет хоть, — все ж таки свекр!»
— Как же — пожалеют они тебя! — усмехнулся Толян. — Тут, я когда на комбинате еще работал, построили цех, досрочно, экономно, ура, ура! Только вот отопление не успели сделать, как надо. При плюс десяти приходилось работать! Ничего, мол, перебьются как-нибудь!
— Что ж, по-твоему, сволочи все кругом? — спросил я.
— А то нет? — Толян повернулся ко мне. — Тетка у меня всю блокаду в Питере прожила, у станка стояла с четырнадцати лет. Потом к сыну уезжала на Дальний Восток, вернулась. «Докажите, — один дух в жилконторе ей говорит, — что вы до войны еще были тут прописаны!» Ткнулась она в домовые книги: нет ее! Родители ее записаны, а она — нет! Оказалось, несовершеннолетних и не прописывали тогда — живи и все! Она ему: «Ну, ясно же, что с родителями жила — не сирота!» А он: «А кто это может доказать?» Она: «На кладбище сходите, спросите!» — «Следующий!» — кричит. Тогда она старую трудовую книжку отыскала, где написано, что с сорок второго на «Лентрублите» работает. «Вот», — приносит. А он: «Ну и что? Может, ты работала в городе, а из-за города ездила». — «Как же ездила-то я, когда блокада была?!!»
Толян задохнулся.
— Поиздеваются сначала над человеком, потом... — закончил он.
Наступила тишина.
— ...Чего к тебе дружки твои не заходят? — спросил Толяна капитан. — Ведь местный ты вроде бы как-никак.
— Да куда местней! С Васькиного острова! — усмехнулся Толян. — А дружков — век бы их не видал! Через них сюда и попал!
— Как же это? — спросил я.
— Обыкновенно! — оскалился Толян. — Я тут грузчиком в магазине работал, так что какие дружки у меня, сам понимаешь. «Вынеси да вынеси!» — и весь разговор. Ну, однажды надоело мне, говорю им: «Да подождите хоть: затарю отдел — вынесу!» — «Ах так?» — говорят. И так уделали меня — с той поры по больницам гощу!
Наступила тишина.
— ...Ну, вы, говоруны! — вошла медсестра. — Спать давайте, гашу!
Заснуть в эту ночь было невозможно: каждый, оставшись наедине со своей болью, не спал.
Капитан долго мучительно кашлял, потом шли долгие, тягучие, гулкие плевки в банку, стук прикрывающей крышки — и снова кашель.
Распластанный в углу тихо кряхтел. Потом я услышал какое-то бормотанье. Я поднялся, поглядел: дед, скрывающийся весь день под одеялом, сидел, спустив ноги в толстых белых кальсонах, запустив пальцы в редкие белые волосы, и причитал:
— ...Ну что это за больница такая?! Сил нет, как все болит, — хоть бы микстуры дали какой!
Я поглядел на него, потом поднялся. Дежурный врач сидел в ординаторской, в потрескавшемся кожаном кресле, отставив мощную волосатую руку, читал крохотный растрепанный детективчик.
— ...Гаврилов, что ли? — он недовольно глянул на меня красными глазками. — Ладно, скажи сестре, пусть уколет его.
Я пошел по темному коридору к светящейся лампе на столе у сестры. Рядом с ней в кресле сидела подружка, и сестра, вздыхая, рассказывала ей:
— Нет, не разведется он! Детей очень любит, особенно Сашку!
«Осенняя песня!» — подумал я.
— ...В шестую, что ли? — повернулась она ко мне.
Потом я заснул и проснулся от света и грохота. Дед, яростно свернувшись, снова лежал под одеялом, а эта корова-медсестра для чего-то зажгла свет и, грохоча, вталкивала в палату железную каталку! Она протолкнула ее в конец палаты, к тихо спящему распластанному, грубо выдернула из него все шланги, перевалила его на каталку — даже голова его, не открывая глаз, замоталась туда-сюда. Потом она взвеяла простыню и плавно накрыла ему лицо, оставив почему-то открытыми босые ступни. «Ведь озябнут же ступни! — подумал я и понял вдруг: — Нет. У него уже не озябнут».
Она протолкнула каталку через палату, железным углом стукнула о притолоку, где была уже отполированная выбоина, — сколько каталок уже вот так бились в нее!
Чуть развернув, сестра выкатила каталку, щелкнула выключателем, стало темно.
«И это — все?!» — хотелось у кого-то спросить.
Разбудил меня какой-то вольный, просторный звук: шипенье и звон воды, падающей в гулкое ведро.
Я лежал, продолжая еще пребывать в том роскошном, прохладном, счастливом сне, из которого так не хотелось уходить. Я лежал неподвижно, боясь потревожить его, но он тут же начал исчезать, как туман на заре! Я судорожно пытался схватить его обрывки, но обрывки сна как обмылки — чем крепче их берешь, тем быстрее они выскальзывают. И вот осталась лишь одна сладостно-непонятная фраза: «На Пучелянские сады», — но что это за сады, я уже не знал.
В палате было свежо, чисто и тихо. Все проснулись уже, с некоторой утренней бодростью, но лежали еще неподвижно, ничего не говоря.
— Доброе утро! — вошла новая сестра, белая и прохладная, совсем не похожая на ту, что входила вчера. — Градусники поставьте!
Все, ежась, вздрагивая кожей, ставили холодные градусники.
— Будят зачем-то ни свет ни заря! До шамовки еще полтора часа! — заговорил Толян, но чувствовалось, что и у него настроение отличное.
— Тебе бы только бока пролеживать! — послышался незнакомый скрипучий голос, и все с удивлением увидели белого старика, севшего на кровати.
— Дед-то наш оклемался, гляди! — радостно проговорил Анатолий.
— Я еще на свадьбе твоей спляшу! — задирая высохший подбородок, выговорил дед. — Тапки дай! — сурово приказал он сестре.
Шаркая, дед ушел.
— А вы? Идете умываться? — подошел к моей койке капитан.
Через плечо его свисало махровое полотенце, в руке яркая паста, нераспечатанное туалетное мыло, — он словно шел купаться на пруд.
— Конечно! — поднялся я.
— ...Ну что? — вернувшись, дед обвел всех выцветшими голубыми глазами. — Показать вам, как в козла надо играть?!
— Давай! — завелся Толян.
... — Заберите его от нас! — через час говорил Толян медсестре. — Всех обыграл, камня на камне не оставил!
Дед победно задирал подбородок.
Толян, улыбаясь, катая меж пальцев папиросу, двинулся в коридор, но тут же благоговейно возвратился:
— Обход!
Профессор, величественный и насмешливый, вошел в палату, за ним струилась его прохладная свита.
— Ну зачем же вы так передо мной обнажились? — насмешливо обратился он ко мне. — Я вас вовсе не об этом просил!
В свите захихикали. Профессор проплыл. Он присел возле капитана, пощупал возле горла.
— Глотаете?
— А разве можно?
— Конечно! — удивился профессор. — А для чего же, интересно, вы здесь находитесь?
Он вопросительно обернулся на свиту — свита потупилась.
— Готовитесь? — мельком спросил он у Петра.
Петр кивнул забинтованной головой.
— Молодцом, дедуля! — мельком глянув на деда, сказал профессор. — Покажите молодым, что наш брат еще стоит кой-чего!
— А со мной что? — настиг свиту у выхода голос Толяна. — Долго еще волынку будем тянуть?!
— Ну зачем же так, Анатолий?! — профессор вернулся к нему, сел на кровать. — Ведь вы же у нас не новичок, как некоторые, — скоро уж диссертацию сможете написать! Знаете ведь: время и время!
Обласканный Анатолий остался, профессор ушел.
Вскоре появилась сестра.
— Акимов, к профессору!
Капитан ушел.
— Мальков, на гастроскопию!
Выругавшись, Толян встал.
— Что — больно, что ли? — не удержавшись, спросил я.
— А ты как думал, когда метровый дрын вгоняют в желудок? — оскалился Толян.
Вскоре вернулся капитан, покачиваясь от счастья, сияя:
— Я глотал сейчас! Представляете — глотал!
— А... как? — спросил его я.
— Через горло! — улыбнулся капитан. — Протягивает мне ложку сметаны, говорит: «Глотайте!» — «Да вы что, — говорю ему, — Игорь Владиславович!» — «Глотай, сучий сын!» — сунул ложку сметаны в рот, я глотнул и чувствую: прошло!
Капитан ходил по палате, поворачиваясь то к одному, то к другому.
Потом пошли операции.
Выйдя из столовой, я увидел среди фикусов Петра — он столбиком сидел на диване, белые его ушки торчали над глянцевыми листьями.
Дойдя до окна, я хотел повернуться — но сел к нему.
— Ты сам-то... откуда, вообще? — выговорил я.
— А с Паши! — с готовностью поворачиваясь ко мне, ответил он. — С Паши! Есть такая река.
— А-а-а... Наверное, рыбы там у вас!
— Е-есть! — Петр кивнул. — Сейгод ряпушка была — наготовили не семь ли банок?
— В уксусе, что ли?
— Не. В масле! Вроде шпрот выходит, — растопырив пальцы, Петр изобразил шпрот.
— А... ценные породы рыб?
— Нельма быват. Как пойдет, бабы с нее тушек наделают, котлет — ну, в курсе уже! — улыбнулся Петр.
В окне, на старой липе, появился человек. Коричневой бензопилой, с сиреневым дымком от нее, он спиливал отросшие сучья. Сук отваливался сперва медленно, потом все быстрей, и доносился стук его о мерзлую землю.
— Хорошо пилит! Чистó! — с ударением на «о» одобрительно произнес Петр.
— А сам-то кем работаешь?
Петр посмотрел на меня.
— Да помощником моториста бензопилы. Тот спиливат, а я вилкой ствол пихаю, чтобы упал, куда надо. Когда тихо — то ничего, а когда ветер крону ведет — то тяжко! — Петр виновато улыбнулся.
Из оперблока выскочил дежурный врач. Красные глазки его покраснели еще больше. Сквозь марлю на лице прокололась щетина.
— Этого давай... с прободой и бородой! — он указал мощной рукой.
Тележка с торчащей из-под простыни черной бородкой продребезжала по коридору.
Петра всё не забирали.
Он долго еще маялся, шатался по коридору, потом пытался приткнуться к «декамеронщикам» в курилке...
— Алехов! — прокричала операционная сестра, морщась от дыма. — Сколько тебя можно искать?
— Меня, что ли? — Петр вздрогнул.
— Кого же еще-то? — усмехнулась сестра. — Ты такую фамилию себе откопал — второй такой не бывает!
Петр дернулся за ней, потом растерянно поглядел на зажатый среди коричневых пальцев окурок, положил его почему-то на ступеньку стремянки и, беспомощно глянув на меня, потопал.
В коридоре перехватил его капитан, взял за рукав:
— По сравнению с тем, что мне делали, твоя операция — так, детский лепет! Ждем!
Мы все вернулись в палату и ждали, поглядывая на часы.
— Помню, в сорок шестом, в Крыму стояли, — говорил капитан. — Темно вокруг было, ни огонька. Вдруг Ленька Пушков, командир БЧ-2, — веселый был, заводной — говорит: «Вон огонек какой-то в горах. Наверняка там винсовхоз какой-нибудь — вино, девушки! Пошли!» Ну, молодые были, отчаянные. Карабкались по каким-то обрывам, заблудились. Непонятно уже, где и находимся. «Ну, где девушки твои?» — спрашиваем у Леньки. «Впереди!» — Ленька говорит. И вдруг видим, огонек, к которому мы шли, в небо отделился — звездой оказался! Накинулись мы на Леньку, возиться стали. А ночь теплая была, полынь пахла. — Капитан помолчал. — Потом видим: спускается к нам с гор какой-то свет — исчезнет, потом снова появится. Наша машина оказалась — за водой ездила, за перевал. Попрыгали мы в кузов — там бочка с водой стояла, как начали мы ее пить! Сухо было. — Капитан закашлялся. — ...Потом посмотрели в помещении, какая это вода: жучки в ней какие-то плавают, головастики! И утром у всех понос у нас, кто ходил! — Капитан засмеялся-засипел, ладошкой придерживая грудь.
— Ты, развеселился! Не больно-то! — заботливо подошел к нему Толян.
— Да. Недавно встретил я Леньку того Пушкова. «Где кудри-то твои?» — спрашиваю. «Одолжил!» — «А помнишь, как к девушкам в Крыму сходили?» — «А как же!» — смеется.
Капитан замолчал.
— Я тогда девяносто весил, — вдруг сказал он. — Так движения почти никакого: из каюты — на вахту, с вахты — в каюту!..
— А сейчас... сколько весите? — не выдержал я.
— Сорок, — отрывисто произнес капитан и, согнувшись, сложив руки на груди, ушел.
— У меня тоже тут был случай, — с обычной своей надсадой начал Толян, но тут появился взволнованный капитан:
— Везут!
Мы выскочили в коридор. Вдоль палат дребезжала каталка. На ней, закинув голову, лежал Петр. Глаза его были закрыты. Рядом с каталкой шла операционная сестра, держа в поднятой руке банку. Прозрачная жидкость по шлангу шла Петру в нос.
— Сейчас начнут: банки, подкачки эти! — с отчаянием произнес Толян.
Каталку развернули к узкой одноместной палате.
— Худы дела! — еще более побледнев, тихо проговорил капитан.
Мы сунулись туда, но сестра яростно захлопнула перед нами дверь.
Мы долго шатались по коридору, потом, на сотом уже, наверно, проходе, я увидел, что дверь в палату открыта и Петр неподвижно глядит куда-то вверх.
Я осторожно вошел — глаза Петра медленно двинулись, остановились на мне. Губы разлепились.
— Чего? — я нагнулся к нему.
— Вешшы мои... сюда переташшы, — с долгими паузами выговорил он.
Я быстро сходил, собрал в тумбочке его вещи: шершавую полевую сумку, растрепанную книгу, стеклянную банку, наполовину заполненную брусникой.
Прижав все это богатство к груди, я осторожно донес его до палаты.
— Насыпь! — выговорил Петро.
Сообразив, я насыпал в миску брусники. Петр осторожно поднял корявую ладонь, водил по крепеньким белобоким ягодкам, с попадающимися глянцевыми
листиками, изредка темными.
— Молодец! Хорошо держался! — в палате появился капитан, кивнул Петру.
Потом мы снова лежали в нашем «пенале».
— Жене я не говорил, — рассказывал капитан. — Сказал — в отпуск в Ленинград еду, и все! Догадалась как-то сама, примчалась!
В палату вошел разозленный Толян:
— Петра там вырвало сильно, а сестра умоталась куда-то, как всегда!
— ...А где швабра-то? — я поднялся.
Раздвигая толпу в курилке, я отыскал наконец швабру, со звоном налил в ведро воды и со шваброй наперевес двинулся к Петру.
Рыбья кровь
Жена сказала мне:
— Ну что ты пишешь все про себя? Кому это интересно? Написал бы лучше про другого кого-нибудь.
— Ну а про кого?
— Ну, про какого-нибудь человека, который много повидал, пережил!
— А я что — мало пережил?
— Ты?
— Я. Сейчас, например, знаешь куда иду? К зубному врачу!
— Вот и опиши этого зубного врача! — обрадовалась жена. — Как он, вообще, живет, чем увлекается. Ить интересно!
— Хорошо, — скорбно проговорил я... Если мои страдания интересуют ее только в таком плане — пускай. Опишу подробно, как все есть, — может, хоть прочитав на бумаге, прочувствует.
Я сидел в белом коридоре, пропахшем лекарствами, слегка колотил подошвами по линолеуму. Спокойно... спокойно. Я — чистый лед, может быть с каплей фруктовой эссенции!
Зажглась лампа над дверью, я вошел и увидел врачиху в выпуклых очках и с еще более выпуклой грудью, халат еле сходился, при ее близорукости она вряд ли видела всю свою грудь до конца!
— Проходи, миленький, — ласково запела она. — Садись. Открой, миленький, рот... так... умница!
Минут через двадцать я вышел от нее, сильно взволнованный, — я не только поправил свои зубы, но и договорился с прекрасной этой женщиной (ее звали Марго) о свидании через два дня, причем по другому делу — совершенно не связанному с зубами!
На слабых еще ногах я спустился в сквер, упал на скамейку, немного передохнул, потом достал записнуху и начал писать:
«Хорошая зубная врачиха должна быть обязательно хороша, как мне кажется, и в любви. Ты выгнешься — и она выгнется в ответ, застонешь — и она, немножко в другой тональности, подстонет тебе».
С этой записью я помчался к другу моему Дзыне, главному моему наставнику в литературе и жизни, редактору журнала. Дзыня прочел мои записи:
— Не пойдеть!
— Пач-чему?
— Старик, прости меня — это чушь: «Хорошая зубная врачиха должна быть обязательно хороша, как мне кажется, в любви...» Разве так надо писать о врачах?
— А ты что, заранее уже знаешь как?
— Конечно, знаю. Ты уж можешь мне поверить. Осторожность заменяет мне ум! Ладно уж, — Дзыня с отчаянием проговорил, — если уж ты хочешь что-то написать — свое отдам! Три года хочу написать — но не успеваю... Артур Звехобцев! Слыхал?
— Нет.
— Счастливчик!
— ...Кто?
— Ты.
— Почему?
— Когда с ним познакомишься — поймешь, — Дзыня вдруг захихикал.
— А кто такой?
— Колоссальный тип. Участник, между прочим, всех войн. Но тип, я повторяю, еще тот, — об него многие уже зубы пообломали. И я в том числе. Попробуй.
— Он что... необычный немножко?
— Не знаю! Сначала все и думали так, что это бред: будто он раньше бароном был, во французском Сопротивлении участвовал... Но когда к нам де Голль приезжал, Артур этот спокойно прошел через охрану, де Голль бросился к нему, обнял, и минут сорок они непринужденно о чем-то беседовали. Так что человек он действительно незаурядный, хотя все истории его невероятными кажутся. Например, как, будучи в лагере, он заставил Отто Скорцени бежать с ним наперегонки стометровку.
— Зачем это было нужно... Скорцени-то?
— У Артура спроси — он подробнейшим образом расскажет тебе! С кем только, по его словам, не встречался он... С Рокфеллером! Якобы дочка Рокфеллера безумно влюбилась в него... — Дзыня зачумленно затряс головой. — В общем, — я зубы об него уже обломал — попытайся теперь ты.
— Давай!
— Ну — тогда адрес пиши: Малая Разъезжая, четырнадцать. Вверх по лестнице до упора. Там мастерская у него, там и живет.
— Мастерская? Он что — еще и художник?
— Да. Вдобавок ко всему еще и скульптор. Представляешь?
— Да.
На следующее утро я ехал к Звехобцеву. Застенчивость боролась во мне с наглостью. Долго карабкался по узкой лестнице. Уперся в обитую ржавым железом дверь. Долго стучал ногой. Наконец эта тяжесть медленно сдвинулась, образовалась узкая щель, показался воспаленный, с кровавой сеточкой глаз.
— Что нужно?
— Хотелось бы поговорить.
— Так. О чем?
— ...Правда ли, что, когда приезжал генерал де Голль, вы разговаривали с ним сорок минут?
— Да. Генерал — мой близкий друг. Что еще?
— Вы участвовали во французском Сопротивлении?
Он вдруг резко распахнул дверь, теперь уже двумя глазами впился в меня.
— Да, я был в Резистансе! — отрывисто проговорил он. — Но это они заставили меня. Я был барон!
Я разглядывал его: алые шальвары, расшитый халат, красная феска свешивается на бровь.
— Кто вас заставил?
— Мои английские друзья!
— Английские?
— Я же сказал.
— Да... помотало вас по свету! — проникновенно заговорил я.
— Что значит — «помотало»? — вскричал он. — Я не из тех людей, которых можно «мотать»! Восемь детей во Франции, два внука в Мексике. Что интересует еще?
— ...Может быть — все-таки можно зайти?
— Никогда! — с пафосом проговорил он. — Мастерская — это храм!.. Хорошо. Через пятнадцать минут ждите меня в кафе внизу!
...Увидев его через окно кафе, я еще раз изумился: на улице он выглядел совершенно иначе. Огромная, как котел, седая голова в высокой папахе, плюс — короткое молодежное пальтецо, из-под него — тоненькие кривые ножки в потрепанных брючках. Войдя, он окинул помещение орлиным взглядом, сурово кивнув мне, подошел.
— У вас есть деньги? — надменно поинтересовался он.
— А у вас?
— В свое время я мог сделаться зятем Рокфеллера! — произнес он, не прояснив, правда, своим ответом вопроса о деньгах. — Студень! — скомандовал он. — Суфле! Мусс!
Я собрал по карманам мелочь. Вообще, на эти деньги можно было взять кое-что поплотнее — но он, видимо, принципиально ест только трясущуюся еду.
Начал он есть почему-то с конца, то есть с мусса. Мне показалось, что он и забыл, с кем и зачем он находится здесь, как вдруг он яростно глянул на меня в упор:
— Шиву надо?
— Кого?.. — растерялся я.
— Ну — Шиву, Шиву! — нетерпеливо произнес он. — ...Ну — танцующего, тысячерукого! — вспылив из-за моего непонимания, заорал он вдруг на все помещение, но сонная буфетчица за стойкой даже не дрогнула: здесь, видимо, привыкли к нему.
— А... посмотреть можно? — пролепетал испуганно я.
— Посмотреть? Ну разумеется! — с высокомерной баронской вежливостью ответил он.
Артур резко распахнул свой пальтуганчик (каракулевая потертая папаха каким-то чудом держалась при самых крутых поворотах головы) и показал мне выколоченного на медном листе танцующего Шиву.
— Ясно? — проговорил он.
В кафе вдруг зашел милиционер и неторопливо направился к нашему столику. Он подошел и стал смотреть на Артура.
— Что вы желаете сказать... личному другу генерала де Голля?! — закричал вдруг Артур.
Надо валить, понял вдруг я. Не спеша, как случайный посетитель, я отделился от столика и направился к выходу.
— Ну ты уж чересчур, дядя, — пробормотал милиционер.
— Молчать! — звонко выкрикнул Артур.
Я прибавил ходу и выскочил из кафе. Да, пообломаю я об него зубки... а может — и не стоит ломать?
Дома я посоветовался с женой.
— Уж больно нестандартный какой-то тип, — пожаловался я.
— Так это и интересно! — обрадовалась она.
— Ну что же... хорошо, — я пожал плечом. Если ей так хочется, чтобы я сломал голову из-за какого-то Артура, — пожалуйста!
Вечером я был у него. Довольно долго пришлось биться в железную дверь — наконец она приоткрылась.
— Что нужно? — оглядев меня с ног до головы, вымолвил он.
— Я хочу... написать о вас, — выпалил я.
Артур еще некоторое время оглядывал меня, потом распахнул дверь.
— Почему смылся тогда? — презрительно спросил он (говорил он с явным восточным акцентом).
— Ну... я посчитал... что могу оказаться лишним... — забормотал я.
— Рыбья кровь! — припечатал Артур и, более не глядя на меня, ушел в мастерскую. Я поплелся за ним.
В центре мастерской, огромной и почти пустой, стояла глиняная скульптура оленя с поднятой передней ногой. Рядом на полу было корыто с глиной и воткнутой совковой лопатой. У стены поднимались сколоченные дощатые нары, на них, скрестив ноги, сидел молодой парень восточного вида и две кругленькие бойкие девушки (судя по их милому щебету — ученицы ПТУ).
Артур молча пошел к оленю и стал яростно тереть его бок скребком. Парень на нарах, лучезарно улыбаясь, обратился ко мне:
— Я в балетной школа учился: день репетиция, ночь репетиция. Потом в национальном ансамбле песни-пляски работал. Бежишь по кругу — бубен: тах! Упадешь. Бубен над тобой: тах-тах-тах. Поднимешься, головой на плечах в одну сторону — зых. В другую — зых. Снова упадешь, как мертвый лежишь. Бубен: тах, тах. Ай, думаешь, нехорошо: за что зритель два пятьдесят платит? Спасибо, — он кивнул на Артура, — дядя увез меня из этого ада.
— Дядя? — я удивленно посмотрел на хозяина.
— Я сюда жениться приехал, — доверчиво продолжал бывший танцор. — У нас очень дорого жениться — приехал сюда.
— Завтра в дискотечку пойдем, тут рядом хорошая дискотечка, — уверенно проговорила одна из дам.
— Опять танцевать? Ай-ай-ай! — танцор как бы расстроенно закачал головой.
Дамы благосклонно заулыбались.
Раздался звонок. Артур резко распахнул дверь. Вошел знакомый по встрече в кафе милиционер.
— С обследованием я, — вытаскивая из колючей шинели блокнот и оглядывая мастерскую, проговорил милиционер. — Правда ли, что недавно здесь была американка из туристской группы?
— Это моя побочная дочь! — высокомерно произнес Артур. — Что вас интересует еще?
— Ты уж чересчур, дядя, — пробормотал тот. — Может, чайком хоть напоишь?
— Можно и покрепче что-нибудь! — я бодро выхватил из сумки припасенную бутылку и преданно глядел на гостя.
— Немедленно убрать! — раздался звенящий крик Артура. — Мастерская — это храм!
Ну что он нарывается?! — в ужасе думал я.
На другое утро я был у Дзыни в редакции.
— Да... тип еще тот! — уже почти с восторгом говорил Дзыня. — Все так переплетено — не распутаешь.
— А должно быть все отдельно? — поинтересовался я.
— ...Говорил он тебе, что бароном был?
— Говорил.
— А что является чемпионом Японии по борьбе сумо?
— Этого не говорил.
— Значит, скажет! — произнес Дзыня. — А про сомика своего рассказывал тебе?
— Про... какого сомика?
— Который... не лезет ни в какие ворота! — закричал Дзыня. — ...А вообще — завидую я ему. Такая жизнь! А может — все врет... — Дзыня вдруг сник. — Ты вот что, — он снова поднял лицо. — Ты съезди с ним девятого в Москву. Девятого, на праздник Победы, он в Москву ездит, на встречу с боевыми друзьями. У них и узнаешь, где правду он говорит, а где нет.
— Ну хорошо, — неуверенно согласился я.
Восьмого, в день отъезда, я собрал чемодан. Жена сварила макароны, подсаливая их собственными слезами.
— Не могу больше ходить в этих туфлях — разваливаются на ходу, — она показала туфли.
— Ничего — скоро выбросим их, — бодро проговорил я. — Подберем что-нибудь достойное тебя.
— А ручку мне купишь, папа? — улыбнулась дочь. — От этой, видишь, я в чернилах всегда с ног до головы!
— Скоро с золотым пером ручку купим тебе! — сказал я. — Сама будет вместо тебя уроки делать. Потерпите немного! — попросил я жену и дочь.
Перед отъездом моим мы сидели на кухне, смотрели в окно. Только отъезжающие куда-нибудь не спят в нашем районе в такое время. Все почти окна уже темные. Рано ложатся у нас. А что делать? Только мигает желтым огнем светофор на перекрестке, да зеленеет в провале темноты огонек такси, — но пока что такси не для меня. Да, тоскливо. Вдобавок ко всему неожиданно — в мае! — выпал снег, лежит на неподвижных машинах, на газонах.
— Ну все, — поднялся я. — Мне пора.
Ночь в вагоне я сидел в коридоре, на откидном стульчике, — и вдруг увидел торчащую из-под ковровой дорожки головку спички. И тут же, быстро оглянувшись, с какой-то звериной цепкостью выцарапал из-под коврика спичку и с колотящимся сердцем спрятал ее в нагрудный карман. И сам испугался: что это со мной? Неужели бедность настолько уже въелась в подсознание, что я так радуюсь дармовой спичке? Таких реакций раньше у себя не замечал...
До этого ночного сидения в коридоре произошла еще не очень приятная сцена между мной и Артуром — точнее, у Артура с проводником.
Для начала проводник, парень с выбившейся на брюхе мятой рубахой и мутным взглядом, пытался втиснуть в наше заполненное купе еще одного своего пассажира.
— Где же он спать-то будет? — услужливо подвигаясь перед пришельцем, пробормотал я.
— Ничего... прикорнет где-нибудь, — сыто и нагло поглядел на нас проводник.
— Вон отсюда! — вдруг рявкнул Артур.
Пассажир, который, в общем-то, был ни при чем, только что разве дал проводнику за проезд, посмотрел на прищуренные кошачьи глаза Артура и стал пятиться:
— Да ладно уж, — проговорил он, обращаясь к проводнику, — самому-то мне не очень охота... со зверьми ехать.
Он взял свой мешок и вышел.
— А ты, дядя, загремишь у меня отсюда, — спокойно сказал проводник Артуру.
Артур бросился на него, но проводник успел выйти и задвинуть дверь. Артур стал рвать ручку, но ехавший с ним друг, седой ветеран Тютюрин, схватил его за плечи и усадил.
— С тобой действительно не доедешь, — проговорил Тютюрин.
Некоторое время мы ехали молча, под гул колес и бряканье пепельницы.
— Ну ясно, чаю не дождешься от него! — вздохнул Тютюрин. — На боковую, что ли?
Дверь отъехала, и вошла пожилая женщина — четвертый наш пассажир с кипой мятого белья.
— Это что выдают, а? — проговорила она. — Грязь на грязи! И имеют еще наглость уверять, что получили такое!
Я пересел на другую полку, и она стала стелить.
— Поговорить, что ли? — с сомнением приподнялся Тютюрин.
— А, бесполезно, — я махнул рукой. — Всюду одно и то же. Полное их торжество! Везде у них своя команда. Недавно пытался посуду сдать — абсолютно то же самое... Огромная очередь в подвал — еле движется. Часа два простояли уже, вот-вот — и вдруг подъезжает грузовик: погрузка! Это значит — задержка еще на час! Спускаются из кузова двое коблов, из кабины — шофер. «Не могли в перерыв погрузить, — спрашиваю. — Не мучить чтобы нас?» — «Об этом, извини, не подумали», — абсолютно нагло отвечает он. И начинается погрузка. Причем сами они не грузят, находятся добровольцы из очереди, которым потом за работу властители эти без очереди позволят посуду сдать! И даже больше, чем нужно, добровольцев находится, некоторое даже столкновение происходит — кому грузить. А те смотрят, усмехаясь. Вот что особенно похабно! «Ладно — вот ты, ты и ты», — шофер выбирает. Те рьяно начинают грузить — эти стоят, улыбаются. «А почему вы-то не грузите? — я не стерпел. — Ведь это ваша, наверное, работа?» Шофер посмотрел на меня, потом произнес лениво: «Быдло работу любит!» Ну — что тут делать? С камнем бросаться на них — или самому вешаться? А эти грузчики-добровольцы мне же и говорят: «Отвали ты, со своими проблемами!» Тут вдруг шофер приносит из кабины ведро, и из каждого поднимаемого ящика небрежно выдергивает бутылку и швыряет в ведро. Сначала я своим глазам не поверил, головой затряс. Наверное, думаю, он битые бутылки отбирает, на ходу так зорко их отличая: все ж таки профессионал! Но вскоре рухнула и эта надежда — явно не глядя он бутылки выдергивает, первые попавшиеся: собирает дань. И главное — доброволец, который непосредственно поднимает ящики в кузов, заметив эту инициативу шофера, — перед тем как поднять ящик, протягивает его предварительно шоферу! — Я разговорился, разволновался... — Далее: закончили погрузку. Спускаются туда и закрываются там минут на сорок! Очередь терпеливо ждет! Потом выходит шофер, неторопливо проходит вдоль очереди, уходит в магазин. Возвращается — спокойно, не прячась, несет две бутылки коньяку. И что самое жуткое — в очереди защитники их находятся и даже поклонники! «И правильно, — говорят. — Люди живут, как нравится им. Что ж им, так жить, как мы, дураки, живем?» — «Правильно», — усмехается шофер. «Но когда все-таки будете принимать?» — спрашиваю я. Тут он остановился даже, с интересом посмотрел: что, мол, за такой выискался: борец — соленый огурец? «Когда, спрашиваешь? — спокойно мне отвечает. — ...Вчера!» И, страшно довольный собой, уходит в подвал. Не владею уже собой, бегу туда, дергаю дверь — он мне открывает, пьяно рыгая: «Нарваться все же решил?» Ну — что тут делать?..
— Ты еще спрашиваешь? — сверкнул взглядом Артур.
— Да их же команда целая! Да и очередь заступится, что я таким выдающимся людям мешаю отдыхать!
— Команда? — проговорил Артур. — Одному — ребром ладони по горлу, другому локтем в рот, третьему — пяткой в пах!
«Да, говорить-то легко», — хотел произнести я, но осекся: он-то, действительно, разговаривать бы не стал.
— Рыбья кровь! — презрительно произнес Артур.
— Ну — и тут то же самое, — не слушая его, обращаясь исключительно к женщине, рассудительно продолжал я. — Договариваются с бельевщиками на вокзале и вообще белье не берут. А выдают старое — по третьему-четвертому кругу деньги собирают. Сбрызнут его водой изо рта, и говорят, что из прачечной только, даже еще сырое. А почему грязное и мятое: так стирают теперь! И некоторые пассажиры довольны даже: раз здесь так плохо, значит, и им так же можно!
— И ты спал на таком белье? — процедил Артур.
Я хотел сказать ему, что у себя в мастерской он спит, кажется, вообще без белья, — но не сказал, почувствовав, что это дела разные и сравнивать их нельзя.
— А вы... не будете на нем спать? — язвительно проговорил я.
Артур быстро сдвинул дверь и выскочил в коридор. Мы с Тютюриным кинулись за ним. Поезд разошелся, кидало от стенки к стенке. У служебного купе шумела недовольная толпа.
— Возмутительно! — слышались голоса.
— Дома, небось, и не на таком спят, — усмехаясь, говорил проводник своему пассажиру, который теперь сидел у него. — А тут им подавай крахмал — вышкуриваются друг перед другом!
— Но почему же такое белье? — возмущался полковник в парадной форме.
— Такое, и все! — ответил проводник. — А будешь выступать — и такого не останется!
Заражаясь его наглостью, пассажир достал из сумки бутылку и, насмешливо глядя на других пассажиров, не облеченных высокой дружбой с проводником, разлил вино в два стакана.
— Немедленно выдать всем чистое белье! — появляясь в служебном купе, выкрикнул Артур.
— А тебе, дядя, все неймется! — лениво произнес проводник. — Ну, сделаю я тебе — в Бологом будешь ночевать!
Артур выкинул руку — и проводник повалился на столик. Артур рванулся вперед — нанести еще один, завершающий удар, но здоровый Тютюрин поднял его и отволок в купе.
— С тобой действительно не доедешь! — тяжело дыша, Тютюрин задвинул дверь.
Поезд вдруг остановился и долго стоял на каком-то маленьком темном полустанке.
Ну вот, тревожно вглядываясь в окно и видя лишь свое неясное отражение, думал я. Все ясно! Сейчас нас уведут в эту темноту, а ярко освещенный уютный поезд уедет без нас. Ну, влип. И главное — за что?
Но так никто за нами и не пришел, и поезд, постояв, со скрипом двинулся. И тут я впервые почувствовал закон, который потом очень мне помогал в дальнейшей жизни: не надо считать врагов всемогущими, у них тоже, наверняка, есть свои тяжелые проблемы, неизвестные нам, занимающие их мысли и силы, не надо представлять, что они все время думают лишь о тебе — больше ни о чем... а может быть — чем черт не шутит! — с ними случаются и приступы совестливости, останавливающие их...
— Ну слава богу, все вроде обошлось, — отворачиваясь от темного окна, с облегчением проговорил я.
— Рыбья кровь! — презрительно вымолвил Артур и, сбросив с верхней полки грязный матрас на меня, улегся на голой фанере и демонстративно захрапел. А я не мог уснуть целую ночь, сидел в коридоре, где и удалось мне добыть дармовую спичку из-под ковровой дорожки.
Поезд прибыл к какой-то старой, заброшенной платформе. Никогда раньше я к ней не подъезжал... или... было? Вдруг стали оживать и двигаться давние воспоминания: я был на этой платформе с матерью и отцом... когда? Примерно двадцать пять лет назад! Мы тогда последний раз все вместе приехали в Москву — как раз, кажется, в мае? Теперь-то я понимаю уже, что родители подались тогда в столицу с отчаяния, — видимо, мама уговорила отца на последнюю попытку, и они поехали в Москву, робко надеясь, что праздничная столица и старые друзья их и близкие родственники еще раз помогут им, поднимут их дух и удержат их вместе, — дома на это надежды уже не осталось.
Отец мамы, московский академик, сняв шляпу и открыв голову с серебряным бобриком, шел к нам.
У платформы нас ждала длинная черная машина... И все напрасно! Помню, я был ошарашен ее огромным, тускло освещенным нутром; особенно меня занимал маленький стульчик, вынимающийся к полу из спинки переднего кресла, я то робко вынимал его, то снова убирал. Потом, посаженный папой на колени, слегка уколовшийся о его щетину, я вдруг увидел за окном рой праздничных шариков на палке, радостно закричал — и шарик (тогда шарики еще летали) был впущен в машину...
Потом помню нас в роскошном магазине с высоким фигурным потолком, — потолок я помню потому, что к нему, вырвавшись из рук, улетел мой шарик. Кто-то со шваброй в руках лез под потолок (была, значит, у деда сила и власть — но не помогла она нам, не помогла!), шарик был торжественно мне вручен, я подбежал к маме и папе, но лица у них были расстроенные, отвлеченные.
Потом помню, как в зеркальном фойе театра мать (перед началом или в антракте?), очаровательно кокетничая, весело и молодо вертелась перед зеркалом, — но пронзительную тревогу всего происходящего, непонятную, но очень мною ощутимую, я ясно запомнил. Потом помню багрово-серебристый бархат ложи, солидный черный рукав деда-академика, ставящего на барьер открытую коробку шоколадных конфет в гофрированных золотых юбочках.
Больше я не помню почти ничего... Смутно: я в коридоре с какой-то игрушкой, и открывается дверь в темноту, и возвращаются из каких-то гостей расстроенные, молчаливые мать и отец. Представляю, как грустен был обратный путь, когда последняя надежда — Москва — не помогла и они ехали к своему расставанию! Как виновато, наверное, отводили глаза при провожании их родственники и друзья, не справившиеся с непосильной задачей — вернуть молодость и счастье!
И что было бы тогда с родителями, если бы сумели они через толщу лет разглядеть теперешнего меня, безуспешно пытающегося стремительностью движений скрыть свою неуверенность, суетливо заспешившего — в нелепой надежде...
Седой кок Артура маячил впереди — он горячо лобзался с каким-то генералом.
— Это мой секретарь... можно не знакомиться, — небрежно проговорил Артур, глянув на меня.
Потом я забежал к родственникам, живущим неподалеку, слегка поднаврал им о важности моего визита в Москву, потом успел еще по дороге заскочить в «Детский мир», купить дочурке особых московских тетрадушек (очень их любит), и, радостный, пошагал вниз, к скверу Большого театра, где собираются ветераны. Всюду играли оркестры, и я радовался, что шагаю в ногу со всеми.
Увидев моего героя, я несколько подрасстроился — вся зыбкость моих надежд предстала передо мной. В толпе ветеранов найти Артура было легко. О боже! На что мне надеяться? На голове его красовался кок, на шее — бабочка в крупный горошек. Не то, все не то, что нужно, — требовалось абсолютно другое. А так, как он, одевались лишь стиляги в пятидесятых годах. Где раздобыл он такие вещи — было неясно. Даже его возлюбленная — дочь Рокфеллера — вряд ли одобрила бы такой наряд!
Держался он, правда, абсолютно уверенно, все его движения источали власть. Я неожиданно убедился, что и многие наши генералы уважают его — не только де Голль.
Потом, когда все начали разбредаться и Артур оказался вдвоем, видимо, с самым близким своим другом в кафе на бульваре, я через некоторое время присоединился к ним.
— Мой секретарь, — опять же небрежно представил меня Артур.
— С великим человеком работаете! — сказал мне друг, когда Артур удалился к стойке. — Знаете, что сделал он? Вдвоем еще с одним захватили укрепленный форт, охраняемый целой зондеркомандой.
— А... как?
— Да просто... на словах если. Влезли ночью, по скале, сняли часового, вошли в казарму. Артур рявкнул по-немецки: «Встать!» Все вскочили в переполохе — ну они всех и положили из автоматов.
— А Артур... знает по-немецки? — спросил я.
— Артур? — удивленно улыбнулся друг. — Да он на каком хочешь может говорить... даже если не знает.
Мы засмеялись.
— Встать! — раздался над нами голос Артура. — Первый тост пьем стоя! Ты можешь сидеть, — снова унизил меня Артур, но я уже больше не унизился, а захохотал.
Через некоторое время, покинув их, я шел по бульварному кольцу. Я понял наконец-то главное, что мне давно уже следовало понять: среди победителей в этой войне были люди самые разные, и в их числе был и Артур, — и не всем обязательно нужно походить на каноническую скульптуру воина-освободителя.
Я уже прикидывал, как пишу роман о нетипичном герое (с чего и начинается мое бешеное восхождение к славе).
Вот (я уже ясно представлял себе) на какой-то роскошной вилле устраивается празднество в мою честь — длинные столы поставлены под открытым небом. Благоухают цветы, порхают бабочки.
— Неплохо, — говорю. — Очень неплохо. Но бабочек прошу заменить!
Другой кадр: при огромном стечении народа выносят мой гроб. Тут же вспыхивают бешеные рукоплескания, возгласы: «Качать! Качать!»
Замечтавшись, я чуть не угодил под машину, на которой ехал военный оркестр.
Вечер я уютно провел у родственников и в радостном настроении пришел на поезд. Ветеранов моих еще не было. Счастливо вздохнув, я раскинулся на сиденье. Вдруг дверь в купе отъехала и вошла моя любимая зубная врачиха Марго!
Вот это да! Наконец-то! Наконец-то и мне пошла карта! Я стал раскидывать по столу богатые подорожники, созданные родственниками. Марго вроде бы тоже радовалась, рассказывала, что ездила ставить зубной мост одному маршалу, — в общем, жизнь ее шла удачно.
— Хоть бы загуляли мои друзья, хоть бы не пришли! — молил я бога войны Марса.
Но гвардейцы не упускают побед — именно потому они и есть гвардейцы!
За минуту до отхода поезда в коридоре послышалось грозное пение. В дверях купе появились Артур и его верный спутник Тютюрин. Они, не замечая нас, спели несколько песен, потом, когда Артур вышел, Тютюрин резко залез на верхнюю полку и захрапел. Вернулся переодевшийся в роскошный халат и феску Артур — и внезапно начал бешеный штурм нашей спутницы. Сначала, обидевшись на Артура за то, что он разрушил наш с ней роман, она отвечала отрывисто и сухо, поглядывала в окно, потом безумный напор этого человека начал действовать и на нее, она стала поглядывать на рассказчика, отрывисто похохатывать.
— И вот, ребяты мои, орляты, я выхватываю мой верный манлихер... — вдохновенно излагал он.
...Так и не дождавшись перерыва в его рассказах (действие которых перенеслось уже в его баронский замок), я сдался, забрался на верхнюю полку и уснул. Проснулся я среди ночи: с чего бы это? И сразу же понял с чего! Так я мычал, а она ласково шептала, когда лечила мне зуб!
И при этом мне еще нужно было лежать в моем гробике не шелохнувшись, чтобы не дай бог они не поняли, что я не сплю!
Успокоенный наступившим наконец затишьем, я начал дремать — но тут они принялись за второй «зуб»!
Так и не сумев превратиться в мышку, я грузно спрыгнул с полки, рванув дверь, вышел в коридор, стоял в холодном прокуренном тамбуре, изображая курение, хотя курить мне нисколько не хотелось.
Когда — за полчаса до прибытия — я вошел, наконец, в купе, Артур, переливаясь своим халатом, небрежно курил (прямо в купе!) длинный изогнутый кальян, а Марго (о женщины!) хлопотливо угощала его моими подорожниками.
На платформу я вышел один. Я понимал уже, что с романом об Артуре все плохо и, если я пойду с ним, он приведет меня к краху. Из сцен, подобных только что кончившейся, «надежного» романа, любимого начальством, не выйдет, — а без подобного рода сцен Артур не будет Артуром. Только он ни в чем не сомневался — покровительственно-небрежно прошествовал рядом с Марго.
Расстроенный я заскочил домой и направился в редакцию.
— Вукол Дмитриевич на совещании! — сказала секретарша.
Я рванулся к выходу, потом вернулся:
— А где совещание?
— На Пятой линии.
В заседании как раз был объявлен перерыв. Вукол Дмитриевич (то есть, по-нашему, Дзыня) шел рядом с каким-то маститым, в кожаном пиджаке, делая почему-то вдвое больше шагов, чем тот, хотя и двигаясь абсолютно вровень. В руке Дзыни, деликатно удерживаемой на отлете, была тарелочка с двумя румяными, видимо, особо дефицитными сырниками.
— Дзыня! — заорал я.
Чопорно извинившись перед маститым, Дзыня неторопливо подошел ко мне.
— Ты что, с ума сошел? — краешком рта проговорил он.
— Здорово! — я что-то обрадовался вдруг ему, схватил его за руку, два раза тряхнул, сырники дважды подпрыгнули на тарелке.
— Как съездил? — спросил Дзыня, почему-то глядя не на меня, а озираясь вокруг.
Я простодушно рассказал.
— Слушай сюда, — краешком рта заговорил он. — Об Артуре этом забудь. Погубит он — и тебя, и меня. Понял, да? Учти: осторожность заменяет мне ум! — он коротко улыбнулся и снова помрачнел.
Потом я уныло ехал домой. Жена и дочка ни о чем уже не спрашивали меня. Я напечатал Артуру записку — о том, что романа о нем в ближайшее десятилетие не намечается, поскольку образ его не совсем соответствует... и пусть он подыскивает себе другого секретаря!
Видеть его лишний раз я, естественно, не хотел — поэтому вставил послание в дверную щель.
Вечером я был у Дзыни — мы позволили себе разговориться несколько откровеннее, нежели на совещании.
— Не получается жизнь! — горевал Дзыня. — Не прожить нам такую жизнь... как этот прожил!
— Потому что — рыбья кровь! — с отчаянием пояснил я. — Огня нет! Давно все кончилось, в юности уже... А помнишь, как однажды весной мы к девушкам приставали на углу? Было ведь! Ты изображал коня на скаку, а я — горящую избу.
— Помню, конечно! — Дзыня вдруг зарыдал.
Домой я вернулся поздно. Зажег в кабинете свет — и не поверил своим глазам. Все стены в кабинете были заляпаны какими-то кляксами, прилипшими темными бомбочками с бордовым выбросом.
— Что это? — изумился я.
— Да это бешеный твой прибегал... Артур, — сказала жена, входя в кабинет. — Сначала говорил долго, как тебя презирает, потом вдруг клюкву из кулька начал в стены швырять.
— Почему клюкву-то? — удивился я.
— А я знаю? — ответила жена.
Моя рыбья кровь понемногу закипала.
Третьи будут первыми
В последний день перед отлетом на конференцию вдруг решено было взять вместо меня уборщицу. Ну что ж, это можно понять: от меня — какой толк? Ну — отбубню я свое сообщение, и все, — а та и уберет, и постирает, к тому же — молодая очаровательная женщина — это тоже немаловажно!
Но, к счастью для меня, уборщица от поездки отказалась — то ли муж ей не разрешил, то ли ребенок, точно не известно. Таким образом, один я поехал такой, остальные — начальники, хотя они к теме конференции ни малейшего отношения не имели.
Правда, в самолете я вдруг старого друга своего Леху встретил — давно не виделись.
— А ты откуда здесь взялся? — я удивился.
— Не было б счастья, да несчастье помогло! — Леха усмехнулся. — У шефа теща заболела — так что я вместо нее!
С самолета нас в элегантнейший отель привезли, — правда, нас с Лехой сунули в каморки на последнем этаже. Вышел я на балкон — на соседнем балконе Леха стоит.
— Вот так вот! — горестно говорит. — А ты как думал? Ну ничего! — злобно усмехнулся. — Мне сверху видно все — ты так и знай!
— Наверное, — говорю, — надо уже в холл спускаться, все, наверное, уже там?
Долго до нас лифт не доходил, наконец поймали, спустились в холл.
Вскоре вслед за нами сам Златоперстский спустился со своими питомцами — Трубецкой, Скукоженский, Ида Колодвиженская, Здецкий, Хехль.
— Да... дружная команда! — исподлобья глядя на них, Леха пробормотал.
Тут маленький человек появился, в огромной кепке, с некоторыми здоровался, некоторых пропускал.
— А это кто? — испуганно я Леху спросил.
— С луны, что ли, свалился? — Леха говорит. — Это ж сам директор гостиницы, товарищ Носия! От него все здесь зависит!
— Неужто все?
Леха в ответ только рукой махнул, злобно отошел. А я на доске объявлений маленькое объявленьице увидел: «Не получившие командировочные могут получить их здесь, в комнате 306».
Радостно поднялся. Но Блинохватова, начальница оргкомитета, железная женщина, ни копейки мне не дала. Сказала, что вместо меня в списках значится уборщица, с женской фамилией, так что мне с моей мужской денег вовек не видать, — причем с торжеством это сказала, даже с какой-то радостью — вот странно!
Спустился, снова в холле Леху нашел, все ему рассказал.
— А ты как думал? — Леха говорит. — С нами только так! Кстати — вся головка сейчас на пикник приглашена — почему-то на насыпи, — а про нас с тобой не вспомнил никто.
— Неужели никто? — я огорчился.
— А к тебе обращался кто-нибудь? — Леха вздохнул. — Вот то-то и оно!
— Да-а! — горестно говорю. — Кстати — странно: когда шел я по этажу, горничные дорожки убирали, за ними рабочие в заляпанных спецовках линолеум сдирали. К чему бы это?
— А ты не понимаешь? — Леха говорит. — Товарищ Носия хочет одновременно с нашей конференцией ремонт провести — поэтому он так и задабривает наше начальство!
— А зачем — ремонт-то? И так аккуратно, — я огляделся.
— Не понимаешь, что ли? — Леха разозлился. — После каждого ремонта у него еще одна дача появляется — как же не ремонтировать?
— А как же нам конферировать? — говорю. — Никуда будет не пройти — все разрушается!
— А это уже, как говорится, дело десятое! — Леха усмехнулся.
Потом мы с Лехой ползли по горам песка, к железнодорожной насыпи. Все приглашенные уже там собрались: и Златоперстский, и Трубецкой, и Блинохватова, и Ида Колодвиженская, и Здецкий, и Крепконосов.
Златоперстский, покровительственно улыбаясь, рассказывал про Париж — для пикника, конечно, лучшей темы не найти:
— И вот приезжаем мы на Сант-Дени... и как бы уже путешествуем во времени!
«Главное — что ты в пространстве можешь путешествовать!» — злобно подумал я.
Все сползают по песку, но сразу же снова карабкаются вверх.
В центре, естественно, Носия возвышается. Вдруг звонок. Носия поднял свою большую кепку, лежащую на песке, — под ней оказался телефон.
— Слушаю! — надменно проговорил.
Смотрел я на этот праздник, и слезы душили: «Что ж такое? Что у меня за судьба? Всегда я как-то в стороне, на отшибе обоймы!»
Приползли обратно в гостиницу — Леха говорит:
— Все! Хватит дураками быть!
— Думаешь — хватит?..
— Надо что-то предпринимать!
— Думаешь — надо?
— А — ты вообще — вне времени и пространства! — Леха махнул рукой, стремительно ушел.
Вечером уже я робко ему постучал. Он долго не отзывался, наконец глухо откликнулся:
— Кто?
— Я — кто же еще?
Леха высунул в коридор взлохмаченную голову, бдительно огляделся:
— ...Заходь!
Зашел я — и даже не сразу понял, что живет он в таком же номере, как и я: на столе стояли мокрые сапоги, кровать застилал какой-то зипун, пол был покрыт каким-то темным распластанным телом.
— Кто это? — испуганно глянул я на тело.
— Да это Яка Лягушов. Отличный, кстати, мужик. Пущай пока полежит... Выйдем-ка!
Мы вышли.
— Зайдем тут... здоровье поправим, — Леха сказал.
— Да я денег не получил!
— Ладно! С деньгами и дурак может. Пошли!
Из соседнего номера доносился стук машинки.
— Машинки у них есть! — проговорил Леха. — А я свою должен был продать, чтобы внуку порты купить!
До этого у него и детей не было — и вдруг — сразу внук!
Мы спустились в уютный тускло освещенный бар, и Леха сказал бармену, указывая на бутылку:
— По двести нам нацеди... под конференцию!
Бармен безмолвно нацедил.
— Колоссально! А я и не знал! — обрадовался я.
— Ты много еще чего не знаешь! — зловеще Леха сказал.
Я испуганно поставил фужер.
— Насчет этого не сомневайся! — Леха положил мне руку на плечо. — Есть указание: под конференцию — наливать! Только этим не говори...
— Кому — этим?
— Ты что — не понимаешь, что ли? И так Златоперстский с командой своей все захватил — теперь еще и это им отдавать? — Леха бережно загородил мощной рукой хрупкий фужер.
— А, ну ясно! — я повторил его жест.
— Есть нашенские ребятки тут, есть! — радостно прихлебывая, заговорил он. — Иду это по коридору я — навстречу мне — Генка Хухрец! «Ты?» — «Я!» — «Здорово!» — «Здорово!» Обнялись. «Ну что, — говорит, — я могу сделать для тебя?» И — вот! — Леха гордо обвел рукой тускло освещенные стены. — ...Кстати — ты с нами, нет?
— ...А вы кто?
— А! — Леха с отчаянием рукой махнул. — Ну что надо тебе? Скажи — сделаем!
— Да я даже как-то не знаю... — я забормотал.
— Не знаешь ничего — потому и не хочешь! — Леха сказал. — Ну хочешь — тренером в Венесуэлу устроим тебя? Момент! — Леха прямо в фужере набрал пальцем телефонный номер. — Алле! Генаха, ты? Тут со мной один чудило сидит — можем в Венесуэлу его послать? Говоришь: «О чем речь?» — Леха захохотал. — Ну ясно! Он свяжется с тобой!.. Только-то и делов! — поворачиваясь ко мне, Леха сказал. — А может, ты, наоборот, — он окинул меня орлиным взором, — в глубинку куда-нибудь желаешь? Это мы мигом! — он быстро рванулся к бару, принес фужер размером с торшер. — Алле! Генаха? Снова я. Тут куражится наш-то — может, в порт Находка его пошлем? Сделаешь? Ну, хоп!
В течение получаса я довольно холодно уже наблюдал за стремительными своими взлетами и падениями — в конце концов я уже ехал в Боготу через Бугульму... но тут Леха устал.
— Ладно, — проговорил он. — Договорились, в общих чертах! Пойду гляну, как Яка Лягушов там лежит.
В этот момент в бар вошел Скукоженский, подошел к стойке и, явно не зная самого главного, заказал себе скромный кофе.
Леха злорадно подтолкнул меня локтем, подмигнул.
— Эй ты, Скукоженский! Не признал, что ли? Чего не здороваешься? — внутренне ликуя, привязался Леха к нему.
— Я уже, кажется, говорил вам, что моя фамилия Скуко-Женский! — надменно дернув плечом, проговорил тот.
— Ой, извини, подзабыл маленько! — юродствуя, завопил Леха и, потрепав Скуко-Женского по спине и заговорщически подмигнув мне, ушел.
— Можно вас — буквально на долю секунды? — с изысканной вежливостью обратился вдруг ко мне Скуко-Женский.
— Пожалуйста, пожалуйста! — я торопливо пересел к нему.
— Сначала — о деле, — сухо проговорил он.
Как будто потом мы с ним часами будем говорить о душе!
— ...Ваш доклад поставлен на завтра.
— Ну?! Это хорошо! — я обрадовался.
— Теперь — мелочи. Как вы считаете... этот... — он пренебрежительно кивнул вслед ушедшему Лехе, — окончательно потерял человеческий облик или еще нет?
— Ну, знаете! — я встал. — Эта работа не по мне! Даже если бы я и знал что-то — все равно бы не сказал!.. Значит — завтра? Огромное вам спасибо! — я поклонился.
— Кстати, — проговорил вдруг он. — Не советую вам в вашем докладе... очень уж заострять некоторые вопросы — есть люди более компетентные, которые сделают это лучше вас!
— Спасибо, разберусь как-нибудь! — я ушел.
Выскочил я оттуда с ощущением счастья — как хорошо, что все это кончилось!
Но оказалось — нет! Я быстро шел по коридору к номеру — вдруг какая-то дверка распахнулась, оттуда пар повалил, высунулась голова. Я испуганно шарахнулся... Леха.
— Заходь!
Я зашел (это оказался предбанник), сел.
— Ну как? — кутаясь в простыню, Леха усмехнулся. — Златоперстцы эти... уже выспались на тебе?
— В каком смысле?
— Ну — заставили уже что-нибудь делать для них?
— Абсолютно нет!
— Ладно, это мы будем глядеть! Раздевайся!
Я задумчиво стал раздеваться. Появилась старуха в грязном халате, с темным лицом.
— Слышь, Самсонна! — мелко почесываясь, Леха заговорил. — Дай-ка нам с корешем пивка!
— Где я тебе его возьму? — рявкнула она.
Леха подмигнул мне: «Во дает!»
— Слышь, Самсонна! — куражился он. — Веников дай!
— Шваброй счас как тресну тебе! — отвечала Самсонна.
Я огляделся... Собственно — из роскоши тут имелась одна Самсонна, но большего, видимо, и не полагалось.
Мы вошли в мыльную. Тут были уже голые Лехины союзники — Никпёсов, Щас, Малодранов, Елдым, Вислоплюев, Темяшин.
Леха быстро соорудил себе из мыла кудри и бородку.
— Можешь одну штукенцию сделать? — наклоняясь к моему тазу, проговорил он.
— Какую именно?
— Выступить против Златоперстского. А то — из наших кто вякнет, сразу смекнут, откуда ветер, а так — вроде как объективно...
— Да я совсем не знаю его... — я пробормотал.
— Ну и что? — Леха проговорил.
— Да нет... не хочу! — стряхивая мыло, я стал пятиться к выходу.
— Крепконосов за нас... Ухайданцев подъедет! — выкрикивал Леха.
— Нет!
— Чистеньким хочет остаться! — крикнул Елдым.
Я вдруг увидел, что они окружают меня.
Пока не стали бить меня шайками, я выскочил.
Тяжело дыша, я подходил к номеру... Ну, дела!
Следующие три часа я работал, писал свое выступление и по привычке, автоматически уже, жевал бумагу и плевал в стену перед собой... такая привычка! В конце — опомнился, увидел присохшие комки, ужаснулся: ведь я же не дома! И не отковырнуть — для прочности я добавляю туда немного цемента.
Раздался стук в дверь. Я вздрогнул... Леха.
— Ну — а для переговоров с ними ты пойдешь? Ведь, надеюсь, ты не против переговоров?
— Нет.
Оделся, пошли. Спустились в бельэтаж, постучались. Долгая тишина, потом:
— Да-да!
Открыли дверь, вошли.
Златоперстский, величественный, седой, сидит в кресле. Вокруг него суетятся его ученики: Здецкий мелким ножичком нарезает плоды дерева By, Скуко-Женский, мучительно хватаясь за виски, варит какой-то особый кофе.
Златоперстский долго неподвижно смотрел на нас, потом вдруг вспомнил почему-то:
— Да! Колбаса!
Стал лихорадочно
накручивать диск, договариваться о какой-то колбасе... Наконец договорился, повернулся к нам:
— Слушаю вас!
Я открыл рот и тут внезапно страшно чихнул, чихом был отброшен к стене.
— Дело в том... — заговорил. И снова чихнул. Третьим чихом был вышвырнут за дверь. Потом меня кидало по всей гостинице, с этажа на этаж, потом оказался в своем номере, прилег отдохнуть.
Некоторое время спустя Леха явился, тоже весь растерзанный — но не физически, а духовно.
— Я запутался! — застонал.
— Так распутайся! — говорю. — Моральные изменения, в отличие от физических, не требуют абсолютно никакого времени!
— Ты прав! — снова заметался. — Они думают — купили меня! Заткнули мне рот икрой! Не выйдет!
— Ты о ком? — удивленно говорю.
— Блинохватова с Носией купили меня! Вернее, пытались! Дешево дают! — куда-то выбежал.
Только сел я за статью — является толпа маляров, под предводительством Блинохватовой, выносят мебель.
— Я готовлюсь к выступлению... я участник! — пытался выкрикивать, вцепившись в стол, пока меня вместе со столом по коридору несли. Вынесли в Зимний сад, превращенный в склад.
— Это возмутительно, что вы творите! — Блинохватовой сказал.
— И до меня доберемся! — гордо, во весь голос, Блинохватова ответила. Надменно ушла.
Работал полночи, потом уснул. Рано утром проснулся, умылся из фонтана... К назначенному часу вошел в зал заседаний... Ни души! Куда же все делись? Выглянул в окно: все, празднично одетые, садились в автобусы... Снова пикник?
— Ты вне игры, старик, вот в чем беда! — сказал мне Леха, когда я подошел.
— А ты?
— Я? Я продался! — Леха рубаху рванул, но не порвал. — Сейчас все едут в горы, закапывать капсулу с посланием в тридцатый век, а потом в ресторан «Дупло», и съедают все живое в округе! Я подлец! Подлец! — Леха бросил надменный взгляд в автобусное зеркальце. — ...Понимаю — ты выше этого! — уже нетерпеливо проговорил он.
— А разве можно быть ниже? — удивился я. — ...Ну, а что Златоперстский? — для вежливости поинтересовался я. — ...Надеюсь — удалось произвести отталкивающее впечатление?
— Тебе удалось! — горестно Леха вздохнул. — А мне — нет! — он снова в отчаянии рванул рубаху.
Вечером я подкрался по оврагу к ресторану «Дупло», прильнул к щели... В «Дупле» оказались все: и Носия, и Златоперстский, и Скуко-Женский, и Ида Колодвиженская, и Хехль, и Здецкий, и Джемов, и Щас, и Никпёсов, и Елдым, и Вислоплюев, и Слёгкимпаров, и Ухайданцев, и Крепконосов, и Яка Лягушов, и Пуп. Леха, рыдая, опускал в котел с кипящей водой раков, давая перед этим каждому раку укусить себя. Все пели песню о загубленной жизни. Златоперстский брезгливо подпевал. Блинохватова танцевала на столе — но в строгой, сдержанной манере. На горячее был сыч запеченный.
— Еще сыча! — протягивая руку, воскликнул Елдым.
И тут на пороге появился я.
— Как вы нас нашли? — воскликнули сразу же несколько голосов.
— По запаху! — ответил я, и в ту же секунду меня уже били.
— Вам бы немножко амбы! — успел только выкрикнуть я.
...Очнувшись, я увидел перед глазами комки земли... вдруг один ком зашевелился... скакнул... лягушка! Я стал прыгать за ней, потом распрямился, потом побежал. Впереди меня по ущелью гнался Леха за испуганной лисой, рвал на груди рубаху, кричал:
— Ну — куси! Куси!
Потом я выбрался в долину. Было светло. Магазины уже открывали свои объятья.
Я подошел к гостинице. Ее уже не было — Носия уже успел разобрать ее. Все участники сидели под небом на стульях, поставив тарелки с супом на головы, осторожно зачерпывали ложками, несли ко рту. Потом ставили на головы стаканы, лили из чайников кипяток, размешивали ложечками.
Оказалось: вчера на пикнике, скушав все вокруг, они захотели отведать белены — и это сказалось. Красивые белые машины подъезжали к ним, люди в белых халатах помогали войти...
Вот на тропинке показался Леха. Видимо — он все-таки уговорил лису укусить его. Сначала он шел по тропинке абсолютно ровно — потом вдруг метнулся в курятник, раздался гвалт. Через минуту санитары повели и его. Он шел с гордо поднятой головой, пытаясь сдуть с верхней губы окровавленную пушинку.
— А ты говоришь — почему седеют рано! — скорбно произнес он, поравнявшись со мной.
Все уехали. А я пошел в степь. И вот вокруг уже не было ничего — только заросший травой колодец. Я заглянул туда — отражение закачалось глубоко внизу.
— Господи! Что же за жизнь такая?! — крикнул я.
— ...Все будет нормально! — послышалось оттуда.
В городе Ю.
А все с того началось, что я Генку Хухреца встретил, — Леха пересел на свободное место на моей полке и, горячо дыша, начал исповедь. — До того, ты знаешь, я всего лишь сменным мастером был, газгольдеры, то-се, и вдруг Геха мне говорит: «Хочешь мюзик-холлом командовать? Какие девочки там — видал?» Говорю: «Только на афишах!» Ржет: «Увидишь вблизи!» ...А все со школы еще началось: там Геха, по правде говоря, слабовато тянул, никто не водился с ним, один я. И вот результат! «Только усеки, — говорит. — За кордон с ними поедешь — чтобы ни-ни! С этим строго у нас! Но зато — как приедете в какую-нибудь Рязань!.. Любую в номер! Они девочки вышколенные, команды понимают!»
— Это — ты говоришь или Геха? — слегка смутившись, пробормотал я, пытаясь увести разговор в сторону, запутать его в филологических тонкостях.
— Он. И я это тебе говорю! Приезжаешь в какую-нибудь Рязань...
— Почему именно в Рязань-то?
— Ну — в Рязань, в Казань... — миролюбиво проговорил Леха.
— А... ясно. И почему ж ты не с ними сейчас?
— Сорвался я! — скорбно воскликнул он.
— В Рязани? — изумился я.
— При чем здесь Рязань? Как в Рязани можно сорваться? В этом гадском Париже все произошло!
— В гадском?
— Ну а в каком же, по-твоему, еще? — уязвленно воскликнул он. — Разве ж это город? Бедлам! Легко там, думаешь, коллективом руководить?
— А... тяжело?
— Дурочку изображаешь, да? Днем, вместо репетиций, по улицам шастают, после спектакля для блезиру в гостиницу зайдут и на всю ночь — опять! У меня нервы тоже, понимаешь, не железные — пробегал четыре ночи в квартале Сант-Дени, гадостей всяких насмотрелся, наших никого не нашел — и под утро уже пятой, кажется, ночи, часа в четыре к одной нашей артисточке в номер зашел — проверить, работает ли у нее отопление. И ведь точно знал — с жонглером нашим живет, а тут фу-ты ну-ты — на дыбы!
— А как — на дыбы?
— Сковородой жахнула меня!
— Сковородой?.. А откуда ж у них в номере сковороды?
— Ты что — с крыши свалился, что ли? — перекривился он. — Известно ведь: хоть и запрещено, а они все равно жратву в номере готовят, чтоб валюту не тратить! Примуса, керосинки — как в коммуналке какой-нибудь! Суп в бидэ кипятильником варят!
— И... что? — по возможности нейтрально спросил я.
— И все! — Леха тяжко вздохнул. — С той сковороды и начался в моей голове какой-то сдвиг! Тут же, этой артистке ни слова не сказав, пошел в номер к себе, вынул из наволочки всю валюту — всей группы, я имею в виду, и рванул в казино (неизвестно еще, откуда я дорогу туда знал!). Не сворачивая, пришел, сел в рулетку играть и с ходу выиграл пятьсот тысяч — не иначе, как специально мне подстроили это! В общем, когда дождливым утром выходили все на авеню Мак-Магон, чтобы в автобусы садиться, на репетицию ехать, вдруг громкие звуки джаза раздались, и с площади Этуаль процессия появилась... Впереди джаз шел... из одного кабака... за ним девушки с Пляс Пигаль маршировали, а за ними, — Леха стыдливо потупился, — четыре нубийца меня на паланкине несли... я в пуховом халате, скрестив ноги, сидел, и в чалме! — Леха прерывисто вздохнул.
— Ясно... — сказал я. — И после этого, значит, тебя сюда?
— Да нет, не сразу сюда, — после долгой паузы проговорил Леха. — После этого я еще симфоническим оркестром руководил. Не то, конечно! — с болью выкрикнул он. — ...И в самолете на Нью-Йорк с гобоистом подрался одним. В океан хотел выкинуть его! — Леха всхлипнул. — И все после той проклятой сковороды — то и дело заскоки случаются у меня! А артистке той — хоть бы что, в Москве уже работает, говорят! — он снова всхлипнул.
Да-а-а... зря я связал с этим затейником мою судьбу! — в который уже раз подумал я. Вряд ли получится из этого что-то хорошее. Но так надоели неопределенность, скитания по редакциям, халтура на телевидении, так хотелось чего-то твердого и определенного!
— А что тебе... Геха обещал? — уже не в первый раз стыдливо поинтересовался я.
— Да уж крупное что-нибудь, не боись! — с ходу приободрившись, ответил Леха. — Раз уж Геха за главного тут — без работы, не боись, не останусь! А где я — там уж и ты! Старый кореш, что ни говори!
Да, действительно, дружим мы с Лехой давно, вместе учились еще в институте... как скромно мы когда-то начинали — и как нескромно заканчиваем!
— Для начала обещал управляющим театрами меня назначить! — весомо проговорил он.
— Но ведь в Ю., насколько я знаю, один театр, — засомневался я. — Может — директором театра тебя?
В лице его неожиданно появилась надменность.
— Я, кажется, ясно сказал — управляющий театрами! Ради одного театра, мелочевки такой, я бы не поехал сюда — не тот случай!
— А где тебе остальные театры возьмут? Построят, что ли? — Я все не мог поверить в осмысленность поездки.
— Это пусть тебя не колышет! — высокомерно ответил он. — А уж только заступлю — на первое свободное место — тебя. А не будет — так освободим! Как-никак — опыт руководства есть!
Я хотел было спросить, имеет он в виду случай со сковородой или что-то еще, но вовремя удержался: все-таки теперь я зависел от него, а шуток, насколько мне известно, он не любил.
— Ну ладно... спать давай... утро вечера мудренее! — зевнул он.
— Мудрёнее! — усмехнулся я.
— Ну ладно. Это твое дело — словами играть! — снисходительно проговорил он и начал раздеваться.
Спал он бурно, метался, хрипло требовал ландышей. С трудом удалось разбудить его за полчаса до вокзала — он дышал прерывисто, по лицу его текли слезы.
— Видел поленницу до неба, старик! — взволнованно проговорил он. — К большой судьбе!
Я хотел осторожно сказать, что поленница — сооружение шаткое, но промолчал. Поезд, притормаживая, стал крупно дрожать, наши щеки затряслись.
Судорожно зевая, размазывая слезы, мы вошли в освещенный голубым призрачным светом вокзал. Прилечь или даже присесть в этом зале, напоминающем диораму Бородинской битвы, было негде... почему такому количеству народа необходимо было находиться на вокзале в четыре утра — было неясно!
Правда, какой-то старичок, оказавшийся рядом, сразу же стал услужливо объяснять мне, что по прихоти купца Харитонова вокзал выстроен в пятидесяти верстах от города, на горе, а с транспортом в городе нынче туго — поэтому все, приехавшие ночью, сидят здесь. Не знаю, чего ждал от меня этот старичок, — я сказал ему «спасибо» и пошел дальше. Леха вышел в холод, во тьму, и вернулся, торжествуя.
— Ну, ты! Надолго тут расположился? Машина ждет!
— Вот это да! — ликуя, подумал я. Не зря, действительно, я приехал в этот город!
Правда, в гостинице оказался абонирован двухместный номер, не два отдельных, как Леха предполагал, — это как-то сразу надломило его, он начал зевать.
— Ладно... поспим малехо, — злобно проговорил он и начал раздеваться.
— Слушай, — не удержался я. — А почему ты все время в ушанке спишь? Ну — в поезде — более-менее понятно еще, мороз был, а здесь-то зачем?
Он оглянулся по сторонам, глаза его блеснули безумным огнем.
— А потому, — прошептал он, — что в шапке у меня... шестьдесят пять тысяч зашито... заработанных честным, беспробудным трудом! — добавил он.
Я хотел спросить, считает ли он честной работой свои подвиги в Париже, — но промолчал.
Поспать так и не удалось. Тут же зазвонил телефон, Леха схватил трубку.
— Геха, ты? — он радостно захохотал. Дальше он слушал, только крякая и кивая, надуваясь восторгом все больше. — Ну, есть! Ну, все! — проговорил он и повесил трубку. — ...Управляющий всей культурой, старик! — радостно проговорил он и погляделся в зеркало.
— Поздравляю от души! — сказал я. «А есть тут — культура?» — хотел спросить я, но не спросил.
Тут же раздался еще звонок — от каждой фразы второго разговора распирало его еще сильней.
— Тэк... тэк... — только приговаривал он. — Тэк! — он повесил трубку. — Женщина, старик! — ликующе воскликнул он. — Говорит — полюбила с первого взгляда! Вот так! — он бросил горделивый взгляд в зеркало.
«А когда ж был этот первый взгляд?» — хотел спросить я, но не спросил.
— Все! Уходи! — он зашагал по крохотному номеру. — Сейчас во всех церквах заутрени идут — дуй туда!
Я вышел в тьму и мороз. Из темноты на меня волнами шла какая-то энергия. Приглядевшись, я увидел толпы людей, пересыпавшиеся с угла на угол, — но автобусы с прижатыми дверями проходили, не останавливаясь.
Я решил пойти пешком. Спешить мне было абсолютно некуда. Дело в том, что в городе Ю. я родился и не был тут уже тридцать лет. Светало. Город производил нехорошее впечатление. Старые дома еще разрушались, новые дома разрушались уже. Чувствовалось, что десятилетиями никто не думал про город, потом недолгое время кто-то думал, воздвигал какой-то дом, характерный для той эпохи, и снова шли десятилетия запустения. Нехорошо для города оказаться не в моде, в стороне от всяческих фестивалей, когда на город наводится свежий — пусть даже и поверхностный — блеск. Здесь этого не было и следа.
«Хорошо, что я отсюда уехал!» — мелькнуло ликование. «Но ведь вернулся же!» — придавила тяжелая мысль.
Собираясь сюда лет уже десять (правда, не думая, что навсегда), я с волнением думал, что не узнаю тех мест, где ездил в коляске. И вдруг я словно попал в сон, который периодически снился мне, — я снова оказался в том самом месте, которое помнил только во сне: те же деревянные двухэтажные дома, те же «дровяники» на краю оврага... Ничего не изменилось за тридцать лет! Тяжелый, темный сон про мое детство в чахлом квартале оказался не таким уж далеким — действительность не отличалась от него!
Еще одно обстоятельство — правда, не такое важное — тревожило меня. Ни в поезде, ни в гостинице я не успел зайти в туалет... осквернить родные места я, конечно, не мог... Я схватил такси и помчался в центр — но там все интересующие меня учреждения оказались закрыты — правда, по веским, уважительным причинам: в одном туалете проходила политинформация, в другом — профсоюзное собрание, в третьем — персональное дело. Казалось бы, надо радоваться столь бурной общественной жизни, — но что-то удерживало меня.
Номер был заперт, я безуспешно дергал дверь, потом помчался по коридору. Я увидел дверь с нарисованным мужчиной, рванулся туда, но на пороге встала женщина, преграждая мне путь.
— Закрыто! — надменно проговорила она. Я с изумлением смотрел на нее — она была в роскошном кожаном пальто с мехом, на всех пальцах и в ушах сияли бриллианты, ключик, который она крутила, был золотой. За спиной ее маняще сипело и булькало фаянсовое оборудование.
— Не работает! — проговорила она.
— Но... почему?! — воскликнул я.
— А это уж тебя не касается! — сыто улыбнулась она.
Я разглядывал ее лицо и наряд.
«Да-а-а... видать, хлебное место!» — подумал я.
Из-за ее спины выглянул вдруг мордатый мужик в модной «дутой» куртке.
— Кого ты тут волохаешь? — проговорил он. — Серега — ты, что ли? — мутным взглядом уставился он на меня. — Заходи — для своих у нас всегда!
Пришлось стать Серегой. В обнимку с ним я вошел в кафельное помещение. Посреди кафеля стоял стол, накрытый с вызывающей роскошью — икра, рыба, шампанское, коньяк.
— Ну, давай по коньячку — у подруги праздник сегодня, — проговорил он, разливая коньяк. — Сколько не виделись-то с тобой? — он уставился на меня.
Я промычал что-то неопределенное.
— Я забыл, какая модель у тебя, — все сильней наливаясь дружескими чувствами, проговорил он. — Троечка или шестерочка?
— Троечка, — скромно проговорил я. — А у тебя?
— У меня троечка, но с шестерочными делами! — горделиво проговорил он.
— Ясно, — пробормотал я.
Хозяйка пристально смотрела на меня, подозревая во мне чужака.
— Давай, закусывай — живем не бедно! — хозяин широким жестом обвел стол.
Закуска как-то не шла.
— А можно мне... это? — я стыдливо кивнул в сторону.
— Да ты что... здесь? — изумленно проговорил он.
— А... нельзя? Ну извини!
Покончив с этим визитом, я подошел в коридоре к администратору.
— А ключ... от сто шестнадцатого... не у вас? — спросил я.
— Ваш друг закрылся изнутри, видимо, никого не хочет видеть! — с тонкой усмешкой проговорил администратор. — Кстати, вашего друга (он сумел произнести эти слова с презрением и в мой адрес, и в его) дожидается тут какой-то товарищ (снова презрение), однако на стук и телефонные звонки ваш приятель не реагирует. Может быть, он вас устроит? — еще более пренебрежительно кивнул на меня администратор, обращаясь к гостю.
Со скамеечки поднялся мешковатый, бородатый мужик.
— Синякова, — ткнув мне руку, пробормотал он. — Главный режиссер театра драмы и комедии.
— Очень приятно, — пробормотал я. Не скрою, меня изумило, что он назвался женской фамилией. Я подумал, что ослышался, но после оказалось, что нет.
— Разумеется, — заговорил администратор, подходя с ключом, — у нас имеется возможность открыть номер своими средствами, но — раз уж вы пришли...
— Разумеется... извините... подождите здесь! — Я взял у администратора ключ, открыл, просунулся в узкую щель... мало ли что там?
В номере было пусто, на постели были видны следы борьбы... за занавеской — я задрожал — темнел какой-то силуэт.
— Эй... кто там? — выговорил я.
— Это ты, что ли? — прохрипел голос, и высунулась Лехина башка.
— Ну ты даешь! — с облегчением опускаясь в кресло, проговорил я. — Чего прячешься-то — выходи!
— Не могу! — заикаясь, проговорил он. — Я голый! Эта — дождалась, пока я впал в забытье, и всю одежду увела, даже белье! Неужто Геха ее подослал? Ну, друг! Хорошо, что хоть шапка цела! — он внезапно захихикал. — Откуда ей знать, что в такой лабуде такие деньги! Умен! — Леха погладил себя по шапке. — Отцепи меня, не могу больше! — свободолюбиво воскликнул Леха.
Я отцепил. Кутаясь в занавеску, как Цезарь в тогу, Леха пошел по номеру.
— Жалко, шмоток больше не захватил! — воскликнул Леха.
— Тебя там главный режиссер театра ждет, — проговорил я.
— Мужик, баба? — испуганно вскрикнул Леха.
На всякий случай я промолчал.
— Зови! — произнес Леха, перекидывая лишнюю материю через плечо.
Появился режиссер. Набычившись, он смотрел на Леху. Тот, надо сказать, держался неплохо. Можно было подумать, что последняя мода диктует именно такой стиль: тога и ушанка.
— Представьтесь! — величественно проговорил он.
— Синякова, — пробормотал режиссер.
— Машина, надеюсь, у подъезда? — поинтересовался Леха.
Синякова кивнул. Леха двинулся из номера — мы последовали за ним.
В машине я спросил режиссера, не японец ли он. Он ответил, что нет. Просто, когда его назначили главным, он решил вместо своей неблагозвучной фамилии взять фамилию жены и написал соответствующее заявление в соответствующие инстанции. Когда он получил паспорт, там было написано: Синякова. «Но ведь вы просили фамилию жены», — сказали ему. С тех пор он вынужден ходить с этой фамилией. Случай, в общем-то, обычный, но чем-то он растрогал меня.
В театре Леха держался отменно. Прямо с порога завел речь, что всякий истинно интеллигентный человек должен ходить в помещении в ушанке. Всюду замелькали ушанки. Народ тут оказался сообразительный. На площадке второго этажа попался и скромно поклонился молодой человек в шапке с накрепко завязанными ушами. Леха благосклонно подозвал его к себе, расспросил, кто он такой, к чему стремится. Тот скромно отвечал, что фамилия его Ясномордцев, он уже два года после института числится режиссером, но самостоятельной работы пока не получил (Синякова с ненавистью смотрел на него).
— Талантливую молодежь надо выдвигать! — строго глянув на главного, проговорил Леха. Синякова молча поклонился. Мы последовали далее. — Кстати — ваш новый заведующий литературной частью! — вдруг вспомнив обо мне, проговорил Леха. Синякова с ненавистью глянул на меня и поклонился еще более молча.
Когда мы, оглядев буфет, снова спустились в холл, над гардеробом уже появилась молодецкая надпись: «Головных уборов гардероб не принимает!»
— Я думаю, мы сработаемся! — благожелательно глянув на главного, произнес Алексей.
Где все взяли столько ушанок — было неясно, видно разорили какой-то спектакль о войне. Я, единственный вне шапки, выглядел нонсенсом, но моя близость к Лехе оберегала меня. Синякова тоже надел ушанку, но из пижонистой замши, и уши принципиально не завязал, чтобы выглядеть независимо. Мы проследовали в ложу.
— «Отелло» — наш лучший спектакль! — наклонившись к Лехе, прокричал Синякова. Поскольку все были в ушанках, приходилось кричать.
Мне, как новому заведующему литературной частью, было интересно, выйдет ли Отелло в ушанке, но Ясномордцев, назначенный сопостановщиком, нашел оригинальное и тактичное решение: Отелло, разминая пальцы, все время мял ушанку в руках. В минуты душевных потрясений он чуть ли не раздирал ушанку на части. Я, как верный уже царедворец, покосился на Леху: не покажется ли ему это крамолой? — но тот взирал на происходящее благосклонно, — и я успокоился.
Перед самым удушением Отелло с треском порвал ушанку, оттуда вывалилась серая вата (режиссерская находка!). Леха, видимо потрясенный, неподвижно смотрел на сцену, потом вдруг сорвал с себя ушанку и тоже разорвал ее пополам. Окаменев, Отелло стал смотреть в ложу — решив, видимо, что Леха отнял у него главную роль для себя. Сообразительный осветитель перевел луч с Отелло на Леху — но Леха, не обращая внимания ни на кого, в отличие от Отелло весь белый, терзал свою шапку на куски. Клочки ваты он кидал в изумленный зал — но вот вата кончилась, и премьер, ссутулившись, удалился во тьму. Я нашел его в бархатном закутке. Постаревший лет на сто, он сидел в кресле, держа пустую шапкину кожуру.
— А... деньги где? — выговорил я.
Он, неподвижно глядя в точку, ничего не ответил. Видно, дама, похитившая его одежду, заодно произвела и трепанацию шапки.
— Ну — если это они устроили! — Леха, налившись вдруг ненавистью, рванулся на сцену.
— Ты что — сбрендил? — остановил его я. — Откуда они про содержимое твоей шапки могли знать?
— А почему же они тогда... тоже шапки одели?
Я пожал плечом.
— А эта... откуда могла знать? — обессиленно проговорил он.
— Интуиция... опыт, — предположил я.
Занавес на сцене медленно опустился, действие заглохло само собой, не в силах выдержать соперничества с реальными трагедиями реальной жизни.
Мы побрели из театра. Он нес ненужную уже шапку в ненужной (или нужной?) руке.
— Вот так вот проходит слава! — скорбно произнес он. Я, впрочем, не совсем понял, когда была слава, у кого и какая.
Все понуро шли за нами с шапками на головах — хотя шапки в данном случае, может, уместнее было бы снять? Леху, естественно, это раздражало, Лехе, естественно, мерещилось, что в шапках у них полно денег.
— А ну — геть отсюда! — рявкнул он. Лицедеи отстали. — Гехе звоню — пусть разбирается! — он рванулся к телефонной будке.
Через четверть часа мы сидели в приемной Хухреца. Прежде я не видел его, поэтому, естественно, волновался. Я старался вспомнить, что слышал от Лехи. Конечно, не только тяжелое школьное детство объединяло их: кроме того, они служили вместе во флоте, а главное — оба занимались спортом, а именно спорт отбирает людей, жаждущих любым путем сделаться первыми.
Мы вошли.
— ...А я ее за человека держал! — выслушав бессвязный рассказ Лехи, произнес Хухрец. — Дай, думаю, с корешем познакомлю, чтобы не скучал, — а она, значит, за старое! — Хухрец потемнел лицом. — Ну что же — как говорится, будем карать! — он нажал клавишу на одном из телефонов. — Машину к подъезду! — обронил он.
Поездка эта отпечаталась в моем мозгу крайне неотчетливо — события были настолько странными, что плохо укладывались в мозгу. Шофер на секунду притормозил перед чугунными воротами какой-то усадьбы — через мгновение ворота были распахнуты. Скрипя тормозами, резко сворачивая, мы мчались среди каких-то бледно-желтых флигелей.
«Какое-то ободранное заведение! — чувствуя уже себя причастным к красивой жизни, пренебрежительно думал я. — Могли бы и отремонтировать!»
В узких проулочках было уже темно. Вот рябой свет фар высветил на глухой стене странную надпись: «Выдача вещей». Шофер заложил очередной лихой вираж, Хухрец радостно загоготал, буквы исчезли. Наконец, свет фар уперся в какую-то глухую чугунную дверь. Водила нетерпеливо засигналил. Послышался тягучий, медленный скрип. Полоска тусклого света озарила нас. Какой-то абсолютно пьяный человек в клеенчатом фартуке дурашливо поклонился до земли, когда мы входили.
Помещение представляло собой склад, вернее, свалку всякого хозяйственного барахла — сломанные стулья, покрашенные белой краской шкафы, прислоненные друг к другу панцирные кроватные сетки. Посреди всей разрухи красовался старинный стол с львиными лапами — Хухрец по-хозяйски уселся за него.
— Где сама? — спросил он клеенчатого.
— Счас придет! — как-то двусмысленно улыбаясь, ответил тот.
Некоторое время спустя из мглы появилась тучная женщина в грязном белом халате, с большим пористым лицом и пронзительными глазками. Увидев ее, Леха вскочил и окаменел, как изваяние.
— А... суженый! — презрительно глянув на Леху, проговорила она.
Леха побелел еще больше.
— Познакомься — то наша Паня Тюнева! — Геха Хухрец зачем-то представил хозяйку мне.
Я молча поклонился. Мне не совсем были ясны мотивы нашего пребывания здесь — но я был в незнакомом мне городе, в отрыве от привычной мне жизни — может быть, тут так полагалось проводить вечера?
— Негоже пустым столом гостей встречать! — рявкнул Геха.
Хозяйка повелительно глянула на клеенчатого — тот скрылся.
— Ну — так что скажешь батьке? — сверля хозяйку взглядом, проговорил Хухрец. — Я тебя с лучшим моим корешем познакомил (он кивнул на смертельно бледного Леху), а ты что творишь?!
— А что я творю?! — кокетливо поведя могучим плечом, проговорила Паня.
— А ты не знаешь?! (Разговор Христа с Магдалиной.) Человек к тебе всей душой — а ты шестьдесят пять тысяч схрямзила у него?
— Это еще надо доказывать! — нахально проговорила она.
— Чего доказывать? — продолжал воспитательную работу Хухрец. — Тут, как говорится, и к гадалке не надо ходить: кроме тебя в номере не был никто!
— Мало ли куда он в шапке своей шастал! — ответила Паня.
— Откуда ж известно тебе, что они в шапке были? — припечатал Хухрец. Паня осеклась. — Этого мало тебе? — Хухрец царским жестом обвел помещение. — Сколько в месяц имеешь-то тут? На одной одежонке, небось... — он кивнул на несколько детских пальтишек, раскиданных по стульям.
— Да что я имею-то? — заверещала она. — Это, что ли, богатство-то? — она подняла двумя пальцами потрепанное детское пальтишко и швырнула обратно (что она — ест, что ли, детишек? — мелькнула мысль.) — ...Засунул в дыру поганую, нашел, как избавиться! — Они скандалили, не таясь от Лехи, который как-никак официально еще считался Панькиным хахалем.
Положение спас клеенчатый: сыпанул на стол несколько грязных картофелин, поставил закопченную кастрюлю с пригорелой кашей. Угощение было странноватым, но и все вокруг было настолько необычным, что я не удивился.
— И это все? — кинув на Паньку соколиный взгляд, воскликнул Хухрец. — А младенцовки не поставишь, что ль?
— А это еще что? — самые жуткие предположения колыхнулись во мне.
Клеенчатый впился взглядом в Паню — та, секунду помедлив, кивнула. Клеенчатый скрылся, потом возвратился, прижав к фартуку липкую пятилитровую банку с мутной жидкостью. Он расплескал ее по детским железным кружечкам: на моей кружечке был зайчик, на Лехиной — ягодка, на Гехиной — слоненок.
— Ну — за то, чтобы еще не видеться лет пять! — Хухрец захохотал, схватил зубами сырую картошку и радостно захрустел.
Судя по вкусу — и действию — в кружечках оказался спирт, но какой-то нечистый. Веселье было тоже каким-то мутным. Хухрец с хрустом пожирал картошку и громко хохотал. Паня, почти полностью закрывая Леху, сидела у него на коленях и, кокетливо ероша его волосенки, игриво повторяла фразу, от которой он вздрагивал и бледнел:
— А без шапки-то лучше тебе! — говорила она.
Я, взяв кастрюльку с пригорелой кашей, стыдливо отошел. Дабы устраниться от происходящего, стоял, уставясь в стену, и вдруг внимание мое привлек разрисованный лист. Я подошел поближе... «Обязательства работников АХЧ... Детской инфекционной больницы № 2». Ком каши колом встал в моем горле. Я зажал рот рукой. Вот, оказывается, где происходит наше гулянье! Я глянул на Хухреца. Он, словно фокусник, жрал одну сырую картофелину за другой.
— Но ведь это... детский продукт! — еле слышно проговорил я.
Паня слегка развернулась — один ее пронзительный глаз посмотрел на меня.
— Серенький... разберись! — кратко скомандовала она клеенчатому.
Тот подошел ко мне и деловито ткнул в глаз. Я сполз по стене на цементный пол. Кастрюлька покатилась. Все дальнейшее воспринималось мной еще в большем тумане, чем раньше. Передо мной появились ноги Хухреца.
— А ты — орех! Крепкий орех! — прогромыхал его голос. — Но я тебя раздавлю! — Потом, судя по ногам, он повернулся. — Все! Едем в черепахарий! — скомандовал он.
Я поплелся за ними. Не оставаться же мне было в больнице — непонятно в качестве кого?
Все вместе мы уселись в машину. Паня по-прежнему плющила Леху своим весом. У меня на коленях оказался клеенчатый. Правда, вел он себя довольно прилично, один только раз он шепнул, на повороте склонившись ко мне: «Пикнешь — горло перегрызу!» — и это все.
Показался черепахарий — гигантское круглое строение. Существование его в городе, где многого необходимого еще не было, казалось странным. Мы вошли внутрь — швейцар в форме Нептуна приветствовал нас. Огромный стеклянный цилиндр занимал почти все пространство, вокруг него вились тропические заросли, в них и был накрыт скромный стол: кокосы, ананасы, дорогостоящий коньяк «Енисели». Черепахи с ужасом взирали на нас через стекло.
— Консервы с цунами открывать? — спросил услужающий.
— Открывай! — с отчаянием вскричал Леха.
Консервы с цунами сразу же залили нас с ног до головы.
— Ты угря хоть ел? — дружески бубнил мне Хухрец. — На нёбе такой постфактум наблюдается — полный отпад!
«Какое ж я это сделал дело, что гуляю так смело?» — успел подумать я, и меня снова накрыло волной.
Хухрец вдруг без предупреждения нырнул в бассейн и с гоготом выплыл верхом на черепахе.
Началось катание на черепахах. Сперва они везли по поверхности, потом вдруг резко, без предупреждения, уходили вглубь, — долго без малейшего дыхания приходилось плыть под водой, держась за черепаху. Вот из мути появилось видение: сидя на черепахе, приближался Леха. Лицо его странно сплющилось под водой, глаза остекленели, длинные волосы беззвучно развевались.
Потом за стеклянными стенами, которые отгораживали нас от действительности, как чудовищных рыб, стало рассветать. В зубах у меня оказался кусок тухлой осетрины, которую, видимо, берегли для более важных гостей и, не дождавшись, скормили нам. Я с наслаждением выплюнул ее. После всех этих изысков и безумств хотелось чего-то простого и надежного. Я выскочил из черепахария, жадно вдохнул морозный воздух, почувствовал щекочущий ноздри запах свежего хлеба и устремился туда. Ворвался на хлебозавод, погрузил несколько машин и в качестве платы разорвал одну горячую буханку и съел ее.
Довольный, с гудящими мышцами, я медленно брел к гостинице. Леха, Геха и Панька Тюнева наподобие восковых фигур сидели в номере. Их озарял кровавый рассвет. Под окном пронзительно верещал из какой-то машины сигнал угона — но никого почему-то не беспокоило это.
— А... отличник наш пришел! — со слабой, но презрительной ухмылкой выговорил Хухрец.
Что тут такое Леха успел наговорить, почему меня так уничижительно называли отличником — я не знал.
— Подумаешь, нашли уж отличника! — пробормотал я. — Всего год-то отличником и был!
При этом я не стал, естественно, объяснять, что год этот был как раз десятый, что и позволило мне с ходу поступить в вуз, — их, я чувствовал, такие подробности могли только раздражить.
— Ну, хватит языком-то трепать! — сурово произнесла Паня. Она успела уже где-то переодеться в строгий темный костюм. — За дело пора! В театр!
«Мне тоже не худо бы в театр!» — подумал я.
Все поднялись.
В театре нас уже ждали — вся труппа собралась в зале для совещаний. Наше появление было встречено хмурыми взглядами, но пронесся и ветерок аплодисментов — приятный озноб пробежал по коже. Усевшись, мы долго значительно молчали. Шепот в зале утих. Хухрец неторопливо поднялся. Тяжесть, весомость каждого его жеста буквально парализовали аудиторию — чувствовалось, что от движения его руки зависит участь каждого сидящего здесь.
— Слухайте своего батьку, — заговорил он. — Вот вам управляющий культурой — парень жох!
Леха на удивление вальяжно склонил голову.
— Чтоб ни шагу без него! — рявкнул Хухрец.
Леха поднялся.
— А я вам счас покажу, — заговорил он, — кто у вас будет заведовать литературной частью...
Я медленно стал приподниматься.
— Павлина Авксентьевна Тюнева! — возгласил Леха.
Паня приподнялась, кинула тяжелый взгляд в зал. Поднялся ропот, потом снова зашелестели аплодисменты.
Я резко вскочил на ноги, потом сел.
— Что ж такое? — зашептал я Лехе. — Ведь я же был заведующий литературной частью — как же так?
— Так надо, старик! — тихо ответил мне Леха. — Она мне за это шестьдесят пять тысяч обещала вернуть!
Ну, дела! Я вытер холодный пот. Поднялся главный. В своей речи он попытался объединить какой-то логикой все странные события последних дней — но сделать это было крайне трудно — зал скучал.
— Думаю — к истокам надо вернуться! — нетерпеливо поглядывая на часы, проговорил Леха.
Те же самые, что и всегда, бурно захлопали.
— Курочку Рябу, что ли, будем ставить? — послышался молодой дерзкий голос.
— Предложение, кстати, не столь глупое, как кажется! — проговорил Леха.
Снова те же самые зааплодировали.
— Кстати, какая-то глубина тут есть! — раздумчиво, но громко проговорил Синякова. — Разбитое яйцо — это ли не повод для разговора о бережливости?
В зале снова захлопали. Вскочил Ясномордцев.
— Я удивлен, — заговорил он, — как человек, числящийся руководителем нашего театра, может мыслить так банально и плоско! Ряба — это старая, но вечно юная сказка дает нам почву для гораздо более значительных и актуальных мыслей. (Синякова с ненавистью смотрел на него.) Мне кажется, что разбитое яйцо, точнее, яйцо, которое ежесекундно может разбиться, — это не что иное... — он выдержал паузу, — как модель современного мира, который в любое мгновение может взорваться!
— Что ж... современная трактовка! — поднял голову задремавший Хухрец. Затрещали аплодисменты. — Надеюсь, хорошенькая курочка в коллективе у вас найдется? — покровительственно обронил он.
Подхалимы захохотали.
— Неважно себя чувствую, — прошептал я Лехе и быстро вышел.
— Ну хочешь, в черепахарий тебя устрою? — крикнул Леха мне вслед.
Я быстро сгонял на хлебозавод, погрузил две машины, пожевал хлеба, вернулся. Конечно, я понимал, что делать мне там абсолютно уже нечего — просто интересно было посмотреть, чем все это кончится.
...Леха, осоловевший от бессонной ночи, покачивался за столом, снова в шапке, и все перед выходом из зала бросали в прорезь в шапке пятак, как в автобусную кассу, — судя по звуку, там было уже немало. Паня строго следила, чтоб ни один не прошел, не бросив мзды. Время от времени обессилевший Леха с богатым звоном ронял голову на стол.
— Тяжела ты, шапка Мономаха! — еле слышно бормотал он.
Тут же к столу кидались Синякова и Ясномордцев, с натугой поднимали корону и возлагали ее на голову встрепенувшегося Лехи. Вдруг взгляд его прояснился. Он увидел покрашенный белой масляной краской сейф, быстро направился к нему, обхватил, встряхнул, как друга после долгой разлуки.
— Да нет там ничего, только печать! — пробормотал Синякова, отводя взгляд.
Леха перевел горящий взгляд на Ясномордцева.
— Шестьдесят тысяч девяносто рублей одиннадцать копеек! — отчеканил тот.
— Молодец, далеко пойдешь! — Леха хлопнул его по спине...
— Ключа нет! — проговорил Синякова. — Директор в отпуске, ключ у него.
— Так... ты здесь больше не работаешь! — проговорил Леха. Повернулся к народу. — Пиротехник есть?
— Так точно! — поднялся человек с рваным ухом.
— Сейф можешь рвануть?
— А почему ж нет?
— Тащи взрывчатку! — скомандовал Леха.
Я сам не успел заметить, как, распластавшись, встал у сейфа.
— Его нельзя взрывать!
— Почему это?
— Там может быть водка!
Пиротехник и Леха сникли.
Концовка совещания прошла вяло. Все разбились на группки. Рядом со мной оказался Синякова, почему-то стал раскрывать передо мной душу, рассказал, что у Хухреца в городе есть прозвище — Шестирылый Серафим, а что сам себя он давно уже не уважает — с того самого момента, как дрогнул и заменил свою не очень красивую, но звучную фамилию Редькин на женскую, — с тех пор почувствовали его слабину и делают с ним все, что хотят.
Потом появились Леха и Хухрец.
— Надоел мне этот театр! — заговорил Леха. — Я ведь, наверно, не только им в городе заведую?
— Да с десяток заведений еще есть! — хохотнул Хухрец.
— Ну так поехали! Здесь остаешься командовать! — осадил Леха Паню, рванувшуюся за нами.
Машины у подъезда не оказалось — что возмутило Леху, Хухреца и, как ни странно, почему-то меня. Если эти вот ездят на машине — то почему я должен быть лучом света в темном царстве? Отказываюсь!
Машина, правда, тут же подошла.
— Все халтуришь? — усаживаясь, сказал шоферу Хухрец.
— Крутимся помаленьку! — нагло ответил тот.
— Куда поедем-то? — икая, проговорил Леха.
— Да, думаю, академический женский хор проверим, — произнес Хухрец.
— Можно, — кивнул Леха.
Развернувшись, мы подъехали к дому напротив, поднялись в ярко освещенный зал. На сцене уже был выстроен хор — женщины в длинных белых платьях. К нам кинулся дирижер в черном фраке и с черными усиками.
— Пожалуйте, гости дорогие! — на всякий случай он ел глазами всех троих. — Что будем слушать?
— Да погоди ты... не части! Приглядеться дай! — оборвал его Хухрец.
Дирижер умолк. Леха ряд за рядом оглядывал хор.
— К плохим тебя не приведу! — ухмыльнулся Хухрец.
Мой взгляд вдруг притянулся к взгляду высокой рыжей женщины с синими глазами — не стану выдумывать, но, по-моему, и она тоже что-то почувствовала, слегка вздрогнула.
— Это она! — вдруг горячо зашептал Леха на ухо мне. — Та... парижская! Со сковородой!
Я изумленно посмотрел на него.
— А чего они словно в саванах у тебя? — повернувшись к дирижеру, проговорил Хухрец.
— Да как-то недоглядели! — торопливо проговорил дирижер.
— Ножницы неси! — икнув, проговорил Леха. — Мини будем делать!
— С-скотина! — вдруг явственно донеслось со сцены.
Все застыли. Я не оборачивался, но знал точно, что произнесла это моя. Сладко заныло в животе. «Вот влип!» — мелькнула отчаянная мысль. Дирижер испуганно взмахнул руками. Хор грянул. Сразу чувствовалось, что это не основное его занятие.
После концерта Хухрец и Леха подошли к ней.
— С нами поедешь! — сказал Леха.
— Не могу! — усмехнулась она.
— Почему это?
— Хочу тортик купить, к бабушке пойти! — издевательски проговорила она.
— Эта Красная шапочка идет к бабушке с тортиком уже третий год! — хохотнул Хухрец.
— Пойдемте! — сказал ей я.
Она поглядела на меня, потом кивнула. Под изумленными взглядами Лехи и Хухреца мы прошли с ней через зал и вышли.
Взбудораженный Хухрец догнал нас у служебного выхода.
— Ну хочешь... я жену свою... в дурдом спрячу? — возбужденно предложил он ей.
«Странные он выдвигает соблазны!» — подумал я.
Она без выражения глянула на него, и мы вышли.
Дом ее поразил меня своим уютом.
— А ты неплохо, оказывается, живешь! — я огляделся. — У тебя муж, видно, богатый?
— Был. Уволила, — лаконично ответила она.
— Ясно. А теперь, значит, в хоре этом шьешься?
— А может, мне нравится это дело! — с вызовом проговорила она.
— А дети?
— Сын.
— Сколько ему?
— Шестнадцать... Сейчас, кстати, придет.
— Понял.
Зазвонил телефон. Она взяла трубку, послушала, ни слова не говоря, и выдернула шнур из гнезда.
— Странно ты разговариваешь! — удивился я.
— Да это дружок твой звонил, Хухрец. Сказал, что если соглашусь, даст мне пачку индийского чая.
«Да-а... широкий человек! — подумал я. — Ему что пачку чая подарить, что жену в дурдом посадить — все одно».
— Вы, наверно, торопитесь? — заметив, что я задумался, сказала она.
«Ну ясно, я ей не нужен! — понял я. — Конечно, ей нравятся молодые и красивые, — но ведь старым и уродливым быть тоже хорошо — не надо только слишком многого хотеть».
Неожиданно хлопнула дверь — явился сын.
— Боб, ты будешь есть? — крикнула она.
— Судя по ботинкам сорок пятого размера в прихожей — у нас гость. Хотелось бы пообщаться.
— Это можно, — поправляя галстук, я вышел в прихожую. Больше всего из ребят мне нравятся такие — очкастые отличники, не лезущие в бессмысленные свалки, но все равно всех побеждающие. Может, я люблю их потому, что сам когда-то был таким — и таким, в сущности, остался. Жизнь, конечно, многому научила меня, в разных обстоятельствах я умею превращаться и в пройдоху, и в идиота, но, оставшись наедине с самим собой, снова неизменно превращаюсь в тихоню-отличника.
Мы поговорили обо всем на свете, потом Боб сел ужинать, и я ушел.
Леха сидел в номере перед телевизором, тупо смотрел бесконечный телесериал «Про Федю» — Федя приходит с работы, расшнуровывает ботинки, потом идет в туалет, потом молча ужинает.
— Все! Глубокий, освежающий сон! — радостно проговорил я и вслед за Федей улегся спать.
Некоторое время в душе моей еще боролись Орфей и Морфей, но потом Морфей победил и я уснул.
Когда я проснулся, было светло, Леха нетерпеливо ходил по номеру.
— Долго спишь, счастливчик! — проговорил он.
— А сколько сейчас времени? — я поднялся.
— Самое время сейчас! — торжествующе
проговорил он. — ...Твоей-то укоротили язычок! — не сдержавшись, выпалил он.
— Как?!
— Нормальным путем! Дирижер толковым малым оказался — с ходу все просек! Больше в хоре она не работает.
— С-скотина! — невольно подражая ей, сказал я.
Я стал накручивать телефон, но номер не отвечал.
— Где она? — я повернулся к Алексею.
— Ну — поедем, поищем — мало ли где она может быть! — куражился он.
Шапка снова красовалась на его голове, набухшая медью. В прихожей стояли два ведра пятаков, сначала я думал, что Леха наденет их на уши вместо клипс, ею Леха по-хозяйски высыпал медь в отверстие в шапке.
Возле гостиницы стояла очередь трамваев, оттуда выходили вагоновожатые с ведрами пятаков, шли к Лехе. Тот снисходительно принимал в себя «золотой дождь».
— Уважают, черт возьми! — вдруг хлынули слезы, Леха утерся рукавом. — Геха, друг, не забывает кореша!
Мы сели в машину.
— В пивную! — глянув на меня, скомандовал он.
Сердце мое замерло — неужели она работает там?
— Небось хочешь — пивка-то? — куражился он.
— Нет — я лучше буду находиться в депрессии.
В темном зале я вздрогнул, увидев молодую, но уже опустившуюся посудомойку... Слава богу — не она!
День сгорел быстро. Мы поехали к Хухрецу. Возле двери его клубились толпы народа, самого его на месте не оказалось. С трудом мы разыскали его в вахтерской, где он прятался от посетителей. То, что происходило у его кабинета, он злобно называл «разгулом демократии».
— Распоясались! Всем теперь отвечай! — пробормотал он, усаживаясь в машину.
Тротуары темнели народом. То и дело кто-нибудь поднимал руку, умоляя подвезти, — водитель недовольно косился на нас. Видать, батька за время своего правления сумел произвести полную разруху на городском транспорте.
— Ты литератор, что ли? — обращаясь ко мне, вдруг спросил он. Я кивнул. — Так слушай сюда... накидай там пьеску... ну — про простецкого совсем паренька, который становится начальником, — ну про меня, короче.
Я молчал.
— Он не захочет! — пробормотал Леха.
— Ты шо — с коня упал? — глянул на меня Хухрец.
Мы ехали молча.
— А помнишь, как в молодости-то было?! — вдруг Леха обратился с воспоминаниями к Хухрецу. — Бывало, поднимешь трал, полный рыбы. Тут, конечно, — мечтательно продолжил он, — откуда ни возьмись, немец или голландец. «Рус, ящик пива!» — кричит в мегафон. Ну, ссыпешь рыбу ему — делов-то, он тут же — честный, сволочь! — ящик отличного баночного пива на палубу тебе. Теперь разве то! — Леха устал, то и дело ронял свою набитую медью голову.
— Не люблю я эту всякую промышленность — я искусство уважаю! — страдальчески морщась, говорил Хухрец.
Мы остановились у ресторана.
Швейцар угодливо распахнул перед нами дверь. Леха надменно сказал гардеробщику, что шапку Мономаха он снимать не намерен, — впрочем, многие в ресторане сидели в шапках, пальто, между поднятых воротников шел пар. Все глухо отбивали варежками такт. Отопление не работало — во всем городе лопнули трубы. Оркестр на эстраде, потряхивая погремушками, исполнял модную в том сезоне песню «Без тебя бя-бя-бя». Она стояла у микрофона. Она была почти обнажена. Видимо, было решено резко догнать Запад — хотя бы по сексу. Увидев нас, она стала кривляться еще развязней.
— Ну — теперь, я думаю, ломаться не будет! — по-хозяйски усмехнулся Хухрец.
Как старый меломан, он выждал паузу, поднялся по ступеням и схватил ее за руку. К счастью, у нее была вторая рука — донесся звонкий звук пощечины.
— Ча-ча-ча! — прокричали музыканты.
Хухрец замахнулся. Я стащил шапку с Лехи и метнул в Хухреца. Хухрец с грохотом рухнул.
— Вперед! — сказал я ей.
Мы сбежали по служебной лестнице. Переодеться она не успела, я накинул на нее мое пальто.
Внизу, прохаживаясь возле газика, меня ждал румяный милиционер в тулупе.
— Старшина Усатюк! — бросив ладонь к шапке, отрекомендовался он. — Приказано вас задержать и доставить в суд, за нарушение общественного порядка в общественном месте!
— А что ему будет? — прижавшись ко мне, воскликнула она.
— Да сутки, наверное! — снимая с нее пальто, откликнулся Усатюк. — А вам, гражданочка, велено возвращаться, вас ждут!
Суд прошел в бодром темпе, без сучка, без задоринки, без опроса свидетелей и без других каких-либо бюрократических формальностей.
Я с огромным интересом наблюдал за происходящим — ведь, надо думать, такого скоро не увидеть будет ни за какие деньги!
...Работал я на химическом комбинате, разбивал ломом огромные спекшиеся куски суперфосфата. Вдруг хлопнула дверца уже знакомого мне газика, милиционер высадил Леху. Вот это друг — не бросил в беде!
Мы присели покурить на скамейку.
— Геха, подлец, засадил меня, — хрипло заговорил Леха. — Певичка эта мне глянулась и ему — схлестнулись, короче... Ну ничего, я уже телегу на него накатал — такое знаю про него — волосы дыбом встают!
«Не сомневаюсь!» — подумал я.
Тут Леха, с обычной своей удачливостью, кинул окурок в урну, оттуда сразу же повалил удушливый дым. Некоторое время мы, надсадно откашливаясь, размазывая по лицу черные слезы, пытались еще говорить по душам, но потом я не выдержал:
— Извини, Леха! Должен немного поработать!
Я пошел к суперфосфатной горе. Скрипнули тормоза. Я обернулся. Из такси, пригнувшись, вылезала она. Близоруко щурясь, она шла через территорию, перешагивая ослепительными своими ногами валяющиеся там и сям бревна и трубы. Чтобы хоть чуть успокоиться, я схватил лом и так раздолбал ком суперфосфата, что родная мать — химическая промышленность не узнала бы его.
Сны на верхней полке
Ну и поезд! Где такой взяли? Такое впечатление, что его перед тем, как подать, три дня валяли в грязи. Только странно, где ее нашли — всюду давно уже снег. Видимо, сохранили с лета? Впрочем, над такими тонкостями размышлять некогда — толпа понесла по платформе вбок, нумерация вагонов оказалась неожиданной — от хвоста к тепловозу! Мой первый вагон оказался последним — для него платформы уже не хватило, пришлось спускаться с нее, бежать внизу, потом подтягиваться за поручни. Проводник безучастно стоял в тамбуре, зловеще небритый, в какой-то вязаной бабской кофте... видеть его в белоснежном кителе я и не рассчитывал — но все же...
— Это спальный вагон? СВ? — оглядывая мрачный тамбур с дверцей, ведущей к отопительному котлу с путаницей ржавых трубок, неуверенно спросил я.
Проводник долго неподвижно смотрел на меня, потом мрачно усмехнулся, ничего не ответил... Несколько странно! Я вошел в вагон... В таком вагоне хорошо ездить в тюрьму — для того, чтобы дальнейшая жизнь не казалась такой уж тяжелой. Облезлые полки, затхлый запах напомнили мне о самых тяжких моментах моей жизни — причем не столько бывших, сколько о будущих!
При этом — хотя бы купе должны быть двухместными, раз уплачено за СВ, — вместо этого спокойно, не моргнув глазом, запускают в купе явно четырехместные! Что ж это делается?! Я рванулся к проводнику, но на полдороге застыл... Не стоит, пожалуй... Еще начнет разглядывать билет — а это, как говорится, чревато... Дело в том, что на билете написано «бесплатный». Мне его без очереди взял старичок с палочкой (очередь была огромная, а билетов не было) — и только когда он получил с меня деньги и исчез, я заметил эту надпись, встрепенулся — но старичка уже не было... Видимо, ему, как знатному железнодорожнику, положен бесплатный, но я-то не знатный... так что этот вопрос лучше не углублять. Не настолько мы безупречны, чтобы качать права... поэтому с нами и делают что хотят. Минус на минус... Пыльненький плюсик. Я попытался протереть окно, но основная грязь была с внешней стороны. Главное — было бы хоть тепло... уж больно сложный и допотопный отопительный агрегат предстал передо мною в тамбуре... Я подул на пальцы. Толстая шерстяная кофта на нашем проводнике внушала мне все большие опасения. Наверное, и не бреется он ради тепла?
Я сдвинул скрипучую дверь, вышел в тамбур. Сразу за мной, тоже решившись, вышел пассажир из соседнего купе.
— Скажите, а чай будет? — дружелюбно обратился он к проводнику.
— Нет, — не поворачивая головы на толстой шее, просипел проводник. Слово это можно было напечатать на облаке пара, выходящего изо рта.
— Как — нет?
— Так — нет! Можешь топить без угля?
— А что — угля нет?
— Представь себе! — усмехнулся проводник.
— На железной дороге нет угля? — воскликнул я. — Да пойти к паровозу...
— Хватился! Паровозов давно уж нет!
— А вагон этот — с тех времен? — догадался я.
Проводник, как бы впервые услышав что-то толковое, повернулся ко мне:
— С тех самых!
— Так зачем же их прицепляют?!
— А у тебя другие есть? — усмехнувшись, проводник снова уставился в проем двери, выходящей на пустую платформу.
— Так мы же... окоченеем! — проговорил сосед. — Снег ведь! — он кивнул наружу.
— Это уж ваша забота! — равнодушно проговорил проводник.
— Возмутительно! — не выдержав, закричал я. — В каком вагоне у вас начальник поезда? Наверное, не в таком?
Дверь из служебного купе вдруг с визгом отъехала, и оттуда выглянул румяный морячок в тельняшке (заяц?).
— Ну что вы, в натуре, меньшитесь? — проговорил он. — Доедем как-нибудь — ведь мужики!
Пристыженные, мы с соседом разошлись по нашим застылым купе. Да — к начальнику поезда, наверное, не стоит — может всплыть вопрос с сомнительным моим билетом... Наконец, заскрипев, вагон медленно двинулся. Пятна света в купе вытягивались, исчезали, потом эти изменения стали происходить все быстрее — и вот свет оборвался, все затопила тьма.
Электричество хотя бы есть в этом купе? Тусклая лампочка под потолком осветила сиротские обшарпанные полки, облако пара, выходящее изо рта.
Я посидел, обняв себя руками, покачиваясь, — сидеть было невозможно, кровь стыла, началось быстрое, частое покалывание кожи, предшествовавшее, насколько я знал, замерзанию.
Нет — так терпеливо дожидаться гибели — это глупо! Я вскочил.
Не во всех же вагонах такой холод — какие-то, может, и отапливаются? Хотя бы в вагоне-ресторане должна быть печка — там ведь, наверное, что-то готовят? Точно, я вспомнил надпись «Ресторан» — где-то как раз в середине состава! Я открыл дверь, согнувшись, перебрался через лязгающий, раскачивающийся вагонный стык... Следующий вагон был еще холоднее. Люди, закутавшись в одеяла, неподвижно сидели в темных купе (свет почему-то зажигать не хотелось, это я тоже чувствовал). Только струйки пара изо ртов говорили о том, что они живы. В следующем вагоне все было точно так же... Что такое?! Какой нынче год?!
Я шел дальше, уже не глядя по сторонам, только автоматически — в который уже раз — открывая двери на холодный переход, — там я стоял на морозе, опасливо пригнувшись, пока не удавалось открыть следующую дверь, — я попадал в очередной вагон, такой же темный и холодный.
И вдруг на переходе из вагона в вагон я застрял: я дергал дверь, она не поддавалась — видимо, была заперта. Железные козырьки, составляющие переход, лязгали, заходили друг под друга, резко из-под ног уходили вбок. Паника поднималась во мне снизу вверх. Я дергал и дергал дверь — она не открывалась. Я повернул голову назад — двигаться задним ходом еще страшнее. Я стал стучать. Наконец за стеклом показалось какое-то лицо — вглядевшись во тьму, оно стало отрицательно раскачиваться. Я снова забарабанил.
— Чего тебе? — приоткрыв маленькую щель, крикнуло наконец лицо.
— Это ресторан? — прокричал я.
— Ну, ресторан. А чего тебе?
— Как чего? — я потянул дверь. — Не понимаешь, что ли?
— Этого нельзя! — лицо оказалось женским. — Проверка работы идет!
Она потянула дверь — я успел вставить руку — пусть отдавят!
— Какая ж проверка работы без клиентов? — завопил я.
Она с интересом уставилась на меня — такой оборот мысли ей, по-видимому, еще в голову не приходил.
— Ну, заходи! — она чуть пошире приоткрыла дверку.
Я ворвался туда. Никогда еще я не проходил ни в один ресторан с таким трудом и, главное, риском! Да — здесь было не теплее, чем в моем вагоне, но все же теплее, чем на переходе между вагонами.
К моему удивлению, мне навстречу из-за отдельного маленького столика поднялся прилизанный на косой пробор человек в черном фраке, крахмальной манишке, бархатной бабочке.
— Добро пожаловать! — делая плавный жест рукой, он указал на ряд пустых столиков.
Недоумевая, я сел. Неужели это я минуту назад дергался между вагонами?.. Достоинство, покой...
— Через секунду вам принесут меню. В ресторане ведется проверка качества обслуживания — о всех ваших замечаниях, пусть самых ничтожных, немедленно сообщайте мне!
— Ну разумеется! — в том же радушном тоне ответил я.
Метрдотель с достоинством удалился и с абсолютно прямой спиной уселся за своим столиком. Минут через двадцать подошел небритый официант.
— Гуляш, — проговорил он, словно бы перепутав, кто из нас должен заказывать.
— И все? — произнес я реплику, которую обычно произносит официант.
— Холодный! — уточнил он.
— А почему? — глупо спросил я.
— Плита не работает! — пожав плечом, проговорил официант.
Я посмотрел на метрдотеля. Тот по-прежнему с неподвижным, но просветленным лицом возвышался за своим столиком. В мою сторону он не смотрел.
— Ну хорошо, — сдался я.
В ресторане было сумеречно и холодно. За темным окном не было ничего, кроме отражения.
Наконец появился официант и плюхнул передо мною тарелку. Кратером вулкана была раскидана вермишель — в самом кратере ничего не было. Я посидел некоторое время в оцепенении, потом кинулся к застывшему в улыбке метрдотелю.
— Это гуляш? — воскликнул я. — А где мясо?
Метрдотель склонил голову с безупречным пробором, прошел в служебное помещение — оттуда сразу донесся гвалт, в котором различались голоса официанта и метрдотеля. Потом появился метрдотель, с той же улыбкой.
— Извините! — он взял с моего столика тарелку. — Блюдо будет немедленно заменено! Официант говорит, что кто-то напал на него в темном коридорчике возле кухни и выхватил из гуляша мясо!
— Мне-то зачем это знать! — пробормотал я и снова застыл перед абсолютно темным окном. Наконец минут через сорок мне захотелось пошевелиться.
— Так где же официант?! — обратился я к неподвижному метрдотелю.
Он снова вежливо склонил голову с безукоризненным пробором и скрылся в служебке.
— Ваш официант арестован! — радостно улыбаясь, появился он.
— Как... арестован? — произнес я.
— Заслуженно! — строго, словно и я был в чем-то замешан, проговорил метрдотель. — Оказалось — он сам выхватывал мясо из гуляша и съедал!
— А, ну тогда ясно... — проговорил я. — А теперь что?
— А теперь — к вам незамедлительно будет послан другой официант! — с достоинством произнес он.
— Спасибо! — поблагодарил я.
Второго официанта, принявшего заказ, я ждал более часа, — может, конечно, он и честный, но где же он?
— Ваш официант арестован! — не дожидаясь вопроса, радостно сообщил метрдотель.
— Как... и этот? — ноги у меня буквально подкосились.
— Ну разумеется! — произнес он. — Все они оказались членами одной шайки. Следовало только в этом убедиться — и нам это удалось.
— Ну, замечательно, конечно... — пробормотал я. — Но как же гуляш?
Он презрительно глянул на меня: тут творятся такие дела, а я с какой-то ерундой!
— Попытаюсь узнать! — не особенно обнадеживая, холодно произнес он и скрылся в служебке.
Через час я, потеряв терпение, заглянул туда.
— Где хотя бы метрдотель? — спросил я у человека в строгом костюме с повязкой.
— Метрдотель арестован! — с усталым, но довольным вздохом произнес человек. — Он оказался главарем преступной шайки, орудовавшей здесь!
— Замечательно! — сказал я. — Но поесть мне... ничего не найдется?
— Все опечатано! — строго проговорил контролер. — Но... если хотите быть свидетелем — заходите.
— Спасибо, — поблагодарил я.
Я сидел в служебке. Приводили и куда-то уводили официантов в кандалах, потом метрдотеля... все такого же элегантного... мучительно хотелось есть — но это желание было явно неуместным!
Я побрел по вагонам обратно.
«Хоть что-то вообще... можно тут?» — с отчаянием подумал я, рванув дверь в туалет.
— Заперто! — появляясь за моей спиной, как привидение, произнес сосед.
— Что... насовсем? — в ярости произнес я. — А... тот? — я кивнул в дальний конец.
— И тот.
— Но — почему?
— Проводники кур там везут!
— ...В туалете?
— Ну, а где же им еще везти?
— А... зачем?
— Ну... видимо, хотели понемножку в вагон-ресторан их сдавать, но там проверка, говорят. Так что — безнадежно!
— И что же делать?
— А ничего!
— ...А откуда вы знаете, что куры?
— Слышно, — меланхолично ответил сосед.
Я посидел в отчаянии в купе... но так быстро превратишься в Снегурочку — надо двигаться, делать хоть что-то! Я снова направился к купе проводника. Когда я подошел, дверь вдруг с визгом отъехала и оттуда вышел морячок — он был тугого свекольного цвета, в тельняшке уже без рукавов, с голыми мощными руками... Он лихо подмигнул мне, потом повернулся к темному коридорному окну, заштрихованному метелью, и плотным, напряженным голосом запел:
— Прощайте, с-с-с-скалистые горы, на подвиг н-н-н-нас море зовет!
Я внимательно дослушал песню, потом все же сдвинул дверь в купе проводника.
— Чего надо? — резко поднимая голову от стола, спросил проводник.
В купе у них было если не тепло, то, по крайней мере, угарно — на столике громоздились остатки пиршества. Стены были утеплены одеялами, одеялом же было забрано и окно.
— Где... начальник поезда? — слипшимися от мороза губами произнес я.
— Я начальник поезда. Какие вопросы? — входя в купе, бодро проговорил морячок.
— ...Вопросов нет.
Я вернулся в купе, залез на верхнюю полку — все-таки перед ней было меньше холодного окна — закутался в одеяло (оно не чувствовалось) и стал замерзать. Какие-то роскошные южные картины поплыли в моем сознании... правильно говорят, что смерть от замерзания довольно приятна... И лишь одна беспокойная мысль (как выяснилось потом, спасительная) не давала мне погрузиться в блаженство...
А ведь я ушел из ресторана, не заплатив! А ведь — ел хлеб, при этом намазывал его горчицей! Как знать, может, именно эти копейки сыграют какую-то роль в их деле? Конечно, тут встает вопрос: надо ли перед ворюгами быть честным, но думаю, что все-таки надо — исключительно ради себя!
Скрипя, как снежная баба, я слез с полки и снова по завьюженным лязгающим переходам двинулся из вагона в вагон.
Меня встретил в тамбуре контролер контролеров контролеров — это можно было понять по трем повязкам на его рукаве.
Я вошел в вагон. Все сидели за столами и пели. Контролеры пели дискантами, контролеры контролеров — баритонами, контролеры контролеров контролеров — басами, — получалось довольно складно. Тут же, робко подпевая, сидели официанты в кандалах и метрдотель — за неимением остановки они пока что все были тут.
— Что вам? — быстро спросил контролер контролеров контролеров, давая понять, что пауза между строчками песни короткая, желательно уложиться.
— Вот, — я выхватил десять копеек, — ел хлеб, горчицу. Хочу уплатить!
— Да таким, как он, — проникновенно, видимо пытаясь выслужиться, произнес метрдотель, — памятники надо ставить при жизни! — он посмотрел на контролеров, видимо, предлагая тут же заняться благородным этим делом.
— Ладно — я согласен на памятник... но только чтобы в ресторане! — пробормотал я и пошел обратно.
Тут я заметил, что поезд тормозит — вагоны задрожали, стали стукаться друг о друга, переходить стало еще сложней...
В нашем тамбуре я встретил проводника: в какой-то грязной рванине, с мешком на спине, он спрыгнул со ступенек и скрылся — видимо, отправился в поисках корма для кур...
Это уже не задевало меня... свой долг перед человечеством я выполнил... можно ложиться в мой саркофаг. Я залез туда и сжался клубком. Поезд стоял очень долго. Было тихо. Освободившееся сознание мое улетало все дальше. Ну, действительно, чего это я пытаюсь навести порядок на железной дороге, с которой и соприкасаюсь-то раз в год, когда в собственной моей жизни царит полный хаос, когда в собственном доме я не могу навести даже тени порядка! Три года назад понял я вдруг, что за стеной моей — огромное пустующее помещение, смело стал добиваться разрешения освоить это пространство, сделать там гостиную, кабинет... Потом прикинул, во что мне это обойдется — стал добиваться запрещения... Любой, наблюдающий меня, вправе воскликнуть: «Что за идиот!» Написал массу заявлений: «В просьбе моей прошу отказать!», настрочил кучу анонимок на себя... Как бы теперь не отобрали, что есть!..
Я погружался в сон... вдруг увидел себя в каком-то дворе... меня окружали какие-то темные фигуры... они подходили все ближе... сейчас ударят! «Зря стараются, — мелькнула ликующая мысль, — не знают, дураки, что это всего лишь сон!» Двор исчез. Я оказался в вагоне-ресторане, он был почему-то весь в цветах, за окнами проплывал знойный юг. Появился мой друг метрдотель в ослепительно белом фраке.
— Кушать... не подано! — торжественно провозгласил он.
Через минуту он вышел в оранжевом фраке.
— Кушать... опять не подано! — возгласил он.
— Может быть — можно что-нибудь? — попросил я.
— Два кофе по-вахтерски! — распахивая дверь в сверкающую кухню, скомандовал он.
Я вдруг почувствовал, что лечу в полном блаженстве, вытянувшись на полке в полный рост, откинув ногами тяжелое одеяло... Тепло? Тепло!
Значит, проводник, когда я его встретил на остановке, ходил не за кормом для кур, а за углем? Замечательно! Тогда лучше так и не просыпаться — сейчас должны начаться приятные сны!
В следующем сне я оказался в красивом магазине игрушек в виде лягушонка, которого все сильнее надували через трубочку.
...Все неумолимо ясно!.. Надо вставать!
Проводник сидел в тамбуре на перевернутом ведре, блаженно щурясь на оранжевый огонь в топке.
— Ну как? — увидев меня, повернулся он (после взгляда на пламя вряд ли он различал меня).
— Замечательно! — воскликнул я. — А раз уж так... в туалет заодно нельзя сходить?
— Ладно уж! — он подобрел в тепле. — Только кур не обижай! — он протянул ключ.
— Зачем же мне их обижать? — искренне воскликнул я.
Я ворвался в туалет. Куры, всполошившись сначала, потом успокоились, расселись, своими бусинками на склоненных головках разглядывая меня. Кем, интересно, я кажусь — этим представителям иной, в сущности, цивилизации? Достойно ли я представляю человечество? Не оскорбит ли их жест, который я собираюсь тут сделать?.. Нет. Не оскорбил.
Абсолютно уже счастливый, я забрался к себе на полку, распрямился... Какой же последует сон?.. Солнце поднималось над морем... я летел на курице, приближаясь к нему. Вблизи оно оказалось огромной печкой. Рядом сидел проводник.
— Плохо топить — значит, не уважать свою Галактику! — строго проговорил он, орудуя кочергой.
Тихие радости
— Кто там?
— Я.
— Ты, Николай?
— А кто же еще?
— Действительно, кто же еще может притащиться в такую рань — в выходной, без предварительного звонка!
— Главное — отпуск сегодня начался, а встал все равно — ни свет ни заря!
— Видимо, должен тебя пожалеть? Ну ладно — заходи! Только извини — у меня не прибрано!
— Да-а-а... это мягко еще сказано! Что это у тебя?
— А что такого? Один живу!
— А где жена?
— Уехала. На соревнования. По забрасыванию чепцов за мельницу. И дочь там же. В общем — «я дал разъехаться домашним... и даже собственной мамаше».
— Ну — отлично! Тогда, может быть, промочим горло?
— Ну давай... Но у меня, к сожалению, только безалкогольные, на диких травах — саспареловка, могикановка, оробеловка. Отлично тонизирует!
— ...Ну давай! А пожрать нету?
— Ну, естественно, нету! Откуда? Один живу!.. Можем попробовать вот эти банки пятилитровые сдать, купить на эти деньги чего-нибудь.
— Да не примут, наверное!
— Примут!
— А как нести?
Придумали наконец — надели по две банки пятилитровые на руки, на ноги, по одной — на головы. Медленно, как водолазы, побрели.
В овраге — в зарослях боярышника, бересклета, бузины нашли сырой сарайчик — приемный пункт.
— У вас банка на голове с трещиной!
— Где?
— Вот, посмотритесь в зеркало.
— Да-a, действительно! Но остальные хоть примете?
— Примем.
— Ура!
Получили деньги, треснувшую банку оттащили домой, стали собираться.
— Чего такие брюки плохие надел?
— Чтобы отрезать себе пути к наступлению. А то, сам понимаешь!.. А в этих брюках я далеко не уйду. А вечером надо дома быть — статью заканчивать.
— Ясно... А свитер где такой раскопал?
— А что? Разве плох? Двадцать лет уже ношу. Два раза с третьего этажа в нем падал. На двадцатилетие нашей свадьбы жена выплеснула на него красное вино — и хоть бы что, отстирался, выглядит как новенький!
— Ты так считаешь?
— Считаю!
— А зимнюю шапку зачем надел?
— Это раньше, в далекой молодости, я ходил без шапки даже зимой... теперь, из осторожности, хожу в зимней шапке даже летом!
— Ясно... Ну — вперед?
Вышли на улицу.
— Ну... пойдем в гниль-бар? — Николай заносчиво говорит.
— Ты что, сдурел? — Николаю говорю. — Ты знаешь, например, сколько простая спичка там стоит? Четыре рубля!.. Гниль-бар! В каком-нибудь кафе бы подхарчиться — и то хорошо!
Зашли в ближайшее кафе «Шторм». Оно, надо сказать, соответствовало своему названию — посетителей кидало от стены к стене, многие травили.
Скромно сели за крайний столик, долго ждали, пока подойдет официант, — но официанты у себя на полубаке вели неторопливую беседу — иногда кто-нибудь из них кинет взгляд в нашу сторону и дальше разговаривает, как ни в чем не бывало.
— Что ж такое? — Николаю говорю. — Почему же они не видят нас? Может, мы невидимки? Точно!
— А раз мы невидимки, — Николай говорит, — пойдем прямо на кухню, схватим там что-нибудь, когда повар отвернется!
— Правильно!
Схватили по пути вилки, ворвались в кухню, стали терзать куренка на сковороде — и тут все официанты сразу бросаются на нас, приемами самбо выбивают вилки, закручивают руки, куда-то тащат.
— Ну, сейчас мы вам устроим! — с каким-то ликованием один говорит. — Серега, скорей милицию вызывай!
Словно специально этого ждали.
Через минуту уже в зал вбежали два милиционера, вытаскивая револьверы.
— Вот это оперативность! Должен вам заявить, что работой вашей доволен! — милиционерам говорю.
— Пытались куренка утащить! — повар заявляет. — А мы бы потом из-за них план бы не выполнили!
— Мы думали, мы невидимки! — Николай вздохнул.
— Невидимость не освобождает от уголовного наказания! — строго милиционер говорит. — Прошу пройти!
Вывели нас, усадили в машину с маленьким окошечком, повезли.
— Запоминай дорогу! — на всякий случай Николаю сказал.
Высадили нас аккуратно у дверей, отвели к дежурному.
Ни «как поживаете?», ни «здрасьте!» — ничего.
— Фамилия! — сразу же дежурный говорит.
— ...Траффолд!
— Грегори!
Поднял, наконец-то, на нас глаза.
— Ах — вы порезвиться хотите? Ну что ж — поможем! Червяченко — отведи!
Отвел нас Червяченко за железную дверь, замкнул.
— Вот так погуляли! — Николай вздохнул.
Огляделись: тесное помещение, окошечко под потолком, и к тому же — стремянка стоит, банки с краской валяются, стены грязные, осыпающиеся — ремонт.
— Могли хотя бы ремонт к нашему появлению закончить! — Николай говорит.
— Видимо — не рассчитывали так скоро нас увидеть. Ну ничего! Как выберемся отсюда — поднимемся с тобой на Эверест! Вот где чистота! А простор!.. Раз в сто больше обычного пейзажа!
— Ух ты! — воскликнул Николай.
Тут же дверь с лязганьем отворилась.
— Прекратите уханье! — Червяченко говорит.
— Ух ты! — поглядев на него, я не удержался.
— Не успокоились, значит? Пожалуйте на беседу! — Червяченко говорит.
Вышли мы снова в зало.
— Кем работаешь? — глядя на Николая тяжелым взглядом, дежурный спрашивает.
— Аспирант, — Николай отвечает.
— ...Не понял! — дежурный говорит.
— Аспирант, — почему-то шепотом Николай произнес.
— Громче говори!
— Слушаюсь! — Николай каблуками прищелкнул. — Аспи-рант, рант, рант, аспи-рант, рант, рант! — печатая шаг, по помещению пошел.
— Стоять! — дежурный рявкнул. Николай, притопнув, окаменел. — ...А ты кто? — дежурный повернулся ко мне.
— Аспи-рант, рант, рант! — печатая шаг, я пошел.
— Стоять!
Мы рядом с Николаем застыли.
— Червяченко!
— Есть!
— Что — «есть» ?
— Я!
— Отведи их обратно, — видать, не охладились еще.
— Так точно! — Червяченко говорит. — А ну пошли!
— Аспирант, рант, рант, аспи-рант, рант, рант! — дошли с Николаем до нашей двери, резко повернулись, зашли.
— Вот — правильно мы себя ведем! — Николаю говорю. — Начальство порядок любит! Чтобы все четко, организованно, — как у нас! Ты заметил — когда мы отвечали ему, у него даже слезинка счастья блеснула?
— А точно — слезинка счастья? Может — просто слезинка? — с некоторым сомнением Николай говорит.
— Точно! — говорю. — Я-то уж знаю, как с начальством себя вести! Ты, я думаю, начальника моего знаешь, Шаповалова? Казалось бы, трудный объект? И ничего! Обошел по всем статьям! Шаповалистей самого Шаповалова стал! Теперь меня уже — неофициально, конечно, — все Шаповаловым зовут, а самого Шаповалова — почему-то Ушатов — видимо, по жене. Вот так вот. А ты говоришь!
— Но, тем не менее, мы почему-то здесь — в тесном, сыром помещении, а начальство — там!
— А давай, раз уж мы здесь, сделаем тут ремонт! Отлично будет! Гляди — и масляной краски две банки, и олифа, и кисти!.. Вперед?
— Вперед!
Развели краску олифой — олифы не жалели, чтобы был блеск, залезли с двух сторон на стремянку и с любимой песней нашей «Ёлы-палы» начали малевать. Потолок чистым маслом обдали, в стены, для колера, берлинской лазури добавили, — красота!
— Мне кажется, — Николай говорит, — что слишком мы радостным это помещение делаем, неверно это — с точки зрения педагогической!
— Зато с малярной верно! — отвечаю ему.
Вдруг — распахивается дверь, на пороге — дежурный и Червяченко.
— Ах, вот вы чего притихли! — дежурный говорит.
— Мы не притихли! — говорю ему. — Мы поем!
— Ну хорошо, хоть нормальные люди нашлись! — дежурный говорит. — А то маляры эти — как ушли неделю назад, так и сгинули!
— Скоро кончаем уже! — Николай говорит. — Только учтите — в свежеокрашенном помещении, да еще с дверью закрытой, находиться опасно!
— Намек понял! — дежурный усмехнулся. — Ладно: докрасите — пойдете. А кафе то известно нам своими номерами, — с ними разберемся!
— Только учтите — в течение суток никого нельзя сюда запускать! — я говорю.
— Это уж вы учтите! — усмехнувшись, дежурный говорит.
Закончили, выскочили на воздух.
На пыльной вывеске «Следственный отдел» Николай написал пальцем: «Ура!»
Помчались. На замусоренном пустыре валялась пластом собака, словно часть этого мусора, но решила вдруг отделиться — вскочила, резко залаяла, обозначила себя — и снова рухнула.
— Туда-то на машине нас везли — а обратно пешком! — Николай проговорил на ходу.
— А что ты — еще не наездился? — удивился я.
— Вообще-то да! — согласился Николай.
— И-и-и-диные карточки! — пронзительно кричали у метро.
— Эх, жаль, не по карману пока! — вздохнул я.
Мы бежали вдоль больницы.
Больной с третьего этажа кричал что-то через газетный рупор своей жене.
Между тем уверенно вечерело.
Радостные, мы ворвались в наше любимое кафе.
— Здравствуйте! Вы нас еще не забыли?
Наступила некоторая пауза.
— Не забыли! — нервно повар ответил. — Но скоро уже закрываемся. Ничего нет. Только макароны с лапшой.
— Отлично! — воскликнул я. — Макаронники с лапшой — любимая моя еда! А если обсыпать еще поверху вермишелкой — полное объеденье!
Повар ушел, загремел баками.
— Все съели! — вернувшись, угрюмо сообщил.
— Как же так? — воскликнули мы. — Нас же не было? Кто же съел? Разве кто-нибудь это любит, кроме нас?
Понуро побрели.
— Ну ничего! — сказал я. — А давай вместо физической — духовной пищей питаться! Вот — афиша, гляди! Вера Зазнобина. Популярные песни! Пошли?
Сели в девятом ряду, долгое время крепились, но когда запела она нашу любимую «Ёлы-палы» — не удержались, стали с Николаем подпевать.
Тут дежурный администратор по проходу к нам подполз по-пластунски, зашептал:
— В милицию захотели, да?
— Нет, — вздохнули. — Нет... Второй раз уже не потянуть!
Пришлось уйти. Примчались ко мне домой.
— Хотелось бы пожать немного плодов! — Николай говорит. — Я имею в виду: за духовной пищей обязательно физическая должна идти!
— Так ничего ж нет! — воскликнул я. — Вот — только коробочка какая-то... написано «Кекс»... внутри почему-то порошок.
— Знаю! — вскричал Николай. — Это надо в формочке печь!
— Так долго, наверное... — жадность душила меня. — Ночь уже...
— Ну и что? Хорошее дело! Ночной кекс! Думаю, — Николай говорит, — что можно даже традиционным это сделать: «Ночной кекс». Единомышленников на это дело приглашать — спорить, хохотать! — Возбужденно по кухне заметался, нашел формочку, засыпал порошок.
— Думаю, — я сказал, — что в эти ночные часы... более близкого нам человека, чем дежурный милиции, не найти!
— Точно! — Николай говорит.
Узнали телефон нашего отделения, набрали номер... Знакомый голос!
— Алле! — взволнованно Николай залопотал. — Это дежурный?! А это мы!.. Не забыли еще нас?.. Ну да!.. Хотим вас пригласить — в смысле, когда освободитесь, — на ночной кекс!.. Адрес какой? — на меня посмотрел, потом вдруг неожиданно трубку повесил. — Ишь, хитренький какой — адрес ему!..
Кекс почему-то слегка сгорел. Пожевали кекса, запили оробеловкой. Помолчали.
— Ну... чего такой грустный? — Николая спрашиваю.
— Я не грустный, я — надменный! — Николай отвечает.
— Вот — так и спи давай! — говорю. — Очень тебе идет.
Утром я проснулся, вскочил, крякнув, принял ледяной душ, гикнув, выпил чашечку кофе... Кран вдруг распелся — тоже, певец!
Выскочили на улицу.
— Ну все — я пойду! — Николай говорит.
— Давай. Я буду тебе махать.
— А я буду постепенно уменьшаться.
— Договорились! — руки пожали.
— Только должен сперва понюхать розу — давно не нюхал роз! — Николай говорит. Решительно, прямо по газону, пошел к кустам. Какой-то общественник погнался за ним — но Николай, нюхнув розу, увернулся от него, выскочил на проезжую часть. Мимо с ужасным почему-то грохотом мчалась телега, Николай боком вскочил на нее, помахал общественнику (и мне, надеюсь?) рукой и унесся вдаль.
Прощай, милый! Гуляй, веселись — запасайся легкомыслием на черный день!..
Часть ласточек реяла высоко, часть, на всякий случай, низко. Я сел в автобус.
IV


НОВАЯ ШЕХЕРЕЗАДА
(Повесть)
На моем этаже, в соседней квартире, жил Шах.
Жизнь он вел загадочную, появлялся редко — но у дверей его часто дежурили Шехерезады — видимо, с отрубленными уже головами — судя по тому, что больше он их к себе не пускал.
Безголовые и меня интересуют мало, поэтому я, не вступая в контакты, скромненько проходил к себе, иногда только на просьбу дать закурить с расстроенным видом отвечал, что — увы, курить-то как раз и не курю!
Но эта, которую миновать мне не удалось, имела какой-то особенно растерзанный вид — морально растерзанный... я невольно задержал на ней взгляд... может быть, еще потому, что правую ногу она держала как-то неестественно. Рядом с ногой стоял туго набитый кожаный чемодан.
— Извините! — надменно проговорила она, увидев, что я торопливо вставляю ключ в дверь. — Не могла бы я попросить вас об одном одолжении?
Смешна и жалка надменность на лестничной клетке. Я даже смутился: неудобно было на это смотреть.
— Да. Слушаю вас, — глядя в сторону, пробормотал я.
— Не могу ли я от вас позвонить? — произнесла она.
— Ну... если не в другой город — то пожалуйста! — сказал я.
— А что — в другой нельзя? — она смерила меня взглядом, мол, что за пигмеи тут живут?!
— Ну пожалуйста... если заплатите, — ответил я.
— Разумеется, заплачу! — с презрением произнесла она.
— А-а-а — ну тогда пожалуйста! — я отпер свою дверь.
Когда она проходила, я сбоку подробно рассмотрел ее: высокая, стройная брюнетка, правда чуть припадающая на правую ногу.
В прихожей я снял с нее слегка грязноватый белый плащ. Она осталась в черных бархатных брюках, в белой кружевной блузке с черным бантом: дерзкое смешение в одежде светской сдержанности с элементами артистизма. Я указал ей на кресло в комнате, возле круглого стола. Церемонно, показывая воспитанность, она коротким кивком поблагодарила и опустилась в кресло — да, правая ножка гнулась у нее довольно-таки плохо.
Прекрасно воспитанные люди, мы понимали, что сразу же хвататься за телефон бестактно, — некоторое время мы выжидали.
— Могу я попросить у вас стакан воды? — великосветским тоном проговорила она. При этом, судя по голосу, подразумевалась вода из хрустального кувшина, из лесного родничка, из источника Виши — но никак не из вульгарного водопровода.
— Молоко будешь? — заглянув в холодильник, запанибратским тоном произнес я.
Это явно не понравилось ей — взмахнув ресницами, она смерила меня взглядом.
— Ну хорошо, — сдаваясь, с тяжким вздохом произнесла она.
Я набухал ей молока. Она сделала глоток. Мимолетно — но так, чтобы я заметил, — она поморщилась: молоко, разумеется, было далеко не королевское, но что поделаешь — приходится пить!
Она разыгрывала, как по нотам, свою лучшую, видимо, мизансцену — королева в изгнании, — а я тем временем должен был проникаться сознанием исключительности ее натуры.
Однако я продолжал тупо молчать, все еще не понимая, какое гигантское счастье на меня обрушилось. Она явно намеревалась здесь царить, за неимением — пока что — лучшего места... Однако, судя по измученному ее виду, хитроумная, блистательная ее тактика не так часто приводила к результатам, во всяком случае — к желаемым. У нее была, я бы сказал — такая мелко-соображающая мордочка. Примерно уже за минуту было ясно: сейчас она включит свое бешеное обаяние, сейчас — скромность, сейчас — гордость и надменность, и эта ее запрограммированность вредила ей.
— Макарончики будешь? — по-простому предложил я.
— ...Что? — повернув голову на высокой шее, недоуменно произнесла она. «Надеюсь, я ослышалась?» — говорил ее взгляд.
— Тогда — простите... извините... макарончики себе разогрею... не ел с утра! — мелко кланяясь, я попятился на кухню. Она с недоумением и скорбью взирала на меня.
На обратном пути из кухни я зашел в ванную, запустил воду — устал я ужасно, мотался весь день.
— Так... А что с ногой? Покажи! — переходя на более конкретные темы, спросил я.
— Так сразу? — с туманно-двусмысленной улыбкой проговорила она.
Ясно. Новая роль!
— Ну — может, поешь? — сгребая часть макарончиков (с яичком!) на ее край сковороды, предложил я.
— Ну хорошо! — как бы уступая назойливым приставаниям, согласилась она. Ела она именно так, как я и предполагал — как, по ее понятиям, кушают герцогини.
Я незаметно покосился вниз: может, и прихрамывание ее — тоже своего рода шик? Да нет! К сожалению, ножка ее стояла как-то явно неестественно...
— Могу я закурить? — откушав, осведомилась она.
Каким нужно было быть бестактным, чтобы запретить!
— Так что с ножкой? — повторил я.
Тяжко вздохнув, она заговорила...
Сказка первая
С самых ранних лет мама твердила мне: «Ты у меня не такая, как все!» И сколько я себя помню — она повязывала мне такой бо-ольшой бант, и через всю станицу вела в Дом культуры — на занятия художественной гимнастикой, и почти каждый знакомый останавливался: «Славная дочка у вас, Полина Максимовна!» Вообще, она очень много сделала для моего воспитания — показывала, как держать себя, как одеваться. Я с самого начала уже догадывалась, что какая-то тайна в моем рождении есть. На папу смотрела, когда он с поля приходил, весь в пыли, и в детстве догадывалась уже: «Не может быть, чтобы он настоящим отцом моим был!» Мама конкретно не говорила ничего, только повторяла, как заклинание: «Ты обязана знаменитостью стать, хватит того, что я в этой степи жизнь свою загубила». Отец мой — я уже догадывалась, что он не отец, — совсем простой был, совхозный механизатор — что с него возьмешь? Правда, маму и меня очень любил, придет с работы и еще до глубокой темноты возится — в мастерской или в саду — все старался, чтобы нам лучше жилось, — но мама все равно не любила его.
И вот однажды ужасное произошло: маленький брат мой Саша в арыке утонул, — у нас вокруг станицы такие глубокие арыки шли, с отвесными берегами, а по краям высокие седые ивы росли, и Саша с ребятами все время на них забирался — и вот — сломался сук... Мама мало занималась им, в основном со мною сидела, то так мои волосы уложит, то иначе. И тут прибегают к ней и кричат:
— Полина Максимовна — ваш Саша в арыке утонул!
Кинулась она туда, и с горя у нее что-то вроде помутнения сделалось: стала она на иву кидаться, словно залезть туда собираясь, — все не хотела никак признать, что он под водой, внушала себе, что он на иве, а в воде отражается. Тут вынули его — но поздно было уже. Еле увели ее, а потом она сказала мне (поседев за один час!):
— Это наказание мне! Нельзя, чтобы дети без любви появлялись, а Саша именно так появился — не любила я его отца!
— А как же я? — говорю, вся задрожав.
— Ты? — долго смотрела на меня. — Ну ладно — все равно рано или поздно узнаешь!
И рассказала мне, что я дочь одного известного артиста, с которым у мамы большая любовь была, но потом обстоятельства сложились так, что им расстаться пришлось, и тут мама папу встретила (не настоящего моего папу, как я теперь узнала) — и он уговорил мою маму выйти за него, мама моя тогда будто деревянная была, ей все было равно — хоть в петлю! — она и согласилась, в результате промаялись всю жизнь.
Папа мой в мастерской плакал, а мы с мамой в доме были.
— Теперь только ты у меня осталась! — мама сказала.
В то время я уже за область выступала, всюду ездила, но мама непременно со мной была, и даже перед самыми крупными соревнованиями никому я прическу не давала делать — только ей.
Тут закончила школу я, мой тренер
Платон Михайлович любой вуз мне предлагал — хоть в Ростове, хоть в Новочеркасске, хоть даже институт физкультуры в Москве, — но я отказалась от всего, хотела с мамой быть — совсем уже старенькая она стала у меня! Увлеклась я в то время верховой ездой, — председатель совхоза в маму был влюблен, поэтому самых хороших коней мне давал, — и очень любила я вечерами скакать по озаренной солнцем степи, — мама специально «амазонку» мне сшила, шляпку с вуалью, смотрелась я неплохо, во всяком случае, думаю — необычно для тех мест.
И вот однажды скакала я домой, торопилась — по длинной тополиной аллее — стемнело уже... и вдруг вижу, из канавы вверх какой-то странный луч светит — словно летающая тарелка там приземлилась!
Подъехала ближе, вижу — огромный грузовой трейлер лежит, и фара так задралась, светит вверх. Заглянула в кабину я — там усатый мужчина с окровавленным лбом — гордый нос, красивые черные брови, черные волосы с легкой сединой, скорбно сжатый рот — и без сознания. Стала я трясти его — он заваливаться стал. К счастью, дверь не заклинило, он выпал на траву. Тут удалось мне рассмотреть, что он моложе, чем в машине казался, и очень красив — хоть лицо и в крови. Что делать? Огляделась я по сторонам — ни души, солнца самый кончик над горизонтом торчит. Стала я пытаться тонкими ручонками своими поднять его, дотащила до коня, — к счастью, Граф мой вышколен был, как вкопанный стоял, поэтому удалось мне сначала кисти его рук через круп коня перебросить, потом и всего его перевесить через круп. Потом и сама осторожно села сзади — Граф затрусил. Мужчина этот так в сознание и не приходил, только когда мама моя уже во двор выскочила и стали мы стаскивать его — он приоткрыл на мгновение мутные глаза, увидел меня — в шляпке с вуалью, в амазонке, улыбнулся: «В каком я веке?» — и снова глаза закрыл. Отнесли мы в хату его, мама фельдшер была, первую помощь оказала, отец в контору побежал — «скорую помощь» вызывать и аварийку... Примерно через час не утерпела — зашла я в комнатку, где он лежал, — он, словно почувствовав меня, открыл глаза и посмотрел. Мама спрашивает его:
— Что с вами произошло?
А он смотрит так на меня, улыбается и — чувствуется — специально для меня говорит:
— Загляделся!
Но потом, когда его в Ростов в больницу отвезли, что-то серьезное у него с ребрами оказалось, — я вскорости явилась к нему — как раз у нас областные проходили — влюбленным, говорят, всегда везет! И тут он (тайн у нас уже не было друг от друга) объяснил мне, как все это произошло:
— В меня стреляли!
— Кто?
— Тебе, девочка, лучше этого не знать!
Потом вышла я прогуляться по Ростову, сразу встретила ну просто массу знакомых, всех этих деятелей — мелких жуликов, фарцовщиков — давно знала. Один из них, Левка, даже в шутку ухаживал за мной, хотя четко, конечно, знал, что ничего не обломится ему. Ну, потрепались с ним, как всегда, потом я спрашиваю его:
— Не знаешь такого — Аркадия Шахназарова?
Левка тут посерьезнел сразу и даже как-то торжественно сказал:
— Никто не знает никакого Шахназарова, но все в нашем мире знают Шаха! Страшно даже представить, делами какого масштаба он ворочает!
Ну, после этого пришла я к Аркадию в больницу и, топнув ножкой, потребовала, чтобы он все-все мне рассказал.
Ну он — сначала неохотно, потом все азартней стал рассказывать о том, какие дела делаются на этих междугородных перевозках и какие силы там сталкиваются, на самых высоких уровнях. Так что стрельба — это так, детские погремушки, — иногда трейлеры, работающие на разных хозяев, на полном ходу врезаются лоб в лоб.
— Только смотри у меня, чтобы остался цел! — пальчиком ему погрозила. И остальные дни, позабыв о делах, мы с «миллионерчиком» моим (так я шутливо его назвала) резвились буквально как дети!
Однажды забежали с ним в ресторан — в самый, разумеется, лучший, какой в городе был, — официант сразу скатерть сменил, поставил цветы. Вдруг появляются какие-то люди, отзывают Аркадия в сторону, о чем-то долго беседуют.
— Что они от тебя хотят? — ревниво спрашиваю, когда он, улыбаясь, приходит.
— Да ничего страшного — просто хотят меня убить! — продолжая улыбаться, он говорит...
Ну, тут он понемногу поправляться стал и собирался уже в Ленинград к себе отправиться — он родом, вообще, из Нахичевани, возле Ростова, но давно уже в Ленинграде обосновался, — и как раз тогда должны были его на заграничные рейсы перевести. А насчет меня договорились мы, что я быстренько мастера спорта в моем «Урожае» получу и сразу — к нему, — со званием, он сказал, абсолютно все дорожки передо мной будут открыты. И вот — прошла последняя ночь — наутро он уехал.
Я, ни жива ни мертва, прибегаю в гостиницу, девчонки открыли мне задвижки — мы на первом этаже жили. В этот день как раз финалы должны были идти...
... — Ну — и где же твой Шах? — нетерпеливо перебил я.
— Видимо, что-то произошло, — она скорбно пожала плечом.
Ну, ясно! У всех девушек такого рода всегда наготове трагически-романтическая история — то ее жених знаменитый автогонщик, то разведчик, то дипломат — важно, что в настоящий момент они находятся в жестокой разлуке, но любовь их, несомненно, преодолеет все преграды! Удивительно стойкий стереотип: ни разу еще не слышал, чтобы жених был обыкновенный человек, например техник, — если уж техник, то зубной, который купается и ее купает в золоте. Пока мы читаем великие произведения, параллельно создается такой вот фольклор, поражающий иногда своей безвкусицей и какими-то немыслимыми требованиями к жизни — в частности, к женихам. Причем одно из самых обидных требований: ты должен в момент рассказа непременно трагически отсутствовать, твое тупое присутствие сразу бы обесценило тебя!
Ну что ж... это все знакомо.
— Извини! — сказал ей я, открыл дверь в ванную, закрутил воду — пышная зеленоватая пена шипела уже у края. Выходя, я заметил жадный взгляд, который она кинула в ванную, — оттуда несло жаром, пахло хвоей. Но нет уж! Ванна — это чревато, это уж, как говорится, другой сюжет!
Я демонстративно прикрыл дверь — она гордо отвернулась.
Сказка вторая
В этот день должны были финалы начинаться...
Перед всеми крупными соревнованиями осмотр проводится — ну, мы с девчонками как к дурацкой формальности к этому относились.
Меня спрашивают:
— Маринка, ты пойдешь на осмотр?
И я вдруг слышу, что отвечаю:
— Да наверное, схожу!
А дело в том, что с некоторых пор меня — глухо, почти бессознательно — беспокоили какие-то странные ощущения в правой ноге.
Пришла я на осмотр, ничего не сказала — но врач наш, Альберт Дмитриевич, сам почувствовал что-то: долго правую мою тискал, мял.
— Что-то не нравится мне твоя нога. Вспомни — ударяла ты ее за последнее время?
— Я удивляюсь вам, Альберт Дмитрия! Что значит — за последнее время? Сами же знаете — падаем то и дело!
— Ясно! — Альберт Дмитриевич вздохнул. — Вот тебе направление — сделай снимок! Только сегодня же, обязательно!
— А в финале мне выступать или нет?
— Да можно, наверное... — неуверенно плечом пожал. — Вряд ли это уже повлияет...
Держалась так спокойненько я, но у самой сердечко прыгало, как птичка в клетке, — поняла я, что судьба вмешалась в нашу любовь, причем судьба трагическая!
Ясно было уже, что трудное счастье нам предстоит — и только стиснув зубы все испытания выдержать можно!
Вышли мы строем на помост.
— Ой, девочки! — шепчу. — Не смогу я, наверное, сегодня выступать!
Комсорг наш, Томка Ярмолюк, посмотрела на меня, просипела простуженным своим голосом:
— Ничего! Сможешь как миленькая!
Построение кончилось, начались соревнования — и действительно, то ли от отчаяния, то ли от счастья все получалось у меня, словно на крыльях летала, — по трем видам первое место! Влетела я в раздевалку в конце, все обнимают меня, поздравляют — один Альберт Дмитриевич как туча стоит:
— Все завтра уезжают, а тебе придется остаться, пока результатов снимка не получим!
Проводила девчонок я, а сама на следующий день пошла получать результаты снимка — через сад той больницы, где мы недавно с Аркадием гуляли.
Сказала я регистраторше мою фамилию, та посмотрела на меня как-то странно.
— Пройдите, пожалуйста, в кабинет к главному врачу — там вас ждут.
Вхожу в кабинет к главному — веселенькая, бодренькая — у стола главного сидят Альберт Дмитриевич и тренер наш, Платон Михайлович, оба мрачнее тучи. Увидел Альберт Дмитриевич меня, подошел, обнял, поцеловал.
— Ну, девочка, крепись! — глухо сказал. — У тебя злокачественное изменение кости!
Эти двое еще как-то держались, а Платон Михайлович не выдержал — вдруг зарыдал и выскочил!
— Вот так вот! — главный говорит. — Надо кумекать. У нас ты просто окажешься без ноги — и все дела! Надо бы тебя в Курган, к Илизарову поместить... но как? — посмотрел на Альберта Дмитриевича. — Есть у вас... какие-нибудь возможности... на самом высшем уровне, я имею в виду?
Альбертик, наш увалень, только вздохнул: откуда у него возможности — физкультурный врач обычной сельской команды!
— Не волнуйтесь! — по головке его погладила. — Мариночка ваша сама разберется, что к чему!
Благодарно он посмотрел на меня, поцеловал и вышел. А я к главному повернулась:
— Я в вашем распоряжении!
— Молодец, девка! — главный крякнул. — С твоим характером нигде не пропадешь!
Поместил он меня в отдельную палату, под персональную ответственность старшей сестры.
Потом, когда я осталась уже совсем одна — тут только страх навалился на меня. За что же мне такое наказание? Все больную ногу трогала в темноте, и уже казалось мне, что она заметно легче другой!
Но наутро — солнышко все озарило, и сразу после завтрака главный входит — сияет:
— Ну ты, — говорит, — не иначе как в сорочке родилась! Направляют тебя в клинику самого Илизарова — нашлись люди с возможностями, позаботились о тебе!
Сердечко у меня так и прыгнуло! Неужели — Аркадий? Откуда он мог узнать — сутки всего прошли: я не звонила, не телеграфировала ему об этом... Неужели он?
Сразу после главного заглядывает старшая медсестра и так презрительно произносит: «К вам посетитель!» И так оглядывает меня, словно лежу я не на больничной койке, а в ресторане, в отдельном кабинете — где мне, по-видимому, и место. Только успела я волосики поправить... гляжу на дверь... входит Семен Семеныч!
Был такой деятель у нас в Облсовпрофе, крутился возле нашей команды, какой-то шишкой был, но с нами все разыгрывал этакого добренького дядюшку, этакого дурачка-простачка. Толстый, потный, хохочущий, все время на выступлениях наших терся, считалось хорошей приметой перед выходом по лысине ему шлепнуть — просто счастлив бывал он тогда. Но дурачок дурачком — а на самом деле он, конечно, огромную силу имел! Назначили нам молодого тренера, только из института, и не поладили они что-то с Семен Семенычем — тренер стал требовать, чтобы Семен Семеныч не мешал его работе, — так буквально как пробка из бутылки вылетел на другой же день, а Семен Семеныч, как ни в чем не бывало, снова похохатывал. Так это он, значит, мое леченье устроил! А Аркадий что же? А ну и пусть! Посмотрела я на улыбающегося Семен Семеныча, на добродушную его рожу — и сразу легче на душе стало: есть все-таки люди! Кстати промежду прочим! — огромный букет роз приволок — обожаю розы! — баночку красненькой икорки, баночку крабиков... Вот так!
— Знай, девочка, — сказал, — что у тебя есть друг, к которому ты всегда можешь обратиться!
Не удержалась я, слезки полились, чмокнула его в лысинку, как он любил. У меня так — «слезки на колесках», как мама, утешая, любила говорить.
И в Курган я ехала, между прочим, в отдельном купе, и все оно цветами заполнено было: нарциссы, каллы, гиацинты — ну, и, конечно, розы мои любименькие — так я и расцеловала их алые мордочки!
И в Кургане, между прочим, встретили меня на черной «Волге» и до самой больнички аккуратно доставили.
И палата, куда поместили меня, тоже вся оказалась в цветах, — правда, были там еще две девушки, но свои в доску, причем из самых привилегированных кругов!
В тот же вечер приняли они меня в свой «штаб» — очень смешная и трогательная церемония принятия у них была. В общем — отличная компашка там у нас подобралась, в основном из достаточно обеспеченных семей: если пили мы, то только шампанское, а курили «Мальборо» или «Данхилл». И главное, с самого начала клятву давали: не распускаться, какая бы боль ни была — держать хвост петушком!
Боль, конечно, чудовищная, когда выпиливал сам Илизаров — участок кости, потом ставил аппарат для удлинения. На то, что получилось из ноги, невозможно было без слез смотреть, — однако на следующий же вечер уже устраивала я, как называли здесь, «малый королевский прием в будуаре». И нанесли, надо сказать, таких угощений, которых я в жизни своей не пробовала. Ну, для примера скажу, что самое скромное блюдо было — консервированный балык, никто даже не притрагивался к нему, да и вообще ели мало — в основном пели, читали стихи. А потом, когда я стала понемножку, с палочкой еще, ходить — вообще какой-то непрерывный карнавал начался, какие-то костюмированные балы, представления! В основном ребята из достаточно обеспеченных семей там были: многие по санкции министерств сюда попали, различных ведомств, у многих родители за границей служили — так что самые модные тряпки у нас были, причем жадничать не принято было, так что иной раз буквально глаза разбегались: «Ну что же одеть?» Вообще — в этом, надо сказать, заслуга Илизарова самого — сам дух в его заведении совсем не больничный поддерживался: как только способен, иди гуляй — хоть на танцы, хоть в театр!
Однажды завалились мы нашей гоп-компанией в местный ресторан — какой-то механизатор на меня загляделся, танцевать пригласил.
— Пожалуйста, — выхожу из-за стола, — если вам это не помешает... — показываю на аппарат.
Его даже пот прошиб — платком капли вытирая, попятился. Компашка наша грохнула:
— Жидкий нынче мужик пошел — аппарата боится!
Один там мальчик влюблен был в меня — то есть, уточняю, один, который этого абсолютно не скрывал, в ночь на рождество позвал меня в наш «штаб» (семь месяцев уже пролетело, как я поступила сюда!), в «штабе» нашем курили мы, иногда выпивали... порой и другое — кто на что был способен — смешно было в нашем положении еще отказывать себе в чем-нибудь! — поздравил прерывающимся голосом с рождеством меня и коробочку какую-то в руку сунул:
— Вот — на память от влюбленного разгильдяя!
Открыла коробочку — там старинные сережки с камешками. Вообще-то и в этом городке делались дела — достать все, что угодно, можно было, — но где он такую прелесть откопал? Настоящая старинная работа: я немножко разбиралась в этом деле. Ушки у меня давно уже были проколоты, мама моя еще в шесть лет меня к одной женщине сводила, мочки проткнула и все время разные сережки примеряла, — так что я теперь быстренько вставила, посмотрелась в зеркальце — ну просто прелесть!
Паша уже тогда знаменитым мальчиком был — кассеты с его песнями котировались на одном уровне с «Битлами». А если еще увидеть его — вообще голову можно потерять: огромные серые глаза, льняные, как у ангела, кудри, легкая хромота (к сожалению, так и оставшаяся)... но даже и она как-то шла ему... девочки млели — и не только у нас. Чуть ли не ежедневно почтальон пачки писем ему приносил, причем не только из Ленинграда, — разумеется, от девочек, которых он раньше уже успел своей внешностью и исполнением покорить. До этого я ревновала немножко — а что можно было сделать? — но теперь, когда он уже объяснился в любви, я, как говорится, топнула ножкой — и той же ночью вынесли мы все письма на хозяйственный двор и сожгли.
— Все свое прошлое, — сказал он, — сжигаю ради тебя!
После этого мы уже не скрывали наших отношений — повсюду только вдвоем приглашали нас, быстренько ребятки наши объясняли невеждам: Мариночка — это девочка Паши.
Где-то в апреле стали нас к выписке готовить. Шеф нам, с присущей ему грубоватостью, говорил: «Ну, мы сделали свое дело — теперь вы делайте свое!»
Я в Ленинград, кстати, тоже не нахлебницей к знаменитому мальчику ехала — у меня, слава богу, достаточно трезвая головка. Я твердо решила про себя: подготовиться и поступать в театральный или пробиваться в кино. За время в больнице я довольно многое открыла в себе, узнала много стихов и очень неплохо их читала — во всяком случае, целыми ночами не давали мне отдыха, просили еще и еще. Кроме того, и болезнь наложила на меня свой отпечаток: раньше я просто хорошенькой дурочкой была, и то страшное, что пережила, добавило мне серьезного, даже трагического, а будущей актрисе без этих качеств невозможно существовать, иначе — просто хорошенькая пустышка, и все.
Паша немножко раньше уехал, чтобы обо всем договориться, а потом и я стала собираться. Петербургом я с детства бредила — Блоком, Достоевским буквально упивалась, наверное кто-то из моих предков жил там! Но и уезжать немножко грустненько было: как-то уже привыкла я к нашей больничке — главное, что познакомилась здесь с настоящей элитой: большинство из дурашливых вроде моих дружков по настоянию министерств сюда попадали, разных комитетов, хотя бы Пашин отец — довольно крупным деятелем в сфере культуры в Ленинграде был. Привыкла я к ребяткам, и с шефом грустненько было расставаться, — что там говорить, великий человек — не случайно сейчас все лучшие клиники мира буквально нарасхват его тащат. Ножку он мне замечательно починил — хромота должна в течение года пройти, и остались еще синие пятнышки, похожие на ожоги, на некоторых деликатных местах, — но у нас, среди своих, они за знаки отличия считались — у кого больше?!
Провожали всей гоп-компанией меня — специальную стенгазету выпустили, с дурацкими фотографиями и надписью: «Хранить вечно!» — а купе ну просто все розами завалили — соседка даже ворчала полночи, что не может уснуть, — видно, впервые в жизни обоняла аромат роз... Но на следующий день я с любезной улыбочкой всем в купе раздарила цветочки, так что дальше ехали все довольненькие — умением ладить с человечками я с самого детства отличалась...
А хоть держалась я бодренько — и в поезде в том числе, — но иногда схватывало сердечко: господи — куда я еду? В огромный, незнакомый город! И, конечно, очень грустненько было мне, когда о маме думала я... За все это время приезжала она один-единственный раз, и совсем странная была: взгляд неподвижный, отсутствующий. В общем, ее можно понять: совсем недавно братик погиб, теперь несчастье со мной. И по немногим сказанным ею словам понятно было уже, что фактически простилась она со мной... она и отца всю жизнь в упор не видела — за то, что в жизни он ничего не добился, — теперь такая же история со мной. Написала я ей, что еду в Ленинград, в закрытую клинику, куда доступ запрещен, — и получила пожелание выздоравливать и пятьдесят рублей — ведь я же на полное государственное обеспечение ехала! — хотя, чуть постаравшись, можно было понять, что нет таких больниц, кроме инфекционных, куда вход закрыт, — но такой вариант, видимо, устраивал ее.
Но грустно было это понять! Торопила последние часы — скорей бы приехать! И вот — перрон. С охапкой роз выскочила я из вагона — навстречу мне шел Паша, но как-то боком, неуверенно, словно оглядываясь назад. Я веером бросила цветы во все стороны, кинулась ему на шею... Он стоял неподвижно, опустив руки. Вдруг рядом оказалась молодая красивая женщина в кожаном пальто. Она быстро оглядела меня с ног до головы — будто хотела купить.
— Паша! — проговорила она, улыбаясь. — Ну что ты стоишь, как соляной столп! Познакомь же нас!
— Моя мама, — пробормотал Паша. — А это... я говорил тебе.
Слово «это» в его устах резко меня покоробило.
— Ну — возьми же чемодан... эх ты, увалень! Совсем еще жизни не знает! — «доверчиво» поделилась она со мной.
Паша шел молча, словно обиженный тем, что его заставили тащить чемодан, а она непрерывно щебетала — об ужасных условиях в поездах, о грубости поездной обслуги. Мы прошли через большой зал, вышли на улицу. Подошли к «Жигулям» кофейного цвета.
— Вас куда, Мариночка, отвезти? — ставя «дворники» на стекла, вскользь поинтересовалась она.
Я молчала, не в силах справиться с чувством омерзения.
— Мне... на Невский! — наконец назвала я единственную улицу, которую я знала, и она это поняла — насмешливо подняв бровь, смотрела на меня.
— Так вот же... Невский! — она с недоумением показала рукой, потом поглядела на Пашу. Тот как раз опускал мой чемодан в багажник — и так и застыл, как выключенный робот. Потом поставил чемодан на асфальт.
— Я знаю! — спокойно ответила я. — Так что — благодарю вас — доберусь сама!
Я наклонилась, взяла чемодан и пошла в указанном направлении. Единственное, о чем молила я бога, — чтобы не хромать, но нога, увы, не слушалась меня. Я мечтала об одном — скорей свернуть, стряхнуть их липкие взгляды со спины!
Невский резко разочаровал меня — какой-то тусклый, неуютный, пустой в этот утренний час. Асфальт — видимо, из-за близости вокзала — грязный, закиданный бумажками. И люди шли какие-то мятые, грязные, неухоженные. Да и сама — измятая, с чемоданом в руках — выглядела довольно нелепо, сразу было видно приезжую. Наш заведующий отделением Юлий Борисович Фрейдзон часто, любуясь, говорил мне: «Вы, Мариночка, сама жизнь!» А здесь, наоборот, я казалась себе осколком больницы. Я быстро пошла назад, свернула в боковую улицу, пошла по каменным плитам тротуара. Дома были какие-то мертвые, за стеклами не было ни души — все или ушли на работу, или еще не поднимались. Наконец — увидела впереди, в тумане какие-то движущиеся фигуры. Встрепенулась, пошла туда. В каменном колодце среди высоких стен без окон стояли сразу три пивных ларька и около них копошились люди с серыми, измятыми лицами.
«Да-а! — подумала я. — Неласково меня встречает великий город!»
Потом постепенно стало светло... Надо было как-то жить! Для начала следовало привести себя немножко в порядок. Я вернулась на Невский — он был освещен уже солнышком, и люди появились уже поинтереснее. Я нашла «Салон причесок», вошла. Пока я сидела, я посмотрела, что здесь носят, — и надо сказать, что наблюдения мои были не в пользу здешних модниц. У нас, в далеком Ростове, давно уже сошла французская стрижка «Сессун» — а здесь она только начиналась! Я прямо сказала об этом девушке, у которой я стриглась, — она заинтересовалась моими словами, мы разговорились. Она сказала, что модные журналы доставать очень трудно, а начальство отстало на двадцать лет, да и в училище учат в основном допотопным прическам. Я спросила, где она училась, — она рассказала.
Вот — занятие на то время, пока я встану на ноги! — озарило меня. И никто не помешает мне поступать в театральный, — не обязана же я всем говорить, что учусь на парикмахера, — с документами всегда можно уладить, всегда найдутся — в канцелярии, в отделе кадров девочки, с которыми можно прекрасно договориться!
Я научила ее самой модной прическе — она сказала, что с нее коньяк, и, выслушав ее объяснения, как проехать, я направилась в училище. Я все больше укреплялась в своем решении: и денег будет вполне достаточно на первое время, и, главное, сама всегда будешь прилично выглядеть: если других делаешь красивыми, неужели уж не сможешь как следует позаботиться о себе?
— Главное, — сказала мне Оля (так звали парикмахершу), — суметь найти общий язык с директрисой училища.
Долго ждала я в приемной, наконец вошла. Кабинет был большой, обшитый деревом, на стенах висели вымпелы «Победителю...», «Победителю...», в шкафах стояли разные кубки. Директриса, красивая, холеная женщина, долго, словно не замечая меня, разговаривала по телефону. Из разговора было ясно, что она разговаривает с каким-то очень большим начальством, — ну, разумеется, ей было не до меня. Наконец она обратила на меня свой взор. Я рассказала ей о своем желании. Она цепко оглядела меня, потом стала расспрашивать о моих родителях — по тону ее явно чувствовалось, что она предпочла бы родителей «покруче», тогда и разговор был бы полюбезнее. Потом она долго говорила о необходимости высокого морального долга молодого человека, о необходимости держать высоко марку их училища, — к сожалению, не все на это способны, — чем больше она говорила, тем яснее я понимала, что брать она меня не хочет, что ей нужны какие-то выгоды, а от меня ей «ничего не светит».
Я уже не вслушивалась в ее слова, только смотрела на ее холеное, как бы честное, но глубоко фальшивое лицо — и пыталась вспомнить, кого же она мне напоминает. И вдруг вспомнила — я даже улыбнулась — Пашину мать! Те же интонации, та же внешность, те же дела: вроде надо быть душевной, чуткой, но все время прорывается самодовольство и надменность: смотри, какое у меня платье, смотри, какое место в жизни я занимаю, — а тебе, хорошенькая, но дерзкая девчонка, никогда ничего подобного не будет! В общем, я уже достаточно почувствовала ее — для того, чтобы понять, что нам не ужиться.
И еще вдруг вспомнила я, кого напоминает мне она! Директрису моей школы, — хотя та старая, некрасивая, одевается по-мужски, но что-то главное — в лице, в характере — у них одинаковое.
Я вспомнила, как на выпускном акте она долго проникновенно говорила о замечательных жизненных путях, которые перед нами открываются, — впрочем, слушали ее кое-как, каждый из нас достаточно уже трезво представлял, какой именно путь открывается конкретно ему, потом она выдала золотую медаль Сашке Гурову. «А теперь, — сказала она, — у нас еще один приятный сюрприз!» Оказалось, школа может выдать одно направление в вуз, и направление это, «за образцовое поведение и за активное участие в общественной жизни» выдается... Маше Буздяк. Зал загудел. Все знали, что Маша эта и в школу-то ходила через день... но все и прекрасно знали, что мама ее — директор местного универмага. И тут же Маша, не моргнув глазом, поднимается на сцену с огромной охапкой роз и с улыбочкой раздает их всем, сидящим в президиуме. Из зала, естественно, начались выкрики — и тогда наша директриса, подняв бровь, свысока оглядела всех, и так же — сквозь маску честности проглядывало самодовольство: «Гудите, мол, гудите — все равно умные люди сделают так, как лучше им!»
И после этого они еще удивляются, что мы вырастаем фальшивыми и неискренними!
Вспомнила я это, и тут же мне все стало ясно — я даже невольно улыбнулась своей проницательности.
— Что вам так смешно? — возмутилась эта дамочка.
— Извините... своим мыслям! — ответила я.
— Ну хорошо, — недовольно проговорила она. — Хоть вы и запоздали с подачей документов, идите в медкомиссию, если она вас пропустит — подавайте документы!
Простилась со мной довольно любезно, чувствовалось, что портить со мной отношения ей не хочется: как знать, может я стану когда-то ее начальницей?
В медкомиссии меня встретили грубо — чувствовалось, что директриса уже позвонила и ввела их в курс.
— Что у вас с ногой? — сразу же грубо спросила врачиха.
Я подала ей письмо от самого Илизарова, где было сказано, что любой труд не только не противопоказан, но полезен мне.
— Парикмахер по восемь часов в день стоит на ногах! Вы не выдержите этого. У нас работа, а не лечебное учреждение!.. — заорала врачиха.
— А вы не врач! — ответила я и вышла.
Слезы обиды душили меня. В коридоре сидела девушка, тоже плачущая. Мы разговорились.
— Да им не справка — им блат нужен! — сказала она. — Ко мне придрались, что когда-то в детстве у меня был бронхит, который давно уже прошел! Так что — или ищи концы, или не суйся! — посоветовала она.
Я вновь оказалась на улице. Ну — куда? И тут я вдруг вспомнила про Аркадия! Старый, добрый дружище! Правда, я вела себя не как пай-девочка — все эти месяцы не писала ему, — но и он, дрянной мальчишка, тоже не писал!
Я нашла его адрес, как на крыльях, полетела к нему.
Аркадий встретил меня так, словно мы расстались вчера.
— А, это ты? Очень хорошо! Ну, как твое здоровье? Раздевайся. Наверное, ты хочешь принять с дороги ванну?
Ванная у него была исключительная: все четыре стены зеркальные, одеколоны и косметика только английские — потом мне Аркадий сказал, что французскую косметику он считает вульгарной.
После ванны он повез меня завтракать в ресторан «Метрополь», там все знали его и называли исключительно — Шах. «Ясно, Шах!», «Сделаем, Шах!». Я любовалась им.
Каждое утро на его «фиате» мы ездили на рынок — питался он только с рынка: мясо, творог, овощи — все! Каждый раз он долго ходил по рядам, подробно расспрашивая хозяина, — чем, например, он кормил теленочка, чем поил, и даже какой масти он был. Потом он выбирал мед — это тоже целая наука, нюхал, трогал каплю меда химическим карандашом: если тот давал чернильный подтек, значит, мед разведен...
Вечерами мы обычно ходили на концерты зарубежных артистов — причем на такие, куда билетов достать практически невозможно — но Шах мог практически все! Он говорил мне, что скоро приедет его мама и тогда мы поженимся.
На улицах, в транспорте я почти не бывала, но то, что мне удалось увидеть и услышать, оставляло впечатление достаточно вульгарное. В таком городе, как Ленинград, культура общения была, увы, не слишком высока. Даже в Ростове — я имею в виду, в том кругу, с которым я общалась, — считалось позором употребить слово не в том падеже, а здесь я то и дело слышала: «Живет Мориса Тореза» или «сварила суп с рагу».
И особенно было приятно после этого оказываться в обществе Аркадия, наблюдать его изысканные манеры, слышать всегда корректную речь! Все, что было куплено и не съедалось за день, выбрасывалось в мусоропровод — несвежих продуктов он не признавал!
Однажды мы завтракали — рыночный творог, мед, овощи — вдруг зазвонил телефон. Кто-то долго, сбивчиво говорил в трубке.
— Ясно! — усмехнулся Аркадий и повесил трубку. — Маленькие неприятности, девочка моя! — сдержанно проговорил он. — Скоро за мной могут прийти. Я должен подготовиться. Тебе лучше уйти. И вещи свои возьми — наверное, будет обыск, и я не смогу объяснить, откуда у меня они. Мужайся, девочка. Все обойдется! Жду тебя недели через две. А сейчас — извини, я должен сделать несколько звонков, которые тебе лучше не слышать!
Мы быстро собрали мои вещи — и я, не успев прийти в себя, оказалась на площадке. Я посмотрела на дверь — такую родную! — и стала медленно спускаться по лестнице.
Я не знала, куда пойти, — никого в этом городе больше у меня не было — Паша с его мамашей для меня больше не существовали. Я оставила чемодан на вокзале в камере хранения и, не удержавшись, позвонила Аркадию — телефон уже не отвечал. Начались испытания. Ночевать мне было негде, несколько раз я ночевала в каких-то трущобах у бедных старушек, которые ждут возле вокзала постояльцев, на два дня поселили в гостинице — пришлось пококетничать с администратором — но через два дня выселили. Снова начались случайные ночлеги, какие-то старухи, убогие старики, — проснувшись, я сразу же брезгливо уходила оттуда. Каждый вечер я приходила к квартире Аркадия, но там было тихо. Чтобы не стоять на лестнице, я заходила в ближайший бар и подолгу сидела, пока «центровые ребята», которые там собирались, не начинали приставать.
Я получила несколько лестных предложений разделить кров, но неизменно отвечала: «Перебьетесь!»...
— ...Да-а... и где же твой Шах? — заинтересовался я. — Может, просто прячется, не открывает?
— В такие игры он не играет!
— Да-а... когда он появится, надо будет поговорить с ним о его поведении.
— Думаю, что за все ваши проповеди больше копейки он не даст!
— Да? Вот как? Ну что ж, и копейка деньги, — сказал я. — Извини... хочу ванну принять... ты... тут посидишь... или как? — я посмотрел на дверь.
— Вы, кажется, разрешили мне позвонить? — томно проговорила она.
— Ах, да...
Я ушел в ванную.
Ну ясно — из тех гордых красавиц, которые приезжают в наш город и бывают безумно оскорблены, что их не встречают с криками восторга. Как-то даже и не пытаются приспособиться, понять как и что, появляются с гордым видом, опустив ресницы: «Вот и мы!»
Знаю я прекрасно ихнюю сестру! Я уже, как Пастер, несколько раз ставил опыты на себе! Однажды пригласил двух сестер-близняшек из бара к себе, посмотреть, чем набиты их головы. Оказалось — ничем. Но пока я, изображая гусара, носился в магазин — они увели у меня занавески с окна. Вернувшись, я долго напряженно вдумывался, уже не как Пастер, а как Шерлок Холмс: почему же они взяли именно занавески, ведь у меня много других хороших вещиц? Не в силах разрешить эту тайну умозрительным путем, я взял на себя смелость поехать к ним в общежитие — перед этим они доверчиво рассказали мне все о себе! Действительно, не могли же они заранее знать, что им так понравятся мои занавески?.. Вахтерша пошла за сестричками, и вскоре они спустились, как сразу две королевы, в юбках из мучительно знакомой материи. И ни малейшего смущения я не заметил — напротив, весь вид их говорил: «Ну сколько ж еще можно нам докучать своим постылым вниманием?»
...Кстати — и эта тоже подозрительно тихо сидит: не слиняла ли уже, прихватив кое-что лишнее из моих вещичек?! Я привстал из воды... прислушался... было тихо, потом вдруг грохнула дверь. Я выскочил из ванной, кинулся к вешалке: все ли мое на месте?.. На первый взгляд, вроде бы, все... Ну — слава богу! Можно возвращаться в ванную — спокойно домыться, поблаженствовать.
В пепельнице дымился вывихнутый окурок. Дым зигзагами поднимался к потолку...
Потом я забыл про нее — и месяца через три с удивлением столкнулся с нею в своей парадной. Она выглядела совсем плохо — бледная, в потрепанной одежде, нечесаная — что-то явно случилось с ней. Она вышла из коммуналки на первом этаже — там жили в основном люди, побитые жизнью.
— Ты что... здесь теперь? — с некоторым испугом проговорил я.
Она даже не сразу узнала меня, сипло проговорила:
— А-а-а!..
— Торопишься?.. Пойдем кофе попьем... — не в силах отвести от нее испуганного взгляда, предложил я.
— А курево есть? — спросила она.
Сказка третья
Снова не застав Аркадия, я стала спускаться по лестнице — и вдруг почувствовала себя плохо. Я опустилась на ступеньки... Очнулась я на стареньком диванчике у Зинаиды Михайловны.
...Отец ее был мастер ортопедической обуви и печник. В блокаду лежал в больнице, там давали кашу. Зина приходила с котелком, отец отдавал кашу ей (так он приказал), она несла кашу домой. Дорога была очень длинная, стояли холода — собираясь в больницу, она надевала два пальто, свое и материнское, из-за этого шла очень медленно. Когда возвращалась наконец, мать каждый раз хвалила ее — говорила, что брат бы кашу не донес. Однажды она шла очень долго, потом зашла вдруг в подъезд и съела кашу. Потом стояла у стены и плакала: решила, что домой не пойдет, замерзнет здесь. Подошел военный, спросил, почему плачет. Все рассказала. Он полез в мешок и дал ей буханку хлеба. Дома мать стала бить: «Где украла?»
Первый муж Зинаиды был дамский портной, Илья. Он шил женам важных начальников и был очень богат, хоть и жил вместе со всеми в большой коммунальной квартире. У него были картины, зеркала в золотых рамах, статуэтки. Зина сначала ходила к нему просто так, посмотреть, потом уже не просто так. Мать узнала, подняла шум.
Илья испугался, — чтобы не поднимался скандал, согласился жениться. Мать сразу тоже согласилась, сказала Зине: «Солидный человек, не шантрапа уличная!» Он был дамский портной и дамский угодник. Каждый раз, придя со смены, заставала надушенных дам: «Клиентки!». Угощал их какао, печеньем, наливал рубинового вина в тонкие рюмочки.
Зина всю жизнь работала в горячем цеху, на разливке стали. Пока молодая была, с подружками не надевали темные очки, кокетничали. От этого зрение с годами испортилось.
Илья быстро состарился, стал больной, пальцы рук и ног стали опухать, не мог работать и ходить — приходилось всюду катать его в коляске-каталке. Врачи рекомендовали отвезти его на грязи в Мацесту, но Зину с работы не отпускали. Берта — соседка, вдова, вызвалась его отвезти. Когда через три недели вернулись, Берта стала гнать ее из комнаты: «Мы с Ильей решили пожениться, ты тут изменяла направо и налево, соседи подтвердят, уходи». Илья был уже совсем больной, только кивал.
Второй муж был Толстяков, энергетик. Маленький, худой — но все равно ни одной юбки мимо не пропускал. Однажды сидели вечером дома, раздался звонок. Зинаида открыла — стояла красивая, очень богатая женщина. Толстяков в испуге подскочил к ней, было слышно, как он шептал: «Скажи, что от друга по делу! Скажи, что от Павла!» Женщина посмотрела на Зинаиду: «Вы его жена?» — «Да». «Это от Павла, по делу!» — закричал Анатолий. Женщина повернулась и ушла. Зинаида, прямо как была в тапках и в халате, выскочила на улицу, догнала ее: «Вы к Толику по делу? Заходите, пожалуйста!» Та, поколебавшись, зашла. Зинаида Михайловна усадила их рядом с Анатолием, устроила дикий скандал. Женщина убежала, Зинаида успела оторвать у нее вуаль. Анатолий — позер, артист — стал ползать на коленях по полу, восклицать: «Это ужасная ошибка, больше такое не повторится!» Сделала вид, что простила. Но в субботу вечером поехала в Стрельну — там от родителей Анатолия остался дом, Постучала — дефективный брат Анатолия впустил: сказал, что Толя сейчас придет. Раздались голоса. Спряталась за печку. Вошел Анатолий с бутылкой и женщиной — на этот раз совсем простой, деревенской. Вышла из-за печки. Увидев ее, сразу же спрятал бутылку под подушку. Выхватив бутылку, разбила об стенку, устроила скандал. После этого оформила развод. Анатолий часто говорил, что один крупный начальник — его родной дядя, что он запросто, когда захочет — заходит к нему, тот вынимает из сейфа деньги, протягивает: «На, оденься — а то мне стыдно на тебя смотреть». Теперь стал угрожать этим дядей, но Зинаида не испугалась — подала на развод. От Анатолия у Зинаиды Михайловны был сын, тоже Анатолий, очень, к сожалению, похожий на отца.
Третий муж у нее был неофициальный, когда, уже испортив зрение, она работала в больнице. В отделении, где работала она, были больные после самых тяжелых операций. Сразу заметила его. Однажды они рядом смотрели телевизор и она вдруг почувствовала, как у нее колотится сердце. Потом он признался, что и сам испытывал нечто подобное. Когда пришло время выписываться, он спросил: «Можно, я пойду к тебе?» Она согласилась. У него были взрослые дети, жена. Жена выгоняла деньгу из его умелых рук — он все умел, а переехал к ней в одних кальсонах. Два года жили как в раю, все покупали, ездили на курорты. Хотели откупить дачу у прежней семьи, но сыновья потребовали двадцать тысяч.
Однажды Филин (так была его фамилия) пошел в старую свою семью за инструментом. Долго его не было, вся извелась. Наконец позвонила его прежняя жена: «Твой Филин тут пьяный». Повесила трубку, не поехала — потом казнила себя за это всю жизнь. Приехала только утром. Открыла жена. «Где он?» — «Там!» — жена кивнула, ушла на кухню. Тут на пороге комнаты появился Филин в трусах, испуганно вскрикнул, снова закрылся. Тут появилась жена, стала ругаться, выгонять ее. Когда она все-таки прорвалась в комнату, он лежал на полу в состоянии клинической смерти. Стала делать массаж сердца, искусственное дыхание рот в рот — много раз делала это больным, — но он не ожил.
— Вызовите «скорую помощь»! — крикнула жене.
— Сама вызывай! — ответила та.
Хоронили старой семьей, ее не пригласили. Хоть он всегда был против, повезли в крематорий — теперь-то старались показать свою заботу и богатство. На следующий день выкрала урну — и говорит, что, пока везла, чувствовала оттуда тепло. Договорилась с пьяницами на кладбище — те подхоронили урну в могилку ее матери, и даже продали ей готовый цветник. Через неделю к ней пришла повестка в суд — цветник оказался краденый. Пока разбирали это дело, выяснилась и история с урной. Сыновья сначала подняли хай, но потом за две тысячи согласились дело замять.
Теперь она жила в коммуналке вместе с сыном Анатолием и с его подружкой Верой. Вера — волосы короткие, свалявшиеся, лицо пухлое, словно из ваты, глазки слезящиеся, блестят, зубов почти нет — хотя еще молодая. Туфли грязные, стоптанные, чулок нет. Когда у них с Анатолием начинался очередной загул, Зинаида Михайловна стучалась ко мне, прятала что-нибудь самое ценное, чтобы не пропили, — например, постельное белье. Зинаида Михайловна тяжело дышала (ей был вшит стимулятор сердца). Иногда Анатолий, проснувшись среди ночи, начинал вдруг ломиться ко мне в комнату. Зинаида Михайловна, всегда резкая, тут словно глохла. Ей хотелось, чтобы сын ее бросил Верку и сошелся со мной.
Еще в квартире жили двое: Нина-кошатница, толстая женщина, очень плохо одетая, непонятного возраста, собиравшая у себя всех больных кошек, какие попадались, и Ефремыч, красивый, жизнерадостный старик-пенсионер — сейчас он делал отличные сухие веники и продавал их у бани.
Я стала искать работу. Ходила по улицам, читала объявления... «Требуются ровничницы, крутильщицы...» Я не знала, что это такое, но чувствовалось — что-то очень трудное и скучное.
Однажды я шла по какой-то тихой улочке, по каменным плитам, и вдруг почувствовала какое-то волнение. Я даже не сразу поняла — что такое? Какой-то знакомый, волнующий запах! Я посмотрела на здание за оградой, за деревьями — и сразу все поняла! Все больницы похожи друг на друга! Я дошла до проходной — там была огромная доска объявлений: «Требуются медсестры, рабочие на кухню...» Я шла по тусклому больничному коридору, испытывая почти что счастье: вот — то, что мне сейчас нужно, пока я немножко не оклемаюсь, не приду в себя! Тут мне близко и понятно все — от главного врача до уборщицы: известны их проблемы, понятна их каторжная, но прекрасная работа! Да и кроме того, это был мой моральный долг: ведь больница, похожая на эту, буквально поставила меня на ноги, вдохнула жизнь, — как же мне не помочь, если тут нуждаются в моих силах.
У меня уже было достаточно жизненного опыта, чтобы сразу не переться в отдел кадров: начнет там какой-нибудь мордоворот задавать вопросики — я не выдержу и сорвусь. Я шла прямо на кухню — наверняка там найдутся сердобольные женщины, с которыми можно поговорить по душам.
Так оно и вышло. Больница эта была онкологическая, поэтому давала лимитную прописку — правда, на то только время, пока работаешь здесь, — но я никуда и не собиралась отсюда уходить.
Работала я так. В полпятого утра вбегаешь в большой кафельный кухонный зал, ставишь котлы на газовую плиту, наполняешь
водой из шланга, факелом поджигаешь горелки-трубы, включаешь электрокотлы, прочищаешь засоренные краны.
Пока вода греется, бежишь в подсобку. Там стоят принятые еще вчера шесть ящиков картошки (если в меню — пюре, то больше, если только в щи-борщи, то тогда шесть). Картошку слегка чистишь в картофелечистке — много нельзя, будет недовес, — дочищаешь аккуратно, вручную. Морковь, лук — чистишь, режешь, капусту шинкуешь. Тут уже приходит повариха, начинает дергать тебя: засыпать крупу, очистить сосиски от целлофана, развести молоком кашу. Ведра, ругань. А тебе еще работать в овощной комнате, но тут завтрак уже готов: наливаешь из электрокотла несколько ведер кофе, кашу из баков по кастрюлям делишь, ставишь на тележку, грузишь в лифт, поднимаешь на этажи... и тут уже надо приниматься за обед — рубишь капусту для борща, потом открываешь огромный холодильник, с треском выламываешь груду смерзшейся рыбы, срезаешь большими ножницами острые плавники (хоть бы не поколоться!), потом чистишь, скребешь, летит чешуя, вцепляется в лицо, в волосы, потроха наматываются на пальцы, брезгливо стряхиваешь, снова наматываются... Споласкиваешь руки, затем готовишь огромный бак винегрета, к нему надо сварить — котлами! — свеклу, картошку, открыть банки с маринованными огурцами. Загружаешь варить рыбу (или кур) — сразу штук сто. Если мясо — то закладывает уже сама повариха, тут уж всякие хитрости — ее дела. От плит — жара, духота — халат надеваешь на трусы и лифчик, потом снимаешь и их. Перекурить некогда. Смотришь на часы: давно пора уже собирать пустые баки из-под завтрака. Снова по этажам, тащишь баки, в другие корпуса прямо разгоряченная, не одеваясь, бежишь через двор. Собираешь баки, кастрюли, скребешь их, драишь, полощешь... А тут пора уже разносить обед, мгновенно надо прикинуть: на первое отделение сто двадцать порций первый стол, восемьдесят четыре порции — второй... третий... четвертый... На второе отделение... И просчитаться ни в коем случае нельзя: обратно уже не вернут, исчезнет, как в сказке, а тебе потом отвечать.
Развозишь обед, возвращаешься, чистишь подсобку, вытряхиваешь из ящиков грязь от картошки, ботву, выносишь во двор, ставишь штабелями. А тут надо быстро чистить мясную комнату — в холодильнике примерзла кровь, к стенам прилипла чешуя. Особенно тщательно чистишь колоду для рубки мяса: чуть в какой щели найдет санитарная комиссия загнивание — сразу же закроют столовую, потом улаживай! Потом моешь все помещение шлангом, трешь кафель, скребешь электрокотлы — особенно после каши пригорелой тяжело отдирать...
Потом приводишь себя немножко в порядок, идешь на кухню — там уже распределяются «сэкономленные» продукты. Каждому выдают в сите, почему-то было принято в сите выдавать — кусочек мяска, кусочек масла, пару-другую рыбок, в кулечках — крупы, сахарку, луковиц там, морковок. Это в порядке вещей уже считалось, никогда даже не обсуждалось, — женщины там очень разные работали, но в этом сходились. Повариха — блекленькая, но злобненькая, диетсестра — толстая, хамка, кладовщица — цепкая, хитренькая, дочь уже пединститут заканчивает, машина, квартира. И попробуй при них сказать, что воровать, мол, нехорошо, — всем скопом накинутся на тебя, начнут орать, что вот другие, на других должностях — вот те воруют так воруют, а нам, бедолагам, сам бог велел! И вообще, про другую жизнь исключительно в злобном тоне говорилось: «...Вот — вчера эта артистка известная советовала женщинам аэробикой заниматься — поворочала бы она котлы, как мы, поглядели бы мы на нее — захотела бы она аэробикой заниматься или нет!» И обо всем в таком роде. Потом, как водится, вынимаются бутылки, и под них совсем уже душераздирающий разговор — эту муж бросил, эту сожитель, у этой сын в тюрьме — ни о чем радостном не слышала никогда. Снова вынимается вино. Домой уже доходишь в тумане.
Сначала я была рада, что устроилась на такую выгодную работу, — продукты, которые я приносила, я продавала в своей же квартире, и все были довольны: продавала я по государственной цене, а кроме того, в магазине, например, не всегда есть репчатый лук и греча, а у меня — всегда. Так что в некотором смысле я стала благодетелем квартиры — все, даже Толян, теперь уважительно разговаривали со мной. Все чувствовали, что я стала постепенно вставать на ноги. Я уже представляла, что скоро буду жить, как Шах, а одеваться, как Пашина мать, богатая и надменная, но шли месяцы, и я вдруг стала замечать, что ничего не меняется, что я живу так же, как и жила, — пашу с утра до вечера и больше ничего. Из тех доходов, что я получала, приходилось все чаще ставить бутылки поварихе, кладовщице, диетсестре, — часто они даже не распивали их на кухне, а уносили с собой, своим мужьям и непутевым детям. При этом они еще говорили, что я хамка, что за то, что они сделали для меня, я им должна быть слугою всю жизнь. Кроме того, при дележке продуктов они давали мне меньше всех, сначала я терпела это, как должное, а потом стала базарить — какого черта?! В ответ они говорили мне, что у них семьи, а я — одинокая, мне нужны средства на всякие фигли-мигли, а им — чтобы тянуться из последних сил, как-то содержать семью, кормить-поить мужей-подлецов и оболтусов-детей. Я объясняла, что им-то полегче, что у них семьи уже есть, а мне только предстоит ее завести, и для этого нужна материальная база, — в ответ они только грубо хамили.
В результате этого я стала сама брать, что мне было нужно (ну, конечно, в разумных пределах), научилась сдвигать в замке бумажку-контрольку, открывать, а потом снова ее задвигать.
Но однажды диетсестра застала меня за этим занятием, подняла хай. Потом сказала, чтобы я подавала по собственному, не то передаст дело в милицию — и раз я поймана на открывании шкафов, то все недочеты, если они обнаружатся, будут повешены на меня.
Я сказала, чтобы она заткнулась, — уйду сама.
Вечером я была у себя — раздался стук в дверь. Верка вошла — грязная, опухшая, волосы взъерошены. Неизвестно, где носило ее, но ясно, что не по хорошим местам. Одежда на ней — словно на земле спала — да так оно, наверное, и было.
— Ну чего тебе? — спрашиваю.
Голова как ватная, ничего не соображает.
Верка оглянулась на дверь, потом лезет за пазуху и вынимает какую-то книжку — старинную, с золотым заглавием.
— Сколько, думаешь, за эту книжку дадут?
Послала бы я подальше ее — настроение такое было, — но тут, как назло, ни копья — доскидывались с девушками из кухни...
— Что я тебе — эксперт? — говорю.
— Пойдем, — говорит, — если у меня книжку не примут — сдашь ты!
Где она эту книжку взяла — к гадалке, как говорится, ходить не надо. Ясно — у Борщевской. Однажды мы с Веркой с аванса моего поддали чуть больше нормы, потом на плацу оказались. Подошли Венчик, Гуляй-Нога. Венчик предложил пойти в гости к Борщевской. У многих уже тут самый любимый маршрут был; с плаца — к Борщевской. Скинулись на четыре «фаустпатрона», Гуляй-Нога, хоть и хромой, сбегал, принес. Погребли к Борщевской. Была она богатая прежде женщина, вдова одного очень известного профессора, теперь у нее ничего почти не осталось, только темные квадраты на обоях вместо картин. Вошли — дверь не закрывалась у нее, и везде — и в прихожей, и в комнатах, и на диванах, и на полу в беспамятстве люди лежали, причем такие уже, которые домой не ходят, или у которых вообще нет дома, окна распахнуты настежь, и Борщевская, красивая седая женщина, играла на рояле и пела.
Оттуда, ясное дело, и книжка — отыскалась в какой-нибудь тумбочке, в какой-нибудь этажерке. Книжка, конечно, красивая, темно-зеленая, с черными кожаными уголками, с золотыми витиеватыми буквами: «Мудрость лжи». А внутри, между плотными желтыми листами, то лепесток розы засушен, то василек — воспоминания Борщевской о счастливой ее жизни.
Хотела я Верку послать с этой книгой подальше — но сил нет уже, а в горле пересохло. Как манекен — встала, оделась.
Почапали. Верка медленно идет, туфли разваливаются на ходу, под глазом то ли отек какой-то, то ли синяк. Вошли в скупку книг — в маленькую комнатку. Простояли небольшую очередь, Верка протягивает в окошко книжку. Приемщик, седой старик, слегка дрогнул, увидев эту книжечку перед собой. Глянул на Верку, потом поднялся, ушел с этой книжечкой куда-то вглубь — видно, советоваться.
Верка вытащила из плаща паспорт, открыла. Я случайно заглянула туда и обомлела: на фотографии юная девушка — свежая, улыбающаяся, с пушистыми льняными волосами!
— Это ты, что ли? — Верке говорю.
— А что — непохоже? — Верка ухмыльнулась.
Возвращается приемщик, спрашивает:
— Откуда у вас эта книжка?
— Семейная реликвия! — Верка нахально говорит.
— На этой книге экслибрис профессора Борщевского. Возьмите ее, девушка, и уходите, пока я не вызвал милицию!
— Козел ты старый! — Верка схватила книжку.
Вышли во двор. И только прошли через него, вышли на улицу — менты нас уже ждут, с машиной: «Просим садиться!» Сначала решили мы, что это приемщик патруль вызвал, пока мы с перекупщиками длинноволосыми во дворе базарили, они то брали книгу, то возвращали, пока толковище шло — эти, наверное, и подъехали. Но когда в отделение привезли нас — оказалось, что по другому совсем делу.
Ходили по плацу двое дружков — Рейнгардт и Васильчиков. Рейнгардт внук академика был, и, когда дед умер — он известный востоковед был, — этому какое-то наследство досталось, буддочки-шмуддочки. А в этот день соседи Рейнгардта услышали стон, вошли к нему — он с проломленной головой, без сознания, лежал на полу. Милиции соседи сказали, что накануне у него Васильчиков был, они дико ругались, — сам Васильчиков все отрицал, — и теперь брали всех в свидетели, кто якшался с ними, — а я ни при чем вообще, всего раз у этого Рейнгардта и была...
... — Ну, стоп!.. Хватит! — не выдержал я. — Об чем-нибудь другом мы не можем поговорить?
Она тяжело, исподлобья, смотрела на меня. Потом взгляд ее обратился на машинку с заправленным листком. Я поспешно закрутил листик так, чтоб не было видно текста.
— Врешь? — ухмыльнулась она, кивнув на машинку.
— Почему это? — обиделся я.
— Врешь! — кивнула она. — Иначе бы не спрятал.
— Вообще-то это научная статья, — пояснил я.
— Все равно — вранье! — тяжело мотая головой, твердила она.
— Почему ты так думаешь? — пришлось пойти с ней на серьезный разговор.
— Все вы врете! — повторяла она.
Какой-то просто неистовый Виссарион! Слава богу, что при теперешнем раскладе не дадут ей ворваться так стремительно в литературу, как это сделал в свое время Виссарион Григорьич... Уж ближайшие десять-пятнадцать лет можно жить спокойно — это точно.
— Все вранье, — тупо твердила она.
Я смотрел на нее...
Да-а-а... Плац оказал на нее, безусловно, свое воздействие! Каменный колодец среди высоких стен без окон, стоят там сразу три ларька. Тупик этот — и в прямом, и в переносном смысле — тупик! — завален мусором, грязными ящиками. Под ногами асфальт, вернее, сразу много слоев асфальта. Слой, халтурно положенный, сразу ломался, и вместо того чтобы вычистить его и сделать, как следует, — прямо на эти обломки настилали как попало следующий слой, и этот сразу горбатился, ломался, на него спокойно настилали следующий — никого почему-то не волновало, что все снова разрушится. Когда находишься на этом плацу и смотришь вокруг, то невольно рождается мысль: а есть ли, действительно, на свете что-то такое, ради чего стоит держаться, не опускаться? Если все вокруг настолько отвратительно — то ради чего выделяться тебе?
И всегда там толпа! Что же привлекает их сюда?
Вот стоят перед моими глазами трое. Валера (по прозвищу «Валера толк знает») — всегда модно и добротно одетый, в синей нейлоновой куртке, в прочных ботинках на гофрированной подошве, солидный и молчаливый, не говорящий почти ни слова. Второй — весь словно иссохший, выжатый, автомеханик Лява (как образовалось прозвище, не знаю, видимо от фамилии). И третий — телефонный техник, Гуляй-Нога, обаятельный, хоть и потертый, и, несмотря на незавидную свою жизнь, всегда бодрый, с застенчиво-наглой улыбкой. Нога его слегка согнута, словно брезгует касаться земли. Сломал он ее, работая на домостроительном комбинате — с прицепа свалился на ногу блок, — однако на характер его это вроде не повлияло, — он, безусловно, душа компании, медленное его приближение (он хромает, словно ныряет) всегда встречается радостным гулом.
Лява — яростный, возбужденный, всегда что-то быстро, сбивчиво говорит, обычно выбирая для этого новичка — завсегдатаям уже надоела его история.
— ...Я помбурмастера был, денег, что грязи, имел. Жена — отличная женщина, — и в профкоме, и в месткоме, и судья!
— Как — судья? — удивленно переспрашивает новичок.
Лява долго смотрит на него немигающим взглядом — есть у него такая привычка. Иногда, правда, поворачивается к кому-нибудь из завсегдатаев, кивает на новичка: «Видали такого?»
— ...Судья всесоюзной категории по мотоспорту! — сжалившись наконец над бестолковым собеседником, поясняет он.
— А-а-а, — с некоторым облегчением произносит собеседник. — Ну и что? — задает он вполне резонный вопрос.
Лява снова долго неподвижно глядит — видно, как возмущение бестолковым собеседником закипает в нем.
— Разбежались. В двадцать четыре часа! — наконец отрывисто произносит он.
— А... как?
— Нормально! Соревнования были, я машину подготовил тип-топ!
— ...Машину?
— Мотоцикл, я имею в виду!
— А-а-а.
— Обычно этот класс двести — двести двадцать дает, а моя — двести сорок, с места!
— И как... удалось этого добиться? — говорит уже изнемогающий от бешеного напора Лявы новичок.
— ...Звезды другие, — после долгой многозначительной паузы наконец выдает Лява свой секрет.
— Это — шестерни, что ли? — бормочет новичок.
Выдержав долгую паузу, Лява кивает.
— ...И дальше что? — не в силах больше выдерживать паузы, стремясь хоть как-то подвинуть историю к концу, спрашивает новичок.
— ...Вырулил на старт, — в прежней отрывистой манере продолжает Лява. — Моя — сразу же в мегафон: «Мотогонщик под номером тринадцать, подрулите к судейской коллегии!» Подруливаю, вежливо спрашиваю: «В чем дело?» — «Вы снимаетесь с соревнований!» — «Пардон, почему?» — «У вас некондиционные шестерни!» — «Понял, благодарю вас!» Аккуратно развернулся, как дал двести сорок по Блюхера, по Тухачевского — у гаишников только фуражки слетали...
— Так... — озадаченно произносит слушатель.
— Все! — резко обрывает рассказчик. — ...Больше она меня не видела!
— Ясненько! — вздыхает новичок, с тоской озираясь по сторонам, прикидывая, как бы ему избавиться от бешеного Лявы.
Но сильнее всего из них поражает Валера. Когда видишь его в расхристанной этой толпе, одетого всегда модно и добротно, каждый раз думаешь, что он зашел сюда единожды, совершенно случайно. Однако — все время вне рейсов он проводит именно здесь! При ближайшем знакомстве поражает он вескостью и категоричностью суждений — во всем он разбирается лучше всех, и все уже надоело ему.
— Хочешь жениться — делай глупость, пожалуйста! — лениво вещает он. — Только зачем? В любом баре этого добра — хоть ухом ешь! А женишься — будешь дергаться весь рейс!
Обогащенный очередной расхожей мудростью, собеседник отходит.
Валера плавает на «загранпосуде». Казалось бы — вот хозяин жизни, весь мир перед ним, с его благами и впечатлениями. Взять хотя бы коммерческую сторону — одних ковров, кажется, загранморяку разрешается привезти из рейса чуть ли не два... Однако, как порой в правильной вроде речи таится неуловимый дефект, превращающий слова в труху, так и в характере Валеры присутствует нечто, превращающее его жизнь в полную бессмыслицу.
Длиною почти с полдома, ржавеет его «кадиллак», то ли черный, то ли коричневый, из-за грязи и ржавчины уже не разобрать. Иногда хозяин, словно соблюдая повинность, садится в него и совершает медленный круг... покидать пределы квартала Валера почему-то не любит.
В квартире его (куда так рвутся местные девушки — правда, лишь те, которые не бывали еще там) по обшарпанным полкам стоят какие-то копеечные (или, вернее, центовые) пластмассовые сувениры — больше никакой романтики, ничего больше не говорит о том, что человек повидал мир. Пылится, правда, в углу за дверью свернутый трубкой ковер — время от времени Валера вяло делает вид, что хочет его продать, какой-нибудь гость вяло изображает покупателя... но ковер пылится по-прежнему. И девушки, разочарованно отплевываясь, покидают его кров — он равнодушно закрывает за ними дверь.
Однажды корабль его был интернирован в латиноамериканском порту, весь мир кричал об этом, на плацу ждали чего-то... но он появился как ни в чем не бывало, будто съездил за город, угостил всех довольно-таки вялой историей — о бананах, которые приходилось есть и на первое, и на второе, и на третье... и все!
Хочется воскликнуть с отчаянием: «Да что же это делается, друзья мои?!» Когда речь заходит о Валере, я начинаю горячиться! Казалось бы, человеку доступно многое!.. Однако он простаивает день за днем на плацу, выслушивая все более и более неразборчивые бормотания Лявы и Гуляй-Ноги.
— Домой иди! — снисходительно дает он Ляве очередной бесценный совет.
Может, он пребывает тут потому, что только здесь чувствует себя самым значительным из всех?
— Не пойду! — дерзко отвечает расхристанный Лява, недовыяснивший еще сложных своих отношений кое с кем из присутствующих.
Валера, под начавшимся мелким дождичком, продолжает стоять на плацу в одиночестве. Наконец появляется Лява, кровь льется по его лицу. Ну что ж — теперь можно и домой!
С чувством исполненного долга Валера неторопливо проходит через плац, задумчиво глядя на великолепные свои ботинки, но равнодушно наступая при этом на лужи — сквозь дыры в асфальте этого года виден асфальт прошлогодний, за ним позапрошлогодний — как из-под какой-нибудь критской культуры выглядывает культура финикийская, — но эти не хочется почему-то изучать, уж больно они халтурные, эти культуры!
Светится еще недавно открытое на втором этаже торгового центра вечернее кафе. Но заходить туда лучше не стоит! А зайдешь — моментально отчаяние охватывает тебя. Все здесь, от оформления до питания, словно с каким-то мрачным наслаждением, сделано плохо... Кому и за что здесь мстят? Даже хозяевам, делающим тут свои воровские деньги, и то вредно находиться тут более часа! Сердце обливается кровью: ведь раньше, говорят, рестораны и кафе делали лучшие архитекторы, думали, как сделать красивее и уютнее... здесь — квадратная стеклянная клетка, по бокам развешаны динамики... и все! Сойдет и так? Но что будет? Невольно тут глаз тянется к бутылке, которая, несомненно, имеет наиболее изысканную архитектурную форму из всего, что видно вокруг.
Поздно вечером я возвращаюсь к парадной, протягиваю руку и долго, ничего не понимая, стою... Куда это я пришел? Абсолютно ровная поверхность! Ах да — вот это дверь, но ручка почему-то оторвана. Ручку-то зачем?! — слезы вдруг выкатились у меня из глаз. Если бы действия эти происходили на вражеской территории, их бы еще можно было понять, — но так?!!..
На другой день — на плацу снова толпа.
— Правильно говорит умный мальчик! — доносится реплика Валеры.
— Да что ты понимаешь в моторах! — замахнувшись ящиком, Лява бросается на него.
Валера неторопливо берет его лицо в свою ладонь и с поворотом кисти толкает в куст. Гуляй-Нога гулко захохотал... Когда я узнал, что он — телефонный техник, я понял, почему так плохо работает телефон.
Сбоку на тротуаре стоит аккуратный, седенький, розовенький старичок, с веничком под мышкой — видимо, остановился поглядеть по дороге из баньки.
— Да-а-а! — поймав его слезящийся и вроде бы даже сияющий взгляд, произношу я.
— А что ж? — почти довольно произносит старичок. — Как же им не пить, когда они свою рабочую совесть пропивают?!
И довольный собой — он-то не пропивал свою рабочую совесть! — старичок поворачивается и с достоинством идет домой пить чай.
— ...Послушай... — после долгой паузы сказал я Марине, — ну помнишь... у тебя был жених... еще в больнице... на гитаре еще замечательно играл?! Может, тебе его все-таки разыскать?
— Сам разыскивай! — после паузы хрипло отвечает она.
— Ну — у тебя был где-то адрес?!
— Ну и что?
Дверь мне открыла красивая женщина.
— Вы по поводу Паши?
Я кивнул.
— Вы... из милиции?
— Еще нет. Просто я хотел бы с ним поговорить.
— Поговорите с ним! Поговорите хотя бы вы — может быть, хотя бы постороннего он послушает!
— А что с ним?
— Не с ним! С ними всеми!
— А что — с ними всеми?
— Они уходят из дома, ничего не объясняя, бросают своих родителей, которые им не сделали ничего, кроме добра, и целые дни сидят, скрестив ноги, в каком-то своем сквере, играют на гитарах и ничего не говорят!
— ...Где этот сквер? — обернувшись на лестнице, спросил я.
...Кто обритый наголо, кто заросший, в хламных одеждах, которые постеснялся бы надеть даже нищий, они сидели на скамейках, абсолютно не общаясь. Некоторые тренькали на гитарах, остальные низали бисер — доставали бисеринки из стаканов, надевали на нитки. У многих дам, впрочем и у кавалеров тоже, на запястьях и шеях красовались такие ожерелья.
Подъехала машина, из нее вышли двое милиционеров. Медленно пошли, вглядываясь в лица. Подошли к одному, с чубом на бритой голове, в длинном рваном пальто, застегнутом булавкой. Остановились.
— Паспорт! — протягивая руку, резко произнес милиционер.
Тот, заметно испугавшись, протянул руку с паспортом. Милиционер посмотрел, потом кивнул напарнику. Они, ни слова не говоря, подняли парня и потащили его в машину. Остальные продолжали низать бисер.
Все было ясно! Я даже не стал спрашивать, который тут Паша, — не имеет значения!
Сказка четвертая
Однажды я шла на рынок. Зинаида Михайловна плела коврики-половички, а я их продавала: у меня все эти черноусые покупали охотнее и давали больше — их, несомненно, привлекала моя кажущаяся доступность, очаровательная болтливость — ля-ля-тополя. Часто я договаривалась с ними на вечер, они жадно покупали половички, имея в виду нечто совсем другое, — а вечером я просто не являлась — и все. Наутро они, если появлялись, мрачно обходили меня стороной, не здоровались, но уже это мне было — как до лампочки!
И вот я однажды шла на рынок, и вдруг ноздри мои задрожали... Что такое?.. Весна! — вдруг поняла я. Снег уже стаял, сухой асфальт, многие моют окна, кидают зайчики! Давно я не испытывала такого ликованья! Что ж такое, подумала я, почему я живу почти как старуха, — я ведь молодая, в сущности, девчонка! С этой жизнью забудешь и про весну!
В тот день половички шли особенно бойко, а вернувшись, я решила сделать что-то особенное... например — помыть окна! С треском я открыла окна — между рамами было полно грязи — не мылось уже, наверное, лет десять! Я с упоением терла, стекла музыкально пели — и это тоже было музыкой весны!
Я стояла на подоконнике, примерно в полутора метрах от земли, в коротеньком халате, который сшила себе еще в школе. Ножки мои за зиму выровнялись, стали гладенькие — и не отличишь, которая прооперирована, если не являешься специалистом. А в смысле стройности и красоты — тут не о чем было и спорить. «У вас, Мариночка, ноги из подмышек растут!» — как говорил наш заведующий отделением Юлий Борисович Фрейдзон.
Вдруг я увидела, что внизу идет парень в замшевой куртке и с бородой, — но как-то медленно уж идет и ухмыляется в бороду. В руках у него какой-то жбан.
— Проходи, тут не кино! — рявкнула я. Я чувствовала себя неотразимой.
— Откуда ты, прелестное дитя? — наоборот, остановившись, произнес он.
— Я Дюймовочка из раскрывшегося цветка! — сказала я.
— Представляю этот цветочек! — улыбнулся он. — А не хочешь, Дюймовочка, с нами пива попить?
— А вы кто?
— Пойдем, увидишь!
Подал он мне руку, я спрыгнула прямо с окна, как со ступеньки кареты, — было приятно чувствовать, как ножки слушаются меня!
Мы пошли через проходные дворы. Тут была целая система дворов, от Лиговки до Фонтанки можно было идти этими дворами. Зимой это все словно спало, казалось, что жизнь ушла отсюда, но весной все вдруг ожило. И, глядя на эту жизнь, казалось, что история здесь остановилась: кирпичи, покрытые мхом, покосившиеся флигелечки. Идешь, и вдруг видишь узкий тупичок, заставленный баками, — но там еще какое-нибудь окошечко с геранью, какая-нибудь древняя старушка сидит там, сама тоже вытянувшись, как бледный росточек, ловит личиком горячее солнце, радуется — еще до одной весны дожила! Видно — все, что осталось в жизни у нее: эта геранька да последнее солнце!
А в самом первом нашем дворе-колодце, в окошечке маленьком, единственном в высоченном глухом брандмауэре, сумасшедший жил — хохоча, выбрасывал из своего окошечка горящие тряпки прямо на огромный тополь под окном — белый пух загорался, приезжали пожарные, милиция, грозили ему. Но самое смешное: никак к сумасшедшему этому пройти не могли — такие сложные, запутанные коммуналки тут были.
Вообще, много тут еще от Петербурга Достоевского осталось... Таинственный город!
Дошли до какого-то черного хода, вошли. После солнечного двора холодно показалось, темно.
— Ну, куда? — обернулась.
— Дуй до горы — не ошибешься!
Помчалась я наверх — только коленки мелькали! Допрыгала до самого верха — наконец, провожатый мой поднимается, тяжело дыша.
— Ну ты, мать, даешь! Просто какой-то королевский скороход!
— Ну, куда? — огляделась я, кругом только ржавые чердачные двери.
— Погоди... моторюга не работает! — подержался за сердце, потом дал мне жбанчик, сам достал длинный ключ с бородкой, вставил в дверь.
Открыл — какая-то темная прихожая, сбоку из маленькой кухоньки выходит седой кудрявый человек.
— Ну, тебя только за смертью посылать!.. О!.. Здрасьте! — увидел меня.
— Кто еще там? — его окликают.
— Да Феликс... какую-то нимфу привел!
— Дворничиху, что ли?
Вошла я внутрь и обомлела — от яркости, после темной лестницы. Огромные стеклянные окна в наклонной крыше, большое светлое помещение, и еще светлей от белой бумаги, всюду листы приколоты с рисунками — на огромных столах, на кульманах. На каких-то лежанках по стенам лежат ребятки, — кто в свитере, кто в тельняшке, кто в мятой ковбойке.
— О! — крайний меня увидел, испуганно вскочил, стал торопливо жилетку застегивать, остальные вскочили, очумело смотрели на меня — но я благосклонно на них взирала — не могли же они, дурашки, знать, что я к ним приду!
— Ты кто ж такая? — самый старший спрашивает, с седыми кудрями.
— Я — Весна! — вся так вытянувшись к свету, зажмурившись (греет-то как!), воскликнула.
— Весна Боттичелли? — усмехнувшись, старший говорит.
— А не похоже? — обернувшись к нему, дерзко говорю.
— Ну ты, весна... пиво будешь? — как бы на правах уже старого знакомца Феликс ворчит.
Резко обернулась к нему, смерила взглядом.
— Я пью только шампанское! — сказала ему.
— От шампанского икают иногда! — еще один вступил, маленький, хилый, но за что-то, видно, уважали его тут, — все засмеялись немудрящей его остроте.
— Ты готовить умеешь? — седой спросил.
— А у вас есть что? — свысока посмотрела на него, пошла на кухню.
Зашла на кухню — и чуть мне дурно не стало: бутылки, коробки, огрызки! Поставила я картошку варить — единственное, что было у них, — потом говорю:
— Ну, свинюшки, дайте хоть швабру какую-нибудь — попробую порядок у вас навести!
Поняла сразу, что цацу незачем тут корчить — свои ребята!
Долго выгребала у них, выбрасывала в мусоропровод.
Тем временем сварилась картошка, подала на стол в большой комнате, разлили пиво.
— Погоди! — вдруг хилый кричит. — А Парфенову ведь тоже надо налить!
Притащили какой-то портрет, нарисованный карандашом, — карикатуру, попросту говоря, — поставили перед ним склянку пива, картошину — и просто падали со своих табуреток от хохота. Смотрела я на них: ну просто дети, разве можно в их возрасте такими несерьезными быть?
Потом стала я всматриваться в портрет — и что-то очень знакомое в нем мелькнуло, — здорово было нарисовано, надо сказать.
— Скажите, — наконец не удержалась, — а его... не Семен Семеныч зовут?! — узнала спасителя своего, который ногу мне спас!
Тишина наступила — все изумленно глядели на меня.
— Да-а... шустрая нимфочка! — наконец, седой произнес.
— Вот тебе и провинциалочка! — Феликс сказал.
— Да он вроде бы тоже откуда-то... — произнес хилый.
— Так что же — он ваш начальник? — оглядела я их.
— У нас нет начальников! — хилый сказал.
— Ну ясно, — оглядела его. — Вы — вольные художники! А все же...
Стала расспрашивать я их и выяснила, что Семен Семенович через час явится сюда собственной персоной, с новым заказом!
— Ясненько! — говорю. — Ждите меня — я сейчас! Все будет тип-топ!
Домыла свое окно — слава богу, что никто не залез, почти час открытое простояло! — подогрела быстро воду: вымыла голову, оделась скромненько, но чистенько, прибежала туда.
— Все хорошеешь! — седой буркнул.
Чувствовалось, что нервничали они перед приходом шефа, поэтому разговаривали друг с другом... не всегда ровно. Наконец — звонок: мощный, властный, сразу чувствуется — хозяин идет!
Вошел Семен Семеныч — впялился в меня, но чувствуется, что не узнает. Да и я с трудом узнала его — совсем важный стал, представительный.
— Семен Семеныч! — наконец говорю. — Помните хромоножку?
В глазах — недоумение, даже испуг, потом вдруг — радость — вспомнил!
— Ах ты хромоножка моя! — обнялись, поцеловались. — Ну как ты? Как ножка твоя?
— Отлично! — говорю. Ножку свою показала. Рассказала ему, что и как, — ну, естественно, не так, как все было, — сказала, что приехала поступать, не выдержала, хожу на курсы, и хотела бы пока интересную работу — желательно что-нибудь связанное с искусством.
— Ну ясно! — Семен Семеныч твердил. — Ну ясно — уж землячку не брошу! — Снова мягкий стал, домашний, как тогда, когда по соревнованиям с нами таскался.
Сказал, что работает здесь теперь, в Управлении культуры, занимается тем, что кормит вот этих, как он сказал, разгильдяев.
— Что б ты делал без этих разгильдяев? — Феликс проворчал.
— Так может, раз уж зашла о нас речь, поговорим о делах? — жестко хилый произнес.
Чувствовалось, что именно он, а не седой здесь главный.
Семен Семеныч медленно повернулся к нему, поглядел на него совсем другим уже, тяжелым взглядом.
— Ну что ж, поговорим, — медленно произнес, — и предупреждаю, что разговор будет не из приятных!.. А ты, землячка, иди — черкни только адресок, через недельку покалякаем!
Написала я адрес свой, сунула ему в кармашек, поцеловала в лысину, как он любил.
— Семен Семеныч! — сказала. — Это отличные ребята! Я хочу, чтобы все у них было тип-топ! Ясно? — и ножкой топнула.
— Слушаюсь! — Семен Семеныч шутливо вытянулся и снова тяжелый взгляд на хилого перевел.
Выскочила я — довольно хмурыми взглядами меня хозяева проводили.
Часика через три заглянула я к ним — интересно, выполнил ли Семен Семеныч мое указание?
Феликс совсем очумелый мне открыл.
Кивнул только: «Ага!» — и внутрь ушел.
А там работа кипела — делали, как выяснилось, макет украшения города к какому-то празднику — кажется, к Дню строителя. Какие-то кубы устанавливали друг на друга, раскрашивали, — работали слаженно, четко, а среди них Семен Семеныч метался — тоже запаренный, в жилетке:
— Ребятушки! — вопил. — Не дайте пропасть! Не погубите! Дети, семья! В золоте будете купаться — это я, Парфенов, вам говорю!
Но те и так работали как черти: резали, клеили, рисовали, — абсолютно без слов друг друга понимали — просто с восторгом я смотрела на них.
Потом уже ночью заглянула к ним, сделала чай. Парфенова не было, а ребятки, как призраки уже, мотались по мастерской, в синеватом свете дневных ламп, кто голый по пояс, кто в рваной футболке, — и все клеили, рисовали.
— Успеваем! — седой прохрипел.
Потом я уже утром к ним зашла, часов в одиннадцать, — воскресенье было. Все на стульях. Полная неподвижность. Молчание. Головы повешены.
— Ну что, орёлики, приуныли? — бодренько говорю.
— Да так. Ничего особенного, — седой голову поднял. — Сейчас звонил твой Семен Семеныч — сказал, что оформление не потребуется, есть указание, ввиду невыполнения какого-то плана, встретить праздник в скромной, сдержанной манере. Вот так.
— Ну и что же будет? — поглядела на их изнуренные лица.
— А ничего! — Феликс руками развел.
— И не заплатят?
— А за что же? — хилый усмехнулся. — За это?
Посмотрел на нагроможденные картонные кубы.
— Действительно! — Феликс произнес.
И стали вдруг снова дико хохотать, потом Феликс пнул один куб, хилый отшиб — начали куролесить, радостно вопить. Смотрела я на них — ну просто малые дети! Ну разве можно так жить взрослым мужикам — надеяться неизвестно на что, зависеть постоянно от чьей-то милости?
Ушла. Через несколько дней как-то зашла — узнать, в основном, не появлялся ли Парфенов. Так Феликс даже внутрь меня не пустил.
— А... это ты! — зачумленно пробормотал и даже не отодвинулся, чтобы меня пропустить. — Извини!.. Пашем как сумасшедшие!
И дверь закрыл. Ну что ж — если люди не знают, что такое благодарность, — это их дело!
А Семен Семеныч, как и обещал, через недельку заглянул — весь вообще такой, с понтом под зонтом, припомаженный, приглаженный, — но быстро язык общий нашел и с Зинаидой Михайловной, и с Толяном, и даже с Веркой. И только когда остались мы наедине, лысой головой своей покрутил:
— Да-а, землячка, — надо выбираться тебе отсюда! Ну, для начала приискал я тебе работенку: так, ничего особенного, раз специальности нет у тебя, — но чистенько, культурненько, и деньгу можно выгонять, если постараться... И как ты просила, связанную с искусством работу нашел тебе — на фабрике «Сувенир», где настоящие художественные вещи делают! Только вот вопрос — надо что-то с пропиской делать — с лимитной снимут тебя, а без прописки не возьмут... Тут нам с почтеннейшей Зинаидой Михайловной надо покумекать!
И родилась тут довольно странная идея: записаться с Толяном мне — фиктивно, разумеется, — тогда сразу пропишут.
Зинаида Михайловна сначала обиделась, разумеется, что с ее сыном-красавцем не желают по-настоящему записываться, только фиктивно! Но потом смирилась — хоть так, все-таки что-то да светит!
На другой день ходила куда-то — видимо, к своим старым подругам, советовалась, потом пришла ко мне и говорит:
— Значит, вот так! Говорила я с подругой одной моей — у нее похожий случай! Так она со своей — такой же приблудной, вроде тебя, — пятьсот рублей за это дело взяла, ну а с тебя поскольку много не возьмешь, договоримся на триста! Это последнее мое слово — все-таки нелегко сына продавать, хоть он и дрянь! — мрачно усмехнулась.
— А Верка не будет скандалить? — осторожно спрашиваю. — Все-таки хоть и без записи, а давно они с Толей живут.
— Эта Верка, — Зинаида Михайловна говорит, — за бутылку самого господа бога продаст — не то что это барахло в пиджаке! Да и жить-то он все равно с ней будет — не с тобой же.
— А вы не думаете, Зинаида Михайловна, — такой запускаю шар, — что они эти триста рублей пропьют за неделю и только хуже еще им будет — совсем до ручки дойдут?
— Об этом не беспокойся! — Зинаида Михайловна усмехнулась. — Деньгами я буду распоряжаться! Дам им пять червонцев, за все про все, а на остальное какую-то хоть одежку Толику надо купить — совсем обтрепался!
— Скажите, Зинаида Михайловна, — вежливо так говорю. — А двести пятьдесят рублей не устроят вас? Все-таки я сама себя обеспечиваю, без какой-либо помощи.
— Из-за серьезности твоей только на это дело и пошла! — Зинаида говорит. — Была бы так... барахло... вроде сынка моего — вовек бы согласия моего не услышала!
Жалко, конечно, было за это «барахло в пиджаке» такие деньги платить, но, видно, другого выхода не было — пора все-таки на ноги становиться, так, сбоку припека, надоело болтаться!
Толян неожиданно вдруг обрадовался, разволновался.
— Ну! — залопотал. — Наконец-то у меня законная жена будет — как все равно приличный буду человек! А ты — любовницей моей будешь — как, согласна, нет? — Верке подмигнул.
Разумеется, у Зинаиды Михайловны он гораздо больше вытянул, чем она планировала, гульбище устроил, весь плац пригласил — давно не видела этих поганых рож!
Посидела я минут пять, ради приличия, потом полный развал пошел, встала, ушла.
Ночью уже Толян ломился ко мне, орал:
— Слышь, открой! Угаремливаю тебя! Слышь — я отличный парень! Душа подъезда!
Под утро наконец угомонился.
Пошла я работать на фабрику. Работа, конечно, чистенькая, — но покруче, чем в столовой. Поставили меня упаковщицей на конвейер — берешь с конвейера кулон или брошку, потом берешь маленькую этикетку, ставишь на нее штампик с числом, кладешь все это в пластиковый пакетик и специальным приспособлением завариваешь его. Откладываешь — берешь следующий. За тысячу таких операций — восемьдесят копеек! Поначалу колготки не могла себе с получки купить. Потом устроила бунт, пошла к начальнику, сказала, что хочу в художественном процессе участвовать, а не бездумно работать. Что ж — перевели меня в художественный цех — наносить позолоту на края чашек. Крутится такое колесико с золотой краской, подносишь к нему чашечку, наносишь бордюрчик. Тысяча чашечек — все те же восемьдесят копеечек! Конечно, чтобы сравнительно прилично иметь, сидишь до упору, хоть смена и кончилась, — на это у нас сквозь пальцы смотрели... Так что выходила вымотанная, ноги буквально руками переставляла. Иногда только, обычно перед выходным, заходила в наш местный бар — поддать слегка, кайфовую музыку послушать. Лезла, конечно, в основном мелюзга несовершеннолетняя, но стоило мне сказать пару слов, как отскакивали. Сидела так, в сладком отупении, смотрела все время на классную фирменную игрушку на стойке — такие соломинки, вроде коктейльных, наливаются вдруг огнем... зеленым... потом багровым... кажется, что салют видишь — но только очень издалека — с другой планеты вроде, или из самолета. И вот сижу я однажды в таком зашоре, вдруг входит в бар баба — яркая брюнетка, чем-то похожая на меня, но «прикинута» — как я только видела на обложках самых крутых журналов!
Подходит, не глядя по сторонам, к стойке, бармен сразу почтительно склоняется к ней, она передает ему какой-то пакет и тут же собирается уходить.
— Ладно, — вдруг бармену говорит, — сделай-ка нам по хорошему кофейку — хочу вот с подружкой поболтать!
И так улыбнулась, будто мы действительно с ней подруги.
— Ну... ты чего здесь сидишь? — говорит.
— А ты чего?
— Да я так, по делу.
— Ну и я по делу!
— Ну — чумовая ты! Это же брат мой работает, — на бармена кивнула, — я ему фирменные лекарства передала для матери.
— А что ты — фирменные лекарства можешь доставать? — это заинтересовало меня.
— Я все могу! — сказала.
Разговорились. Сказала, что Жанна ее зовут. Что приехала, как и я, с юга два года назад, и поначалу тоже круто пришлось, но постепенно сообразила, что к чему, встала на ноги — и уже себе квартиру купила, и мать больную вытащила сюда, вместе с младшеньким братиком, — и им квартиру сделала, и на место его ткнула непыльное, — на бармена кивнула. Хоть, конечно, одна суета — солидная публика сюда не ходит!
— А куда ходит? — я спросила.
— Об этом мы завтра с тобой поговорим! — подмигнула. — А сейчас пойдем отсюда. Пока!
Бармен, в каких-то расчетах запутавшийся, только кивнул.
Приехали мы к ней — такой квартирки я в жизни не видела. Хоть от центра и далеко — но полный люкс! Кровать белым мехом накрыта, белый с золотом телефон. И откуда-то тихая музыка звучит, — как Жанна объяснила, вместо иглы у нее лазерный луч, только в самых крутых домах новинка эта есть. Сказала еще, что завтра видео посмотрим — сегодня на один день подружке отдала.
Приняли мы ванну, легли спать, но всю ночь шептались — она про свою жизнь рассказывала, я — про свою.
Утром — я спала еще: вносит кофе на подносе, нарезанный ананас и телефон на длинном шнуре.
— Все ясно, Жора! — говорит в трубку. — Она девочка умненькая! Договорились.
— Жора этот — не грузин, случайно? — спрашиваю ее.
— Нет. Впрочем, это неважно. Он нам только помогает.
Распахнула свой шкаф — стали одеваться. Я хотела поярче одеться, чтобы лучше выглядеть, — но Жанна, наоборот, дала мне самое строгое:
— Вот это одень! Что за провинциальные привычки — дешевкой выглядеть! Чем строже мы выглядим — тем выше нам цена!
Оделись, как на дипломатический прием, вышли, поймали тачку, приехали в ресторан. Швейцар никого не пускал туда, но нас пропустил. Встретил официант нас — интеллигентный, в очках, вежливо поздоровался со мной, назвал себя: «Георгий» — и в пустом еще почти зале за столик со свежекрахмаленной скатертью посадил.
— Тебе рыбку, как всегда? — к Жанне обратился. — А вам что? (Я сказала.) ...Сейчас — через минуту буквально клиенты ваши подойдут!
Тут задергалась я.
— Может, подкраситься пойти? — Жанке говорю.
— Спокойнее, детка! — Жанка говорит. — Не они нам нужны, а мы им!
Входит Жора, вносит закуски, ставит с подноса на стол.
— Ну все, — говорит, — явились ваши! В туалете причесываются — сейчас будут!
— Опять «финики», что ли? Снова нажрутся? — капризно Жанка говорит.
— Нет — в этот раз интеллигентные, не лесорубы какие-нибудь! Будете довольны! — дружески подмигнул.
— Отличный парень, между прочим! — чтобы паузу заполнить, Жанка рассказывать стала про нашего официанта. — Из очень приличной семьи, папа — профессор, сам учится в Институте советской торговли!
— Надо же! — удивилась.
— Со мной ты не такое еще увидишь! — весело Жанка сказала.
И вот — подходят двое — один пожилой, другой совсем мальчик. Одеты, главное, удивительно скромно, не то что наши — напялят на себя все с наклейками, а эти — в простых белых бобочках, в парусиновых брючках. Вежливо здороваются, целуют ручки, расшаркиваются. Садятся.
Жанка сразу по-фински заговорила, удивительно толковая девчонка: это надо же — финский выучить — а-а-а, о-о-о — сплошные гласные, язык можно сломать!
Причем говорит с достоинством, свысока, я бы сказала, а те только робко соглашаются, улыбаются, кивают!
Смотрела я на них — симпатичные лица, интеллигентные, но что поражало меня больше всего — что совсем разного возраста они, один
другому в сыновья годится, как же они гуляют вместе, — у нас такого не бывает.
Спросила я, улыбаясь, у Жанки — не сын ли это с отцом. Жанка спросила, потом кивнула мне: да... так оно и есть.
Тут как-то впервые неловко мне стало... Всякое бывает у нас — но чтобы отец с сыном вместе по бабам ходили... такого не встречала. Все-таки есть какой-то стыд. А эти — хоть бы что, улыбаются, радостно кивают, словно родство их — всего лишь смешная подробность, не более того. Потом пожилой что-то долго подробно говорил, Жанка слушала с ученым видом, кивала.
— Ну... что они? — не выдержала, спросила.
— Меньше штокай, больше улыбайся! — довольно жестко уже Жанка говорит, — Они сейчас уезжают на машине в Выборг, а оттуда домой, и приглашают нас сопровождать их.
— До Выборга?
— Ну — а докуда ж еще? — Жанка усмехнулась.
Зашли они в номер — переодеться, вещи взять, мы ждали их в холле, немножко неловко мне было болтаться там, а Жанке хоть бы что — с целой группой туристов разговорилась, те хохотали одобрительно, жвачку протягивали, но она отказывалась.
Наконец вышли эти, вежливо простились с администратором, швейцаром. Тот с интересным выражением на нас смотрел — будто нас нет.
Пошли на стоянку, сели в их машину — низкая, дымчатого цвета, падаешь в кресло, как в пух! Даже и не заметила, как тронулись, настолько плавный у них ход.
По дороге очень любезно себя вели, чтобы за коленки там хватать — ничего подобного — европейское воспитание!
Вежливо беседовали о жизни, о политике — нашу жизнь они знали очень хорошо, многое одобряли. Хорошие люди, без затей, довольно искренне рассказали о себе. Пожилой сказал, что он преподаватель в гимназии, преподает спорт, а сын его — музыкант, учится в училище и уже играет в каком-то оркестре. И при этом — я сначала не поняла — еще имеют мастерскую по ремонту машин, чинят машины.
— Как же так? — я удивилась. — Преподаватель, музыкант — и машины чинят?
— Нормальный ход! — Жанка сказала. — У них это не зазорно, деньги жмут из всего! Это у нас — гордая нация! — Жанка усмехнулась.
Да, действительно, подумала я, скажи Паше моему, который заманил меня сюда, что он, гениальный музыкант, должен в гараже время от времени работать, — представляю, какую гримасу бы он скорчил! А ведь он, насколько знаю я, музыкой своей не зарабатывает ни копейки! А этот — и учится, и в оркестре играет, и еще в гараже подрабатывает! Не удивительно, что так богато они живут!
— Со мной ты много интересного узнаешь! — Жанка улыбается.
Потом пожилой, улыбаясь, рассказывать стал, что был месяц назад в Париже, и там вообще молодежь клянчит деньги на каждом углу — на флейтах играют, на барабанах, и монетками в жестянках бренчат. А потом, наполнив баночку, садятся в машины свои и едут к родителям в коттеджи — и лично он ничего плохого в этом не видит — трудовое воспитание, как у нас говорят!
Потом вдруг замолчали они, стали на километровые столбы поглядывать, о чем-то лопотать.
— Что они... заблудились, что ли? — я встревожилась.
— Это не твоя забота — сиди, кури! — Жанка говорит.
Наконец, у столба с цифрой «86» совсем остановились.
— Что — бензин, что ли, кончился у них? — заволновалась.
— Слушай — будешь дергаться, — Жанка говорит, — вылезешь сейчас из тачки и пойдешь пешком!
Стояли, ждали, неизвестно чего, — от нетерпения, действительно, хотелось выскочить и пойти пешком.
И вдруг — раздвигаются кусты, и появляется Шах. Быстро садится на переднее сиденье, где молодой один сидел, за рулем, машина трогается. Я с отчаянием смотрю на него — неужели не узнает? Шах здоровается по-фински, начинает говорить, молодой кивает. Потом обмениваются какими-то свертками. У автобусной остановки машина тормозит.
— Слушай, Шах! — не разжимая зубов, вдруг Жанка говорит. — Ты когда мне стольник отдашь?
Тут он словно впервые заметил нас — обернулся, оскалился, пальчиками помахал и вышел из машины.
«А-а-а, раз так — катись оно все...!» — подумала я.
Дальше молча ехали. Наконец, под вечер уже, свернули с дороги в какой-то кемпинг — красивые домики из обожженного дерева, ресторан с терраской в народном стиле. Простенько, мило. Табличка: «Только за конвертируемую валюту».
Усадили они нас с Жанкой за столик в ресторанчике, а сами, как Жанка перевела, пошли уладить некоторые формальности. Подходит к нашему столику официант, похожий на Жору, такой же чистенький, аккуратный.
— Салют, Жанночка! — говорит. — Ну что — новую шкуру привезла?
Наверное, только через полминуты я поняла, что это про меня. Вспыхнула, вскочила.
— Сиди! — сквозь зубы мне Жанка говорит.
И тут вокруг нас все официанты собрались — пялятся на меня, скалятся.
— Эту шкурку еще обрабатывать надо! — какой-то толстый солидный человек проговорил, видно метрдотель.
— Слушай! — я вскочила. — Могу я хотя бы в туалет сходить?
— Тут за это удовольствие валютой надо платить. Есть она у тебя? Так что сиди... А ты зубы не скаль! — холодно Жанка нашему официанту говорит. — Тащи, что у тебя есть, — клиент крутой!
Принес он, усмехаясь, две вазочки с черной икрой, шампанское в мельхиоровом ведерке, ветчину. Вдруг метрдотель торопливо подходит к нему, что-то шепчет.
— Та-ак! — усмехаясь, официант говорит. — Свалили фирмачи ваши! Видно, не вы им были нужны! Видно, они вас вместо занавесок использовали! Да, вредное у вас производство! — усмехается и начинает составлять обратно на поднос все, что принес.
— Хоть ветчину-то оставь! — глухо Жанка говорит.
— Перебьетесь! — усмехнулся. Унес.
За ним подошел метрдотель и стал убирать приборы.
— Мог бы полюбезнее с дамами! — проговорила Жанка.
— Не вижу дам! — радостно улыбаясь, сказал он.
Жанка вдруг схватила его двумя пальцами за толстый нос и повернула к себе, и некоторое время держала так.
— Теперь видишь, жирная свинья? — побелев от ярости, проговорила Жанка.
— Отпусти сейчас же! Ты что — с ума сошла?! — прогнусавил он.
— Жалко — рука устала! — Жанка отпустила его и села.
Сначала я испугалась, потом захохотала: молодец Жанка!
— Ну все! Сейчас схлопочешь! — все еще гнусаво (нос слипся и не разлипался) проговорил метрдотель и выскочил за стеклянную дверь.
— Валим! — быстро вскочила я.
— Тут один выход — некуда валить, — устало сказала Жанна.
— Через кухню!
— А потом — через помойку? — усмехнулась Жанка. — Неохота, — ясно тебе?!
Появился торжествующий метр с тоненьким молоденьким лейтенантиком. Он вежливо отдал честь. Ночевали мы в карцере, там были очень узкие скамейки по стенкам — можно было только чуть-чуть присесть. Правда, на полу, вольготно раскинувшись, спала женщина в мужском пиджаке и мужских ботинках, непонятного возраста, похожая на Верку. На пол ложиться не хотелось — он был грязный и, главное, бетонный и холодный.
Жанка все не могла угомониться, барабанила в дверь:
— Эй вы, козлы! Позовите Дмитрия Алексеича! Выпустите меня, я должна позвонить Дмитрию Алексеичу!
Время от времени дверь открывалась и появлялся толстый дежурный.
— Слушай, ты... — сквозь зубы говорил он. — Будешь выступать — нарисую на полную катушку!
Проснулась я все же на полу — одежда вся изгваздалась, лицо опухло, — но теперь это, как говорится, мало колыхало меня. Было еще рано, но Жанка сразу начала лихорадочно краситься.
— Сейчас придет Дмитрий Алексеич, — уже как заклинание повторяла она. — Он им устроит!
Я слушала вяло, — я уже столько нахлебалась за этот свой так называемый уик-энд, что все дальнейшее трогало мало.
Наконец нас вызвали в большую комнату. Там сидел дежурный, еще двое в форме и один в штатском, с широким лицом и маленькими тяжелыми глазками, — как я поняла, это и был Дмитрий Алексеич, которого так ждала Жанка, но только я не заметила, чтоб он особенно стремился нас спасать.
— Ты что ж, Приказчикова, — строго обратился он к Жанке. — Бузишь? Такого уговора у нас не было.
— Так козлы же, Дмитрий Алексеич... я имею в виду — в ресторане, — торопливо добавила она.
— Доиграешься, Приказчикова! — проговорил Дмитрий Алексеич. — Ладно, — он повернулся к дежурному: — Дай мне их на минутку.
Дежурный нервно пожал плечом.
Мы перешли втроем в маленькую комнатку.
— Хорошую напарницу себе нашла! — то ли серьезно, то ли издевательски проговорил Дмитрий Алексеич. — Курите! — он протянул пачку «Мальборо». Мы закурили. — Так, — деловито проговорил он. — Кто садился в машину?
Жанка, мрачно затягиваясь, молчала.
— Шах? — проговорил он. Своими маленькими глазками он буравил Жанку, но как-то успел заметить, что я вздрогнула.
— Знаешь его? — он повернулся ко мне.
— Нет! — торопливо ответила я.
— Шах? — снова повернулся он к Жанке.
Жанка мрачно кивнула.
— Ну все! — Дмитрий Алексеич хлопнул ручищей по столу. — Теперь он спекся! Двое свидетелей!
— Кто? — спросила я.
— Как кто? Да вы же с подруженькой! — проговорил Дмитрий Алексеич. — Видели, как валюту покупал? Скажете на суде!
— Так что же... — я вскочила. — На суде этом надо будет говорить, что мы... ехали в машине с финнами?
— Странная подруга у тебя! — сказал Дмитрий Алексеич Жанке. — Как садиться в машину — ей не стыдно, а как всего лишь рассказать об этом — стыдится!
Из-за двери грянул хохот — как я поняла, все слышали наш разговор.
— Ладно! — Он встал, мы вышли в большую комнату. — Этой адрес у тебя есть? — кивнул он дежурному на меня.
— Нарисуем! — поигрывая брелком с ключом, проговорил дежурный.
— Ну — чтоб больше не бузить у меня! — сказал Дмитрий Алексеич.
— Слушай! — азартно воскликнул дежурный, глянув на Жанку. — Подари ты мне эту, а? Я ей нарисую на полную катушку — давно она у меня поперек горла стоит!
— Ладно! — усмехнулся Дмитрий Алексеич. — У тебя свои заботы, у меня — свои! — он вышел.
— Так ты, оказывается, и замужем еще?! — Дежурный записал мой адрес, позвонил, проверил.
— Ну что? — поигрывая брелоком, проговорил он. — Сделать вам по полной программе?
— Ну, зачем, Петр Игоревич! — заискивающе проговорила Жанка. — Думаю, мы еще сможем оказать друг другу некоторые услуги!
— От твоих услуг потом слишком долго лечиться! — сказал он, и милиционеры заржали. — Ну ладно... Катитесь, до поры до времени!
Мы молча вышли.
Некоторое время мы шли по шоссе.
— Ну что — на автобус? — я показала на автобусную остановку.
— Еще чего? Только на тачке! — Жанка нахально стала сигналить проезжающим машинам — тут ехали одни иностранцы. Я видела, что она так заведена, что способна сейчас буквально на все.
Иностранные машины все проезжали мимо, потом затормозила одна, вроде бы иностранная, но на самом деле там оказался наш, толстый нахальный Миша. Он сразу стал разговаривать с нами на «ты», сказал, что он скорняк, шьет меховые шубы и шапки, и имеет столько, сколько пожелает.
— И у вас, девочки, будет все, что пожелаете, если будете хорошо себя вести! — он умудрялся держаться за руль и при этом хватать нас обеих.
— Слушай, красавица, — обратился он ко мне, — принеси-ка мне вон тот цветочек!
Я обложила его, как могла, вышла из машины, и не выходила из леса, пока они не уехали.
Потом я снова вышла на шоссе и пошла к городу — автобусных остановок тут не было. Обернувшись на шум, я увидела, что из-за поворота медленно выворачивает огромный белый трейлер с голубыми буквами «Междугородные перевозки». Появление этой машины взволновало меня — ведь, можно сказать, из-за такой же я и оказалась здесь: если бы я не встретила Аркадия, все бы пошло по-другому. Я знала, что им запрещено делать лишние остановки, но на всякий случай подняла руку. Неожиданно машина остановилась. Я залезла в кабину. Пожилой человек в майке недовольно посмотрел на меня.
— Вечно из-за вас неприятности! — разгоняя свою колымагу и разглядывая меня, проворчал он.
— Извините! — сказала я.
— Что — иностранцы выкинули из машины? — хмуро поинтересовался он.
— Сама вышла! — с вызовом ответила я.
— Ну разве ж можно так жить?! — сказал он. — Что же за девушки нынче пошли?
В сердцах он начал рассказывать, что его дочь курит и не ночует дома, а когда дома, то целыми днями болтает по телефону с хахелями, и что из школы ее, наверно, выгонят, а ведь она еще только в девятом классе, ей всего лишь пятнадцать лет...
— Что из вас таких выйдет? — оглядывая меня, воскликнул он.
— Я, между прочим, работаю на фабрике! — ответила я. — А свободное время провожу так, как мне нравится!
— Ну ясно — нравится иностранные плевки собирать! — произнес он и всю остальную дорогу даже не смотрел в мою сторону, только вздыхал.
Когда я вошла в квартиру — сразу увидела в коридоре милиционера.
Я подумала, что сейчас он повезет меня на суд, хотела захлопнуть дверь.
— Минуточку! — сказал он.
Ноги мои ослабели.
«Ну, все!» — подумала я.
— Так — а это еще кто? — спросил милиционер у Зинаиды Михайловны, показав на меня.
— Это — супруга Анатолия! — с достоинством ответила она.
— Как — супруга? А это кто? — он заглянул на кухню, где сидела на табуретке Верка.
— А это так, прошмандовка, — сурово сказала Зинаида Михайловна.
— Да, у вас тут сам черт ногу сломит! — в сердцах проговорил милиционер и вышел.
Оказалось — Толян в очередной раз разодрался с Веркой, и соседи вызвали милицию. Только и всего.
В понедельник я вышла на работу, с некоторым испугом глядела на начальство, начиная с нашего мастера Байковой, но пока вроде бы никакие сведения обо мне до них не дошли. Мне показалось, что начальник производства, обходя линию, как-то отдельно посмотрел на меня — но ничего не сказал, я тайком с облегчением вздохнула.
Рядом со мной на конвейере сидела Рая, мы во время перерывов и когда не шла продукция, разговаривали с ней. Рая была толстая и какая-то сонная. Однажды Рая пригласила меня к себе домой — у нее был неженатый брат, только что вернувшийся из армии, а о своем семейном положении я умалчивала. Рая жила с родителями и братом. Они тоже совсем недавно приехали в Ленинград, то ли из Псковской, то ли из Новгородской области, но уже имели обставленную квартиру в районе новостроек. Все дома там были абсолютно одинаковые, место было очень скучное, но это их не волновало. Петербург с его красотами и историей их абсолютно не интересовал. Родители работали на мясокомбинате и ездили только от мясокомбината, расположенного неподалеку, до дома, таскали мясной дефицит и очень были довольны. Рая таскала посуду — вся посуда у них в доме была нашего производства. Такой же был и брат — с той только разницей, что пока не нашел, что таскать. Все вечера они сидели в своей квартире, обвешанной коврами, как ковровый магазин, и молча смотрели цветной телевизор. Иногда они собирались со своими многочисленными родственниками, ели дефицит, потом шатались по улице и визгливыми голосами пели песни. Если бы снять кино про их жизнь, никто бы не догадался, что действие происходит в Ленинграде. Зачем вообще они приехали в Ленинград, было непонятно, — может быть, потому, что здесь расположен мясокомбинат?
Однажды мы с Раей курили возле цеха, она все допытывалась, как мне понравился ее брат, я отвечала уклончиво, но так, чтобы не обидеть ее. Глядя в основном в сторону, я увидела, что в другом конце площадки курят двое бородатых парней, видимо художники, — они часто бывали у нас на фабрике, выполняя различные заказы. В одном я узнала «хилого» — того, из мастерской в нашем дворе. Его звали Андрей. Он тоже узнал меня, подошел, поздоровался. Было видно, что он нервничает, папироса то и дело гасла, он снова ее зажигал.
— Так ты здесь, значит? — поглядев на мой белый халат, произнес он. — Ну тебя и занесло! Здесь же одни дубы!
Он стал рассказывать, что сделал колоссальный чайный сервиз, на нашей фабрике их было выпущено шестьсот штук, иностранцы раскупили их в один день, — но больше на этой фабрике делать этот сервиз не хотят, вернулись к прежним унылым образцам, так спокойнее. Одно дело — иностранцы, а для нас — лучше поспокойнее, пусть и похуже!
Я сказала, что мне тоже надоело делать абсолютно одинаковые некрасивые чашки — хотелось бы чего-то поинтересней.
Андрей неожиданно очень обрадовался, назвал меня «наш человек» и сказал, что я очень могу ему помочь: одно дело, когда говорит он, и совсем другое — когда говорят сами работники. Обед только еще начинался. Мы пошли с ним в комитет комсомола. Секретарь комитета комсомола фабрики, худой длинноволосый парень, внимательно выслушал нас и сказал, что целиком поддерживает, что мы можем сейчас же пойти вместе с ним к главному художнику фабрики. Главным художником фабрики была женщина — очень красивая, очень старая, абсолютно седая, но со спины ее можно было принять за девушку. Кабинет ее напоминал музей: в стеклянных витринах стояли изделия нашей фабрики со дня основания ее, сто пятьдесят лет назад, до наших дней. Особенно мне понравилась фарфоровая статуэтка — пастух и пастушка, грациозно прижавшиеся друг к другу.
Разговаривала она исключительно с Андреем — нас она словно не замечала.
— Вы же знаете, Андрюша, как я люблю все, что вы делаете! — тихим, доверительным тоном говорила она, время от времени прикасаясь к его руке, успокаивая. — Мы же выпустили ваш сервиз, но пускать его в массовое производство — вы же знаете, на каком уровне оно у нас, это значит профанировать идею, вы сами не узнаете свой сервиз в массовом исполнении!
— Так поднимите этот самый уровень! — разгорячился Андрей. — Я хочу, чтоб не одни капиталисты, а и мои друзья тоже пили чай из моих чашек.
— К сожалению — ваших друзей не так много, а массовый покупатель требует этого! — она показала на аляповатую чашку, в производстве которой участвовала и я. — Вкус, как вы знаете, — еще более тихо и доверительно сказала она, — ужасно упал, видимо из-за того, что наш город сейчас в основном состоит из приезжих, — тут она почему-то глянула на меня.
— Ну а мы на что?! — воскликнул Андрей.
Художница, мягко улыбаясь, развела руками.
Потом мы пошли к начальнику производства, Николаю Михайловичу. Он, в отличие от главной художницы, принял нас очень ласково, усадил в кресла.
— Я все знаю, Галина Иннокентьевна звонила мне — я целиком за! Но план, план! Никто не сократит нам количество выпускаемых единиц! Я понимаю, что девиз сейчас — инициатива, творчество, так что если молодежь, — он глянул на секретаря, — все организует, то я обеими руками за!
Выяснилось, что нужно оставаться после работы, осваивать новую технологию, а может быть, и некоторые смежные специальности — наверняка ведь найдутся люди, которые не захотят участвовать в эксперименте, и нужно все суметь сделать и за них. Но я загорелась — надоело бессмысленно прожигать жизнь!
В следующий десятиминутный перерыв, когда мы встали из-за конвейера, я стала уговаривать девчонок заняться этим делом — в основном они встречали это насмешливо.
— А с личной жизнью, значит, покончить? — сказала Рая.
Тут подошел секретарь, послушал разговор, потом отозвал меня в сторону. Сказал, что я молодец, что такие люди сейчас очень нужны, он хочет, чтобы меня избрали в комитет комсомола, чтобы я расшевелила это стоячее болото — он сам уже не в силах!
Через неделю было комсомольское собрание, совсем не похожее на предыдущие — на прежних все слушали бормотанье с трибуны, а сами дремали или читали. Это собрание прошло бурно — все кричали, вскакивали с мест. Большинство говорило, что так продолжаться больше не может, что, действительно, надо что-то менять! Секретарь с трудом угомонил зал и сказал, что он предлагает выбрать меня на освободившееся в комитете комсомола место и назначить ответственной за проведение эксперимента.
— Покажите нам ее! — крикнул из зала какой-то шутник.
Я вышла на сцену.
— О-о-о! — восхищенно воскликнул тот же шутник, и зал дружелюбно засмеялся.
Тут неожиданно попросил слово завпроизводством Николай Михайлович и с огорченным видом сказал, что моя кандидатура не подходит, к сожалению, на меня пришла из милиции бумага... (вряд ли она пришла именно в этот день — этот жук наверняка так подстроил!). В абсолютной, гробовой тишине он прочел о моем приключении с финнами, там же говорилось, что дебоширила в ресторане и принимала пассивное (так было написано) участие в совершении валютных операций.
Зал молчал, потом пошли крики, свист. Я убежала. На следующий день, встретив меня в коридоре, секретарь еле поздоровался со мной. Разговоры об эксперименте как-то заглохли. Да — ловко все устроил этот жук! Как-то само собой получилось, что раз я — такая, значит — и эксперимент такой!
Поэтому я была страшно удивлена, когда однажды раздался звонок и вошел... секретарь (его звали Дима). Хорошо, что Толян был у себя в магазине (он работал грузчиком), а то бы он показал этому «гостю» — я все рассказала Толяну. Дима попросил меня выйти, мы пошли с ним по Обводному, и он вдруг стал говорить, что любит меня, что полюбил меня с первого взгляда! После этого мы почти месяц ходили с ним, были два раза в театре и несколько раз у него дома, и он все время говорил, как любит меня. При этом на работе он по-прежнему мне чуть кивал — видимо, считал, что отношения со мной скомпрометируют его. Я попыталась — раз он меня действительно любит — снова начать у него в кабинете разговор об изменениях в цеху, но он разговаривал со мной как с малознакомой и сказал, что я вмешиваюсь в дела, в которых не смыслю. Видимо, ему нравилась во мне не моя общественная активность, а совсем наоборот — его привлекало то, о чем говорилось в письме из милиции, влекла его именно моя слава девицы легкого поведения, — ведь до этого письма он не проявлял абсолютно никакой активности! При очередной встрече я высказала ему все это. Он стал говорить, что любит меня такой, как я есть, но знакомство со мной может повредить его карьере, что и жениться ради карьеры он должен на другой, но будет любить меня всю жизнь и не забудет никогда. Ну, конечно, — разве ж на мне можно жениться! Я, подтверждая репутацию, которая так его прельщала, послала его подальше, повернулась и пошла.
Я подходила к Лиговке — транспорт уже не ходил, вдруг рядом со мной остановились белые «Жигули». Сидевший там толстяк включил магнитофон, потом предложил поехать к нему. Я отказалась, он сказал, что не выпустит меня. Я сделала вид, что соглашаюсь, но мне нужно заехать домой, предупредить родителей. У дома я выскочила, хлопнула дверцей... Тут кто-то схватил меня за руку. Это был Толян. Последнее время он вел себя как чокнутый, вообразил неизвестно что — чуть ли не на самом деле стал считать себя моим мужем. На полученные — от меня же — деньги купил себе роскошный костюм, шляпу, стал держаться солидно, пил мало, — но все это мне было, как говорится, до фени, хоть бы он стал артистом балета — мне-то что? И вот — вообще уже! — стал сторожить меня у парадной.
— Так? На машинках раскатываем? — Он вдруг схватил кирпич и залепил в боковое стекло машины — оно не вылетело, но сморщилось трещинами, толстяк в испуге укатил. — На машинках раскатываем? — Он схватил меня за руку.
Я вырвала руку и убежала наверх, к соседу Шаха, — я слышала, что у него еще стучит машинка, и стала звонить...
...Среди ночи вдруг пошли бешеные звонки. Я пошел открывать. На тускло освещенной площадке стояла Маринка.
— Можно к тебе? — спросила она.
— Ну... если надо... заходи, — сказал я. — А что такое?
Она вошла. Вид у нее был растерзанный.
— Кто это тебя так? — спросил я.
— А — все сразу! — махнув рукой, она рухнула в кресло. — Достали — сил уже нет!
— Кто именно?
— А — все! — с отчаянием повторила она. — Сволочи! — проговорила она.
— Ну... вот я, например, не сволочь... — не совсем уверенно проговорил я.
Она презрительно посмотрела на меня, пустила струю дыма.
— Пай-мальчик, говоришь?.. А вот если я сейчас попрошусь у тебя остаться... наверняка ведь потребуешь плату?
— Вообще, непонятно, почему ради твоих каких-то проблем я должен подвергаться... мукам святого Антония! Но — ради принципа, чтобы доказать тебе все-таки, что есть люди на земле... хорошо!
Тут стал ломиться Толян, требовать, чтобы ему вернули его жену. Я сказал, чтобы он шел спать, что с женой его ничего не случится.
— Ну, я устрою ему! — дрожа от ярости, проговорила она. — Участковый Гулько клеится всю дорогу, стоит мне только захотеть — Толяна этого выселит как пьяницу на сто первый километр, и черта два он вернется в эту квартиру — моя будет! Зинаиду в каморку мою перегоню, а сама в большой буду жить, а Верка эта пусть на улице спит, по ней давно тюряга плачет!
— И ты... способна на такое?
— А ты, думаешь, не способен бы был, если б тебя жизнь так прихватила? Со мной все — так, а я — нет? Что я — рыжая?
Я взял с полки книжку и прочел свою любимую мысль: «Если тебе начинает казаться, что все вокруг негодяи, — это означает лишь, что ты сам живешь как-то неправильно».
— А, ладно! Хватит лапшу на уши вешать! — зевнула она. — Где ложиться-то?
— Где хочешь!
Я обиделся за любимого философа.
...Утром она шаталась по квартире, зевала.
— Просто не хочется никуда идти! — призналась она.
— Ну хочешь... в экспедицию отправиться? — предложил я.
— С тобой, что ли? — она смерила меня наглым взглядом.
— Нет, к сожалению, не со мной. С Генрихом. Знаешь, на втором этаже у нас геолог живет? Могу попросить.
— Это седой, что ли?
— Он седой, но довольно молодой. И достоин, на мой взгляд, всяческого уважения.
— А-а-а, все это песни! — сказала она.
Сказка пятая
Из окна вагона я смотрела на проплывающие за окном мрачные пейзажи. Этот недоносок, Генрих, вдруг начал изображать из себя какого-то маркиза, стал вдруг брюзжать, что простыни мокрые, невозможно спать!
Уж кому-кому — а ему лучше бы помолчать: перед отъездом я была у него дома — абсолютный хлам!
— А ты не знаешь, почему они мокрые? — не выдержала я. — Потому что их прокатывают в прачечной на каландрах, на таких горячих барабанах, и знаешь, сколько платят женщинам, которые работают там? Два семьдесят за тысячу просушенных простынь! Как ты думаешь, можно нормально существовать на такие деньги? Естественно, приходится пропускать сразу по несколько, при этом они, конечно, выходят мокрые.
Я немножко представляла себе этот труд — Верка работала на каландре.
— Боже мой! И здесь, оказывается, чудеса! — воскликнул Генрих.
Противно, когда взрослый человек ничего не знает — или не хочет знать — о реальной жизни!
Генрих был начальником геологического отряда и, видимо, считал себя важной шишкой, во всяком случае, вел со вторым геологом, Левой, шибко научные разговоры. Трое суток мы ехали в поезде, и, чем севернее, тем пейзаж становился тоскливей. После поезда мы долго ехали на грузовике среди невысоких сопок, потом показалась деревня, и в ней был лагерь геологической партии. Нашему отряду надо было двигаться дальше в совершенно необитаемые места. Мы купили в лабазе ящик вермишели, ящик сухофруктов, ящик чая, ящик сахара — и все это нужно было тащить на себе! Кроме того, выяснилось, что деньги за всю эту еду — которую я ни за что не взяла бы в рот при любых других обстоятельствах, — что деньги за эту еду еще вычтут из нашей получки! Только этого еще не хватало — тратить деньги, заработанные адским трудом, на такое! Но — что делать — другого выхода не было. Здесь многое делалось очень тяжело и не совсем разумно, под предлогом, что другого выхода нет!
Я была оформлена техником — записывала в журнал, где какая порода, складывала в мешочек образцы и кидала туда бирку с указанием места.
Мы плыли вверх по реке, я работала наравне со всеми — соскакивала в воду, протаскивала лодку через перекаты, никто как бы не помнил о том, что я женщина. В то лето было очень мало дождей, камни торчали из воды. Мы шли через порог, который был очень глубоким, но камни все равно торчали. Мы попали в стояк — столб воды, бьющий у камня вверх, и перевернулись. Нужно было не только спасаться самим, но и спасать имущество. Мы вытащили все на берег, просушили. Ясно было, что дальше не проплыть — дальше шли пороги еще более ужасные. Мы прошли уже около ста километров, и всюду брали образцы, но образцы всюду были абсолютно одинаковые — гранито-гнейсы, я и то уже выучила это слово наизусть.
Генрих, Лева и двое рабочих стали обсуждать, как проникнуть дальше. Генрих показал на карте крайнюю точку, до которой мы должны были дойти в этом маршруте.
— Давайте не будем изображать из себя юных пионеров! — сказала я. — Ведь все мы прекрасно знаем, что и там, куда мы с таким трудом доберемся, будут такие же гранито-гнейсы, — давайте наколем этих булыжников здесь, запишем, что взяли их там, — и все дела! Зачем тащиться в такую даль?
— А просто так! Из чисто богатырских соображений! — весело сказал Генрих.
— В геологии так не делается, как ты предлагаешь! — тихо и словно бы виновато сказал Лев.
Вообще, он был не от мира сего — грустный, тихий, взгляд вроде бы виноватый, — хотя он-то вряд ли совершил за всю свою жизнь что-то такое, за что нужно чувствовать потом вину!
— Сейчас такое везде есть — и в геологии тоже! — сказал рабочий Савелий.
Стали обсуждать варианты. Конечно, если у людей такое хобби, чтобы мерить километры неизвестно зачем, — это их личное дело, но я достаточно умна, чтобы в следующий раз этим не заниматься. Но сейчас, как здесь любили говорить, другого выхода не было.
Решено было идти пешком, но поскольку со всем грузом это было бы очень долго, решено было взять лишь немногое — например, не спальники, а чехлы от спальников, чтобы хоть было чем закрываться. Продуктов взяли тоже очень мало, поэтому приходилось не идти, а почти бежать — чтобы успеть обойти все точки и не умереть с голоду. Однако рюкзак с каждым часом становился тяжелее, всюду брали образцы, эти абсолютно одинаковые булыжники, — как я ненавидела Генриха за его тупое упрямство! Мы шли вдоль обрыва над рекой. Наверное, здесь никогда не ходили люди — потому что идти здесь было невозможно. Весь путь был покрыт курумником, то есть огромными камнями, причем еще это был так называемый «живой курумник» — каждый камень, кроме того, что он был покрыт мхом и скользил, еще и качался, каждую секунду можно было потерять равновесие и загреметь с кручи, и при этом идти надо было быстро, не останавливаясь. Но зато тут ветер сдувал мошку. А когда мы, устав от курумника, спускались в лощину между сопками — сразу становилось душно и комарье залепляло все лицо.
Задохнувшись, бежишь наверх, на гребень, и тебя, распаренную, сразу там пронизывает ледяной ветер, и ты видишь, что другие, не оборачиваясь, уходят все дальше — надо догонять! Иногда только, раз в два часа, останавливались, не снимая рюкзаков, опершись ими о камень, стояли, минуту курили, — руки дрожали, прикурить удавалось не сразу.
— Вперед! — Генрих резко бросает папиросу и, не оборачиваясь, идет дальше.
Потом курумник кончился, пошел ледник, идти было так же трудно, но хотя бы красиво — под тобой восемь метров прозрачного льда. И снова пошел курумник. Я уже не помнила, что я такое и где, двигалась в полубессознательном состоянии.
— Стоп! — проговорил наконец Генрих и сбросил рюкзак, но только лишь для того, чтобы достать молоток для отбивания образцов.
Мы обработали этот участок и буквально рухнули на деревянный помост — когда-то здесь, видимо, был стационарный лагерь с деревянным помостом, чтобы не спать на камне. Значит, какие-то люди до нас не только прошли этим маршрутом, но еще пронесли на себе доски — и теперь мы лежали на них! Чувство братства объединяло нас. И я была не хуже, чем они, — я все выдержала и не пикнула. Конечно же, кроме булыжников мы ничего не нашли, но, как сказал, улыбаясь, Генрих, «чистая совесть — это тоже неплохо!».
Мы лежали на высоком берегу реки, над обрывом, — тот берег был плоский, было видно очень далеко.
— Да-а-а... Только здесь и чувствуешь себя человеком! — проговорил Лев.
Да-а-а, удивительно! — подумала я. Такие замечательные люди — за какие-то двести рублей в месяц переносят такое! А Шах, — в первый раз я вспомнила о нем без отчаяния, — делает эти же двести рублей, спекулируя марками, за одну минуту, — но я теперь не была так уверена, что это хорошо.
— Это потому, что здесь уверенность есть, что все делается по-людски, а чуть в город вернешься — снова хаос! — добавил Лев.
— Да-а-а, особенно наглядно я давеча это понял, — сказал Генрих, — когда мою командировку во Францию утверждали и не утвердили. Два академика, три профессора объясняли необходимость этой поездки, а кадровик, который единственное, что знает — у кого какая бабушка, — хрюкнул: «Несвоевременно!» — и все умолкли. Хоть бы один голос поднял!
— Да-а-а... проиграли мы битву! — вздохнул Лев.
— Да пошлая эта битва! — заорал Генрих. — И пошло в ней участвовать! Ясно? Не моего гигантского ума это дело! — он усмехнулся. — Если бы тут что-то определялось талантом, трудом, ну или хотя бы умением жить с людьми, все было бы понятно, — но когда все определяется лишь степенью чванства — то в эту игру лучше не играть. Мне хватит того, что я нормально живу.
«Что же здесь нормального?» — мысленно воскликнула я. Человек так работает, от одного его присутствия вокруг становится лучше — а не имеет абсолютно ничего. Смешно сказать, его предки живут в Петербурге двести пятьдесят лет, портреты этих предков занимают все стены, а потомок их через двести пятьдесят лет не имеет даже элементарного телефона, — как раз в поезде Генрих смешно рассказывал Леве, как ему в четвертый раз отказали на телефонной станции!
А Шах получил квартиру за полгода и за один день — телефон! Да-а-а, гибнет Петербург, затираемый хамами, и моя миссия, — поняла вдруг я, — его спасти!
Я вспомнила, как недавно была на Жанкиной отвальной: она вышла-таки замуж за финна и уезжала в Турку. Пришел влюбленный в нее Федя, очкастый инженер, и, напившись, стал упрекать ее в том, что она променяла свою любовь (видимо, к нему) на машину и тряпки.
— Да при чем тут тряпки! — заорала вдруг Жанка. — Совсем мозги уже пропил? Мне мужик нужен, а вокруг — не мужики, а какие-то... части тела! Перемололи вас всех! Вот ты, хоть и инженер, а не человек, а каша! А мой, хоть и лесоруб, а сказал — женится, и женился! А ты — с кем только не советовался, жениться тебе на мне или нет! Тьфу!
...Нет, не совсем права Жанка — есть люди, например Генрих. Надо только сделать так, чтобы получали они от жизни по справедливости, то, что действительно им положено за такую их жизнь! И я этого добьюсь! — ножками, ножками, понемножку, курочка по зернышку клюет — все будет нормальненько.
— Ну все... пора! — резко поднимаясь с помоста, сказал Генрих. Я тоже быстро вскочила — новая идея наполняла меня неожиданными силами!
Обратно мы шли еще быстрее, чем сюда, хотя рюкзаки с образцами стали такими тяжелыми, что с трудом отрывались от земли. Стало темно, хлынул дождь, но мы, словно и не замечая этого, продолжали идти. Уже светало, когда мы дошли до места, буквально на четвереньках заползли в палатку, поставленную около лодки, сбросили рюкзаки. Каким блаженством было просто лежать, вытянувшись! Потом Генрих молча протянул мне крышечку от термоса с горячим сладким чаем — и я впервые за последние месяцы почувствовала, что такое счастье.
Следующий день был выходным. У Генриха после нашего маршрута разыгралась старенькая его болезнь — радикулит. Я делала ему хороший массажик, — когда я была спортсменкой, немножко научилась этому, кроме того, применила некоторые приемы аутотренинга — в больнице с помощью этого удавалось снимать и не такие боли!
— Так... расслабься! — говорила я стонущему Генриху. — Теперь представь себе, что от каждого моего пальчика внутрь тебя входит лучик и согревает.
— Понятно. Луч света в темном царстве! — через силу усмехался Генрих.
Потом я стала рассказывать ему одну из своих фантазий — фантазиями этими я славилась еще в школе, но особенно прославилась в больнице, — бывало, целые ночи напролет я рассказывала в притихшей палате о чем-то красивом и возвышенном. Генриху я стала рассказывать о том, как мы с ним скоро поедем отдыхать, как мы будем в развевающихся одеждах скакать верхом по зеленому лугу, а на горизонте будут подниматься красивые замки, и мы невольно будем ощущать себя герцогом и герцогиней, когда-то, много веков назад, жившими в этих замках... Потом можно будет поужинать на какой-нибудь старой мельнице...
— ...мукой! — произнес вдруг Генрих и дико захохотал.
Было странно слышать от интеллигентного человека такие пошлые шутки! Ну что ж — я постаралась понять и простить: человек этот прожил многие годы совсем не в тех условиях, которых заслуживал, и, естественно, несколько огрубел, опустился, — но отныне все будет иначе!
Теперь я вставала раньше всех, бежала к речке, умывалась и, уже чистенькая, умытенькая, шла собирать цветы — каждый раз Генрих просыпался в своей отдельной палатке, окруженный цветочками!
— Что за издевательство? — ворчал он. — Каждый раз думаю, что я на смертном одре!
Да-а, здорово огрубел его характер за годы лишений, — даже не знаю, удастся ли наполнить его безграничной верой, романтикой, высокой любовью?
Но я не сдавалась. Иногда, чтобы взбодрить его, немного кокетничала: широко раскрыв глазки, вытянув губки, говорила нараспев какую-нибудь милую чепуху:
— ...тако-о-ой бо-о-ольшо-о-ой до-о-ом...
— Умоляю — меньше гласных! — просил он.
Мне было больно глядеть, как он грубо выкидывал цветы из своей палатки.
— Даже слоны и те порой мечтают о подснежниках! — стараясь держаться спокойненько, произносила я любимую свою фразу, поразившую меня в какой-то книге и выписанную в дневник.
— Где ты набралась такой дурной поэзии?! — как от радикулита, стонал Генрих.
— Что делать, — скромно потупясь, отвечала я. — Одним нравится высокое, другим — цинизм!
Я ненадолго надувала губки, но красота окружающего снова приподнимала меня куда-то вверх, ликуя, я подбегала к Генриху:
— Ну хочешь — я тебе весь мир подарю?
— Весь мир? — усмехался он. — С кризисами перепроизводства, с очагами войн? Даже не знаю — брать ли?
Конечно, я обижалась, но — его, большого и беспомощного, нельзя было оставлять надолго! — я уходила лишь для того, чтобы приготовить настойку из корешков для его компресса.
Он стал у меня бодреньким, гладеньким, чистенько выбритеньким — пришлось мне для этого овладеть смежной специальностью мужского парикмахера.
В те дни, когда мы жили в поселке, он работал у меня над диссертацией, которую чуть было не забросил: «Теоретические основания и методика поисков россыпных месторождений титана и циркония». Я создавала ему буквально все условия — даже собак разгоняла, чтобы не лаяли!
И когда кончилась экспедиция, мы полетели с ним в Москву — там назначено было предварительное его слушание — предзащита.
Председатель ученого совета Панаев, как он отрекомендовался, родственник того самого Панаева, друга Некрасова, — сразу видно, человек благородного происхождения, все ручки мне исцеловал, вился, как кот. Но Генрих — тот мог хотя бы лишний раз улыбнуться — ведь не к врагам же он приехал, а к друзьям, которые могут ему помочь... С тем же каменным лицом отбубнил сообщение, из которого следовало, что никаких потоков россыпных месторождений им не обнаружено. Довольно кисло все прошло — кисло задавали вопросы, кисло расходились. Хорошо, что я Панаеву успела шепнуть, что завтра жду его в шесть у ГУМа — других ориентиров я не знала в Москве. Панаев приехал на светло-кофейной «Волге», выскочил, открыл дверцу. Отвез меня в загородный ресторан «Русская изба» — ну, естественно, туда только автомобилисты могут добраться, солидные люди. Показал мне двух известных режиссеров, писателя, художника... Все-таки есть какое-то очарование в людях, живущих наверху!
Поговорили с ним откровенно:
— Нет фантазии у вашего Генриха! Диссертация должна напоминать поэму, а не бухгалтерский отчет! Она должна заражать, вселять надежду — иначе людям просто неинтересно будет ее читать!
Однако вцепилась я в него крепенько, в результате удалось кое-что ценненькое узнать: Панаев сообщил, что через полтора года отправляется группа наших геологов в Экваториальную Африку, и, чтобы не было разговоров о том, что всеми благами завладели москвичи, предполагается взять несколько единиц из провинциальных городов.
— А Ленинград, увы — провинция, так мы здесь считаем! — он вздохнул.
— А эти — единицы, как вы сказали, — игриво его к интересующей меня теме вернула, — надеюсь, с женами будут отнравлены?
— Ну разумеется, разумеется! — снова ручку бросился мне целовать.
— Значит — предварительная договоренность у нас с вами имеется? — снова напомнила я, когда он высаживал меня возле гостиницы.
Генрих сидел в номере, как барсук в норе, читал какую-то поэтическую книжку — вместо того, чтобы читать геологическую!
— «Золотое клеймо неудачи, — продекламировал он, — на еще безмятежном челе!» — и усмехнулся.
— При желании это клеймо можно смыть! — проговорила я.
Рассказала, ничего не утаивая, о своей встрече с Панаевым, о том, как все замечательно может устроиться у нас, — ну только, конечно же, надо записаться, потому что специалист, конечно, должен повсюду с супругой появляться — на приемах в посольстве и так далее... Ну и, конечно же, — быстренько в партию надо вступить...
— Быстренько? — Генрих усмехнулся.
— А что тебе — трудно?
— Да нет. Мне-то не трудно, — Генрих произнес. — Боюсь, что партии со мной будет трудно. Думаю, всякого рода проныр и так уже достаточно к ней прилипло — стоит ли увеличивать это число?
Я уже знала: когда он так, медленно и витиевато, начинает объясняться, значит, в абсолютной уже ярости, каждую секунду возможен срыв.
— Эх... Дон-Кихотик ты мой! — жиденькие волосики его взъерошила.
И когда приехали мы и в нашу парадную вошли, как-то не думая уже оба к нему поднялись, за четыре месяца привыкли всегда вместе, считалось естественным, — и только когда сели уже, вдруг замолчали, испугались немножко!
Стали смущенно смотреть по сторонам — и вдруг с ужасом увидели: на голове огромного каменного Будды волосы зашевелились. Присмотрелись — привстали даже! — и поняли наконец: это прилипшие пылинки шевелятся на сквозняке! Засмеялись.
— Ну и грязища же у тебя! — я огляделась.
— Да-а-а... а завтра мама с дачи приезжает... надо что-то делать! — пошел на кухню, вернулся со шваброй.
— Представляю, — швабру у него отняла, — что здесь будет после
твоей уборки! Тряпка есть?
— Но ведь ты, наверное... устала? — пробормотал он.
— Что значит — устала? — возмущенно воскликнула я. — Не может же мама в грязную квартиру приехать?
— Ну ладно, — проговорил он. — Тогда лучше завтра пораньше начать. Ложись вот тут, что ли... — он показал на диванчик.
Рано утром, он еще спал, я вытащила тряпки, тазы — закипела работа. Довольно приятная, вообще, квартира, но запущенная — ужас. Видимо, и мама его не слишком часто опускается до уборки, — все лето пребывала на даче, сюда и не удосужилась заглянуть. Ну что же — тем лучше! Увидят, что такое настоящая хозяйка!
И когда приехала его мать — вся такая томная, утонченная, как я и предполагала, работа уже шла вовсю: мебель сдвинута, стулья-кресла перевернуты, поставлены на попа, полы вытерты, стеклышки в окошечках такие чистенькие, словно их нет, люстра вымыта с солью, каждый хрусталик играет...
И посреди всего этого стоит такая скромная придурковатая девушка из провинции, в плате до бровей, в шароварах — незаметная труженица, видимо влюбленная в Генриха по уши и готовая ради него горы свернуть. Материнскому сердцу это, конечно же, масло.
— Познакомься, мама... это Марина, — глухо Генрих сказал.
Та, подняв бровь, ждала добавлений — но их не последовало.
— А это — Ариадна Сергеевна! — только сказал он.
И все! Кушайте, что дают!
Ариадна Сергеевна — с таким видом, будто она в жизни половой тряпки не видела, — умиленно так защебетала:
— Ой, Мариночка! Ну вы просто чудо! Настоящей цены не знаете себе! Среди городских лентяек подобных девушек уже не найдешь!
Цену-то я как раз себе знаю — но пусть она побудет сначала в тайне, чтобы не пугать!
— Ой, ну что вы, Ариадна Сергеевна! — смущенно потупилась.
— Наверное, вам... — Ариадна Сергеевна вытащила из сумки пятнадцать рублей, вопросительно поглядела на сына — правильно ли она понимает ситуацию?
— Ой, ну что вы, Ариадна Сергеевна! Я так!..
Генрих кинул на меня взгляд: ну ты и лиса!
— ...Просто мы с вашим сыном в экспедиции были вместе, привыкли... друг другу помогать! — после долгой паузы добавила я.
— О, вы были с этим оболтусом в экспедиции?! Ну, и как вы находите? Не правда ли — ужасная работа?
— Нет. Мне понравилось! — чуть слышно, задыхаясь от счастья и смущения, пролепетала я.
Ариадна Сергеевна кинула на сына взгляд, явно обозначающий: «Эта дура любит тебя! Цени! Не то что некоторые другие!»
Я уже поняла, что бывшая жена как-то не так ценила Генриха, из-за чего они разошлись... И вот появилось это чистое, влюбленное существо!
— Ну — если, Ариадна Сергеевна, я вам больше не нужна... — пролепетала я, одновременно быстро расставляя мебель по местам. — Я пойду?
— Марина на нашей лестнице живет! — делая радостное движение к двери, оживленно произнес Генрих.
— Ну — не совсем чтобы на лестнице... — скромно проговорила я.
Ариадна Сергеевна метнула удивленный взгляд: «А эта девочка отнюдь не так проста!»
— Ну — извините за вторжение! — пролепетала я, подхватила свой рюкзачок и ножками в малю-юсеньких кедах (тридцать третий размер!) почапала к выходу. Но на следующий день снова оказалась у них, на последующий — тоже: постирать, сготовить — во всем этом они были как малые дети, без меня — как без рук. Постепенно пришлось мои резиновые перчатки туда перенести, и халатик, и передничек — целое небольшое хозяйство.
Ариадна Сергеевна несколько раз пыталась мне деньги давать, но я, скромно потупясь, отталкивала их красной распаренной ладошкой.
— Я так, Ариадна Сергеевна... — застенчиво бормотала я.
При этом я успевала вертеться так, что все сверкало! При этом на работе (Генрих взял меня к себе в институт) все, практически, приходилось делать за него: кроме своих камней, он абсолютно ни о чем не думал, — о том, что он работает среди людей и в конечном итоге — для людей, об этом он абсолютно не задумывался, все приходилось налаживать мне — крутиться, улыбаться, где надо, быть веселенькой, кокетливой, где надо — властной и суровой... При этом я делала, практически, все, связанное с его диссертацией, — разумеется, только я знала, где лежит какой слайд, где график, где выкопировка и когда защита.
Но один случай особенно меня насторожил, после него иногда мне стало казаться, что я стараюсь напрасно!
У нас в институте распределяли машины, «Жигули», и ему вполне могли дать — по всем статьям он вполне удовлетворял комиссию, я узнавала. Продать часть хлама, который только собирает пыль по углам, — и вполне можно было набрать требуемую сумму. Современный человек без автомобиля все равно что без ног — стыдно перед его же приятелями, которые меняют уже по десятой, наверное, модели! Он же с чисто детским упрямством сопротивлялся, ничего делать не хотел.
Особенно возмутило меня, когда я во время очередной уборки вытащила из-за шкафа пыльную картину. Я спросила, что это такое — могу ли я это выбросить? На полотне еле-еле проступало изображение — какая-то связка луковиц на кирпичной стене и какой-то клочок бумаги с цифрами, наколотый на гвоздь, — видимо, счет.
Лениво глянув, он сказал, что выбрасывать, наверное, не стоит, потому что Эрмитаж недавно атрибутировал эту картину как подлинник кого-то из «малых голландцев» и давал за нее пятьдесят тысяч!
Я так и подпрыгнула — пятьдесят тысяч! Мало того, что можно купить автомобиль, можно еще привести квартиру в приличный вид — как в некоторых домах, в которые я иногда заходила по делам и восхищалась. Можно было бы убрать в ванной старый, пожелтевший кафель с тусклым рисунком и сделать яркий, финский, розовый или салатный, в гостиной заменить старые, облезшие обои, наклеить фотообои, на которых во всю стену изображен луг — квартира как бы становится преддверием природы! И можно бы — я не берусь указывать, но, по-моему, это необходимо — купить большой цветной телевизор, как у всех, — жить в отрыве от свежего потока новостей со всего мира — это значит обеднять свою жизнь. Я уже не говорю о том, что можно было бы наконец одеться, а то у меня из приличных вещей были только сережки, подаренные мне в больнице, а к ним — ничего! И не плохо бы походить на концерты, премьеры, просмотры, на которые, как я знала, ходят все приличные люди в городе.
— Не, не стоит продавать! — тупо повторял он. — Все-таки... двести пятьдесят лет она уже в нашей семье — пущай побудет еще немножко!
«Пущай!» Кто так сейчас говорит? Он явно деградирует!
И главное — если на картине было бы изображено что-то красивое или поучительное, какой-нибудь пейзаж или портрет знатной дамы, а то — какой-то грязный чулан — у себя в доме я такого бы не допустила! — какие-то луковицы, рваный клочок бумаги. Повторяю — я бы и в жизни такого не потерпела, не то что в картине, — которую к тому же можно безболезненно отдать за пятьдесят тысяч. Ценность картины, как любого другого художественного произведения, определяется, мне кажется, тем, что изображено, а отнюдь не как, — если с любой степенью гениальности изображать старый чулан, он так и останется старым чуланом, не более того. Кстати — и в литературе тоже порой изображают вещи мрачные, несимпатичные, не щадя времени читателя, которое он тратит на чтение этих так называемых художественных произведений, — на месте начальства я бы такие произведения запретила, они ничего не дают ни уму, ни сердцу! Все это я сгоряча высказала Генриху — в ответ он запел какую-то песню и, ни слова не сказав, вышел из комнаты.
Нужно было срочно мобилизовываться — до защиты осталось меньше полугода, а он еще не обеспечил себя рецензентами, да и с машиной надо было что-то решать — упускать такой шанс, который, вероятно, повторится не скоро, было бы величайшей глупостью.
Он же вместо всего этого ушел вдруг в отпуск, целые дни сидел дома в халате, нечесаный и небритый, и занимался переводами каких-то абсолютно неизвестных азиатских поэтов одиннадцатого века — я спрашивала всех моих знакомых, никто даже не слыхал о таких! И главное, что было совсем уже непонятно, — он вовсе и не собирался поэтов этих издавать!
Даже Ариадна Сергеевна проявляла недовольство его поведением.
— Генрих! — восклицала она. — Вам давно пора уже узаконить ваши отношения с Мариной!
— Они давно уже узаконены!
— Каким образом?
— Обыкновенным. Я — начальник, она — подчиненная. И все отношения!
Тут, на свою беду, я в первый и в последний раз попросила его об одолжении. Дело в том, что тут как раз неожиданно прорезались мои родители, каким-то образом разыскали мой адрес и попросили в письме хоть немного рассказать о моей жизни в Ленинграде. Я скупо рассказала о своей работе в институте, о достаточно непростых отношениях с Генрихом. Теперь они написали и робко попросили разрешения приехать, поглядеть хотя бы глазком на мою жизнь. Я обратилась к Генриху с просьбой — нельзя ли им хотя бы ненадолго остановиться у нас, и кроме того, не мог бы он гарантировать хотя бы минимум внимания и приличий по отношению к гостям. В ответ на это Генрих исчез. Лишь через сутки, буквально сойдя с ума, я получила какую-то маловразумительную телеграмму из Самарканда: «Приход наш и уход загадочны. Их цели все мудрецы земли осмыслить не сумели. Где круга этого начало, где конец? Откуда мы пришли? Куда уйдем отселе?»
Я не из тех людей, с которыми можно обращаться подобным образом. Я тут же достала билет и вылетела в Самарканд. Долго я искала его там — ни в каких гостиницах он не значился. Наконец я нашла его, совершенно случайно, и долго не могла поверить своим глазам. В самом пыльном уголке этого достаточно пыльного города, около самого автовокзала размещалась чайная — просто грубый помост из досок, на котором сидели старики в потертых халатах и пили подолгу чай, — пыль покрывала их толстым слоем, автобусы обдавали их бензиновым чадом, но они, погруженные в себя, были абсолютно безмятежны! С изумлением я увидела среди них Генриха — пыльными морщинами, тюбетейкой, халатом — абсолютно всем он в точности походил на них!
— Генрих! — воскликнула я. Он посмотрел на меня благодушно-непонимающим взглядом. Потом поднял грязный палец и продекламировал:
Брось молиться — неси нам вина, богомол,
Разобьем свою добрую славу об пол!
Все равно ты судьбу за подол не ухватишь —
Ухвати хоть красавицу за подол!
Возмущенная до глубины души, я подошла к нему ближе и настоятельным образом потребовала, чтобы он привел себя в порядок и к семи вечера был у гостиницы, где я остановилась! Ни в семь, ни в восемь его не было — ровно в полдесятого он появился верхом на ишаке, к тому же обритый наголо — это я увидела, когда сорвала с него дурацкую тюбетейку. Он надменно, с восточной горделивостью, выпрямился, уставил в меня как бы неузнающий взгляд и, подняв руку, продекламировал:
Нет ни рая, ни ада, о сердце мое!
Нет из мрака возврата, о сердце мое!
И не надо надеяться, о мое сердце!
И бояться не надо, о сердце мое!
В абсолютном бешенстве я в ту же ночь покинула город. Пришлось возвращаться к старым моим пенатам, к Зинаиде Михайловне. Толян, необыкновенно нарядный и обходительный, развлекал меня как мог. Недавно с ним случился казус, который перевернул буквально всю его жизнь, заставил о многом задуматься. Его старая подружка Верка, которая, казалось, совсем уже опустилась на дно, вдруг поступила рыбообработчицей на плавучий рыбозавод. Там она зарабатывала по пятьсот рублей в месяц, и к тому же эти деньги негде было и тратить, — Толян, радостно потирая руки, подсчитывал предстоящую выручку, как вдруг Верка написала ему, что впервые почувствовала себя нормальным человеком и не хочет больше иметь дело с таким барахлом, как Толян, а наоборот, связала свою судьбу с серьезным, хотя и пожилым человеком, который работает старшим мастером на этом заводе.
От потрясения Толян бросил пить, вернулся на старую, брошенную два года назад работу — оптика-шлифовщика и стал тоже зарабатывать нормально, об Верке тут же забыл, стал думать исключительно обо мне!
— Да я, со всеми пыльными-мыльными, больше трехсот имею! Озолочу, как рыбку! — говорил он.
В одну из ночей я почему-то не спала, и вдруг, услышав какой-то загадочный тихий звук, пришедший неизвестно откуда, но сразу заставивший мое сердце бешено забиться, накинула халатик, выскочила на лестницу, поднялась вверх — и увидела Генриха, отпирающего свою дверь. Увидев меня, он испуганно обернулся.
— Ты что это тут делаешь? — придерживая халатик на груди рукой, проговорила я.
— Как что? Вхожу в свою квартиру! — холодно ответил он.
— Как-то ты... очень воровато в нее входишь!
— В свою квартиру, мне кажется, имею право входить и воровато.
Мы помолчали, и он ушел.
Всю ночь я пролежала без сна. Я поняла, что самое главное дело в своей жизни я проиграла.
Совсем уже ночью вдруг брякнул звонок. Я вскочила. Неужели это Генрих вернулся? Я быстро открыла дверь... На площадке стоял Шах.
Сказка шестая
Явился, не запылился!
— Иди домой! — строго проговорил он, как будто это я, бессовестная, ушла из дома, и теперь ему приходилось меня разыскивать.
— Подожди, — сказала я.
Сначала я хотела переодеться, а потом решила, что сойдет и так, и пошла за ним прямо в старом халатике. Мы поднялись, он отпер дверь, и мы вошли.
— Пыль! — брезгливо указал он, опять же с таким видом, что я должна была убирать, но не убирала. — Садись! — разрешил наконец он и опустился на краешек кресла. Мы молчали. Особых эмоций как-то не наблюдалось ни с чьей стороны.
— Скоро приезжает моя мать! (Долго же она ехала!) Мы можем пожениться! — с каким-то явным насилием над собой вымолвил он.
Странно! Зачем это надо ему? — подумала я. Я уже не была той дурочкой, верившей во внезапные вспышки небывалой любви. Я спокойно разглядывала его. Одет он был так: ослепительно белый костюм, белые туфли, а на груди почему-то черный деревянный крест. Я глядела на него, как-то не очень врубаясь в ситуацию... То он вообще полгода отсутствует, то вдруг появляется, почему-то весь в белом.
— Но моя мать... пока что не приезжает! — ответила я.
Он с удивлением посмотрел на меня: что еще за разговорчики, какая еще моя мать?
— А без нее я не могу! — я сокрушенно развела руками.
Он обалдело смотрел на меня: такого, что я еще могу не соглашаться, он уж никак не предполагал! Прошло время, верблюжонок ты мой!
— Я слышал... ты видела меня, — произнес он после долгой паузы довольно-таки странную фразу. «Слышал»...«что видела»... так вот откуда ветер дует! Боится... я же «свидетель»! Согласен даже жениться! Только я немножко перезрела — вот беда.
Я смотрела — вид у него был холеный, ухоженный. Явно, что все это время он не скитался по подвалам, а чудесненько жил у какой-то богатой бабы, а эта квартира ему просто была не нужна, так же, как я.
— Откуда... ты слышал?
— У тебя будет все! — игнорируя глупый женский вопрос, заговорил он. — Большой дом у моря! Будешь ездить сразу в двух машинах!
Как это... по частям, что ли? — подумала я.
— Ты знаешь... я должна подумать! — проговорила я.
— Сколько? — удивленно воскликнул он.
— Да месяцев девять, — подумав, ответила я. И посмотрела на часы. — Ну — пойду думать! — я встала и двинулась к двери.
— Я слышал — ты хочешь меня предать! — хрипло за моей спиной проговорил он.
Я удивленно обернулась: а что же, он считает — он не предал меня?
— Да, вообще, есть такая идея, — спокойно ответила я.
Даже усы его задергались от гнева!
— Тогда ты не выйдешь отсюда! — наконец выговорил он.
— Согласна. Но при условии, что ты выйдешь! — ответила я.
Он стал хватать воздух ртом, как рыба, вытащенная из воды.
— Родители... получат тебя малой скоростью... по частям! — надувшись, как кот, прошипел он.
Вот это уже разговор! Примерно такого я и ожидала!
— Ну, — после того, что было со мной в больнице, — думаю, это будет уже не страшно! — ответила я и посмотрела ему в глаза.
Раздался звонок. Потом еще и еще! Я знала, кто это ломился, — но знал ли он? Уж больно он испугался!
— Сиди! — наконец бросил мне он и пошел открывать.
В дверях стоял Толян, в майке и в трусах.
— Жену мою... мне давай! — с ходу потребовал он.
Шах надменно смотрел на него. Потом полез в белоснежный свой китель, вытащил мятую трешку и протянул Толяну.
— На... завтра можешь нажраться. А сейчас — уходи!
Шах потянул дверь. Толян удержал. Потом он выдернул меня за руку на площадку. Потом как-то снизу, неожиданно, засветил Шаху в глаз. Потом захлопнул дверь. Мы, ругаясь, стали спускаться.
Наутро Толян растрогал меня — деликатно постучал, и, когда я хрипло сказала: «Да!» — он вошел в мою комнату в новом своем костюме, в шляпе, которая сидела на нем, как на корове седло.
— Слушай... может, пойдем макулатуру сдадим? — кашлянув, робко проговорил он.
— Какую макулатуру? — спросонок не врубилась я.
— Вот, — открыв дверь, показал на перевязанные кипы газет.
— Ну, а я-то здесь при чем? — удивилась я.
— Книгу какую-нибудь дадут, — неуверенно проговорил он.
— Ну хорошо... выйди — я оденусь!
...Все бурно реагировали, когда мы шли через двор.
— С кем это наш Толян?
— Да это супруга его.
— Супруга? Вот это да! Какую красавицу оторвал!
— Выступать будешь — схлопочешь в глаз! — сурово предупредил Анатолий сразу всех...
Сказка седьмая
После всех этих дел у меня наступила, как я сама говорила, стадия озверения.
— Ах, вы так со мною? Ну ладно! Устрою вам рыбий глаз! Посмотрим, на что способна девчонка из провинции!
Продолжала работать я лаборанткой... но постепенно стала выпускать коготки. Стала сначала шустрить по профсоюзной линии, сказала, что занималась десять лет художественной гимнастикой, могу попробовать организовать группу аэробики.
— Но понимаете, — профкомовская деятельница Виолетта Прокофьевна говорит, — нам бы хотелось, чтобы и аэробика несла бы определенную смысловую нагрузку, как-то отражала бы то, чем все мы сейчас живем!
— Ну разумеется! — говорю. — Иначе я и не мыслю!
Прекрасно мы поняли друг друга.
И на вечере, после торжественной части, показали мы с девчонками танец — я солировала, разумеется, — все выдала, на что была способна, все в зале заторчали, даже старички. И ни с какой стороны не придерешься — назывался наш номерок: «ЦРУ тянет свои щупальца к слаборазвитым странам»!
Потом, когда я скромненько в фойе вышла, Генрих ко мне подошел, абсолютно ошарашенный:
— Да-а-а... не знал я, что ты на такое способна!
— Я и не на такое способна! — ему говорю.
Я-то прекрасно знала, что делала, — до этого на меня только мельком в коридорах глазели, а теперь я уже однозначно стала «Мисс-институт»!
Но главное, что и директор, старый козел, тоже запал — вскоре я уже работала у него в секретариате. И тут-то я показала себя! Здесь как раз борьба с пьянством началась, и под это дело я такого шороху навела, что все передо мной на цыпочках ходили, вплоть до начальников отделов, докторов наук:
— Здравствуйте, Марина Павловна!.. Разрешите, Марина Павловна!
Правда — Генрих и его дружки-чистоплюи здороваться перестали, — но меня это мало трогало, от них абсолютно ничего не зависело — ни в институте, ни в общественной жизни!
И дома я тоже порядочек навела: Анатолий теперь как по струнке ходил, работал в моем НИИ — он, промежду прочим, оптик-шлифовщик высочайшей квалификации, хвастаться не хочу, но должна заметить, что линзы, сделанные им, стояли в аппарате «Вега», который сфотографировал комету Галлея... Но вот заставить его сделать полки для дома из досок, которые бесхозно пылятся в цеху, — целая история!
Однажды, вернувшись с работы и случайно замешкавшись в прихожей, я поняла вдруг, что нашу квартиру можно перегородить и сделать еще один выход на площадку — так что у нас с Анатолием получается отдельная квартира. Анатолий, разумеется, сначала артачился, кричал, что он не желает отгораживаться от родной матери, но я поставила его перед фактом: просто вызвала мастеров, и он умолк. Уладить все формальности помог мне Игорь Петрович, наш директор, — оказалось достаточно одного его звонка, он человек с обширнейшими связями.
Зинаида Михайловна, естественно, перестала разговаривать со мной, но думаю, она достаточно умная женщина, чтобы в конце концов понять, что нельзя сердиться на того, кто делает лучше жизнь ее же сына.
Летом по пути на юг мы с Анатолием хотим заехать к моим — надо все-таки, чтобы они убедились, что их дочь не самое непутевое существо на свете. Тем более, между прочим, я работаю теперь секретарем директора института, буквально всё теперь на мне: принимаю, увольняю, ставлю на вид — все эти дела шеф полностью уже доверил мне. Тем более — мужик он неплохой, но есть у него непростительная для человека такого масштаба слабость: он слишком мягок! Никому не может ни в чем отказать, всем все обещает. А отказывать потом приходится мне, и делаю я это достаточно твердо, — и он понимает, что без меня ему уже не обойтись. И когда я просилась за свой счет, чтобы заняться квартирой, он был буквально в ужасе:
— Просто не представляю, Мариночка, что я буду делать без вас!
— Главное, Игорь Петрович, не давать волю своим эмоциям! Я оставлю вам под стеклом список лиц, которым вы должны отказывать сразу и наотрез!
— Попытаюсь, Мариночка... — тяжело вздыхает.
Но и я, со своей стороны, постаралась дома сделать все быстренько и вернуться как можно скорей, — ну что делать, если без меня пропадает человек!
И только вышла я после отгула — появляется этот деятель из столицы, Панаев. Посидел у директора, потом прочно застрял у меня:
— Вы все хорошеете!
В обед пригласил в ресторан. Почему же не пойти — дело хорошее! В ресторане расселся так вальяжно, снисходительно изрыгнул:
— Жаль, конечно, что вы расстались с Генрихом, — такому человеку непременно нужна опора!
— Знаете, как-то неохота мне быть ничьей опорой!
— Ну правильно, правильно! — рассмеялся. — У меня к вам предложение, — пригнулся. — Мне позарез нужна умная, обаятельная, контактная секретарша — те чувырлы, которых мне упорно подсылают, способны испортить любое начинание. В перспективе — заграничные командировки, вероятно уже в апреле едем в Париж. Но для этого, естественно, вам придется перебраться к нам. Всю организацию я беру на себя. Вы далеко можете пойти, если вас правильно повести... Мы всех под ноготь возьмем! — вдруг оскалился...
А что, думаю, может устроить такую бяку всем? Я лично мало хорошего видела от людей — почему я, интересно, должна думать о ком-то, кроме себя?
Но потом вспомнила вдруг Толяна своего — как для него все это обернется, Зинаиду вспомнила, уже абсолютно беспомощную...
Потом на Панаева посмотрела... Уже, значит, четко меня все здесь абсолютной стервой считают — если он, не сомневаясь ничуть, с таким предложением обратился ко мне!
— А как — вместе с мужем переезжать? — наивно вытаращила глазенки.
— Ну разумеется, разумеется! Анкета должна быть у вас абсолютно безупречной!
— А в Париж — мы его тоже возьмем? — подмигнула Панаеву.
— В Париже, я думаю, обойдемся без него! — Панаев усмехнулся.
— А не боитесь, что по возвращении он мне, а заодно и вам, профиль попортит?.. Огромное вам спасибо за угощение, к сожалению — надо бежать на рабочее место!..
...Все-таки в нашей парадной, хоть медленно, но что-то происходит! Недавно наконец арестовали Шаха. Удивительным — и даже где-то трогательным — был список обнаруженных у него при обыске вещей (я был понятым): 23 сервиза, 11 ковров, 4 велосипеда (?!), 5 холодильников, 42 кастрюли, 67 ботинок (много непарных!), 14 глобусов, 17 зонтов!
Но самым интересным во всей этой истории было появление его мамы, маленькой усатой женщины. Все происходящее она воспринимала на удивление оптимистично, может, отчасти, потому, что у нее оказалось восемнадцать детей, и крушение одного из них казалось ей естественной данью. Свои взгляды она высказывала громогласно, никого не боясь, и слышно было абсолютно во всем дворе: «Ай — что вы такое говорите, какой суд? Дать денег — и не будет никакого суда!» Потом, когда суд все же был назначен, она говорила: «Ай — что такое суд! Они же знают, что он не может быть виноват!» Потом, когда он оказался все-таки виноват и получил пятнадцать лет, она и тут не сдалась: «Ай — что такое пятнадцать лет! Мужчины у нас по сто пятьдесят живут!»
Она еще немножко пошумела в нашем доме, подружилась со многими пожилыми женщинами, в том числе, неожиданно, и с Зинаидой Михайловной. Потом она уехала, но писала своим новым подругам — о том, как замечательно трудится ее сын.
Марина на суде выступала абсолютно твердо, уверенно, с высоких моральных позиций, спокойно выдерживая взгляд Шаха, — скорее уж он опускал взгляд... Так что кто кому отрубил голову — еще неизвестно!
— Толян — следующая очередь твоя! — так шутят во дворе не слишком воспитанные друзья Толяна.
...Недавно я вошел в парадную и обомлел: из своей двери вышел Толян в майке и трусах.
Что это? Неужели он вернулся к прежним загулам? — ужаснулся я.
Вслед за ним точно в таком же виде вышла Марина.
— ...Аэробикой идем заниматься! — буркнул Толян.
Потом стали ходить ко мне по очереди.
Сижу, работаю. Звонок — Толян.
— Не помешаю, нет?
Сажусь, пожав плечом, продолжаю печатать.
— Покурю у тебя — а то эта не дает!
Пожимая плечом, печатаю.
— Недавно с одним моим корешем колоссальный случай произошел!..
Никакой реакции!
— ...Жил он с тещей — ну и с женой, понятно, и так заколебали они его, что решил он выйти из окна. А жил на третьем этаже!
— Ужас!
— Наоборот — самое то! Выпасть-то он выпал — а до земли не долетел!
— ...На небо, что ли, забрали его?
— Не угадал! Попал он на троллейбусные провода!
— Кошмар!
— Полный порядок! Спружинили те провода — и этажом выше закинули его!
— ...Выше?
— В том-то и хохма! Стал он там жить да проживать...
— У тебя многосерийка, что ли?
— Отнюдь... И так заколебали его там, что решил он выйти из окна. Попал, ясное дело, на троллейбусные провода, те спружинили, закинули его обратно домой. И все. Благодарю за внимание!
— Но ты-то живешь на первом этаже!
— В том-то и заморочка!
Недолгая пауза...
— А еще с одним корешем случай покруче был!
— Слушай! — не выдержав, вскакиваю. — Если ты не прекратишь — придется тебе уйти!
— Хорошо, — вздыхает. — Если я не прекращу — я уйду!
Виновато уходит — через некоторое время Мариша является:
— Можно к тебе? Хоть отдохнуть, покурить. А то там у себя такую чистоту навела, что даже противно!
— А у меня, значит, все можно?
— Да я только полсигаретки...
Сижу, работаю.
— Тоска зеленая! — Марина вздыхает. — За французика, что ли, замуж выскочить — бегает у нас один по институту!
— Отличная мысль! — не отрываясь от машинки, говорю.
Некоторое время курит молча, потом взрывается:
— Вчера этот слизняк Генрих подходил! Так, будто ни при чем: ля-ля, тополя — просил статейку свою у шефа подписать, чтобы в реферативный журнал отправить! Ну, слизняк! Таких подлянок мне накидал — и как будто ни при чем! Ну, я устрою ему! У Игоря Петровича там дружки — будь спокоен, сделаю так, что слизняка этого на пушечный выстрел к журналу не подпустят!
— Слушай! — не удержался, встал. — Отстань от человека, прошу! Ничего плохого он, кроме хорошего, не сделал тебе! Помнишь? «Если тебе начинает казаться, что все вокруг негодяи, — это означает лишь, что ты сам живешь как-то неправильно...»
— Скучный ты человек! — зевает. — Всего боишься!
— Нет. Я только тебя боюсь.
И тут звонок, конечно — является Толян:
— Моя у тебя?
— Что тут у меня — дом свиданий? — говорю...
Сказка восьмая
...И каждый день, до работы, в темноте, сквозь вьюгу — февраль! — быстро входишь в ворота детской больницы, идешь мимо всех корпусов, и в самом последнем спускаешься вниз, в реанимационное отделение...
Идешь по этим темным катакомбам и наконец заходишь в темную комнатку, где стоит уже молчаливая толпа. Появляется врач — в зеленой шапочке, в зеленом халате, и по бумажке монотонно начинает читать:
— ...У Хохловой, Лазаревой, Шевчук, Толстиковой состояние остается тяжелым, у Сосновского, Рябова, Гольштейн из тяжелого перешло в очень тяжелое, Грибов, Грузина, Нахимчук находятся в состоянии клинической смерти (для этого отделения это еще считается хорошо — есть надежда!), Зуевых, Серегиных, Вербицких прошу остаться!
И знаешь, что надо повернуться и быстро идти к выходу, чтобы не услышать тот душераздирающий крик, который сейчас раздастся!
Только три месяца Светка дома и побыла! Полгода я, после родов, вместе с ней лежала, потом она дома побыла, и снова ее забрали — ночью, со «скорой помощью», в реанимационное отделение, и так уже она там и находилась, — доступа не было к ней, только сообщалось, что состояние из тяжелого перешло в очень тяжелое, или обратно.
Потом позвали меня к завотделением, профессору Кухареву, тот прямо сплеча рубит:
— Воспалительные процессы остановить не удается, температура все время около сорока, сердце в таком возрасте долго не выдержит. Можно попробовать удалить почку, но шансов на то, что выдержит операцию, один из ста. Так что — не рекомендую.
Умолк.
Спрашиваю:
— А если операция благополучно пройдет — останется она полноценным человеком?
— Нет. В случае операции полноценным человеком она не останется. Быть матерью, во всяком случае, не сможет — это точно.
— Так что же делать?
— Ждать.
— Чего?
Молчит.
— Смерти?
— Да. Такой исход вероятнее всего.
— Тогда отдайте ее мне.
— Думаю, что в данной ситуации мы пойдем на это. Иногда матери делают чудеса, недоступные науке. Пишите заявление!
Выдали ее мне, укутанную в одеяла, — но даже через три одеяла чувствовалось, какая горяченькая она!
Привезла ее на такси домой. Перед домом Анатолий слоняется, как привидение. На лестнице — дружки его стоят.
— Слышь, Павловна! Может, чем-то можем помочь? Может — кровь надо дать? Мы пожалуйста!
— Ваша гнилая кровь, — говорю, — уже показала себя, хватит!
Вошла. Анатолий, как побитая собака, следом приплелся.
Положила я ее на нашу кровать, чуть раскрыла, потрогала лоб — и руку отдернула, такой горячий! Глазки закрыты, и дышит часто-часто! Участковый наш врач пришел, поговорил минут двадцать. Главная задача у них, я поняла, — не жизнь молодую спасти, а репутацию свою не загубить!
Остались мы с Анатолием одни. Но, надо сказать, дружки его помогали, как могли. Гуляй-Нога — он на АТС работал — прямо со станции набирал все номера подряд, спрашивал у знакомых-незнакомых, не знают ли они, чем ребенка можно спасти. Валера — он моряк, достал у своих корешей моряков какое-то противовоспалительное средство — бельгийское, что ли, не нашими буквами было написано, — я давала ей с ложечки, но не помогало. Потом, я уже не помню кто, привел старичка-профессора, тот сам уже был еле жив, глазки полуприкрыты, ручки дрожат. Однако — как взял Светку, сразу твердость такая в руках появилась, распеленал ее, как заправская мать. Посмотрел...
— Можете запеленывать! — чуть слышно говорит.
— И что?
— Ничего. Еще несколько часов — и сердце не выдержит. Такой температуры взрослые не выносят — не только дети!
— А как... снизить эту температуру? — Толян говорит. — Может, лекарство какое нужно достать? Скажи — я все сделаю!
— Нет, — глазки прикрыл. — Лекарство уже не поможет...
— Ну?! — Толян говорит.
— Есть один способ, — промямлил, — но он сейчас не используется.
— А нам-то что — сейчас, не сейчас! У нас дочь помирает! — Толян говорит. — Что за способ?
— Практикующие врачи не применяют уже его. Но поскольку дочь ваша к утру все равно помрет... поскольку я последняя инстанция между ней и богом, — то возьму на себя риск. Способ этот в дикие времена в деревнях применяли... когда в каждой семье по десятку детей было, так что если помирал один — не так страшно. А тут, когда единственный у вас... Единственный он у вас? Держитесь, мамаша! Только потому делаю, что надежд на спасение все равно нет. А вы, папаша, держите мать, — некоторые не выдерживают, кидаются и губят все!
Анатолий меня за плечи взял, и я вдруг гляжу и глазам не верю своим: то ли снится это мне, то ли наяву: надевает старичок кашне, шапку, пальто, потом вдруг раскрывает заклеенное уже окно — в комнату сразу снега нанесло — потом вдруг берет Светку, голенькую, и выставляет ее на улицу. Держит так минуты полторы, потом кладет на одеяльце, закрывает окно.
— Запеленывайте! — говорит...
А я с места двинуться не могу — Анатолий запеленал.
Ночь просидели мы вместе со старичком, утром смотрим — не такая горяченькая она уже, и дышит ровней!
— Кажется, получилось! — старичок собираться стал. — Значит — везучая она у вас! Только с другими своими детьми не делайте так, если только — тьфу, тьфу! — не при смерти они будут!
— Секунду! — Анатолий говорит. — Сейчас — выскочим в магазин, подождите — хоть пожрать вместе на радостях надо!
Вышли мы с Толей во двор — все, кто там был, так и кинулись к нам — суббота была.
— Ну что?
— ...Порядок! — Анатолий говорит.
Тут кто-то уже кружку пива ему тянет:
— Отметить надо!
— А этого вот — больше не принимаю! — Анатолий говорит.
Сказка девятая
...Хоть и август уже был — пришлось на рынок тащиться: в такой продаже хороших яблок не было, одна гниль. Надо мужу в больницу хоть яблок нормальных принести... Говорит, шел с занятий кружка текущей политики, увидел, мужика бьют, ввязался — без него, конечно, ни одна драка не может обойтись. Ну и получил по кумполу... до больницы, правда, говорит, дошел сам.
— Я теперь как футбольный мячик! — сказал, когда я ночью уже в больницу примчалась. — В голове ниточки, как шнуровка!
И вот — третий только день, а его в палате уже нет — в парк побежали его искать.
— Толстиков, Толстиков! — слышу голоса. Все, конечно, уже знают его — популярная личность!
Выложила на его тумбочку яблоки. Конечно, могла бы я и кое-чего вкусненького принести, — через подругу мою Лидочку Сергеевну все что угодно могу достать... но с этим остолопом бесполезно пытаться что-то путное сделать. Тут же все разбазарит, дружкам своим новым раздаст, как накануне с красной рыбкой сделал.
— Между прочим, — сказал, — тут тоже люди лежат, и почему я один должен это есть — не совсем понимаю!
Дурака, как говорится, могила исправит. Но с ним-то, ясное дело, бороться бесполезно уже. Меня беспокоит только, как он на Светку влияет. Я ее и в хореографический, и на французский устроила, а этот — каким-то дурацким частушкам учит ее, да еще хохочет!
Явился, наконец! Где и чем занимался — абсолютно неизвестно!
— Прими яблоки! — говорю ему. — Ну, как ты тут поживаешь? Головка не болит?
— А чего ей болеть? — отвечает. — Если б там были какие-нибудь нервные окончания — другое дело. А так — чего ей болеть? Сплошной чугун. Ну, как Светка там? Скажи, если отца забудет — уши оборву!
— Ты себе сначала оборви!
— Не могу — прибинтованы! — ладошкой провел.
— Ну ты, чудо! Не говорили, когда выпишут-то?
— А я и не интересовался! Тут отличная компашка подобралась!
— Да у тебя и на том свете, — говорю, — компашка подберется! Родители пишут — приехать хотят. Чем встречать будешь — соображай!
— Нет проблем! — бодро отвечает. — Ты за моей матерью там смотри!
— Ну как же не смотреть! — говорю. — Она же, можно сказать, все это счастье мне подсуропила!
— Анатолий! Куда запропал? Скучно без тебя! — еще одна забинтованная личность в дверь засовывается.
— Толстиков! — дежурная заходит. — Обещал центрифугу в прачечной посмотреть — сколько ждать?
— Могу я с женой немного поговорить? — Толян отвечает.
Оглавление
I
Минута слабости
Выполняю машинописные работы
Искушение
Шаг в сторону
День приезда
Излишняя виртуозность
Никогда
В мягкой манере
И вырвал грешный мой язык
II
Кровь и бензин
Гиганты
Немного успокойся!
Друг моего друга
III
По-нашему, по-водолазному
Море глупости
Крутежные парни
Вариант
Грибной поезд
Гости и хозяева
Транзитник
Первая хирургия
Рыбья кровь
Третьи будут первыми
В городе Ю.
Сны на верхней полке
Тихие радости
IV
НОВАЯ ШЕХЕРЕЗАДА
(Повесть)
Сказка первая
Сказка вторая
Сказка третья
Сказка четвертая
Сказка пятая
Сказка шестая
Сказка седьмая
Сказка восьмая
Сказка девятая