История частной жизни Том 1
От римской империи до начала второго тысячелетия
Под общей редакцией Филиппа Фрьеса и Жоржа Дюби
Поль Вейн, Питер Браун, Ивон Тебер, Мишель Руш, Эвелин Патлажан
Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980–е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. В первом томе — частная жизнь Древнего Рима, средневековой Европы, Византии: системы социальных взаимоотношений, разительно не похожих на известные нам. Анализ институтов семьи и рабовладения, религии и законотворчества, быта и архитектуры позволяет глубоко понять трансформации как уклада частной жизни, так и европейской ментальности, а также высвечивает вечный конфликт частного и общественного. Перевод сделан по дополненному изданию 1999 года.
Предисловие к «Истории частной жизни»
Замечательная идея представить широкой публике историю частной жизни принадлежит Мишелю Виноку. Филипп Арьес с энтузиазмом подхватил эту идею и начал претворять ее в жизнь. Вся работа, которую мы вели на протяжении нескольких лет вместе с ним и потом — после его внезапной кончины — к нашему величайшему сожалению, уже без него, должна быть посвящена памяти этого великого историка, который вел нас за собой с великодушием, азартом и дерзостью, добиваясь результатов, интуитивно находя правильные решения, не боясь быть первым, часто наощупь прокладывая дорогу в этой малоизученной области современной истории, призывая других первооткрывателей разделить с ним этот путь, чтобы лучше понять и почувствовать жизнь Европы XVII–XVIII веков, детство, быт семьи, смерть. Следовать предложенным Арьесом маршрутом научного поиска мы должны с тем же веселым азартом и с той же смелостью, что были ему присущи, с той живостью, что позволила ему не погрязнуть в университетской рутине. Это позволит нам закончить начатую им работу, не падая духом, руководствуясь как собственными размышлениями, так и теми его советами, которые звучали на наших первых встречах, на семинаре в аббатстве Сенанк в сентябре 1981 года и на проходившем под руководством Арьеса семинаре медиевистов в Берлине.
Пройденный путь был невероятно рискованным, поскольку перед нами открывалось действительно непаханое поле для исследований. У нас не было предшественников, которые успели бы уже проанализировать некий изначальный объем материала или хотя бы обозначить его контуры — при том что материала много, он крайне разнообразен и на первый взгляд кажется общеизвестным. Нам всякий раз приходилось прорываться сквозь чащу, делать первые просеки и размечать площадки, подобно археологам, которые, зная, что на исследуемом участке находится клад, вынуждены ограничиться прокладыванием нескольких основных поисковых траншей, поскольку территория слишком обширна для проведения сплошных раскопок. В наших поисках мы должны были следовать аналогичным путем, производить предварительную разведку, не питая иллюзий относительно того, что сможем вскрыть весь пласт целиком. Вынужденные продвигаться вперед наощупь, мы с самого начала смирились с тем, что представим на суд читателей не столько окончательные выводы, сколько информацию к размышлению. И в самом деле, положения, изложенные в книге, зачастую ставят вопросы, на которые нет ответа. Мы надеемся, что затронутые проблемы по меньшей мере вызовут любопытство и подтолкнут других исследователей продолжить работу, начать распашку новых целинных участков и глубже расчистить пласты, которые мы вскрыли лишь возле самой поверхности.
Была и еще одна преграда, не столь явная, но куда более существенная. Мы решили расширить наши исследования до уровня истории всей западной цивилизации на протяжении значительного периода времени. Приходилось последовательно применять привычную нам модель частной жизни к реалиям, относящимся к разным странам — от севера до юга — и к более чем двухтысячелетнему периоду времени, тогда как обычаи и образ жизни людей разных стран и эпох сильно различались, не говоря уж о том, что действительно устойчивую форму они обрели совсем недавно — к XIX веку, и лишь в нескольких регионах Европы. Как же описать предысторию? Как определить, во всех ее изменениях, действительность, которую скрывает время? Кроме того, нужно было точно очертить сюжет, не запутавшись в рассуждениях о повседневной жизни, о том, к примеру, как было устроено жилище, как выглядели комнаты и постели; стараясь не соскользнуть к историям личным или даже интимным.
Мы отталкивались от того неоспоримого факта, что всегда и везде частная жизнь противопоставляется общественной, доступной всеобщему обозрению и подчиненной власти общественных институтов, и этот явный контраст отражается в терминологии и в общепринятых понятиях. Особое пространство, имеющее четко выраженные границы и относящееся к той части человеческого существования, которая на всех языках называется личным, — это зона неприкосновенная, хранящая секреты и предоставляющая убежище; здесь каждый может освободиться от оружия и доспехов, необходимых, дабы не остаться беззащитным в публичном пространстве; это место, где можно расслабиться и чувствовать себя непринужденно, быть «не при параде», отбросить личину самодовольства, призванную произвести впечатление на других людей, перестать обороняться. Это сокровенное домашнее пространство, где допустима раскованность. В личном пространстве сконцентрировано все самое ценное, то, что принадлежит только тебе, что скрыто от постороннего взгляда, то, что не принято разглашать и демонстрировать, поскольку все это слишком далеко от правил приличия, которые следует соблюдать на публике.
Естественно, заключенная внутрь жилища, запертая на замок, обнесенная забором, частная жизнь оказывается изолированной. Однако эта «стена», которую буржуазия XIX века изо всех сил намеривалась сохранить в Целостности, постоянно подвергалась атакам с обеих сторон. Личное пространство необходимо было защищать от напора извне, со стороны общественной жизни. Но и по эту сторону барьера нужно было сдерживать стремления отдельной личности к независимости, поскольку огороженное пространство, защищающее группу, представляло собой сложную социальную формацию, сплошь пронизанную неравенством и противоречиями, где противоборство между мужчинами было выражено еще более резко, чем видимые даже со стороны отношения доминирования: мужчин над женщинами, стариков над молодыми, хозяев над слугами.
Начиная со Средних веков все проявления нашей культуры несут отпечаток этого двойного конфликта, который к Новому времени становится еще острее. Усиливается и углубляется влияние укрепившегося государства, в то время как новые экономические начинания, уменьшение значимости коллективных ритуалов, интериоризация Церкви способствуют освобождению и становлению личности, увеличивая ее отрыв от семьи, дома, других общественных групп, делая личное пространство более разнообразным. Постепенно это пространство для мужчин (прежде всего в городах и поселках) разделилось на три части: дом, где их женщины по–прежнему ведут закрытый образ жизни; зона профессиональной деятельности, также остававшаяся частной, — мастерская, лавка, контора, фабрика; и, наконец, приватные зоны отдыха и развлечений, такие как кафе или клубы.
В пяти томах «Истории частной жизни» мы стремились как можно более точно отразить изменения, которые с течением времени происходили в частной жизни, — медленные и стремительные, касающиеся как формы, так и содержания. Характерные черты частной жизни и в самом деле постоянно менялись. «На любом этапе далекого прошлого хоть что–то, да происходит», — читаем мы в заметках, оставленных Филиппом Арьесом. «Явления, которые, по логике вещей, должны были бы в дальнейшем получить право на жизнь, — добавляет он, — либо продолжают развиваться в рамках прежней логики, либо останавливаются в развитии, либо трансформируются до неузнаваемости». И читателю, который привыкнет отдавать себе в этом отчет, будет проще не растеряться при виде постоянного движения, которое сочетает преемственность по отношению к традиции с новизной и разворачивается прямо перед глазами в ускоряющемся темпе, способном кого угодно сбить с толку. Не суждено ли промежуточному пространству, сформировавшемуся между работой и домом пространству личного общения, в конце концов зачахнуть окончательно? Не свидетельствует ли поразительно быстрое стирание различий между мужским и женским о разрушении границ также и между внутренним и внешним, общественным и личным — исторических границ, некогда незыблемых? Не стоит ли задуматься о том, что уже сейчас нужно предпринимать какие–то шаги по защите личности как таковой, поскольку молниеносный технический прогресс, разрушая последние оплоты частной жизни, создал такие формы государственного контроля, которые, если не соблюдать осторожность, способны свести понятие личности к номеру в необъятном и ужасающем банке данных?
Жорж Дюби
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий том охватывает восемь или даже десять веков частной жизни — начиная от Цезаря и Августа и вплоть до Карла Великого, а то и до восхождения Комнинов на трон в Константинополе. Временные пропуски в тексте сделаны нами намеренно. Полное и подробное описание было бы не слишком интересным для искушенного читателя, поскольку материалы, дошедшие до нас от целого ряда столетий, настолько скудны, что практически лишены какого бы то ни было жизненного содержания; ткань этого тысячелетия — полотно с зияющими здесь и там прорехами. Логичнее было выкроить из этого чересчур большого покрывала более или менее связные фрагменты, на которых картинки оживают.
Часть первая: Римская империя дохристианского периода, описанная достаточно детально, чтобы обозначить резкий контраст с эпохой раннего христианства; нужно поблагодарить замечательного историка Питера Брауна за то, что он первым заставил вступить в химическую реакцию эти две, такие разные субстанции. Язычество и раннее христианство — словно створки диптиха, которые, соединяясь, знаменуют полный трагизма переход от «человека гражданского» к «человеку духовному».
Часть вторая: материальная составляющая частной жизни; античный дом — языческий или христианский — изучен лишь в общих чертах, которые не касаются ни жизненных реалий, ни способов существования, ни стилистических или бытовых его особенностей. Нам кажется, что данный аспект исследований и впрямь представляет собой новое слово в науке, и мы надеемся, что читатели по достоинству оценят то, что мы расширили этот сюжет. Описывая городскую архитектуру Римского времени в рамках истории городской римской франции, которой уделено значительное место в тексте, мы обращали особое внимание на устройство жилых домов. Другой причиной для проведения подобных исследований послужило четкое представление о том, что большинство людей видит в археологии; лето, многочисленные туристы спешат на места раскопок с путеводителями в руках. Но путеводитель далеко не во всем может помочь: он не может научить видеть, на основании скудных фрагментов мысленно восстанавливать стены, этажи и крышу дома, от которого остался лишь фундамент, представлять его обитателей, их занятия, их передвижения по дому, понимать, жили ли они в тесноте или дом для них был достаточно просторным.
Часть третья: раннее западное Средневековье и восточная Византия. К V веку нашей эры Римская империя теряет свои западные провинции, захваченные варварами. Однако она продолжает существовать, сократившись до своей восточной половины. Византийская цивилизация есть не что иное, как продолжение Древнего Рима, постепенно изменившегося под влиянием времени. Две контрастные картины в духе «новой истории»
[1] представляют жизнь меровингского, а затем каролингского Запада и жизнь Византийской империи времен македонской династии.
Если именно таким был наш общий замысел, читатель этой истории частной жизни вправе задать нам два вопроса: почему нужно было начинать с римлян? Почему не с греков?
Почему римляне? Не потому ли, что их цивилизация послужила основанием для современного Запада? На сей счет я не могу сказать ничего определенного. Нет никакой уверенности в том, что Римская империя послужила его фундаментом, что христианство, техника, права человека берут свое начало именно оттуда; не слишком понятно, какие аргументы должны служить отправной точкой, чтобы дискуссия на эту тему привела к чему–либо кроме пустых рассуждений с политическим или воспитательным подтекстом. Наконец, следует полагать, что в профессиональные обязанности историка никоим образом не входит необходимость укреплять новоиспеченных аристократов в их иллюзиях относительно собственной родословной. История — это путешествие в другой мир, и она должна служить тому, чтобы мы изменились, перестали заниматься только самими собой и по меньшей мере осознали свое место в ней. Римляне отличаются от нас радикальнейшим образом и по степени экзотичности для нас ни в чем не уступают индейцам или японцам. Это и послужило первой причиной для того, чтобы именно с них начать эту историю: с тем чтобы продемонстрировать контраст, а вовсе не за тем, чтобы показать в истории Рима уже наметившееся будущее Запада. Римская «семья», если говорить только о ней, так же мало похожа на созданные о ней легенды, как и на то, что называем семьей мы.
Но тогда почему не греки? Потому что греки продолжили свое существование в Риме, они — самая суть того, что принято считать Римом; Римская империя — эллинистическая цивилизация, попавшая в грубые варварские руки (если говорить об отступлении от гуманистических идей), с государственным аппаратом итальянского происхождения. Цивилизация Рима, его культура, литература, искусство и даже религия в силу греческого влияния на протяжении пятисот лет практически полностью происходят от греков; Рим, этот могущественный этрусский город, со времени своего основания был эллинизирован ничуть не менее, чем другие города Этрурии. Если высший государственный аппарат, представленный императором и сенатом, был в основном чужд эллинизму (такова была воля римских властей), то второй уровень власти, муниципальный (Римская империя состояла из множества самостоятельных городов), оставался, напротив, полностью греческим. Жизнь городов латинского Запада начиная со II века до н. э. ничем не отличалась от жизни городов восточной половины Империи. И в основном именно городская жизнь, которая была полностью эллинизирована, и определяла рамки частной жизни. Таким образом, в то время, когда начинается история, о которой у нас пойдет речь, существовала единая цивилизация, единая Империя от Гибралтара до Инда (то есть, с тогдашней точки зрения, обнимавшая весь мир), и эта цивилизация была эллинистической. Римляне, народ вполне периферийный, сам находящийся под греческим влиянием, завладевают этим культурным пространством, завершая тем самым процесс адаптации к эллинистической культуре. Цивилизация, преемниками которой они стали, воспринималась римлянами не как греческая и чужая, но как своя собственная, грекам же отводилась роль первых хранителей, а вовсе не обладателей исключительного на нее права. Рим становится греческим, точно так же как современная Япония стала одной из стран Запада. Первая глава описывает частную жизнь в Империи, называемой Римской, которая также могла бы быть названа Эллинской. Такова основа нашей истории: древняя, утраченная Империя.
Поль Вейн
 Рис. 1.
Рис. 1. Для удобства читателей мы пожертвовали поэтичными древними географическими названиями в пользу более привычных современных. Масштаб этой карты отражает размеры Империи. Скорость путешествия по суше составляла от тридцати до шестидесяти километров в день, быстрее ездили только специальные, находящиеся на государственной службе гонцы; путешествие по морю из Рима в Сирию занимало пятнадцать дней при попутном ветре, а иногда даже больше, с ноября по март морских путешествий старались избегать. В то время вообще не слишком много путешествовали, дальние поездки предпринимались, скорее, в силу необходимости. После Рима наиболее значительными городами были Карфаген, Александрия, Антиохия в Сирии и Эфес, самыми процветающими регионами — Тунис, Сирия и Турция. Отличительной особенностью Империи было двуязычие: в западной части языком власти, торговли и культуры служила латынь; в восточной половине Империи — греческий. Население: 50 000 000 жителей, максимум вдвое больше. Самые большие города насчитывали 100 000, может быть, 200 000 жителей, плюс население окрестных деревень. В Риме было 500 000 жителей, возможно, вдвое больше. Уровень жизни различался в зависимости от провинции и должен был варьироваться подобно тому, как это происходит в современных странах Ближнего и Среднего Востока в зависимости от того, бедные это страны или богатые.

 Рис. 2, 3.
Рис. 2, 3. Карты к гл. 3 («Частная жизнь и жилищная архитектура в Римской Африке»)
ГЛАВА 1 РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Поль Вейн

Картина из Помпей, дом, называемый Домом Теренция Неона: портрет семейной пары, 79 год до н. э. Подобен знаменитым «Фаюмским портретам» в Римском Египте
(Национальный археологический музей Неаполя)
Они легко ломают льды веков: чтобы понять этих людей, достаточно просто взглянуть в их глаза; они смотрят на нас так же, как и мы на них. Искусство портрета не предполагает подобного обмена взглядами сквозь все эти эпохи.
Эти мужчина и женщина — не просто изображения, поскольку они нас видят; однако они не делают ничего, чтобы бросить нам вызов, нам понравиться, что–либо нам доказать или вселить в нас смутное ощущение чего–то недоступного, неподвластного нашему суждению. Они не слишком озабочены нашим присутствием и не выставляют себя напоказ: их присутствие настолько же естественно, насколько и наше; они — то же, что и мы; и взгляды, которыми мы обмениваемся, — равноценны.
Эта естественность, свойственная греко–римской культуре, на долгое время стала классической; она была настоящей, она не была привязана к какому–то определенному времени, она не вызывала в зрителе чувства смущения. Глава семьи и его жена не позируют, в выражениях лиц нет ничего демонстративного, их одежда никак не маркирована ни с социальной, ни с политической точки зрения и никак не влияет на индивидуальность моделей; украшения отсутствуют. Личность предстает такой, какая она есть, во всей своей бесстрастной сущности, и останется самой собой. вне зависимости от контекста. Искренность, простота, общечеловеческий гуманизм. Чтобы выглядеть элегантно, женщина укладывает волосы в красивую прическу и не надевает украшений.
Сегодня мы склонны верить скорее в диктат господствующих нравов, исторического момента, и в целесообразность. Одного–единственного, лежащего на самой поверхности аргумента будет вполне достаточно для того, чтобы очнуться от гуманистических мечтаний, в которые вовлекают нас люди с портрета: эти мужчина и женщина были достаточно богаты, чтобы позволить себе заказать портрет. К тому же реальными людьми они выглядят лишь на первый взгляд; будто бы случайно они были запечатлены в каноническом возрасте, то есть тогда, когда уже заканчивается взросление, но еще не начинается старость. Это не живые люди из плоти и крови, застигнутые в конкретный момент жизни, а скорее персонифицированный общественный тип, который претендует одновременно на подлинность и идеальность. Тем не менее запечатленный момент правдив, если не принимать во внимание возраст: через индивидуальность выражается сущность.
Символы, которые муж и жена держат в руках, неясностей в себе не содержат — они со всей очевидностью отражают высокий социальный статус моделей; и это вовсе не кошелек и меч, свидетельствующие о богатстве и власти, — это книга, табличка для письма и стилос. Эта культурная идиллия выглядит вполне естественной: книга и стилос для этих людей суть предметы вполне привычные, нет нужды намеренно выставлять их напоказ. Мужчина задумчиво подпирает подбородок книгой (в форме свитка), женщина отстраненно прижимает к губам стилос: она подбирает слог (в те времена поэзией могли заниматься и дамы) — достаточно редкий случай для античного искусства, в котором не слишком часто изображались простые человеческие жесты. Микеланджело будет большим любителем подобных «аутичных» движений, придающих образу оттенок сомнения или мечтательности (его Моисей рассеянно поглаживает бороду). Но люди на картине не мечтают: они размышляют, уверенные в себе, поскольку все в их образах — отстраненный взгляд, позы, предметы — свидетельствует о близости к культуре; и в этом будто бы нет никакого явного намека на их привилегированное положение: они держат книги просто потому, что любят читать. Тонкость и простота подобных изящных уловок придают величие греко–римскому миру, который мы собираемся посетить. Горожане они или аристократы? Да просто — изысканные люди.
Полагаю, что дружба и безграничная скорбь дают мне право посвятить эти страницы памяти Мишеля Фуко, человека настолько мощного, что, находясь рядом с ним, вы ощущали себя у подножия горы. Вот и еще одного источника энергии не стало.
Спасибо, седая звезда,
За мужество странного свойства
Светить на заре одиноко
И чуждо грядущему дню.
(Уильям Карлос Уильямс. El Hombre)[2]
ОТ МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ ДО ЗАВЕЩАНИЯ
Быть принятым или брошенным
Рождение ребенка в Римской империи не было актом чисто биологическим. Младенцы появлялись на свет или, точнее, признавались обществом только после одобрения главы семьи; контрацепция, аборты, отказ от свободнорожденных детей и убийство детей рабынь широко практиковались на вполне законных основаниях. Подобные действия начали осуждать, а потом и вовсе признали незаконными только после широкого распространения новой морали, которую коротко можно определить как стоическую. В Риме гражданин не «имел» сына, он его «принимал» и «поднимал» (tollere); отец вступал в свои права сразу после рождения ребенка, после того как поднимал его над землей, куда положила его повитуха. Отец брал его на руки, демонстрируя таким образом, что признает ребенка и не отказывается от него. Вне зависимости от того, родила ли мать благополучно (в сидячем положении на специальном кресле, подальше от мужских глаз) или же умерла и малыш был извлечен из рассеченной матки — этого было еще не достаточно, чтобы признать появление на свет наследника.
Ребенка, которого не поднял отец, должны были подбросить под дверь жилища или на мусорную кучу; его мог подобрать любой, кто захочет. Точно так же поступали с ребенком, отец которого отсутствовал, оставив своей беременной жене распоряжение поступить подобным образом. Грекам и римлянам было известно о том, что у египтян, германцев и евреев принято воспитывать всех своих детей, не отказываясь ни от кого. В Греции чаще отказывались от девочек, чем от мальчиков; так в 1 году до Рождества Христова эллин пишет своей жене: «Если (стучу по дереву) ты родила ребенка и это мальчик — оставь его жить, если девочка — брось ее». Однако нет никакой уверенности в том, что у римлян были такие же предпочтения — они бросали или топили детей с врожденными уродствами (не в приступе гнева, а вполне осознанно; так, Сенека говорит: «Нужно отделять удачных от тех, кто ни на что не годен») или детей девиц, совершивших «ошибку». Но чаще всего одни отказывались от законнорожденных детей по причине нищеты, другие — из–за имущественной политики. Бедные бросали детей, которых не могли прокормить; другие «бедные» (античный смысл этого слова мы перевели бы как «средний класс») отказывались от них (по словам Плутарха), «чтобы не видеть их испорченными не ахти каким воспитанием, которое заведомо лишало их и достоинства, и статуса»; представители знатных родов, средний класс, в интересах семьи стремились направить силы и средства на обеспечение положения в обществе не слишком большого числа детей. Но даже и в более богатых семьях ребенок мог быть нежеланным, поскольку появление на свет еще одного наследника требовало внесения изменений в уже окончательно составленное завещание. Один из законов гласил: «Рождение еще одного сына (или дочери) нарушает завещание», уже скрепленное печатью, если только отец не согласился заранее лишить наследства своего ребенка, который мог родиться в будущем; возможно, многие предпочитали отказаться от ребенка и больше ничего о нем не слышать, чем лишать его наследства.
Что же происходило потом с брошенными детьми? Очень редко они выживали, пишет Псевдо—Квинтилиан; он отмечает, что богатые, отказавшись от ребенка, больше ничего не желали о нем знать, тогда как бедные, вынужденные бросить ребенка по причине крайней нужды, делали все, что могли, чтобы малыша хоть кто–нибудь принял на воспитание. Иногда отказ от ребенка был лишь видимостью: на самом деле мать без ведома мужа отдавала ребенка на попечение соседям или зависимым семьям, которые тайно его воспитывали. Впоследствии он становился рабом, и нередко воспитатели отпускали его на свободу. Лишь в исключительных случаях взятый на воспитание ребенок мог быть признан свободнорожденным; именно так, например, произошло с женой императора Веспасиана.
Законное и обдуманное решение об отказе от ребенка могло быть и демонстративным. Муж, подозревавший жену в измене, отказывался от младенца, который, как он полагал, мог быть рожден не от него; так, новорожденная девочка, ребенок дочери императора, была подброшена под двери императорского дворца «совершенно голой». Демонстративно отказаться от ребенка могли и по религиозно–политическим мотивам: после смерти горячо любимого народом Германика, сына императора, простолюдины, выступая против богов, забрасывали камнями их храмы, а некоторые родители в знак протеста отказывались от своих детей; после того как Агриппина была убита своим сыном Нероном, неизвестный горожанин «оставляет своего малыша в самом центре форума с дощечкой, на которой написано: „Я тебя не поднимаю, боясь, как бы ты не перерезал горло своей матери”». Коль скоро решение об отказе от ребенка было личным делом каждого, почему бы при случае такое решение не могло стать и государственным? Среди народа распространился слух: сенат, узнав от предсказателей о том, что в этом году родится император, хотел заставить народ бросить всех появившихся на свет в течение года младенцев. Как тут не вспомнить об избиении младенцев (которое, кстати сказать, вполне могло быть подлинным фактом, а не просто легендой)?
«Голос крови» крайне редко звучал в Риме; гораздо более значимым было понятие рода. Так, внебрачные дети носили фамилию матери, узаконить ребенка было нельзя, признания отцовства не существовало; дети, забытые своими отцами, не играли какой–либо заметной роли в социальной или политической жизни римской аристократии. Иная судьба ожидала вольноотпущенных: эти люди, зачастую богатые и наделенные властью, своих собственных детей могли иногда протолкнуть даже в сословие всадников, а то и в сенат. Правящий класс образовывался из законнорожденных детей олигархов и сыновей их бывших рабов… Отпущенным на свободу рабам давали фамилию хозяина, освободившего их от рабства; они продолжали его род. Так можно объяснить частые случаи усыновления: усыновленный ребенок принимал фамилию своего нового отца.
Рождаемость и контрацепция
Римский менталитет был не слишком натуралистическим: традиция усыновления и открывающаяся для некоторых вольноотпущенников возможность социального роста компенсировали слабое естественное воспроизводство населения. Аборты и предохранение от беременности практиковались достаточно широко, хотя историки и несколько сгущают краски, поскольку абортами в Риме назывались не только хирургические методы, которые мы применяем до сих пор, но и те, что у нас называются контрацепцией. Мать вполне могла избавиться от будущего нежеланного ребенка — чисто биологические мотивации не имели в Риме большого значения. Приверженцы более строгих нравов, конечно, могли бы обязать мать сохранить свой плод, поскольку они, не задумываясь, признавали за эмбрионом право на жизнь. Достоверно установлено применение одного из методов контрацепции во всех слоях населения; так, Святой Августин с возмущением говорит, как о вполне обычных вещах, о «сжатии, чтобы избежать оплодотворения»
[3], которое практиковалось даже в законном браке; он разделяет контрацепцию, стерилизацию лекарственными средствами и аборты, в равной степени их осуждая. Альфред Сови пишет: «Если исходить из того, что нам известно на сегодняшний день о возможностях человеческого рода к воспроизводству, население Империи должно было бы увеличиться сверх всякой меры».
Какой способ контрацепции был наиболее употребительным? Платон, Цицерон, Овидий намекают на языческий обычай омовения сразу после любовного акта; так, на рельефном сосуде, найденном в Лионе, изображен податель кувшинов, спешащий к паре, увлеченной любовью в постели, — под видом обычной привычки к чистоте мог скрываться один из способов контрацепции. Христианский богослов Тертуллиан полагает, что изверженная сперма — это уже ребенок (фелляцию он приравнивает к каннибализму); так, в трактате «О покрывале дев» можно заметить намек, тщательно скрываемый в силу его очевидной непристойности: девушки, якобы девственницы, легко беременеют и рожают без боли детей, предварительно их задушив (намек на маточное кольцо): парадоксально, но эти мертворожденные дети в точности похожи на своих отцов. Святой Иероним в письме 22 говорит о таких девушках: «те, что стерилизуют себя заранее и убивают человеческое существо, не дав ему зародиться», — вероятный намек на спермицидные снадобья. Что же касается менструального цикла, римский врач Соран Эфесский полагал, что с теоретической точки зрения женщина может забеременеть непосредственно до или сразу после менструации; учение, которое, к счастью, оставалось эзотерическим. Следует заметить, что все эти способы предохранения касались исключительно женщин — нет никакого намека на coitus interruptus
[4].
Сколько же было детей? Закон предоставлял привилегии матерям, имевшим троих детей, как женщинам, исполнившим свой долг, — именно это число, похоже, представлялось каноническим. И если эпитафии трудно интерпретировать однозначно, то в сохранившихся текстах, напротив, упоминания о детях в количестве трех встречаются с неизменным постоянством, даже в виде поговорок и пословиц. Если некий автор эпиграмм желает заклеймить позором женщину, которая из–за скупости морила голодом своих детей, — он пишет «троих своих отпрысков». Проповедник–стоик говорит: «Думает ли человек, придя в этот мир, о том, чтобы сделать нечто большее для продолжения рода, чем произвести на свет двоих или троих маленьких негодников?» Подобное мальтузианство составляло основу династических стратегий; так, например, Плиний пишет одному из своих корреспондентов: если в семье, где уже есть ребенок, появляется еще один, стоит сразу же задуматься о богатой невесте либо удачливом женихе для второго наследника. Никто не хотел дробить наследство на части. Надо сказать, что античная мораль не слишком считалась с подобными резонами, оставаясь даже во времена Плиния вполне патерналистской, моралью отцов семейств, которые на традиционный манер «не давали своим женам передохнуть между родами, хотя в наше время большинство людей полагают, что и единственный сын — это уже тяжелое бремя и что гораздо выгоднее оставаться не обремененным потомством». Изменились ли эти представления к концу II века н. э., то есть ко времени, когда успели приобрести достаточно широкое распространение стоические и христианские моральные установки? Римский оратор Фронтон, наставник Марка Аврелия, потерял пятерых детей, умерших во младенчестве; всего же у него их было значительно больше; у самого Марка Аврелия будет девять сыновей и дочерей. Складывается впечатление, что спустя три сотни лет после того, как Корнелия, мать Гракхов, образцовая женщина и пример для подражания, подарила своей родине двенадцать детей, Золотой век возвращается вновь.
Воспитание
Едва появившись на свет, новорожденный, будь то мальчик или девочка, вверялся заботам няни: времена, когда матери сами вскармливали своих детей, прошли. Однако «няня» давала ребенку намного больше, чем просто заботу: воспитание мальчишек вплоть до возраста половой зрелости доверялось наставнице и наставнику, иначе именуемым «кормильцами» (nutritor, tropheus), которые воспитывали в них необходимые навыки и манеры поведения; наставники Марка Аврелия научили его самому за собой ухаживать и не позволили особенно пристраститься к цирковым зрелищам. Дети жили вместе с наставниками, ели вместе с ними, однако обедали они со своими родителями и их гостями, приглашенными на вечернюю трапезу, которая была во многом церемониальной. Кормилицы и наставники ребенка навсегда останутся для него значимыми людьми; Марк Аврелий будет говорить с одинаковой любовью о своем настоящем отце, о приемном отце и о наставнике, а император Клавдий сохранит стойкую ненависть к своему «учителю», который в воспитательных целях не жалел розги. Когда девушка выходила замуж, ее мать и ее кормилица были рядом на свадебном пиру, давали последние советы дочери и молодому мужу. Наставник, кормилица и молочный брат составляли своего рода «вторую семью», где к ребенку все были снисходительны и добры, где можно было не слишком считаться с законами внешнего мира. Чтобы убить свою мать Агриппину, Нерон возьмет в сообщники своего «наставника»; когда же император будет покинут всеми и приговорен мятежниками к смерти, единственной, кто попытается его утешить, станет его кормилица: именно она и его любовница Акта похоронят Нерона после того, как он покончит с собой. Между тем сам Нерон сурово обошелся со своим молочным братом, когда тот не оказал ему должного почтения. Один философ- стоик прочитал проповедь о любви в семье; он объяснял, что эта любовь соответствует Природе, которая тоже есть Разум, и поэтому дети совершенно естественно любят свою мать, свою кормилицу и своего наставника.
В зажиточных слоях населения было принято, чтобы эта «вторая семья» жила в деревне, в здоровой атмосфере, подальше от соблазнов, под наблюдением пожилой строгой родственницы. «Именно ее несомненным и неоспоримым добродетелям вверяли заботу обо всех отпрысках семьи. Она определяла занятия и обязанности детей, а также их игры и развлечения». Цезарь и Август были воспитаны именно так; будущий император Веспасиан «воспитывался под надзором бабушки со стороны отца на ее землях, хотя его родная мать была в то время жива и здорова. Бабушка по отцовской линии действительно должна была воспитывать детей в строгости, в то время как роль бабушки со стороны матери была прямо противоположной: она могла быть ласковой и снисходительной. То же самое относится к дядьям со стороны отца и матери: сами латинские слова, обозначающие этих родственников, имели дополнительный смысл и означали соответственно строгость и мягкость.
В действительности воспитание зависело не только от взглядов и амбиций наставников. Один римский преподаватель описывает процесс воспитания с другой стороны; он говорит об особой строгости как о необходимом условии своей профессии (в Риме философы и, отчасти, риторы занимают особое место в обществе, в чем–то схожее с тем, которое у нас занимают священники). По его мнению, ребенок, которому позволяют расти в доме родителей, получает от своего окружения лишь уроки «малодушия»: его детские одежды так же роскошны, как у взрослых; так же как и взрослые, он выезжает в город в креслах–носилках; его детские дерзкие высказывания приводят родителей в восторг; он слушает во время обедов скабрезные шутки и пошлые песенки; он видит в доме любовниц и любовников. Уверенность — как несколько позже мы еще будем иметь возможность убедиться — в том, что мир развращен и постепенно приходит в упадок, в Риме была вполне устойчива и весьма широко распространена. При этом принято было полагать, что нравственность состоит скорее в умении противостоять пороку, чем в добродетели и хороших манерах, и поэтому главная опора личности заключается в силе сопротивления. Теоретически воспитание имело целью закалить характер, пока еще есть время, чтобы, становясь взрослым, человек был способен сопротивляться заразе комфорта и упадка, которая благодаря порокам современного мира распространилась повсюду. Все это было немного похоже на то, как мы сейчас пытаемся приучить подростков к занятиям спортом, прекрасно осознавая, что, став взрослыми, они весь остаток своей жизни проведут сидя за столом в офисе. Таким образом, на практике изнеженности противопоставляется деятельность, industria
[5], которая укрепляет мышцы характера, в то время как праздность их атрофирует. Тацит, например, рассказывает об одном сенаторе «из плебейской, но старой и уважаемой семьи, который слыл человеком скорее добродушным, чем энергичным, и, однако, отец воспитывал его в строгости».
Только строгость, приводящая в ужас искусителей, укрепляет характер. Так, Сенека говорит: «Родители вынуждают еще податливый характер малых детей выносить то, что идет им во благо; сколько ребенок ни плачь и ни сопротивляйся, его все равно туго пеленают из опасения, что еще не окрепшее тело малыша может деформироваться и вырасти неправильно; затем ему внушают любовь к свободе, вновь возвращаясь к запугиванию, если он отказывается оную воспринимать». Подобная строгость всегда будет привилегией отца, матери же дозволялось холить и баловать ребенка; воспитанный ребенок, обращаясь к своему отцу, называл его не иначе как «господин» (domine). Новоиспеченные аристократы очень быстро переняли эту благородную манеру. Дистанция между родителями и детьми была колоссальной. Преподаватель риторики, которого мы уже цитировали, потеряв своего десятилетнего горячо любимого сына, пишет кормилицам и деду, его вырастившим, о том, что мальчику была уготована блестящая карьера судебного оратора (этот вид искусства красноречия составлял яркую часть тогдашней бурной литературной жизни, под стать той, что в наше время отведена театру). Именно исключительные способности ребенка оправдывали публичную скорбь его отца. Получается, что так называемый материнский или отцовский инстинкт объединяет в себе частное проявление любви (которая в равной степени возникает как между родителями и детьми, так и между случайно встретившимися людьми) и гораздо более значимое родительское чувство, продиктованное господствующей моралью, которая дозволяет отцам любить своих детей лишь как носителей фамилии и продолжателей рода. Любовь не обременяли излишние сантименты. Потеряв ребенка, можно было совершенно обоснованно плакать на руинах семейных надежд.
Усыновление
Наш преподаватель был более чем прав, оплакивая своего обожаемого сына: важная персона, консул, должен был… усыновить его, и именно это обстоятельство обеспечило бы мальчику блестящую публичную карьеру. Обычная практика усыновления еще раз подтверждает недостаток естественных человеческих взаимоотношений в римской семье. Сына отдавали на усыновление подобно тому, как дочь выдавали замуж, особенно если это было выгодное замужество. Существовало два равноценных способа обзавестись законнорожденными детьми: родить их в браке либо усыновить. Усыновление позволяло избежать угасания рода или же обрести статус отца семейства, поскольку таково было требование закона для кандидатов на общественные титулы и членов правительств провинций: все преимущества, которые мог бы дать удачный брак, в равной степени давало и усыновление. Подобно тому как глава семейства назначает наследника по завещанию, продолжателя рода, так же и удачный выбор приемного сына определяет ему достойного преемника. Будущий император Гальба, вдовец, двое сыновей которого умерли, давно проявлял особое расположение к юному аристократу по имени Пизон, достоинства которого высоко ценил; в своем завещании Гальба назначил Пизона наследником и впоследствии его усыновил. Имея собственных сыновей, можно было усыновить еще и приемных, как это сделал, к примеру, Герод Аттик. Исторические тексты свидетельствуют о существовании практики усыновления по завещанию, которая не упоминается в сохранившихся юридических документах. Наиболее значительным примером наследования, связанного с усыновлением, можно назвать усыновление некоего Октавия, который, будучи приемным сыном и наследником Цезаря, в один прекрасный день стал императором Октавианом Августом. Кроме прочего, усыновление, как и брак, могло быть способом урегулировать переход имущества из рук в руки; так, например, тесть мог усыновить своего зятя, если тот оказывал ему должное почтение, а когда зять, осиротев, получал наследство, оно полностью поступало в распоряжение тестя, который теперь выступал в роли его приемного отца. Взамен тесть обеспечивал своему приемному сыну хорошую карьеру в сенате: таким образом, усыновление могло быть еще и средством обеспечения карьерного роста.
Дети, точно пешки, поставленные на шахматную доску
богатства и власти, в римской семье вовсе не были нежно любимыми малютками, требующими ласки и внимания, предметом обожания со стороны родителей, — вся забота о них поручалась прислуге. Говорить ребенка учила кормилица; в зажиточных домах кормилицы были гречанками, а потому ребенок уже с колыбели усваивал язык высокой культуры; научить ребенка читать должен был наставник.
Школа
Была ли грамотность привилегией высшего класса? В египетских папирусах имеются об этом совершенно определенные свидетельства, позволяющие сделать следующие выводы: были неграмотные, за которых писали другие; были люди из народа, умевшие писать; даже в самых крошечных деревеньках можно было обнаружить классические литературные тексты (это, собственно, и есть та «культура», которой так гордился античный мир). Книги модных поэтов почти тотчас появлялись на краю света: в Лионе. Все остальное — лишь вариации на эту тему (историкам, которые занимаются временами французского Старого порядка, это хорошо известно). В одном романе старый раб был очень горд тем, что умеет читать заглавные буквы: он не мог прочесть текст в книгах, частных бумагах и документах, зато хорошо разбирал надписи в лавках или храмах, объявления о выборах, спектаклях, сдающихся внаем домах или аукционах и, разумеется, эпитафии. С другой стороны, хотя частные наставники были доступны лишь очень богатым семьям, «в городах и селениях», говорит Ульпиан, также «были учителя, которые преподавали основы письменности»; школа была вполне устойчивым учреждением, религиозный календарь разрешал школьные каникулы, а утренние часы были временем школьников. Мы нашли множество документов, написанных рукой простых людей: счета ремесленников, бесхитростные письма, настенные надписи, очаровательные дощечки для письма. Делать записи для себя — это одно, уметь писать лучше, чем для себя, — совсем другое: для этого нужно владеть стилем и по крайней мере соблюдать орфографию (которую граффити игнорировали). Примечательно, что для составления публичного документа, прошения, даже простого договора, люди, умевшие читать и писать (но не более того), обращались к общественному писчему (notarius). Более или менее значительная часть маленьких римлян все–таки посещали школу вплоть до двенадцати лет, причем делали это как мальчики, так и девочки (врач Соран Эфесский последнего обстоятельства не одобрял); более того, школы были смешанными.
С двенадцати лет дальнейшая судьба мальчиков и девочек начинала складываться по–разному, причем как у богатых, так и у бедных. Только мальчики, если они происходили из зажиточных семей, продолжали учиться: под плетью «грамматика», или преподавателя литературы, они изучали классических авторов и мифологию (не веря ни единому слову), с тем чтобы не чувствовать себя в дальнейшем малообразованными. Для некоторых девочек — в виде исключения — их отцы также нанимали учителей, которые преподавали им классическую литературную традицию. Следует сказать, что в двенадцать лет девочки были уже вполне сформировавшимися девушками и некоторых из них в столь юном возрасте даже выдавали замуж — явление в Риме достаточно распространенное. Во всяком случае, в четырнадцать лет девушка становилась совсем взрослой: «Мужчины отныне называют их „госпожа” (domina, kyria), и девушки, видя, что им ничего более не остается, как только ложиться с мужчиной в постель, начинают наряжаться и прихорашиваться, не имея никаких других перспектив». Философ, написавший эти строки, заключает, что «лучше все- го дать им понять, что нет для них ничего более достойного, чем вести себя стыдливо и сдержанно». В хороших семьях начиная с этого возраста девочку практически заточали в тюрьму, усаживая за веретено и прялку, чтобы было ясно, что ничем дурным она не занимается. Если женщина владеет артистическими навыками, умеет петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах (пение, музыка и танец существовали как неразрывное целое), ее станут хвалить и высоко оценят ее способности, но при этом поспешат добавить, что речь идет, при всем том, о порядочной женщине. В конечном счете, воспитание юной женщины из хорошей семьи сможет продолжить ее будущий муж — если будет такая необходимость. У приятеля Плиния была супруга, эпистолярными способностями которой все восхищались: был ли в действительности сам муж автором всех ее писем или же ему удалось развить собственный талант этой «девушки, которую он взял в жены девственницей», так или иначе, ее способности целиком и полностью были его заслугой. И наоборот, когда мать Сенеки пожелала изучать философию, муж не позволил ей этим заниматься, полагая, что науки для женщины — верный путь к распутству.
А в это время мальчики учатся. Для того ли, чтобы стать хорошим гражданином или овладеть будущим ремеслом? Может быть, для того, чтобы разобраться, как устроен мир, в котором они живут? Нет, только лишь для того, чтобы блистать умом и щеголять потом прекрасным слогом. Было бы странно полагать, что на протяжении веков институт школьного образования существовал с одной–единственной Целью — с целью формирования молодого человека ради его адаптации к социуму; в Риме не преподавали ни практических, ни прикладных предметов, здесь учили только высоким материям и прежде всего риторике. На протяжении всей человеческой истории образование крайне редко было призвано подготовить ребенка к жизни, сформировать его представления об обществе, пусть даже в упрощенном или зачаточном виде; гораздо чаще история образования — это история идей, усвоенных в детстве, при этом никаких общественных функций образование не выполняло. В Риме украшали риторикой душу мальчиков подобно тому, как в прошлом веке детишек одевали в матросские или солдатские костюмчики. Детей наряжают и прихорашивают, желая воплотить в них идеальный образ человечества.
Мы оставляем в стороне систему образования в греческих регионах Империи, отличавшуюся во многих отношениях. Здесь придется довериться Нильсону. В то время как римская школа являла собой продукт заимствованный и как таковая существовала отдельно от улицы, вдалеке от политической и религиозной деятельности, греческая школа была частью общественной жизни. В греческой системе образования существовали палестры и гимнасии; гимнасий — вторая публичная площадка, куда мог прийти любой желающий и где занимались не только гимнастикой, хотя и гимнастикой тоже. На мой взгляд, основное различие римского и греческого образования состоит в том, что в греческой школе спорт выходит на первое место; даже гуманитарные предметы (родной язык, Гомер, риторика, немного философии и много музыки — даже во времена Империи) преподавались в углу гимнасия или палестры. Вслед за этим обучением, которое продолжалось до шестнадцатилетнего возраста, тут же следовала эфебия, на один или два года, где программа оставалась такой же
[6].
Помимо общественного характера школы, музыки и гимнастики, между римской и греческой системами образования было и еще одно различие. Ни один римлянин из хорошей семьи не мог считаться образованным, если наставник не обучил его греческому языку и литературе, тогда как более образованные греки к изучению латыни относились издевательски и гордо игнорировали Цицерона и Вергилия (за очень небольшими исключениями, такими, например, как чиновник Аппиан). Греческие интеллектуалы, подобно итальянцам XVI века, импортировали свои таланты за границу, естественным образом совершенствовали свои медицинские и философские познания на греческом, вне которого этих наук не существовало; в Риме они могли научиться разве что невнятно изъясняться на латыни. К концу Античности греки принимались за систематическое изучение латыни лишь для того, чтобы сделать карьеру юриста в имперском правительстве.
Отрочество
В двенадцать лет маленький римлянин заканчивает начальное обучение; в четырнадцать он отказывается от детской одежды и получает право делать то, что любит делать любой молодой человек; в шестнадцать или семнадцать лет он может выбрать общественную карьеру, поступить в армию (подобно тому, как, например, шестнадцатилетний Стендаль решил стать гусаром). Не существовало ни совершеннолетия по закону, ни совершеннолетнего возраста; не было малолетних мальчиков, только незрелые мужчины, которые переставали быть таковыми, как только их отец или опекун замечал, что пора бы сыну сменить детскую одежду на мужскую и в первый раз побрить растительность на лице. Возьмем, к привру, какого–нибудь сенаторского сына: в полных шестнадцать лет он становится всадником; в семнадцать — начинает исполнять свои первые общественные обязанности — служит в полиции Рима, казнит приговоренных к смерти, управляет монетным двором; его карьера уже не остановится, он станет полководцем, судьей, сенатором. Где он учился? На практике. У старших? Скорее, у подчиненных: у него достаточно аристократической спеси, чтобы при необходимости выглядеть человеком, принимающим решения. Таков юный аристократ: в шестнадцать лет он уже был полководцем, государственным жрецом, дебютировал в качестве адвоката.
К изучению на практике материй гражданских и профессиональных добавляется школьное культурное образование (народ образован, но не стремится к углублению знаний). Школа — это инструмент присвоения культуры, который одновременно служит для ее модификации: «классических» авторов изучают подобно тому, как посещают популярные среди туристов места и осматривают памятники, которые обязательно нужно увидеть. Школа принудительно научит всех аристократов чему–нибудь изящному, вещам, которые по–настоящему заинтересуют лишь немногих даже среди тех, кто искренне ими восхищается. В итоге как учреждение школа сама себя загоняет в тупик, она способна научить разве что самым основам, объяснить классику, то есть именно то, что объяснить проще всего; риторика изучена со всех сторон еще во времена классических Афин; пространные рассуждения переработаны в догмы и готовы к преподаванию. Именно так юные римляне учились читать свою классику, а потом изучали риторику. Что же такое риторика?
Во всяком случае, она не была чем–то полезным, имеющим «общественное» значение. Искусство красноречия, практикуемое на трибуне или адвокатской кафедре, играло заметную роль в Римской Республике, однако престиж риторики в гораздо большей степени определялся литературным блеском речей, нежели гражданскими функциями: Цицерон, который не был сыном олигарха, удостоился редкой чести быть принятым в сенат, поскольку его выдающийся литературный дар оратора призван был поднять авторитет этого собрания. Во времена Империи публика следила за судебными процессами подобно тому, как теперь следят за литературной жизнью, и даже слава поэтов не была окружена таким ореолом широкой популярности, какой осенял чело талантливых ораторов.
Такая популярность красноречия — шла ли речь о настоящем ораторском искусстве или лишь об элементарном навыке — привела к тому, что после классики риторика стала единственным предметом в римской школе; поэтому все мальчики изучали типичные планы ведения юридических и политических дискуссий, модели развития сюжетов, систему речевых эффектов (то, что у нас называется «риторическими фигурами»). Так изучали ли они искусство красноречия? Нет, поскольку риторика в том виде, в каком ее преподавали в школе, очень скоро превратилась в особый вид искусства, с собственным сводом законов и правил. Таким образом, между искусством красноречия и школьной риторикой была огромная пропасть, которую Античность не переставала с упоением оплакивать. Темы дискуссий, предлагаемые маленьким римлянам, никакого отношения к реальному миру не имели; напротив, это были немыслимые сюжеты с воображаемыми предметами. Риторика становилась салонной игрой. «Предположим, что закон постановил: соблазненной женщине дано право выбора, приговорить ли своего соблазнителя к смерти или же выйти за него замуж; в ту же ночь подсудимый мужчина надругался над еще двумя женщинами, одна из которых выбирает для него смерть, другая — законный брак». Подобный сюжет дает волю виртуозному мастерству красноречия, с густым мелодраматическим и эротическим привкусом, со смакованием парадоксов, с щепоткой юмора. Проходят школьные годы, и хорошо натренированные дилетанты продолжают совершенствоваться в своих играх у себя дома, перед искушенной публикой. Таково генеалогическое древо античного образования: от культуры — к желанию культуры, от стремления к культуре в школе — к школьным упражнениям, ставшим самоцелью.
Юность проходит
Пока маленький римлянин, стоя за кафедрой, «советует Сулле отречься от диктаторства» или рассуждает о том, какой выбор должна сделать изнасилованная девушка, он успевает возмужать. Начинаются годы снисхождения и поблажек. Все прекрасно знали: как только юноша впервые облачается в мужскую одежду, он первым делом пытается купить расположение одной из служанок или бросается в Субурру, пользующийся дурной славой квартал Рима, — если только какая–нибудь дама из высшего света, так сказать, не положит на него глаз и каприза ради не лишит его невинности. Свобода нравов среди римской аристократии была сродни нашей собственной — в XVIII веке. По мнению врачей, Цельса или Руфа Эфесского, такая болезнь, как эпилепсия, излечивается сама собой во время полового созревания, то есть в возрасте, когда на девушку накладывают первые ограничения, а юноша в первый раз занимается любовью; иными словами, если в отношении мальчиков половая зрелость и первый сексуальный опыт являются синонимами, то невинность девушек в тот же самый период жизни остается неприкосновенной. После возмужания и до брака у мальчиков еще остается время для вольностей, допустимых с родительского благословения; Цицерон и Ювенал, строгие моралисты, так же как и император Клавдий, допускали, что цензорам при исполнении должностных обязанностей нужно делать в отношении молодых людей определенную скидку на их юношескую горячность. В течение пяти или десяти лет молодой человек распутничал, заводил любовниц; с бандой подростков он вполне мог вломиться в дверь к проститутке и принять участие в групповом изнасиловании.
Приведем еще один факт, носящий скорее фольклорный и полуофициальный характер: существовали некие организации, куда входили исключительно юноши. Хорошо известны объединения молодых людей (collegia juvenum) в греческих регионах Империи, существовали подобные организации и в ее латинской части, и, хотя точная их роль остается до конца невыясненной, вполне очевидно, что, при их несомненной многочисленности и активности, они должны были где–то размещаться. Юноши, входившие в такого рода объединения, занимались атлетикой, фехтованием, псовой охотой; группы молодых людей появлялись на аренах амфитеатров, где сражались с дикими зверями, вызывая бурный восторг соотечественников. К сожалению, их деятельность не ограничивалась весьма похвальной физической активностью, доставшейся в наследство от милого сердцу греков атлетического воспитания: пользуясь своей многочисленностью и официальным статусом, они устраивали общественные беспорядки. В Риме золотой молодежи дозволялось участвовать в уличных разбоях: ночью банды молодчиков выходили на улицы, чтобы поколотить случайного прохожего, потискать горожанку, разгромить торговую лавку. И юный Нерон не пренебрегал подобной привилегией, да так увлеченно, что однажды едва не был избит сенатором, который среди напавших на него юнцов не узнал молодого императора; молодые люди, по–видимому, были уверены, что имеют право на подобные шалости. «Возвращайся с ужина как можно скорее, поскольку город отдан на разграбление юношам из лучших семей», — читаем мы в одном латинском романе. Те же молодые люди были самыми рьяными болельщиками популярных среди публики гладиаторов и возничих, причем кипение спортивных страстей выливалось иногда в самые настоящие баталии. «Иногда те, кого обычно называют Юными, — пишет один юрист, — в некоторых городах становятся на трибунах слишком шумными болельщиками: если вина их ограничивается только этим, они получают выговор от прокуратора, если же проступок повторится, их следует высечь и потом отпустить».
Таковы преимущества молодости и исключительные права молодежных групп. К моменту вступления в брак все любовные похождения прекращаются: во всяком случае, так утверждают поэты, сочиняющие эпиталамы; в своих свадебных песнях они безо всякого стеснения упоминают о прошлой распутной жизни юного супруга, уверяя, что благодаря исключительной красоте невесты всем его шалостям отныне и навсегда приходит конец.
Такой была римская мораль изначально, однако в течение II века н. э. постепенно распространяется мораль новая, которая, обретя основу в фантазиях медиков (не будем забывать, что античная медицина была наукой почти столь же серьезной, что и медицина времен Мольера), положила всему этому конец. Новая мораль призывала ограничить любовь браком, даже если речь шла о юношах, и убеждала родителей беречь сыновей от потери невинности вплоть до женитьбы. Любовь, конечно, не грех, а удовольствие, но только удовольствие опасное, наподобие алкоголя. Поэтому для здоровья будет лучше, если употреблять эту радость человек станет умеренно, а разумнее всего было бы и вовсе от нее отказаться, как от вредной привычки. И это не пуританство, а гигиена. Удовольствия в браке — совсем другое дело: они соответствуют гражданским устоям и естественной природе брака и, следовательно, являются обязанностью. Германцы, которых Тацит называет детьми природы, поздно узнавали любовь, и это хорошо, поскольку их молодые силы не истощались раньше времени, как это происходит у нас, римлян. Философы, рационализаторы по призванию, поддерживают это начинание; один из них пишет: «В том, что касается удовольствий в любви, нужно, насколько это возможно, сохранить чистоту до брака»; Марк Аврелий, император и философ, будет гордиться тем, что «сохранил цветок своей юности, не поддался мужским желаниям слишком рано и воздерживался даже дольше нужного»; он не прикасался ни к своему рабу Теодоту, ни к своей служанке Бенедикте, если даже ему этого и хотелось. Мастурбации также следовало избегать, и не только из–за того, что она истощает силы, но еще и потому, что она вызывает слишком раннее половое созревание, скоротечное и незавершенное.
Убить отца
К новым нравственным принципам добавлялись аргументы, заимствованные из старой морали, стоящей на страже гражданских и имущественных прав. Все доводы, положенные в основу новой идеологии, получившей развитие во времена Империи, базируются на понятии совершеннолетия. Возраст мужчины перестает быть только лишь физической характеристикой, определяемой обычным правом, — он становится юридической условностью: лица, не достигшие брачного возраста, ограничиваются в правах. С точки зрения чисто гражданских аспектов проблемы это означает, что молодой человек, ради собственного развлечения злоупотребивший снисходительным к нему отношением, мог быть навсегда лишен всяческих поблажек — просто для того, чтобы закалить его характер. Так, Тиберий, строгий император и к тому же убежденный стоик, поспешно отослал своего племянника Друза командовать легионом, когда решил, что тот «слишком пристрастился к соблазнам столицы». Поэтому ранний брак считался свидетельством того, что юность проходит без распутства и разврата. Юристов всегда больше интересовало имущество, чем мораль; между тем~четырнадцатилетний, то есть достигший брачного возраста юноша был вполне правоспособным и, для того чтобы платить за свои развлечения, мог брать деньги в долг под проценты в счет будущего наследства, которого еще нужно было дождаться. Таким образом, он мог разбазарить свое имущество еще до его получения: кредиторы (то есть весь Рим) «требовали выплаты долгов с молодых людей, которые хотя и облачились уже в мужские тоги, но жили еще под суровой властью своих отцов». После многократного изменения законов, наконец, решили, что кредиторы, которые одалживают деньги чужим сыновьям, не вправе требовать возврата долга даже после кончины главы семьи; никто не мог брать деньги взаймы до достижения двадцатипятилетнего возраста. У этого вынужденного решения была и оборотная сторона: дед, родной или двоюродный, со стороны отца, мог принудительно удерживать уже подросшего мальчика–сироту под опекой наставника, хотя бы для того, чтобы выказать тем самым свою над ним власть. И все–таки достижение мальчиком, сиротой по отцу, возраста половой зрелости, как правило, означало, что он становился хозяином самому себе. Квинтилиан без особого удивления рассказывает об одном юном аристократе, который в восемнадцать лет уже успел со своей любовницей сделать себе наследника, прежде чем умер во цвете лет.
Мы отталкиваемся от положения, которое представляется важным и, скорее всего, таковым и является: особенность римского права, которая так удивляла греков, состояла в том, что сын, достигший или не достигший взрослости, женатый или нет, оставался под властью отца и не мог стать полноправным римлянином и, соответственно, «отцом семейства» до тех пор, пока его собственный отец не умрет. Более того, отец осуществлял по отношению к нему власть также и чисто судебную и даже мог приговорить сына к смерти — в рамках частного права. Право отца как завещателя было практически ничем не ограничено, и он мог запросто лишить наследства своих детей. В итоге получается, что молодой человек восемнадцати лет, став сиротой, вдвоем со своей подругой вполне в состоянии произвести на свет законного наследника, тогда как мужчина зрелого возраста не может самостоятельно совершить ни одного юридического действия, покуда жив его отец. «Если речь идет о сыне в семье, — пишет один юрист, — его общественные должности ничего не значат: будь он хоть консулом, он не имеет права взять деньги в долг». Такова теория: а как дело обстояло на практике? В нравственном отношении — еще того хуже.
С юридической точки зрения, родительская власть была все же несколько мягче. Отнюдь не каждый отец лишал своих детей наследства; чтобы это сделать, нужно было для начала постараться не умереть без завещания. Кроме того, сын, лишенный наследства, мог опротестовать завещание в суде и, в любом случае, его нельзя было лишить более чем трех четвертей наследуемого имущества. Что касается смертных казней, совершаемых по родительскому приговору, которые в представлении римлян играли важную роль, то последний такой случай, к слову сказать, вызвавший бурю негодования, датируется временем правления Августа. Собственного состояния сын действительно не имел — все, что он зарабатывал или получал в наследство, принадлежало его отцу. Однако отец мог выделить сыну некоторый капитал, «выходное пособие», которым тот впоследствии распоряжался по своему усмотрению; и потом, отец мог просто–напросто предоставить сыну свободу. Таким образом, сын получал основания надеяться — и средства для того, чтобы жить самостоятельно.
Однако средства эти были иллюзорны, а надежды призрачны. Психологически для взрослого человека, отец которого жив, ситуация остается невыносимой. Он не может сделать ни шагу без ведома отца: заключить договор, освободить раба, составить завещание. Все, что у него есть, да и то на правах зависимого владельца, — это небольшие накопления, предоставленные отцом; ситуация, сопоставимая с положением раба. Ко всем этим унижениям добавляется вероятность быть лишенным наследства — опасность вполне реальная. Перелистаем переписку Плиния: «Такой–то назначил своего брата единственным наследником в ущерб своей собственной дочери»; «Такая–то лишила наследства своего сына»; «Такой–то, лишенный наследства своим отцом»… Общественное мнение, имевшее для высшего класса большое значение, далеко не всегда относилось к подобным ситуациям с осуждением. «Твоя мать имеет законное основание лишить тебя наследства», — пишет тот же Плиний. Вместе с тем известно, какова была демографическая ситуация во всей Европе до открытий, совершенных Пастером: высокая смертность множила вдовцов, вдов, женщин, умерших в родах, повторные браки; и, поскольку отец имел практически неограниченную свободу при составлении завещания, у детей от первого брака были все основания опасаться мачехи.
И последняя зависимость: сын не мог сделать карьеру без согласия своего отца. Можно пробиться в сенаторы, если ты аристократ, и в городской совет, если ты принадлежишь к знатному роду, но как оплачивать весьма значительные расходы, к которым обязывает высокий пост, в то время как любой общественный деятель продвигался по карьерной лестнице при помощи хлеба и зрелищ? Поэтому сын и не пытался стать сенатором или членом совета без ясно выраженной воли отца, который должен будет оплачивать все необходимые расходы из семейного капитала. На многих общественных зданиях в Римской Африке, построенных за счет магистратов, коих к этому обязывало их высокое положение, можно прочесть надпись, сообщавшую, что все расходы по строительству за сына нес его отец. Отец сам выбирал, кого из своих сыновей поддерживать в карьерном росте; число мест в сенате и городском совете было ограничено, и большинство семей могли рассчитывать на участие в этих органах власти только одного сына; к тому же и расходы были весьма значительны. Чести заниматься довольно дорогостоящей карьерой удостаивался тот сын, которого выбирал отец; остальным же оставалась похвала за то, что они уступили место своему брату. Уточним, что права старшинства не существовало, хотя по традиции младшие и должны были примириться с первенством старшего.
Завещание
Кончина отца возвещала детям–наследникам об окончании их несчастий или уж, во всяком случае, об освобождении от одного из видов рабства; сыновья, наконец, становились взрослыми, дочь, если она была незамужней или разведенной, становилась наследницей, вольной самостоятельно выбирать будущего мужа (хотя согласие девушки на замужество и требовалось по закону, это было чистой формальностью, поскольку законом ее согласие предполагалось априори, так что дочь подчинялась только своему отцу). Кроме того, наследнице грозила новая зависимость, а именно опека дяди со стороны отца; этот зловещий персонаж мог строго–настрого запретить ей встречаться с возлюбленным и усадить — как каторжную — за веретено и прялку. Поэт Гораций трогательно и сочувственно описывал подобные ситуации.
Совершенно не удивительно, что идея отцеубийства становилась навязчивой, и подобные страшные преступления отнюдь не были редкостью: у данного обстоятельства есть вполне рациональные объяснения, не имеющие никакого отношения к Фрейду. «Во время гражданских войн с их проскрипциями», — когда доносы буквально сыпались градом — «наибольшей верности, — пишет Веллей, — можно было ожидать от супругов, меньшей — от вольноотпущенников, практически никакой — от рабов; верность же сыновей равнялась нулю, с таким трудом им давалось ожидание получения наследства!»
Таким образом, лишь немногие римляне могли считаться мужчинами в полном смысле этого слова: ими были свободнее граждане, сироты либо юридически дееспособные, «отцы семейств», женатые или нет, но владеющие имуществом. Отец семейства занимал особое место в господствующей морали; Авл Геллий приводит противоположные мнения, касающиеся долга детей в отношении отцов: «Всегда ли нужно повиноваться своему отцу? Некоторые отвечают: „Да, всегда”. Но если ваш отец прикажет предать Родину? Тогда другие хитроумно отвечают: „Нет, никогда. Поскольку, когда отец приказывает совершить что–либо достойное, это следует делать и без его приказа, потому только, что так поступать должно”». Авл Геллий тонко возражает, предлагая третий вариант: в вопросах, которые сами по себе не являются ни достойными, ни позорными, таких как: жениться или оставаться холостым, браться за одно дело или за другое, уходить или оставаться, добиваться или нет общественного признания, — следует всегда подчиняться отцовской власти.
Завещание служило одновременно оружием и символом семейной власти и общественного положения отца семейства. Оно было своего рода религией, в которой завещатель мог реализоваться как «человек социальный», создавая о себе определенное мнение в обществе. Назначил ли он наследником наиболее достойного? Оставил ли он что–нибудь каждому из своей паствы? Отозвался ли он о своей жене словами, которые послужат ей сертификатом качества хорошей супруги? «Сколько же времени проводим мы наедине со своей совестью, чтобы решить, кому мы оставим что–нибудь в завещании! Никогда наши решения не бывают столь взвешенными, как в этот момент». Все члены семьи, близкие и дальние, должны что–нибудь получить; домочадцы и прислуга получат свою долю: преданные рабы могут быть освобождены по завещанию, вольноотпущенники, оставшиеся верными, клиенты — никого нельзя забыть.
Оглашение завещания становилось в то время общественным событием, поскольку не являлось только лишь перечнем наследников и завещанного имущества, а служило своего рода публичным заявлением. Обыкновение назначать «замещенных наследников», которые не получат ни гроша (если только основной наследник не откажется от наследства), позволяло вписывать в завещание всех, кого пожелаешь, назначая им мнимую долю от наследства, размер каждой доли выражал степень уважения завещателя. Таким образом можно было нанести человеку post mortem тайное оскорбление или, напротив, выразить ему свое почтение: так, среди аристократов было принято включать в завещание знаменитых в то время писателей. Плиний Младший, известный оратор, который посещал все оглашения завещаний, с удовлетворением отмечал, что ему всегда завещали ту же сумму, что и его сопернику и другу Тациту (и он не обманывал, эпиграфисты нашли завещание, в котором было указано его имя). Сюда же примешивалась и политика; один сенатор, имевший большое влияние, однажды потерял репутацию, когда в своем завещании осыпал лестью Нерона (очевидно, для того чтобы избежать отмены завещания и конфискации имущества в пользу имперской казны); другие, напротив, оскорбляли всемогущих вольноотпущенников, министров дворцовой администрации, срывая зло в таких выражениях, которые были бы недопустимы для самого императора, будь то Нерон или Антонин Пий. Завещание было настолько замечательной штукой и, составив его, можно было так гордиться собой, что многие, особенно после выпивки, с трудом боролись с искушением зачитать его заранее, чтобы порадовать наследников и вызвать к себе еще большее уважение.
Хорошо известно, что во многих культурах существовал определенный ритуал, связанный со смертным одром и последними словами умирающего. В Риме подобный ритуал заменяло завещание, в котором человек выражался как личность социальная, и еще, как мы позже это увидим, — эпитафия, отражающая то, что следовало бы назвать личностью публичной.
БРАК
В римской Италии в период с I века до н. э. и в течение I века н. э. пять или шесть миллионов мужчин и женщин были свободными гражданами; они жили в сельских районах, в центре каждого из которых располагался город с общественными зданиями и «особняками» знатных граждан, или просто «домами» (domus’ами); такие районы назывались «селениями». Кроме этого, в Риме насчитывалось один или два миллиона рабов, работавших в домах своих господ или в поле. Мы мало что знаем об их образе жизни, наверняка нам известно лишь то, что браки среди рабов были запрещены вплоть до III века. Вся эта толпа вела беспорядочную половую жизнь, за исключением горстки доверенных рабов, служивших управляющими в доме своего хозяина, либо рабов самого императора, которые служили во дворце. Эти привилегированные рабы могли позволить себе иметь собственную постоянную любовницу или даже получить ее от хозяина.
Как отличить женатых от холостых?
Однако вернемся к свободным римлянам. Одни из них были рождены в браке, законном с точки зрения гражданской принадлежности мужа и жены, другие могли быть незаконнорожденными детьми женщин, обладающих гражданскими правами, третьи, рожденные рабами, затем были отпущены на свободу: так или иначе, все они являлись гражданами Рима н имели право прибегнуть к гражданскому институту брака. Этот институт, на наш взгляд, был во многом парадоксальным: вступление в брак в Риме было делом личным, хотя бы потому, что не требовало никаких санкций со стороны органов власти. Никто не представал перед уполномоченным лицом (аналогичным мэру или священнику); сам акт нигде не регистрировался (брачных контрактов не существовало, если не считать таковым договор о приданом — предполагалось, что за невестой должны давать приданое) и вообще не был официальным: никаких символических действий, во всяком случае обязательных, не осуществлялось. Короче говоря, брак был сугубо частным событием, подобным нашей помолвке. Как же тогда судья мог принимать решения в случае судебной тяжбы из–за наследства? Как он мог определить, состоят ли мужчина и женщина в законном браке? В отсутствие формальных действий или записей об этом можно было судить по некоторым признакам, как это делают в суде, устанавливая какой–либо факт. Что же это были за признаки? К таковым, к примеру, можно отнести определенные действия, такие как соглашение об установлении приданого или же поступки, доказывающие намерение стать супругами: например, если предполагаемый муж всегда называл женой женщину, которая жила вместе с ним, либо находились свидетели, подтверждающие, что присутствовали на небольшой церемонии, свадебный характер которой был очевиден. В крайнем случае достаточно было того, что мужчина и женщина сами себя считали супругами.
Несмотря на то что брак был сугубо личным делом, актом, нигде не зарегистрированным и не сопряженным с какими бы то ни было официальными церемониями, существовало одно обстоятельство,_с точки зрения которого все–таки требовалось точно установить, состоят супруги в законном браке или нет, и обстоятельством этим был правовой статус детей. Дети, рожденные в браке, считались законными; они брали фамильное имя отца и продолжали его род; после смерти отца они получали права на имущество… если, конечно, не были лишены наследства при его жизни. И еще одно уточнение, касающееся правил игры: развод. Развестись было также просто с точки зрения права, как и вступить в брак; ни для мужа, ни для жены развод не требовал никаких формальностей: достаточно было, чтобы супруги просто разошлись с намерением развестись. Иногда юристы вполне обоснованно колебались: действительно ли это развод или простая ссора? Не было даже особой необходимости извещать экс–супруга о разводе: в Риме бывало и так, что разведенные мужья вообще не знали о том, что жена с ними уже развелась. Что же касается жены, то в тех случаях, когда именно она была инициатором развода или добровольно отказывалась от брака, ей следовало покинуть дом мужа, взяв с собой лишь свое приданое, если, конечно, таковое имелось. С другой стороны, если в семье были дети, в случае развода родителей они практически всегда оставались с отцом.
Церемония заключения брака требовала присутствия свидетелей, показания которых могли бы быть использованы в случае возникновения спорных вопросов. Существовал и обычай делать свадебные подарки. Первая брачная ночь, вполне естественным образом, более всего напоминала узаконенное изнасилование; молодая жена оставалась «оскорбленной своим мужем», который обращался с ней так же, как со своими служанками–рабынями, не привыкшими отдавать себе отчета в том, что против них совершается насилие. Часто бывало, что супруг не лишал свою жену девственности в первую же ночь из жалости к ее застенчивости и робости, однако подобный жест компенсировался… содомией: Марциал и Сенека Старший открыто намекают на такой выход из ситуации, это же подтверждает и одна из комедий Плавта, «Касина». К слову сказать, в Китае также были знакомы с подобной странной альтернативой. Если жена ждала ребенка, она избегала супружеских объятий во время беременности; Элиан и Псевдо—Квинтилиан находят подобную сдержанность вполне естественной, поскольку животные, по их мнению, ведут себя так же. Плотские удовольствия в браке становятся узаконенными; для приглашенных на свадьбу гостей интимная сторона будущей совместной жизни супругов — вполне законная тема разговоров и неистощимый источник разного рода шуток, весьма фривольных: подобное поведение не только не возбраняется, но, скорее, наоборот — вменяется им в обязанность. Один поэт в эпиталаме желает молодому супругу любовных утех в полдень: простительная вольность по отношению к завтрашним супругам — ибо вне брака любовь до наступления ночи принято было проводить по ведомству бесстыдства и распутства.
Для чего же люди женились? Чтобы получить приданое (это был один из вполне достойных способов разбогатеть), а еще для того, чтобы обзавестись детьми, которые, родившись в законном браке, должны будут в конечном счете превратиться в наследников, продолжателей рода и составить ядро гражданского общества. Политики не говорили напрямую о проблеме рождаемости в контексте вопросов, связанных с возобновляемостью трудовых ресурсов, но сохранение и приумножение численности граждан, которое должно было обеспечить общине устойчивость и процветание, было «делом каждого гражданина» или, во всяком случае, считалось таковым. Один из сенаторов, Плиний Младший, в своих высокопарных речах при случае не упускал возможности указать слушателям на то, что есть и другой способ усилить состав римского общества, а именно — освободить наиболее достойных рабов, сделав их свободными гражданами. Если бы в современной Франции министр внутренних дел, озаботившись улучшением демографической ситуации, призвал предоставить гражданство рабочим–иммигрантам, ситуация выглядела бы весьма схожей.
Моногамия и супружеские пары
Если говорить о законных браках и о сожительстве, и в том и в другом случае господствовала моногамия. Но моногамия и супружеская пара — не совсем одно и то же. Мы не задаемся вопросом, как проходила повседневная жизнь мужей и жен, нас больше интересует, каким образом, согласно господствующей в разные времена морали, муж должен был расценивать свою жену: как личность, равную себе, королеву при короле (даже если эта королева и прислуживала ему как горничная, только называлась при этом более уважительно)? Или же как ничтожное существо, низшее по определению, нужное только для того, чтобы должность жены была каким–то образом персонифицирована? Ответ достаточно прост: в I веке до н. э. необходимо было жениться, чтобы считаться гражданином, исполнившим свой гражданский долг; уже век спустя нужно было действительно стать хорошим мужем и относиться к своей жене с должным уважением, по крайней мере на людях. Другими словами, настал момент, когда гражданский институт брака прочно укоренился в общественной морали, и брак это был моногамный. Отчего же произошел подобный сдвиг? Мишель Фуко полагает, что роль мужчин как сильного пола трансформируется, когда на смену Республике и независимым греческим городам приходит Империя; члены правящего класса, римский нобилитет и граждане, выдвинувшиеся на военной службе, становятся местной знатью и верными подданными императора. Греко–римская идея власти над самим собой, личной независимости, тесно переплетается с желанием обладать властью и в публичной жизни (никто не достоин власти, если не может управлять самим собой); во времена Империи личная свобода перестает быть достоинством гражданина и становится самоцелью: лишь душевный покой может дать человеку свободу от воли Случая или от имперской власти. Такова была высшая идея стоицизма, этой чрезвычайно распространившейся школы послушания, или «философии», которая имела тогда не меньшее влияние, чем у нас идеология или религия. Таким образом, стоицизм щедро проповедовал и новую мораль для супружеских пар. Еще одно уточнение: все вышесказанное касается лишь десятой или двадцатой части свободного населения, класса богатых, которые были к тому же еще и образованными; дошедшие до нас документы не позволяют судить о более широких социальных контекстах. В италийских деревнях свободные селяне, мелкие собственники и арендаторы тоже женились: более ничего об этой стороне их жизни нам не известно; гражданский долг или стоицизм — подобного рода понятия если и существовали для них, то в какой–то параллельной реальности.
Мораль супружеской пары приходит на смену морали гражданской. Одно вытекает из другого, и за то время, в течение которого эти перемены происходят, то есть за один–два века, видоизменяется не столько человеческое поведение (не будем слишком оптимистичны), и даже не столько правила, согласно которым оно — в идеале — выстраивается, сколько понятия более абстрактного, но зато и более значимого свойства. А именно те основания, на которых зиждутся базовые нравственные установки, становой хребет морали — то есть, собственно, способы присвоить себе право как управлять людьми, так и определять их таксономические характеристики: рассматривать человека либо как воина, исполняющего свой гражданский долг, либо как ответственное должностное лицо.
Первая мораль гласит: «Вступление в брак есть долг каждого гражданина»; вторая — «Для того чтобы оставаться добропорядочным человеком, предаваться любви следует исключительно с целью деторождения; брак существует вовсе не ради плотских утех». Первая мораль не ставит перед собой задачи обосновывать уже существующие нормы: «коль скоро только законный брак позволяет производить на свет новых граждан, нужно подчиниться и жениться». Вторая, менее
воинственная, стремится дать объяснение принятому–порядку вещей; поскольку брак существует, и длится он значительно дольше, чем это было бы необходимо лишь для рождения детей, — тому должно быть разумное объяснение: совместное существование двух существ, мужа и жены, — достойно, между ними на протяжении всей их жизни должна сохраняться нежная дружба, при этом они остаются добродетельными людьми и предаются любви только для продолжения рода. Таким образом, новая мораль, стремясь дать конкретные нравственные наставления для добродетельных людей и вместе с тем не будучи способной решиться на критику существующих общественных институтов, должна была найти не менее обоснованное и разумное объяснение институту брака. Эта смесь доброй воли и конформизма и приводит к рождению мифа о супружеской паре. В рамках старой морали жена была не более чем инструментом в руках гражданина и главы семьи; она рожала детей и дополняла собой имущество мужа. Согласно новой морали, жена — это подруга своего мужа, «спутница всей его жизни». Ей остается лишь жить благоразумно, а именно смириться, осознав свое естественное подчиненное положение; муж будет ее уважать, подобно тому как хороший патрон уважает преданных ему клиентов, считая их младшими своими товарищами. Короче говоря, супружеская пара появилась на Западе в тот момент, когда в поле зрения морали попал вопрос о том, по каким таким причинам мужчина и женщина должны проводить жизнь вместе: поскольку обстоятельство это больше не воспринималось только лишь как явление природы — одно из многих других.
Брак, каким он должен быть
Новая мораль рассматривала мужчину сообразно следующей формулировке: «Женатый мужчина должен быть таким–то и таким–то»; старая мораль воспринимала эту максиму с противоположной точки зрения: «Брак — долг каждого гражданина». Таким образом, подобная формулировка заставила проповедников этики вспомнить о существовании долга; приблизительно за сто лет до нашей эры один цензор провозглашает, выступая на городском собрании: «Конечно, брак доставляет нам много хлопот, все мы это прекрасно знаем; и все же приходится жениться — ради исполнения гражданского долга». Каждый гражданин был вынужден точно и определенно ответить на вопрос, собирается ли он исполнить свой гражданский долг. Брак не был чем–то само собой разумеющимся, он становился предметом публичных дискуссий: римские граждане пребывали в заблуждении относительно современной им демографической ситуации — критического уменьшения количества браков и широкого распространения безбрачия — еще до того, как подобное мнение поддержали историки (впрочем, никакие статистические доводы не могут разрушить эту коллективную навязчивую идею), а император Август издал специальный закон, призванный побудить граждан к вступлению в брак.
Брак, таким образом, воспринимался лишь как гражданская обязанность, одна из многих, которую можно было либо исполнять, либо нет. Он вовсе не составлял основу «домашнего очага», стержня в жизни каждого человека; это было просто одно из многочисленных прагматичных решений, которые мог себе позволить достойный человек: начать ли публичную карьеру или продолжать вести частную жизнь, с тем чтобы приумножить семейное богатство, стать ли оратором или поступить на военную службу и т. д. Жена при этом становилась не столько спутницей жизни для своего мужа, сколько объектом в акте выбора. И предметная эта функция свойственна ей настолько, что два патрона могут по–дружески передавать ее друг другу: Катон Утический, образец добродетели, одолжит жену одному из своих друзей, а позднее вновь на ней женится, мимоходом получив громадное наследство; некий Нерон отдаст на «обручение» (понятие, вполне в Риме употребительное) свою жену Ливию будущему императору Августу.
Брак был всего лишь одним из множества важных решений, которые человеку приходится принимать на протяжении жизни, а жена — не более чем домочадцем наряду с сыновьями, вольноотпущенниками, клиентами и рабами. «Если твой раб, твой вольноотпущенник, твоя жена или твой клиент посмеют тебе перечить, ты, конечно, вправе рассердиться», — пишет Сенека. Сеньоры, главы семейств, держали себя друг с другом на равных, и если одному из них предстояло принять важное решение, он скорее готов был собрать «совет друзей», чем посоветоваться с женой.
Мсье и Мадам, были ли они «парой»? Предоставлялось ли Мадам право принимать гостей, как это принято сейчас на Западе, или же она должна была при первой же возможности исчезать из гостиной, как это практикуется в исламских странах? Если Мсье приглашают на ужин, должен ли он взять с собой Мадам? Редкие свидетельства, найденные в документах, не позволяют сделать на этот счет однозначного вывода. Единственное, что до сей поры удалось установить со всей определенностью: Мадам имела право навещать подруг — разумеется, в сопровождении кого–либо из домашних.
Жена была большим ребенком, которого следовало беречь и опекать, имея при этом в виду ее благородного отца и — ее приданое. Цицерон и его приятели сплетничали в письмах о шалостях таких вечных девочек–подростков, которые, например, пользуясь отсутствием мужа, отбывшего управлять провинцией, могли с ним развестись и выйти замуж за другого. Такая обезоруживающая инфантильность тем не менее приводила к осложнению политических отношений между их знатными мужьями. Понятно, что эти милые создания вовсе не собирались поднимать своих мужей на смех: мольеровских сюжетов на тему супружеской измены в Риме попросту не существовало, а если бы римляне имели о чем–то подобном представление, то Катон, Цезарь и Помпей стали бы образцово–показательными рогоносцами. Муж был хозяином своей жены, так же как он властвовал над дочерьми и прочими домочадцами; если жена ему изменяла, это, конечно, не доставляло ему удовольствия, это было нехорошо, но не более того: как если бы, например, неожиданно забеременела его дочь или рабы начали уклоняться от работы. Если жена его обманывает, его обвинят в недостаточной бдительности или решимости, постольку поскольку он допустил супружескую измену; да еще, пожалуй, и в попустительстве общему падению нравов — по слабости его характера, подобно тому, как у нас обвиняют родителей трудных подростков в том, что те были излишне мягкими и избаловали своих детей, не сумев оградить их от контактов с уличной преступностью, представляющей серьезную угрозу общественной безопасности. Для мужа или отца единственным способом избежать общественного порицания было — первым публично заявить о безнравственном поведении своих домашних. Император Август в своем указе подробно рассказывает об интимных связях собственной дочери Юлии, Нерон — об измене своей жены Октавии, и все это только для того, чтобы не быть обвиненными в «терпимости», а значит, и в потворстве пороку. Остается лишь восхищаться — или осуждать стоическое молчание других мужей.
Поскольку обманутого мужа принято было считать не столько объектом насмешек, сколько потерпевшей стороной, а разведенные жены, уходя, забирали с собой приданое, разводы были чрезвычайно распространены в высшем обществе (Цезарь, Цицерон, Овидий, Клавдий были женаты по три раза), а возможно, и среди городского плебса. В числе персонажей Ювенала мы видим женщину, которая советуется со странствующим прорицателем, стоит ли ей уйти от мужчины, который содержит ее, и выйти замуж за торговца подержанной одеждой (профессия в те времена довольно распространенная — ношеная одежда была самой доступной). Римлянам было абсолютно чуждо собственническое отношение к плоти в его библейском понимании; им нисколько не претило жениться на разведенной или, например, как император Домициан, взять в жены женщину, которая на тот момент уже была замужем за другим. Конечно, прожить всю жизнь с одним–единственным мужчиной и в те времена считалось добродетелью, но только христиане вменили эту добродетель в обязанность и даже предприняли попытку запретить вдовам повторно выходить замуж.
Обманчивость понятия «супружеская чета»
Брак был продиктован гражданским долгом и имущественными соображениями. Единственное, что в соответствии с традиционными моральными нормами требовалось от супругов, так это добросовестно выполнять определенные обязанности: производить на свет детей и держать в повиновении домашних. Таким образом, нравственная сторона брака состояла как бы из двух компонентов: обязательного, состоявшего в необходимости строго выполнять свой долг, и факультативного, который, собственно, и был связан для супругов с потенциальной возможностью образовать счастливую пару — собственными ли стараниями и доброй волей либо просто в силу везения. Именно так на Западе возникает понятие супружеской четы — понятие, к слову сказать, весьма обманчивое. Дом есть дом, и роль каждого из супругов в этом доме определена строго. Если же кроме этого между мужем и женой существует еще и взаимопонимание, то это, конечно, хорошо, но вовсе не обязательно. Никто не запрещал радоваться тому, что некоторые пары живут в мире и согласии, как некогда Одиссей и Пенелопа, или даже не представляют себе жизни друг без друга, как мифологические Филемон и Бавкида, однако все прекрасно понимали, что так происходит далеко не всегда. Реальные супружеские отношения взаимного счастья супругов не предусматривали.
Любовь в браке была редким везением: она вовсе не составляла его основы и не была необходимым условием существования супружеской четы. Семейные ссоры были явлением настолько распространенным, что приняли масштабы национального бедствия, все об этом знали и мирились с этим: моралисты говорили, что, научившись выносить недостатки и прихоти супруги, легче противостоять тяготам этого мира. В бесчисленном количестве эпитафий мужья сокрушаются о «своей дорогой супруге», однако ничуть не меньшее число надгробных надписей гласит: «Моя жена, которая никогда не давала мне повода на нее жаловаться» (querella). Историки особо отмечали пары, прожившие в согласии до самой смерти; тем не менее, когда поздравляли молодого мужа, в качестве напутственного пожелания цитировали Овидия: «Умением прощать и добротой жена твоя пусть ровней будет мужу! И редкими отныне будут ссоры, способные нарушить ваш союз!» Эти слова поэта никоим образом не звучали бестактно и не приводили гостей в замешательство.
Не будучи обязательным, хорошее отношение к собственной жене уже считалось великой заслугой: будь «добрым соседом, любезным хозяином, мягким по отношению к своей супруге и милостивым — к своим рабам», — пишет моралист Гораций. Нежность между супругами всегда, еще со времен Гомера, была всего лишь приправой к строгим семейным обязательствам, и если на барельефах муж и жена изображались взявшимися за руки, то этот сюжет, что бы там ни говорили, вовсе не являл собой символ брака как такового: скорее, воспринимать его следует как пожелание мира и согласия, как приятное дополнение к браку — не более того. Овидий, будучи отправлен из Рима в ссылку, оставил жену управлять имуществом и пытаться испросить для него прощение; в письмах к жене он говорит о двух вещах, которые позволяют им быть вместе: это «семейные обязательства», а еще «любовь, которая нас объединяет». Между долгом и этой дополнительной, но необязательной нежностью мог даже возникнуть конфликт: что делать, если жена любима, но бесплодна? «Первый, кто развелся со своей женой по причине ее бесплодия, имел для этого мотив приемлемый, но поступок его не может быть одобрен обществом (reprehensio), поскольку даже желание иметь детей не должно одерживать верх над преданностью, долгой и прочной, одной супруге», — пишет моралист Валерий Максим.
Новая иллюзия
Действительно ли следует считать, что в описываемую эпоху европейской истории супружеская пара уже появилась на свет? На этот вопрос следует ответить отрицательно, поскольку добрая воля — это еще не долг. Немаловажное уточнение! Если между мужем и женой обнаруживалось взаимопонимание, это всецело приветствовалось и служило поводом для восхвалений, хотя и не преподносилось в качестве нормы, предусмотренной самим институтом брака; ссоры теперь рассматривались не как нечто рутинное и вполне прогнозируемое, но, скорее, как нарушение приличий. Точка зрения, пропагандируемая сторонниками новой морали, сильно напоминает стоические представления об идеальной супружеской паре, вменяющие идеал в обязанность. В итоге рождается очередная иллюзия; семейные конфликты отныне становятся поводом для злой сплетни — или для горького разочарования. Сторонников новой морали можно узнать и еще по одной общей примете — им свойственен весьма назидательный стиль: когда Сенека или Плиний говорят о своей семейной жизни, тон их становится предельно сентиментальным, благочестивым и нравоучительным. К реальным последствиям подобных перемен можно отнести то обстоятельство, что положение женщины в семье начинает меняться — по крайней мере теоретически. В рамках старой морали жена расценивалась как один из домочадцев, лицо из ближайшего окружения главы семьи, имевшее некоторые полномочия — которыми супруг же ее и наделял. Согласно новой морали, жена вставала вровень с друзьями мужа, а дружеские объединения играли в общественной жизни греков и римлян роль весьма значимую; по мнению Сенеки, отношения в браке сопоставимы с узами дружбы. Впрочем, я сомневаюсь, что подобные изменения нравственных установок могли оказывать сколько–нибудь серьезное влияние на повседневные жизненные практики. Если что–то и впрямь изменилось, так это манера обращения мужа к жене в присутствии третьих лиц или характер его высказываний о ней в ходе значимых для него бесед.
По прошествии времени с этическими нормами происходит то же самое, что и с любыми другими системами представлений: все больше и больше историков признаются в том, что они не имеют ни малейшего понятия о причинах перемен, которые за какие–то сто с небольшим лет происходят с нормами, едва успевшими интегрироваться в культуру, — и в полной своей неспособности объяснить подобные культурные мутации. Отметим только, что не стоицизм был тому причиной: поборников новой морали мы находим и среди ярых противников стоицизма, и среди людей, относящихся к стоицизму нейтрально.
Философ Плутарх, платоник, всегда старавшийся отмежеваться от стоицизма, выступавшего в то время на первых ролях и составлявшего серьезную конкуренцию неоплатонизму, тем не менее тоже рассматривал теорию супружеской любви, трактуя ее как высшее проявление дружбы. Сенатор Плиний, не причислявший себя ни к одной из философских школ и предпочитавший искусство красноречия учению о благоразумии, в своих письмах предстает человеком благочестивым и компетентным, рассуждая обо всем на свете с той должной авторитетностью, каковая и приличествует статусу римского сенатора. Именно с этих позиций он провозглашает, что повторный брак вполне похвален, даже если возраст супругов не позволяет им больше производить на свет детей и рождение потомков не может стать целью брака: настоящее назначение брака — взаимопомощь и дружба, истинные достоинства, коими супруги способны одарить друг друга. Его собственные отношения с женой представлялись изысканными и сентиментальными, преисполненными глубоким уважением, нежной дружбой и всеми возможными добродетелями. Современному читателю стоит напомнить, что вышеозначенная супруга, взятая им в жены ради карьерного роста и имущественной выгоды, была, по сути, еще девочкой, настолько юной, что не смогла выносить ребенка и ее первая беременность закончилась выкидышем. Другой сенатор, Тацит, также державший нейтралитет, допускал, вопреки республиканским традициям, что жена может сопровождать мужа в поездках по делам управления провинцией, несмотря на то что на практике такие путешествия порой превращались в настоящие военные операции, а женщины в те времена ни до чего, так или иначе связанного с казармами, не допускались. Жена, по мнению Тацита, должна и в таких ситуациях находиться рядом с мужем, чтобы морально его поддерживать, самим своим присутствием ободряя его в сражениях.
Нет ничего удивительного в том, что стоики, так же как и приверженцы других философских систем, подхватили идеи победившей новой морали, которая отныне сделалась чем–то само собой разумеющимся. И только потому, что стоики были более многочисленны и голос их был слышен более внятно, они кажутся скорее пропагандистами новой морали, нежели жертвами обмана с ее стороны.
Стоики действительно представляются обманутыми, поскольку ничто в их собственной теории не обязывает проповедовать подчинение господствующей морали. Напротив, в первой своей версии стоицизм предписывал человеку стремиться к автаркии, чтобы ему, смертному, подобно бессмертным богам стать самодостаточным и оставаться бесстрастным под ударами судьбы — если только, благодаря активно работающему разуму, он сможет распознать от века заданные законы бытия и следовать им решительно и смело. Человек должен выполнять свои социальные функции, когда они не противоречат достижению автаркии, и с сочувствием и любовью, которые также вполне естественны и продиктованы законами природы, относиться к ближнему своему. Все аспекты стоической теории, которые так или иначе могли бы сориентировать человека на критику политических и семейных институтов, сформулированы были достаточно туманно и примитивно. Но стоицизм стал жертвой собственного успеха в среде образованных людей, наделенных богатством и властью, превратившись в нечто вроде научной версии господствующей морали, и не более того: теория постепенно вырождается в этические нормы, которые и определяют обязанности мужчины по отношению к себе самому и к себе подобным. Брак рассматривается как дружба (не сказать, чтобы на равных) между мужем и женой. Прошли те времена, когда стоики спекулировали на юношеской красоте и юношеской любви (рассматриваемой как любовь вообще).
Целомудренные супруги
Помимо откровенного конформизма, между стоицизмом и новыми моральными основаниями брака было и еще одно, куда более явное сходство: супругам более не предписывалось всего лишь выполнять, с должным послушанием, определенные обязанности, им надлежало жить как идеальная пара, будучи связанными нежной дружбой, причем постоянно это подтверждая. Именно любовь и дружба должны были определять обязанности супругов. Иначе говоря, стоицизм проповедовал теорию нравственной автономии: человек должен был сам стать для себя проводником по жизни, руководствуясь Разумными внутренними установками; нужно было только внимательно следить за теми знаками, которые жизнь расставляет на твоем пути.
Отсюда следуют два вывода: во–первых, конформистское учение стоиков дублирует существующие нравственные основания брачной жизни, а во–вторых, на свой манер даже ужесточает стандартные требования: супруги теперь обязаны контролировать каждый свой жест и каждое свое — даже наималейшее — желание, постоянно доказывая, что желания эти согласуются с разумом.
В качестве обоснования института брака приводятся следующие доводы: нужно жениться, учит Антипатр из Тарса, чтобы рождать для своей родины новых граждан, и еще потому, что увеличение человеческого рода соответствует плану провидения. В основе брака, учит Музоний, лежит рождение детей, а также помощь и поддержка, которую супруги оказывают друг другу. Измена сродни краже, учит Эпиктет: увести жену у своего ближнего так же неприлично, как за столом ухватить лучший кусок свинины, предназначенный соседу. «Женщины точно так же распределены между мужчинами». Брак, говорит Сенека, есть обмен обязательствами, возможно, неравными, но, скорее, просто различными по сути своей, и обязанность женщины — подчиняться. Марк Аврелий, император и стоик, гордился тем, что в лице императрицы нашел «исключительно послушную супругу». Поскольку оба супруга, связанные взаимным соглашением, становятся носителями новой морали, измена жене расценивается так же строго, как и измена мужу (старая мораль осуждала измену как проступок, противоречащий гражданским установкам, которыми были четко определены привилегии мужчин, а вовсе не рассматривала ее с точки зрения нарушения нравственных идеалов).
Правила ужесточаются, и это очевидно. Поскольку брак — это дружба, супруги должны заниматься любовью только для того, чтобы производить на свет детей, и излишние ласки здесь ни к чему; «не нужно относиться к своей жене как к любовнице», — наставляет Сенека. Святой Иероним его полностью в этом поддержит и будет цитировать в своих работах. Племянник Сенеки Лукан придерживался того же мнения; в одной из поэм, в некотором роде представлявшей собой реалистический исторический роман, он на свой лад описывает гражданскую войну между Цезарем и Помпеем. В его поэме Катон, образец стоика, уходя на войну, прощается со своей женой (той самой, которую он на время одолжит одному из своих друзей): накануне разлуки он не занимается с ней любовью — Лукан особо это подчеркивает, усматривая в данном обстоятельстве некий философский смысл. Да и сам Помпей, человек с претензией на величие, не спал со своей женой перед расставанием, хотя и не был стоиком. Ради чего люди практиковали подобное воздержание? Просто потому, что добродетельный человек не живет как получится, он продумывает каждый свой жест, зная, что поддаваться желаниям безнравственно: люди должны спать вместе только по разумному поводу, а именно — ради зачатия детей. И это не столько аскетизм, сколько рационализм. Разум задается вопросом: «Почему нужно поступать именно так?» И это противоречит его прагматичной сущности, которая возражает: «В конце концов, а почему нельзя этого делать?» Прагматизм стоиков, таким образом, имеет лишь внешнее сходство с христианским аскетизмом. Однако христианство тоже не монолитно: в первые века своего существования оно изменялось даже сильнее, чем стоицизм. Кроме того, оно весьма неоднородно. Христианский проповедник Климент Александрийский был подвержен влиянию стоицизма настолько, что заимствовал этические нормы брака у стоика Музония, ни словом не упомянув источник. Святой Иероним, вероятно, посчитал бы его учение даже слишком чувственным. Что до святого Августина, одного из самых известных и самых великих изобретателей новых идей, то он решил, что проще будет сочинить свое собственное учение о браке.
Вполне очевидно, что язычество и христианство нельзя воспринимать как пасхальные картинки и противопоставлять христианскую мораль языческой. Настоящее различие кроется совсем в другом: существует разрыв между брачной моралью, основанной на концепции долженствования, и моралью «истинной супружеской пары», непонятно откуда возникшей где–то в глубинах языческой культуры примерно в I веке до н. э. и укоренившейся в языческом обществе и в той части христианства, которая находилась под влиянием стоиков. Стоики полагали, что эта мораль, ставшая моралью в полном смысле этого слова, была их собственным изобретением. Вполне обоснованный вывод о почти полной идентичности поздней языческой морали и практически всех основных нравственных установок христианства возникает вовсе не в результате смешивания этих понятий, но в процессе выпаривания и одного и другого — до сухого остатка. Мало просто рассуждать о язычестве и христианстве, нужно разобрать оба этих формовочных пресса до мельчайших деталей, чтобы понять их тонкую механику, которая по большей части не соответствует традиционным представлениям о ней.
Более того, мораль не ограничивается одними лишь предписаниями относительно того, когда и что нужно делать, и даже если нравственные принципы брака для части язычников и для некоторой части христиан совпадают дословно, партия еще не сыграна. И язычники, и христиане на определенном этапе провозглашают одно и то же правило: «Занимайся любовью только ради рождения детей». Но это заявление может заключать в себе разный смысл: продиктовано ли оно учением о благоразумии, предлагающим человеку внутреннюю свободу и автономию от окружающего мира, представляет ли оно совет, которому вполне могут следовать свободные люди, если найдут его убедительным; или то же самое заявление произносится от лица всемогущей Церкви, желающей распоряжаться сознанием людей во имя их спасения на том свете, Церкви, диктующей свои законы всем без исключения, как верующим, так и неверующим.
РАБЫ
Раб — тоже человек
Смерть подстерегает тебя со всех сторон, говорит Сенека: кораблекрушение, бандиты «и, чтобы не говорить лишний раз о высших силах, последний из твоих рабов имеет право и на твою жизнь, и на твою смерть». Обеспокоенный Плиний пишет одному из корреспондентов о своем друге, всаднике Робусте, который отправился в путешествие в сопровождении нескольких рабов и пропал, после чего никто его больше не видел: «Не стал ли он жертвой нападения своих людей?» В Майнце одна эпитафия гласит, что здесь покоится господин, в тридцатилетием возрасте погибший от руки своего раба, который, убив хозяина, бросился в Майн, где и был найден мертвым. Римляне жили в тихом страхе перед собственными рабами, подобно тому как живут наши современники, владельцы доберманов. Поскольку раб — существо, несомненно, низшее, но родное и близкое, которое «любят» и по–отечески наказывают, от него требуют подчинения и «любви». Так что отношение раба к своему хозяину есть материя двойственная и потому опасная: любовь может внезапно обернуться ненавистью; современные криминальные хроники полны многочисленных случаев внезапных и кровавых вспышек ярости прислуги, которая до этого казалась надежной и преданной. Античное рабство — сюжет для Жана Жене.
Что бы там порой ни говорили, раб все же не был вещью хозяина: его считали человеческим существом. Даже «плохие хозяева», которые обращались с ним бесчеловечно, полагали, что моральный долг раба — быть хорошим рабом, верным и преданным. Таким образом, к рабу не относились как к животному или как к подручному механизму. Однако это человеческое существо было еще и собственностью хозяина; в те времена существовало два вида объектов, которыми можно было владеть: вещи и люди. «Отец всегда учил меня, — пишет Гален, — не слишком сокрушаться из–за материальных потерь; если у меня падет бык, лошадь или раб, это не станет для меня трагедией». Платон, Аристотель, Катон также не выразились бы иначе. Да и у нас офицер скажет, что потерял в бою пулемет и двадцать человек.
Поскольку раб — это имущество, он по определению являет собой существо низшее и подчиненное. Когда один человек безоговорочно подчиняется другому, этот другой, его владелец, становится полновластным его хозяином, патроном, учителем, уверенным в своем превосходстве, и такой порядок вещей определен самими законами природы: раб — человек второго сорта по воле судьбы, а не случая. Античное рабство психологически сродни расизму, если применять не слишком отдаленные аналогии. Таким образом, господин владеет рабом как живым инструментом, его власть над ним ничем не регламентируется, она безгранична и ориентирована на него лично, поэтому раб не может быть просто наемным работником, исполнительным и пунктуальным, он становится человеком, искренне преданным и покорным хозяину не по служебной необходимости, а по велению собственной души. Отношения раба и господина суть отношения одновременно неравные и межличностные; господин «любит» своего раба: так какой же хозяин не любит свою собаку, какой владелец предприятия не любит своих преданных рабочих, какой колонист — своих верных туземцев? Офицер, потерявший двадцать человек, тоже любил их, как и они любили его. Античное рабство было странным типом юридических отношений, вызванных сознанием подчиненности и личной власти, отношений эмоционально окрашенных и отнюдь не обезличенных.
Эти отношения не ограничивались только сферой производства. Некоторые рабы, находясь на низшей ступени социальной лестницы, играли важную роль в экономической, общественной, даже политической и культурной жизни; единицы из их числа были значительно богаче и могущественнее, чем большинство свободных людей. Их этническое происхождение не имело никакого значения; порабощение побежденных народов и работорговля на границах Империи поставляли лишь небольшую часть рабской рабочей силы: эта несметная армия пополнялась в основном за счет детей рабов, брошенных детей и продажи в рабство свободнорожденных. Дети, рожденные рабыней, кем бы ни был их отец, становились собственностью ее хозяина, на тех же основаниях, что и приплод его стада; господин решал, поднять ребенка или бросить, а может быть, даже утопить его, как котенка. Один римский грек рассказывает о смятении рабыни, любовницы своего господина, беременной от него, которая содрогалась от мысли, что хозяин может убить ее новорожденного ребенка. В «Филогеле», сборнике «шуток», мы читаем занятную историю: у рабыни одного Чудака родился ребенок, и отец этого Чудака советует ему ребенка убить; Чудак возражает отцу: «Начни со своих, а потом уже советуй мне убить и моих тоже!» Поскольку отказ от детей был обычной практикой, и не только среди бедноты, работорговцы просто подбирали брошенных детей у дверей храмов или на городских помойках. Наконец, бедность вынуждала неимущих продавать в рабство собственных новорожденных детей — перекупщикам, которые брали их еще «в крови», только что появившихся на свет из материнской утробы, пока мать не увидела ребенка и не успела его полюбить. Да и многие взрослые сами продавались в рабство, чтобы не умереть с голоду. Некоторые особо амбициозные люди поступали таким образом для того, чтобы у них появилась возможность сделаться управляющим знатного человека или императорским казначеем. Именно такой, на мой взгляд, была история могущественного и богатейшего Палласа, потомка знатного рода из Аркадии, который продался в рабство, чтобы служить управляющим у одной дамы из императорской семьи, а в итоге стал министром финансов и серым кардиналом при императоре Клавдии.
Истинная природа рабства
В Римской империи человек, который в рамках нашей собственной культуры мог бы именоваться Кольбером или суперинтендантом Фуке, был рабом или вольноотпущенником императора, равно как и множество других, подобных же людей, служивших в административном аппарате своего хозяина, цезаря: сегодня мы назвали бы их всех чиновниками. В самом низу социальной лестницы, в состоянии крайней нужды, находились рабы, составляющие значимую часть сельской рабочей силы. Конечно, времена «рабов на плантациях» и восстания Спартака были еще далеко, и было бы ошибочно полагать, что римское общество держалось исключительно на рабстве. Да, существовали крупные владения, которые обрабатывались целыми армиями рабов, но такой способ ведения хозяйства был свойственен только некоторым регионам на юге Италии или на Сицилии. Рабовладение может считаться основной чертой античного Рима ровно настолько, насколько рабство на юге США до 1865 года может считаться признаком современного Запада. Вне этих отдельных регионов и вполне конкретных временных периодов рабский труд был всего лишь одним из способов сельскохозяйственного производства, наряду с испольщиной и батрачеством; а в некоторых провинциях рабский труд на полях и вовсе практически не применялся (например, в Египте). Крупный землевладелец мог оставить часть своих земель, которые он использовал или собирался использовать сам, для обработки силами принадлежащих ему рабов вместо того, чтобы сдать эти земли в испольщину. Такие рабы жили все вместе, в подчинении управляющего, тоже раба, постоянная подруга которого готовила на всех еду. Мелкие землевладельцы тоже могли использовать рабский труд; Филострат рассказывает об одном виноградаре, который смирился с тем, что приходится обрабатывать виноградник своими руками, поскольку содержание нескольких рабов обходилось ему слишком дорого.
В среде ремесленников рабочая сила была полностью рабской; во множестве горшечных мастерских Ареццо, больших и маленьких, совершенно независимых, трудились исключительно рабы и вольноотпущенники, которых могло быть от одного до шестидесяти пяти. Сельское хозяйство состояло из маленьких независимых крестьянских хозяйств и из арендаторов, работавших на крупного землевладельца. Кроме того, существовала дополнительная рабочая сила, состоявшая либо из батраков, свободных, но пребывающих в крайней нищете, либо из «рабов в цепях», то есть, вероятно, «плохих» рабов, наказанных хозяином, который их перепродал с условием, что покупатель будет содержать их на положении личных каторжников. Так рабы становятся частью необъятной крестьянской трудовой армии. Поскольку сельскохозяйственное производство приносило основной доход, римляне неизбежно должны были поработить и ту часть крестьянства, которая все еще оставалась свободной. Судя по всему, в сельском хозяйстве Италии рабы составляли приблизительно четверть всей рабочей силы. В Империи, в общественной структуре которой крестьяне занимали место вьючных лошадей, положение сельских рабов было еще тяжелее.
Если раб не занят сельскохозяйственным трудом, скорее всего, он — домашняя прислуга. Высший класс в Риме держал в своих домах десятки слуг, средний класс (достаточно богатый, чтобы жить ничего не делая) — одного, двух или трех рабов. «Был в Пергаме один грамматист, — рассказывает Гален, — имевший двух рабов; каждый день он отправлялся в баню в сопровождении одного из них, чтобы тот помогал ему раздеваться и одеваться, другого же он запирал дома на ключ для охраны жилища и приготовления пищи». Положение домашних рабов могло быть очень разным: от грязного чернорабочего до могущественного управляющего, который ведет все дела своего хозяина (рассказывает все тот же Гален) и пользуется услугами лучших врачей, если вдруг заболеет. Отношения рабов со своими хозяевами тоже могли складываться по моделям весьма разнообразным, и раб–компаньон, раб, который водит своего господина за нос, — отнюдь не только комедийный персонаж (который в порыве гнева, если в один прекрасный день эти двойственные взаимоотношения перевернутся с ног на голову, избавится от своего хозяина, отослав его на принудительные работы на его же собственные земли). Хозяин и хозяйка дома поручали доверенным рабам следить за своими «друзьями», клиентами, наставниками, философами и другими слугами, имевшими статус свободных; эти рабы нашептывали хозяевам на ухо все забавные или неприличные секреты домочадцев, которые им удалось разузнать. С определенной точки зрения, положение раба на службе у знатной особы было удачным способом обрести некую жизненную стабильность: грамматисты, архитекторы, певцы, актеры — все они были рабами господина, использующего их талант; положение зависимое, но вполне приемлемое: какая–никакая плата и надежда, что рано или поздно хозяин тебя освободит.
Кто мог стать, например, наследником римского врача? Раб, впоследствии отпущенный на свободу, который был его наставником (медицинских школ попросту не существовало). Наемный труд в Риме не представлял собой отношений нейтральных и регулируемых законом: наемный работник становился изгоем, поскольку не являлся членом фамилии, на которую работал, и не был связан с хозяином яичными узами. Однако подобные личные отношения между господами и рабами были слишком неравными, и именно в этом заключается то общее, что объединяет всех рабов, и могущественных, и нищих, то, благодаря чему становится ясно, что понятие рабства — не пустой звук: ко всем рабам обращались тем тоном и теми словами, какими разговаривают только с детьми или существами заведомо низшими. Рабство — это явление внеэкономическое, не просто юридическая категория, а нечто непостижимое и оскорбительное на современный взгляд. Это социальное превосходство одних над другими не объясняется только «рациональностью» денежной выгоды — именно поэтому мы сравниваем рабство с расизмом. В Соединенных Штатах в течение полувека черный мог быть знаменитым певцом или одним из самых состоятельных бизнесменов: но любой белый без церемоний сразу же обращался к нему по имени, как к прислуге. Как говорит Жан—Клод Пассерон, может существовать иерархия, проявляющаяся в знаках уважения, которая не имеет отношения ни к власти, ни к богатству. И это рабство, расизм, представления о голубых кровях.
Рабство неопровержимо
Раб — человек низший по самой своей природе, кем бы он ни был и что бы он ни делал; юридически он неполноценен. Если хозяин решает поручить рабу заняться прибыльной торговлей, раб тотчас получает право распоряжаться частью Денежных средств, предназначенных для этих целей, с полной финансовой независимостью, правом подписывать контракты и даже вести судебные тяжбы, до тех пор, пока речь идет о делах господина и тот не требует вернуть обратно вложенные средства. Несмотря на это мнимое подобие свободы, раб был и остается человеком, которого могут в любой момент продать; если господин, который имеет право казнить и миловать по своей прихоти, решит, что раб достоин казни, он наймет городского палача — правда, ему придется предоставить палачу смолу и серу, чтобы сжечь несчастного. Перед публичным судом раба могли истязать, чтобы заставить его взять на себя преступление хозяина, тогда как пытать свободных людей было запрещено.
Непреодолимая преграда, отделяющая свободных людей от людей второго сорта, не должна была вызывать никаких сомнений. Не было никакого смысла в рассуждениях о том, что тот или иной раб был рожден свободным и продался в рабство по собственной воле, так же как неприлично было бы принимать во внимание те обстоятельства, из–за которых свободный человек может сделаться рабом. Существовало, например, право приобрести будущее имущество, такое как урожай, «до того, как он созрел», но ни у кого не было прав купить гражданина «до того, как он стал рабом». Приблизительно так же при нашем королевском строе хранили стыдливое молчание, если какой–либо потомок обедневшего дворянского рода незаметно скатывался до состояния простолюдина. И поскольку не должно было оставаться никакой двусмысленности при разграничении понятий свободы и рабства, в римском праве существовало правило «предпочтения свободы», согласно которому в случае сомнения судья трактовал ситуацию в пользу свободы; например, если завещание, в котором покойный вроде бы отпускал на волю своих рабов, вызывало подозрения относительно истинности его намерений, выбор делался в пользу наиболее благоприятного решения, то есть освобождения рабов. Согласно другому правилу, господин, освободивший своих рабов, уже не мог отказаться от своего решения, поскольку «свобода — это общее благо» для всех сословий свободных людей, что вновь подтвердит сенат в 56 году н. э.; подвергать сомнению освобождение одного раба означает подвергать опасности независимость всех свободных людей. Этот основной принцип выбора в пользу более гуманного решения только на первый взгляд был продиктован человеколюбием; так, если предположить, что существует принцип, согласно которому в случае равенства голосов в жюри присяжных в пользу оправдательного приговора и гильотины, решением жюри преступник должен быть оправдан, это решение будет означать лишь то, что присяжные испытывают чувство вины по отношению к преступнику, вина которого доказана. Принцип выдвигается в интересах невиновных, а не преступников. Существует и еще один парадокс: содействовать свободе необходимо, однако правило это действует только в том случае, если у судьи возникают какие–то сомнения — никто не заботится о рабах, положение которых неоспоримо. Если вам не нравятся судебные ошибки, это вовсе не означает, что вы подвергаете сомнению священный характер самого правосудия — скорее наоборот.
Рабство было непререкаемым; гуманизм заключался не в том, чтобы освободить рабов, а в том, чтобы стать для них хорошими хозяевами. Римляне были настолько уверены в своем превосходстве, что воспринимали своих рабов как больших детей; к ним обычно и обращались соответственно — «малый» или, если угодно, «бой» (pais, puer), даже к старикам; да и сами рабы называли себя в разговорах между собой точно так же. Подобно детям, рабы представали перед домашним судом, главой которого был их господин; а если за какой–либо проступок они подвергались суду публичному, то могли быть приговорены к телесным наказаниям, которые были неприменимы к свободным гражданам. Ничтожные создания, безо всякого социального статуса, не имеющие ни жен, ни детей, поскольку их любовь и их потомство воспринимались господами так же, как любовь и потомство скота из хозяйского стада: хозяина, несомненно, радовало увеличение поголовья, не более того. Имена, которые давали им хозяева, отличались от имен свободных людей (так же как у нас называют собак, Медор или Мирза, или нянек, Мелани и Сидони); в основном их имена были греческими, во всяком случае похожими на греческие — поскольку, если уж быть точным, греки не носили подобных имен, то есть по сути своей прозвища рабов были всего лишь придуманными римлянами ad hoc
[7] пародиями на греческие имена. Коль скоро рабы — это дети, их мятеж сродни отцеубийству; когда Вергилий отправляет в самые жуткие закоулки своего Ада «тех, кто участвовал в святотатственных войнах и обманул доверие своих господ», он имеет в виду Спартака и его сторонников.
Частная жизнь рабов представлялась детским спектаклем, на который смотрели с пренебрежением. И все–таки у этих людей была своя личная жизнь; например, они участвовали в религиозных обрядах, и не только при алтаре в доме, который все–таки был и их домашним очагом: раб вполне мог быть делегирован верующими в качестве
жреца для исполнения коллективных религиозных действий. Рабы могли служить священниками и в христианской Церкви, которая в то время и не помышляла об отмене рабства. Язычество ли, христианство — религия, вероятнее всего, привлекала рабов хотя бы потому, что была одной из тех немногих сфер деятельности, которые оставались для них открытыми. Они увлекались театральными представлениями, цирковыми зрелищами, боями на арене: в дни праздников рабов освобождали от службы, так же как детей от школы, суды от заседаний и… вьючных животных от упряжи и пахоты.
Все это вызывало улыбку или презрительную усмешку; чувства раба не воспринимались как чувства взрослого человека, например представить раба страстно влюбленным было бы так же забавно, как приписывать мольеровской пастушке любовные переживания и ревность в духе Расина. До чего бы мы докатились, если бы господа стали принимать в расчет тонкую душевную организацию своих слуг? «Что, в этой стране теперь и рабы влюбляются?» — изумленно вопрошает герой одной из феерических комедий Плавта. Раб должен жить только ради службы господину, и не более того; Гораций может изрядно повеселить читателей рассказами о бурной личной жизни своего раба Дава, который таскался по грошовым проституткам и таращился на картины, изображающие бои великих гладиаторов: юристов подобное поведение веселило значительно меньше; религиозный фанатизм, невоздержанность в любви, чрезмерная склонность к зрелищам и картинам (мы бы сказали — к афишам) — все это недостатки, о которых работорговец обязан известить покупателя. «Недостатки» в смысле дефектности продаваемого товара? Вовсе нет: раб — это человек, и его недостатки рассматриваются как моральный изъян или как психологическая странность.
Всякому человеку понятно, что психология слуг и господ — не одно и то же. Психология раба сводится к тому, способен он служить своему хозяину верой и правдой или нет. Историки и моралисты с одобрением и уважением описывают примеры самоотверженности и даже героизма рабов, готовых отдать жизнь за своего господина, а в случае его смерти последовать за ним на тот свет. Однако в изобилии встречались и «скверные рабы», и этим все сказано: плохой раб — не тот раб, у которого есть какие–то конкретные недостатки (вроде того, как у нас говорили бы о вальяжном сантехнике или слишком ленивом нотариусе); это раб, непригодный к использованию, «скверный инструмент», неправильный раб, который, по сути, и не раб вовсе.
Характер раба объясняется так же, как характер мальчишки, то есть влиянием, которое на него оказывают со стороны, и примером, который ему подают: его душа не автономна. Подражание дурным слугам может сделать из него игрока, пьяницу или гуляку, а следуя примеру порочного хозяина, он и сам становится бездельником и лентяем. В Римской империи существовало право обжаловать в суде действия третьего лица, которое избаловало вашего раба; предоставление приюта беглому рабу, содействие его побегу или поощрение на словах его намерения бежать считалось правонарушением. По правде сказать, слишком часто сам пострадавший и был виновником; господин, требующий к себе уважения, не должен, говорит Платон, заигрывать со своими слугами, каждое утро он обязан вставать первым; слишком много развелось несерьезных и слабохарактерных господ, которые позволяют себе потешать прислугу разного рода шутками. Некий римский грамматист предлагает нам любопытное уточнение: «В фарсах поэтам- комикам позволительно сочинять сцены с рабами, более разумными, чем их хозяева, однако это совершенно недопустимо для обычных комедий», поскольку в фарсе мир представляется насмешливо перевернутым, тогда как реалистические комедии должны демонстрировать на сцене истинное благородство.
Очевидность рабства
Как рабы выносили такую нужду и такие унижения? С постоянной злобой и скрытым возмущением, предвещавшими социальный взрыв и восстание рабов? Со смирением? Не стоит забывать, что между этими крайностями, полной пассивностью и активной социальной борьбой, существует и нечто среднее, то, что составляет обыденность наших дней, — приспособляемость. Подобно человеку, спящему на неудобной откидной койке, они мысленно занимали позицию, позволяющую им меньше страдать, то есть выбирали как наименьшее зло вполне искреннюю любовь к своему господину, которая сама по себе не могла их ранить. Господина на своем жаргоне они между собой называли «Сам Самыч» (если позволительно так перевести их ipsimus
[8] или ipsissimus
[9]). «Сорок лет я был рабом, — рассказывает один вольноотпущенник у Петрония, — и никто никогда не смог бы догадаться, раб я или вольный; я делал все, чтобы угодить своему господину, который был человеком достойным и уважаемым. Я был занят в доме, среди людей, которые только и думали, как бы подставить мне подножку. Словом, я уцелел только благодаря милости моего господина! Вот это действительно настоящая заслуга, ведь просто родиться свободным — не слишком трудно». Подобные карьерные соображения делают очевидной для раба возможность добиться успеха большего, оставаясь рабом, чем на каком–либо другом поприще, будучи свободным.
Если взглянуть на ситуацию с другой стороны, подобное отношение рабов к своим хозяевам порочно; рабы наделяют господина всевозможными достоинствами, восхищаются им, самоотверженно служат ему; они смотрят на его жизнь со смесью восхищения и ответной насмешки, как сторонние наблюдатели. Они безропотно ему подчиняются, оберегают его жизнь, ревностно защищают его честь. Случись какая–нибудь уличная драка или, еще того хуже, гражданская война, они становятся его подручными и его бойцами. Даже когда господин использует свое право первой ночи по отношению к рабыням или к любовницам своих рабов, это их не задевает, на такие случаи существует поговорка: «Нет ничего позорного в том, что повелел хозяин». Когда господин приезжает в поместье, жена управляющего совершенно естественным образом оказывается ночью в его постели. С точки зрения рабов, умение подчиняться является верхом добродетели, они осуждают неповиновение: «Твои слабоумные учителя не научили тебя послушанию», — говорит скверному рабу старый раб. Можно догадаться, что такая любовь, если она становилась любовью обманутой или оскорбленной, могла в один миг обернуться самой кровавой местью против недостойного господина. Что же касается гражданских войн с участием Спартака и ему подобных, то причины таких конфликтов могли быть самыми разными. Обиженные жизнью, эти люди и не помышляли о том, чтобы построить более справедливое общество, не опозоренное рабством; они пускались в авантюры, сопоставимые с походами мамелюков или флибустьеров, просто чтобы избавиться от нищеты: выкроить себе кусочек территории в римских землях и основать там свое царство. За поколение до Спартака, во время крупного восстания рабов на Сицилии, восставшие провозгласили город Энну столицей своего царства, они объявили одного из них царем и даже отчеканили его профиль на монетах; сложно поверить, что в царстве бывших рабов запретили бы рабство: чего ради?
Никто и никогда не имел возможности заглянуть за изменчивые декорации исторической драмы, участником которой он является, и обратить, наконец, внимание на пустой задник, поскольку никакого особого фона у этой драмы попросту не существует; ни один раб, ни один господин не смог бы подвергнуть сомнению совершеннейшую очевидность — институт рабства. Все, чего хотели рабы, или по крайней мере большая их часть (поскольку зачастую лучше было состоять у кого–то в услужении, чем быть свободным и умирать от голода), — это освободиться от рабства и стать вольноотпущенниками. Да и сами господа полагали, что освобождение рабов — благо. «Друзья мои, — заявляет Тримальхион, изрядно выпив, — рабы — тоже люди, они вскормлены тем же молоком, что и мы, хотя и обделены судьбой, и все–таки они должны попробовать на вкус глоток свободы, пока не поздно (однако, говоря об этом, не будем испытывать судьбу — я хотел бы остаться живым); короче говоря, я освобождаю всех в своем завещании». Господин, произнося подобный текст и поступая соответствующим образом, мог гордиться собой; никоим образом не отвергая сам институт рабства, он преследовал иную цель — поддержать отцовский авторитет среди своих больших детей. Хозяин, любящий своих рабов, будет одержим идеей их освободить, поскольку именно этого они и желают больше всего. Сказанное вовсе не означает, что, на его взгляд, рабство несправедливо, скорее, он считает его злым роком для своих рабов и не демонстрирует ничего кроме желания стать хорошим господином.
Важно отметить, что освобождение рабов есть добродетель, но никак не обязанность. Царь, приговоривший преступника к смерти, имеет право его помиловать и при этом будет признан восхитительно великодушным. Но помилование ничем не мотивировано, и царь останется в своем праве, если никого не помилует. Удовольствие, которое получает господин, освобождая своих рабов, только подтверждает его полное право не делать этого. Он властвует с любовью, но любовь закона не ведает. Подчиненный не имеет права ждать милости как чего–то должного. Образ отца двойственен изначально: отец наказывает, отец же и прощает; и поскольку прощение — это не обязанность, раб не вправе сам добиваться для себя прощения: просить за раба может только третье лицо, человек, так же как и господин, рожденный свободным. Этот человек будет достоин всяческого уважения, убедив господина сменить гнев на милость и тем самым возвысив авторитет всех хозяев в глазах всех рабов.
Два образа господина
Свободный человек просит господина простить одного из принадлежащих тому рабов. Таков типичный эпизод из римской жизни, его с видимым удовольствием рисуют писатели, его фиксируют даже Дигесты
[10]: сквозь это внимание к частному эпизоду можно явственно ощутить, что странный привкус этого действия дает ключ к разгадке природы власти рабовладельца. Овидий советует умелому любовнику, как добиться расположения женщины, которую он страстно желает: нужно играть при ней роль сладкого тетушкиного пирога, чередуя ее с образом справедливого, но строгого отца: «Постарайся, чтобы возлюбленная всегда просила тебя о том, что ты прекрасно мог бы сделать и сам, без ее просьбы; ты пообещал освободить одного из своих слуг? Сделай так, чтобы он уговорил твою возлюбленную ходатайствовать за него перед тобой. Ты прощаешь своего раба и избавляешь его от наказания? Пусть она добивается от тебя того, что ты сделал бы в любом случае». Римское право не считало беглым раба, который сбежал, чтобы просить друга своего господина похлопотать за него перед хозяином. А это значит, что превыше жестокости каждого отдельного господина витала всеобщая благосклонность всех господ — как класса. Поскольку вопрос о милосердии рассматривался только среди равных, раб, который решился бы просить за себя сам, выглядел бы наглецом, осмелившимся выбирать за господина, какой из двух образов тот собирается принять в данный момент.
Подобно тому как милость рабовладельца, не будучи данью человеколюбию, была всего лишь личной его заслугой, примеры жестокого и даже бесчеловечного обращения хозяев со своими рабами оставались их личным прегрешением. В жестокости по отношению к рабам не было ничего необычного; это становится очевидным, когда читаешь советы, которые дает Овидий в своем руководстве по обольщению. «Если женщина царапает ногтями свою парикмахершу или колет ее иголкой, это не добавляет ей очарования», — пишет он. Однажды император Адриан, хотя он и был человеком изысканным и утонченным, воткнул стилос из своего письменного прибора в глаз одному из рабов–секретарей: глаз спасти не удалось. Спустя некоторое время он спросил раба, какой бы тот хотел получить от него подарок в качестве компенсации за причиненный ущерб; пострадавший раб ничего не ответил; император повторил свой вопрос, добавив, что раб получит все, что хочет. Последовал ответ: «Я не хочу ничего, кроме моего глаза». Незадолго до окончательного триумфа христианства Эльвирский собор предписал привлекать к суду христианских жен, которые «в порыве ревности избивают своих служанок так сильно, что те впоследствии умирают, если смерть имеет место в течение четырех дней после избиения».
Жестокий или вспыльчивый господин дискредитировал себя морально и к тому же нес убытки сугубо материальные; часто он раскаивался в том, что поддался внезапной вспышке гнева. Вот показательный эпизод из жизни Рима во II веке н. э.: история одной поездки. Врач Гален покинул Рим, чтобы вернуться на родину в Пергам (на нынешнем турецком побережье) в компании попутчика, критянина по происхождению. Критянин этот был не лишен достоинств: человек простодушный, милый и порядочный, он был приятным в общении и не слишком прижимистым в отношении дорожных расходов. Так вот этот милый человек однажды настолько рассердился на своих рабов, что в качестве наказания начал собственноручно избивать их палкой, пинать ногами, осыпать ударами бича. Добравшись до коринфского перешейка, путешественники отправили свой багаж в Афины морским путем из порта Кенхреи, а сами, наняв повозку, вместе с рабами продолжили путешествие в Афины сушей, по дороге, идущей вдоль моря, и затем через Мегары. Они добрались уже до Элевсина, когда попутчик Галена обнаружил, что рабы оставили на корабле багаж, который он собирался взять с собой в дорогу. Критянин пришел в ярость и набросился на них, схватив первое, что попалось ему под руку, — дорожный кинжал в ножнах. Удары были сильными, острый нож прорезал кожаный чехол, и двое рабов были ранены в голову, причем один из них — достаточно серьезно. Придя в себя, критянин, Удрученный содеянным, бросился из одной крайности в другую: он протянул Галену палку, разделся и попросил его избить «в наказание за то, что он натворил под властью проклятого гнева». Гален рассмеялся ему в лицо, прочитал философскую проповедь по поводу гнева (поскольку был врачом–философом), а для своих читателей сделал следующее заключение: никогда нельзя наказывать рабов собственными руками, а само решение о наказании всегда нужно откладывать на завтра.
Этот анекдот позволяет понять, до какой степени может трансформироваться вошедшая в моду идея, например идея постепенной гуманизации рабства, рожденная стоицизмом и развивавшаяся на протяжении трех веков расцвета Империи. Эта мнимая гуманизация в реальности воплотилась в моральные установки, которые определялись вовсе не «естественной склонностью» к гуманизму цивилизованного человека, а являлись следствием особенностей эволюционного развития, которые мы уже обсуждали, говоря о рождении супружеской пары. Эти моральные установки господ и рабов не имели никакого отношения к человеколюбию и тем более не подвергали сомнению легитимность рабства; они были не более чем уловкой или идеологическим прикрытием, имевшими целью защитить институт рабства от угрозы возможного сопротивления со стороны рабов. Если же перестать смотреть на это явление сквозь пелену закостенелых представлений, становится очевидным, что в действительности морализация рабства вовсе не привела к улучшению положения рабов; не зависела она и от законов, принимаемых императорами: облегчение участи рабов, закрепленное законодательно, свелось к одной–единственной мере, которая, по сути, ничего не меняла. Во времена правления Антонина всякий, убивший своего раба, подлежал смертной казни или ссылке, если только не мог доказать суду, что имел на то веский мотив. Следует заметить, что убийство раба становилось вполне законным, когда тот был приговорен к смерти домашним судом, коим руководил не кто иной, как сам господин: указ Антонина лишь отсылает к существовавшему и ранее разграничению между обыкновенным убийством и убийством по закону. Если разгневанный господин приговаривает раба к смерти, соблюдая при этом минимум формальностей, никто не посмеет его осудить; если же в порыве ярости хозяин просто убивает своего раба ударом кинжала, то он должен взять на себя труд объяснить суду, что гнев его был законным (настолько, что если бы у него было время на то, чтобы принять обличие домашнего судьи, он непременно приговорил бы убитого им раба к смерти). Формальности важны настолько, что при условии их соблюдения каждый имеет право наказывать рабов так, как ему взбредет в голову: Антонин это подтверждает. Точно так же Адриан осудил и отца, который во время охоты убил своего сына и потом настаивал на том, что это дело находится в его отеческой юрисдикции.
И мораль в придачу
Другие меры были нацелены на то, чтобы если и не улучшить положение раба, то хотя бы дать ему некую нравственную опору. Поскольку имперское законодательство отличает неизменная целомудренность, здесь мы имеем дело с пунктом, касающимся моральной стороны сексуальных взаимоотношений. Разумеется, поддерживать нравственность раба мог лишь его господин, силой своей отеческой власти. Часто сделка по перепродаже рабов сопровождалась особыми условиями (мы уже видели, что можно было оговорить обязательное содержание плохого раба в цепях); можно было продать рабыню с уточнением, что новый хозяин не имеет права принудить ее к занятию проституцией: если же он все–таки вздумает это сделать, императорским решением рабыня будет освобождена ipso facto, а господин лишится этого своего имущества. Еще один, менее заметный аспект морали и новый обычай — рабы женятся (Тертуллиан упоминает об этом приблизительно в 200 году н. э.). До того было совершенно немыслимо, что эти ничтожные существа могут предстать в образе отцов семейств, однако впоследствии, когда брак начинает расцениваться не столько как символ власти, сколько как гарантия соблюдения нравственности, институт брака становится доступным и для рабов. Мы находим все более многочисленные упоминания о женатых рабах: эти упоминания встречаются даже в Дигестах, чего раньше нельзя было и предположить. Мишель Фуко обнаружил еще более раннее упоминание о браке рабов у Музония. Вспомним, что брак был не более чем личным решением и не требовал особых церемоний; поэтому практика вступления рабов в брак свидетельствует скорее об эволюции нравов, чем о революции права.
Если говорить об эволюции морали, то свободные люди отличались жесткостью по отношению не только к своим рабам, но и друг к другу, поскольку их чувство долга, тесно связанное с гражданским статусом, доселе вполне обходилось без посредничества долга морального, поддержки пусть иллюзорной, но весьма удобной. Таким образом, этические установки различались в той же мере, в какой различались социальные статусы, то есть мораль раба и мораль гражданина суть две совершенно разные морали. «Услужливость, — говорил один оратор, — для свободного человека — позор; для вольноотпущенника — благодарность господину; для раба — просто–напросто долг». Теперь же мораль продиктована, скорее, общечеловеческими представлениями: раб остается рабом, но этические нормы становятся универсальными.
На самом деле рабство всегда останется рабством, а власть над рабами — тиранией, хотя и проявляться она может по- разному. Рабовладельцы Юга Соединенных Штатов крестили своих негров, поскольку, на их взгляд, у всех творений господних есть душа; однако при этом в обращении с рабами они не становились менее деспотичными. В Римской империи господствующая мораль прошла в своем развитии путь от концепции «человека политического» до концепции «человека духовного»; стоицизм и христианство придали новым представлениям форму и сформулировали соответствующие нравственные принципы, в том числе и для рабов. Раб более не воспринимается только как человеческое существо, вся психология которого сводится к осознанию того, что он должен покорно подчиняться господину; он становится существом с моральными принципами и подчиняется господину не столько ради верности своему единственному долгу перед ним, сколько в соответствии с законами морали вообще. В итоге получается раб, отягощенный чувством долга еще и по отношению к своей жене (а теперь он женат), к своим детям — а они тоже отныне могут иметь к нему свои претензии, разумеется, сугубо морального свойства, поскольку, несмотря ни на что, они, будучи его детьми, останутся собственностью господина. Можно добавить, что в юридических и литературных текстах того времени мы находим подтверждение все возрастающему стремлению не разлучать рабов из одной семьи, не продавать мужа без жены и ребенка. Кроме того, из латинских и греческих эпитафий можно заключить, что все больше рабов хоронят теперь по всем правилам, вместо того чтобы просто выбросить тело на свалку или оставить другим рабам заботу о его погребении.
Институт рабства претерпевал внутренние трансформации сообразно тому, как менялось все вокруг; было бы слишком наивно рассматривать эти перемены как следствие проявления человеколюбия или чрезмерной совестливости, и было бы чистой схоластикой считать их чем–то вроде предохранительного клапана; они свидетельствуют о внутреннем изменении господствующей морали. Что действительно поражает, так это неспособность римского общества поставить вопрос о самом существовании института рабства, или по крайней мере о смягчении его установок. Обязать отца семейства соблюдать необходимые формальности, когда он выступает в роли судьи, даровать рабам право на заключение брака — все это, конечно, замечательно, вот только меры эти вовсе не отменяют жестокости наказаний, постоянного недоедания, нищеты духовной и материальной, тирании хозяина.
Моралисты, включая стоиков, также не идут дальше вышесказанного; то, что иногда называют позицией Сенеки по отношению к рабству, — не более чем отражение нашей собственной формы морализма. На его взгляд, рабство — это не порождение «общества», а личное несчастье, которое может постигнуть каждого из нас, поскольку мы такие же, как они, и так же, как и эти бедолаги, подвержены капризам Судьбы: случается, что во время войн и самые знатные особы оказываются в рабстве. Только Судьба определяет участь для каждого из нас. Как же должен поступать добродетельный человек? Делать то, что он должен делать на том месте, которое уготовано ему судьбой, император ли он, гражданин или раб; римляне всегда ценили хороших господ или хороших мужей больше, чем плохих; философия же делает из частных достоинств некоторых долг для каждого, кто хочет быть добродетельным человеком. Сенека наставляет своих последователей быть хорошими хозяевами для своих «обездоленных друзей», которые им прислуживают. Если бы он давал уроки самим рабам, то, подобно апостолу Павлу и Эпиктету, посоветовал бы им вести себя так, чтобы оставаться хорошими рабами.
ДОМОЧАДЦЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ
Миф о римской семье
Рабы домашние или бывшие рабы, нынешние вольноотпущенники, отец семейства, его законная жена, двое или трое сыновей и дочерей: все они составляют «фамилию», если только к ним не добавляется еще несколько десятков свободных людей, верноподданных «клиентов», которые каждое утро толкутся в передней в ожидании своего покровителя, «патрона», чтобы нанести ему короткий визит вежливости. Однако фамилия не была «естественной» семьей в нашем ее понимании, с нежными семейными привязанностями, которые мы склонны таковой приписывать.
Не была фамилия и чем–то вроде клана — вопреки бытующему мифу, который начал разрушать Ян Томас, — то есть большой патриархальной семьей, родом, возникшим в результате ослабления и дробления некогда единого архаичного целого. Глава семьи не терял постепенно монаршего статуса, поскольку никогда монархом и не был: Рим изначально не представлял собой конфедерации кланов, каждый из которых находился бы под властью некоего предка; он был этрусским городом, одним из наиболее крупных, но данное обстоятельство никоим образом не возвращает нас в архаический период развития человечества. Поэтому оставим в стороне политические мифы о происхождении города и посмотрим на то, как все выглядело на самом деле: глава семьи — муж, владелец имущества, хозяин рабов, патрон для вольноотпущенников и клиентов; властью, предоставленной ему городом, он реализует свое юридическое право на сыновей и дочерей, и этот властный конгломерат никоим образом не обусловлен происхождением семьи из некоего канувшего в лету единого целого.
Сын, однажды осиротевший и объявленный полностью дееспособным, становится главой новой семьи, и ничего, кроме родственных чувств и общей фамильной стратегии, больше не связывает его ни с братьями, ни с дядьями: семья — это брак. Поэтому, если братья живут вместе в большом дедовском доме — это всего лишь вопрос комфорта и денег; каждый из этих отцов семейств, равно как и их сыновья, предпочел бы иметь собственное жилье. Сын Цицерона, так же как и сын его друга, Целия, снимает жилье, чтобы не жить больше вместе с отцом. Если же сосед по квартире наносит молодому человеку какой–либо ущерб, закон предусматривает, что юноши должны сами разобраться между собой без участия отцов. Эти сыновья живут уже своей собственной жизнью: отец пользуется всеми имущественными правами, он поддерживает своих детей деньгами и надеждой на будущее наследство. Однако отец не держит их подле себя, и каждая новая пара предпочтет иметь собственный дом, если у нее на это хватает средств.
Госпожа
В сущности, домом управляет глава семьи: именно он по утрам дает распоряжения рабам и распределяет их обязанности, он спрашивает с управляющего. А что же хозяйка дома? Здесь возникал конфликт интересов: некоторые, хотя и не все, мужья предоставляли женам право вести хозяйство и даже доверяли им ключи от сундуков. Невестка Цицерона однажды устроила семейную сцену: она полагала, что ее считают чужой, раз обязанность руководить подготовкой к обеду возложена на слугу. Распределение полномочий по управлению домом давало повод для частых ссор, и у нас есть все основания прислушаться к Отцам Церкви, противникам брака: жениться — означает подчиниться власти супруги или же согласиться терпеть ее бесконечные упреки. Врачи, со своей стороны, советовали принять первый вариант, по их мнению, какая–никакая деятельность полезна для супруги в качестве моциона: «следить за рабом- пекарем, приглядывать за управляющим и отмеривать ему необходимые съестные припасы, обходить дом, чтобы проверить, все ли в порядке». И даже это было лучше, чем совсем ничего, поскольку обычно богатая дама могла целый день палец о палец не ударить, лишь иногда отвлекаясь на веретено и прялку, чтобы убить время за занятием традиционным и вполне достойным.
Представим, что эти люди постоянно держали при себе раба, который должен был предугадывать малейший их жест, то есть они никогда не оставались одни. Умение и желание одеваться и обуваться самостоятельно среди знатных римлян представляло собой исключение из общего правила (зато они сами чистили зубы, вместо того чтобы поручить это дело рабу). Фраза из Евангелия «Я недостоин развязать ремень обуви» буквально означает следующее: «Я достоин большего, чем служить как раб». Огромные дома, которые мы видим в Помпеях, Везоне и сотне других мест, не позволяли их хозяевам наслаждаться свободным пространством: они были еще более густонаселенными, чем нынешние муниципальные дома с умеренной квартплатой. Оставались ли хозяева одни хотя бы в супружеской спальне? Не всегда. Любовник, застигнутый в спальне, мог утверждать, что пришел сюда вовсе не к госпоже, а к ее служанке, которая спала там же; дама спит одна, но при себе всегда держит рабыню, а то и нескольких. Чаще рабы ночевали под дверью своих хозяев и охраняли их покой. «Когда Андромаха оседлала Гектора, — утверждает один сатирик, — их рабы, приникнув к дверям, мастурбировали». Кажется, рабы спали почти повсюду в доме; чтобы провести вечер без свидетелей, нужно было отодвигать в сторону их лежанки.
Вездесущесть рабов была равносильна постоянному контролю. Конечно, если с рабом не считаются, то вскоре и вовсе перестают его замечать. Поэт Гораций пишет: «Я привык прогуливаться совсем один»; пятью стихами позже оказывается, что его сопровождает один из трех его рабов. Любовники не знали, где можно уединиться, оставаясь незамеченными: у него, у нее? Их слуги были везде и болтали с прислугой из другого дома. Единственным решением было воспользоваться домом одного из друзей, любезно согласившегося оказать им такого рода услугу, несмотря на риск быть обвиненным в потворстве супружеской измене, либо снять клетушку у сторожа при храме, священный долг которого вынуждал его хранить молчание.
Приличия обязывали знатных дам выходить из дома лишь в сопровождении слуг; дама со свитой и всадник–охранник (custos) — распространенный сюжет эротических стихотворений. Такая передвижная тюрьма, сопровождавшая даму повсюду, была подобием моногамного гарема или гинекея, куда греческих женщин, заботившихся о своей репутации, по их же собственному требованию запирали на ночь мужья. Мальчики также не могли выйти без своего custosa, поскольку за их целомудрие опасались так же, как и за целомудрие противоположного пола. К слову сказать, дамы старомодных взглядов в качестве запасного доказательства своей добропорядочности старались вообще как можно реже выходить из дома, а если и выходили, то всегда наполовину закутанные вуалью.
Быть матерью семейства означало смириться с достойным всяческого уважения заточением, тюрьмой, несколько тесноватой, где гордость знатной девушки найдет себе достойное применение в самоотверженном служении интересам семьи. Собственно, девушка из благородной семьи наследует отцовское высокомерие, а с точки зрения отца она — движимое имущество, которое можно одолжить мужу (в Риме жена, недовольная мужем, не возвращается «обратно к матери», а уходит к отцу). К аристократической надменности добавляется осознание имущественного превосходства; часто жена владеет, состоянием, из которого мужу не принадлежит ничего. Она равна мужчинам в правах наследования и завещания, у нее есть приданое. Некоторые жены, более богатые и благородные, чем мужья, не признавали их власти и даже могли играть значительную роль в политике, поскольку они наследовали не только имущество, но и связанную с отцовской семьей клиен- телу, также переходящую по наследству. Другие дамы, напротив, не просто полностью посвящали себя мужу; демонстрируя врожденное благородство, они следовали за ним и в изгнание, и даже в мир иной, если он совершал самоубийство (Сенека, исключительно ревностно относившийся к своему авторитету среди окружающих, подвергал свою жену, так же как и своего ученика Луция, настоящему моральному шантажу, доводя их до самоубийства). Эти дамы были способны полностью взять на себя заботу об интересах мужа, если он находился в ссылке или вынужден был скрываться. Однако в один прекрасный день любая из этих женщин могла занять позицию, менее похвальную, но свидетельствующую о тупике, в который она зашла: например, ссылаясь на глубокую скорбь по погибшему сыну, полностью отказаться от жизни и запереть себя в вечный траур. Так же поступали дамы и при Людовике XIV, подтверждение чему можно найти у Ларошфуко.
Вдовы, девственницы и любовницы
Предположим, что наша счастливая наследница стала вдовой или, скорее, vidua
[11], оставшись без мужчины: будь она вдова или разведенная, но в том случае, если отец ее умер, она становится «матерью семейства» — даже если случилось так, что она осталась девственницей. Родня постарается защитить ее добродетель, предоставив ей custosa; один из законов Империи приравнивал любовные связи vidua к супружеской измене и разврату, однако закон этот никогда не применялся на практике. Перед нами девушка или женщина, ставшая хозяйкой дома и владелицей имущества. Богатая вдова — характерный персонаж того времени; она совсем не похожа на очаровательную Селимену
[12], это «властная хозяйка», потому что у нее нет больше хозяина. Она окружена заботами поклонников, которые охотятся за ее состоянием. Она вновь выйдет замуж или же заведет любовника; такая связь, подчас для приличия прикрытая обещаниями брака, была вполне обычной и практически признанной в обществе. Если же дело касалось совсем юной девушки, ее любовные связи должны были оставаться тайными; подозревали ее, как правило, в одном и том же проступке, предпочитая думать, что ее любовник — раб–управляющий, поскольку полагали, что женщина неспособна управлять собственной жизнью без хозяина и господина. Отцы Церкви ужасно злословили по поводу нравов вдов и сироток, и это злословие вовсе не было чистой воды клеветой: иначе, откуда бы Овидий взял свой садок, полный богатых и свободных женщин, которых его учебник любви
[13] рекомендует оттуда выуживать и соблазнять. Эти женщины находились в наилучших условиях, какие только были возможны в Риме. Их любовники должны были заботиться о том, чтобы доставить им удовольствие в постели, как бы ни брюзжали Сенека или Марциал.
Представим теперь обратную ситуацию: отец семейства стал вдовцом. Он может использовать своих служанок, может вновь жениться или жить с любовницей. Само слово «любовница» имело два разных смысловых оттенка: вначале пренебрежительное, впоследствии, так же как и у нас, оно становится вполне приличным. Вначале любовницами называли женщину или женщин, с которыми мужчина, женатый или холостой, обычно проводил ночь; императоры, даже имевшие законную жену, держали во дворце целый гарем рабынь- любовниц; случалось, что император Клавдий брал на ночь по две рабыни за раз. Однако со временем общественное мнение значительно смягчилось: сожительство стало считаться подобием брака, если речь шла о единственной любовнице, отношения с которой были длительными и постоянными, и только ее более низкое социальное положение мешало мужчине на ней жениться. Не отставали и юристы: для них сожительство означало состояние, существующее de facto, которое не должно казаться для женщин унизительным и к которому окружающие не должны относиться с презрением; нужно только, чтобы сожительство было во всем похоже на брак. То есть любовница (во втором, приличном, смысле этого слова) должна быть свободной (потому что рабы не могли жениться) и сожительство моногамным: немыслимым было сожительствовать с другой женщиной женатому мужчине или жить с двумя любовницами одновременно. Таким образом, сожительство служило заменой браку в тех случаях, когда он был невозможен. Довольно типичная ситуация: господин живет со своей вольноотпущенницей и не хочет вступать с ней в законный брак ввиду явного неравенства союза. Став вдовцом, император Веспасиан взял в любовницы свою секретаршу, императорскую вольноотпущенницу, и «обращался с ней почти как с женой». Нам известно десятка полтора эпитафий, посвященных самому покойному, его покойной жене и любовнице, которая у него была после жены; точно так же в других эпитафиях муж отдает дань памяти двум своим женам, на которых он был последовательно женат.
Сожительство, в отличие от законного брака, не имело правовых основ: несмотря на толерантное отношение общества к семье такого типа, в этом вопросе юристы оставались непреклонными. Дети, рожденные в подобном сожительстве, становились свободными, потому что их мать была свободной, однако они считались незаконнорожденными и носили фамилию матери, поскольку она не была замужем; впоследствии дети наследовали имущество матери, а не биологического отца. Таким образом, законное сожительство не приносило ничего, кроме внешней респектабельности; соблюдение приличий давало любовнице уважение, которого она не имела бы, если бы отношения с мужчиной не были постоянными и моногамными. А что же, если, в конце концов, патрон решит вступить в законный брак со своей вольноотпущенницей и любовницей, несмотря на свое изначальное нежелание этого делать? Она будет горда тем, что отныне может носить одежды «матери семейства» с полным на то законным основанием, однако, осознавая свое неизменно низшее положение, в своей эпитафии она будет именовать его «патрон и муж», будто подчеркивая, что первая его ипостась была непререкаемой и даже супружеские чувства не могли стереть с нее печать рабства. Таковы были семьи, живущие в подобном морганатическом браке: мужчина, его любовница и его биологические дети; однако в действительности существовали и еще более сложные семейные комбинации, которыми юристы вообще не за нимались: мужчина, его служанки и его «подопечные». Чтобы объяснить, кто они были такие, нужно для начала еще глубже проникнуть в тайны рабства и признать, что Римская империя, так же как и колониальная Бразилия, была империей метисов.
Неизвестные бастарды
Когда Веспасиан потерял еще и свою образованную любовницу, о которой мы уже говорили, он не пренебрегал после обеденным отдыхом с одной–другой из своих многочисленных служанок. Император всегда мог воспользоваться их услугами, так же как и любой другой рабовладелец: обстоятельства определяют желания. Было даже слово, характеризовавшее мужей, которые не могли устоять перед таким соблазном, — «падок до служанок» (ancillariolus) — на беду отчаявшихся жен. Один не знавший меры господин до того довел своих рабынь, что они его убили, да еще и кастрировали, имея на то веские причины. Когда новость о кровавой расправе облетела дом, «его любовницы прибежали с воплями и рыданиями». Вместе с тем рабовладельчество было не лишено некоторого лиризма: Гораций тонко и даже поэтично воспевает чувства, которые испытывает господин, глядя вслед одной из своих совсем юных рабынь, приближающейся к тому возрасту, когда она уже сможет познать мужчину: господин наслаждается предвкушением этого момента. Короче говоря, хозяин имел все основания полагать, что среди малышей, рожденных служанками и приумножающих его личное стадо рабов, вполне могут быть и его собственные дети. Однако ни он сам и никто другой не должны были упоминать об этом: мы знаем, что свобода всегда остается вне подозрений, находясь при этом за непреодолимой границей, отделяющей ее от рабства. Еще более веской причиной такого молчания было то, что практически ни один господин не мог признать в маленьком рабе своего сына: таков был один из неписанных законов рабства. Однако все знали, как обстоят дела в действительности: «Случается, что раб может оказаться ребенком господина, рожденным одной из его рабынь», — пишет некий юрист. В конце концов, раз уж нельзя признать его своим, равно как и усыновить его — закон это запрещает — его всегда можно будет освободить, никому не объясняя причин своего к нему расположения.
Один любопытный обычай позволял сделать для ребенка еще больше, соблюдая при этом приличия. Римляне любили Держать в доме маленького мальчика или девочку, раба или подкидыша (alumnus, threptus), которого воспитывали и «баловали» (deliciae, delicates), считая его милым и забавным. Он находился рядом во время обеда, с ним играли, потакали его капризам; иногда ему давали «либеральное» воспитание, в сущности предназначенное лишь для свободных людей. Такая ситуация была по меньшей мере неоднозначной: с одной стороны, подопечный служил забавой для хозяина, оставаясь при этом его любимчиком; с другой — он был его отпрыском, которому покровительствовали втайне; или же это могло быть своего рода усыновление, не вызывающее кривотолков. Не будем забывать о целой армии подростков из хороших семей, которые могли бы называться пажами — и все же все они оставались рабами.
Любимчик? Небольшой грешок знатной особы, над которым все понимающие люди посмеивались. У Брута, убийцы Цезаря, был настолько красивый фаворит, что скульптор сделал его портрет, копии которого можно было увидеть по всюду; любимчики ужасного императора Домициана, так же как знаменитый Антиной, фаворит императора Адриана, были воспеты придворными поэтами, подобно тому как их далекие последователи воспевали мадам де Помпадур. Ревнивая жена имела право выказывать норов только в том случае, если муж целовал своего любимчика в ее присутствии. Заходило ли дело дальше поцелуев вдали от посторонних взглядов? Соблюдение светских условностей требовало, чтобы никто не задавался этим вопросом. Обычно любимчик был для своего господина кем–то вроде денщика или виночерпия; за столом он наливал ему вино, по примеру Ганимеда, юного друга Юпитера. Итак, «пажеский корпус» (paedagogium) представлял собой толпу симпатичных мальчиков, единственной обязанностью которых было прислуживать за столом, чтобы радовать глаз и придавать церемонии благородную изысканность. Когда господин выезжал, они следовали за ним всем скопом, окружая его кресло–носилки — так же как целый выводок красивых пажей окружает сидящего верхом канцлера Сегье на картине Лебрена в Лувре. Ко времени появления первых усов в жизни этих юношей происходили важные перемены. Когда до сих пор еще не слишком явные признаки пола начинают проявляться все яснее и становится уже просто неприлично обращаться со взрослым мужчиной как с неодушевленным предметом, юноша, со слезами, освобождается от своих обязанностей: господин остригает его длинные, как у девочки, волосы к великому облегчению хозяйки дома. Некоторые упрямцы оставляли своего любимчика при себе даже после того, как он совсем повзрослеет, однако к таким поступкам относились крайне неодобрительно.
У господина могли быть и более невинные основания для привязанности к своему подопечному. Юноша мог быть просто милой игрушкой, с которой ласково забавляются за столом, как, например, с домашним животным; в то время живые игрушки ценились более, чем другие: птички, собаки, кролики для маленьких девочек (кошки в Риме еще не были одомашнены). Но господин мог и вправду любить своего ребенка,
несмотря на его рабский статус. «Бывает, что люди, непримиримые противники брака, — пишет Плутарх, — у которых рождение ребенка вызывает лишь горькие сожаления, иногда потом даже плачут, если младенец, родившийся у служанки или любовницы, вдруг заболеет и умрет». Однако, если господин считал, что ребенок от него, он мог исполнить свое истинное отцовское предназначение, взяв под опеку любого родившегося в его домашнем окружении малыша, отец которого неизвестен, и тогда поцелуи, которыми он одаривал ребенка, не вызывали никаких дурных мыслей. Поцелуи в губы между мужчинами, поначалу довольно спорные, позже вошли в моду, и юный Марк Аврелий обменивался весьма нежными поцелуями со своим наставником Фронтоном. Поэт Стаций посвятил трогательные строки умершему ребенку, к которому он благоволил настолько, что освободил его от рабства сразу после рождения: «Едва на свет родившись, он обратил ко мне свой первый крик младенца, меня окутало тепло, игла любви пронзила сердце, я научил его словам и утешал, когда он плакал от ушибов, в том юном возрасте, когда он и ходить–то не умел, я подходил к нему и, наклонившись, брал на руки и нежно целовал; пока был жив малыш, не мог я и желать другого сына». Лучшие строки поэта. Был ли он отцом этого ребенка? Совершенно не обязательно; отцовские чувства могли расцветать с куда большим пылом по отношению к ребенку без «социального бэкграунда», чем, например, по отношению к собственному законному сыну, которого нужно было вое питывать в строгости, поскольку он был продолжателем рода и тайным врагом своего отца — нынешнего владельца его 6у дущего наследства. И все–таки в других стихах того же Стация или Марциала подопечные мальчики и девочки несомненно являются тайными отпрысками отца семейства. С ними и обращаются, как со свободными людьми: одетые как знатные особы, с дорогими украшениями, они не выходят из дома без свиты; им не хватает только белой тоги, одежды юношей, рож денных свободными (praetexta
[14]): поэт уточняет это особо; эти дети — вольноотпущенники и должны оставаться таковыми.
Семейный ад вольноотпущенников
И все же, чьим вольноотпущенником становится бывший подопечный? Да простят нам читатели нашу склонность к подробностям: давайте попробуем погрузиться в еще один круг ада — невообразимые родственные отношения между вольноотпущенниками. Итак, у господина есть ребенок от его служанки. Предположим, господин освобождает мать: однако уже слишком поздно — ребенок, рожденный рабыней, становится рабом своего отца. Что если освободить новорожденного? Тогда отец становится патроном маленького вольноотпущенника. Но и этот ребенок, вслед за своей матерью, может быть выкуплен у господина, например, ею же, богатой вольноотпущенницей, и стать ее рабом или тоже вольноотпущенником. Не реже случалось, что из сыновней любви сын выкупал свою мать, остававшуюся рабыней: тогда мать становилась рабыней или вольноотпущенницей своего сына. Эпитафии и юридические тексты подтверждают, что подобные ситуации были отнюдь не теоретическими и довольно часто встречались в жизни. И тогда все становится возможным: сын, ставший вольноотпущенником своей матери, в свою очередь выкупает отца, который становится его рабом; или же брат может быть вольноотпущенником брата… Хотелось бы верить, что семейные узы были важнее, чем юридический статус; однако чувствам противопоставлялась власть, дарованная законом: власть отца, выкупившего собственного сына, или сына, выкупившего своего отца; родственные чувства боролись с осознанием принесенной тяжелой финансовой жертвы, необходимой для выкупа, с существующими законами наследования. Семейная жизнь бывших рабов должна была стать кошмаром, полным конфликтов, острого ощущения двойственности положений и статусов, озлобленности: отец не простит сыну того, что он раздавлен оказанной ему услугой, сын не простит отцу его неблагодарности.
Вольноотпущенники, о которых мы говорим, по большей части уже не жили в доме бывшего господина, хотя и продолжали наносить ему визиты вежливости. Открывая собственное дело, они становились ремесленниками, купцами или лавочниками, и хотя их можно было буквально перечесть по пальцам, а в сопоставлении с общей численностью населения их количество было и вовсе незначительным, они составляли весьма заметное звено в социальном плане и играли значительную роль в экономике. И если не все лавочники были вольноотпущенниками, то все вольноотпущенники как раз и занимались мелкой торговлей или серьезной коммерцией. Чтобы как–то охарактеризовать эту социальную группу в целом, можно сказать, что эти люди с загребущими руками нещадно эксплуатировали народ и вызывали к себе ненависть. Тем более что эти бывшие рабы были богаче, часто намного богаче, чем большинство свободных людей, которые чувствовали себя оплеванными, глядя на достаток человека, рожденного рабом. Богатство, которое для господина считалось бы законным и заслуженным, воспринималось крайне негативно, если находилось в руках вольноотпущенника. Эта категория людей пребывала в двойственной ситуации: они одновременно занимали и более высокое и более низкое положение, чем большинство других римлян. Предпочитая оставаться среди своих, они в итоге выработали собственные обычаи и привычки, о которых стоит сказать несколько слов.
Так, например, вероятнее всего, вольноотпущенники чаще жили в сожительстве, чем в браке; именно к такому выводу можно прийти после сопоставления аргументов, которые приводят Плазар и Роусон. Причиной тому вовсе не было более низкое социальное положение подруги. Еще в бытность рабами многие из этих людей уже жили в паре, особенно наиболее удачливые — управляющие больших имений или императорские рабы, то есть начинающие чиновники. Можно было назвать сожительницей служанку, у которой был постоянный мужчина. Если и эта служанка, и ее партнер были вольноотпущенниками, их союз считался союзом свободных людей и их отношения рассматривались как законные и достойные уважения. Однако если у такой пары рождались дети до того, как оба родителя получили свободу, они становились незаконнорожденными или рабами хозяина их матери; даже когда родители становились вольноотпущенниками и вступали в брак, биологический отец не мог стать законным отцом своего сына; более того, если родители выкупали у господина своего сына–раба, то и после этого ребенок не мог считаться их сыном, а только вольноотпущенником. В Анконе есть могила вольноотпущенника Тиция Прима, который был довольно заметной фигурой в городе и даже заказал резчику по мрамору скульптуру, где был изображен он сам, одетый в тогу — парадную одежду, и — справа от него — его «любовница» (это слово употреблялось даже в эпитафиях) с ребенком на руках. Женщину звали Лукания Бенигна, и она, несомненно, тоже была вольноотпущенницей. Малыш на руках матери — их маленькая дочка по имени Хлоя, и поскольку у нее только одно имя, можно заключить, что она была рабыней: девочка появилась на свет, когда ее мать была еще простой служанкой. Биологический отец не мог сделать для дочери большего, чем взять ее к себе «воспитанницей», и в эпитафии она тоже не могла именоваться иначе: ни природа, ни любовь не в силах были противостоять официальному статусу. Справа похоронен еще один вольноотпущенник (захоронение домочадцев в общей могиле было вполне обычным делом). Никого не интересовало, сочеталась пара законным браком или нет; брак был лишь разновидностью сожительства, и вольноотпущенники относились к нему вполне равнодушно.
Социальный ад вольноотпущенников
Обстоятельства, заставляющие вольноотпущенников терпеть унижения и подтверждающие неопределенность их положения в обществе, обнаруживаются повсюду: социальные условия не имеют никакого отношения к иерархии статусов, вольноотпущенники постоянно ощущают на себе это несоответствие и страдают от бесправия. Они ведут роскошную жизнь, настолько, насколько позволяет им их богатство: так, в Риме богатые могилы со скульптурными портретами принадлежат именно вольноотпущенникам, а вовсе не знати. Своей одеждой, наличием клиентов, рабов и собственных вольноотпущенников, своими богатыми обедами они подражают высшему обществу — без какой бы то ни было возможности в это общество проникнуть, поскольку полуграждане, каковыми они и являются, не имеют на это права. «Сатирикон» Петрония со всей жестокой очевидностью описывает жизнь вольноотпущенников, полностью построенную на подражании. Их невежество (а дети рабов не имели возможности учиться) сразу же выдает их низкое происхождение. Они не новоиспеченные аристократы, как часто о них говорят, а, скорее, «выскочки», происхождение которых составляет постоянный предмет насмешек и унижений и не позволяет им пробиться в высшее общество: барьер, разделяющий статусы, им это запрещает. Само же высшее общество считает, что тяга вольноотпущенников к подражанию смехотворна и неизменно приводит к самым нелепым результатам; что она демонстрирует их необоснованные претензии и свойственную им ограниченность; что подобное поведение — это снобизм, снобизм и ничего кроме снобизма. Хуже всего, что они даже не формируют какого–то отдельного класса, принадлежностью к которому можно было бы тихо гордиться. Они не могут основать статусных династий: статус вольноотпущенника не наследовался и существовал лишь в одном поколении — сын вольноотпущенника становился полноценным гражданином. Не стоит принимать за класс эту временную изменчивую группу. Более того, высший класс в Риме пополнялся по большей части за счет сыновей богатых вольноотпущенников или вольноотпущенников императора: даже многие сенаторы были внуками бывших рабов. В конечном счете шансы подняться по социальной лестнице у рабов были гораздо менее призрачными, чем у людей свободных, но бедных.
Возможность социального роста вольноотпущенников полностью зависела от степени их богатства, которое складывалось из доходов от торговли, а средства для нее, в свою очередь, определялись условиями предоставления бывшим рабам свободы. Сложившаяся социальная структура объясняется не только и не столько производственными отношениями, сколько другими, на первый взгляд незначительными обстоятельствами и их последствиями, зачастую весьма неожиданными. Римская знать предпочитала иметь дело с вольноотпущенниками, а не со своими свободными, но бедными согражданами, поскольку вольноотпущенники оставались верны своим бывшим господам, которые, к тому же, всегда знали их лично.
Что же могло побудить господина освободить принадлежащих ему рабов? Как минимум три вещи. Раб смертен, и господин готов был предоставить рабу свободу в виде предсмертного подарка, чтобы перед смертью тот мог утешиться тем, что имеет теперь право быть похороненным как свободный человек. Перед своей собственной смертью господин мог в завещании одним махом освободить некоторых, а то и всех своих рабов, в качестве причитающейся им доли наследства, подобно тому как он распределял имущество между всеми своими подопечными. Кроме того, завещание служит своего рода публичным заявлением, в котором господин доказывает, что был хорошим хозяином для своих рабов и поэтому дарует им то, чего они больше всего желают, — свободу. И наконец, часто освобождение рабов — это удачное вложение капитала; господин ведет свои дела руками одного из рабов, который более других заинтересован в прибыли. Хозяин соглашается продать своему слуге свободу по договорной цене или же освободить его в качестве компенсации за то, что тот продолжит заниматься его делами, только теперь уже в статусе вольноотпущенника. Вероятно, вольноотпущенники редко оказывались брошенными на произвол судьбы без каких–либо средств к существованию. Когда перед смертью господин освобождал старых верных рабов, в своем завещании он предоставлял им наделы земли или небольшую пенсию (alimenta); так прежде поступали и у нас с престарелой прислугой. Будущее бывшего раба — нынешнего делового человека — было таким образом обеспечено. И наконец, я предполагаю, что многие вольноотпущенники не покидали жилища бывшего хозяина; оставаясь в доме, они продолжали заниматься тем же, чем и раньше, только находились они теперь в ином статусе и, соответственно, вызывали к себе большее уважение. Некоторые вольноотпущенники начинали свое дело — ремесло или торговлю — в другом городе и при этом делили прибыль с бывшим хозяином, таким образом выкупая у него свою свободу. Все эти варианты были вполне возможны. Вероятнее всего, в большинстве случаев господа освобождали лишь тех из своих рабов, которые были способны зарабатывать деньги. Есть, однако, одно исключение: казначей, управлявший капиталами господина, всегда оставался рабом, его никогда не освобождали, даже если его хозяином был лично император, а сам он состоял при нем главным имперским казначеем. Свобода, которой так ждали даже императорские чиновники на определенной стадии своей карьеры, была для него заказана, поскольку в отношении раба–казначея любой господин хотел сохранить свое право на домашний суд и возможность подвергнуть его пытке в том случае, если тот запустит руку в хозяйский карман.
Итак, некоторые вольноотпущенники оставались в доме и продолжали служить бывшему господину, другие — наоборот, открывали собственное дело и становились полностью независимыми. Однако и в том и в другом случае вольноотпущенники сохраняли за собой символическое место в домашнем окружении господина, ставшего теперь их «патроном»; они должны были постоянно выказывать знаки почтения и благодарности патрону, которому так многим были обязаны. Они должны были благодарить господина за то, что он их осчастливил, освободив от рабства; а если вольноотпущенники пренебрегали этими своими обязанностями (к которым их трудно было бы принудить физически), глас народа клеймил их именем «неблагодарный вольноотпущенник», и это был весьма значимый повод для негодования римских граждан, выросший до уровня едва ли одной из основных проблем того времени. Вольноотпущенники могли покинуть фамилию, лишь окружив дом господина ореолом подобострастия, которое доказывало бы всем и вся величие хозяйской семьи. Роль «клиентов» была аналогичной. Они составляли внешнее окружение, о котором стоит сказать отдельно.
В сознании римлян представления об обществе гражданском боролись с представлениями об обществе, основанном на преданности одного человека другому. С одной стороны, свобода должна быть непререкаемой и господин не может обременять обязательствами раба, которого он освободил; с другой стороны, вольноотпущенник многим обязан своему бывшему господину и должен оставаться навсегда ему преданным. В противном случае господин будет иметь все основания для того, чтобы наказать своего бывшего раба доступным ему способом: вычеркнуть его из списка своих наследников и запретить хоронить его в семейном склепе. Или же господин мог избить его палкой, на что, в принципе, права, конечно, не имел, поскольку не мог поднимать руку на свободного человека. Однако кто же будет слушать вольноотпущенника, «который еще вчера был рабом, а сегодня приходит жаловаться на своего господина за то, что тот его прогнал, наказал или слегка поколотил». В конце концов, палка — это всего лишь символ! Зато интересы семьи и деньги, выплаченные за свободу, даже только что обретенную, были святы; патрон не мог заставить своего вольноотпущенника работать на него больше, чем это было оговорено, не мог предоставлять рабу свободу на таких кабальных условиях, что вольноотпущенник только на словах был бы вольным; он не мог взять с него обещание не жениться и не заводить детей, чтобы сохранить за собой право на наследство своего вольноотпущенника; он не мог даже (по крайней мере в большинстве случаев) запретить своему бывшему рабу заниматься тем же ремеслом, что и он сам, и становиться его конкурентом.
Клиентела
Становясь материально независимыми — разумеется, в рамках тех условий, на которых им предоставлялась свобода» — бывшие рабы символически оставались во власти своего патрона, и римляне, будучи, в общем, закоренелыми патерналистами, твердили, что вольноотпущенник должен исполнять сыновний долг по отношению к своему бывшему хозяину, имя которого носит; он должен почитать его и «любить». Необходимость дважды в день посещать дом господина, чтобы поприветствовать отца семейства утром и пожелать ему доброй ночи вечером, ушла в прошлое. Однако сыновний долг требовал от вольноотпущенника наносить ему визиты вежливости, и «Комедия о горшке» Плавта наглядно демонстрирует всю тягостность таких сцен: вольноотпущенник едва сдерживает себя, ощущая давление власти, которая давно уже себя изжила и не может его ни к чему принудить; патрон, в свою очередь, знает, что его время прошло, что вольноотпущенник его ненавидит, хотя все еще побаивается, и вся его преданность не более чем игра. Эти слишком затянувшиеся отношения становились еще тяжелее в том случае, если бывший раб получал статус вольноотпущенника ценой определенной работы, которую он выполнял для господина и от его имени уже после того, как обретал свободу (operae libertorum). По–видимому, в отличие от клиентов, вольноотпущенники не были обязаны наносить патрону официальные визиты (salutatio) каждое утро, хотя их часто приглашали на обеды и за столом отводили им место неподалеку от тех же клиентов. Между этими, такими разными, группами зависимых людей нередко за столом разыгрывались бурные сцены: бедный клиент не желал терпеть соперничества с бывшим рабом, а ныне вполне преуспевающим горожанином за место возле патрона. Поэты Ювенал и Марциал, будучи вынуждены, чтобы как–то себя прокормить, приходить с подобными визитами на поклон к знатным особам, ненавидели и богатых вольноотпущенников, и клиентов–греков, потому что и в тех и в других видели конкурентов.
Вместе со своей «свитой, состоящей из клиентов и вольноотпущенников, трудолюбивых и почтительных», говорит Фронтон, благородный дом блистает на общественной сцене своей славой и известностью, что само по себе уже необходимое и достаточное условие, чтобы быть достойным своей принадлежности к правящему классу. «У меня теперь много клиентов», — пишет разбогатевший вольноотпущенник, чтобы подтвердить свой успех. Кто же такой клиент? Свободный человек, который регулярно приходит к главе семьи, чтобы засвидетельствовать тому свое почтение, и во всеуслышание объявляет себя его клиентом; он может быть богатым или бедным, ничтожным или влиятельным, иногда даже более влиятельным, чем его патрон. Можно насчитать как минимум четыре типа клиентов: те, которые хотели сделать общественную карьеру и рассчитывали на поддержку своего патрона; деловые люди, интересам которых могло бы способствовать политическое влияние патрона, особенно если он был с ними заодно; бедняки, поэты, философы, которые жили едва ли не исключительно подаяниями патрона (многие из них были греками), — они не были выходцами из народа и полагали, что работа — занятие для них менее достойное, чем существование за счет знатной особы. И наконец, люди, принадлежавшие к высшему обществу, так же как и их патрон; они становились клиентами, чтобы иметь законные основания быть упомянутыми в его завещании в знак благодарности за их верность. Среди них встречались и такие важные государственные персоны, как всемогущие вольноотпущенники императора, служившие в дворцовой администрации. У богатого старика, не имевшего наследников, могло быть много таких клиентов.
И такая вот разношерстная толпа каждое утро стройными рядами являлась к крыльцу дома патрона, в час, когда начинают петь петухи и просыпаются римляне. Их было несколько десятков, а то и несколько сотен. Наиболее влиятельных в своем квартале людей также осаждала толпа клиентов, хотя и не такая многочисленная. Вдали от Рима, в небольших городках, самые знатные особы тоже имели свою клиентелу. В том, что богатый или влиятельный человек всегда окружен протеже и небескорыстными друзьями, нет ничего удивительного, однако римляне создали из этого факта ритуал и даже целый социальный институт. «Простолюдины, — пишет Витрувий, — ходят в гости и ничего не получают. Когда же становятся чьими–либо клиентами, об этом объявляют во всеуслышание, этим хвастаются и прославляют влиятельность патрона, называя себя „клиентом Такого Человека”, „вхожим в окружение Такого Человека”». Если же клиент не простолюдин, он на свои средства устанавливает статую патрона в общественном месте или даже в его доме; в надписи на постаменте клиент перечисляет все без исключения заслуги своего патрона перед обществом. Снисходительный патрон в таком случае возражает, что слова его друга — явное преувеличение, так что «друг» становится синонимом льстеца.
Утреннее приветствие — это ритуал, уклонение от которого равносильно потере положения клиента. Клиенты в парадной одежде (toga) выстраиваются в очередь, каждый посетитель получает символическое угощение, своего рода чаевые (sportula), которые самым бедным могли служить единственным источником пропитания на весь этот день. В общем–то, подобный жест служил заменой простой раздаче пищи… Патрон принимает клиентов в передней — в строгой очередности, которая определяется их гражданским положением. То же самое касается и обедов, на которых гости с различным гражданским статусом получают блюда и вина разного качества в соответствии с их положением в обществе: все подчинено иерархии. Иначе говоря, главу семьи приходили приветствовать вовсе не многочисленные его друзья, скорее, он принимал у себя в доме срез римского общества, как оно есть, со всеми чинами, званиями и социальным неравенством, на фоне которого его авторитет должен был смотреться осо бенно непререкаемым. Так что относительно положения каж дого из своих клиентов господин был осведомлен не меньше, чем они сами: «Богатый патрон, — пишет Гораций, — руково дит вами, как это сделала бы заботливая мать, он требует от вас благоразумия и добродетели более, чем имеет сам».
Авторитет
Влияние, которое члены фамилии оказывали на своих крестьян, определялось не только экономическими причинами (договором испольщины), но и собственным их авторитетом. Во времена гонений со стороны вошедшей в силу Церкви запуганные землевладельцы обращались в христианство и поступались своими идолами, увлекая за собой в вероотступничество своих крестьян и клиентов, которым тоже приходилось идти на подобные жертвы. Другие господа, словно по мановению волшебной палочки, превращали всех обитателей принадлежащих им поместий в истинных христиан, решив, что отныне нехитрые религиозные обряды крестьянина должны быть обращены к истинному Богу; они разрушали на своих землях языческие алтари, возводя на их месте христианские церкви. Ореол величия, окружавший фамилию, лишь подтверждал ее власть. Тремя веками ранее Каталина использовал своих крестьян в восстании против сената; Цицерона, отправлявшегося в изгнание, утешали друзья, обещая ему помощь и выражая готовность привлечь к его поддержке «своих детей, своих друзей, своих клиентов, своих вольноотпущенников, рабов и свое имущество».
Фамилия имела власть материальную и моральную над теми, кто ее составлял, и теми, кто ее окружал. В представлении людей власть над своим домашним окружением означала принадлежность к правящему классу, который определял жизнь каждого городка и даже Империи в целом. В самом Риме, пишет Тацит, «здоровая часть общества смотрит на все глазами известных фамилий». Богатство и власть (что, по сути, одно и то же) обеспечивали каждой такой семье еще и политические полномочия — на соответствующем уровне влияния. Очевидно, что определяющая власть фамилий в узких локальных контекстах не могла не оказывать весьма ощутимого влияния и на общественное сознание. Подспудное осознание того факта, что управление людьми не есть некая специальная обязанность, но представляет собой естественное право знатного человека, подобно тому как в природе крупные животные властвуют над мелкими, поддерживало соответствующую систему социальных практик. Высокое социальное положение в Риме подразумевало также и определенный политический вес; исполнение общественных функций не являлось отдельной профессией, в отличие от того, как это происходит у нас, и даже если нами действительно по–прежнему «управляют две сотни правящих фамилий», они не обязательно лично занимают скамьи в парламенте. В Римской же империи богатые и знатные горожане заседали в сенате и советах всех поселений лично, хотя количество мест в этих собраниях было ограничено и на всех желающих их не хватало.
Социальное положение и политическая власть: было и еще одно обстоятельство, не такое заметное, но имевшее всеобъемлющий характер; каждый, кто принадлежал к знатному роду, считал своим долгом принимать непосредственное участие в общественной жизни, занимая ту или иную почетную должность. Это один из наиболее безобидных аспектов такого полиморфного явления, как клиентела. Римская империя не имела системы прямого управления, она представляла собой федерацию автономных поселений. Все представители знатных родов, будь то сенатор или всадник, должны были самостоятельно принять титул (или быть удостоенным такового) покровителя одного из этих поселений, а если возможно, то и нескольких. В действительности же этот титул был не более чем почетным званием; при случае покровитель мог оказать какую–либо услугу или сделать пожертвование городу: пополнить городскую казну, построить или отремонтировать здание, защищать интересы города в суде в случае споров относительно границ земельных владений. Взамен покровитель получал возможность вывесить в передней своего дома весьма почетное официальное благодарственное письмо от жителей города. Семейный траур, о котором он непременно сообщал обитателям находившегося под его покровительством поселения, становился событием местного масштаба, и город направлял ему ответное письмо с соболезнованиями. Если же он посещал город с визитом, ему устраивали официальный торжественный прием, как почетному правителю. Городская клиентела была, таким образом, для нобилитета одним из доступных способов потешить самолюбие, пусть даже и чисто символически; даже бесчисленные товарищества, в которые объединялись простые люди с единственной целью пообщаться в свое удовольствие, имели собственных знатных покровителей. Основной целью подобных коллегий была организация пиров, при этом роль покровителя, как правило, сводилась к его решающему слову относительно меню банкета, каковой он и оплачивал из своего кармана. Стремление окружить себя символами величия и власти было одним из основных в греко–римском мире.
Существовали и некоторые региональные особенности. Италия — царство клиентелы. Греческие регионы, так же как и все остальные, находились под властью экономической и политической мощи богачей, естественных союзников римлян — правителей страны. Время от времени греческие поселения страдали от тирании тех или иных могущественных властных персон. Зато ни о помпезности, ни о чванстве или низкопоклонстве клиентелы здесь не было и речи. Вольноотпущенники здесь не пользовались привилегиями (в Афинах они не упоминаются в списках демов и в эпитафиях, хотя и составляли половину всей, достаточно многочисленной массы полуграждан) и не окружали своих бывших хозяев ореолом величия. Меценатство, это разорительное увлечение богатых, напротив, процветало здесь еще больше, чем в Италии, куда оно от греков, собственно, и пришло. Сегодня это явление называют «эвергетизм»
[15].
ГДЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ЧАСТНОЙ
Чем владел римлянин? Что он терял в случае изгнания? Свое имущество, жену и детей, своих клиентов и «почести»: Цицерон и Сенека часто об этом говорят. «Почести» — это государственные выплаты, как правило, ежегодные, которых он был удостоен и которые останутся в памяти как одно из подтверждений его высокого положения. Римская знать была преисполнена сознанием могущества и величия своей Империи, но то, что мы называем чувством государственности и государственной службой, римлянам было незнакомо. Они плохо отличали службу на благо государства от стремления к достижению личных чинов и званий, государственные финансы от личного кошелька. Величие Рима было коллективным достоянием власть имущих и правящей группы сенаторов, подобно тому как каждое из множества автономных поселений, находившихся под властью местной знати, составляло часть общей сети, называемой Римской империей.
Кооптация
В таких городах, как Рим, власть официально принадлежала правящей элите, буквально купавшейся в роскоши. Именно эта элита была уполномочена решать, какая фамилия может быть принята в ее ряды. Официальные критерии, такие как выборы или определенное имущественное положение, были не более чем уловкой; тысячи богатых граждан могли бы претендовать на то, чтобы занять одно–единственное место сенатора, если бы только владение значительным состоянием было достаточным на то основанием. Реальность политической жизни состояла в кооптации: сам клуб, а сенат представлял собой именно клуб, решал, соответствует ли социальный облик человека предъявляемым к достойному высшего общества человеку требованиям, способен ли он поддержать и приумножить авторитет клуба, став его членом. Однако кооптация не могла осуществляться от лица сенатского корпуса напрямую; она происходила через посредство разветвленной сети политического протекционизма. Государственная служба рассматривалась как средство достижения высокого общественного положения и всяческих благ для себя лично, и доступ к этим благам обеспечивался только личными связями.
Забывая о том, что Рим — не современное государство, слишком многие историки принимают античные принципы за извращенные современные; они пишут, что в Риме властвовали коррупция, взяточничество и протекционизм, или же вообще об этом не упоминают, полагая, что подобные «злоупотребления» достойны лишь анекдотов. Согласно современным представлениям, общественный деятель не может считаться блюстителем государственных интересов, если использует данные ему полномочия, чтобы набить собственный карман, либо ставит личную выгоду выше интересов общественных. Не стоит забывать, что современное государство — не единственный механизм осуществления власти: рэкет и мафия выполняют ту же функцию. Поддерживая экономически и социально и одновременно эксплуатируя итальянских иммигрантов в крупных американских городах или работающих иммигрантов в городах французских, мафия выполняет «государственные» функции: она вершит правосудие среди этих вновь прибывших в страну людей, помогает им и защищает интересы диаспоры перед остальной частью населения. Она должна самоотверженно служить соотечественникам под страхом полной утраты доверия с их стороны; мафия дарует им жизненные блага и по–отечески ими руководит. Она выполняет свою роль тем более добросовестно, чем больше денег выколачивает из этих иммигрантов в качестве платы за оказанные им услуги: тот, кто защищает, — контролирует; тот, кто контролирует, — грабит. Так же как настоящий римлянин, мелкий мафиозный босс может произносить высокие слова о своей преданности общему делу, имея в виду, что с каждым из своих подопечных его связывают личные доверительные отношения. Римский аристократ, даже если он представитель самого знатного рода, больше похож на «крестного отца», чем на выпускника Национальной школы администрации
[16]. Обогащение за счет государственной службы никогда не мешало эту самую службу добросовестно исполнять: противопоставление одного другому показалось бы римлянам как минимум странным.
Неподкупный чиновник — особенность современного Запада; в Риме каждый начальник стремился обокрасть своих подчиненных, так же как это было принято в китайской и турецкой империях, где все было основано на принципе бакшиша; тем не менее эти империи доказали свое право на успешное многовековое существование. Римская армия была ничуть не менее боеспособной от того, что имела при этом свои любопытные обычаи: «По традиции солдаты платят отступное своему командиру за освобождение от службы, да так исправно, что не меньше четверти легиона постоянно слоняется без дела или неплохо проводит время в казармах — лишь бы командир вовремя получал свою мзду… Чтобы раздобыть необходимую сумму, солдаты прибегали к воровству, бандитизму или принимались за рабский труд. Если же какой–нибудь солдат оказывался немного богаче, офицер буквально травил его унижениями, побоями и бесконечными нарядами до тех пор, пока тот не выкупал у него освобождение» — можно подумать, что это пишет вовсе не Тацит, а Гобино в «Азиатских новеллах». Вся государственная служба представляла собой своеобразную форму рэкета, где чиновники брали плату с подчиненных, которые в свою очередь таким же образом эксплуатировали нижестоящих служащих: такое положение вещей существовало и во времена расцвета Римской империи, и во времена ее заката.
Даже самую маленькую государственную должность (militia), такую как секретарь суда или служитель канцелярии, кандидат на нее должен был выкупить у своего предшественника: это была своего рода рента, выплачиваемая в виде взятки. Кроме того, вступивший в должность обязан был сделать подношение (sportula), и весьма значительное, своему начальнику. Во времена поздней Римской империи высшие должностные лица, назначаемые лично императором, платили откаты… в императорскую казну. С самого основания Империи каждый избранник императора, назначаемый им на любую должность, будь то консул или простой полководец, в знак признательности должен был оставить часть наследства своему господину и благодетелю. В противном случае завещание могло быть признано недействительным по причине неблагодарности завещателя, а наследство конфисковано целиком в пользу императорской казны. Поскольку все назначения осуществлялись исключительно по личным рекомендациям «патронов», пользующихся благосклонностью императора, эти рекомендации (suffragia) продавались или уж по крайней мере оплачивались. Если патрон не держал своего слова, пострадавший вполне мог подать на него жалобу в суд. Были и посредники, которые специализировались на сделках такого Рода, купле–продаже рекомендаций и клиентелы (amicitiae), однако эта профессия была у римлян не в чести.
Империя бакшиша
С паршивой овцы хоть шерсти клок. За содержание военных постов, которые выполняли функции полиции и поселковой администрации, каждая деревушка должна была платить некое вознаграждение (stephanos). Чтобы заставить любого чиновника хоть как–то пошевелиться, ему нужно было дать на лапу. Однако шерсть следовало стричь так, чтобы не содрать ненароком шкуру, поэтому на мзду были установлены четкие тарифы, объявляемые местной канцелярией, и каждое действие имело вполне определенную цену. Граждане могли явиться к чиновнику или должностному лицу только с каким- либо подарком: в конце концов, это же было просто материально воплощенное признание естественного превосходства начальника над подчиненными.
К выплатам мзды добавлялось еще и вымогательство, которое практиковалось влиятельной верхушкой. После завоевания римлянами Великобритании военная администрация обязала покоренные народы платить дань зерном, причем зерно следовало привозить в общественные амбары, очень далеко расположенные; за разрешение сдавать хлеб в ближние амбары нужно было платить отдельно. Требование незаконных выплат было основным занятием управляющих провинциями, они покупали молчание императорских инспекторов и делили прибыль с первыми лицами инспекций и начальниками канцелярий. Центральная власть не вмешивалась — ей было достаточно получать свое. Ограбление провинций, которыми он управляет, — вот, говорит Цицерон, «путь сенатора к обогащению». Были и феноменальные случаи: так, Веррес отдал свою провинцию, Сицилию, на совершеннейшее разграбление, устроив там разгул кровавого террора подобно тому, как узаконили государственный гангстеризм некоторые президенты стран Центральной Америки — Дювалье, Батиста, Трухильо. В меньшем масштабе принцип управления провинциями как частными доходными предприятиями существовал на протяжении всего периода Империи. И это ни для кого не было тайной. Сочинители эротических стихов признавали, что с нетерпением ожидают, пока мужья покинут своих жен, отправившись на год в далекие провинции с тем, чтобы сколотить себе состояние; сами же они при этом заявляли во всеуслышание, что живут лишь ради любви и поэтому их нисколько не заботит ни карьера, ни богатство, что, по сути, одно и то же. Обогащение чиновников происходило в ущерб государственной казне; наместник получал из казны громадные деньги на дорожные расходы, за которые никогда не отчитывался, и во времена Республики именно эти траты составляли основную расходную часть бюджета страны. Помимо получения официальных выплат и вымогательства, наместник проворачивал финансовые операции: в I веке до н. э. италийские купцы заняли все экономические позиции на греческом Востоке при активном участии прибывших на эти земли римских наместников. Именно поэтому наместники поддерживали римских торговцев: это была чистой воды коррупция, а вовсе не «экономический империализм».
Вплоть до прошлого века обогащение во время исполнения тех или иных властных обязанностей считалось вполне достойным занятием. В «Пармской обители», когда граф Моска покидает службу в министерстве, он приводит великому герцогу блестящее доказательство своей порядочности: вступив в должность со 130 000 франков в кармане, он оставил ее, имея лишь 500 000. Цицерон после года правления в одной из провинций заработал лишь сумму, эквивалентную миллиарду наших сантимов
[17], и мог этим гордиться: это было совсем немного. Прежние способы управления не имели ничего общего с тем, что мы теперь называем административной системой, кроме названия: на протяжении тысячелетий правители прибегали к помощи мафии или рэкета, чтобы собирать подати и усмирять население. Так, французские короли под видом укрепления военного флота выдавали патент пиратам, которые после этого именовались корсарами и делили с ними барыши от морских разбоев. Они не состояли на службе у государства, они служили государству и самим себе; сама идея была, быть может, и порочной, однако с психологической точки зрения корсар по крайней мере не был морским офицером с насквозь продажной душой.
Речь шла вовсе не о неподкупности, достаточно было просто иметь такт, подобно продавцу, который никогда не должен позволять покупателям думать, что его единственная цель — продать им свой товар. То есть, в то время как наместники, служа императору, набивали свои карманы, задыхавшийся народ хотел верить, что его душат ради его же собственного блага. «Будьте покорны всяческому человеческому начальству, — пишет апостол Павел — и оно ответит вам любовью». Иначе говоря, нужно было делать деньги так, чтобы слишком решительными действиями не поколебать эту веру. Участие чиновников в доходах, получаемых властью, не должно было ставить под сомнение бескорыстие самой власти. Время от времени власть, неловко демонстрируя собственную неподкупность, довольно цинично устраивала показательные процессы, в результате которых слетала голова одного из правителей или уж, во всяком случае, рушилась его карьера. Было найдено письмо, автор которого пишет своей любовнице: «Ура! Ура! Я еду к тебе, не обремененный долгами, хотя для этого и пришлось продать половину моих подчиненных» (одно из трех или четырех дошедших до нас из Античности любовных писем). Что же касается самого императора и его высокопоставленных чиновников, то они доказывали свое бескорыстие, разоблачая своих же собственных подчиненных. Так, император во всеуслышание обвинял фиск, представлявший собой не что иное, как орган управления императорским имуществом, время от времени он давал ход прошениям крестьян, которые жаловались ему на незаконные поборы сборщиков налогов, и издавал указы, отменяющие коррупцию: «Пусть руки чиновников перестанут подобно хищнику искать добычу, я повторяю, пусть перестанут», — писал он. Что же до высокопоставленных лиц, то они попросту тарифицировали мзду, что, по сути, означало ее узаконивание.
«Честь»
Чиновники, как военные, так и гражданские, не чувствовали своей принадлежности к определенному сословию, репутацию которого были бы обязаны защищать, они просто ощущали себя элитой, превосходящей других во всем. Градация должностных лиц, составлявших эту элиту, определялась размером денежного содержания, которого они были удостоены, состояли ли они на службе в государственном аппарате или, как местная знать, управляли одним из тысяч городков, входящих в систему Империи. Человек при должности мог сказать: «Служа императору или родному моему городу, я за год решительно приумножил свою „честь”, так же как и честь моего дома, и теперь в парадной одежде я займу свое место в галерее предков». «Честь» — вот ключевое слово! И это была не добропорядочность, достойная уважения, а аристократический идеал славы: каждый знатный человек был увлечен своей честью настолько же, насколько Сид был одержим долгом чести. Честь можно обрести, приумножить и потерять. Изгнанный Цицерон был в отчаянии: у него нет больше чести, он теперь никто. Это же и позволило ему вернуться: ему возвратили его честь. Честь, понятая как общественное признание, была частной собственностью. Считалось, что тот, кто Достиг высокого общественного положения, заслужил славу и может защищать свою собственность так же законно, как
правитель свой венец: он имел все основания для освобождения от наказания. Никто не мог предъявить претензии Цезарю за то, что он перешел Рубикон, выступил против своей родины и поверг ее в пучину гражданской войны: сенат собирался ущемить его честь, хотя Цезарь не раз говорил о том, что честь для него важнее жизни. Точно так же нельзя осуждать Сида за то, что, защищая свое достоинство, он убил в поединке лучшего полководца своего короля.
Принадлежность человека к правящему классу можно было определить по некоторым внешним признакам, причем манеры отнюдь не служили основным отличительным качеством в этом не слишком светском обществе. Не будучи такими эстетами, как греки, римляне не придавали большого значения изысканности и утонченности и не приписывали этим качествам какой–то особый социальный смысл. Уверенная, складная жестикуляция и речь выдавали, скорее, человека, наделенного властью, вообще же знать должна была демонстрировать хорошее образование, высшей точкой которого были начитанность и знание мифологии. Сенатором или даже начальником канцелярии предпочитали видеть человека, известного своей высокой культурой, полагая, что составленные им официальные бумаги будут написаны высоким стилем. Школы риторики сделались питомниками будущих чиновников, поскольку на взгляд последних культура подчеркивала целостность правящего класса. Первые греки, натурализовавшиеся в римском обществе, подчас достигали даже сенатских позиций, становясь римскими аристократами — и принося с собой багаж высокой культуры. Результат для простого народа был весьма сомнительным, а последствия в области делопроизводства — и вовсе катастрофическими: начиная с I века императорские указы писались таким высокопарным и архаичным языком, что их смысл практически терялся за путаными выражениями, поскольку слишком образованные редакторы могли даже финансовые декреты утопить в изысканных словесах и прочих красивостях.
Две клиентелы
В сущности, принадлежность к правящему классу определялась не столько собственно способностью управлять, сколько набором личных качеств, которые были отражением самого правящего класса: богатство, образование, уверенность в своем превосходстве. Обладает ли претендент необходимыми качествами, оценивал сам правящий класс в соответствии со своими представлениями, поскольку каких–либо нормативных критериев не существовало. Поэтому сама возможность стать членом правящего класса, обрести и приумножить свою честь была основана на принципе кооптации, который продолжал негласно властвовать в обществе. Однако класс не был единым блоком, осуществлявшим отбор претендентов: у каждого из его членов была своя вереница протеже, которых он рекомендовал своим коллегам в обмен на аналогичные услуги. Даже сам император при назначении кого–либо на высокую должность следовал подобным рекомендациям. Система обеспечивала любой важной персоне приятную возможность властвовать над толпой просителей. То есть, собственно, и здесь мы имеем дело с клиентелой; однако применять это весьма расплывчатое и обманчивое понятие стоит все же с некоторой долей осторожности. Есть два вида клиентелы: либо клиент нуждается в патроне, либо патрон ищет себе клиентов ради славы. В первом случае патрон действительно имеет власть, во втором — патрон соперничает с клиентами за право быть настоящим господином, поскольку это именно он нуждается в клиентах, а не наоборот.
Увы, не вся клиентела была таковой! «В Истрии, — пишет Тацит, — у дома Красса всегда было много клиентов, земель, и имя его было известно в народе». Повсюду в деревнях властвовал патронат, схожий с южно–американским касикатом; повсюду крупные землевладельцы тиранили окрестных крестьян и покровительствовали им. Целые деревни вверяли себя во власть такого покровителя в надежде обезопасить себя от других ему подобных. Иногда это был скорее договор на будущее, чем реальное положение дел. «Во время гражданской войны, — пишет все тот же Тацит, — город Форум Юлия
[18] встал на сторону одного из своих сыновей, ставшего выдающейся личностью благодаря поддержке соотечественников в надежде, что однажды он сделается человеком действительно могущественным».
По правде сказать, «клиентела» и «патронат» — слова, которые римляне подавали под самыми разными соусами, при этом имея в виду абсолютно различные отношения. Народ, находящийся в зависимости от могущественного государства, будет «клиентом» этого государства; обвиняемого патрон будет защищать в суде, или же наоборот, обвиняемый признает своим патроном человека, любезно согласившегося защищать его в суде. Нет ничего более обманчивого, чем подобная игра слов: то ли ты берешь кого–либо под свою опеку, потому что действительно имеешь влияние и власть, то ли тебя выбирают патроном, чтобы попасть под твою опеку. Во втором случае имеет место патронат ради карьеры: молодой человек с амбициями, который желает обрести или приумножить свою честь, и при этом не настолько бедный, чтобы просить покровительства какого–либо богатого соседа, предпочитая лучше служить ему и терпеть влияние его власти, чем жить в нищете, скорее сам решает, какого патрона для себя выбрать. Земляка? Старого друга, ставшего важной персоной? Человека, который когда–то помогал его отцу, когда тот делал первые шаги своей карьеры? Покровитель, выбранный таким образом, даст необходимые рекомендации молодому человеку, вверившему себя его заботам, человеку, с которым, возможно, еще вечера он и знаком–то не был: исходя из тех лишь соображений, что если сейчас отказать в благосклонности человеку, предложившему ему свою преданность, то тот с легкостью найдет себе другого покровителя. Римляне имели обыкновение придавать личным взаимоотношениям общий характер и потом превращать их в ритуал. Подрастающее поколение вливалось в многотысячную толпу клиентов и каждое утро приходило приветствовать своих патронов.
В обмен на покровительство патрон получал удовлетворение от осознания того, что клиентов у него не меньше, чем у других ему равных. В циркуляции политических элит были задействованы в основном каналы личных связей, при этом выражение признательности вменялось в обязанность, а неблагодарность считалась грехом. Патроны тешили себя иллюзией, что оказывают поддержку этим почтительным молодым людям из чисто дружеских побуждений, они с удовольствием давали им советы относительно их карьеры (Цицерон разговаривает с юным Требацием таким назидательным тоном, какого не позволяет себе с другими своими корреспондентами). Они писали многочисленные рекомендательные письма другим патронам, причем стиль этих писем стал практически отдельным литературным жанром, тогда как их содержание было, как правило, материей сугубо факультативной: достаточно было бы просто назвать адресату имя своего протеже. Каждый патрон оказывал доверие другим таким же, обмениваясь с ними частью своего влияния, предварительно взвесив все за и против такого шага: позволительно было рекомендовать лишь тех претендентов, которых высшее общество примет благосклонно. В противном случае можно было потерять все свое влияние, которое имело для римлян огромное значение: если у тебя много протеже и доступ к множеству престижных Должностей — ты рискуешь каждое утро видеть возле своего дома небольшую толпу клиентов, желающих тебя поприветствовать; если же совсем отказаться от подобного рода публичной роли — тебя могут и вовсе забыть, «и не будет больше приближенных, эскорта вокруг твоих кресел–носилок, не будет посетителей в передней твоего дома». Четкого разделения между общественной жизнью и жизнью частной не существовало ни по закону, ни по обыкновению. Только мудрость позволяла отделить одно от другого. «Оставь своих клиентов и приходи ко мне спокойно пообедать», — говорит своему другу мудрый Гораций.
Благородство должности
Поскольку личное было неотделимо от общественного, желая рекомендовать человека на какую–либо должность, его оценивали по положению, занимаемому им в обществе, по его чинам и званиям, по тому месту, которое он занимал в политике или муниципальном управлении: все это составляло часть его личной характеристики, подобно тому, как у нас к имени должностного лица добавляется его офицерский чин или дворянский титул. Когда историк или романист вводил нового персонажа, то обязательно уточнял, раб он, плебей, вольноотпущенник, всадник или сенатор. Сенатор мог иметь преторианское или консульское звание, согласно тому, насколько высока была его честь и каких почестей он был удостоен: консульских или только преторских. Если человек был по призванию военным и предпочитал командовать легионом в какой–либо провинции или на границе, откладывая на потом оформление в Риме ежегодного увеличения чести, его называли «младший Такого–то» (adulescens), и даже если этому парню в доспехах было уже лет сорок, считалось, что он еще и не начинал настоящую карьеру. Вышесказанное относится к сенатской знати. Что же касается знати на уровне городов и весей, вот, например, какую характеристику покровителя найдет искушенный читатель у Цензорина. В своей книге, адресованной патрону, которому он многим обязан, автор обращается к нему с такими словами: «Ты достиг вершины своей карьеры в муниципалитете, из всех самых лучших людей своего города только ты удостоен чести быть императорским жрецом, ты приумножил свою честь римского всадника настолько, что поднялся выше наивысшего из всех возможных провинциальных рангов». То есть в среде муниципальной знати тоже была своя иерархия. Представитель местной элиты, если он не принадлежал к плебейскому роду, мог стать членом местного совета (curia) и занять тем самым пост, подобающий человеку воистину благородному, пост куриала. «Важный человек» занимал в течение года определенную, тоже почетную и хорошо оплачиваемую должность, постепенно поднимаясь на самый верх карьерной лестницы.
«Участвовать в политической жизни» означало «занимать государственный пост», и это не считалось особым родом деятельности: господин при должности, гордящийся своим именем, член правящего класса — идеал личности в представлении римлян. Собственно, только он и мог называться настоящим человеком: люди, не имевшие доступа к государственным средствам, не участвовавшие в политической жизни города, считались существами жалкими и неполноценными. Чтобы повеселить читателей забавным парадоксом, эротические поэты хвастались тем, что они далеки от политической карьеры, поскольку в этой жизни их занимают лишь любовные баталии (militia amoris). Большинство философов, мастеров своего дела, не могли пожертвовать политической жизнью (bios politikos) и полностью посвятить себя постижению мудрости — пришлось бы резать по живому. На самом деле доступ к общественным средствам, муниципальным, а уж тем более сенатским, могли получить только богатые фамилии: однако эта возможность, собственно, и была тем идеалом, к которому следовало стремиться, — то есть практически вменялась в обязанность. Конформизм стоиков приравнивал политическую жизнь к жизни сообразно Разуму. Богатый человек, тихо живущий в своем Уголке, не мог считаться одним из «первых лиц нашего города», если никак не проявлял себя на политической сцене. Если вы Даже и решили бы уединиться в каком–нибудь из своих имений, навряд ли можно было рассчитывать на то, что другие богатые фамилии оставят вас в покое, а народ не будет требовать от вас устраивать зрелища: вам все равно пришлось бы вернуться и занять ту или иную муниципальную должность — особенно если учесть, что устроение дорогих представлений было обязанностью должностного лица, занимавшего высокий пост в течение года и получавшего за это пожизненный чин.
Поскольку каждый такой чин, которым его обладатель наделялся навсегда, стоил для него достаточно дорого, понятия «государственные средства» и «личное имущество» попросту не существовали по отдельности, они были неразрывно друг с другом связаны. Эту странную систему взаимоотношений называют «эвергетизм». Если тебя назвали претором или консулом, ты должен из своего кармана оплачивать миллиардные расходы на публичные зрелища для народа Рима: театральные постановки, состязания колесниц в цирке и даже разорительные бои гладиаторов на арене Колизея. Само собой, после этого необходимо было поправить свои дела во вверенной твоим заботам провинции. Такова была судьба сенаторской знати, к которой принадлежала приблизительно одна из десяти или двадцати тысяч фамилий. Что же касается людей, происходивших из знати локальной, разбросанной по множеству городов и городков и составлявшей примерно двадцатую часть всех семей, то как раз в этой среде эвергетизм достиг истинного размаха, приводя к колоссальным — вынужденным — тратам семейных средств без соответствующей возможности компенсировать финансовые жертвы.
Эвергетизм
И в самых маленьких городках Империи — говорили ли там по–латыни или по–гречески, да хотя бы даже по–сирийски или на одном из кельтских языков — большая часть общественных зданий, которые сейчас раскапывают археологи и посещают туристы, вероятнее всего, была построена на собственные средства местной знати. Кроме того, знатные особы должны были оплачивать от своих щедрот публичные зрелища, которые они устраивали ежегодно для увеселения сограждан, если только имели для этого достаточно средств, поскольку каждый, принявший чин в муниципалитете, должен был платить, платить и платить. Они вносили заранее оговоренную сумму в городскую казну, оплачивали зрелища в том городе, где занимали должность, или строили на свои средства общественные здания. Если же финансовое положение должностного лица не позволяло ему осуществить ту или иную трату в данный конкретный момент, нужно было письменно изложить публичное обещание сделать это позднее самому или возложить данную обязанность на своих наследников. И это было еще не все: вне зависимости от должности, представители знати по доброй воле строили и дарили городу здания, устраивали для сограждан гладиаторские бои, публичные пиры или праздники. Подобный вид меценатства в Римской империи был распространен не меньше, чем в современных Соединенных Штатах, с той только разницей, что направлен он был исключительно на украшение города и развлечение горожан. Большая часть амфитеатров, этой застывшей в камне роскоши, была подарена городам меценатами, которые таким образом оставляли о себе в городе вечный памятный знак.
Было ли это великодушие проявлением личной щедрости? Или же это была обязанность по долгу службы? Или и то и другое? Размер пожертвований варьировался и был лишь частным случаем общей закономерности. Постепенно склонность богатых к показной щедрости горожане превратили в Долг, обязав знать, заботившуюся о своей репутации, делать постоянно то, чем раньше имело смысл заниматься лишь время от времени. Проявляя щедрость, знать подтверждала свою принадлежность к правящему классу, и поэты–сатирики поднимали на смех стремление недавно разбогатевших особ поскорее устроить публичное зрелище для своих сограждан. Города, привыкшие к публичной роскоши, стали требовать ее, как принадлежавшую им по праву. Ежегодное назначение должностных лиц стало для этого удобным поводом. Ежегодно в каждом городке разыгрывалась маленькая комедия: городу нужно было найти новую дойную корову. Каждый член совета восклицал, что он среди всех присутствующих самый бедный, тогда как Такой–то — человек вполне счастливый, преуспевающий и настолько замечательный, что, конечно, согласится в этом году занять высокую должность и взять на себя обязанность оплачивать подогрев воды в общественных банях. Фигурант протестовал, мотивируя свой отказ тем, что он этим делом уже занимался. Побеждал самый упрямый. Если же выход найти не получалось, в решение вопроса вмешивался наместник провинции или же просто народ, который очень хотел получить свою горячую воду. Вполне мирно выражая свои желания, народ бурно приветствовал намеченную жертву, превозносил до небес необыкновенную щедрость этого замечательного человека и избирал его единодушным поднятием рук и бурной овацией. Однако некий не предусмотренный сценарием меценат — а такое тоже случалось — мог добровольно подняться и объявить, что хотел бы сделать для города что–то хорошее. В таком случае в качестве благодарности его назначали на высокую должность в городском совете и присуждали ему особо почетный титул «патрона города», или «отца города», или, например, «славного благотворителя» — титул, который будет выбит на его могильной плите. А может быть, ему даже воздвигнут статую, расходы на которую он также согласится взять на себя.
Вот почему местные должностные лица понемногу перестали избираться гражданами, а стали все чаще назначаться олигархами из совета, которые принимали их в свои ряды: проблема была скорее не в переизбытке кандидатов, а в их нехватке. Должностные обязанности чиновника по большей части состояли не в том, чтобы управлять, а в том, чтобы платить, поэтому совет приносил в жертву одного из своих членов, и лучшим кандидатом оказывался тот, кто на такие расходы соглашался. Таким образом, нобилитет как класс в каком–то смысле мог утешать себя тем, что город принадлежит ему, поскольку именно он за все платит; взамен он мог распределять налоги в свою пользу, перекладывая их основную тяжесть на бедное крестьянство. Каждый город делился на два лагеря: знать, которая дает, и плебеи, которые получают. Даже при условии исполнения обязательств, связанных с ежегодно переизбираемой должностью, нельзя было стать заметной фигурой местного масштаба, если хотя бы раз в жизни ты не преподнес городу подарок в виде общественного здания или публичного банкета. Так формировалась правящая олигархия. Можно ли сказать, что это было сословие, принадлежность к которому передается по наследству? Все не так просто. Чины отца влекли за собой моральный долг для сына: он становился заложником своей будущей щедрости просто потому, что был наследником. Местные богатеи думали прежде всего о том, чтобы как можно быстрее получить как можно большую прибыль от занимаемого поста в надежде, что сын станет подражать отцовской щедрости. Из–за недостатка достаточно богатых кандидатов среди сыновей местной знати совет соглашался принять в свои члены представителя какой–нибудь купеческой семьи, чтобы протолкнуть его на дорогостоящую должность.
Нобилитет терпел подобную систему благотворительности лишь в силу сложившихся традиций: порой он, противясь, вставал на дыбы, хотя столь же часто и вполне охотно шел на уступки. Центральная власть проявляла такую же нерешительность: то она в своем стремлении к популярности накладывала на местную знать жесткие обязательства устраивать для народа увеселения, чтобы «отвлечь его от мрачных мыслей», То принимала сторону знати и пыталась умерить притязания народа. И наконец, иногда власть придерживалась своей собственной политики, стараясь усмирить стремление богатых к показной роскоши: не лучше ли подарить городу пристань в порту, чем устраивать праздник? В то время как народу дарили зрелища, которые его развлекали, а городу — сооружения, которые тешили тщеславие самого дарителя, народ в течение многих лет голода думал, скорее, о том, чтобы просить своих начальников продать ему подешевле хлеб, хранящийся в принадлежащих им амбарах. Подарить развлечения своим согражданам согласно гражданскому долгу и подарить городу общественное здание в угоду собственному тщеславию — вот два корня, из которых растет эвергетизм, то есть, собственно, и в данном случае мы наблюдаем все ту же самую двойственность, две ипостаси одной личности: человек общественный и частное лицо.
Гражданский долг знати
Тщеславие подразумевает спонтанность, гражданский долг — обязанность. Парадокс в том, что в обязанность вменяется дать городу больше, чем ты должен. Добросовестные граждане современного государства ограничиваются уплатой налогов с точностью до копейки, у жителей же греческих городов (а по их примеру — и римских) был другой, более жесткий принцип или по крайней мере идеал: если было возможно, они вели себя так, как в современном мире поступают активисты политических партий, то есть, не считая своего личного вклада, отдавали на благо общего дела все, что было в их силах. Города ожидали от своих богатых сограждан поведения, которое вернее всего было бы назвать самоотверженным. Не станем слишком долго рассуждать о том, почему самоотверженность чаще всего сводилась к расходам на увеселение сограждан (даже когда состоятельный человек по долгу службы устраивал праздник или представление в честь богов своего города, он непременно добавлял что–нибудь из своего кармана к государственным ассигнованиям на это мероприятие).
Ко всему этому добавлялось еще и нескрываемое тщеславие знати. Издавна богатые ощущали себя публичными людьми: к примеру, они могли пригласить всех жителей своего города на свадьбу дочери; если умирал отец богатого человека — весь город приходил на поминальный обед и на поминальные бои гладиаторов. В итоге и это тоже стало обязанностью богатых. Во всех городах Империи каждый знатный человек должен был устраивать публичные увеселения или вносить некоторую сумму в городскую казну в честь того, например, что его сын впервые надевал мужскую одежду или же сам он повторно женился. Если же он не хотел этого делать, то должен был спрятаться в одном из своих поместий и уже там отмечать свои праздники. Однако подобный шаг был равносилен отказу от общественной жизни, чреватому полным забвением. Иначе говоря, знать вынуждена была оставаться тщеславной. К тому же, кроме мимолетных праздников и развлечений, знатный человек мог подарить городу величественное здание, на фасаде которого будет высечено имя дарителя. Можно было по моде той эпохи стать основателем какой–нибудь очередной городской традиции, например — организовать специальный фонд, на доходы от которого горожане смогут устраивать ежегодные пиры в память о нем в день его рождения или праздники его имени.
Все эти способы вполне годились для того, чтобы лишний раз подтвердить — на местном уровне — величие особо важного лица; неважно, жив ли был этот человек или уже умер, он оставался столь же почитаем. То есть любая заметная фигура не являлась более частным лицом, публика активно ее присваивала. Кроме того, отношения благодетеля с облагодетельствованными им согражданами носили и чисто физический характер: он встречался с населением лицом к лицу, подобно тому как это делали политики Римской Республики, которые принимали решения на глазах народа, стоявшего у их трибуны, или же полководцы, которые отдавали приказы на поле боя. Императоры, запертые в своих дворцах, хотели предстать перед своим народом убежденными продолжателями Республики, поэтому они появлялись в цирке или амфитеатрах Рима, чтобы лично руководить зрелищем, и народ следил за тем, какие они принимают позы, и видел, что, вынося свое решение, они, единственные настоящие судьи, внимательны и благосклонны ко мнению публики.
На местном уровне городская знать вела себя точно так же. В маленьком городке в Тунисе найдена мозаика, на которой местный великий человек по имени Магерий прославляет собственную щедрость, украсив таким образом переднюю в своем доме. Мозаика изображает сражение четверых бестиариев с четырьмя леопардами. Имя каждого гладиатора надписано возле его изображения, так же как и имя каждого зверя. Мозаика эта не столько служила украшением дома, сколько представляла собой подробный отчет о зрелище, которое Магерий устроил на свои собственные денарии. От начала до конца записаны возгласы одобрения и требования публики, которая оценила старания своего благодетеля и, обращаясь к нему, скандировала: «Магерий! Магерий! Пусть твой пример станет уроком для твоих предшественников! И пусть они хорошо усвоят этот урок! Пусть знают, как и когда нужно делать добро! Ты создал зрелище, достойное столицы, достойное Рима! Ты заплатил за все из своего кошелька! Сегодня твой великий день! Магерий дарующий! Вот настоящее богатство! Вот настоящее могущество! Да, именно так! Сейчас, когда все кончилось, верни гладиаторов и заплати им еще!» Магерий исполнил это пожелание публики: на мозаике изображены со всеми подробностями четыре мешочка с деньгами (на каждом из которых надписана точная сумма), которые он приказал вынести на арену.
Вслед за аплодисментами публики обычно следовало перечисление почетных титулов и знаков отличия, которые совет присуждал дарителю пожизненно. Город обязывал, но город же и оценивал: важный человек мог выделиться среди себе равных только за счет пожалованных ему знаков всеобщего уважения. Заметим, что почетные титулы дарителя, как и занимаемая им должность, имели в Риме такое же важное значение, как и дворянские титулы при нашем королевском строе, и были для знати так же горячо желанны. Римская империя дает нам возможность оценить и еще один парадокс: гражданскую доблесть знати. Показная доблесть давала право на сословное высокомерие, поскольку в рамках гражданского общества подвиг неслыханной щедрости выделял дарителя среди других, ему подобных: занимая высокое положение в своем городке, знатный человек почитался своим народом как важное лицо; в глазах плебеев он был достоин этого и выгоден для них самих. Народ оценивал преданность этого лучшего из своих сыновей общему благу и извлекал из нее выгоду. Эта двусмысленность на уровне обыденного сознания ощущалась так явственно, что публика, уходя после представления, не особенно заботилась о том, было ли дарителю оказано должное уважение или же он был ею унижен. Фраза, которую Петроний приписывает одному из зрителей, демонстрирует данное обстоятельство более чем убедительно: «Он подарил мне зрелище, я же ему аплодировал: мы квиты, рука руку моет».
То есть мы имеем дело с некой смесью из искреннего патриотизма и стремления к собственной славе (ambitus). Еще во времена Римской Республики члены сенатского класса завоевывали себе популярность, устраивая публичные зрелища и пиры, не столько для того, чтобы сделать что–то приятное Для народа, сколько для подкупа избирателей; традиция сохранилась и после упразднения выборов. Впрочем, как говорит Жорж Виль, «за корыстным стремлением к власти может скрываться более или менее бескорыстное желание нравиться толпе, только и всего».
Эвергетизм ни на что не похож
Не будем говорить о римской «буржуазии»: как и клиентелу, эвергетизм нельзя объяснять только понятиями целесообразности для отдельного класса, он основывался на самосознании знати, которая прилежно возводила бессмысленные общественные здания и величественные статуи, призванные восславить величие и воображаемое благородство той или иной фамилии. Это своего рода геральдика. Применять такие понятия, как макиавеллизм, перераспределение средств, аполитичность, корыстный расчет, для того чтобы определить символические границы класса, означает свести в плоскость рационализма явление, цена и широта распространения которого выходили далеко за рамки социальной необходимости. Нас обманывает то, что римская знать со своей внешне гражданской символикой, своими «общественными» сооружениями и высшими государственными чинами не похожа на наше дворянство по крови, дворянство до мозга костей, существовавшее при Старом порядке. То была по–своему уникальная историческая формация, которая, вместо того чтобы превозносить величие своего рода, воспевала, с опорой на достаточно архаические понятия, свою собственную славу.
Куриалы и власть имущие — не одно и то же, хотя бы потому, что число мест в городских советах было ограничено и, как правило, не превышало сотни. Ограничения были подобны тем, что действовали в нашей собственной истории, при королевском строе: чтобы получить дворянский титул, недостаточно было просто разбогатеть, или, например, чтобы стать академиком, нужно войти в число избранных, поскольку количество французских академиков ограничено сорока персонами, вне зависимости от того, известны они широкой публике или не очень. Городской совет был клубом для знати, куда все власть имущие попасть не могли: имперские законы предписывали в случае финансовой необходимости милостиво принимать в советы и просто богатых торговцев. Обычная линия поведения этого клуба знатных и богатых сограждан состояла в том, чтобы оказывать постоянное давление на одного из своих членов и в итоге полностью разорить его, используя его богатство на благо всего города. Иногда знатные персоны, не выдержав давления себе подобных, сбегали в свои имения, к своим преданным земледельцам, как сказано в последней книге Дигест, а государственная власть немедленно увязала в песке, как только пыталась вырваться из городов и проникнуть в деревню, где даже христиане могли укрыться от гонений (как, например, святой Киприан).
Так же как и дворянство, римская знать подразделялась на ранги в зависимости от того, насколько древним был род той или иной фамилии. Существование династий новоиспеченных аристократов, попавших в правящий класс благодаря своему богатству, — факт доказанный, однако не менее доказанным фактом является и вековая история знатных родов, их родственные браки, их эндогамия. Филипп Моро обнаружил упоминания о родственных браках между членами нескольких знатных семей одного города еще в Pro Cluentio
[19] Цицерона. Изучение эпиграфики времен Империи, которой изобилует Греция, и в особенности Спарта, Беотия и некоторые другие регионы, позволяет проследить историю многих фамилий на протяжении двух или трех веков. Опираясь на наши нынешние коллекции греческих надписей, можно построить генеалогические древа, каждое из которых заняло бы целый газетный лист. Империя — это эпоха стабильности для римской знати.
Эвергетизм был делом чести всякого знатного человека, кастовая гордость служила отправной точкой всех гражданских и либеральных мотиваций, о которых историки рассуждают искусно, но слишком узко, имея в виду лишь желание одаривать и стремление выделиться. За деревьями сентиментальности и гражданской доблести они не видят леса: аристократического высокомерия и формирования целого класса наследственного нобилитета по мере того, как высокий социальный статус превращался в наследуемое сословное состояние. Каждый хотел превзойти другого и иметь возможность сказать, что он «первый» или «единственный», кто тратит деньги с такой неслыханной щедростью: его предшественник на этой должности бесплатно раздавал народу масло для бань, но вот перед нами новый герой, который раздает благовония…
«Я хочу заработать денег, — заявляет герой Петрония, — и умереть так красиво, чтобы мои похороны вошли в поговорку»; он, несомненно, приказал бы наследникам устроить для города пир по случаю его погребения. Хлеб и цирк, или, скорее, сооружения и зрелища: власть чаще всего старалась просто привлечь внимание человека к тем или иным открывающимся перед ним возможностям — в сфере публичной или приватной; власть предпочитала воздействовать на народ прежде всего через личную популярность власть имущих, а не через принуждение, и выражала себя в возведении монументальных сооружений и в театральных постановках. И эвер- гетизм не был настолько добродетельным, каким хотят его видеть нынешние интерпретаторы; не был он и чистой воды макиавеллизмом, как о нем говорили прежние толкователи, насквозь пропитанные марксистскими догмами. Самая суть благородства состояла, буквально, в «игре в соперничество», несомненно, иррациональной, в соперничестве политическом и экономическом, а вовсе не в показном расточительстве. Явление это намного глубже, и его невозможно объяснить только лишь тем, что «положение обязывает», или необходимостью обозначить принадлежность к правящему классу; нельзя на современный лад свести этот основополагающий феномен только к соревнованию в расточительстве, объясняя все социальными причинами. Не стоит считать эвергетизм и данью предкам: во всем обилии его проявлений, включающих патриотизм, устройство праздников и пиров, щедрость и т. д. Этот феномен так же любопытен, как потлач, праздник, давно вызывающий живой интерес этнографов, которые находят его у многих «примитивных» племен; это неутолимая страсть, которая у «цивилизованных» народов может бушевать лишь на почве «политической» власти и «экономического» богатства. Во всяком случае, насколько можно об этом судить.
«РАБОТА» И ДОСУГ
Похвальная праздность
Римская экономика во многом опиралась на труд рабов. Кроме рабского труда, существовала долговая тюрьма, куда кредитор определял своего должника вместе с его женой и детьми, заставляя их работать на себя. Был и государственный сектор, в котором заключенные, рабы фиска (то есть практически неисчислимое живое имущество Империи), не покладая рук трудились под надзором надсмотрщиков: такой, например, была судьба многих христиан. Но основную часть рабочей силы по–прежнему представляли юридически свободные люди. Малоземельные крестьяне работали от зари до зари, чтобы заплатить подати; как пишет Питер Браун: «Римская империя предоставила полную свободу действий местным олигархам в том, что касалось исполнения их административных функций, стараясь не проявлять излишнего любопытства относительно того, каким путем налоги изымались у крестьянства и попадали в казну. Этот принцип мягкого управления еще недавно можно было наблюдать в многочисленных колониальных владениях». Другие крестьяне становились фермерами–арендаторами местной знати. Батраков, наемных рабочих, ремесленников нанимали для выполнения какой–либо разовой работы, при этом они заключали с работодателем договор о найме, который очень редко составлялся в письменном виде (за исключением договора об обучении). Так же как и во времена действия Кодекса Наполеона, в случае спорных вопросов относительно заработной платы хозяин верил слугам на слово, тем более что работодатель в своем доме сам вершил правосудие, и если его наемные рабочие воровали, он поступал с ними так же, как со своими рабами. Города были главным образом тем местом, где знать, подобно итальянскому «городскому дворянству» эпохи Возрождения, тратила деньги, полученные от доходов со своих имений, составляя тем самым полную противоположность средневековому французскому поместному дворянству. Вокруг городской знати жили ее поставщики — ремесленники и торговцы. Таким был римский «город», который, по сути, кроме названия не имеет ничего общего с городом в его современном понимании. Чем же отличался город? Наличием праздного класса, то есть знати. Праздность, собственно, и была основной чертой их «частной жизни»; Античность являет собой эпоху праздности, почитаемой за достоинство.
«Быть может, век спустя, — говорил в 1820 году астролог юному герою „Пармской обители”, — праздность будет не в чести». Абсолютно верное замечание. В наш век неприлично признаваться в том, что ты рантье. После Маркса и Прудона труд приобрел всеобщую социальную значимость, он стал философским понятием. Так что свойственное Античности нескрываемое презрение к труду, пренебрежительные высказывания в адрес тех, кто занимается физической работой, восторженное отношение к праздности как к необходимому состоянию человека «либерального», который только и может называться человеком, — все это нас шокирует. Труженики были не только ниже рангом в социальном плане, они вызывали у «порядочного» человека легкое чувство отвращения. Зачастую мы полагаем, что общество, до такой степени отвергающее «общечеловеческие» Ценности, должно быть ущербным и дорого заплатить за эту свою ущербность: не послужило ли презрение к труду причиной того, что античная экономика была настолько отсталой, не имея никакого представления даже о таких элементарных вещах, как машинное производство? Или же один социальный недуг объясняется наличием другого, и такое пренебрежение к труду вызвано другим конфузом — рабством…
И тем не менее, если говорить откровенно, один из ключей от этой загадки мы могли бы найти в себе самих. Конечно, труд представляется нам материей вполне уважаемой и мы не решились бы открыто призывать к безделью; и тем не менее мы очень чувствительны к классовым разграничениям и, сами себе в том не признаваясь, считаем рабочих или торговцев людьми низшего ранга: мы не хотим, чтобы мы сами или наши дети опустились до их уровня, хотя притом и немного стыдимся этого чувства.
Первый из шести ключей к разгадке той позиции, которую Античность занимала по отношению к труду, состоит в следующем: презрение к труду было следствием социально значимого презрения к труженикам. И такое отношение сохранялось вплоть до времен, о которых идет речь в «Пармской обители». Впоследствии, для того чтобы поддерживать социальную классовую иерархию и при этом свести на нет классовые конфликты, достаточно будет провозгласить труд истинной и всеобщей ценностью, то есть заключить — во имя классового согласия — весьма нехитрую и по сути своей совершенно лицемерную сделку. Секрет античного презрения к труду в том, что социальные конфликты не приводили к подобного рода временному и лицемерному перемирию. Класс, который гордился своим превосходством, воспевал собственное величие — это идеология, только и всего.
Богатство и добродетель
1. Итак, первый ключ к разгадке: различие между отдельными социальными группами определялось степенью уважения, которым представители той или иной группы пользовались в обществе, а эта степень уважения, в свою очередь, зависела от имевшихся у них средств. В Афинах классического периода, когда поэты–комики характеризовали человека по его профессии (Евкрат, торговец паклей; Лизикл, торговец баранами), делали они это уж точно не для того, чтобы выразить ему уважение; полноценным человеком может быть только тот, у кого много свободного времени. Согласно Платону, самым прекрасным городом стал бы тот, в котором граждане жили бы за счет труда рабов, возделывающих поля, а прочие работы они предоставили бы самым ничтожным людям: «добродетельная» жизнь — это жизнь «праздная», которую только и должен вести достойный человек (вскоре мы увидим, что именно такова жизнь землевладельца, который не «работает», в том смысле, что он занимается управлением своими землями). По Аристотелю, рабы, крестьяне и торговцы не смогли бы вести жизнь «счастливую», то есть преисполненную процветания и благородства: только люди, обладающие средствами, могут жить полноценной жизнью, стремясь к иной, нематериальной цели. Только люди праздные морально соответствуют истинным человеческим идеалам и достойны быть гражданами в полном смысле этого слова: «Совершенным гражданином не может стать просто свободный человек, а только лишь человек, свободный от ежедневных обязанностей, которые выполняют батраки, ремесленники и чернорабочие; они не станут гражданами, и закон жалует государственные средства на добродетели и достоинства, поскольку нельзя быть добродетельным, если ведешь жизнь батрака или чернорабочего». Аристотель вовсе не имел в виду, что у бедного человека недостаточно средств и поводов, чтобы быть добродетельным, скорее, наоборот, саму бедность он считал пороком, своего рода дефектом. Меттерних полагал, что человек начинается с титула барона; греки и римляне — что он начинается с рантье–землевладельца. Знать греко–римского мира не считала себя высшими представителями человеческого рода, в отличие от нашего старорежимного дворянства: она просто отдавала себе отчет в том, что только ее представители могут целиком и полностью соответствовать человеческой природе, быть нормальными людьми — в полном смысле этого слова. То есть бедные считались людьми нравственно ущербными: они жили не так, как нужно жить.
Богатство считалось добродетелью. Демосфен на процессе, где сам он был обвиняемым, а судьей выступала многотысячная толпа афинян, бросил упрек в лицо своему оппоненту: «Я лучше, чем Эсхин, и я более благородного происхождения. Я не хотел бы казаться человеком, способным унизить бедность, и все–таки должен сказать, что мне выпал лучший жребий: ребенком я посещал хорошие школы и всегда имел достаточно средств, чтобы не быть вынужденным заниматься постыдным трудом. Твоя же судьба, Эсхин, была совсем иной: ребенком ты, словно раб, мел пол в классной комнате, где преподавал твой отец». Демосфен с триумфом выиграл процесс.
Греческие мыслители поддерживали римлян в этом их естественном убеждении. «Народное искусство есть искусство грязное, — пишет Сенека, — по мнению философа Посидония — это искусство ремесленников, которые проводят все свое время, зарабатывая себе на жизнь; в их мастерстве нет ничего прекрасного, ничего, что имело бы какое–то отношение к Благу». Цицерон вслед за философом Панетием, которого ценил за традиционализм, полагал, что «любой наемный труд недостоин свободного человека, потому что по сути своей корыстен, он предполагает плату за работу, а не за какое–либо искусство. Таковы все ремесла и мелкая торговля [в отличие от большой коммерции]». И не было тогда еще демократических представлений о равенстве, не было социалистических идеалов и христианской любви к ближнему, которые могли бы как–то сдерживать это стихийное презрение к труду и позволили бы сохранять хотя бы внешние приличия.
Античность прославляла положение рантье с тем же бесстыдством, с которым королевский строй унижал простых людей, считая всех их нищими оборванцами. Класс зажиточной знати, более или менее образованный и желающий сохранить политические рычаги, преподносил свою праздность и богатство как
необходимое условие для участия в культурной и политической жизни. Люди, живущие своим трудом, говорил Аристотель, не смогли бы управлять городами, и добавлял, что они не умеют, да и не должны этого делать, впрочем, они об этом вовсе и не помышляют. На самом деле, по словам Платона, есть слишком много богатых людей, которые никак не занимаются политическими делами и заботятся лишь о развлечениях и умножении собственного имущества. «Богатые, — напишет мистик Плотин, — слишком часто разочаровывают. Но, как бы то ни было, они достойны того, чтобы не работать, и именно они принадлежат к той особой породе людей, которая обладает реминисценцией, неким воспоминанием о добродетели»; что же касается «работяг, так эта презренная толпа предназначена лишь для того, чтобы производить предметы, необходимые для жизни добродетельных людей».
Вне всякого сомнения, богатые работать не должны, однако, пишет Платон, к сожалению, они все–таки работают: в угоду собственной жадности. Их любовь к богатству «не оставляет им не единой свободной минуты для того, чтобы заняться чем–то иным, кроме заботы о своей собственности; душа каждого нынешнего гражданина подвешена на его страсти к обогащению, и он не мечтает ни о чем другом, как только о том, чтобы новый день принес ему новую прибыль; каждый готов освоить любое умение и научиться любому делу, если это сулит выгоду, ни на что другое не обращая внимания».
Борьба классов
Наши историки слишком часто рассматривают античные представления о труде как некие теории производительной Деятельности, изложенные в трудах мыслителей или юристов. В действительности же они являли собой результат путаных общественных представлений, которые были связаны с пониманием того, что собой представляет социальный класс. Понятия эти не принимали форму принципов и предписаний, не было, например, установлено, что трудом могла бы считаться работа на кого–то другого либо работа за определенную плату: они касались низших социальных групп в целом, которые были вынуждены работать за плату или же поступать к кому–либо в услужение. Они не претендовали на установление общих правил поведения, приемлемых для всех и для каждого, а всего лишь прославляли один социальный класс и принижали другой, и всякая высказанная в рамках этих представлений истина была более или менее правдоподобна: для одних трудом было пребывание в прислугах, для их собратьев по классу — работа по найму. Римляне осуждали труд, изливая свое презрение на сам класс тружеников, а не наоборот: они не презирали тружеников за то, что те работают. Класс знати, богатый, образованный, взявший на себя функции управления, римляне прославляли, невозмутимо утверждая, что только он достоин того, чтобы не работать на город, которым руководит. Античные «представления о труде» являли собой скорее общую оценку классов — позитивную для власть имущих и негативную для класса обездоленных — чем собственно идеи, более или менее концептуально оформленные. Важна была именно оценка, детали и аргументация значения не имели.
2. Чтобы доказать превосходство одного класса над другим, в ход шли любые аргументы. Ксенофонт объясняет, что физический труд изнеживает тех, кто им занимается, поскольку «они вынуждены постоянно сидеть где–нибудь в тени, а иногда весь день проводить возле огня. Кроме того, у ремесленников «нет времени на общение с друзьями и на то, чтобы бодрствовать сутки напролет во время общегородских празднеств». Возделывание полей, наоборот, заставляет переносить и жару, и холод, рано вставать и оберегать землю–кормилицу.
Если согласиться с тем, что в истории классовые интересы играют значительную роль, можно легко разрешить одну историческую загадку, а именно: почему вплоть до индустриальной революции XIX века почти везде и всегда занятие коммерцией не пользовалось в обществе уважением. Ключ к разгадке в том, что богатство торговцев было богатством нуворишей, тогда как исстари богатство наживалось на земле. С давних времен богатство старается отмежеваться от торговли. Торговцу приписываются все грехи, какие только возможны: это человек, не имеющий корней; все, что он делает, он делает только ради наживы; он несет в себе зачатки всех зол, порождающих излишества, изнеженность и всяческие извращения человеческой натуры, потому что он приезжает из–за морей, из дальних стран, от которых нас отделяют естественные границы; он привозит оттуда плоды, которые по воле природы у нас не растут. Эти идеи, начиная с Греции и Древней Индии, оставались в ходу вплоть до Бенжамена Констана и Морраса. В Риме каждый гражданин занимал вполне определенное место в строгой гражданской «классификации» (простые граждане, декурионы, всадники, сенаторы), и классификация эта была основана на богатстве. Однако при учете уровня достатка в расчет принималась только земельная собственность: разбогатевший торговец не мог подняться по социальной лестнице, если не приобретал землю. Если купец, пишет Цицерон, уставший от погони за богатством, решит вернуться в свою гавань и распорядиться своим капиталом, вложив деньги в землю, то его уже не за что будет презирать, наоборот, он станет достойным всяческого одобрения.
Принижение богатства, нажитого не с собственных земельных угодий, означало активное неприятие парвеню. Долгое время обрабатываемая земля была основным богатством, а сельское хозяйство — главным источником доходов, поэтому быть богатым собственно и означало — владеть землей: земля была универсальным объектом для капиталовложений. Торговля служила лишь одним из способов разбогатеть, и наследуемая земельная собственность отличала законного наследника от безродного выскочки. Торговля была средством что–либо приобрести, земля — приобретенным богатством. Следовательно, наследник, человек уже богатый и владеющий землей, кроме прочего, вполне мог заняться коммерцией и не прослыть при этом торговцем — важно, чтобы он не с торговли начинал. Чуть позже мы сможем в этом убедиться.
Что значит работать?
Торговля — занятие грязное, повторяет Цицерон, «если речь идет о мелкой торговле, то всегда покупают что–либо с единственной целью тут же перепродать; однако когда мы имеем дело с крупной торговлей, большой коммерцией — не стоит относиться к этому занятию с чрезмерным презрением». И если всякое ремесло есть занятие по определению неподобающее порядочному человеку, то свободные профессии, такие как архитектор или врач, напротив, достойны всяческого уважения. Конечно, недопустимо, чтобы этим занимались первые лица, однако для персон, не обремененных высокими общественными должностями, практиковать подобные занятия вполне уместно.
3. Были ли эти свободные профессии «работой»? Что вообще должно было означать это слово? Ему нет точного эквивалента ни в латыни, ни в греческом. Является ли работником писатель? Министр? Домохозяйка? Раб не «работал»: он подчинялся своему хозяину и делал все, что тот прикажет. К слову сказать, а у нас — можно ли считать солдата «работником»? Он подчиняется приказам. Платоновские «Законы» утверждают, что настоящий гражданин работать не должен, но двумя страницами ниже мы читаем, что даже гражданин должен бодрствовать несколько часов ночью, чтобы закончить свои политические дела, если он занимает государственную должность, или же, если он ничем другим не занимается, — свои дела экономические, то есть, собственно, дела по управлению имением, где рабы обрабатывают его землю. Врач и философ Гален рассказывает об одном из своих учителей, который был вынужден отказаться от преподавания философии, «потому что у него не оставалось на это свободного времени: по воле сограждан ему пришлось заняться политическими делами»; ни то, ни другое не было работой.
Обратим внимание на «философов, риторов, музыкантов, грамматистов», о которых говорит Лукиан, «всех тех, которые нанимались в какой–либо дом и давали уроки за определенную плату» под тем предлогом, что они люди бедные (то есть, в античном понимании, люди, не имеющие достаточного собственного состояния): можно ли назвать то, чем они занимались, работой? Нет. В зависимости от настроения о них говорили, что это «либералы», которые занимаются уважаемой профессией, достойной свободного человека, или же, что они «друзья» господина (определение весьма учтивое), который им платит, или, наконец, что это просто бедолаги, доведенные до того, что вынуждены зарабатывать себе на хлеб и по существу вести жизнь раба: так же как и домашние рабы, они не могут распоряжаться своим временем, они подчиняются звону колокола, который во всех благородных семьях дает сигнал к началу или окончанию работ по дому. Странная «дружба, требующая много работы и вызывающая усталость!». Она не позволяла им стать по–настоящему свободными людьми, другими словами — накопить достаточное состояние. «Они получали такую зарплату, что даже при условии, что ее платят, и платят в полном объеме, вынуждены были рассчитывать свои расходы до последнего гроша; они не могли отложить впрок ни одной монетки». Свободные профессии, дружба или работа по найму? Бессмысленно спрашивать себя, какую из этих ипостасей римляне — или даже профессиональные римские юристы — считали основной: основной ипостаси попросту не было, римляне воспринимали все три эти состояния одновременно, удивляясь как парадоксу, что какого–то бедолагу, не имеющего собственного состояния, занятия свободной профессией, такой же свободной, как и просто ученость (или «грамматика»), и впрямь могли возвеличить. Они одновременно уважали и презирали своего домашнего грамматиста, наставника их детей. Друг он или наемный работник? При тогдашнем общественном устройстве работников вообще не было: основу любых взаимоотношений составляли понятия дружбы и подчинения.
Остается еще деятельность, связанная с высокими постами и личной «честью» человека, то есть материями сугубо публичными, которые тем не менее представляют собой сплав предубеждений и исторических традиций. Если речь идет о сенаторе, который отправляется наместником в одну из африканских провинций, получая для этого огромные средства, здесь нет никакой двусмысленности — он занимает высокий государственный пост, что в политической жизни соответствует идеалу личной славы. Однако если речь идет о такой провинции, как Египет, то даже получая такое же содержание, наместник не будет считаться состоящим на государственной службе. Дело в том, что для управления африканскими провинциями наместники выбирались из числа сенаторов, членов реликтового коллегиального органа, тогда как в Египет направлялись наместники из аппарата высших императорских «чиновников», созданного во времена ранней Империи (вспоминается то презрение, с которым Сен—Симон, причислявший себя к старому дворянству, относился к министрам Людовика XIV).
Состояли ли чиновники, как мы бы назвали этих людей, на службе государства и своего государя? Их противники утверждали, что это были пусть всемогущие, но все–таки рабы своего господина, императора, который прибегает к помощи собственных слуг, чтобы управлять Империей, как управлял бы своими собственными владениями. Однако один из этих высших чиновников, писатель Лукиан, который нажил огромное состояние в Египте, возражает от имени всех чиновников императора, утверждая, что между ними и наместниками–сенаторами нет никакой разницы. Он был прав, но вовсе не правота определяет общественное мнение. Врач Гален, когда лечил одного из императорских чиновников, видел в нем лишь раба, поскольку этот человек работал на своего господина весь день напролет и «лишь с наступлением ночи становился самим собой, обособленным от своего хозяина». Даже положение управляющих, игравших в те времена значительную роль, было довольно двусмысленным: большие фамилии предпочитали доверять обязанности управляющего отпрыску древнего разорившегося рода. Плутарх с сочувствием называет такового младшим братом.
Классификация извне
4. Является ли наместник в Египте государственным деятелем или всего лишь наемным работником? Чем это определяется? Его должностью? Нет. Его «образом жизни», тем, живет ли он на широкую ногу или скромно и смиренно выполняет свою работу? Ни тем, ни другим. Его ранг определяется не тем, кто он есть, и не тем, чем он занимается, — оценка присваивается ему извне. В античных представлениях о труде мы находим пласт, основанный на «внешних суждениях». Рассмотрим аналогию: как определить, был ли могущественный род Медичи династией дворян или банкиров? Были ли они банкирами, жившими как дворяне, или дворянами, занявшимися банковским делом? Определялось ли это их стилем жизни, как об этом говорит Макс Вебер? Нет. Оценка настигает их извне, что бы они ни делали; их современники признают или не признают За ними право считаться дворянским родом. И если это право признается, банк перестает быть их профессией, становясь лишь забавной подробностью того образа жизни, который они ведут. Эта «классификация извне» таит в себе ловушку для историков: то обстоятельство, что в Античности знатные граждане называли себя людьми праздными, на самом деле еще не означает, что они не могли вести банковские или торговые дела…
У нас и по сей день, если герцог владеет металлургическими предприятиями, он продолжает оставаться герцогом, который занимается еще и металлургией, тогда как другого владельца аналогичных предприятий, не являющегося герцогом, будут отождествлять именно с тем, что, в первую очередь, он владеет металлургическими предприятиями. Во времена Античности знатного гражданина не называли судовладельцем или землевладельцем: он был самим собой, человеком, и (если прибегнуть к анахронизму) не писал ничего больше «на своей визитке». Поскольку управление собственными землями, по общему мнению, было всего лишь неизбежной прозаической необходимостью, об этом не говорили, как не говорят о необходимости одеваться по утрам. Если бы мы могли оказаться в Древнем Риме и спросить любого прохожего, что он может сказать о самой известной в его городе династии судовладельцев, он бы нам ответил: «Это знатные люди, могущественные и богатые; они занимаются государственными делами и оказывают огромную услугу нашему городу, делают много добра людям и устраивают прекрасные зрелища». Чуть позже, в течение разговора, мы бы, несомненно, узнали, что эти знатные люди снарядили немало кораблей, то есть, собственно, что речь все–таки идет о судовладельцах. Один из историков недавно указал, что Античность не признавала доходов, полученных от торговли, считая их продуктом порока и алчности, но ставила в заслугу знати ее умение обогащаться любым путем, включая коммерцию; презирала торговцев за их профессию, знатных людей же считала политическими деятелями и праздными людьми. Есть ли здесь противоречие? Да, с точки зрения логики. Но римляне были не слишком восприимчивы к противоречиям. Знатный человек, занимающийся торговлей, не воспринимался в качестве торговца, он считался представителем особого вида — вида могущественных людей, знатным человеком. Разумеется, был закон, запрещающий сенаторам заниматься морской торговлей, однако его без особых колебаний нарушали, поскольку важным считалось не быть в деле, сенаторы вполне могли вести дела, сохраняя при этом внешние приличия.
Чем бы знатный человек ни занимался, его никогда не оценивали по виду его деятельности; бедный же гражданин, как раз наоборот, был сапожником или батраком. Чтобы иметь возможность быть самим собой, нужно иметь собственность. Если знатный человек в своей эпитафии называл себя хорошим земледельцем, это означало, что у него был талант к возделыванию своих земель, а вовсе не то, что земледелие он считал своей профессией. Когда мы говорим, что некая графиня — прекрасная хозяйка и у нее талант вести дом, мы же не хотим тем самым сказать, что она домохозяйка по профессии. Что же напишет в своей эпитафии знатный человек? Прежде всего он перечислит полученные им государственные отличия и титулы (мы увидим, что они вполне соотносятся с дворянскими титулами при нашем королевском строе); затем, в некоторых случаях, свободные «профессии», которыми он занимался в свое удовольствие, то есть те, которым он посвящал свое время, подобно тому, как позже станут посвящать себя монастырским профессиям. Знатные и знаменитые гордились тем, что посвящали себя философии, искусству красноречия, праву, поэзии, медицине и, в греческих регионах, атлетике. В ознаменование подобных заслуг в городах устанавливали их статуи: эти «профессии» были у римлян в большом почете. Свою принадлежность к подобного рода Деятельности отмечали особо, например именитый человек мог назвать себя таким образом: «бывший консул, философ». Таков смысл титула, закрепленного в истории за Марком Аврелием, — «император [и] философ». Имеется в виду, что к своему государственному титулу он добавил еще и венец профессионального философа
[20].
Хвала труду
5. Социальное презрение к простым людям, которые работают, — это одно, но принадлежность к правящему классу вынуждает и в какой–то степени ценить труд народа — а это уже совсем другое. Труд представляет собой средство, обеспечивающее существование города.
Точнее, труд поддерживает социальный порядок: «В старые добрые времена, — утверждает Исократ, — простых людей направляли к возделыванию земли или торговле, поскольку понимали, что лень порождает нужду, а нужда — преступления». Античная мысль исходила вовсе не из того, что государство — это «общество», где каждый работает на благо всех остальных, она, скорее, полагала, что «город» представляет собой естественное сообщество людей, назначение которого сделать существование более возвышенным. И если было предпочтительнее, чтобы бедные работали, то вовсе не потому, что они должны вносить свой вклад в общее благо, а потому лишь, что нищета могла бы спровоцировать волнения, способные преступным путем разрушить устои гражданского общества. Здесь следует оговориться: некий античный мыслитель утверждал, что труд, или во всяком случае торговля, идет на благо всем гражданам, позволяя им распределять между собой собственность, необходимую для жизни. Он удивлялся тому презрению, с которым в обществе относятся к профессии торговца, в то время как другие виды деятельности, также способствующие общему благу, ценятся достаточно высоко. Этим гигантом мысли был не кто иной, как Платон, который, подобно другим, с пренебрежением относился к людям низкого общественного положения. Правда и то, что даже Платон ничего не говорит о том, что общество живет благодаря труду всех этих людей — земледельцев, ремесленников и торговцев: он рассуждает лишь о коммерции. По его мнению, в действительности каждый гражданин живет за счет своей собственности (земли, обрабатываемой рабами), и этот ресурс настолько же «природный», насколько и воздух, которым мы дышим. Человек берется за оказание определенных услуг другому, лишь только когда ему нужно добыть имущество, которое не было дано ему природой; коммерция служит для увеличения собственности.
С другой стороны, для большинства людей труд был единственным источником средств к существованию. Император понимал это и, будучи «честным правителем» всего италийского народа, старался обеспечить для каждой из социальных групп традиционные средства к существованию: так, Цезарь повелел, чтобы каждым третьим пастухом был свободный гражданин (поскольку использование для этих целей исключительно рабского труда вело к безработице среди свободного населения); Август следил за тем, чтобы соблюдались интересы и земледельцев, и торговцев; Веспасиан отказался от использования механизмов при строительстве Колизея, так как это могло бы привести к голоду среди простого народа Рима. Политика Рима была направлена на решение двух основных задач: первая состояла в том, чтобы обеспечить безопасность и могущество государственного аппарата и благополучно обойти все рифы внутренней и внешней политики; вторая представляла собой cura
[21]: император был «куратором» или опекуном всего римского общества или некоторой его части, он поддерживал его благополучие подобно тому, как опекун поддерживает дела своего подопечного, при этом ни во что не вмешиваясь.
6. Все вышесказанное касалось отношения к труду знатных людей и политиков: они презирали и жалели низший класс; однако мнения относительно необходимости трудовой деятельности и среди самых низших социальных слоев было различным.
В романе Петрония богатый вольноотпущенник Тримальхион сделал состояние на морской торговле, позже отошел от дел и как знатный человек жил за счет доходов от принадлежащих ему земель и от процентов с кредитов. Он не принадлежал к знати и не был человеком из народа, он гордился своим состоянием, которое нажил благодаря качествам, значимым для его социальной группы: старанию, ловкости, склонности к разумному риску. Он велел скульптору изобразить на заказанном заранее для себя надгробии пир, который он в качестве мецената устроил в своем селении и на который были приглашены все жители без исключения. Будучи много богаче других вольноотпущенников, Тримальхион хотел быть «известным» если уж не в высшем свете, то во всяком случае среди гражданского общества своего городка. Даже если знать его презирает, а бедняки за глаза поносят его на чем свет стоит, то, когда и те и другие соглашаются принять его приглашение, есть и пить за его счет, в данный конкретный день они проявляют к нему почтение и оказывают знаки уважения.
Другие люди, более многочисленные, безоговорочно верили в ценности, признанные в рамках той социальной группы, к которой они принадлежали: в активность, успех и профессиональную репутацию — не стремясь при этом к известности среди высшего света или к иллюзорному сиюминутному признанию толпы. Археологи находят надгробные камни, на которых скульптор изображает покойного в его лавке или в мастерской. Как и практически всё, что в Риме проходило по ведомству культуры, эти надгробия мастеровых были исполнены в греческом стиле; так, в Афинах уже в V веке ремесленников объединяло «классовое самосознание», отличавшее их ото всех прочих жителей города.
Некоторые факты могли бы вызвать сомнения в выдвинутом выше положении: помимо идеалов праздности и политической активности, характеризующих античное общество, существовали и более позитивные представления о труде, чему имеются документальные подтверждения. Так, в Помпеях владельцами богатых домов, украшенных картинами и мраморными статуями, были пекари, суконщики или гончары, заработавшие состояние собственным трудом. И тем не менее некоторые из них входили в состав муниципального совета. Один богатый земледелец в Африке в своей эпитафии, которую специально заказал поэту, в стихах описывает то, как он, благодаря своему труду, заработал себе состояние. Все эти богатые лавочники, ремесленники и состоятельные земледельцы (а эпитафии стоили дорого) охотно упоминали в надгробных текстах о своем ремесле; они уточняли, что покойный работал «старательно», был «известным менялой» или «знаменитым продавцом говядины и свинины». Следует заметить, что в те времена гончар или булочник занимал более высокое социальное положение, чем в наши дни (печь была серьезным вложением капитала). В «Сатириконе» Петрония одного юного эрудита быстро поставил на место купец–вольноотпущенник, который вывел жизненное кредо для себя и своих товарищей по ремеслу: «Я человек, живущий среди людей, я иду с гордо поднятой головой, я никому не должен ни гроша, меня никогда не вызывали в суд и никто никогда не говорил мне на форуме: „Верни мне то, что ты мне должен”; я смог купить клочок земли и сэкономить несколько денариев, я даю жить двум десяткам людей, не говоря Уже 6 собаке. Пойдем со мной на форум и спросим, одолжит ни кто–нибудь нам денег: ты сразу убедишься, что у меня нет долгов, несмотря на то что на пальце у меня железное кольцо простого вольноотпущенника». Поэтому на могильных камнях лавочников и ремесленников часто изображали интерьер их магазинов и мастерских, с выставленными на продажу товарами, богатый прилавок, перед которым красивая дама рассматривает отрез ткани, инструменты и механизмы, обычные для той или иной мастерской. Товары и инструменты были капиталом: их изображения на могильном камне служили свидетельством не столько принадлежности их обладателя к той или иной профессии, сколько его богатства. Скульптор, создавая изображение на могильной плите, не просто указывал профессию покойного в качестве маркера его социального статуса, он прославлял владельца лавки или мастерской. Зато никто не изображал покойного занятым обработкой земли.
Эстеты и снобы
Оставим в стороне обычных пахарей, которые составляли четыре пятых всего общества. В суровой борьбе за существование, в которой они проводили всю свою жизнь, их мораль, несомненно, сводилась к словам апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Это, одновременно, и напоминание для них самих, и предупреждение для лентяев, желающих получить даром свой кусок хлеба, который другие зарабатывают потом и кровью.
Обо всем этом множестве тружеников — земледельцах, рыбаках, пастухах — были ли они рабами или свободными людьми, нам известно совсем немного: только лишь то, как их воспринимало высшее общество. В глазах правящего класса они представляли собой живописное зрелище, как описывает их буколическая поэзия, которая ни с современной пасторалью, ни с эллинистической жанровой скульптурой не имела ничего общего — кроме, разве что, названия.
Современная пастораль наряжает сеньоров в костюмы благовоспитанных пастушков, тогда как античная буколика была насквозь пропитана рабством, так же как негритянская оперетта в Соединенных Штатах — расизмом белых: буколическая поэзия превращает рабов (слегка их идеализировав, отмыв и причесав) в поэтов и влюбленных, используя при этом их же язык и их шутки. Представляя жизнь негров или рабов, белые или господа видят наивный и трогательный мирок этих существ, настолько маленьких и незначительных, что все в их жизни становится простым и невинным, и господам остается только мечтать во сне о подобном идиллическом состоянии безмятежности и сексуальной незамысловатости, как о райской жизни…
Жанровая скульптура, украшавшая богатые дома и сады, представляла живописные картины с общепринятыми типажами: Старый Рыбак, Землепашец, Садовник, Пьяная Старуха… Фигуры изображались с брутальным веризмом и явными преувеличениями: вены и мышцы у Старого Рыбака настолько рельефны, а тело настолько иссушено, что все это вместе наводит на мысли об анатомическом театре; лицо его выражает такое отчаяние, что долгое время эта статуя считалась изображением умирающего Сенеки. Подобная живописность представляет собой нечто среднее между экспрессионизмом и карикатурой; старость и нищета здесь не более чем спектакль для безучастного эстетизма, наблюдающего за всем происходящим со стороны с присущим ему высокомерным презрением. Деформация тел должна вызывать улыбку, подобно тому, как на ярмарках смеются над карликами и Уродцами; этот веризм не более чем снисходительная усмешка, а вовсе не точность прорисовки образов. Сенека, будучи по натуре человеком щепетильным, считал, что жестокое обращение с рабами унижает человека. Однажды взглянув на Раба, охранявшего дверь в его дом, он нашел его настолько Малопривлекательным, что, повернувшись к управляющему, спросил: «Откуда взялось это дряхлое существо? Ты правильно сделал, поставив его у входа, ему не нужно будет далеко ходить, когда он отправится к своему последнему убежищу! Где ты откопал для меня этого живого мертвеца?» Раб, услышав разговор, обратился к философу со словами: «Разве ты не узнаешь меня, Господин? Я Фелицион, который развлекал тебя, когда ты был маленьким». Сенека одумался: он написал размышление о следах времени, которые наступающая старость уже оставила и на его собственной персоне, о сути и скоротечности бытия.
Принадлежать к высшему обществу, или, скорее, быть полноценным, а не ущербным, человеком, означало иметь достаточно средств, чтобы демонстрировать символы своего богатства, доказывающие полноправную принадлежность к человеческому роду. Кроме того, лично для каждого римлянина это заключалось в следующем: не подчиняться никому и иметь свое дело, поскольку общество, достойное уважения, состоит из людей, независимых друг от друга. Лучшим средством для того, чтобы соответствовать трем этим условиям, было наличие земельной собственности, а не ремесленной мастерской: землевладение обеспечивает независимость и власть.
Богатые и бедные: в слаборазвитой стране нам бы бросился в глаза контраст между роскошью и нищетой; Аквитания, замечает Аммиан Марцеллин, представляет собой вполне процветающую провинцию, простые люди там не ходят в лохмотьях, как в других регионах. Бедные могли покупать одежду у старьевщика, роскошь начиналась с новой одежды.
СОБСТВЕННОСТЬ
Хвала обогащению
В обществе все люди равны, однако те, у кого есть собственность, более равны, чем другие. Эта самая собственность в античной экономике играла такую же огромную роль, какую у нас играют фирмы или компании. Однако для того, чтобы лучше в этом разобраться, нужно отказаться от представлений, которые больше подошли бы для нашего Старого порядка. В том, чтобы заниматься делами, в Риме не было ничего унизительного; ростовщичество и коммерция не являлись исключительным правом какого–либо класса или сословия, состоятельных горожан, вольноотпущенников или всадников. Знать и нобилитет не состояли сплошь из людей, владеющих земельной собственностью и проводящих дни в ничегонеделании; автаркия, этот философский миф, в действительности вовсе не была основной целью их деятельности, имения они использовали не только для поддержания своего статуса в обществе: они стремились приумножить свое состояние, зарабатывать деньги всеми возможными способами. И ключевые слова здесь — не автаркия, праздность или статус, а расчетливость и корысть знати; патрон, глава предприятия в те времена был «отцом фамилии», где слово «фамилия» означало Домашнее окружение и собственность. А движущей силой его Деятельности был прежде всего имущественный расчет.
Именно поэтому экономика относилась к сфере частной жизни, то есть дело обстояло не совсем так, как сейчас, когда мы с полным на то основанием можем рассуждать о капитализме обезличенном. У нас экономическими субъектами являются юридические лица — фирмы или компании, некие безликие машины по производству денег, а частные лица используют эти средства в своих интересах. У римлян же экономическими субъектами выступали сами частные лица, отцы фамилий. У нас фирма по импорту–экспорту продолжает существовать и тогда, когда прежние акционеры обменивают и перепродают свои ценные бумаги другим вновь прибывшим. У римлян имущество оставалось собственностью определенного хозяина, когда он, отказавшись от морской торговли, вкладывал свое состояние в землю. Из этого вовсе не следует, как мы убедимся позже, что интересы отца фамилии были направлены исключительно на обеспечение будущего своих домашних, а не на получение прибыли по типу капиталистического расчета: разница заключалась в другом.
«Будем экономными, — пишет Сенека Луцилию словами поговорки. — То, что получено в наследство, должно быть приумножено наследниками». Проматывать свое состояние означало уничтожать свой род и опускаться на дно общества: разорившаяся знать пополняла ряды недовольных, потенциальных заговорщиков, сообщников Катилины; и наоборот, сын парвеню, разбогатевшего вольноотпущенника, мог вступить в сословие всадников и рассчитывать на то, что его будущий сын станет сенатором. Приобретенные добродетели претворялись в окружающую знатного человека общую ауру благородства; если отпрыск знатного рода, входящего в избранное высшее общество, не совсем никчемный человек, пишет Цицерон, он непременно займется политической карьерой или по крайней мере приумножит состояние своей фамилии. Обучение принципам соблюдения интересов семьи — важная, часто недооцененная часть римского воспитания. В 221 году до н. э. Римский народ слушал поминальную речь очень важного сенатора по имени Цецилий Метелл; одним из достоинств покойного было названо умение «зарабатывать много денег честными способами». Конечно же, не было ничего позорного в том, чтобы быть «бедным», и вполне очевидно, что большинство граждан именно в этом состоянии и обреталось; встречались и такие люди, которые, подобно Горацию, даже находили в бедности мудрость.
Беда в том, что смысл слова «бедность» различен во французском и латинском языках: во французском это понятие относится ко всему обществу, в котором бедные составляют большинство, тогда как богатые — лишь небольшую горстку; в латинском же это большинство не принималось в расчет вовсе, и смысл слова относится к меньшинству, которое мы бы назвали богатыми: бедными считались люди, которые были богаты, но не слишком. Гораций сделал из бедности добродетель и мог этим утешаться в случае крушения своих надежд: бедность была для него спасательной шлюпкой. Эта шлюпка состояла из двух имений, одного в Тиволи и другого в Сабине, где один только хозяйский дом занимал площадь в десять соток. Бедность обреталась далеко за горизонтами христианского понимания и современного смысла этого слова.
Заниматься увеличением состояния или, во всяком случае, управлением имуществом и ведением дел — противоречило ли это понятию свободного времени? Вовсе нет. Как мы могли убедиться, коммерческий расчет существовал вне всякой связи с личностью знатной особы (подобно тому как для нас поэт Поль Элюар, который жил за счет перепродажи недвижимости в Сен—Дени, остается поэтом, а не агентом по недвижимости). Управление земельной собственностью предполагало, что хозяин должен следить за обработкой земли в своих имениях, контролировать управляющего или раба–интенданта, продавать продукцию по выгодной цене; кроме того, нужно было Давать деньги в долг под проценты, чтобы они продолжали Работать на прибыль. Однако все это напрямую вытекало из права владения землей и было лишь исполнением необходимых, приличествующих порядочному человеку обязанностей. Оставалась еще масса возможностей «заработать много денег» другими способами, честными или не очень, с соблюдением или нарушением гражданских прав и с использованием должностей и чинов: жениться на приданом, получить наследство или имущество по завещанию, обкрадывать своих подчиненных или «пилить» государственные средства.
Класс вне классификации
Работали только люди, более ни на что не годные, люди же благородные исполняли функции руководства, называемого сига или epimeleia, что можно было бы перевести как «правительство» в том значении этого слова, которое имеет в виду Оливер де Серр, говоря о внутреннем управлении земельной собственностью. Это был единственный род деятельности, до стойный свободного человека, поскольку фактически являлся прямым воплощением руководящих функций. Речь идет и об управлении имением со стороны отца фамилии, и о государ ственной миссии, порученной уполномоченному лицу, и даже об имперском правительстве, во всяком случае мыслители часто называли императора государем–патриархом. Совершенно не важно, что Сципион Африканский не только управлял своими землями, но и, как запоздавший Цинциннат, собственноручно на земле работал: значение имеет лишь то, что при этом он оставался хозяином. В подобной ситуации быть «тружеником», то есть человеком деятельным и энергичным, считалось даже почетным. Когда Вергилий пишет, что трудом можно всего до биться, он вовсе не считает труд всеобщим законом жизни, он говорит лишь о том, что усердие и рвение способны преодолеть все преграды. Жить не ленясь было добродетелью, рожденной из естественной необходимости: никогда ничем не заниматься, говорит Плутарх, пренебрегать друзьями и не состоять на государственной службе — означает вести жизнь устрицы. Высокопоставленный чиновник должен быть человеком энергичным, чтобы все свое время, с утра до вечера, строчку за строчкой выверять счета фиска. Не дать себе заржаветь — вот правило Катона, человека действительно великого.
Невозможно, пользуясь терминами современными или относящимися к Средневековью, дать адекватное определение классу, о котором мы говорим: за неимением лучшего, его можно было бы назвать нобилитетом, дворянством, средним классом (middle class) или джентри (gentry). Эти люди гордились собой, как современные аристократы, были универсальными дельцами, как буржуа, вели себя, как рантье, получающие доход от владения землей, совсем как наши дворяне: кроме того, они работали, но при этом считали себя праздными. И еще. В римском мире не существовало привычной для нас параллели между социальным классом и экономической деятельностью: римской буржуазии как таковой не было, поскольку люди, владеющие землей, кроме прочего занимались еще и видами деятельности куда более буржуазными по характеру: правда, хвастаться такого рода предприятиями было не слишком принято. Если мы начнем искать в Риме класс торговцев, фабрикантов, спекулянтов, ростовщиков или крупных фермеров, то найдем его повсюду: среди вольноотпущенников, всадников, даже в среде городской знати и сената. Чтобы понять, был ли Катон Старший замешан в морских торговых операциях или же представители этого весьма известного и знатного городского рода занимались торговлей исключительно до Дунайской границы, ответ нужно искать не в социальной принадлежности конкретного человека, а в его индивидуальных пристрастиях — ив географии, поскольку личностная и региональная неоднородность этой социальной группы была огромной. Сенатор Катон, например, «вкладывал капитал в дела солидные и надежные: он приобретал пруды, богатые рыбой, термальные источники, земли, на которых он строил сукновальни и смоловарни, или же скупал природные луговые и лесные угодья. Занимался он и кредитованием морской торговли, наименее достойным из всех видов ростовщичества: дело состояло в организации компании из пяти десятков членов и последующем изъятии части капитала через посредничество своего вольноотпущенника Квинтиона». К подобным личным пристрастиям следует добавить местные особенности: так, например, некоторые поселения на юге Италии, подобно современным крошечным городкам в Венгрии, были полностью крестьянскими и существовали довольно закрыто, сами по себе, тогда как в двадцати километрах от них стояли такие города, как Аквила, этакая античная Венеция или Генуя, где местная знать занималась морской торговлей, поддерживая торговые связи с самыми дальними уголками тогдашнего мира.
Помимо владения землей, капиталовложений и семейного бизнеса, эти жадные до денег люди, особенно самые богатые из них или же просто жулики, при случае вполне могли проворачивать и другие операции: когда знатный римлянин узнавал от друзей о каком–либо выгодном дельце, сулящем прибыль, он в него ввязывался — даже если приходилось импровизировать, поскольку никогда раньше он подобными аферами еще не занимался. Он не упускал удачной возможности немного подзаработать, о которой узнавал из агентурных данных или, скорее, обмениваясь информацией с одним из своих вольноотпущенников. Отсутствие общего рынка, недостаток информации, имевшая большое значение политическая поддержка — все это увеличивало количество подобных афер: в среде представителей класса богатых и власть имущих существовал в своем роде заговор спекулянтов, позволявший получать конфиденциальные сведения и оказывать на все происходящее вокруг серьезное влияние; и влияние это было значительно сильнее, чем законы рынка. Патримониальная экономика была не вполне патриархальной, и уж тем более не либеральной.
Род деятельности, несомненно, зависел от богатства, однако, не являясь специализацией какого–то конкретного социального класса, он мог меняться в зависимости от личных пристрастий, наличия связей и удобного момента. В конечном итоге, что было для римлянина состоянием? Есть две гипотезы. Вот первая. Предположим, Ювенал сатирически описывает одного волопаса, а юный Вергилий смеется над погонщиком мулов: из этого вовсе не следует, что первый персонаж собственноручно пасет быков, а второй за уздечку тащит за собой мулов; текст свидетельствует о том, что один из них руководит компанией по транспортировке грузов — на мулах — через топкую долину По, а второй владеет огромными стадами крупного рогатого скота. Точно так же и барон де Шарлю, выражая свое презрение к американской буржуазии, говорит о миссис Зингер как о женщине, которая собственноручно производит швейные машинки. Если вышеупомянутый волопас имел бы только одного или двух быков, в тексте о нем и вовсе не стали бы упоминать, пусть даже и для того только, чтобы над ним посмеяться.
Предприниматели
Вторая гипотеза: текст описывает римлянина, указывая только его имя, а не его профессию. Что в таком случае составляло его состояние и откуда оно у него взялось? Откуда угодно, потому что патримониальная экономика не строилась исключительно на профессиональной основе, скорее, она представляла собой сеть, составленную из вольноотпущенников и рабов богатого «отца фамилии», который предоставил им экономическую свободу и юридическую самостоятельность — с тем чтобы они могли вести дела как свободные люди, но от его имени. Все вместе они составляли группу аферистов, проводящих все свое время в поисках возможностей увеличить состояние господина: таковыми в те
времена и были настоящие деловые люди. Добавим к этому образ еще одного бальзаковского героя: управляющий, свободный или, чаще всего, раб, который руководит работами на землях своего господина, продает урожай или даже полностью ведет все его дела. Римская экономика держалась именно на таких людях.
Часто римский гражданин, рожденный свободным, сам себя продавал в рабство ради карьеры управляющего: ему многое доверяли. Финансовые расчеты в те времена отличались от наших; управляющий не должен был предоставлять регулярные отчеты через определенные промежутки времени: управляющий и господин вели расчеты постоянно, из года в год. Делом управляющего было вести честный учет доходов и расходов, чтобы в случае чего представить его господину. А таким случаем могла быть смерть хозяина и наследование его имущества, уход на пенсию раба, сделка по продаже или же просто хозяйский гнев. Горе управляющему, если он не сможет в этот день представить господину сумму, которая должна была остаться после подсчета всех доходов и расходов! Если же, наоборот, управляющий способен был уравнять финансовый баланс (pariari), он удостаивался гордого имени pariator, которым впоследствии мог украсить свою эпитафию. Со своими арендаторами хозяин также вел расчеты из года в год; перед смертью или продажей имущества нужно было подсчитать оставшуюся задолженность (reliqua colonorum). Не то чтобы арендаторы постоянно были в долгах: это не те счета, которые нужно было держать в полном порядке каждый день. Такой способ расчетов, несомненно, поддерживал представления о клиентских связях, поскольку молчаливо предполагалось, что должник, желающий отдать свой долг, перестает быть верным господину, поскольку стремится расстаться со своим благодетелем.
Нобилитет участвовал во всей экономической жизни. Знатный человек мог руководить сельскохозяйственным или торговым предприятием (некоторые не стеснялись при случае превратить свой дом в лавку и выставить перед глазами покупателя только что полученные товары). В качестве хозяина он мог стать пайщиком предприятия, организованного собственным же его управляющим, мог принять участие в торгово–коммерческой компании или в откупе государственных налогов. Наконец, он мог и на более скромном уровне крутиться сам; у врача Галена среди прочих пациентов был человек, который не слишком заботился о впечатлении, которое производит на культурных людей, а вместо этого целыми днями бегал по улицам по своим делам: «он покупал, продавал, ругался настолько рьяно, что чересчур обильно потел».
Предприимчивость знати
Таково было устройство римского общества, экономические и социальные институты которого настолько отличались от наших, что мы назвали бы их архаичными. И тем не менее уровень производства был достаточно высоким, а экономика — динамичной и жесткой, как при капитализме, поскольку аристократы, отличавшиеся своей культурой и здравым смыслом, обладали еще и страстью к наживе. Даже самые знатные почтенные люди не стеснялись говорить о материях сугубо деловых: сенатор Плиний в своих письмах, которые должны были служить назиданием для читателей, ставит себя в пример как богатого собственника, умеющего вести дела. Если какой- либо знатный человек хотел избавиться от старой мебели или оставшихся строительных материалов, он устраивал открытый аукцион по их продаже (продажа подержанных вещей с аукциона была обычной практикой, и даже императоры устраивали в своих дворцах аукционы, когда хотели избавиться, например, от слишком громоздких предметов обстановки): Деньги должны были работать постоянно. Выгоду искали во всем: займы под проценты были вполне привычным делом среди друзей и родственников (если человек этим не занимался, это считалось его заслугой); зять мог выставить проценты своему тестю, если тот задержал выплату заранее оговоренного приданого. Ростовщичество было частью обыденной жизни римлян, и наши антисемиты со своими бесконечными рассуждениями на эту тему, вместо того чтобы во всем обвинять евреев, могли бы ссылаться на античный Рим с неменьшим на то основанием: в Риме выдача процентных займов не являлась особым родом профессиональной деятельности, так же как и не была привилегией какого–либо отдельного социального класса. Любое усилие должно было оплачиваться, даже если это не труд, а удовольствие. Вот лишь один из ярких примеров хороших манер, принятых в приличном обществе: в высшем свете любовные связи оплачивались, то есть любовник должен был платить своей возлюбленной; если матрона изменяла своему мужу, она получала от кавалера приличную сумму, если только он не назначал ей ежегодного содержания. Некоторые наглецы в случае разрыва отношений осмеливались требовать обратно свои капиталовложения, и тогда в дело приходилось вмешиваться юристам. И подобная практика не имела ничего общего с проституцией — речь шла всего лишь об оплачиваемых услугах. Матрона отдавалась своему ухажеру не ради денег, она просто получала вознаграждение за то, что отдавалась ему, и любовь вознаграждалась тем более щедро, чем больше в ней было самой искренней страсти. То есть женщины охотились за оплачиваемым адюльтером так же, как мужчины — за приданым.
Эта всеобщая предприимчивость стирала грани не только между социальными классами и гражданскими «рангами», но и между экономическими категориями. Один и тот же человек, имея какое–либо постоянное занятие, мог время от времени проворачивать случайные сделки, становясь тем самым спекулянтом и оставаясь при этом профессионалом (с именем или без). Люди, которые обогащались, захватывая уже нажитые кем–то богатства, то есть способом вполне архаичным, с тем же успехом могли сколотить новое состояние очень современным путем, например через удачное вложение капиталов. Можно было обогатиться либо экономическими средствами, за счет производства и продажи, либо экстраэкономическими, законными или нет: получением наследства, приданого, бакшиша, насилием или кляузами; все эти средства основывались на законах спроса и предложения, так же как на политическом влиянии и пособничестве «высшего света». И поскольку нобилитет был основным землевладельцем, его предприимчивость приводила к тому, что с одной стороны мы видим необъятное бедное крестьянство, с другой — класс богатых горожан, разносторонняя деятельность которых создает у нас впечатление разнообразия и блеска античной жизни. В те времена медицина была очень дорогой: пациентами Галена становились только представители знати, настоящие мужчины, которые жили в городах, присматривали за своими управляющими, работали в поте лица, проворачивая дела, имели несколько профессий, как и сам Гален, а также принимали участие в государственном управлении в своем городе. Оставаясь дома, они читали и переписывали философские тексты той школы, к которой себя относили, а состарившись, отходили от дел и отправлялись в свои имения. К моменту их смерти оказывалось, что наследство состоит из трех основных частей: земли, обрабатываемой или застроенной, сельскохозяйственных орудий и домашней обстановки — и долговых обязательств (nomina debitorum). Что же касается банковских счетов, существовавших во времена Республики и ранней Империи, то в эпоху поздней Империи они не использовались.
Ростовщиками в то время были не банкиры, а городская знать и сенаторы. Настоящий отец семейства имел при себе сундучок, называемый kalendarium, в котором он хранил записи о сроках платежей, долговые расписки и деньги, предназначенные для займов под процент и ожидавшие в сундучке своего дебитора: «отложить некоторую сумму для сдачи в заем» называлось «внести в kalendarium». Каждый имел на этот счет свою стратегию: одолжить ли маленькую или большую часть состояния, раздать многим понемногу или большие доли нескольким крупным заемщикам. Долговые обязательства легко переходили из рук в руки либо путем прямого предоставления займа, либо, еще проще, путем обычной продажи. Это был инструмент для избавления от долга и предмет спекуляции. В своем роде мы здесь имеем дело с одним из видов безналичных расчетов. Можно было завещать и сам kalendarium, таким образом оставив наследникам и кредиторские права, и капитал, предназначенный для займов.
Другие способы обогащения
Ростовщичество считалось одним из средств обогащения городской знати наряду с сельскохозяйственным производством, получением приданого и наследства. Оказание всяческих любезностей престарелому богачу в ожидании того, что он упомянет тебя в своем завещании, в те времена было вполне обычной манерой поведения, которое можно сравнить с тем, как у нас с почтительной услужливостью относятся к начальнику или другому вышестоящему лицу. И хотя все над этим посмеиваются, поступают все именно так. Мы уже знаем, что приличия требовали от завещателя разделить свое имущество на множество частей, чтобы оказать уважение всем своим друзьям, вознаградить всех верных ему людей. Это правило позволяло ему создать для себя круг приближенных, без которого ни один настоящий римлянин не мог считаться хоть сколь–нибудь важной персоной.
Мужчине и женщине, говорит Тацит, выгодно вообще не иметь детей: в этом случае их окружает самое большое количество услужливых людей. Демографы говорят о том, что при нашем Старом порядке среднестатистическая французская семья имела четверых или пятерых детей, лишь двое из которых достигали двадцатилетнего возраста. В римской семье чаще всего было не более троих детей, поэтому легко предположить, что старики, пережившие всех своих сыновей и дочерей, вовсе не были редкостью: люди умирали часто. Кроме того, и законы, и обычаи в Риме поддерживали практически полную свободу завещания. Таким образом, при жизни каждого поколения на кон ставилась значительная часть государственного имущества: кому же она доставалась? Римляне ловко жонглировали законом и к вопросу подходили со знанием дела. Разведенная мать семейства составила свое завещание в пользу сына, однако, зная, что ее бывший муж — человек довольно хитрый и ненадежный, она оговорила особые условия исполнения завещания, а именно: сын должен получить наследство только при условии, что к этому моменту он уже не будет находиться в отцовской власти (поскольку в противном случае наследством сына распоряжался бы его отец). Иными словами, сын должен был получить наследство только после смерти отца. Увы! Отец был жив и сделал ответный ход: он освободил своего сына, предоставив ему юридическую свободу. Приобрел ли он что- нибудь кроме доброго имени? История на этом не заканчивается. Отец начал оказывать знаки внимания собственному сыну, засыпать его игрушками, дарить домашних животных, короче говоря, начал охоту за наследством сына и весьма в этом преуспел: обласканный сын после смерти оставил ему замечательное наследство.
Общественное мнение не осуждало подобного образа Действий, приносившего весьма ощутимую выгоду: оно ограничивалось лишь обсуждением нюансов. «Будучи окружен охотниками за наследством, Такой–то умер, оставив все своей Дочери и своей внучке; мнения людей на этот счет разделились: одни называли его лицемером, человеком неблагодарным, забывшим своих друзей; другие — напротив, восхищались тем, что старик обманул надежды корыстных людей». Это слова сказаны одним сенатором и, следовательно, представляют собой чистую правду.
В поисках богатства применялись и еще более жесткие методы. В римском мире не существовало полиции как таковой; солдаты императора (такие как центурион Корнелий, о котором упоминается в Евангелии) занимались подавлением мятежей и преследованием разбойников, но о повседневной безопасности, не имевшей такого уж важного значения для поддержания «имиджа», который Римское государство стремилось придать своей неограниченной власти, они заботились не слишком усердно. Местная знать иногда создавала в своих городках гражданскую милицию. Повседневная жизнь была похожа на жизнь американского Дикого Запада: никакой по лиции на улицах, никакой жандармерии в деревнях, никаких государственных обвинителей. Каждый сам заботился о своей безопасности и сам обеспечивал себе правосудие; в таком слу чае единственным средством защиты как для слабых, так и для не слишком сильных была протекция кого–либо из сильных мира сего. Но кто защитит слабого от сильного, и кто защитит сильных друг от друга? Секвестрация, узурпация, частные тюрьмы для должников в то время были самым обычным делом. Каждый городок жил в страхе перед собственными тиранами, местными и региональными, которые иногда были настолько могущественны, что могли осмелиться бросить вы зов даже такому важному лицу, как наместник провинции. Могущественный землевладелец, не колеблясь, попытается завладеть землей одного из своих бедных соседей, даже если для этого придется напасть на его «ранчо» силами своих под ручных — то есть, собственно, рабов. Что можно сделать про тив этого человека, который решил обогатиться за ваш счет? Шансы на правосудие зависят от доброй воли наместника провинции, как правило, очень занятого государственными заботами о власть имущих, которых нужно объединить в одну сеть узами дружбы и взаимной выгоды. Такое правосудие станет лишь эпизодом в войне кланов, способным оказать воздействие на соотношение сил.
К обычному насилию, простому и понятному, добавлялось насилие юридическое. Римляне были большими выдумщиками по части права; они действительно написали на эту тему много заметных трудов; их считают замечательными мастерами по части больших и малых хитростей в области гражданского права: юридические теория и практика представляли собой особую культуру, вид спорта и предмет национальной гордости. Это вовсе не означает, что в повседневной жизни царила законность: юридический формализм лишь добавлял сложности в общий хаос и даже предоставлял дополнительное оружие — судебные кляузы и доносы. В греческих регионах во времена Империи судебный шантаж и квазилегальные практики вымогательства носили старое название «сикофантство».
Предположим, что земель, принадлежащих одному важному человеку, страстно жаждет другой, столь же важный, и что эти земли расположены во владениях императорской семьи. У второго землевладельца будет возможность обвинить первого в оскорблении императора: как доносчик он получит часть земель первого после того, как того казнят. Теперь предположим, что вдали от императорского дворца один знатный человек разочарован тем, как он был отмечен в завещании некоего богатого старика. У него будет возможность заявить, что старик умер не своей смертью, что он, например, покончил жизнь самоубийством или же его отравили, в то время как его наследники пренебрегают своей обязанностью найти убийцу и отомстить ему за кровь своего благодетеля. И в первом, и во втором случае завещание будет признано недействительным и наследство отойдет в доход фиска за вычетом премии, полагающейся доносчику. То есть фиск был больше чем просто налоговой системой, он объединял владения, конфискованные императором под видом бесхозного или незаконного наследства. Фиск создал для себя собственное правосудие, где был сам себе судьей. Имея такое средство воздействия на сограждан, император очень быстро становился самым крупным собственником в своей Империи. Таким образом, фиск был очень заинтересован в существовании доносчиков, которые предоставляли ему возможность конфисковать очередное наследство. Было хорошо известно, что некоторые завещатели, желавшие лишить своих наследников причитающейся им доли наследства, вписывали в завещание самого императора: фиск находил возможность забрать все. Короче говоря, право становилось оружием в борьбе за имущество; мирное владение и передача собственности ничем не были гарантированы. Вот, например, молодой муж, который чрезвычайно рад полученному приданому: завистливые родители обвинят его в том, что он соблазнил их дочку, использовав для этого средства черной магии.
Были и другие, чисто экономические пути обогащения, которые, будучи взяты в сумме, приводят к мысли о мире совершенно беспорядочном, где все было возможно: предоставить органам государственной власти исключительные права на использование ресурсов, что, как правило, приводило к монополии; виться ужом во фрагментарном и хаотично устроенном экономическом пространстве; создать, к примеру, предприятие по перевозке грузов, в услугах которого будут нуждаться все и которое не было создано раньше либо из–за отсутствия средств, либо из–за отсутствия экономического интереса других предпринимателей… Подобный спектакль можно видеть сегодня в экономике стран третьего мира. Стоит ли удивляться тому, что многие представители знати становились во главе целого конгломерата разного рода предприятий и хозяйств, совершенно не связанных друг с другом, поскольку при каждом удобном случае господин принимался за новое выгодное дело: недвижимость, торговлю сукном, красильное дело, перевозку товаров по Рейну, земледелие, морские транспортировки по Эгейскому морю, поставку товаров в Афины из Египта и… преподавание риторики за приличный гонорар. Знатный римлянин тех времен не предстает перед нами в виде четко очерченного образа: сеньор, простой и понятный, как тишина полей и сельский труд; он был пестр и изменчив, как южноамериканский асьендеро; так же как и асьендеро, он существовал в обществе, где богатые люди, важные сеньоры, резко противопоставлялись массе бедных, и при этом имел манеры аристократа, которые совершенно не сочетались со свойственными ему способами обогащения.
Земля
Вся эта весьма разнообразная деятельность была направлена на набивание сундуков и служила источником для капиталовложений в земельную собственность, которая состояла из полей и участков земли, иногда разбросанных по разным провинциям и расположенных далеко друг от друга. У отца семейства была специальная счетная книга (rationes, libellus), куда были вписаны все его землевладения и счета: она помогала господину управлять своим имуществом. Были ли бани частью его дома или же они представляли собой отдельное предприятие? Во всяком случае, арендная плата за бани записывалась в гроссбух отдельно от общих счетов за дом. Кто платил налоги, собственник или арендаторы? Каков был «закон» или «обычай», которыми в этом вопросе руководствовался собственник? Счетная книга позволит это понять. Таким же образом можно установить, являлись ли арендаторы фермерами, которые могли сами продавать продукты своего труда, или же они были просто испольщиками и должны были отдавать землевладельцу определенную часть произведенной продукции, и в этом случае занимался ли продажей сам отец семейства или же поручал это дело своему управляющему.
Владение землей предоставляло более широкое поле деятельности, чем просто земледелие. Часть земли могла обрабатываться, а на некоторых участках строились жилые здания и другие сооружения, которые впоследствии сдавались в аренду, целиком или отдельными квартирами, что тоже служило капиталом. Владение землей позволяло развивать самые различные предприятия, а знатный человек вполне мог владеть не только сельскохозяйственными землями, но и другим значительным состоянием: городскими домами. Владельцы могли строить на своих землях порты, кабаки, дома терпимости, «амбары» (представляющие собой склады, сдаваемые в аренду, куда сваливали на хранение товары, а также оставляли ценные вещи и документы для защиты от пожаров). Некоторые землевладельцы ухитрялись снискать благорасположение императора (или «высшую милость») и построить на своей земле рынок, чтобы впоследствии брать мзду с каждой сделки; они разрабатывали шахты и карьеры, расположенные на их землях, — еще один род деятельности в дополнение к сельскому хозяйству; занимались они и промышленным производством: строили мастерские по производству кирпича и керамики, которыми управляли сами или сдавали в аренду, используя при этом рабочих, в межсезонье не занятых на полях. В Египте недавно был найден заключенный на два года договор между гончаром и землевладельцем, имеющим на своих землях гончарные печи; гончар должен был производить пятнадцать тысяч глиняных кувшинов в год, а землевладелец снабжать его глиной (как правило, именно владельцы поставляли каменщикам и ремесленникам необходимые для работы материалы).
И тем не менее все это разнообразие деятельности не должно вводить нас в заблуждение: с одной стороны, было сельское хозяйство, с другой — все остальное, зависящее от продуктов сельского хозяйства. Земледелие не было настолько производительным, как в современных развитых странах, а земля не была настолько эффективным средством производства, чтобы в этой отрасли хозяйства была занята лишь незначительная часть населения и опасность представлял скорее не недостаток сельскохозяйственной продукции, а ее переизбыток. Во времена Античности сельское хозяйство не производило достаточно продуктов, чтобы могла активно развиваться еще и промышленность; большая часть населения вынуждена была работать на земле, чтобы обеспечить выживание себе и тем, кто на полях не работает. Именно это обстоятельство и определяло стратегию каждого собственника.
Крестьянин, сам обрабатывающий землю, мог прокормить еще двоих–троих человек, не больше, а именно членов своей семьи и своего землевладельца. Этого было явно недостаточно, чтобы содержать крупные массы рабочих, но вполне хватало, чтобы богатые могли превращать излишки доходов в роскошные монументальные сооружения, служившие отличительным знаком их класса в эпоху, которая длилась вплоть до индустриальной революции. Но богатые могли осуществлять эту перекачку ресурсов из одной формы в другую, лишь продавая плоды сельского хозяйства, если на них был соответствующий спрос: нужно было обменивать пшеницу на колонны и статуи. Если бы Римская империя, какой некоторые ее себе представляют, существовала без этого повального товарообмена продовольствия на все остальное, то туристам и археологам не досталось бы от нее в наследство такого количества руин, которые можно осматривать и раскапывать. Сельское хозяйство не противопоставлялось коммерции — это были понятия, по сути, синонимические.
Земля была одновременно и гарантией сохранности богатства, и средством для выживания, и источником товарообмена. Одна из стратегий богачей заключалась в спекуляции жизненно важными продуктами; их амбары могли быть полны зерна, но они дожидались неурожая и последующего взлета цен, чтобы продать хлеб втридорога: «Отказываясь продавать плоды земли по своей цене, — пишет юрист Ульпиан, — они дожидаются голодного года, чтобы поднять цену». Другой их стратегией была региональная специализация. Археологи уже доказали, что некоторые регионы римского мира (такие, например, как тунисская Сахель, в то время хорошо орошаемая и плодородная) производили только один или два продукта сельского хозяйства, составлявших основное богатство Средиземноморья и предназначенных на экспорт, — хлеб, вино или масло: то есть здесь мы видим межрегиональное разделение труда и рыночную ориентированность сельского хозяйства. Даже если в торговле наступал спад или она прерывалась вовсе, землевладение оставалось и хозяйство замыкалось на самом себе, ограничиваясь обеспечением собственных потребностей. Землевладелец никогда не использовал все свои земли под пшеницу или виноградники, культуры дорогие и пригодные для спекуляций; некоторая часть имения была занята лесом, который почти ничего не стоил, но при этом служил сберегательной кассой. В одной пословице, чтобы сказать о дураке, который делает все наоборот, его сравнивают с должником, продающим свои леса, вместо того чтобы продать виноградники. В конечном итоге важно было владеть землей, которая никогда не обесценится, — совсем не обязательно распахивать ее всю. Было ли необходимо тратить время на то, чтобы управлять рабами, батраками или фермерами, насколько серьезно этим занимались? Катон, по словам Плутарха, в конце концов начал относиться к сельскому хозяйству скорее как к развлечению, чем как к источнику доходов; развлекался он или нет, но, во всяком случае, он предпочитал владения продуктивные сами по себе и не требующие специальной обработки, поскольку были и такие: «богатые рыбой пруды, термальные источники, суконные производства, природные пастбища, леса». Он «получал доходы, не подверженные риску ни в хорошие, ни в плохие времена».
Куда вкладывать капитал
Как бы ни было организовано управление имуществом, главное, чтобы управлял им «хороший хозяин», и выражение это имеет куда менее патриархальный характер, чем может показаться на первый взгляд: современное коммерческое право и сейчас его применяет, говоря о разумном управлении акционерными компаниями. Отец фамилии должен быть «усердным и честным», — говорят римские юристы, приводя в пример Цицерона и Сенеку, которые ставят человеку в заслугу его стремление приумножить свое имущество. У римлян было свое понимание того, как именно должно выглядеть это «усердие», характеризующее хорошего хозяина: чтобы быть достойным отцом фамилии, недостаточно управлять своим имуществом как боги на душу положат, с единственной целью — передать его наследникам в целости и сохранности. Римляне советовали вкладывать капитал со всей возможной рассудительностью, предварительно подсчитав ожидаемую прибыль и сопоставив ее с необходимыми капиталовложениями.
В последней книге «Дигест» римский юрист Юлий Павел совершенно определенно разграничивает расходы «необходимые, то есть не позволяющие имуществу прийти в упадок и потерять в цене», расходы для «удовольствия», куда попадают такие статьи, как сады, картины, мраморная облицовка, — и расходы полезные, те, что мы называем инвестициями, которые «должны улучшать имущество для получения больших доходов без ущерба основному капиталу», а именно: «можно посадить еще больше винограда, если даже в этом и нет особой необходимости для поддержания виноградника в порядке» или же пополнить имущество складами, мельницей, пекарней, наконец, «обучить своих рабов ремеслу». Павел повторяет, что размер инвестиций не должен в конечном итоге уменьшать чистый доход всего владения. Для юристов, которые часто решали такого рода вопросы, необходимо была знать, у кого и когда есть право на инвестиции. По совести говоря, это право имел лишь сам владелец: опекун должен был только сохранить имущество своего подопечного, тогда как цель достойного отца фамилии была противоположной — он стремился приумножить свое состояние.
От попечителя не требовалось особого усердия: он не должен был принимать решений относительно капиталовложений и рисковать собственностью своего подопечного; не должен был и делать подарков от имени своего подопечного, даже с целью завоевать среди сограждан для ребенка хорошую репутацию еще до того, как тот войдет в возраст. Напротив, основная обязанность попечителя, управляющего чужим имуществом, состояла в том, чтобы вовремя продать часть собственности, которая и так могла пропасть (меблированный дом, подверженный риску пожара; рабов, которые могли умереть), а на вырученные деньги купить недвижимость или золото, всегда сохраняющие свою ценность, чтобы впоследствии отдать их в заем под надежный процент — поскольку копить деньги, слепо следуя букве закона и не проявляя при этом никакого усердия, имело смысл далеко не всегда. Отец фамилии не мог вести себя так безразлично по отношению к своей собственности. Не было ничего хуже, чем уподобиться в управлении имуществом попечителю, сохранявшему собственность для потомков, которые и станут настоящими владельцами, оставаясь при этом всего лишь временным пользователем семейного имущества, которое в некой отдаленной перспективе должно послужить основой будущего резкого роста благосостояния династии.
Более того, простой пользователь состояния, согласно римскому праву, мог делать инвестиции, «улучшать имущество», то есть заниматься тем, что для отца фамилии считалось бы заслугой; муж, распоряжающийся состоянием, полученным в качестве приданого его жены, мог делать то же самое. В XXIII книге «Дигест» юрист Яволен рассказывает историю о человеке, который начал разработку карьера по добыче мрамора на землях, полученных за женой в качестве приданого; он развелся, и жена получила свое приданое обратно, как это было положено по закону: не должна ли она возместить своему бывшему супругу издержки по обустройству карьера, благодаря которому ее земля выросла в цене? Мыслители старой школы рассудили, что нет, не должна, поскольку эти расходы не были «необходимыми» и муж вовсе не собирался «улучшать» ее собственность, а, наоборот, лишил ее части мрамора, скрытого под землей в ее владениях. Однако Яволен возразил, что «полезные» расходы допустимы, даже если они касаются имущества, полученного в качестве приданого; а при условии что в этом карьере мрамор был еще не «мертвый», а и сейчас «продолжает расти», муж не сделал ничего плохого, он просто собрал урожай с этого карьера (убежденность в том, что мрамор или золото растут под землей, подобно траве или деревьям, можно найти у всех народов, и именно эта убежденность служила основой римского права, касающегося карьеров и шахт).
Представления римлян о том, как должен поступать истинный отец фамилии, умеющий разумно управлять своим имуществом, между строк читаются в правах, предоставленных простому землепользователю. В отличие от отца фамилии, землепользователь, конечно, не мог себе позволить изменить назначение землевладения или его частей; не мог он, например, заменить декоративные сады посадками сельскохозяйственных культур. Несмотря на эту оговорку, он тем не менее имел право (пишет Ульпиан в VII книге) «улучшать качество собственности» — к примеру, разрабатывая карьер по добыче камня, песка или мела (мел служил для того, чтобы наводить блеск на металлические предметы и крахмалить одежду), золотые или серебряные копи, серные или железные шахты, «которые отец фамилии мог бы открыть или уже открыл». При этом оговаривались определенные условия: он не должен был наносить вреда владениям соседей; карьеры и шахты должны были приносить больше'доходов, чем выкорчеванные для их обустройства виноградники или оливковые рощи; землепользователь не имел права истощать запасы недр настолько, чтобы оставить после себя бесплодную пустыню; наконец, капиталовложения не должны были оказаться разорительными для оставшейся части землевладения, поскольку на обустройство карьера требовалась дополнительная рабочая сила. Короче говоря, общий доход от имения не должен был уменьшиться.
Менталитет дельца
Эти тексты весьма симптоматичны: когда их читаешь, часто обращаешь внимание на тщетные попытки противопоставить капиталистическую рациональность, направленную на получение максимальной прибыли, рациональности родовой, которая ограничивалась необходимостью сохранить полученное от предков богатство и, если уж нельзя было его увеличить, хотя бы в целости передать наследникам. Римляне, стремясь передать наследникам имущество, по возможности приумноженное, думали прежде всего о себе, а не о своих потомках. Говорить, что единственная стратегия капиталистической фирмы — расширение, означало бы свести всю политику к искусству присоединения новых провинций. На самом деле политика современных предприятий так же сложна, как и политика государств, и настолько же разнообразна, насколько внешняя политика Швеции отличается от внешней политики большой империи. Откажемся и от академической риторики, подчеркнув, что римляне были народом сугубо сельским. Нобилитет состоял из предпринимателей, целью которых было обогащение: их единственным — в конечном счете — желанием было накопление земельных угодий, так же как единственное желание скупца сводится к сбережению имеющихся у него золотых. Капиталовложениями, займами и спекуляциями они занимались именно ради этого. Их страсть к наживе — своеобразная национальная черта, которая выделяет их среди остальных народов. К экономической структуре и классовым интересам, которые в общем друг другу соответствуют, может добавляться динамизм, очень изменчивый от народа к народу, подобно тому, как есть нации более работящие, более артистичные или более воинственные, чем другие, факт остается фактом, и этот различный «менталитет» не формируется и не развивается по чьей–либо воле: экономистам, которые пытались развивать экономики тех или иных стран третьего мира, пришлось с сожалением констатировать, что для этого никак не достаточно только манипулировать переменными эконометрики и создавать для того или иного класса возможность участия в распределении прибыли, с тем чтобы у его представителей появилась реальная материальная заинтересованность; существует «менталитет», который просто так не формируется и как, собственно, он формируется, до сей поры никто не знает. Недавний урок, преподанный экономистам Джоном Гэлбрейтом, стоило бы усвоить и историкам. Подчеркнем, что римский «менталитет» был экономически весьма динамичным и, чтобы представить, каким должен быть «хороший хозяин» и «отец семейства», нужно отталкиваться не столько от экономического устройства и очевидных интересов имущего класса, сколько от этой автономной переменной, называемой менталитетом: у богатого римлянина была душа дельца, и он хорошо знал, как и где заработать. Это его качество, несомненно, должно было способствовать поднятию уровня производства; что же касается распределения — это уже совсем другая проблема.
В заключение стоит отметить еще одну неожиданную черту, подтверждающую предпринимательский талант римлян: подобно евреям, грекам и (со времен незапамятных и по наши Дни) китайцам, римляне — народ, состоявший исключительно из начальников, землепашцев и солдат, — был народом диаспоры. В течение двух веков, начиная со II века до н. э., или даже с еще более раннего времени, они распространились по всему греческому Востоку, в Африке и до границ с варварами — в качестве купцов и банкиров, в качестве плантаторов. Пользуясь политическим влиянием, они получали лучшие земли в Африке или в нынешней центральной Турции, они выкачивали прибыль из торговой деятельности греческих городов. Сам Рим давал приют греческим интеллектуалам, которым римские интеллектуалы явно завидовали; в то же время в Митилене или в Смирне было полным–полно итальянских аферистов, которых греки имели весьма веские причины ненавидеть.
ЦЕНЗУРА И УТОПИЯ
Видимые проявления статуса
Вот собирательный образ некоего частного лица: мужчина, свободный и рожденный свободным, с хорошим состоянием, которое не было недавно нажито, предприниматель, воспитанный и даже культурный, человек праздный, но при государственной должности. Как и различные детали его одежды, каждая из этих черт досталась ему в наследство от греко–римского исторического прошлого. Этот идеал не нуждался в доказательствах: он был очевиден.
Надгробья как произведения искусства отражают именно этот властный образ, поскольку изображения на могильных камнях гораздо реже посвящались загробной жизни покойного, чем рассказывали, кем и каким он был на земле, и говорили они об этом на языке, понятном каждому. На разных могилах по прихоти резчика и согласно предпочтениям покупателя та или иная деталь выходила на первый план: достаток покойного, который производил расчеты, принимал знаки уважения от своих арендаторов, убирал хлеб механической жаткой — недавно изобретенным чудом техники — или проводил время в своей лавке. Жившая в роскоши женщина изображалась сидящей в кресле с высокой спинкой и прихорашивающейся перед зеркалом, которое держала перед ней ее служанка? женщина доставала украшения из шкатулки, которую протягивала ей другая рабыня. Часто изображения были символическими: каменный зонтик рядом с могилой указывал прохожим, что покойная была достаточно богата, чтобы иметь рабыню, которая держала зонтик над головой своей госпожи, и достаточно свободного времени для прогулок. Иногда покойная изображалась перед совершением туалета, поднявшей руку в почтительном жесте, направленном в сторону статуэтки Венеры (символа брака), которую из специальной ниши, где хранились изображения богов–покровителей дома (lararium), ей подносила служанка. На саркофагах сенаторов тесно соседствовали общественная жизнь и жизнь частная: в центре можно было видеть, как сенатор подает руку своей супруге; по бокам крышки саркофага он мог быть изображен на низком походном стуле, принимающим капитуляцию от предводителя побежденных варваров (или варваров, которые могли быть побеждены во время исполнения им его служебных обязанностей). Другие могильные барельефы изображают раздачу монет на улице или бои гладиаторов, которые покойный устраивал в подарок своим согражданам. Ранг сенаторской должности или должности в муниципальном управлении можно было определить по количеству прутьев в пучке, который несли «ликторы», его прислужники и палачи, сопровождавшие его повсюду в течение года, пока он занимал государственную должность. Поскольку в этом обществе уголовного права не существовало, важный чиновник по собственному разумению легко и просто осуществлял карательные меры.
Каждое изображение играло свою роль. С левой стороны могильного камня — наиболее важной — изображалось, как муж занимается своими профессиональными обязанностями: он осматривал больного, который совершенно обнаженный стоял перед доктором «по стойке смирно». С правой стороны жена демонстрировала свойственные ей женскую добродетель и благочестие: в сопровождении рабыни она шествовала к изображениям богов, чтобы поднятием руки с почтением поблагодарить божество за покровительство; раб поднимал табличку, на которой госпожа описывала, в чем именно проявлялось это покровительство, с тем чтобы прохожие прониклись осознанием могущества и благорасположенности божества. Некоторые надгробия восхваляли не столько богатство покойного, его праздность или его профессию, сколько качества более тонкие, такие как благочестие покойной и высокую культуру покойного. Дама изображалась в момент подношения богам нескольких зернышек ладана, которые она кладет в курильницу для благовоний, господин — с книгой, то есть свитком, в руках, который он читал или держал свернутым, выказывая тем самым хорошее образование, достойное члена приличного общества.
Образы не совсем шаблонные, но и не слишком индивидуализированные; оригинальность, благородство, ликование, изящество и милосердие — слова малоприменимые к римлянам. Искусство надгробных памятников подчеркивает это со всей очевидностью: на самом деле их общество не было только неравноправным и основанным на неравенстве, поскольку четко различало «сословия» (в том самом смысле, который подразумевали в 1789 году); помимо этого, всякая мелочь, любая деталь в римском обществе беспрестанно напоминала о различиях между отдельными людьми. Бытовала, например, похвальная «привилегия» обращаться к простым людям оскорбительным тоном; «друзья» важных персон, включая Гракхов, двух известных социальных реформаторов времен старой Республики, были строго ранжированы по их статусу, точно куртизанки в Версале. Важный человек не выходил из дома без сопровождавшего его кортежа; если он посещал селение, которое присудило ему титул своего «патрона» за дарованные местным жителям блага, его ждал обязательный торжественный прием. «Вчера я приглашал на обед людей, рангом повыше, чем вы», — говорит Тримальхион своим гостям, и единственная его вина состоит в том, что он разговаривает с ними слишком заносчивым тоном, недопустимым для простого вольноотпущенника, каковым он является, и при этом еще и приглашает людей выше своего ранга. Простые люди были восприимчивы к «простодушию», которое власть имущие умели выказывать на публике. «Этот важный человек отвечал на все наши приветствия», — говорит один из них. Для них было абсолютно естественно обращаться к людям вышестоящим услужливо и смиренно. Повсюду были следы того, что Макмаллен называет «видимыми проявлениями статуса».
Индивидуализм права
К очевидным проявлениям статуса добавлялись требования менее категоричные, а именно моральные представления, которые то усиливали социальное давление, то слегка его смягчали (когда, например, подчиненные видели проявления добродетели и «мягкости», которые демонстрировал их господин); все судили каждого, чтобы напомнить ему о его личных и общественных обязанностях. «Тирания мнения (и какого мнения!) — это зверь, живущий не только в Соединенных Штатах, но и в маленьких французских городках», — писал индивидуалист Стендаль, размышляя об американском пуританизме своего времени. Было ли языческое осознание гражданского долга не столь инквизиторским в тогдашних повседневных практиках?
И тем не менее Рим как прародитель права должен был стать государством всевластия закона, где никого ни к чему нельзя было принудить, если только закон к тому не обязывал, и где место произвола должно было занять государственное правосудие. Кроме того, римское право можно назвать индивидуалистским: свободное право на развод имели оба пола; собственность могла свободно переходить из рук в руки; завещателю предоставлялась огромная свобода действий; никому не навязывалось никаких религиозных убеждений, каждый городок мог сам выбирать себе богов–покровителей, так же как и каждый отдельный человек; право мстить за нанесенное богам оскорбление светская власть оставляла самим богам. Долг уважения богам, которых город выбирал для особого почитания, зависел лишь от количества праздничных дней, выделенных для этого случая. Право менять жилье и род занятий было бесспорным. Добавим, что
забавная снисходительность к сексуальным грешкам, даже женским, была узаконена самим сенатом. И тем не менее, как отмечает Блейкен, подобный либерализм был не более чем негласным «отражением аристократических представлений о частной жизни», и законы Рима, так же как и законы Греции, никогда не гарантировали свободы, а состояли, скорее, в том, чтобы облечь в некую форму долг верности господину в контексте его домашнего окружения, верность обязательствам, ответственность за родовую собственность и персональные статусные отличия.
«Частное» как противопоставление «публичному» — одно из наиболее часто употребляемых прилагательных в латинском языке, но оно не имеет положительного оттенка, его смысл негативный: оно определяет то, что человек может делать без ущерба для своих обязанностей и своего положения как значимого лица, удостоенного государственной должности; оно не означает крепости, возведенной внутри самого частного права, которое само по себе отнюдь не было незыблемым. Простой оттенок смысла, который объясняется стечением исторических обстоятельств (наши свободы и права человека явились результатом бунта против правителей)? Конечно, только это полное отсутствие каких бы то ни было гарантий открывало дорогу эксцессам самого разного рода, которые возникали неожиданно, подобно внезапно поднявшейся буре: самыми кровавыми из них были гонения на христиан и манихеев.
Ко всему прочему следует добавить усиление давления, оказываемого властью на нравственные устои подданных во времена правления некоторых императоров. По большей части У римских правителей, в отличие от китайских и японских императоров, не было того, что Морис Пингет называет «старой конфуцианской привычкой измерять могущество власти чистотой нравов». Однако некоторые из них — Август, Домициан, Северы или Константин — пытались регулировать нравы императорскими указами. Так, Август принимает строгие меры в отношении жен, совершивших супружескую измену; Домициан обязывает любовников узаконить свои отношения, велит живьем закапывать в землю весталок, нарушивших обет целомудрия, и запрещает поэтам–сатирикам использовать непристойные слова; Северы объявляют измену мужа проступком, а аборт жены — преступлением против мужа и родины; законодательство Константина аристократическую свободу взглядов заменяет ригоризмом, более популярным, чем истинное христианство… Подобный морализм — вещь весьма специфическая: в греко–римском мире такой законотворец мог одним своим указом совершить коренной переворот в обще стве: законы не всегда писались с должной осмотрительностью и с учетом моральной готовности общества их принять. Город не рассматривался римлянами как естественно возникшее сообщество: считалось, что город рождается в результате действия Закона и что без поддержки законодательной власти против враждебных сил природы он неизбежно деградирует; горожанин — по самой своей природе лентяй, который может придерживаться порядка только под неусыпным контролем господина. К тому же признание падения нравов имело основной целью доказать каждому, что император — господин и повелитель — мало того что устанавливает строгий общественный порядок, который не позволено нарушать никому из одержимых индивидуальными пороками горожан, он еще и поддерживает моральный дух каждого. Когда эта идея проникает в умы и души, любой революционный закон перестает действовать и забывается уже во времена следующего императора. И лишь закон Константина продолжал существовать и стал знаковым для Средневековья.
Существовало ли римское право?
Оставим в стороне бури и потрясения. В мирные времена нравы римлян довольно точно отражаются в гражданском праве, которое словно пуповиной, так и не перерезанной, было связано с господствующей моралью. Искусство права, скорее дискурсивное, чем концептуальное, и еще менее того основанное на дедукции, позволяло профессионалам заниматься своим делом с виртуозным изяществом. Позволяло ли право действительно добиться правосудия? Вынуждал ли закон соблюдать правила игры, когда кто–то их нарушал и притеснял своих ближних? Стоит ли говорить, что в обществе неравном, несправедливом и пронизанном клиентскими связями законы были формальными, имели мало общего с реальностью, и слабый имел совсем немного шансов защитить себя в суде от могущественного противника. Даже когда правосудие не нарушалось, предоставляло ли оно законные возможности защитить свои права? Достаточно одного примера, чтобы понять, что государственная власть обеспечивала лишь личную вендетту, заменить которую было нечем.
Предположим, что должник не хочет возвращать нам деньги, которые мы дали ему взаймы; или же представим, что единственным нашим состоянием была маленькая ферма, на которую мы очень рассчитывали, потому что располагалась она в очень приятной местности и все наши предки когда- то на ней жили. Один могущественный сосед позарился на нашу собственность: во главе группы вооруженных рабов он ворвался в наши владения, убил наших рабов, которые пытались нас защитить, а нас самих избил до полусмерти и выгнал прочь, захватив при этом ферму, будто свою собственность. Что Делать? Современный человек ответил бы: нести жалобу судье (litis denuntiatio), в суде восстановить справедливость и властью государства (manu militari) вернуть свое имущество. Да, так могло бы произойти во времена Поздней Античности, Когда наместники провинций наконец–то воплотили в жизнь идеал сильной государственной власти. Но в Италии, в первые два–три века нашей эры, все происходило совершенно иначе.
Нападение могущественного соседа на наши владения — проступок чисто гражданский, который не влечет за собой уголовного преследования. То есть именно мы, истцы, должны обеспечить явку нашего противника в суд, чтобы он предстал перед лицом закона; для этого мы должны его схватить, отбившись от его подручных, доставить в нашу частную тюрьму и заковать его в кандалы в ожидании дня суда. Если нам это не удастся и мы не сможем привести его в суд насильно процесс может никогда не начаться (litis contestatio). Однако предположим, что у нас каким–то образом это получилось. Например — благодаря вмешательству влиятельного человека, который принял нас в свою клиентелу, нам удалось добиться справедливости: суд провозгласил, что правда на нашей стороне. Теперь нам осталось только самим привести приговор в исполнение, конечно, если у нас есть для этого средства. Может быть, мы должны в жестокой схватке вновь отвоевать ферму наших предков? Вовсе нет. Как бы нелепо это ни звучало, но судья не мог заставить ответчика просто–напросто вернуть украденное имущество. Бросив нашу ферму на произвол судьбы, он даст нам право захватить всю собственность и владения нашего обидчика; теперь мы должны продать все его имущество с аукциона, оставить себе сумму, в которую судья оценил нашу ферму (aestimatio), а остаток денег вернуть владельцу.
Кто же тогда на самом деле обращался за помощью к су дье, так мало напоминавшему арбитра, обязанного наказать за нарушение правил игроков социального матча? Вероятно, две категории граждан. Это могли быть влиятельные люди, которые упорно доказывали свою правоту, вынося свои распри на суд общественности. Таких людей было довольно много, и вели они свои процессы со всей страстью и со всей въедливостью, свойственными римлянам, или же с истинно литературным вдохновением судебного красноречия. Они выкладывали свои дрязги перед трибуналом, как много веков спустя сделали бы это на дуэли перед свидетелями. Вторую категорию составляли кредиторы, которые требовали выплаты долгов от несчастных должников, неспособных сопротивляться. Им удавалось схватить свою жертву после своеобразной игры в прятки: юрист Ульпиан рассказывает о должнике, который старался не появляться на городской площади, чтобы случайно не встретить там своего кредитора; если же он замечал его появление, то тотчас прятался за колонны галереи, окружавшей площадь, или за одну из многочисленных торговых палаток. То есть закон давал лишь право на удар в социальном матче, и некоторые люди буквально умоляли не затевать игру против них. «Только не юрисконсульт!»
Право — это не только стратегия, но еще и элемент римской культуры: поиск юридических путей решения проблемы и изящное манипулирование гражданским правом были признаком хороших манер. Один пример. Теоретически женщина не могла обратиться в суд без своего представителя — мужчины (хотя позже это правило устарело), тем более если была не римлянкой, а гречанкой или египтянкой. Однако папирусы свидетельствуют о том, что тем не менее они это делали; тогда каковы же были правила? Выходит, их попросту не было. Отмечено также, что женщины все–таки являлись в суд в сопровождении своего представителя, хотя вполне можно было обойтись и без него: если нет правил, остается юридическая изысканность, даже своеобразный педантизм.
Римское право, приводящее порой в замешательство, кроме прочего, демонстрировало еще и пережитки народного и личного правосудия. Даже во времена Империи подобные спектакли уличного правосудия были не редкостью. Самым простым способом заставить должника платить был такой вариант: нужно лишь застать его врасплох на улице и устроить ему «проводы» (convicium). Его преследовали, осыпая язвительными шутками или распевая насмешливые песни, вновь и вновь перечисляя в припеве его неоплаченные долги. Юристы требовали только, чтобы из уважения к зрителям несчастного не раздевали догола и не выкрикивали в его адрес непристойностей. В свою очередь, должник старался разжалобить общественность: он одевался в траурные одежды и не стриг волос, признавая себя изгоем.
Боязнь общественного осуждения играла важную роль в частной жизни, и общество воспринималось в качестве законного судьи. В маленьких городках толпа устраивала настоящий тарарам, весьма доходчиво демонстрируя должнику, насколько он не прав: его хватали, поднимали на катафалк и устраивали настоящую похоронную процессию по поводу его мнимой смерти, следуя за катафалком с плачем и хохотом — до тех пор пока несчастному не удавалось сбежать. Таким же образом глумились и над настоящими покойниками, если их завещание не вызвало у общественности одобрения или если наследники пожадничали и не устроили для народа гладиаторских боев, которые давали право считать умершего знатным человеком. В одном из селений Лигурии народ удерживал на площади процессию, хоронившую старого офицера, и не давал ей проследовать к погребальному костру до тех пор, пока семья покойного не пообещала устроить поминальное представление.
Реклама на надгробиях
Итак, у всех было право судить каждого. Каждый римлянин, будь то плебей, аристократ или даже сенатор, никогда не рассматривался как сугубо частное лицо; все могли обратиться ко всем, и все могли всех судить; все считали себя знакомы ми. Каждый отдельный человек мог обратиться к «народу» который был ничем иным, как некоторым количеством таких же отдельных людей, как и он. Можно было, например, разыгрывать шутки в галерее, чтобы повеселить окружающих: все были сопричастны. Нам знакомо простодушие знаменитых граффити Нью—Йорка, при помощи которых кто угодно может рассказать прохожим или пассажирам метро о своих мыслях, своей любви или просто о том, что он тоже есть на этом свете и у Него есть имя, — просто написав на стене все, что взбредет в голову. То же самое было в Помпеях: стены этого маленького городка, одного из множества подобных, были покрыты граффити, начертанными прогуливающимися прохожими для других таких же прохожих, просто чтобы те могли это прочесть.
Любопытная вещь, напоминающая рекламу, воцарилась в местах, которые можно назвать античным аналогом наших кладбищ, то есть на обочинах дорог; земля вдоль дорог не принадлежала никому, и именно там, на въезде в город, устраивали захоронения. Лишь только путешественник пересекал городские ворота, его окружали два ряда скульптур, так или иначе привлекающие его внимание. Надгробия не были предназначены только для семьи или близких покойного, они создавались для всех. Сама могила, та, что под землей, была местом, куда ежегодно приходили люди, составлявшие фамилию покойного, чтобы выразить свое уважение к умершему; надгробие с эпитафией — это уже совсем другое дело: оно было предназначено для прохожих. Было бы ошибкой проводить аналогии между современными эпитафиями, поминальными надписями, не имеющими адресата и обращенными к богу, и эпитафиями римскими, которые гласили: «Прочти, прохожий, какова была моя роль в этом мире… А теперь, когда ты прочитал, счастливого пути. — И тебе всего хорошего!» (ответ прохожего тоже был высечен на камне). Есть свидетельства, что если античный автор хотел немного почитать, ему было достаточно прогуляться до одного из выездов из города; читать эпитафии было проще, чем неразборчивый почерк в книгах. Я не говорю сейчас о временах более поздних, о некрополях и христианских катакомбах.
Двойные анфилады могильных рекламных плакатов, если позволительно будет так назвать эти надгробия, расположенные вдоль дорог, ведущих из города, наводят на мысль об этаком Бродвее загробного мира; некоторые эпитафии, чтобы выделиться среди других и привлечь еще большее внимание, предлагали прохожему отдохнуть или заняться атлетикой на специально выделенном для этого участке внутри могильной ограды. Все эти эпитафии говорят не о скорби близких, а скорее о социальной роли покойного, о его верности своим обязанностям по отношению к близким, доказательства чего последние и представляют на суд прохожих. Обсуждение с кем–то во время беседы или за ужином своего будущего надгробия не вызывало неловкости и не наводило на мрачные мысли; скорее это позволяло лишний раз обратить внимание на присущие человеку заслуги и добродетели, которые со временем будут публично отмечены таким вот своеобразным способом. Каждый пирующий охотно, особенно после нескольких чаш вина, устраивал публичное чтение своей будущей эпитафии, им же и составленной, причем с той же тщательностью, что и завещание. Самый лучший способ, каким город мог отблагодарить своего благодетеля, состоял в подробном описании тех официальных почестей, которые будут ему оказаны на его похоронах. Одна дама была счастлива узнать, что сограждане решили ароматизировать шафраном (запах которого тогда высоко ценился) ее будущий погребальный костер.
Археологи нашли около сотни тысяч эпитафий, и Макмаллен заметил, что само это количество — результат моды на эпитафии, которая вспыхнула в начале I века и к началу века III постепенно угасла. Чему здесь удивляться? Они не были простым отражением мыслей о смерти, они свидетельствовали о господстве публичного дискурса и публичного контроля. Не были они и привилегией важных персон: обычные обыватели, не будучи людьми публичными, все равно жили на публике, на глазах у себе подобных. К тому же эпитафия, как и завещание, становилась для них возможностью передать некое послание: «Я жил бедно, так, как было мне предназначено жить, и теперь я советую вам брать от жизни больше удовольствий, чем это делал я. Жизнь такова: и все мы здесь будем. Любить, пить, ходить в бани — вот настоящая жизнь: после ничего уже не будет. Я же никогда не следовал советам философов. Це доверяйте врачам, это они меня убили». Смерть давала урок жизни живым, и редкие упоминания о загробной жизни, особо тщательно изучаемые историками, которые недооценивают публичную функцию античных могил, встречаются на могилах христианских. Кроме прочего, при необходимости эпитафии исполняли роль обвинения: покойный мог пригвоздить к позорному столбу тех, кого он считал виновниками своих несчастий. Патрон проклинал на надгробном камне — равно как и в завещании — неблагодарного вольноотпущенника, который повел себя с ним точно разбойник с большой дороги; отец объявлял всем, что лишил наследства свою нечестивую дочь; мать приписывала смерть своего малыша козням некой отравительницы. Для нас подобные надписи на надгробиях означали бы осквернение величия смерти. Но римляне, в отличие от нас, не боялись выносить сор из избы: они прибирались публично. В Помпеях, у дороги из Ночеры, есть эпитафия, которая обрекает неблагодарного друга на гнев всех небесных богов и богов преисподней.
Цензура общественного мнения
Общественный контроль над поведением каждого человека проникал повсюду, и отовсюду слышались напоминания о правилах; воздух был тяжек от призывов к порядку и общей заботы о добродетели. Один высокопоставленный чиновник из Помпей велел написать на стене в своей столовой такие правила: «Будь приветлив и сдержан в словах, если можешь, если нет — пусть ноги несут тебя домой; отведи похотливый взгляд от чужой женщины, и пусть стыдливость отразится на твоем лице». Гости не считали подобные предупреждения оскорбительными, скорее они с удовольствием замечали в таком призыве к добродетели подтверждение того, что в этом доме собрались порядочные люди. Дифирамбы добродетели сыпались с такой силой, что могли бы свалить и быка. Овидий, поэт изысканный и утонченный, переживший трагедию изгнания, со слезами умиления возносит хвалы своей жене, которую он оставил в Риме: она ему не изменяет. Гораций принимается хвалить себя без оглядки: во времена своей юности, благодаря мудрым увещеваниям отца, он никогда не жил у кого–либо на содержании. Стаций пишет для одного вдовца, своего мецената, хвалы его дорогой покойной жене: она была настолько стыдлива, что ни за что на свете не смогла бы ему изменить, даже если бы ей предложили за это огромную сумму денег. Жена, которая не продавалась за деньги, юноша, не живший ни у кого на содержании, — все они были достойны похвалы. Тот же Стаций поздравляет подростка с тем, что его юность свободна от эфебических Любовей, несмотря на то что он сирота. Похвалы бдительной общественной цензуры изысканностью не отличались.
Со скелетами в шкафу обращались не слишком деликатно: чтобы греху противопоставить добродетель, все средства были хороши. Продолжая свой панегирик, Стаций сообщает нам, что того же подростка, его будущего покровителя, постигло несчастье: его мать оказалась отравительницей и пыталась отправить его на тот свет, однако император отменно ее наказал, отправив ее саму на каторгу. Ясно выражая таким образом свойственные ему представления о справедливости, поэт всего лишь высказывает вслух общепринятое мнение, которое само вполне в состоянии вершить правосудие, причем достаточно суровым образом. Жизнь каждого члена общества становилась объектом общественной оценки; безо всякого стыда обсуждалось буквально все — и это были не сплетни, а законная цензура, называемая reprehensio. Каждый брак, развод или завещание рассматривались самым подробным образом. Письма Цицерона это подтверждают, а переписка Плиния, исходно предназначенная для публикации, доказывает это еще более убедительно: она должна была стать учебником для совершенного римского сенатора, обучающегося на примере автора. Каждый раз, упоминая о каком–либо разводе или завещании, Плиний описывает, каково на сей счет было мнение общественности — а мнения расходились — и какую из сторон он считает правой. Общественное мнение правящего класса было вправе контролировать частную жизнь каждого из его членов в интересах всего правящего класса. Если кто–либо это мнение игнорировал, общество находило шутника, чтобы ему отомстить: оскорбительные песенки передавались потихоньку от одного к другому (carmen famosum), о нарушителе общественного спокойствия распространялись памфлеты (libelli), его осыпали непристойными оскорблениями и насмешками, чтобы доказать ему, что все, что было до этого, — еще не самое страшное. Когда один сенатор решился жениться на своей любовнице в разгар всеобщей борьбы за нравственность, Стаций, пользующийся его покровительством, во избежание разногласий вносит в этот вопрос окончательную ясность: «Пусть не прозвучат лживые намеки памфлетистов: эта непокорная любовь только что подчинилась закону, и граждане могут увидеть собственными глазами поцелуи, о которых столько судачили». Было нечто лицемерное в этом гражданском пуританизме, который без малейшего колебания изобличал тех, кто не вписывался в единые для всех рамки; сатира как литературный жанр берет свое начало именно здесь.
От необходимости отчитываться за свою частную жизнь перед общественным мнением не был свободен никто: даже императоры, по крайней мере императоры «хорошие». Когда Клавдий узнал о распутстве императрицы Мессалины, он обратился к преторианской гвардии с речью, в которой подробно Рассказал об изменах своей жены, пообещав, что «никогда больше не женится, поскольку брак его явно не удался». Когда Август узнал о распутстве своей собственной дочери, а потом еще и внучки — обе пожелали жить и вести себя как свободные знатные дамы, а не как примерные члены правящей фамилии, — он рассказал об этом позоре в своем обращении к сенату и в манифесте (edictum), обращенном к народу. Что же касается «плохих» императоров, они делали то же самое, только с противоположным смыслом: они выставляли напоказ свои измены и своих юношей–любовников, демонстрируя всем, что они, будучи единовластными хозяевами страны, считают себя выше общественного мнения.
Чтобы не подвергаться критике, глава семьи, достойный своего имени, должен обращаться за советами к друзьям и к другим таким же порядочным людям, чтобы получить от них одобрение всех важных для себя решений: наказать ли сына силой своей отцовской власти, освободить ли молодого раба, жениться, отказаться ли от недостойной жены или принять ее обратно. Он даже советовался, свести ли ему счеты с жизнью: самоубийство тогда не считалось проявлением малодушия. Совет был до некоторой степени событием церемониальным, и если какой–либо древний род находился в ссоре с одним из друзей и не желал больше видеть его на совете, ему об этом специально сообщали (renuntiare amicitiam).
Поскольку среди правящего класса было не принято о чем–либо умалчивать, промахи знати в общественных и личных делах тут же становились достоянием широкой публики. Плиний, пытавшийся стать примером совершенной добродетели, выставляет на посмешище себе равных или, скорее, демонстрирует их странности (а в Риме смешным было все, что не убивало человека насмерть), обнародует выдержки из личных писем наместника, уличающие последнего в совершенно хищнических повадках, и наносит тем самым непоправимый ущерб его репутации. Сенека, будучи сенатором, настолько подробно рассказывает о сексуальных извращениях знати, что в результате один из сенаторов так и не избирается на консульскую должность. Представители высшего общества без зазрения совести злословили друг о друге, поскольку никогда не были только частными лицами: каждый гражданин — в какой–то степени человек публичный, а значит, по определению борец и активист. Это признанное и узаконенное господство общественного мнения приводило к своеобразной свободе высказываний (в устном ее проявлении и в ретроспективном модусе): покойного императора позволительно было называть тираном, знать могла обвинять его в запрете на свободное высказывание своего мнения (parrhesia, libertas), при одном условии — к вышесказанному непременно добавляли, что правящий император — не чета предыдущему, он являет собой прямую противоположность тирану и славится именно тем, что свободу слова поддерживает.
Нравственный авторитет
Сенатор и в самом деле отличается от других людей: все, что он говорит, он говорит на публику и слова его должны быть убедительными. Он оценивает государственные и личные дела других таких же важных персон подобно тому, как у нас дипломаты и полководцы описывают в своих мемуарах заслуги и промахи известных людей, с которыми сталкивались по долгу службы. Правящий класс держал в руках бразды правления не столько в силу того, что принадлежавшие к нему люди Удостаивались официальных чинов, сколько именем «власти» (auctoritas), принадлежавшей им от природы и не требующей никакого обоснования: просто так есть и никак иначе быть не может. Их власть распространялась на моральные нормы, так Же как и на общественную жизнь: сенатор указывал, как именно должен жить честный гражданин, достойный своего имени. Если сенатор занимался историей или философией, его книги воспринимались не так, как труды простого смертного. Если сенатор — историк, он укажет, что следует думать о прошлом Рима, чтобы познать истину политическую, нравственную и патриотическую, для которой сенат служит и хранилищем, и академией. Другие историки, не столь знатного происхождения, честно повторят его назидательную версию, а если они и вовсе без роду и племени, то в границах приличия станут довольствоваться подробностями, увиденными с точки зрения лакея, и повеселят читателей незначительными мелочами из личной жизни знаменитых людей. Если сенатор — философ, такой как Цицерон или Сенека, то только ему дано право судить о философских принципах в политике, только в его книгах можно найти мудрость и нравственные основы старого Рима, хранителем которых он, собственно, и является.
То есть настоящий важный господин должен быть солидным человеком, поскольку он фигура значимая (gravis); он не должен, например, публично шутить, такое поведение с его стороны будет выглядеть шутовством. Однако есть время быть важным и есть время расслабиться (non intempestive lascivire): умение шутить в четырех стенах — еще одно качество, присущее сенатору; частная жизнь для него начинается там, где можно шутить. Сципион, столь жесткий и несгибаемый в публичной жизни, наедине со своими близкими превращался в человека совершенно «штатского». В Риме существовала традиция аристократического остроумия, в рамках которой критика чужих недостатков переставала быть едкой и превращалась в лукавую иронию; в сатирах аристократа Луцилия можно найти салонные шутки с подтекстом почти эзотерическим; насмешливые намеки становятся куда более тонкими, не теряя при этом остроты. Тот же Луцилий смеется и шутит со Сципионом и с другими такими же важными людьми, когда они все вместе проводят время в одном из дворцов; строгость поведения, предписанная кодексом аристократа, им больше не нужна, и эти знатные вельможи принимаются играть в одну из старинных детских забав: бегать друг за другом вокруг лож для трапез. Правила приличия позволяли им в частной жизни становиться большими детьми.
В тот момент они вели себя так, как простые люди ведут себя постоянно, когда, например, поют во всеуслышание при сборе винограда или за домашней работой. Сенека даже написал по этому поводу: «Бедный смеется чаще и от всего сердца», у римлян не было ни горделивой утонченности эллинов, ни их изысканных манер, которые у греков в равной степени проявлялись и в общественной жизни, и в жизни частной. За два века до нашей эры Рим, всегда бывший наполовину эллинистическим, впервые установил дипломатические отношения с греческими государствами, которые в те времена обладали в средиземноморском мире значительным влиянием. Римский посол, оказавшись перед лицом греческого царя Антиоха Великого, в то время очень известного человека, не смог иначе выразить свои возвышенные чувства к родине, Риму, кроме как приняв вид величественный и неприступный, и в итоге речь его получилась чересчур высокомерной. Царь дал ему понять, что такая полуварварская надменность ничуть его не впечатлила, добавив, что прощает посла лишь потому, что тот очень молод и красив.
Что бы там ни говорили, Рим вовсе не был государством, живущим согласно гражданскому или публичному праву: здесь все подчинялось одной инстанции, правящему классу, что приводит в замешательство современных социологов. Римское публичное право становится понятным, когда в нем перестают искать незыблемые правила и начинают понимать, что всякий раз в Риме все происходило по–разному, в зависимости от сложившейся на данный момент расстановки сил. Еще более любопытная вещь: Рим не был и государством, строго, по- английски, придерживающимся традиций и основанным на обычаях. Римские социальные и нравственные институты всегда оставались в беспорядочном и, так сказать, полужидком состоянии: этакий аристократизм без правил игры; знаменитая римская добросовестность и преданность касалась человека, а не закона. Всем известные бесконечные воззвания к «старым традициям» и «дедовским обычаям» (more majorum) лишь на первый взгляд кажутся отражающими реальную действительность и вовсе не свидетельствуют о том, что на практике верность традициям действительно служила мощным мотивирующим фактором. Традиции касались только общественных институтов, существовали лишь на словах, звучавших из уст важных персон, которые только и имели право рассуждать о политике. О традициях вспоминали исключительно в качестве контраргумента, то есть когда кто–либо собирался их нарушить: к обычаям предков взывали, чтобы помешать сопернику использовать для своей личной выгоды какие–либо новшества или чтобы оправдать собственное неожиданное действие, повернув дело так, будто это всего лишь возврат к старым за бытым традициям. Древним традициям не менее убедительно противопоставляли традиции новые, которые также могли служить как подтверждением, так и отрицанием чего–либо в зависимости от ситуации. Старые или новые, традиции служили всего лишь аргументом; традициям приписывалось то, что было удобно в данный момент.
Народная мудрость
Общественная жизнь подчинялась воле членов правящего класса, а жизнь частная — людской молве. Жизнь простого народа строилась на обычаях, сформулированных в рамках народной мудрости, популярном устном учении, сопоставимом с назидательными книгами Ветхого Завета.
Из стен сената при каждом удобном случае звучали нравоучения относительно того, что каждый человек дол жен делать и чего он делать не должен. Со своей стороны, народная мудрость наставляла: «Умный поступает так–то, а дурак — вот эдак». Простой человек дает детям теоретические уроки, приводя в качестве примера чужие ошибки и создавая диптих на темы: добра и зла, а также осторожности и опрометчивости, имеющих место в обыденной жизни. Аристократическая спесь не позволяла знати снизойти до столь элементарных уроков мудрости: она сама себе была законом, с тех пор как начала изъясняться публично; а пословицы хороши для народа. Отец поэта Горация, богатый вольноотпущенник, отправил своего сына в школу, чтобы тот получил образование, которого ему не хватало, но при этом давал ему и свои собственные уроки мудрости: чтобы сын избегал порока и разврата, он рассказывал ему о случае, произошедшем с Одним Человеком, который был застигнут на месте преступления и потерял репутацию; чтобы научить его быть осторожным в управлении своим имуществом, он приводил в пример Одного Человека, закончившего жизнь в нищете. Человек из народа боялся быть неосмотрительным настолько же, насколько он боялся быть аморальным: «Разве ему не говорили, что так поступать неприлично или неосмотрительно и тот, кто совершает подобные поступки, стяжает себе дурную славу?» Про важное лицо, официально признанное человеком достойным, потому что он стал судьей, говорили: «Вот уважаемый человек», и приводили его поведение в качестве положительного примера. Став поэтом и мыслителем, Гораций начал замечать родство между этой теорией — пусть устной, но ясной и понятной, и теми или иными конкретными наставлениями, почерпнутыми из трудов философов. Простые люди тоже это чувствовали. Когда они пишут в своих эпитафиях: «Он никогда не следовал советам философа» или «Он сам познал правду жизни», это вовсе не пренебрежение к культуре — это требование публичного признания для своей собственной культуры: покойный не нуждался в философии, чтобы жить по–философски мудро, чтобы отличать добро от зла и пользу от вреда.
Изнеженность
Это еще не все. Кроме народной мудрости, в Риме бытовала устная теория «здравого смысла», признанная во всех социальных классах и с размахом применявшаяся для решения всех возможных проблем; то была подлинная философия, наподобие марксизма или психоанализа, которые служат основой для представлений о здравом смысле на современном Западе. Так же как и эти современные концепции, устная теория римлян могла объяснить все, а к тому же еще и разоблачала фальсификацию действительности, позволяя увидеть, что реальность вовсе не такова, какой кажется, и что все беды, личные и общественные, происходят именно из–за этого. Изъян кроется не в самом классовом обществе, а в некоторых особенных качествах, в той или иной степени присущих практически каждому римлянину: изнеженности или даже стремлении к излишествам. Это было очевидно всем, и философы вновь и вновь находили тому подтверждение в своих трудах, о чем и напоминали при каждом удобном случае. На протяжении пятисот лет греки и римляне жили с убеждением, что их общество находится в состоянии распада: кто же не слышал о пресловутом «упадке Рима»? Поскольку устная философия и представления о здравом смысле — всего лишь порождения общей истории развития идей, во многом случайной, а вовсе не функциональное отражение действительности, они представляют собой одну из форм свободного творчества, и их отношения с реальностью варьируются от случая к случаю; некоторые остаются консервативными, другие оказываются вдруг ориентированы на социальную критику.
Изнеженность лишает сил отдельного человека и губит общество, которое, собственно, и является совокупностью отдельных людей, но что же, собственно, она из себя представляет? Это не столько некая странная отличительная особенность, сколько симптом, дающий возможность для анализа психической составляющей личности. Изнеженность представляется лишь одной из странностей, которые проявлялись в неких отклоняющихся от идеала мужественности деталях или даже были сведены к ним: женским интонациям в голосе, манерным жестам, томной походке и т. д. Но греко-римский пуританизм, рассмотрев эти детали под микроскопом, пришел к выводу, что внешняя изнеженность — это только симптом более глубокого изъяна, а именно общей вялости характера. То есть, подобно ослабленному организму, неспособному сопротивляться болезням, слабый характер, лишенный средств к сопротивлению, не может противостоять натиску пороков, включая и такие, которые, с нашей точки зрения, менее всего напоминают об изнеженности. Именно так объяснялись любовь к излишествам и сластолюбие, которые назывались одним словом luxuria и состояли в нежелании ни в чем себе отказывать и в уверенности в собственной вседозволенности. В те времена чрезмерная любовь к женщинам и частые любовные похождения считались для мужчины признаком женственности. Как же бороться с изнеженностью? Нужно бороться с праздностью, ее породившей. Не то чтобы лень, на взгляд римлян, была матерью всех пороков просто потому, что оставляла для них свободное время: римская критика праздности отличается от современных представлений о том, что если у мужчины слишком много сил и он тратит их на любовь, то это только потому, что не вложил их в работу. Скорее, римляне считали праздность бабушкой всех пороков, потому что характер, который ничем не занят, теряет мускульную силу, тренированность и перестает быть способным сопротивляться болезням души. Таким образом, греко–римским представлениям о жизни была свойственна тяга к несколько излишней маскулинизации, с позиций которой принято было с ригоризмом, достойным протестантского пастора, осуждать тягу к танцам и прочим увеселениям и удовольствиям. Эта же позиция подливала каплю яда в отношения человека с самим собой. Отсюда и нетерпимость к частной жизни как таковой; поэтому император или общественное мнение легко получают право на установление моральных правил.
Чрезмерность
Что касается другой тенденции в античной философской антропологии, также рассматривающей наклонность к излишествам, то она осуждает жизненные принципы человека как такового, да и сам мир, в том виде, в котором он предстает нам в действительности. Может быть, человек и есть животное разумное, но на самом деле все люди по сути своей — умалишенные: своего рода мания величия постоянно заставляет их желать большего и стремиться овладеть большим, чем на самом деле необходимо для жизни. Отсюда тщеславие и алчность — мать чрезмерности, отсюда — все конфликты и упадок государства. Вспоминается мудрость Горация, которая состояла не в том, чтобы рекомендовать всем разумным людям придерживаться золотой середины, как это часто пытаются представить, а в сожалении о том, что подобным советам, слишком простым и очевидным, никто никогда не следует, поскольку по воле рока в самом человеке заложена какая–то ошибка. Этой всеобщей лжи, с отчаянием безысходности, пытается противостоять мудрость.
К осуждению чрезмерности добавлялись попытки взглянуть на стремление к излишествам в более широком смысле — как на стремление, порождающее корысть и желание еще большего обогащения. Вполне хватило бы и честно нажитого достатка; чего ради стремиться к большему, уже имея стабильное положение землевладельца? Безумие человеческого рода не позволяет довольствоваться тем, что имеешь: все хотят стать миллиардерами. Здесь мы имеем дело с довольно странной концепцией бедности… Как говорит Гален, для чего же иметь пятнадцать пар обуви, если было бы достаточно и двух, на смену; а еще, чтобы быть счастливым, хватило бы одного дома, нескольких рабов и приличной обстановки. От Продика до Музония и во все последующие времена мыслители с наслаждением возносили парадоксальные хвалы «бедности», и этот парадокс находил всеобщее одобрение: Сенека пишет, что в театре, на представлении одного очень популярного спектакля, который публика всегда приветствовала овациями, наибольшие аплодисменты вызывали тирады, осуждающие скупых и алчных людей, изо всех сил старавшихся завладеть еще большими богатствами и тем самым причинявших вред самим себе. Греческие экономисты полагали, что настоящей целью производства должно быть достижение автаркии, которая состоит в том, чтобы сократить потребности и от экономики более не зависеть. На основании этой идеологии современные историки считают возможным заключить, что у древних не было предпринимательского менталитета и именно поэтому греко–римская экономика не смогла стать высокоразвитой. Это ошибочное понимание того, как устная философия оценивала чрезмерность: она осуждала действительность как таковую, не особенно вдаваясь в подробности.
Нужно уметь довольствоваться малым, писал Эпикур, однако при этом добавлял: в случае необходимости. Даже если римляне активно осуждали богатство или изнеженность, любые античные призывы к рассудительности преследовали единственную цель: обеспечить безопасность частного лица, критикуя слабости и чрезмерные аппетиты, которые мешают ему противостоять жизненным бурям и неурядицам; римляне не одобряли поведения людей, идущих на риск, подняв все паруса. Римский здравый смысл был патентованным успокоительным средством. Излишествам, подвергавшим человека опасности, религия, народная мудрость и представления о потустороннем мире противопоставляли разумное спокойствие; а теоретическому осуждению изнеженности действительность противопоставляла широкое разнообразие способов получать удовольствие.
УДОВОЛЬСТВИЯ И ИЗЛИШЕСТВА
Идеал свободы
«Баня, вино и Венера истощают тело, но именно это и есть настоящая жизнь» — гласила пословица. В Спарте — не где-нибудь, а именно в Спарте — была найдена эпитафия, комментирующая эротический барельеф на надгробии (а были и такие):
Вот что должно зваться храмом,
Вот к мистериям твой путь,
Вот что должен делать смертный,
Жизни увидав предел.
Для всего было свое время, и удовольствие имело не меньше прав, чем добродетель. Для наглядности достаточно сказать, что римляне любили изображать Геракла в моменты слабости: склонившимся над пряжей у ног своей госпожи, Омфалы, или же охмелевшего от вина, едва держащегося на ногах, с блуждающим взглядом и блаженным выражением лица.
Вежливость считалась правилом хорошего тона. Воспитанный человек (pepaideumenos), если он по определению благороден и знатен, должен вести себя с равными без услужливой почтительности, но и без особой заносчивости. Уважение к другим должно проявляться с легкостью, как то и подобает человеку со свободной душой, необходимое почтение к старшему — с непринужденной простотой, свойственной свободному гражданину, окруженному аурой благородства. Пусть «варвары каменеют перед своими царями» и суеверные люди трепещут перед богами — подобно рабам, дрожащим перед господином. С точки зрения правящего класса, «свободная» власть и царствующий правитель — это «хороший император», если он разговаривает либеральным тоном с гражданами из высшего общества, отдает распоряжения как равный равным, не разыгрывает из себя, подобно варварским царькам, бога, спустившегося с небес, не принимает всерьез собственного обожествления: такая уступка вызывала всеобщий восторг. Стиль политики во времена ранней Империи — это стиль приличного общества; общественная жизнь подразумевала вольность и легкость, подобную стилю общения собеседников в философских диалогах Цицерона. Религиозная жизнь также никогда не была настолько далека от семейных отношений с богом, свойственных христианству; слишком откровенная сыновняя любовь к Отцу показалась бы язычникам несколько отталкивающей, а рабская покорность — унизительной и плебейской.
Еще и сейчас главными компонентами того
впечатления, которое производит на нас Античность до начала «упадка» времен «поздней Империи», являются классическая гармония, гуманизм, ясность ума и свобода, — и вызвано оно тем общим стилем, который прослеживается в отношениях между людьми в частной жизни правящего класса, а также стилем писем и прозы, включая эпитафии. Это впечатление подкрепляется и доминирующей стилистикой изобразительного искусства: искусство реалистично. Картины из катакомб, пишет Гомбрих, этакую «Библию в картинках», средневековые скульпторы воспроизведут во всех деталях сюжета, со всеми прилагающимися наставлениями, но — объединив все это в рамках некоего монтажного, основанного на чистой условности единства. Классическое же языческое искусство привычно показывает тот или иной эпизод из всем известного сюжета — так, словно выхватывает кадр посредством моментальной фотосъемки: человек и окружающая его действительность получают равные права. К концу Античности портретисты станут наделять императоров чертами, наводящими нас на мысль о вдохновенных поэтах или партийных руководителях времен Муссолини, тогда как на портретах времен ранней Империи император, как правило, выглядит красивым молодым человеком с умным и честным лицом и индивидуализированными чертами: это именно человек, один из множества. Никакой идеологии и никакого нравоучения.
В соответствии с этим идеалом свободы, дружба, в отличие от страсти, рассматривалась как отношения между людьми, предполагающие взаимность и в то же время сохраняющие за каждым его внутреннюю свободу. Любовь — это рабство, дружба — свобода и равенство. Даже если в действительности это слово часто (но не всегда) означало «клиентелу».
К концу Античности все меняется; на сцену выходят черная, едва ли не экспрессионистская риторика и величественный авторитарный стиль в политике. Именно этот утрированный карикатурный тон наводит на мысль об «упадке Рима» времен поздней Империи; уже много лет историки склонны связывать с этим периодом спад в области демографии и производства, ослабление власти, закат политической и экономической жизни. Такова сила иллюзии, вызванной стилем.
Урбанистический идеал
Стиль первых двух или трех веков Империи был основан на вежливости и «урбанности». Нобилитет, как мы знаем, представлял собой городскую знать, которая оставалась в своих поместьях только на время летней жары. Природа интересовала римлян скорее с точки зрения приятных развлечений (amoenitas); они объезжали дикие уголки своих владеннй только во время тяжелых охотничьих походов, да и то лишь для того, чтобы противопоставить природе свою «доблесть» и храбрость. Сердце римлян радовала природа, преобразованная в парк или сад; пейзаж будет лучше «сверстан», и ландшафт станет значительно привлекательнее, если его украсит маленький храм на вершине холма или на краю мыса. Люди становятся людьми в собственном смысле слова только в городах, и город — это вовсе не скопище тесных улочек и разгоряченная безликая толпа: скорее это комфорт и удобство, а именно общественные бани и общественные здания, которые возвышают город в глазах жителей и приезжих, превращая его в нечто большее, чем просто место коллективного проживания. «Можно ли назвать городом, — спрашивает Павсаний, — место, где нет ни общественных зданий, ни гимнасиев, ни театров, ни площадей, нет водопровода и ни единого фонтана, место, где люди живут в хижинах, подобных шалашам, прилепившимся к склонам оврага?» Римляне действительно не были самими собой в деревне. Они ощущали себя горожанами. Особенно если город был окружен крепостной стеной: тут дело в психологии; городские укрепления — лучшее украшение для города, потому что находясь за оградой, человек чувствует себя будто в общем доме; то есть, по большому счету, крепостные стены в те времена строили, руководствуясь в том числе и соображениями, связанными исключительно с частным менталитетом. Даже не слишком опасаясь воров, мы предпочитаем на ночь запирать двери на засов; если город окружен стеной, он также с наступлением темноты запирает на замок свои ворота. Ночью все выходы и входы сразу становились труднопроходимыми для людей с Дурными намерениями: они не решались показаться на глаза сторожу, хранившему ключи, и могли разве что попытаться при помощи сообщников забраться на городскую стену в том месте, где она не слишком хорошо охраняется, а потом спуститься вниз в большой корзине.
Пиры
Ограда — гарантия соблюдения приличий; пир — обряд взаимной вежливости. После того как Гораций отходит от дел и отбывает на свои земли, получая вполне приличное содержание, он в своем поместье устраивает обеды для нескольких избранных друзей, обязательно приглашая на них вольноотпущенницу — известную певицу или актрису. В любом случае пир был событием, во время которого человек мог наслаждаться тем, каких высот он достиг, и наглядно демонстрировать свои успехи гостям. Пиры были настолько же важны, насколько важны были светские рауты в XVIII веке или придворная жизнь при нашем Старом порядке. У императоров не было свиты; они жили во «дворцах» на холме Палатин, подобно тому как жили аристократы в своих особняках, в окружении исключительно рабов и вольноотпущенников (во дворце же размещались и различные министерские службы); однако по вечерам они устраивали званые обеды, на которые приглашали сенаторов и других гостей, общество которых ценили. С наступлением вечера все «общественные» должности и дела по «управлению» имуществом уступали место другим заботам, свойственным частному лицу, наслаждавшемуся пиршеством; даже бедные люди (hoi penetes), то есть девять десятых населения, проводили вечера за торжественной трапезой. Во время пира человек забывает обо всем, за исключением данных им «обетов»: если он дал обещание посвятить свою жизнь достижению мудрости, он не может пировать подобно обычному невежде, он участвует в пиршестве как философ.
Пир был настоящим искусством. Правила хорошего тона за столом, по–видимому, не были такими уж замысловатыми и строгими, как у нас. Зато и обедали римляне в компании самой разношерстной публики, состоящей из друзей и клиентов, так что присутствующие располагались в строго определенном порядке на своих ложах вокруг круглого стола, напоминающего французский геридон, на котором были расставлены блюда с угощениями. Настоящий пир был немыслим без пиршественных лож, разве что у людей самых бедных: за столом ели только обычную еду (у простых людей мать семейства стоя прислуживала сидящему за столом мужу). Кухня показалась бы нам похожей на современную восточную или средиземноморскую: очень острая, с многочисленными сложными соусами. Перед тем как жарить или запекать, мясо отваривали, пока оно не побелеет, и подавали на стол подслащенным. Предпочтительный вкус блюд был, скорее, кисло–сладким. Чтобы представить вкус напитков, мы могли бы выбрать между марсалой и рециной
[22], и в том и в другом случае разбавленных водой. «Подлей еще!» — приказывает виночерпию эротический поэт, страдающий от сердечных мук. Самой изысканной и длительной частью пира была именно та, во время которой пили; на протяжении первой половины обеда приглашенные только ели, не выпивая, а во вторую половину, когда, собственно говоря, настоящий пир (comissatio) и начинался, уже только пили, безо всякой еды. Пир — это не просто трапеза, это маленький праздник. В знак праздника гости украшали головы цветами или венками и надушивались, то есть натирали свое тело ароматическими маслами (спирта тогда не было, и в качестве растворителя использовали масло): пиры были масляными и лоснящимися, так же как и ночи любви.
Пир означал намного больше, чем только застолье, он был ценен сам по себе: его общая обстановка, возвышенные темы и упоминаемые за столом сюжеты были вполне ожидаемыми; если хозяин дома держал домашнего философа, во время пира он предоставлял ему слово; музыкальные номера (с песнями и танцами), исполняемые нанятыми профессионалами, могли еще больше украсить праздник. Пир — это важная социальная Демонстрация, значившая больше, чем просто удовольствие от попойки, именно поэтому пиры положили начало особому литературному жанру, жанру «пиров», где люди культуры, философы и ученые развивали самые сложные темы. Когда в зале для пиров разыгрывается салонный спектакль, из обычной трапезной он превращается в сцену, где воплощается в жизнь идеал пира, который ничем уже не может напоминать обычную деревенскую пирушку. «Выпивать» означало тогда — получать удовольствие от светских развлечений и высокой культуры и, иногда, от изысканного очарования дружбы: разве могли в таком случае мыслители и поэты не философствовать на тему вина?
Товарищества
Римляне действительно находили удовольствие в том, чтобы бывать вместе; это удовольствие не было показным. В городах существовали трактиры и «коллегии», то есть своего рода товарищества. Как в наши дни в мусульманских странах, люди встречали близких себе по духу в кафе, бане или у цирюльника. В Помпеях было очень много трактиров; туда заходили путешественники, бывшие в городе проездом, небогатые люди могли получить там горячую еду (не каждый горожанин имел дома печь), там же можно было поухаживать за служанками, сверкавшими яркими украшениями; любовные призывы писались прямо на стенах. Подобные практики были свойственны только простому народу, для аристократов посещение трактира считалось дурным тоном: знатный человек мог погубить свою репутацию, будучи замеченным за обедом в трактире. Проводить жизнь на улице считалось среди порядочных людей несолидным (вспоминали одного философа, который в былые времена вообще не выходил из дома без денег: он хотел иметь возможность оплатить любое из предложенных ему удовольствий). Императорская власть на протяжении четырех веков вела против трактиров маленькую войну, чтобы не позволить им превратиться в некое подобие ресторанов (thermopolium), поскольку питаться каждому человеку надлежало у себя дома.
Что касается товариществ (collegia), то император не слишком–то им доверял, поскольку они объединяли большое количество людей, чьи цели были до конца не ясны; справедливо или нет, но император опасался подобной концентрации сил. В сущности, эти «коллегии» представляли собой независимые частные объединения, в которые добровольно вступали люди, свободные или рабы, имеющие одну профессию или поклоняющиеся одному и тому же богу. Практически в каждом городке существовали подобные объединения, одно или несколько: так в одном городе образовывались, например, объединения ткачей или поклонников Геркулеса, а в соседнем — товарищество кузнецов и товарищество торговцев одеждой, почитавших Меркурия. Поскольку, каждое из этих товариществ размещалось только в одном городе, членами его становились жители этого города, хорошо знакомые друг с другом. Членами товариществ могли стать только мужчины: женщинам было не место в коллегии. Неважно, создавались ли коллегии на религиозной или профессиональной основе, — организованы они были в точности так же, как и сам город: каждая коллегия имела свой совет, свой магистрат, избиравшийся на год, коллегия принимала указы во славу своего покровителя, являвшиеся точной копией указов городских. Таким образом, коллегия представляла собой маленький шутейный город, в который под религиозным или профессиональным предлогом объединялись простые люди, жители одного и того же настоящего города.
Откуда такая страсть к объединениям? Какая необходимость заставляла плотников создавать такие–то модели городов, а почитателей Геркулеса — несколько иные? Одно несомненно: коллегии не имеют ничего общего с современными профессиональными союзами или с товариществами взаимопомощи у рабочих. Коллегия — это место, где собираются исключительно мужчины и где они находят взаимопонимание и участие. Если коллегия религиозная, чествование бога–покровителя станет хорошим поводом для пира; если же объединение профессиональное — его члены с удовольствием проведут время за пиршеством в кругу людей своей профессии, поскольку сапожнику нравится бывать среди сапожников, а плотник всегда найдет, о чем поговорить с плотником. Каждый новый член вносил определенную плату за право вступить в коллегию. Членские взносы и благотворительная помощь мецената составляли доходы коллегии, которые позволяли без особых забот устраивать пиры и обеспечивали членам коллегии достойные похороны, также сопровождающиеся пиром (коллегия даже рабу предоставляла возможность быть похороненным по- человечески). Параллели с рабочими и религиозными братствами времен нашего Старого порядка несомненны. Во Флоренции, рассказывает Дэвидсон, религиозные братства и братства ремесленников основывались под предлогом почитания Девы Марии или какого–либо святого; они с большой торжественностью отмечали похороны своих членов, которых процессия провожала до общего склепа, построенного самим братством. Объединения эти славились также безмерной любовью к пирам, часто посвященным памяти их основателей, оставивших деньги братству, чтобы его члены могли выпить в память о них (подобный поминальный эвергетизм и общие могилы братства были характерны и для римских «коллегий»). Пиры и похороны, пишет святой Киприан, вот две цели братства; иногда, чтобы устроить пир, не требовалось никакого повода: в городе Фано на Адриатике было братство «славных жителей, которые обедают вместе».
По мере того как количество коллегий росло, они превращались едва ли не в основной институт, определявший течение частной жизни среди плебеев. Именно поэтому имперская власть не доверяла коллегиям, и не без оснований, поскольку деятельность этих объединений не ограничивалась официально провозглашенными целями и даже целями неосознанными; если люди собираются вместе ради какого–либо дела, они, пользуясь случаем, обговаривают и другие дела, интересующие каждого из них. К концу периода Республики кандидаты на государственные должности обхаживали коллегии с тем же рвением, что и городских чиновников. Позднее, в Александрии, городе очень неспокойном в политическом плане, организовывались религиозные клубы, где люди, собравшиеся «под предлогом участия в жертвоприношениях, выпивали и в пьяном виде на чем свет стоит поносили политическую власть»; вдоволь накричавшись, они выходили на улицы с претензиями к чиновнику, защищавшему привилегии греков перед римским наместником, чиновнику, который со временем — и исключительно благодаря проявленной им щедрости — становился чем–то вроде председателя в этих религиозных братствах, представлявших собой античный аналог кафе, где люди собираются, чтобы поговорить о политике.
Заведения, куда приходят с единственной целью выпить с друзьями, все–таки всегда были более многочисленными. Однако у римлян страсть к объединениям была такой сильной, что коллегии создавались даже среди домашних или, под прикрытием какой–то особой набожности, в высшем обществе. Рабы и вольноотпущенники одной фамилии, фермеры и рабы одного поместья объединялись в коллегии, сбрасывались, чтобы обеспечить достойное погребение одному из своих товарищей, и, в знак своей привязанности к господину и его фамилии, строили небольшой домашний храм в честь бога–покровителя поместья или фамилии. Как и в других случаях, подобные коллегии подражали политической организации города.
Вакхическая идеология
В самих городах не забывали, что благодаря эвергетизму У населения появляется повод устроить общий пир. Для людей было важно, что есть возможность собраться вместе, на общем торжестве, которое символизировало общность и приносило Удовольствие от выпивки. Неважно, были ли эти пиры связаны с определенной датой или устраивались по какому–либо особому случаю — важным было ожидание праздника и удовольствия, которому придавали вид торжества. Не менее важными были и мысли о смерти. Существовала специфическая система верований, воплотившаяся в культе Вакха, в рамках которой пир и смерть были в равной степени значимы — ив равной степени подвергались символизации. Это была даже не вера в собственно религиозном смысле слова: если народ и был настолько наивен, чтобы верить в существование этого бога, ему вовсе не поклонялись, скорее его чествовали как персонажа, героя легенд; это был бог из Мифа. Некоторые мистические секты, как мы позже убедимся, действительно считали его величайшим божеством, но большинство римлян, когда приходила нужда обратиться за божественным покровительством, обращались к какому–то 6о лее, на их взгляд, аутентичному богу, и подарков по обету Вакху никто не подносил. И все–таки легенда о Вакхе была больше, чем просто легендой; это была система образов, встречавшихся повсюду — на мозаиках, на картинах, украшавших стены в домах или трактирах, на посуде, на всевозможных предметах домашнего обихода, — и смысл этих образов был всем понятен. Изображения Вакха встречались даже на саркофагах. Ни один сюжет не воспроизводился настолько часто, даже сюжеты с участием Венеры. Этот образ на все случаи жизни был пригоден для всего и ничему не противоречил, потому что вызывал лишь приятные мысли. Бог удовольствия и общения, Вакх всегда изображался в окружении свиты своих пьяных друзей и восторженных поклонниц: им были обещаны любые удовольствия, какие только можно себе представить; бог — благодетель и просветитель, который греет сердца и в самые дальние пределы приносит мир; он умеет укрощать ярость тигра, после чего тот становится кротким, как овечка, и сам впрягается в его колесницу. Ею поклонницы прекрасны и обнажены наполовину, так же как и его возлюбленная Ариадна. Вакхическая система образов не несла какого–либо религиозного или мистического смысла, не была она и чисто декоративной: она подтверждала значимость общения и получаемых в ходе общения удовольствий и давала на сей счет некие сверхъестественные гарантии: это была идеология, утверждение основ. Вакх был симметричен образу Геркулеса — символу гражданской и философской «добродетели».
Вакх, как носитель и живое подтверждение принципа удовольствия, служил для народа богом, в котором не принято было сомневаться. Это был вполне достаточный предлог для организации народных братств поклонников Вакха, которые в основном занимались тем (а принятые ими правила, собственно, и служили им заменой веры), что выпивали в честь любимого божества: в Средние века не менее радостно почитали некоторых святых из «Золотой легенды». Люди образованные считали истории о Вакхе легендой, милой фантазией, полагая, однако, что сам Вакх, может быть, и существовал, будучи одним из многочисленного сонма богов, или же что это был реальный персонаж, сверхчеловек, живший давным–давно, о настоящих подвигах которого со временем сложили легенды. Но и этого было достаточно, чтобы особо светлые умы сделали из него идола, чтобы образовывались секты почитателей Вакха — небольшие изолированные друг от друга группы особо набожных людей, сообщества, где находили себе место благочестие, салонная изысканность, а у некоторых членов сект и вполне аутентичный религиозный пыл. Чтобы представить себе этот гибрид снобизма и мистицизма в одном цветочном горшке, достаточно вспомнить социальный престиж и интеллектуальную изысканность первых франкмасонов времен «Волшебной флейты» и герцогов под Акацией
[23]; как и у франкмасонов, у сект поклонников Вакха были свои тайные ритуалы, церемонии посвящения («таинства») и внутригрупповая иерархия; в секту допускались как мужчины, так и женщины. Крайне редко лопата археолога натыкается на артефакт, относящийся к одной из таких мистических сект: это случалось всего один или два раза. Но и этого достаточно, чтобы заключить, что существование сект, популярных или нет, — еще одна черта той эпохи. Они давали выход душевным порывам и возможность находиться в обществе единомышленников; подобные искания стали одной из предпосылок духовной революции конца Античности.
Праздник и вера
Праздник и религиозность в сектах и братствах сосуществовали, потому что язычество было религией праздников: культ ничем принципиально не отличался от праздника, ко торый нравился богам, поскольку они получали от него такое же удовольствие, что и люди. Религия сочетает сопричаст ность божественному и торжественность; каждый верующий черпает из этого источника то одно, то другое из этих благ, пользуясь такой путаницей и сам того не осознавая. Как понять, было ли в Античности ношение венка знаком праздника или религиозной церемонии? Набожность — дань уважения богам; религиозный праздник доставляет участнику двойное удовольствие и при этом еще и является обязанностью. Путаница прекращается, когда от верующего начинают требовать исповедоваться в своих чувствах: язычество этого не требует. В язычестве дань уважения богам выражается в том, что удовольствию придается торжественный характер; однако тот, кто при этом лучше всех прочих чувствует присутствие божественного, тот, чья душа взволнована и растрогана этим обстоятельством, может стать по–настоящему счастливым.
Известно, что основным культовым действием было жертвоприношение, к которому подходили очень обстоятельно. Однако не стоит забывать, что в греческих или латинских текстах слово «жертвоприношение» означает еще и пиршество: любое жертвоприношение предполагало еду, причем жертвенное животное, собственно, и съедалось после того, как было зажарено на алтаре (в больших храмах была специальная кухня и штат поваров, которые готовили еду для верующих, пришедших совершить жертвоприношение); мясо жертвы предназначалось присутствующим, богам доставался дым. Остатки еды оставляли на алтаре, потом их растаскивали нищие. Если жертвоприношение совершалось не на домашнем алтаре, а на алтаре перед храмом, участники церемонии должны были оплатить работу жрецов, оставив им определенную часть туши жертвенного животного. Храмы, таким образом, получали дополнительные доходы, возвращая мясо мяснику (Плиний Младший, желая доказать императору, что ему удалось искоренить христианство в провинции, в которой он служил наместником, пишет ему: «Мясо жертвенных животных вновь появилось в продаже» — это означало, что жертвоприношения возобновились). Что же было первично: люди съедали жертвенное животное после обряда или, скорее, наоборот, жертвовали богам то, что и так собирались съесть? Все зависело от обстоятельств; слово, которым называли человека, часто совершавшего жертвоприношения (philothytes), в конце концов стало означать не столько его набожность, сколько радушие; это хозяин, устраивающий сытные обеды, амфитрион.
В каждом городе существовал свой религиозный календарь, где указывались религиозные праздники; дни праздников считались выходными. Таким образом, именно религия определяла количество и даты выходных дней в году (понятие недели, причем скорее в ее астрологическом понимании, чем в иудео–христианском, стали использовать только к концу Античности). В праздничные дни в дом приглашали Друзей, чтобы вместе с ними совершить жертвоприношение; такое приглашение считалось большей честью, чем просто Приглашение на обед. По особо торжественным случаям, рассказывает Тертуллиан, дом окуривался благовониями: в дни национальных праздников, посвященных императорам или каким–то конкретным богам, в первый день года и первый день каждого месяца. У римлян был обычай в начале месяца приносить в жертву поросенка в честь божеств–покровителей жилища, Ларов и Пенатов (само собой, подобную практику могли позволить себе только те, кто имел для этого достаточно средств). Большим ежегодным праздником, который отмечался с особым воодушевлением, был день рождения отца фамилии. В этот день господин устраивал пир в честь своего духа–покро- вителя (genius был своего рода дубликатом божества, личного покровителя каждого человека, и служил по большей части для того, чтобы его подопечный мог сказать: «Пусть мой дух меня бережет!» или же «Клянусь твоим духом, я выполнил твои распоряжения»). Бедные приносили не такие роскошные жертвы; если бедные люди с божьей помощью излечивались от болезни, они шли к храму Эскулапа и приносили ему в жертву курицу, которую потом съедали у себя дома; а могли и просто положить на домашний алтарь пшеничную лепешку (far pium).
Более простым способом совершить жертвоприношение было, судя по всему, то, что Артемидор называет теоксенией: богов приглашали на обед (invitare deos), водружая на стол во время трапезы их статуэтки, взятые на время из священной ниши, и располагая перед ними блюда с угощениями; после обеда кушанья с этих блюд доставались рабам, которые таким образом тоже могли принять участие в общем празднестве. Именно об этом, вероятнее всего, пишет Гораций: «О ночи, о ужин во имя богов! Где я и мои дорогие друзья едим перед духом, хранителем дома, и где я священною пищей своих развеселых рабов угощаю»
[24]. Праздник их веселил, и это было в порядке вещей. Крестьяне, сезонные праздники которых соответствовали календарю полевых работ, отмечали их с неменьшим весельем. Заодно с подарками, которые ему со всей возможной торжественностью преподносили арендаторы, владелец имения приносил в жертву богам–покровителям полей десятую часть всего урожая; после чего все принимались есть, пить и танцевать. Наконец (об этом ясно говорит Гораций, на это же намекает Тибулл), наступала ночь, дающая право или, скорее, даже вменяющая в обязанность любить друг друга, чтобы достойно завершить этот день, полный радости и уважения к богам. Аристиппа, философа и теоретика удовольствий, упрекали в том, что он ведет вялую и пассивную жизнь: «Если это так плохо, ответь, почему все делают это на праздниках богов?»
Бани
Помимо праздничного воодушевления и угощений, предполагаемых религиозным календарем, существовали и другие удовольствия, в которых не было ничего священного и которые можно было найти только в городах; это было одним из преимуществ (commoda) городской жизни, преимуществ, также основанных на практике эвергетизма. Речь идет об общественных банях и зрелищах (театральных спектаклях, состязаниях колесниц в цирке, боях гладиаторов или сражениях с дикими животными на арене амфитеатра или, в греческих провинциях, в театре). Бани и зрелища были платными, по крайней мере в Риме (вопрос не до конца ясен, во всяком случае цена должна была колебаться в зависимости от щедрости каждого конкретного мецената), но плата за вход была вполне умеренной. Кроме того, оставались и бесплатные места, на которые очень быстро выстраивалась очередь в ночь накануне представления. Свободные люди, рабы, женщины, дети — все, включая иностранцев, имели доступ на спектакли или в бани; когда выступали гладиаторы, посмотреть на них приходили люди из деревень, расположенных очень далеко от города. Лучшая часть жизни каждого римлянина проходила в публичных местах.
В баню ходили не столько за чистотой, сколько за чисто физическим чувством наслаждения, подобно тому, как у нас ведут пляжную жизнь. Мыслители и христиане откажутся от этого удовольствия; полагая, что чистота есть проявление излишней изнеженности, они будут купаться не чаще одного двух раз в месяц; грязная борода философа свидетельствовала о той аскезе, в которой он себя держал и которой гордился. Не было ни одного богатого дома без многочисленных залов, специально оборудованных под бани, с подземными устройствами для подогрева воды; не было ни единого города, где бы не завели хоть одну общественную баню, а при необходимости и акведук, который подводил воду в баню и в общественные колодцы (проводить воду в жилище запрещалось, это было равносильно контрабанде). Гонг (discus) каждый день извещал горожан об открытии бани, и звук его, по словам Цицерона, был слаще, чем голос философов в их школах.
Бедные люди за весьма небольшие деньги могли прове сти время в роскоши, которую в знак уважения даровали им власти, император или городские чиновники. Кроме сложного устройства горячих и холодных ванн, в банях были променады, площадки для занятий атлетикой и для игр (греко–римские бани служили еще и гимнасиями, собственно, в греческих провинциях они сохранили за собой это название). Мужчины и женщины отдыхали отдельно, во всяком случае чаще всего Раскопки в Олимпии позволяют проследить эволюцию банных сооружений на протяжении более чем семи веков. Вначале это были скромные функциональные строения, где располагался бассейн с холодной водой и две сидячие ванны: одна с горя чей водой, одна — для пара; «термы» уже становятся целыми комплексами зданий, предназначенных для получения целого спектра удовольствий; согласно одному известному изречению, термы и амфитеатры были истинными храмами времен язычества. Начиная с эллинистических времен бани служили не только для соблюдения чистоты, они позволяли каждому реализовать свои мечты о лучшей жизни. Значительным новшеством (приблизительно к I веку до н. э. в Олимпии, а еще раньше в Гортисе, в Аркадии) стал подогрев полов и даже стен в банях: если раньше ограничивались только нагревом воды в ваннах и в бассейне, то теперь в городе появилось доступное место, где всегда было тепло. В то время, каким бы ни был мороз, в доме не существовало никакого обогрева, кроме жаровни, и зимой люди оставались в плащах и на улице, и в своих жилищах: поэтому в бани ходили и для того, чтобы просто согреться. Благодаря конвекции во всех зданиях терм Каракаллы был создан особый микроклимат. Следующим эволюционным изменением стало превращение сугубо функционального строения в замок мечты, со скульптурами, мозаикой, декоративной росписью, роскошной архитектурой, предоставляющий каждому возможность побывать в царском дворце. В этой «пляжной жизни» посреди искусственного лета наибольшим удовольствием оставалось присутствие среди множества других людей, бани были местом, где можно кричать, встречаться с друзьями, слушать собеседников, узнавать о забавных происшествиях, которые со временем станут сюжетом для анекдота — и красоваться на фоне толпы.
Зрелища
Страсть к состязаниям колесниц в цирке и сражениям гладиаторов на арене, вздыхает Тацит, у молодых людей из хороших семей соперничает с желанием изучать красноречие. Представления увлекали всех, включая мыслителей и сенаторов; колесницы и гладиаторы не были развлечением, предназначенным исключительно для простого народа. Критика зрелищ, в нашем понимании, была чаще всего платонической и имела сугубо утопический характер; театральные спектакли, которые называли пантомимами (сейчас значение этого слова изменилось, в то время это были своего рода оперы), осуждали за то, что они приводят к изнеженности, и время от времени даже запрещали, в отличие от гладиаторских боев: считалось, что гладиаторы, гадкие и отвратительные, такие, какие есть, учат зрителей храбрости. Но даже бои гладиаторов и состязания колесниц находили своих критиков: эти зрелища, по их мнению, поддерживали человеческую склонность усложнять простые вещи и придавать значение пустякам. В греческих провинциях интеллектуалы из тех же соображений, никак не связанных с заострением социальных различий, осуждали соревнования атлетов; другие им возражали: мол, подобные соревнования дают уроки выносливости, бодрости духа и красоты.
И тем не менее интеллектуалы посещали зрелища точно так же, как и все остальные. Цицерон, который спешил сообщить всем на свете, что проведет дни представлений, считавшиеся выходными, за написанием книг, тем не менее все–таки туда ходил, о чем потом давал отчет своим корреспондентам. Когда Сенека чувствовал, что в душе у него сгущаются тучи меланхолии, он приходил в амфитеатр, чтобы немного развлечься. Меценат, знатный и утонченный эпикуреец, просил своего верного Горация принести ему программу сражений. Однако Марк Аврелий присутствовал на гладиаторских боях исключительно потому, что таков был долг императора: он полагал, что эти представления почти всегда одинаковые. Всеобщая страсть к зрелищам заходила еще дальше: и золотая молодежь, и простые люди делились на соперничающие группировки, поддерживающие того или иного актера, команду возничих или гладиаторов настолько бурно, что иногда дело доходило до самых настоящих общественных волнений, в которых не было никакой социальной или классовой подоплеки. Иногда при ходи лось даже удалять с представления актера или возничего, способного вызвать настолько бурную реакцию толпы в свою поддержку или, наоборот, настроить публику против себя.
В самом Риме, как и в любом другом городе, представление неизменно становилось значимым событием; в греческих провинциях таким же важным событием были состязания атлетов: большие (isolympicoi, periodicoi), средние (stephanitai), воплощавшие собой все, что только есть на свете чисто греческого, и сопровождавшиеся ярмаркой, и малые (themides). Были у греков и бои гладиаторов, которые они услужливо переняли у римлян. Атлеты, актеры, возничие и гладиаторы находились в центре внимания; сам театр определял моду: народ распевал песни, ставшие популярными после их исполнения со сцены.
С точки зрения философской мудрости, страсть к зрелищам была предосудительна и порицалась так же, как и стремление к излишествам; христиане считали, что «театр — это сладострастие, цирк — отрешенность, а арена — жестокость». Причем, на их взгляд, жестокими были сами гладиаторы: они добровольно шли на убийство и самоубийство (и в самом деле, и то и другое было добровольным, в противном случае такого рода зрелища стали бы представлениями весьма посредственными). И если в нашем понимании осуждения достоин садизм самих зрителей, то подобный аргумент никогда бы не пришел в голову ни одному римлянину, вне зависимости от того, был он философом или нет. Гладиаторы привносили в жизнь римлян крепкую порцию вполне одобряемого всеми садистского наслаждения: наслаждение видеть трупы, видеть смерть человека. Само по себе зрелище не было подобием фехтовального поединка с реальным риском: весь интерес заключался в самой смерти одного из гладиаторов или, еще того лучше, в решении толпы его добить или же пощадить, когда он, изможденный и обезумевший, будет просить о пощаде. Самые лучшие бои заканчивались именно так — решением о смерти пли помиловании, которое принимал меценат, устроивший этот бой, или уставшие от зрелища зрители. Многочисленные изображения на лампах, посуде и других предметах домашнего обихода воспроизводят сей важный момент; меценат, оплативший представление, также не упускал возможности лишний раз похвастаться своими заслугами: он заказывал картины, мозаики или скульптуры для своей передней или для надгробия, на которых отображался момент убийства обессиленного гладиатора; если же он покупал у Фиска приговоренных к смерти заключенных с тем, чтобы казнить их в антракте представления, он велел запечатлеть их отданными на растерзание диким зверям — за его счет. Эвергетизм обязывает. В греческих провинциях смерть боксера во время поединка на состязаниях атлетов также не считалась «несчастным случаем во время состязаний»: она приносила атлету истинную славу, почти как смерть на поле брани; публика прославляла его храбрость, его силу духа и волю к победе.
Из этого не следует, что греко–римская культура была садистической; само по себе удовольствие видеть страдания не было общепринятым, и к тем, кто во время боев явно упивался видом перерезанного горла гладиатора, относились с неодобрением. Так, например, вел себя император Клавдий, когда вместо того, чтобы беспристрастно наблюдать за происходящим, приказывал, чтобы побежденному бойцу горло перерезали непосредственно перед его ложей. Во времена Старого режима во Франции толпы народа столь же бесстрастно присутствовали на публичных казнях. Литература и изобразительное искусство римлян вовсе не были садистическими: совсем наоборот — завоевав очередной варварский народ, римляне первым делом отменяли казни. Отдельные проявления культуры могут идти вразрез с ее основными принципами; римские зрелища являли собой один из таких культурных феноменов. Изображения казни были распространены в искусстве Рима лишь потому, что казнь несчастных совершалась во время представления, всеми признанного культурного института. У нас совершенно садистские картины можно увидеть в фильмах о войне, где их оправдывают соображениями патриотического долга, — любые другие изображения садизма общество отвергает: признать, что тебе что–то подобное может по–настоящему нравиться, попросту неприлично. Христиане осуждали это удовольствие от созерцания насилия куда принципиальнее, нежели само насилие.
Наслаждение и страсть
Подобные противоречия и необъяснимые ограничения, существовавшие на протяжении веков, обнаруживаются и в другом удовольствии, в любви. Если есть в греко–римской истории что–либо измененное до неузнаваемости и ставшее мифом, так это любовь. Не стоит полагать, что Античность представляла собой рай просто потому, что никакого давления со стороны христианства, еще не успевшего впустить червя греха в запретный плод страсти, не существовало. В действительности же и само язычество было парализовано своими собственными бесконечными запретами. Миф о языческом сладострастии — не более чем традиционное искажение действительности: известная история о распутстве императора Гелиогабала — всего лишь злая шутка, записанная авторами «Истории Августов», этой старой подделки; юмор этого текста сродни юмору романа «Бувар и Пеюоше» или юмору Альфреда Жарри: мы же не думаем, что его король Убю настоящий. Миф возникает еще и от неуклюжести самих запретов. «Латынь на словах бравирует порядочностью»: если быть точным, то этим людям, чьи души пребывали в чистоте едва ли не первородной, порой достаточно было одного–единственного «веского слова», чтобы они трепетали или смеялись от смущения. Подобная отвага есть отвага школьников.
Кого признавали настоящим распутником? Того, кто нарушал три главных запрета: занимался любовью до наступления ночи (любить друг друга днем могли только молодожены на следующий день после заключения брака); занимался любовью не в темноте (эротические поэты брали в свидетели лампу, которая освещала их удовольствие); занимался любовью с партнершей, снявшей с себя всю одежду (только падшие женщины делали это без бюстгальтера; на картинах, изображавших бордели в Помпеях, проститутки прикрывают грудь). Существовавшая вольность нравов даже ласки, которые были лишь легким прикосновением, дозволяла при условии, что делалось это только левой рукой, ни в коем случае не правой. Порядочный мужчина мог увидеть наготу любимой только в том случае, если луна случайно заглянет в открытое окно. О тиранах–распутниках Гелиогабале, Нероне, Калигуле или Домициане шептались, что они нарушали еще один запрет: они, мол, занимались любовью с замужними дамами, с девственницами из хороших семей, с подростками, свободными по рождению, с весталками и, наконец, с собственными сестрами.
Подобный пуританизм имел и свою оборотную, жестокую сторону. Символическая поза влюбленного — вовсе не та, где он держит возлюбленную за руку, за талию или, как в Средние века, обнимает ее за шею; влюбленный Античности изображается развалившимся на служанке, будто на диване: это нравы гарема. Легкие формы садизма обнаруживаются и в рамках еще одной принятой практики: в постели эту рабыню избивали под тем предлогом, что нужно заставить ее покориться. Партнерша служила для того, чтобы доставлять удовольствие своему господину, и иногда сама делала за него все, что требуется: если она «садится верхом» на возлюбленного, который лежит и не двигается, то исключительно затем, чтобы услужить ему.
Эта тирания была сексистской до крайности: овладеть женщиной и не дать ей овладеть собой; молодые люди дразнили друг друга словами, имевшими фаллические коннотации. Быть мужчиной — значит быть активным, получая удовольствие в сексе с пассивным партнером (или партнершей); существует два наивысших для мужчины унижения: во–первых. если мужчина проявляет рабскую покорность вплоть до того, что способен доставлять женщине удовольствие собственным ом; и, во–вторых, если он, как свободный человек, совершенно себя не уважает и в распущенности своей (impudicitia) доходит до того, что позволяет кому–то овладеть собой. Как мы знаем, педерастия считалась легким грешком: дело в том, что у свободного человека такие отношения могли возникнуть только с рабом или простолюдином; над этим подшучивали в народе или в театре, этим хвастались в высшем обществе. Поскольку практически каждый человек мог получить чувственное удовольствие при общении с человеком одного с ним пола, античная толерантность вполне допускала широкое распространение педерастии, впрочем, речь шла о связях довольно поверхностных: многие мужчины гетеросексуальной ориентации охотно получали такое легкое удовольствие с мальчиками; то, что мальчики приносят тихое и спокойное наслаждение, повторяли, словно поговорку: мол, мальчик не может затронуть душу, тогда как страсть к женщине погружает свободного мужчину в мучительное рабство.
Рабовладельческий маскулинный сексизм и отказ от любовного рабства — вот границы любви римлян. Групповые сексуальные оргии, которые приписывают тиранам, были всего лишь очередным проявлением власти рабовладельца над своими рабами и вольностями в стиле де Сада. Нерон, тиран скорее вялый, чем жестокий, получал в своем гареме удовольствие, пассивно позволяя партнерам трудиться над его телом; Тиберий устраивал для себя развлечение, вынуждая своих маленьких рабов себя ублажать, а Мессалина выказывала собственную рабскую покорность, копируя при этом поведение невоздержанных мужчин, вынужденных
распределять свои силы между многочисленными партнершами. По сути, это было не столько нарушением самих запретов, сколько ложным их толкованием и намерением заранее спланировать удовольствие, что само по себе являлось проявлением совершенно недопустимой слабости, поскольку чрезмерное сластолюбие, так же как алкоголь и прочие удовольствия, представляет собой угрозу для мужской силы. Поэтому злоупотреблять этим нельзя: ведь изысканные деликатесы готовят для получения особого удовольствия от еды, а не для того, чтобы наесться до отвала.
Любовная страсть — еще большая угроза для мужчины, поскольку превращает свободного человека в раба одной–единственной женщины. Он называет ее госпожой и, словно рабыня, протягивает ей зеркало или зонтик. Любовь не была для римлян тем, чем она является для наших современников, она не была для них маленьким придуманным миром, где двое чувствуют себя защищенными и по какой–то не слишком понятной причине отстраненными от остального общества. Рим не принимал традиции греческой куртуазной любви к красивым юношам, потому что считал ее экзальтацией чистой страсти, во всех смыслах этого прилагательного (греки предпочитали верить, что любовь к эфебу, рожденному свободным, была платонической). Если римлянин влюблялся до беспамятства, то и его друзья, и он сам считали, что он либо потерял голову от какой–то бабенки из–за чрезмерной чувственности, либо морально низвел себя до положения раба и покорно, как верный раб, готов пожертвовать жизнью ради своей госпожи, если она того захочет. Подобный переизбыток чувств воспринимался как непристойная демонстрация позора, и даже эротические поэты не решались в открытую восхвалять такую любовь: они воспевали страсть косвенно, как будто бы изумляясь этакой нелепой напасти — как феномену откровенно комическому.
В Античности экзальтация страсти в стиле Петрарки была бы попросту скандальной — или послужила бы прекрасным поводом для насмешки. Римляне не знали средневекового возвеличивания предмета любви, объекта настолько возвышенного, что он должен оставаться недоступным. Не знали римляне и субъективизма, свойственного нашим современникам, которые стремятся во всем опираться на личный опыт, а не на общепринятые ценности, и в окружающем их безразличном мире предпочитают жить так, как считают нужным, действовать, чтобы узнать, что из этого выйдет, а не просто потому, что так принято, или потому, что их к этому обязывают, римляне не знали и настоящего христианства эпохи Возрождения, с его бесконечными молитвами и моментами озарения. Снисходительность, стремление к чувственным наслаждениям, которые становятся усладой для души, — все это не имеет отношения к Античности. В античных вакхических сценах нет ничего от барского разгула Джулио Романо в Палаццо дель Те в Мантуе. Отношение римлян к действительности было своего рода проявлением индивидуализма, который уважал правила, подразумевая возможность их нарушить: таков парадокс их несколько аморфной энергичности. Они с удовольствием смаковали подробности частной жизни сенаторов, исполненной безволия и неги, и при этом до небес превозносили их необычайную активность в жизни общественной: таковы Сципион, Сулла, Петроний и сам Катилина. Этот парадокс был тайной посвященных и делал сенаторскую элиту похожей на царствующих особ, носителей истинного разума, находящихся в буквальном смысле выше всех общественных законов; вялость порицали, но само это порицание могло быть весьма лестным.
Таковы римляне: люди удовлетворенные. Их индивидуализм опирается не на жизненный опыт, довольство собой или какое–то особенное благочестие — он проявляется в успокоенности.
УСПОКОЕНИЕ
Их категории и наши
Как избавить личность от душевных терзаний? Та мудрость, в различных ее трактовках, которую мы теперь называем античной философией, по большому счету не ставила себе никаких целей, кроме этой. Да и религия, со своей стороны, не предлагала ничего большего, поскольку, в общем и целом, не обещала какого–либо спасения в загробном мире. Существование самого загробного мира часто и вовсе отрицали — либо описывали его так туманно, что смертный мог рассчитывать только на то, что в могиле никто его не будет трогать и что по еле смерти он, наконец, отдохнет. Философия, религиозность и загробный мир не навевали тоски и не вызывали тревоги. И это еще не все: границы этих трех сфер отличались от со временных, да и сам смысл слов был другим. Кто мы есть? Что я должен делать? Куда мы идем и на что мне надеяться? В этих вопросах нет ничего естественного; ни античное мышление, ни античная религиозность подобных вопросов не ставили: они возникли уже после того, как на них ответили христиане. Проблемы Античности были далеки от этих категорий.
У нас философия представляет собой университетскую дисциплину и часть культуры; это область знаний, которую изучают студенты и которой из большого любопытства интересуются образованные люди. Духовные убеждения и правила жизни, при помощи которых человек может организовать свое существование, составляют важную часть религии. Загробный мир составляет другую ее часть: представления о том, что после смерти ничего уже не будет, на наш взгляд, в высшей степени безбожны. У древних житейские правила и духовные убеждения составляли самую сущность «философии», а не религии, тогда как в компетенции религии находились представления о смерти и о загробной жизни, и это было едва ли не единственное между ними отличие. Существовали и секты, но они были философскими, поскольку философия занималась предметом, способным предложить людям то, в чем они нуждались: жизненные правила и убеждения. Люди становились стоиками или эпикурейцами и в большей или меньшей степени придерживались соответствующих убеждений, подобно тому, как у нас становятся христианами или марксистами, принимая на себя соответствующие моральные обязательства жить согласно своей вере или бороться за нее. Можно было бы провести аналогию с древним Китаем, где духовные школы, конфуцианство и даосизм, предлагали человеку свои теории и свои правила жизни; или с современной Японией, где один и тот же человек может быть сторонником одной из подобного рода школ, оставаясь при этом, как и все японцы, синтоистом. При этом он женится по синтоистскому обряду, а когда умирает, его похоронят согласно буддистским традициям: он как будто исподволь принимает утешительные идеи буддизма с его представлениями о загробной жизни, о которой он и не задумывался, находясь в добром здравии.
Каким же был бог?
Греко–римское язычество было религией без загробного мира и спасения души, хотя подобное сочетание отнюдь не обязательно подразумевает религию холодную, безразличную к моральному облику человека. На подобную мысль могло бы — ошибочно — навести то обстоятельство, что в этой религии не было ни теологии, ни Церкви, что, если можно так выразиться, она была религией скорее «на ваше усмотрение», чем «согласно прейскуранту»: каждый мог поклоняться тому богу, который ему больше нравился, в соответствии со своими об этом боге представлениями. Вместо «однопартийности», то есть единой Церкви, существовали «свободные религиозные предприятия»: каждый мог организовать свой собственный храм и назначить бога по своему желанию, подобно тому как открывают, например, мотель или запускают в производство новую продукцию. Каждый человек становился клиентом бога, избранного им лично для себя, и это отнюдь не обязательно был тот же бог, которого выбрал в качестве покровителя его родной город: у человека была свобода выбора.
Все происходило именно так, потому что между «богом» в греко–римском понимании и «богом» в понимании иудеев, христиан и мусульман — очень мало общего. В каждой из этих трех религий, организованных вокруг своей главной Книги, бог представляется неким гигантским существом, всеобъемлющей сущностью, стоящей над мирозданием; он существует только в качестве действующего лица космической драмы, в которой человечество играет свою роль — и воздает ему должное. Языческие боги живут своей жизнью, и их существование не сводится к роли чисто метафизической; к тому же они являются частью этого мира: они принадлежат к одной из трех рас, населяющих мир. Есть животные — смертные и неразумные, люди — смертные и разумные, и боги — существа разумные и бессмертные. Раса божеств — природа живая и индивидуализированная, и она настолько реальна, что представители этой фауны бывают мужского и женского пола. Следовательно, у всех народов боги настоящие. И здесь есть два варианта: либо другие народы знакомы с богами, о существовании которых греки и римляне до сих пор не знали; либо они поклоняются уже известным богам, только называют их по–своему: Юпитер везде остается Юпитером, так же как лев — повсюду лев, вот только Юпитер на греческом зовется Зевсом, на галльском — Таранисом, на иврите его называют Йао. Имена богов переводят с одного языка на другой, подобно тому как переводят имена людей и названия планет. Часто чужие боги воспринимались в качестве порождения смешных суеверий, подобных тем, что заставляют верить в фантастические бестиарии; над египетскими богами с телами животных посмеивались. Верующие люди Античности были так же толерантны, как, например, представители индуистских религиозных школ: признание одного бога не отрицает существования других.
Не менее важным было представление о том, может ли человек предстать в другом качестве, изменив свою сущность. Чтобы продемонстрировать, о чем идет речь, нарисуем на доске круг, который символизирует мир в представлении трех религий, «имеющих Книгу»; по своей значимости в мире человек займет как минимум половину круга. А Бог? Он настолько велик и огромен, что останется далеко за пределами окружности; мы сможем лишь начертить стрелку вверх и нарисовать возле нее знак бесконечности. Перенесемся теперь в мир язычества: разделим круг на три части горизонтальными линиями — получится подобие лестницы. Нижняя ступень отведена животным, средняя — людям, и самая верхняя — богам. Чтобы стать богом, нет никакой необходимости карабкаться в неведомые высоты: боги находятся сразу над людьми, настолько близко, что и с латыни, и с греческого слово «божество» зачастую можно перевести как «сверхчеловек». Эпикур говорит об одном из своих последователей — он был «богом, именно, богом»: и мы понимаем, что речь идет о сверхчеловеческом гении. Вот почему космос называли божественным: он был созданием сверхчеловеков, обычный человек был бы на такое не способен. Вот почему можно было обожествлять царей и императоров; эта идеологическая гипербола вовсе не была абсурдной: ведь речь идет о том, чтобы скакнуть на одну ступеньку выше, чем та, на которой ты стоишь сейчас — а не о том, чтобы раствориться в бесконечности. Именно поэтому школы стоиков и эпикурейцев могли предложить человеку возможность достичь высшей мудрости и тем самым, оставаясь смертным, стать равным богам, то есть, собственно, и превратиться в «сверхчеловека»…
Так же как в случае с земной фауной, человеческий род поддерживает отношения с фауной божественной, и, поскольку божественная раса выше, люди должны почитать богов; им оказывают знаки уважения, подобные тем, что положены людям более высоким по статусу — и правителям. У богов есть свои обычаи и свои причуды, к которым можно относиться с уважительной улыбкой, подобно тому как посмеиваются над капризами иностранных властителей люди, достаточно богатые, чтобы себе это позволить. В народе подшучивали над любовными увлечениями великого Юпитера подобно тому, как подданные короля Генриха IV охотно судачили о любовных похождениях своего короля, которого безмерно уважали и боялись: шутки над тем, что свято, поддерживают слепую веру. Отношения между людьми и богами были обоюдными; верующий, обещая Эскулапу петуха, чтобы излечиться от болезни, надеялся, что тот выполнит условия контракта, заключенного между расой богов и расой людей, и что он сам, как добропорядочный человек, получит от этой сделки то, что ему причитается. Порой боги не оправдывали надежд: «Где же твое слово, о Юпитер?» Поведение богов иногда вызывало чувство разочарования, и люди их осуждали, подобно тому, как мы критикуем правительство: «Юпитер, имей жалость к этой больной девочке! Если ты позволишь ей умереть — люди тебя осудят!» После смерти Германика, наследника Августа и Тиберия, народ Рима начал забрасывать храмы камнями, подобно тому как манифестанты швыряют булыжники в окна иностранных посольств. С богами можно было даже разорвать отношения: «Если боги не щадят меня, я тоже не буду их щадить», — пишет один разгневанный бедолага.
Отношение к богам
Отношение людей к божествам было аналогично их отношению к власть имущим, императорам или патронам. Прежде всего нужно было приветствовать богов поднятием руки перед их изображением. Чаще всего в молитвах старались польстить самолюбию богов, подчеркивая их могущество: «Юпитер, помоги мне, потому что ты это можешь»; то есть если бог этого не делает, он рискует показаться не таким могущественным, как люди его себе представляют. Предполагали, что утомленные бесконечными просьбами боги могут воспринимать мольбы людей с надменным безразличием патрона (fatigare deos
[25]). Чтобы выразить свое уважение богу, чаще всего «заглядывали в храмы», расположенные в непосредственной близости от дома, подобно тому как клиенты каждое утро наносят визиты вежливости своему патрону; предполагалось что бог, храм которого находится по соседству, может стать подходящим покровителем. Свобода, легкость и наивная безмятежность языческих взаимоотношений с богами объясняются тем, что эти взаимоотношения строились по типу политических и социальных. Подобная проекция межчеловеческих отношений на отношения религиозные сохранилась и в христианстве, только в качестве модели использовались семейные и патерналистские связи, поэтому христианство — религия смирения и любви: гениальность святого Августина и возвышенная духовность святой Терезы, по сути, являют собой гипертрофированные представления о семейных отношениях. Отсюда и страх Лютера перед произволом всемогущего Папы. Была еще одна метафора, которой рассудительные язычники не принимали: рабская покорность. Если человек всегда трепещет перед богами, словно раб перед капризным и жестоким господином, то такое поведение недостойно ни богов, ни свободного человека. Подобный страх перед богами они объясняли «суеверием» и считали его позволительным для простолюдинов с Востока, привыкших повиноваться своим владыкам и веривших, что набожность заключается в том, чтобы объявить себя рабом, слугой своего бога. В сущности, классические отношения с богами — отношения свободные и благородные.
Настоящая вера состоит в том, чтобы представлять себе богов благодетельными и справедливыми, благосклонными и творящими чудеса, словно благородные супермены. Не все могут достичь такого уровня веры, поскольку каждый строю свои взаимоотношения с богами по–своему. Некоторые полагают, что счет дружбы не портит, и предлагают богу контракт («вылечи меня, и получишь приношение»); если бог выполнил обещание, ему платят и приносят в храм экс–вото
[26] в качестве квитанции за уплаченный долг. Другие считают богов такими же бестактными, как и они сами: «Сделай меня богаче моего соседа». Такие люди не решаются произнести свою просьбу вслух, в присутствии других верующих, поэтому записывают ее на бумаге, запечатывают и оставляют на алтаре. Но истинно верующие — люди более деликатные — знают, что божества предпочитают дорогие подарки, пусть даже это будет простая лепешка, поднесенная богу от чистого сердца. Если, попав в сложное положение, люди чаще ходят в храмы и дают больше торжественных обещаний богам, чем обычно, — то это скорее от любви к ним, а не из расчета, не из собственной выгоды; благочестивый человек и так старается как можно чаще общаться с богами: это и обеты, и паломничества, и явление богов во сне. Набожность состояла не в вере, изучении богословских трудов или созерцании, а в конкретных действиях, обращенных к богу, как к патрону и покровителю, которого любят. Болезнь, путешествие, роды — любое из этих обстоятельств было лишь удобным случаем доказать богам свою преданность.
Некоторые из этих практик были освящены обычаем. Кого же считали безбожником? Один отрывок из Апулея говорит об этом совершенно определенно: «Он никогда не обращается с просьбой ни к одному богу, никогда не ходит в храмы; проходя мимо святилища, он в знак поклонения прикрывает рот рукой; он никогда не подносит даров богам своего жилища, которые его кормят и одевают, не отдает богам первые плоды урожая и приплод от своих стад; на землях, где стоит его усадьба, нет ни одного святилища, ни одного уголка, предназначенного для богов, нет ни одной священной рощи». Благочестивый человек ведет себя совершенно иначе: во время путешествия, «проезжая мимо святилища или священной рощи, он останавливается, произносит слова обета, оставляет на алтаре какой–либо плод и задерживается на некоторое время, чтобы посидеть рядом с богами». Этот обмен даров и обетов на покровительство богов играл роль молитвы. Если Бог — это Отец, ему можно только молиться, в то время как с богами–патронами вступают в отношения обмена дарами, отношения, которые строятся на взаимовыгодных условиях, поддерживают и символизируют дружбу между неравными партнерами, каждый из которых живет собственной жизнью. Если в этих отношениях человек вел себя слишком вольно, это воспринималось как наивное простодушие; над женщинами, приходящими в храм Исиды, чтобы поведать богине о своих неприятностях, посмеивались; принято было вести себя по–другому: свободный человек должен соблюдать дистанцию в своих отношениях их другими людьми, и с богами. Он никогда не унижается до положения слуги: пусть чернь проводит целые дни в храмах, рабски прислуживая богу и часами кривляясь перед его статуей, изображая из себя не то цирюльников, не то денщиков.
Все эти личные религиозные практики, напоминающие популярный в Средние века культ святых, служили для человека двойным успокоением. Люди не слишком религиозные, которые в другом обществе считались бы неверующими, искали в отношениях с богами нечто вроде магического утешения, помогающего противостоять опасностям и бедам реальной жизни; религиозные действия были для них эквивалентом талисманов или амулетов. Религиозно ориентированный разум находил в этих действиях подтверждение существования «других» сфер. Божественное присутствие расширяло границы пространства, тем самым обесценивая окружающую человека действительность; в этом расширенном мире находилось место и реальности, и тому факту, что не только реальность нас окружает. В частных письмах, найденных в Египте в немалом количестве, тема богов присутствует постоянно (однако, уточним, что о божественности императора в них никогда не упоминается).
Магическая и религиозная составляющие этих успокоительных обрядов были практически неотделимы друг от друга; напоминания о существовании божественного можно было заметить вокруг себя, в любой момент и буквально повсюду — нужно было только уметь читать символы и жесты («религия» — одно из тех парадоксальных явлений, которые вносят в умы людей больше всего путаницы). Храм, который облагораживает пейзаж и служит напоминанием о существовании другой реальности, элементарное проявление религиозности в быту (на домашний алтарь проливали первую каплю из чаши, которую собирались выпить) — все это подтверждает, что религиозные чувства не сводились к одним лишь представлениям о пользе. Сам император удостаивался знаков уважения, оказываемых богам, для его статуэтки в священной нише всегда находилось место — в каждом доме. Потому, что его считали богом? Нет: никто не обращался к его изображению с просьбами и никто не думал, что смертный человек может излечить от болезни или вернуть потерянную вещь. Было ли это религиозным прикрытием патриотизма или смирения перед властью? Нет. Персонализированный культ харизматического диктатора? Не более того: произнося за столом тост за его святой образ, подтверждали существование иных сфер, которые расширяют границы нашего мира, и выражали им свое почтение.
«Боги»
Эта индивидуализированная религия играла и еще одну, третью, роль (правда, не так успешно), ту, которой не брала на себя мудрость, ту, что со временем не возьмет на себя христианство: она служила беспристрастным гарантом не вполне очевидных этических убеждений. До сих пор мы рассматривали религию лишь с точки зрения взаимоотношений верующего с различными божествами пантеона, Юпитером, Меркурием, Церерой и т. д. Но ничуть не реже греки и римляне апеллировали и к «богам» вообще. Вместо обращения к богам во множественном числе часто говорили о божественном, в среднем роде, или о «боге», так сказать, в общем смысле (как, например, философ говорит о «человеке» вообще) или же о «Юпитере». То есть «боги» во множественном числе, так же как и все эти синонимы, фактически означали не совокупность различных богов, а нечто совсем другое: «боги» выполняли функции и обладали свойствами, которых чаще всего не было у каждого отдельного бога. «Богам» не посвящали обрядов и не почитали их так, как каждого бога в отдельности. Зато им приписывали могучую волю: «боги», несомненно, были всевидящими, дарующими и карающими; «боги» покровительствовали добродетельным людям, даровали им удачу и верную победу. «„Боги” накажут моего гонителя, — говорил один несчастный, — они покарают злодея в загробной жизни, они не допустят этого»; «боги» защищают наш город… К «богам» обращали люди все свои надежды. Они любили повторять, что «боги» управляют событиями или что они обустроили этот мир для человека. По правде сказать, о том, каким же образом «боги» осуществляли это свое влияние, люди на слишком задумывались: руку «богов» узнавали в событиях приятных или желаемых, не обращая внимания на все остальное. Конкретное высказывание по поводу того или иного действия, произошедшего по воле богов, означало лишь, что действие это, несомненно, похвальное и что само Небо свидетельствует в пользу этого неоспоримого факта. В лице «богов» во множественном числе язычники видели Провидение, на которое можно было ссылаться, при этом ему не поклоняясь.
Но и это еще не все: и «боги» в смысле Провидения, и различные боги пантеона, эти благородные супермены, были поборниками высокой морали; они выступали на стороне добра и против всяческого злодейства. Конечно, род богов существовал сам по себе, и его роль не сводилась к действиям законодательным и карательным; однако боги представлялись существами благородными: они поощряли добродетель и ненавидели порок и зло, а люди, допустившие таковое в силу собственной аморальности, рано или поздно должны были почувствовать зло на своей собственной шкуре. Таков ответ на бурно обсуждаемый вопрос, оказавшийся много тоньше, чем это представлялось на первый взгляд: было ли язычество религией этической, подобно христианству? Богам тоже нравилось, когда люди проявляли к ним повышенное внимание и становились набожными и религиозными. Из–за того, что в таком случае они получали больше приношений? Нет, не поэтому, а потому что набожность — это добродетель, а боги, так же как и люди, любят добродетель. «Мне одному удалось выжить, — рассказывает человек, уцелевший во время кораблекрушения, — потому что я набожный человек»; чуть позже он продолжает: «Я единственный спасся, потому что никогда в жизни не делал ничего плохого». Мы уже упоминали о том, что боги, как представители некой сверхъестественной фауны, — существа мужского и женского пола, генеалогию и похождения которых описывает мифология, — принадлежат совсем другим временам, для нас чуждым и непонятным, ушедшим безвозвратно временам легенд, и сами боги устаревают не больше, чем герои наших комиксов. Эти фантастические существа играют еще и роль метафизической категории божественного — Провидения и Добра в этическом смысле этих слов; они становятся таковыми после гомеровских поэм. С этого момента, после долгих веков религиозного единства, вера разделяется на народную, которую мы только что описали, и религию образованного класса, властной элиты, которая могла верить в какое–нибудь метафизическое божество, а не в богов привычного всем пантеона — впрочем, не перешагивая той границы, за которой одно начинает противоречить другому.
Вера ученых
Народ Рима никогда не отличался безбожием: люди никогда не прекращали верить и молиться. Но разве образованный римлянин — Цицерон, Гораций, император, сенатор, аристократ — мог верить в фантасмагорию древних богов? Ответ категоричен: нельзя верить на слово; он прочитал Платона и Аристотеля, которые четырьмя веками раньше верили не больше, чем он. Вергилий, человек исключительно религиозный, верит в Провидение, а не в богов из своих поэм — Венеру, Юнону или Аполлона. Цицерона и признанного энциклопедиста Плиния переполняет сарказм, едва лишь речь заходит 0 традиционных богах: эти возвышенные существа, пишут они, имеют фигуру человека, такую, какой ее представляют скульпторы и наивные верующие; то есть у них должны быть и желудок, и кишки, и половые органы? Но для чего все эти органы нужны вечным счастливцам? Историкам римской религии, вместо того чтобы рассуждать о Меркурии или Юноне, следовало бы посвятить целую главу верованиям правящего класса, озаглавив ее «Провидение, Случай или Судьба», поскольку проблема религиозности заключается именно в этом. Нужно ли было верить в Провидение, так же как благочестивые образованные люди и приверженцы стоицизма? В Судьбу, как люди, изучавшие Физику и Астрономию (которая была еще и астрологией)? Или же видеть только Случай во всей той путанице, что представляет собой подлунный мир, как это делают многочисленные безбожники, которые и вовсе отрицают Провидение? Во всяком случае, у всех вызывал улыбку тот факт, что женщины из народа поклонялись богине Латоне в ее храме, верили в то, что она выглядит именно так, как ее изобразил скульптор, считали ее счастливой оттого, что у нее такая красивая дочь Диана, и желали родить точно такую же красивую дочь. Среди сенаторского корпуса — этого оплота религиозности и питомника для жрецов — насмешливый скептицизм, касающийся официальных религиозных церемоний и наивной народной набожности, был общепринятым.
И тем не менее… Даже если было невозможно во всем придерживаться старых религиозных представлений, то разрушать их тоже было нельзя; и не потому, что старая религия была официальной и признанной в народе, а потому, что в ней было заложено ядро истины: этот политеизм приближался если не к монотеизму, которому волей случая суждено было стать господствующим во всем мире, то, во всяком случае, к некой упрощенной абстрактной схеме (по сути, отвлеченными понятиями привычно владели лишь единицы…) — Провидению, Добру, то есть тем категориям, о которых так увлеченно и пространно рассуждали философы. Образованный человек рассуждал примерно так: «Существует Провидение, мне важно в это верить; в баснях о богах должно быть заложено ядро этой истины. Чем на самом деле являются Аполлон и Венера? Имена ли это единого Божественного? Или это его проявления? Имена его добродетелей? Они абстрактны и в то же время реальны? Или же все это только бессмысленные басни?» Оставалась уверенность в главном — в существовании божественного Провидения, в остальном же ясности не было. Народную религию принимали наполовину снисходительно, поскольку в мифах истина описывалась наивным языком небылиц, наполовину с интеллектуальной осторожностью, ведь в том, что Аполлон — это Явление Божественного, а не просто имя, уверенности тоже не было, несмотря на все мифы о нем. Все это вполне позволяло использовать язык старой религии. Скептик Гораций, после того как чудом избежал гибели (его едва не придавило упавшее дерево), отблагодарил богов пантеона традиционным способом: он был уверен, что обязан своим спасением Божественному, но не знал, каким образом можно обратиться к нему иначе, как только путем обычных обрядов. И, когда он увидел, как его служанка приносит лепешку в жертву богам–покровителям дома, он понял, что она интуитивно чувствует то же самое, до чего додумался и он, человек тонкий и образованный: что бы там ни говорили атеисты, Случай — это тоже Провидение, и он бережет тех, кто стремится к Добру.
Загробный мир
Отметим одну странную особенность греко–римской религии, а именно отсутствие представлений о загробном мире и 0 бессмертии души. О загробной жизни римляне заботились не больше, чем наши современники. Ни эпикурейские, ни стоические школы в нее не верили, не подтверждала ее существование и официальная религия: представления о загробном мире составляли отдельную сферу. Наиболее распространенное мнение, принятое в народе, состояло в том, что смерть — это небытие, вечный сон; считалось, что бессмертие души в Царстве Теней — не более чем миф. Существовало, конечно, множество версий, в деталях описывавших жизнь души после смерти и ее участь в загробном мире. Однако они бытовали в рамках небольших сект: ни одно более или менее широко признанное учение не указывало на то, что после смерти есть что–то еще кроме мертвого тела. Не было единой теории, люди не знали, что им думать о жизни после смерти, и поэтому не предполагали вообще ничего и попросту ни во что подобное не верили.
Погребальные ритуалы и искусство надгробных памятников, напротив, предлагали всевозможные утешительные заверения, вполне пригодные для того, чтобы уменьшить страх человека перед самим моментом смерти. Люди, не веря в загробную жизнь, все же стремились получить некое утешение. Изображение на внутренней стороне саркофага, найденного в Симпельвельде, полностью копирует интерьер дома, где покойный отдыхает, приподнявшись на локте, на своем ложе. Здесь берет начало метафора загробного мира о Парках, прядущих свои нити: могила приобретает смысл вечного существования, где находит свое продолжение все то, что умерло, где небытие обретает реальность и предлагает утешительную возможность тихого и монотонного существования. На крышках многочисленных саркофагов умерших детей изображен амурчик, то ли спящий, то ли мертвый. На многих надгробиях корабль, путник верхом на лошади или в повозке символизируют не путешествие в загробный мир, а то, что сама эта жизнь и есть путешествие; поэтому и соответствующие понятия — гавань смерти или врата смерти — выглядят здесь вполне естествен но. Утешительные представления о смерти как об отдыхе после долгого путешествия приводят к смиренной мысли о том, что жизнь — это и есть не более чем путешествие, причем достаточно короткое. На других саркофагах жизнь сравнивают с состязаниями колесниц в цирке: колесницы сделают семь маленьких кругов и исчезнут.
У римлян был свой праздник мертвых, с 13 по 21 февраля, во время которого они приносили дары на могилы своих близких. Однако люди верили в то, что мертвые будут угощаться их дарами, не больше, чем мы, принося на могилы цветы, верим в то, что покойные смогут ими полюбоваться и вдохнуть их аромат. В греческих провинциях долгое время было принято класть на могилы фигурки из обожженной глины (так называемые «танагры»), которые изображали Амуров, Викторий или Сирен, — повседневные религиозные представления дают очень скудную трактовку этих богов–хранителей могил: то есть обычные религиозные традиции были переработаны специально для похорон. Представления о загробном мире сводились скорее к предположениям, продиктованным обстоятельствами, чем к признанию очевидности его существования, по ошибке не отмеченной в возвышенных учениях. В эпоху Империи эти традиции самым очевидным образом были забыты: как в греческих, так и в римских провинциях надгробия значили для людей не больше чем, например, мелкие предметы, приносимые в дар: лампы, стекло, склянки для благовоний. Утешительные мысли о загробном мире вызваны были скорее желанием в него верить, а не религией как таковой; они не были связаны с религиозными догмами. «Получается, — замечает Роде, — что одна и та же эпитафия утверждает две истины одновременно: возвышенную надежду и совершенное неверие». К этому добавляется еще одна сложность в интерпретации образов — с точки зрения попытки понять особенности менталитета древних римлян: часто какое–либо изображение обозначает не сам персонаж, а лишь сферу, к которой он принадлежит; барельеф с изображением Вакха на надгробии означает не столько веру в этого бога, сколько признание религиозных традиций вообще, без уточнения. Приведем современную аналогию: хотя картины религиозного содержания XVI–XVIII веков, не стесняясь, изображали святых чересчур красивыми, показывая их мирскую привлекательность и не останавливаясь при этом даже перед возможностью продемонстрировать полуобнаженные тела, зрители, будь то представители «философствующего» дворянства или дворянства, склонного к прожиганию жизни, понимали религиозный смысл картины и воспринимали ее иначе, куда более возвышенно, чем прелести обнаженной натуры у Буше.
Вакх, божество радостное, маргинальный персонаж, готовый к любым начинаниям, бог более всего мифологизированный, которому официальная религия не уделяла особого внимания, оставляя широкий простор для воображения, был фаворитом этой погребальной теологии. Его история и посвященные ему обряды часто изображались на саркофагах, особенно на саркофагах детских: смерть юного существа требовала утешительной поэтизации; одна из эпитафий на могиле юноши гласит: «Вакх забрал его к себе, чтобы сделать своим соратником и компаньоном». За небольшим исключением эти саркофаги не принадлежали членам вакхической секты, и барельефы вовсе не служили свидетельством убеждений покойного. Не могли они служить и иллюстрацией вакхической религии, которая в то время не была настолько широко распространена. И все же эти изображения выполняли функцию не только декоративную; дело в том, что люди тогда не были уверены в том, что в мифах о Вакхе нет ничего, кроме красивой сказки, или в том, что учение какой либо секты не содержит истины. Вакх, бог загробного мира, служил вероятностью утешения, в которую хотелось верить .
[27]
Эпитафии и искусство надгробий имели такт не предлагать ничего, кроме утешения; однако Платон, Эпикур, Лукреций и другие говорят нам о том, что души умирающих часто бывают обеспокоены воспоминаниями и напуганы мыслями о том, что им вскоре придется предстать перед богами, которые их накажут за совершенные при жизни злодеяния и ошибки. Подобные утверждения кажутся нам вполне понятными. Все так, только умирающие боялись не наказания в вымышленном аду, мифологические описания которого никто не воспринимал буквально; речь идет о «богах», внушающих страх, поскольку люди были уверены в том, что «боги» справедливы, вездесущи и мстительны, и не задавались вопросом, что же именно боги предпримут по отношению к ним: божества существовали для того, чтобы мстить человечеству за бессовестные поступки. «Этот негодяй, — пишет Валерий Максим, — испустил дух с мыслью о своем коварстве и своей неблагодарности; его душа разрывалась, словно терзаемая рукой мучителя, потому что он знал, что после богов небесных, которые его ненавидят, он попадет к богам подземным, которым он отвратителен».
Мы не думаем, что эпикуреец Лукреций сгущал краски, описывая муки совести умирающего, только для того, чтобы подчеркнуть значимость философии своей школы, философии, предлагавшей людям утешение. Он говорил правду: язычество — это религия праздника с этической надстройкой, служившей источником тревоги и не дававшей умиротворения; язычество не было религией спасения, предоставляющей верующим план их существования в этом мире под маркой их спасения в мире загробном. Похожий план существования давала мудрость, стоило только обратиться к одной из философских школ — эпикурейской, стоической или какой–либо другой. Мудрость предлагала Человеку избавление от тревог, делая его счастливым, то есть Умиротворенным.
Философские школы
В одной известной книге, несомненно, вполне дельной, но не слишком проницательной, Макс Поленц выражает свое удивление по поводу того, что философия древних, в отличие от современной философии, в качестве морального обязательства ставила перед человеком вполне корыстную цель — счастье. Странная нехватка исторического чутья; непонятно, почему люди античной эпохи должны были поступать по–другому, поскольку они и не ждали от философии ничего большего, они не ставили себе целью определить, как Кант, основания морали: философия была призвана дать личности метод для достижения счастья. Философские школы не являлись собственно школами, куда идут изучать общие идеи; к ним обращались, чтобы найти разумный способ для умиротворения. Мораль была одним из ингредиентов лечебного средства, прописанного некоторыми философскими школами, которые давали своей системе рекомендаций некое разумное объяснение; отсюда и путаница в их восприятии нашими современниками.
Эпикурейская и стоическая школы предлагали своим приверженцам все то же самое: рецепт, основанный на природе вещей (то есть философски обоснованный), обещавший человеку возможность жить, не боясь ни людей, ни богов, ни случая, ни смерти, и к тому же счастье освобождения от ударов судьбы. Подводя итог, обе эти школы провозглашали, что они хотят сделать смертных равными богам, то есть такими же умиротворенными, как боги. Разница состояла в нюансах и в метафизике, которую в качестве доказательств использовали эти ученые люди. Стоицизм, который не имел ничего общего с тем, что под этим именем подразумевал Виньи, призывал к достижению, посредством работы мысли, такого героического состояния разума, которое уже ничто не сможет нарушить Эпикурейство полагало, что личность нуждается в избавлении от иллюзорных тревог. К презрению к смерти эти два способа врачевания добавляли презрение к суетным желаниям; деньги почести, тленные блага, по их мнению, не могли обеспечить абсолютную защиту. Эпикурейство призывало освободиться от ложных потребностей; оно предписывало жить дружно и питаться святым духом. Стоики доказывали свой метод существованием разума и провидения, которые составляют основу всего сущего, тогда как атомизм эпикурейцев призван был избавить человека от пустых страхов, рожденных суевериями. Другое отличие состоит в следующем: по мнению стоиков, все мы от природы обладаем врожденной привязанностью к семье и к месту, в котором живем, поэтому люди, не исполняющие своих семейных и общественных обязанностей, становятся несчастными калеками; для эпикурейцев же счастье состоит в том, чтобы не заботиться ни о чем, кроме соблюдения условий договора о дружбе, который мы подписываем на взаимовыгодных условиях. И та и другая школы полагали, что для человека, больного или гонимого, который не может больше управлять своим телом или своим городом, то есть вести нормальное человеческое существование, самоубийство может стать лекарством дозволительным и даже рекомендованным.
Философские школы не предъявляли к своим членам жестких моральных требований: они обещали им счастье; разве стал бы интеллектуал приверженцем той или иной школы, если бы не искал выгоды для себя лично? По тем же причинам, и стоицизм, и эпикурейство были школами интеллектуалистическими: как сделать человека героем, как избавить его от тревог и суетных желаний? Только апеллируя к его интеллекту. Его воля проявится, когда ему дадут разумную мотивацию. И в самом деле, каким образом такой античный «духовник» мог воздействовать на своих вольнослушателей, вовсе не обязанных ему подчиняться, если только не силой своего убеждения?
Эти секты, то есть философские школы, отличались от обычных школ. Все члены высшего общества в юности посещали школы и изучали там риторику; в некий момент жизни некоторые из них «обращались» (слово это было широкоупотребительным) к учению одной из философских школ. Кроме этой горстки богатых обращенных, живущих праздно, в секту вступало некоторое количество образованных людей из числа небогатых горожан; у них была своя небольшая рента, но они были вынуждены увеличивать свой доход, нанимаясь учителями философии в богатые дома, становясь клиентами каких–нибудь могущественных патронов или гастролируя с лекциями. Они целиком посвящали себя философии, соблюдали строгость в одежде, крайняя скромность которой служила признаком принадлежности к этой профессии, превращая ее в своего рода униформу философа. Богатые, для которых занятия философией не служили источником дохода, напротив, занимались ею с разной степенью самоотдачи; только наиболее убежденные из них возводили ее в ранг веры, носили костюм философа и длинные косматые бороды. Прочие же удачливые «обращенные» по большей части ограничивались тем, что добавляли некоторые символические детали к своему образу жизни, читали труды основателей «своей» школы, содержали возле себя наставника философа, который помогал им осваивать догмы и самим своим присутствием подтверждал ту высокую степень, которой достиг в своем духовном развитии хозяина дома.
Что же мешало им целиком и полностью отдаться мудрости? Они твердили о нехватке времени, о том, что состояние принадлежащих им имений и общественные обязанности вынуждают их заниматься делами. Но так ли это важно, отвечает Сенека, если все их помыслы направлены на постижение учения, если они окружают себя друзьями–философами и проводят все свое время за беседами со своим домашним наставником? Он советует одному важному чиновнику, обратившемуся в
стоицизм, заняться изучением текстов и размышлениями и в то же время избегать действий скорее показных, чем искренних: ни к чему носить грубую одежду и бороду, отказываться есть из серебряной посуды, спать на тюфяке, брошенном на пол. Как бы то ни было, для образованных людей подобный духовный выбор был важен чрезвычайно, даже если он и не приводил к серьезным переменам в их жизни.
Воздействие философии
Разумеется, простые люди посмеивались над «обращенными» и подчеркивали контраст между их убеждениями и свойственным им образом жизни: с богатством, столами, полными яств, множеством любовниц. Насмешки порождались завистью бедных, поскольку философ, как представитель человеческого рода, пользовался в обществе огромным авторитетом и вызывал восхищение; и сенатор, и даже император могли начать одеваться и писать, как тот или иной философ. Ни один литератор, поэт или ученый не играл в Риме роли общественной совести: эта роль сохранялась за философами, интеллектуалами, при условии, что их образ жизни и внешность доказывали, что они живут согласно своему учению. У них было право публично давать советы и делать выговоры, и во время посещения городов они выступали с миссионерскими наставлениями по поводу высокой морали: когда святой Павел читал проповеди в Ареопаге в Афинах, он следовал их примеру. По сути, они представляли собой светское духовенство, и насмешки над ними рождали потешные истории, подобные средневековым байкам о нравах клириков. Одним из таких убежденных философов был некий сенатор: будучи приговорен к смерти, он идет на эшафот в сопровождении своего домашнего философа, который до самого конца читает ему свои проповеди; другой «обращенный» и на смертном одре ведет ученые разговоры с философом школы киников; третий — важный человек, тяжело больной — внимает советам Стоика, который уговаривает его покончить жизнь самоубийством, после чего уходит, оставляя больного умирать от голода.
Все обращенные в какую–либо секту становились пропагандистами и старались привлечь в свою школу новых членов: Такой–то не поддается, но случай Другого не безнадежен, его еще можно перетянуть на сторону мудрости. Терминология обращения — догма и ересь — были заимствованы христиана ми у философских сект. Стоицизм, эпикурейство, платонизм, кинизм, пифагорейство — каждая школа продолжала учение своего основателя и была — или считала себя — верной этим догмам; идея свободного выбора была философам чужда. Учения передавались как сокровище, против учений других сект велась жаркая полемика. Видоизменения, иногда значительные, которым на протяжении веков подвергались догмы, были непреднамеренными, как будто выскользнувшими из рук их же собственных авторов. Свободные группы обращенных, без какой бы то ни было иерархии и организации, тем не менее были фанатично преданы своим догмам.
Догмы служили правилом жизни для горстки убежденных философов, считавших себя приверженцами той или иной школы. Пьер Адо убедительно это демонстрирует: античная философия создавалась не для того, чтобы быть интересной или правдивой, она была предназначена для применения на практике, для того чтобы изменить жизнь, глубоко проникнуть в образ мыслей, став средством для мыслительных упражнений, которые позже послужат моделью христианских молитв. Эти упражнения были ежедневными, если не ежеминутными: «Постоянно перебирай в уме истины, которые ты часто слышишь и которым учишь сам»; нужно размышлять над догмами, вспоминать их, находить им применение в ежедневных делах, искать глазами вещи, о них напоминающие, перебирать в памяти истины, повторять их про себя в присутствии людей и вслух, когда ты один, слушать публичные лекции и читать их самому… Нужно записывать эти упражнения: Адо недавно отметил, что «Размышления» Марка Аврелия вовсе не являют собой его личный дневник, как принято было считать; этот труд совсем не похож на разрозненные мысли и свободные размышления; книга представляет собой методические указания по медитации, разбитые на три этапа.
Философские учения не ограничиваются узким кругом сект; функции философии расширяются, и ее влияние распространяется на всю социальную, а то и на политическую жизнь. Стоицизм со свойственным этому учению конформизмом становится благонадежной идеологией, признаваемой всеми: стоики с такой энергией возводят эту идеологию в ранг закона, как будто сами и были ее авторами. Вообще же философия, оставаясь кодексом жизненных правил, становится для образованных людей любопытным интеллектуальным предметом. Будучи одновременно и культурой, и идеологией, она постепенно приобретает значение большее, чем то, какое она имела для Цицерона, который вел образ жизни скорее ученого сенатора, чем философа; философия играла важную роль в его интеллектуальной жизни, но, так же как и для наших современников, не оказывала практически никакого влияния на его частную жизнь. Никто не может называться образованным человеком, если не имеет какого–либо представления о философских учениях; врачи и архитекторы не могут решить, считать ли свое искусство философским или эмпирическим. И самое главное, философские учения служат материалом для риторики: прилежный ученик или просто любитель риторики блеснет эрудицией, если сможет подчеркнуть свою аргументацию философскими доводами. Преподаватели красноречия указывали начинающим ораторам, какие из наиболее употребительных философских постулатов нужно знать прежде прочих. В конце концов, философия становится частью культурной жизни, со всей ее торжественностью и общественными мероприятиями; и вот уже публика спешит на выступление красноречивого оратора, одного из великих теноров мысли. Это уже неотъемлемая часть культуры, этакая паидейя
[28], которую просвещенные люди называют духовным идеалом и целью собственной жизни. На саркофагах изображение эрудита, занятого чтением, может подразумевать и философа, и ритора, и просто книголюба: эти понятия практически не разделяли. Рабочий кабинет становится в Античности убежищем для частной жизни; его украшают портретами или бюстами писателей и мыслителей, там хранят их труды.
О степени проникновения философских догм в сознание представителей просвещенного класса, даже тех, кто не был вовлечен в секты, можно судить по их способности к рефлексии — вплоть до саморазрушения. Одна из характерных черт того времени, доказывающая всю глубину этой аккультурации, — частота продуманных самоубийств. Самоубийство сенатора, который узнал, что император собирается его в чем–то обвинить и приговорить к смерти, самоубийство больного или старика, желавшего смерти достойной или не такой мучительной, как от недуга, — любая такая смерть вызывала уважение и даже восхищение. Мужество больного, желавшего избавиться от страданий, уходя в вечный покой, сами философы восхваляли во всеуслышание, поскольку этот человек собственной кровью расписывался под вполне определенной философской идеей: ценность пережитого в том, что все когда–нибудь заканчивается. Частная жизнь личности находила себе пристанище во власти над собой, в обоих смыслах этого выражения: иметь силы распоряжаться своей жизнью и признавать за собой безраздельное право на это, вместо того чтобы смиренно подчиняться власти природы или бога. Совершая самоубийство, человек подтверждает свой отказ от иллюзорных земных благ и в вечном покое смерти достигает идеала личного умиротворения.
Забота о себе
Стремление к уединению в собственном садике не означало отказа от принятых этических и социальных норм, оно было вызвано «заботой о себе», о своей внутренней безопасности, которая достигалась за счет некоторого уменьшения масштаба своего «я». В других социумах частная жизнь будет существовать отдельно от общественной или же уподобится странствиям моряка–одиночки или корсара, который поднимает все паруса навстречу ветру своих желаний, мечтаний или личных фантазий.
Личное пространство завоевывается ценой отказа от непринужденности и самовлюбленности. Замечали ли вы, как редко можно встретить улыбку в греко–римском искусстве? Умиротворение достигается напряжением и отречением: языческий мир был подобен миру самураев или англичан времен королевы Виктории. Иными словами, все это нам кажется недостаточным: моралисты, мыслители и поэты Античности представляются нам наивными, на наш взгляд, они переоценивают возможности личностного самоконтроля и недооценивают саму контролируемую личность, имея слишком узкое представление о человеке. Самый простой и бесхитростный пример будет наиболее убедительным. «У каждого человека есть свой секрет; в мечтаниях, втайне от других, он находит мир, свободу, раскаяние; в обществе друзей, любовников, людей вообще всегда присутствует одиночество»: эта простая фраза из современного текста была бы немыслима в Античности. Начиная со II века, конечно, появляется новый стиль, приправленный ипохондрией и слащавостью; Элий Аристид одержим своим здоровьем, Фронтон обменивается исключительно нежными (безо всякой двусмысленности) письмами со своим учеником, Марком Аврелием, будущим императором; Герод Аттик свое искреннее горе превратил в ритуал печали. Все естественные стремления человеческой натуры были скованны доктриной, обрамлены соответствующим образованием и возведены в ранг искусства жить.
Однако было в язычестве и еще кое–что, продолжающее будоражить умы: строгая цензура означала еще и изысканность; их искусство, их книги, даже их письменность — все это попросту красиво. Сравните греческие или латинские надписи I века с начертаниями времен поздней Империи или Средних веков, достойными наших лучших типографий… Именно со II века начинается большой переворот; мир вокруг становится страшнее, в то время как сам человек начинает признавать и познавать свои страдания, немощи и глубины, такими, как они есть, без прикрас. Он больше не утонченный болван, советчик, с которого взятки гладки. Христианство выиграло за счет того, что, начиная с Псалмов, апеллировало к антропологии куда менее тонкой и элегантной. Они станут более содержательными, более популярными, но и более авторитарными: сила пастырской власти и страстное стремление направить души на путь истинный порождали все большие аппетиты, и на протяжении пятнадцати веков именем христианства было пролито крови едва ли не больше, чем во время всех вместе взятых мятежей и войн, вызванных классовой борьбой или даже патриотизмом.
Слишком красивые саркофаги
Римская империя была собственностью городской знати, если не по праву крови, то по факту наличия собственности или по крайней мере по факту самосознания аристократа — хотя последнее качество и не кажется нам безусловным, поскольку подтверждалось оно исключительно гражданскими символами. Эти аристократы, тщеславные ничуть не менее, чем современники Сен—Симона, в поисках идеала колебались в нерешительности между homo civicus и новым веянием — homo interior
[29], и это колебание продолжалось довольно долго.
В качестве доказательства, как это ни парадоксально, мы хотели бы предложить систему образов, которую многочисленные последователи Франца Кюмона истолковывают с точностью до наоборот, а именно мифологические сюжеты изображений на саркофагах богатых римлян: пусть эти картины станут последним сокровищем, которое читатель унесет с собой из античного города. Начиная со II века н. э. богатые римляне часто украшают свои саркофаги барельефами. Интересно, что в этих барельефах нет ничего похоронного: они воспроизводят самые разнообразные мифологические сюжеты, причем стиль изображения еще меньше напоминает о похоронных реалиях, чем сам сюжет. Существует известный «академизм Античности», всеобъемлющие гуманизм и безмятежность греческого искусства; когда мифологический персонаж, вышедший из–под резца скульптора, удивительным образом оживает, это вызывает у зрителей волнение, сродни тому, что ощущает человек, слушая истории в исполнении талантливого рассказчика. Барельефы на этих саркофагах рассказывают истории, не имеющие никакого отношения ни к смерти, ни к покойному: они говорят о другом. Так, например, на барельефе в Лувре нагую Диану во время купания застает охотник Актеон, и стыдливая богиня отдает его на растерзание его же собственным псам.
Что же делают на могилах все эти весьма привлекательные, но совершенно неуместные картины? Нет ничего проще и заманчивей, чем приписать им символический смысл и, вслед за Кюмоном, увидеть в этих образах эсхатологический подтекст; в том же Лувре хранятся барельефы, где изображен Зевс, уносящий на небо красавца Ганимеда, чтобы сделать его своим фаворитом, или Кастор с Полидевком, похищающие дочерей царя Левкиппа, — легенды, которые могли бы считаться аллегориями бессмертия души после вознесения ее на небо. Беда в том, что подобную замысловатую интерпретацию можно применить лишь к нескольким легендам, которые воспроизводятся на Саркофагах отнюдь не чаще других; беда еще и в том, что такая трактовка резко контрастирует со стилистикой изображений.
Итак, если мифологические образы на саркофагах не были символическими, значит ли это, что они выполняли чисто декоративную функцию? Нет: согласно Эрвину Панофски, и иконография имеет свои ограничения, смысл образов не может быть только концептуальным и теоретическим. Мифологические сюжеты на саркофагах не просто заполняют пустоту, они призваны погрузить зрителя в атмосферу чуда, унести его прочь от прозы и реалий этой жизни. Совершенно не важно, какой именно мифологический сюжет при этом используется: важно то, что римляне могут спрятаться от смерти в мифе вообще. Красивые мифические картины (так отличавшиеся от пафоса портретов той же эпохи) предлагают представить смерть красивой и не печалиться; с этой точки зрения они наполнены смыслом: в них находит свое последнее отражение старая аполлоническая Греция. Какой должна быть первая реакция зрителя при виде саркофага, украшенного мифологическими картинами? Он должен почувствовать, что страх перед смертью затмевается чем–то фантастическим, нереально прекрасным, чувственным и живым. Дорогие богатые саркофаги и уверенность перед лицом смерти — эти привилегии были взаимосвязаны. Аполлинизм, далекий от самоцензуры, достоинство, удовлетворение от богатства, намеренный квиетизм и эстетство в сочетании со скрытым пуританством: здесь скрывается целый мир.
ГЛАВА 2 ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ
Питер Браун
На протяжении четырех веков, между правлениями Марка Аврелия (161–180) и Юстиниана (527–565), средиземноморский мир пережил ряд глубоких изменений, которые сказывались на ритме жизни, нравственных представлениях, а также на том, как жители городов и прилегающих к ним деревень осознавали собственное «я». В этой главе мы постараемся описать и прокомментировать наиболее значительные из этих изменений. Чтобы достичь поставленной цели, автор, будучи ограничен рамками не слишком объемной статьи, должен начать с максимально ясного объяснения некоторых основных положений. Итак, несмотря на то что мы озаглавили эту серию книг «История частной жизни», то есть достаточно туманно с точки зрения современного западного общества, частная жизнь отдельного человека, так же как и частная жизнь семьи, отнюдь не стала единственной темой нашей работы. Ограничившись одной темой, мы неминуемо ввели бы читателя в заблуждение, по скольку попытка рассматривать «частную» жизнь Античности вне контекста жизни общественной, которая на протяжении этих веков, собственно, и придавала смысл жизни «частной», было бы роковой ошибкой. Избрав частную жизнь своей единственной темой, мы оставили бы без внимания тот факт, что самая главная перемена в течение периода Поздней Античности состояла в постепенном переходе от одной формы общности к другой, от античного города к христианской Церкви. В этой главе рассказывается, каким образом личное существование, жизнь семьи и область интимного — такие, какими их воспринимал каждый человек на своем личном опыте — изменялись вместе с социальными условиями, которые, в свою очередь, были связаны с появлением новых форм общности.
ЯЗЫЧЕСКАЯ ЭЛИТАРНОСТЬ
Чтобы охватить во всей полноте изменения, происходившие с человеком начиная с человека «гражданского» эпохи Антонинов и заканчивая добрым христианином, прихожанином католической Церкви западных Средних веков, и при этом отразить размеренную и неспешную природу этих перемен, мы должны петлять по извилистой реке, приставая то к одному берегу римского общества, то к другому. Мы должны коснуться тем настолько же личных и «частных», какими они являются и в современном понимании: изменчивого значения таких понятий, как брак, сексуальность, нагота. Между тем сами волны этой реки питаются идеей, существовавшей на протяжении многих веков, но совершенно чуждой нашим современникам: заходит ли речь о жизни городской знати антониновских времен или об обычаях христиан эпохи поздней Империи, на каждом повороте мы будем сталкиваться с исконной потребностью в общине, где существование каждого индивида пропитано ценностями этой общины и — в идеале — полностью прозрачно для общины и присущей ей системы ценностей. Исходя из этого, наша работа нисколько не будет похожа на «Историю повседневной жизни» и еще меньше на «Историю религиозных чувств», несмотря на то что используемые нами исходные Данные могли бы стать основой и этих трудов. Мы постараемся представить читателю короткую главу, которую наши предшественники, работавшие в XIX веке, могли бы назвать историей европейской морали от Августа до Карла Великого (здесь я Вспоминаю Уильяма Эдуарда Леки, моего соотечественника, который в 1869 году опубликовал книгу с таким названием). Именно описание того, как в специфических социальных условиях римского мира жили мужчины и женщины, в свете своих меняющихся представлений о сообществе, к которому они себе причисляли: вот путь, который кажется автору наиболее правильным (очевидно, есть и другие); путь, идя по которому другие исследователи могли бы попытаться более подробно изложить историю частной жизни в Западной Европе.
«Высшее общество»
Начнем с простых фактов. Некоторые черты средиземноморского мира оставались, как ни странно, неизменными на протяжении всех этих веков. Топографически наш рассказ не выйдет за рамки данного региона. Мы редко будем покидать города. Каждый из них — это свой маленький мир, определяемый ярко выраженным осознанием собственного статуса в сравнении с другими похожими соседними городами. «Мама, в других городах луна такая же большая, как и наша?» — спрашивает маленький мальчик в одной юмористической книге III века. Статус требовал близких и долговременных отношений между городами: в той же книге один богатый землевладелец упразднил межевые столбы на дороге, ведущей из деревни в город, чтобы сократить путь от своих владений к своему го роду! О каком бы классе ни шла речь, анонимности в городах практически не существовало. Каждой женщине, муж которой был распят, раввин советовал уехать из города, если только это не был достаточно большой город, вроде Антакьи. Что касается элит, то они оценивали свои поступки в соответствии с нормами, принятыми в их городе, причем в обществе их поступки постоянно обсуждались и сопоставлялись с другими.
Каким бы ни был город, убеждение в том, что между «высшим обществом» и простыми людьми существует непреодолимая социальная дистанция, служило фундаментальной основой общества Римской империи. В этот период наиболее заметно проявляется постепенно углубляющая этот разрыв мобилизация культуры и нравственного воспитания — как ресурсов социальной стратификации. Высший класс стремился отделиться от низшего, подчеркивая свою образованность и духовную жизнь, наполненную настолько тонким и деликатным содержанием, что никто другой понять ее попросту не сможет. Высшее общество создало мораль, которая открыто настаивала на необходимости поддержания социальной дистанции, тесно связанной с традиционной культурой, от века находившейся в распоряжении городских элит. В самом сердце этой культуры и сопровождавшей ее морали коренится потребность в установлении должным образом уравновешенных правил обмена между разными представителями высшего класса, вовлеченными в публичную жизнь своего города.
Детей воспитывал город, а не школа. Начиналось все с того, что paedagogus впервые отводил семилетнего мальчика на форум. Здесь, у входа на форум — центр городской жизни, — школьник найдет и своих учителей, и свой учебный класс. Он войдет в группу себе подобных, в общество молодых людей, равных ему по статусу, по отношению к которым у него будут те же обязательства, что и по отношению к своему педагогу. Он продолжит образование, усваивая их образ мыслей и свойственные им поведенческие мотивации, именно здесь он приобретет навыки и манеры публичного человека, искушенного в officia vitae, то есть станет достойным представителем высшего класса.
Считалось, что литературное образование является частью нравственного воспитания — наиболее сложной и глубокой составляющей воспитательного процесса вообще. Римляне были твердо убеждены в том, что тщательное изучение классической литературы неразрывно связано с формированием Морального облика представителя высшего класса: умение правильно излагать свои мысли свидетельствовало о его способности поддерживать корректные взаимоотношения с людьми равного себе статуса в своем городе. Во всяком случае, манера говорить и умение держать себя на публике были тщательно отработаны и считались отличительным признаком представителя «высшего общества». Черты, которые нашим современникам показались бы незначительными, — жесты, движения глаз и даже дыхание — имели смысл и строго контролировались, поскольку именно в таких проявлениях люди тех времен видели признаки соответствия моральному облику представителя высшего класса. Начиная с эллинистической эпохи и вплоть до правления Юстиниана хвалебные эпитеты в эпитафиях на бесконечном множестве рассыпанных по всей Малой Азии надгробий, подчеркивающие гармоничные и ровные отношения покойного с равными по статусу людьми того города, гражданином которого он был, и практически не упоминающие о прочих его достоинствах, свидетельствуют о том громадном значении, которое имели эти качества для формирования образа совершенного человека.
Социальный разрыв
Между элитой и низшими классами существовал барьер, который можно было бы назвать «моральной ипохондрией». Гармоничный человек, ставший таковым в процессе длительного воспитания и постоянного давления со стороны себе равных, чувствовал себя в постоянной опасности быть уличенным в несоответствии своему статусу. Он находился под угрозой «морального заражения» эмоциями, не подобающими его положению, и постоянно рисковал совершить поступок, который будет признан неадекватным его общественному статусу и свойственным, скорее, некультурным людям из низов. Я умышленно использую слово «ипохондрия»: это была эпоха великих медиков, самым выдающимся из которых был Гален (129–199); его труды имели широкое распространение среди «высшего общества».
Медицина того времени имела специфическое представление о теле человека, составленное из сплава воззрений, унаследованных от имеющей многовековые традиции греческой медицины, с философией морали: человеческое тело в философском понимании служило пристанищем морального начала, свойственного «благородному человеку».
Согласно этой модели, здоровье тела и моральный облик человека естественным образом связаны между собой. Телесное здоровье представляет собой некое равновесие, которое остается таковым при условии ненавязчивой поддержки, оказываемой телу со стороны духа. Здоровье нарушается при чрезмерных потерях необходимых ресурсов или при чрезмерном накоплении вредных излишков. Кроме того, вредоносный эффект эмоций, способных нарушить или разрушить это равновесие, бережно оберегаемое культурным человеком, в большинстве случаев может быть уменьшен посредством правильного поведения. Исходя из этого, тело рассматривается как наиболее показательный индикатор, видимый и непосредственно ощутимый, правильного человеческого поведения, а потому тщательный контроль за состоянием тела традиционными греческими методами (упражнения, режим питания и бани) выступает здесь основным гарантом здоровья.
Основанные на осознании статуса и на самоконтроле, моральные качества представителя высшего класса базировались на необходимости подтверждать социальную дистанцию через посредство особого поведенческого кодекса; стремление к моральному совершенству представляется основной задачей человека в эпоху Антонинов. Приведем два примера: отношения с низшим классом и сексуальные отношения. Мы увидим, что и те и другие подчинялись единому кодексу социального поведения.
Избиение раба в приступе ярости осуждалось. И вовсе не потому, что совершать подобное возмутительное действие по отношению к своему собрату по людской природе бесчеловечно, а просто по той причине, что вспышка гнева разрушает гармоничный образ твоего «я», образ человека из «высшего общества». Проявление насилия — это один из видов «морального заражения», которое толкает господина на совершение неконтролируемых действий против раба, будто он и сам всего лишь раб, который не в состоянии себя сдерживать.
Боязнь удовольствий
Похожими причинами объясняются позы партнеров, вступающих в сексуальный контакт. Физическое удовольствие от секса, как в рамках гетеро-, так и в рамках гомосексуальных отношений, воспринималось как связь «вышележащего» с «нижележащим». Сексуальное удовольствие как таковое не вызывало осуждения у моралистов того времени. Судили, и очень строго, последствия, к которым могло привести подобное наслаждение с точки зрения угрозы, создаваемой для публичной репутации человека и для социальных отношений, в которые он вступает. Постыдными гомосексуальные отношения могли быть признаны только в случае «морального заражения» представителя высшего класса, которое привело к тому, что он подчинился человеку низшему, вне зависимости от того, какого пола был его партнер: либо физически, приняв пассивную позицию в сексуальном акте, либо морально. Отношения между мужчиной и женщиной строились по тем же правилам. Типичный пример нарушения иерархии — куннилингус, являвший собой форму «морального заражения», самую постыдную и — стоит ли говорить? — самую возбуждающую, образец крушения морального облика гармоничной личности, падения человека «высшего» до подчинения низшему — женщине. Страх уподобиться женщине, стать морально зависимым от нее, основанный на необходимости постоянно поддерживать репутацию человека из высшего общества, а вовсе не на щепетильном отношении к своему сексуальному поведению, определял моральный кодекс, которому в сексуальной жизни следовало большинство представителей высшего класса.
И в том и в другом случае к страху попасть в социальную зависимость от низшего существа примешивался страх утраты жизненной силы — на чисто физиологическом уровне. Мужчина страстно стремится к успеху в общественной жизни — на то он и мужчина. И делает он это потому, что его семя «выпечено» из другого теста, более качественного, чем семя женщины, томящееся в тепле ее лона; его тело — хранилище драгоценного «жара», от которого зависит его мужская энергия. Активный мужчина не так защищен, как женщина, у которой, в силу ее природного темперамента и моральной слабости, уровень «жара» намного ниже. Поэтому ему постоянно грозит опасность утраты этого своего «огня». Сексуальные злоупотребления могут «остудить» его темперамент, а эта потеря со всей беспощадной неизбежностью влечет за собой другую, еще более тяжелую — утрату высоких стремлений в общественной жизни. То есть, собственно говоря, голос общественного деятеля, сильный и благозвучный, который так ценили Квинтилиан и его современники, для того чтобы быть услышанным, должен был силой прорываться сквозь шум городской общественной жизни, и этот голос — драгоценный плод мужской силы, заботливо сохраняемой посредством «полового воздержания». Приверженцы традиционной морали высшего класса, как в греческом, так и в латинском мире, испытывали на себе всю тяжесть самого настоящего пуританства. И дело было не столько в сексуальности как таковой, сколько в том, что невоздержанность грозила «моральным заражением». Потворство сексуальным желаниям в отношениях с партнерами как одного, так и другого пола приводит к «феминизации» мужчины, что, в свою очередь, грозит поколебать неоспоримое превосходство представителя «высшего общества».
Благо для народа
Жесткий партикуляризм гендерных правил той эпохи соблюдался не во всем. Аристократы стремились подчиняться и подчинять свои семьи строгим, пуританским по сути законам маскулинности, которые были ближе к тем, что всегда практиковались в исламских странах, чем к пуританству современной Северной Европы. Однако, скованные по рукам и ногам в своей частной жизни, аристократы были значительно свободнее в проявлениях своего «я» в жизни общественной, своего popularitas. По отношению к низшему классу, то есть к тем, кого они считали достойными незатейливых и грубых удовольствий, они выступали в роли дарителей всех благ городской жизни: от своих щедрот они устраивали для города спектакли — их роскошь, жестокость, а подчас и откровенная непристойность резко контрастировали со строгим самоконтролем, которым кичились эти люди, подчеркивая свою принадлежность к высшему обществу. Изысканные и прекрасно образованные аристократы организовывали и оплачивали отвратительную резню, которую представляли собой игры гладиаторов в античных городах эпохи Антонинов. Становление христианства не внесло значительных изменений в этот аспект общественной жизни. Если вспомнить Юстиниана, то современный читатель наверняка согласится, что наиболее правдоподобное его жизне описание было сделано Прокопием в памфлете, посвященном юности жены императора Феодоры. До замужества Феодора была танцовщицей, чем–то вроде нынешней стриптизерши, в одном из общественных театров Константинополя, куда со всей окрути слетались похотливые гусаки, дабы отщипнуть очередной кусочек пикантного удовольствия. Здесь важно не забыть об одном уточнении, данном автором. Речь шла о женщине из народа, и моральные ограничения кодекса поведения для людей из высшего общества ее никоим образом не касались. Феодора была во всех отношениях антиподом уважаемых замужних женщин из высшего общества, которые в Константинополе жили затворницами и носили скромные, скрывающие фигуру одежды. И тем не менее мужья этих женщин, будучи знатными и богатыми, финансировали подобные публичные выступления, завоевывая славу себе и своему городу.
Толерантное отношение римлян к обнаженному телу, не менявшееся на протяжении многих веков, не должно нас удивлять. Это общество не знало сексуальной стыдливости, присущей следующим генерациям европейского человечества: обнаженные тела атлетов долгое время оставались символом высокого статуса представителей «изысканного общества». Публичные бани, играя важную роль в общественной жизни Рима и являясь ее неотъемлемой частью, предполагали наготу среди равных — на глазах у низших. Мы уже убедились в том, что кодекс поведения касался и тела, поэтому одежда высшего класса эпохи Антонинов, по сравнению с более поздним периодом, была хоть и сравнительно дорогой, но не отличалась особой церемониальной роскошью. Манеры мужчины, одет он или раздет, служили подтверждением его статуса, и подтверждение это казалось еще более убедительным, если одежды на нем было немного. Что касается женщин, то их стыдливость и сдержанность в публичной жизни вовсе не означали запрета на наготу: предстать обнаженной перед своими рабами с нравственной точки зрения было все равно, что появиться голой перед животными, а демонстрация наготы женщинами низших сословий свидетельствовала об их смирении перед могущественными мужчинами.
В римских городах эпохи Антонинов атмосфера постепенно сгущается и давление власти начинает оказывать влияние — пока еще не слишком ощутимое — на жизнь людей, привыкших видеть себя элитой мировой империи. Какой бы ни была общественная жизнь в небольших поселениях, где все и всегда находились на виду друг у друга, Рим оставался империей, основанной на насилии и сохраняемой благодаря насилию. Жестокие игры гладиаторов в Средиземноморье повсюду являлись обязательной частью торжеств, устраиваемых в честь императоров. Эти зрелища демонстрировали готовность итальянской элиты к кровопролитию. Даже игры простых людей, которыми развлекались на задворках форума, были воинственными: бросок игральной кости называли «парфяне убиты», или «британцы завоеваны», или же «римляне могут победить». Отныне политическая жизнь маленьких городов, во всех регионах Империи остававшаяся основной школой для нобилитета, разыгрывалась «под надзором»: она находилась под контролем римского наместника, сопровождаемого почетным караулом из легионеров, вооруженных мечами и пилумами. Чтобы жизнь в городах продолжалась и подчинялась местной элите, местные аристократы должны были действовать сообща и соблюдать строгую дисциплину более осознанно и сосредоточенно, чем раньше. Жесткий самоконтроль в общественной жизни глубоко отразился и на частной жизни нобилитета: это было платой за поддержание status quo имперского порядка. Именно здесь берут начало глубокие перемены в представлениях римлян о том, что такое семейная пара, происходившие в течение II века.
Женщины
На протяжении предыдущих поколений — конца периода Республики и начала Империи — жены общественных деятелей воспринимались как фигуры, ровным счетом ничего не значащие: они не играли сколько–нибудь заметной роли в политической жизни своих мужей. Поведение этих «маленьких созданий» и их отношения с мужьями не вызывали серьезного интереса в мире политики, мире исключительно мужском. Женщина могла подорвать твердость характера мужчины из-за свойственного ей от природы сладострастия; впрочем, она же, вызвав в нем чувство истинной любви, могла и пробудить в нем способность героически принести себя в жертву; часто именно женщины служили и опорой для мужской смелости, и источником силы римлянина, они могли дать хороший совет в трудные времена, но сами по себе брачные отношения очень мало значили на политической сцене. То, что мы называем «эмансипацией», в кругу высшего общества Рима в начале периода Империи, по сути, было свободой, порожденной презрением. «Маленькие создания» на протяжении долгого времени могли делать все, что хотят, если только при этом они не вмешивались в серьезные игры мужской политики. Развод был быстрым. Супружеская измена, хотя за это на неверную жену или на ее любовника и могли спустить всех собак, никак не повлияла бы на политические позиции ее мужа.
В эпоху Антонинов нейтральные отношения, на которых ранее основывалась супружеская жизнь, рухнули. Отныне на первый план выходят concordia или homonoia
[30], необходимые с точки зрения господствующей морали хорошего брака. Часто эта реформа преподносится под видом сознательного и целенаправленного возрождения порядка, который, как принято стало считать, существовал в семьях далекого римского прошлого: в качестве нового светлого символа всех прочих форм социальной гармонии. Если в прежние времена на римских монетах, прославлявших concordia как основное политическое и социальное благо, изображались политики, в знак своего союза соединившие правые руки, то во времена Марка Аврелия на монетах рядом с императором появляется его жена, Фаустина Младшая, связанная с ним в concordia. В Остии молодые пары собирались вместе, чтобы принести специальную жертву «в знак особого согласия» императорской супружеской четы. Несколько ранее, в своем «Наставлении супругам» Плутарх описывает, как муж должен использовать его искусные философские советы, чтобы научить свою жену — всегда считавшуюся маленьким обворожительным созданием, более интересным своему партнеру с сексуальной точки зрения и всерьез им не воспринимаемым, — вести себя в обществе соответственно положению супруги представителя правящего класса. Брак призван был стать победой просветительской миссии, касающейся правил поведения членов «высшего общества»; эту миссию следовало провести среди недисциплинированного меньшинства: принадлежащих к этому классу женщин. Пределы той крепости, того акрополя, который представляло собой римское высшее общество, были укреплены настолько мощными оборонительными сооружениями, что женщины из этого магического круга просто исключались. Поэтому женатые пары появлялись в обществе в виде маленького гражданского подразделения; eunoia, sympatheia и praotes
[31] отношений между мужчиной и женщиной отражали строгость нравов, сдержанную галантность и безоговорочную верность своему классу, принадлежность к которому позволяла наделенному властью мужчине сжимать в любовных объятиях свой город и, одновременно, править им твердой рукой.
Роль философа
Мы определили бы роли философа и моральных представлений, вышедших из философских кружков II века, как категории откровенно второстепенные, оставшиеся где–то на заднем плане: жизнь заставляла высший класс теснее сплотить свои ряды и искать новые, более действенные средства контроля над низшими сословиями. Философ — это «моральный миссионер» римского мира. Он обращается к человечеству вообще. Он «учитель и проводник человека во всем, что соответствует его натуре и согласуется с природой». На самом же деле — ничего подобного не было. Философ был носителем «контркультуры» в рамках самой элиты, и именно ее членам были адресованы его нравоучения.
Философ и не думал всерьез обращаться к массам. Он определенно наслаждался своим высоким моральным статусом, который придавали ему его проповеди, обращенные к людям из высшего общества, по его мнению, еще не достигшим должного уровня духовного развития. Философы пытались убедить власть имущих, слишком уверенных в себе, жить согласно собственному кодексу, составленному из высоких моральных правил, и при этом научить их видеть чуть дальше привычных узких социальных горизонтов. В своих проповедях стоики призывали правящий класс жить согласно законам космоса, не позволяя себе поддаваться человеческим слабостям и жгучим страстям. Такие проповеди призывали установить дополнительные ограничения в личном моральном кодексе, требуя соблюдать a fortiori
[32] еще большую осторожность и сдержанность: при этом слова «еще» и «даже» были наиболее употребительными. Общественный деятель должен осознавать себя гражданином своего города, и «еще» гражданином мира. Философ, убежденный холостяк, должен изменить свой статус и «даже» познать положение женатого, потому что «брачный союз — это хорошо». Женатый человек должен «еще» и не обманывать свою жену, «и даже свою служанку… то есть не Делать того, что некоторые считают вполне нормальным, поскольку господин вправе поступать со своими рабами так, как он пожелает». Общественный деятель должен осознавать, что и вне публичной сцены он должен вести себя в соответствии со своим статусом, что именно его сознательность должна служить побудительным мотивом для его поступков.
Будучи глашатаем «контркультуры высшего общества», философ занимал парадоксальную позицию, играя одновременно роль шута и «святого от культуры». И хотя труды этих философов занимают почетное место на полках современных библиотек, это вовсе не означает, что и при жизни авторов этими книгами были завалены кабинеты общественных деятелей. Фрагменты папирусов, найденных в Египте, свидетельствуют о том, что «зеркалом души» для греков «благородного происхождения» всегда оставался Гомер. Из одних только фрагментов «Илиады» и «Одиссеи», найденных в домах знатных горожан рассматриваемого нами периода, можно было бы составить не один десяток полных экземпляров этих двух поэм. Однако ни одного, ну или почти ни одного фрагмента текстов философов- моралистов И-Ш веков не сохранилось. Философы соперничали между собой и спорили друг с другом, лицемерно маскируя свои амбиции и запросы грубой одеждой и длинными косматыми бородами, тем самым не вызывая у большинства людей ничего кроме насмешек и презрения. На стене общественной уборной в Остии фрески изображают таких философов, которые учат посетителей туалета искусству жить, давая им строгие наставления о том, как нужно правильно испражняться!
Христианская философия
Тем не менее verba volant, scripta manent
[33]; все эти «даже» и «еще», чрезвычайно употребительные в многозначительных философских проповедях, в своем исходном контексте адресованных исключительно высшему классу, не имеют никакого значения, если речь заходит о другой социальной группе, обладающей иным социальным опытом и иными лее моральными представлениями. То, что философы представляли в качестве дополнения к старой интроспективной морали элиты, в руках христианских проповедников становится фундаментом для совершенно нового здания, доступ в которое открыт для каждого, вне зависимости от его социального
статуса. Философские проповеди, которые такие авторы, как Плутарх и Музоний Руф, адресовали читателям из высшего класса, с энтузиазмом повторены и пересказаны христианскими поводырями человеческих душ вроде Климента Александрийского, причем на этот раз они сознательно обращены к респектабельным городским торговцам и ремесленникам. Философские нравоучения позволяют Клименту представить христианство как мораль воистину универсальную, основанную на новом чувстве и осознании присутствия Бога, а также равенства всех людей перед Его законом. Удивительно быстрая «демократизация» контркультуры философов высшего класса, осуществленная усилиями лидеров христианской Церкви, стала самой значительной революцией позднего классического периода. С этого момента можно вести отсчет христианского учения, отраженного в христианских текстах или христианских папирусах, таких как найденные в Наг—Хаммади. Несмотря на то что эти философские труды долгое время не находили отклика в кругах среднего городского нобилитета, христианские проповеди и вариации на эту тему спрессовались в плотную формацию, ставшую той моральной основой христианства, базовые доминанты которой получили широкое распространение среди тысяч простых людей. К концу III века христианство охватило обширные регионы Средиземноморья и укоренилось в разговорных языках низших классов этих регионов: греческом, коптском, сирийском, латинском. Чтобы понять, как это могло произойти, нам предстоит вернуться на несколько веков назад и побывать в весьма своеобразном регионе — Палестине времен Иисуса, а потом пройти тем же путем через самые разнообразные социальные слои римского общества, наблюдая за ростом христианской Церкви начиная с миссии святого Павла и вплоть до обращения Константина в 312 году.
НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Рассматривать элиты периода Антонинов II — начала III века после Рождества Христова и при этом оставить без внимания мир позднего иудаизма (начиная со II века до Рождества Христова) означало бы упустить из виду мораль, которой было насквозь пронизано мироощущение народа–страдальца и которая уходила корнями в привычное осознание социальной дистанцированности. Речь не столько о границах, отделявших сплоченные и уверенные в своем превосходстве над прочими людьми элиты от традиционно низших слоев общества, сколько о способах выживания последних, объединенных в группу, несомненно, сильно отличавшуюся от всех прочих.
От сплоченности…
Сохранение традиций Израиля и неизменная верность иудеев этим традициям и друг другу — отличительное свойство представителей этой нации, идет ли речь об учениках Иисуса из Назарета, о святом Павле или о более поздних мудрых раввинах, не говоря уже о ессеях и Кумране. В истории античного мира редко можно встретить настолько ясное осознание необходимости приложить все силы и отдать всего себя служению религиозному закону и настолько же выраженное чувство солидарности между членами общины, которая постоянно подвергается опасности.
Отныне, когда праведники вместе
и пророки дремлют,
мы тоже покидаем эту землю,
нас изверг Сион,
и у нас ничего больше нет,
кроме Всевышнего и Его закона.
Исключительно редко в античной литературе отражается настолько отчетливое и неизменное осознание верности и сплоченности, постоянное опасение потерпеть неудачу, уверенность в том, что только благодаря такой верности можно отвести беды от народа Израиля:
Лишь наведя порядок в наших сердцах,
Мы получим все то, чего были лишены.
«Сердце», в котором покоится эта великая надежда, становится объектом тщательного исследования. Подобно инженерам, обнаружившим трещину в фасаде здания и сосредоточенно изучающим щели между кирпичами, вместо того чтобы проверить целостность арматуры фундамента, древнееврейские авторы настойчиво и скрупулезно пытаются проникнуть в тайны человеческого сердца. Так же как инженеры, обеспокоенные изнашиванием металлических деталей конструкции, эти авторы отмечают совершенно определенные «негативные зоны отчуждения» в темных глубинах сердца, которые грозят вытеснить из сердца Бога и единоверцев–иудеев (или христиан), разорвав базовые внутренние скрепы собственного Я.
… к личному пространству
На протяжении долгих веков, отмеченных тесной сплоченностью членов группы, постоянно подвергавшейся опасности, ярко выделяется резко отрицательное отношение к личной жизни. Личное пространство человека, его скрытые от других чувства и мотивации, движущие силы его поступков, непрозрачные для группы, его «сердечные намерения» изучаются с особым вниманием и рассматриваются в качестве возможного источника напряжения, способного вызвать трещину в идеальной сплоченности религиозной общины.
Эта модель не предполагает представлений о человеке как об индивиде. Точкой отсчета служит «сердце», рассматриваемое в качестве центра и источника мотиваций, размышлений и способности ставить перед собой воображаемые цели; в идеале сердце должно быть простым и однозначным, то есть проницаемым для требований Бога и соседей. Однако в текстах, относящихся к этой традиции, часто встречаются горькие сожаления по поводу того, что сердце у людей, как правило, двойственное: люди с двойственными сердцами отрываются от Бога и от соседей; удаляясь в зыбкое и коварное личное пространство, они становятся непрозрачными и недоступными. Отсюда острые характеристики отношений иудея, а позже и христианина, со сверхъестественным. Спрятанное от людских взглядов в «опасном уединении», сердце остается тем не менее полностью открытым взору Бога и его ангелов:
Тот, кто скрывает грехи, —
Отрицает Бога.
В течение I века после Рождества Христова такая модель поддерживалась более или менее твердым убеждением в том, что перед волей Божьей рано или поздно темная разрушительная сила «двойственных сердец» отступит и для настоящих наследников Израиля настанут светлые времена абсолютной проницаемости для других и для Бога. В такой общине, истинной и праведной, сила «испорченных сердец» будет нейтрализована. Усиленная стойкой верой в конец света и в Страшный суд, эта великая надежда поддерживалась представлениями о том, что сплоченность и прозрачность для других — естественное состояние человека в обществе, состояние, к сожалению, утраченное в ходе истории, которое ко времени наступления конца света должно быть вновь обретено. Многие группы верили, что идеальные условия, которые обязательно наступят ближе к концу света, предугадываются уже сейчас, в сообществе истинно верующих. Члены первых религиозных общин верили в присутствие Святого Духа среди настоящих наследников Израиля. Адепты могли надеяться, что подтверждение его присутствия будет дано им в откровении, в виде смутного и мимолетного ощущения, внезапного осознания торжественности момента или чего–то иного, возникшего из «глубин сердца». Они верили, что во время святого причастия сердца раскрываются и ощущается присутствие Бога. Таковым на протяжении этих веков было представление о безупречной вере и сплоченности членов группы (что предполагает абсолютную прозрачность частной жизни каждого человека для той религиозной общины, к которой он принадлежит).
Сложности общины
Когда мы говорим о возрастании роли христианства в средиземноморских городах, мы имеем в виду лишь некото рую часть иудаизма, представленную сектами с чрезвычайно неустойчивой и нестабильной структурой. Задача святого Павла (приблизительно с 32 по 60 год) и других «апостолов» заключалась в том, чтобы «объединить» неверных сынов нового Израиля и в день Конца света предоставить их в распоряжение высшей миссии Иисуса. На самом же деле новый Израиль состоял в основном из язычников, в большей или меньшей степени оказавшихся под влиянием иудейских общин в городах Малой Азии и побережья Эгейского моря, а также крупной общины, обосновавшейся в Риме. Новый Израиль представлялся «объединением»: Иисус в качестве Мессии «разрушает стены, разделяющие людей».
В своих посланиях святой Павел перечисляет традиционно антагонистические группы: иудеи и неверные, рабы и свободные, греки и варвары, мужчины и женщины, подчеркивая, что все эти категории будут уравнены в новой общине. Согласно Павлу, обряд посвящения в члены общины состоит только в омовении, для чего любой обращенный должен сбросить с себя «одежды» своего класса, пола или религии и облачиться в «одежды» Христа; Павел полагал, что тем самым человек приобретает новое качество, единое для всех членов общины и лишенное каких бы то ни было отличий, качество, соответствующее «детям Божьим», приемным детям «во Христе».
Эта великая иллюзия, идея новой общины, основанной на сплоченности, базировалась на представлении о том, что все прежние формы неравенства волшебным образом исчезнут. Однако в действительности социальная ситуация, существовавшая в римском обществе, превращала идею такой сплоченности в недостижимый идеал, пустую надежду, оставлявшую в сердцах, полных моральных предрассудков, тяжелый отпечаток. Социальная ситуация не позволяла первым обращенным христианам достичь великого идеала Павла: безраздельной сплоченности «во Христе». Покровители и ученики Павла, так же как и его последователи, отнюдь не были людьми простодушными, не были они и обездоленными и угнетенными, как это может выглядеть в свете современных романтических представлений. Если бы они были таковыми, то, вполне вероятно, что и идеал Павла проще было бы осуществить. Они были людьми, скорее, богатыми, которые зачастую много путешествовали, имели разветвленные социальные контакты и возможность выбора, подвергаясь тем самым потенциальной опасности «раздвоения сердца», бывая в домах отнюдь Не бедных людей: во всяком случае встречаясь не только с бедными крестьянами «движения Иисуса» в Палестине или с членами оседлых иудейских колоний, замкнуто живущих в Кумране. «Следовать за Иисусом», переезжая из селения в селение в Палестине или Сирии, «избрать Закон», отказавшись от «воли собственного разума», странствуя вместе с монахами по Иудейской пустыне, — значительно сложнее, чем посещать «священные собрания» в больших процветающих городах, та ких как Коринф, Эфес или Рим. Мы видим, как в течение двух первых веков истории христианской Церкви в нее вливается огромный поток из «высшего общества» городов: поток людей, совсем не похожих на евангельских крестьян.
Герма
Достаточно присмотреться к христианской общине Рима, например 120 года, то есть такой, в которой обнаруживаются принципы, отраженные в «Пастыре» Гермы, чтобы понять, что именно она из себя представляет. Религиозные группы содержали все элементы, позволявшие любому студенту, изучающему старые религии, заметить, что они противоположны качествам «паулинистской» городской общины; именно так дело и обстояло.
Герма был пророком, поглощенным идеей сохранения сплоченности «простых сердец» в среде верующих. Он горячо и страстно желал, чтобы в общине царила «детская» невинность, лишенная коварства, честолюбия и страха «разобщенных сердец». Особенные опасения вызывали у Гермы грехи, рожденные стремлением к достижению успеха в обществе. В Риме Церковь поддерживалась богатыми покровителями, принадлежавшими при этом к языческим общинам, которые обеспечивали им защиту и авторитет в обществе. Неудивительно, что заботы влиятельных христиан не ограничивались религиозными устремлениями и взаимоотношениями с другими верующими, поскольку они должны были вести свои собственные дела, а значит, поддерживать контакты с друзьями–язычниками. Богатство их домов и будущее детей имело для них не меньшее значение, чем вопросы религиозные. Все эти заботы служили для них постоянным источником напряжения и беспокойства, свойственных «разобщенным сердцам». Герма не сомневался в том, что эти люди играли важнейшую роль в зажиточных христианских общинах: вокруг них, словно вокруг ствола могучего дерева, вьется цветущая виноградная лоза крепкой религиозной общины.
«Будь терпелив, не давай воли гневу, всегда улыбайся», — Герма, проповедовавший все это, сам вовсе не был человеком с «простым сердцем». Процветающий и корыстолюбивый раб в богатом доме, он был одержим сексуальным влечением к своей госпоже, которая, хотя и была добропорядочной христианкой, всегда просила его помочь ей раздеться донага перед купанием в Тибре! Он часто мог наблюдать разрушительные последствия, к которым приводило коварство «разобщенных сердец» богатых христианских покровителей, священников и пророков, соперничающих между собой. Между тем Герма помещает большую часть своего сочинения на задний план классической аркадской идиллии и формулирует свои идеи, вполне успешно занимаясь виноградарством в собственном, пусть маленьком, но вполне комфортабельном поместье в окрестностях Рима.
Как удачно заметил Ортега–и–Гассет, «самыми важными для нас добродетелями мы считаем те, которыми сами не обладаем». Большая часть истории первых христианских Церквей — это история упорных поисков равновесия людьми, идеал которых — верность «простых сердец» друг другу и Христу — постоянно рушился из–за объективной сложности их интеграции в социальное общество средиземноморской Цивилизации. К слову заметим, что стремление к сплоченности означало для городских христианских общин долгие годы поисков новой морали и новой формы религиозной общности, способной представить новый идеал внутри Церкви и для внешнего мира.
Изобретение строгого порядка
Вероятно, весной 56 года Павел пишет коринфской общине, что «Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых…» Довольно часто в своих словах Павел подчеркивает крайнюю сложность ситуации: в данном случае он указывает на необходимость проповедовать Писание на языках, понятных для всех. Как мы могли убедиться, христианские церкви в городах находились под покровительством глав уважаемых и процветающих фамилий. Члены этих семейств могли благосклонно принять некоторые ритуальные действия, символизирующие сплоченность христиан. Однако если не считать среды изгнанников и маргиналов, а христианские общины первых трех веков не имели к ней отношения, городская жизнь не могла базироваться на каких бы то ни было крайних проявлениях. Чтобы «простота сердца» сохранилась в христианских церквях и укоренилась среди недоверчивых язычников в условиях городской жизни, полной постоянных конфликтов, для начала она должна была стать нормой жизни в группах, сознательно структурированных и придерживаю щихся определенного порядка.
Этим объясняется парадокс резкого повышения важности той роли, которую играла христианская мораль в языческом мире. Христианство глубоко изменило моральную структуру старого Рима. Однако христианские лидеры практически не касались существующих в современном им обществе моральных основ. Они предпринимали куда более решительные действия. Они создали новую группу, члены которой с исключительной настойчивостью применяли на практике то, что языческие и иудейские моралисты к тому времени проповедовали уже достаточно давно. Эта «простота сердца», которой так страстно добивался Герма в процветающей христианской общине Рима, будет достигнута не столько благодаря упорному труду Духа, сколько в силу внутренней дисциплины сплоченной группы, моральные устои которой отличались от морали язычников и иудеев только той настойчивостью, с которой они принимались и применялись на практике.
Однако здесь важно отметить, что мораль, проповедуемая христианскими группами, отличалась от кодекса поведения городских элит. Многое из того, что в первых церквях проповедовалось в качестве новой «христианской» морали, на самом деле было моралью некоторой части римского общества, отличной от той, которую из литературы мы знаем как «высшее общество».
Это мораль человека, социально уязвимого. В домах со скромным достатком для сохранения контроля над рабами и женщинами простой демонстрации власти было недостаточно. Поэтому внутренний порядок, сдержанность в поведении, супружеская верность и покорность поддерживались при помощи «простоты сердца» и «боязни Бога», которые в таких семьях проявлялись наиболее остро. Покорность слуг, хорошие отношения с партнерами и верность супруги имели намного большее значение для человека небогатого, которого неверность жены, неподчинение и без того немногочисленных рабов или мошенничество компаньона могли смертельно ранить, поскольку это означало бы, что окружающие не считают его человеком могущественным и богатым. За пределами семейных контекстов возникает чувство солидарности между все большим количеством сограждан; при этом оно коренным образом отличается от тех чувств, которые испытывает нобилитет, глядя на мир сквозь узкое окошко своего «гражданского» статуса в городском сообществе. Чувство солидарности явилось естественным дополнением морали социально уязвимого человека. Таким образом, не было ничего странного — и еще меньше чисто христианского — в надписи, выбитой на могиле трека–иммигранта, торговца жемчугом, несомненно, язычника, Расположенной у Священной дороги Рима: «Здесь покоятся останки человека добродетельного и милосердного, лучшего друга бедных».
Мораль уязвимых
Разница в распределении доходов между высшим и средним классами создавала весьма яркий контраст. Знатные граждане «кормили» свой город: от них ждали крупных денежных вложений на организацию увеселительных мероприятий для сограждан. Если в результате такой щедрости удавалось несколько утешить бедноту и отвлечь ее от невзгод и несчастий — это не считалось только лишь заслугой дарителя, а рассматривалось как счастливое обстоятельство, удача для всего города, поскольку и богатые, и бедные были его гражданами. Многие жители города, чаще всего люди по-настоящему бедные — рабы и иммигранты, — не получали никакой выгоды от таких щедрот. Подобные дары, преподнесенные «городу» и его «гражданам», служили скорее для поддержания статуса дарителя и авторитета гражданского общества в целом, чем для облегчения страданий особой категории его жителей — «бедных». Эти частные пожертвования могут быть сравнимы с чудесным фейерверком: они знаменуют собой важное событие, прославляют могущество и щедрость благодетеля, а также величие самого города. Так, построенный на деньги дарителей флот служит утешением для страждущих в том смысле, что он как будто бы расширяет для этих людей видимые горизонты.
У людей социально уязвимых взгляды на жизнь носили характер более реалистичный. Они ежедневно наблюдали разницу между деньгами, «выброшенными на ветер» для увеселения зажиточных граждан, и «недостатком средств» у их куда более бедных соседей. Более того, подобный дисбаланс мог быть исправлен или по крайней мере сглажен путем распределения хотя бы небольших сумм, если бы зажиточные городские семьи или процветающие землевладельцы оказывали своим обделенным согражданам такую милость Христианским общинам, так же как и задолго до них общи нам иудейским, было очевидно, что для простых людей даже очень скромная помощь может стать серьезным подспорьем с точки зрения возможности поддерживать финансовую независимость в этом враждебном мире. Давая немного денег или предлагая работу своим наиболее обездоленным единоверцам, они тем самым могли предотвратить полное их обнищание и сделать их менее беззащитными перед лицом работодателей и кредиторов — язычников. Приняв во внимание все эти обстоятельства, мы сможем лучше понять, каким образом простая милостыня быстро становится знаком сплоченности в группах верующих, незащищенных от внешнего мира. Окончательная смена модели городского сообщества, основанной на обязанности богатых давать утешение бедным и «кормить» свой город, на модель, подразумевающую солидарность богатых с бедными в одолевающем последних несчастье — наиболее яркий показатель угасания классического периода и становления периода постклассического, христианского. Колесо этих перемен было запущено во II веке в среде христианских общин.
К тому же, вне всякой зависимости от христианских церквей, мы можем проследить происходящее параллельно развитию аристократического «гражданского» поведенческого кодекса медленное становление морали действительно новой, затрагивающей слои населения с самым разным социальным опытом. Уже в начале III века, то есть задолго до становления христианской Церкви, римские законы и жизнь семей молчаливого большинства людей, обитающих в имперских провинциях, постепенно меняется в соответствии с незаметно изменившимися моральными представлениями. Респектабельная жизнь в законном браке становится нормой Даже для рабов. Императоры обретают статус блюстителей нравственности своего народа. Даже самоубийство — гордая Демонстрация права благородного человека распоряжаться своей жизнью — признается теперь действием, совершаемым наперекор природе.
Новая мораль в сексуальных отношениях
Между тем христианская Церковь воспользовалась этой новой моралью, сделав ее одновременно более универсальной — с точки зрения применимости на практике — и существенно адаптировав ее к частной жизни верующего человека. Христиане приняли наиболее мрачный из всех возможных вариантов народной морали, которая в их трактовке призвана была сплотить верующих на основе новых принципов и еще глубже внушить каждому из них чувство благоговения перед Богом, страха перед Его судом — и осознание острой необходимости достижения единства в религиозной общине.
Достаточно обратиться к христианским семьям и рассмотреть структуру брака и порядок сексуальных отношений, появившиеся в течение II и III веков, чтобы оценить масштаб произошедших в Церкви изменений — с точки зрения трансформации доминирующих моральных идеалов.
Наблюдавший за христианскими общинами в конце II века врач Гален был поражен их строгостью в отношениях между полами: «Их презрение к смерти нам очевидно, так же как и та скромность, которая отличает их образ жизни. И хотя в их общинах живут и мужчины и женщины, они могут и вовсе отказываться от совместной жизни; есть среди них и такие, которые в самодисциплине и самоконтроле достигают высот подлинных философов».
Христианская мораль в области сексуальных отношений по своей форме была легко узнаваема и вполне привычна для язычников: полный отказ некоторых из них от сексуальных отношений при взаимном согласии супругов (явление, к тому времени глубоко укоренившееся в среде элиты, хотя и основанное на несколько иных мотивациях, чем те, что были близки христианам), жесткая и неодобрительная позиция в том, что касалось повторных браков, — все это было заимствовано у язычников. Определенные обрядовые ограничения, свойственные иудаизму, такие как обрезание или пищевые запреты, у христиан не применялись. Однако все, что было связано с особой сексуальной дисциплиной, христиане переняли у иудеев, считая, что такого рода порядок выражает их отличие от мира язычников. Призыв апологетов христианства был похож на тот, что позже провозглашали поклонники обета безбрачия, тот, что описывал Ницше; они взывали к «вере, согласно которой человек, ограничивший себя в этом отношении — исключителен во всем остальном».
Таким образом, важнее всего было блюсти ясность помыслов по отношению к той новой внутренней структуре, на которой, собственно, и было основано все то, что стороннему взгляду могло показаться не более чем системой строгих нравственных запретов в области сексуальных отношений, — и средний человек с готовностью эту модель воспринял. Поддержание строгого порядка в сексуальных отношениях было основано на чисто христианских идеях, причем идеях куда более глубокого толка. После святого Павла партнерство в супружеской паре стало рассматриваться в качестве некоего микрокосма, аналога состояния сплоченности в группе «простых сердец». Даже если в среде христианских мыслителей и возникали порой разнотолки относительно деяний Святого Духа или «святого собрания», отношения между мужем и женой, между господином и рабом, основанные на верности и подчинении, в христианских семьях подтверждали то, что в стремлении к идеалу объединения «простых сердец» не было ничего притворного.
Первая причина воздержания
Городские христианские общины, активно стремящиеся подтвердить свою сплоченность и верность моральным принципам, отказались от таких взаимоотношений с женщинами, которыми гордились иудеи и язычники: они запретили разводы и с крайним неодобрением относились к повторному замужеству вдов. Приводимые ими доводы, часто заимствованные у философов, были вполне достойны Плутарха: особая мораль брака, признанная отныне и мужчинами и женщинами из среднего класса, свидетельствует об их стремлении к особому порядку: «Мужчина, который разводится со своей женой, признает, что не может справиться даже с женщиной».
Христианские общины могли бы остановиться и на этом. Мораль брака представлялась в качестве стремления к «чистоте сердца»; в этом случае супружеская измена и сложности сексуальных отношений в супружеской паре рассматривались как самая что ни на есть «негативная зона отчуждения», связанная с «двойственностью сердца». При отсутствии в античных городах толерантного отношения к ранним проявлениям сексуальности юношей из высшего класса, позволяющего им относительно свободно находить выход своей сексуальной энергии, молодые пары могли бы жениться после достижения ими полового созревания, чтобы, находясь уже в законном браке, утолять свое половое влечение. В таком случае и женщины, а желательно, и мужчины, становились бы более сдержанными в сексуальном поведении, осознавая, что они состоят в браке, и ощущая при этом пронизывающий взор Бога, проникающий даже в самые тайные уголки их спальни. Отказываясь от повторных браков, община могла обеспечить себе постоянный резерв почтенных вдов и вдовцов, способных все свои силы и время посвятить служению Церкви. Не будучи представителями знатной городской верхушки, эти тихие люди из «среднего класса» были мало подвержены порокам, связанным с обладанием настоя щей властью: коррупции, клятвопреступлению, лицемерию, насилию и гневу; они могли доказывать стремление к порядку и сплоченности своим добропорядочным поведением в быту и самодисциплиной в сфере сексуальных отношений.
Кроме того, та смущающая стороннего наблюдателя теснота, в которой пребывали как мужчины, так и женщины на христианских собраниях, вызывала искреннее отвращение у респектабельных язычников. По этой причине посторонние старались с христианами особо не разговаривать, а один христианин, современник Галена, даже обратился к правителю Александрии с прошением о дозволении себя кастрировать, поскольку только таким образом он и его единоверцы смогли бы избежать обвинений в распутстве! Если же говорить о вещах более обыденных, не принимая во внимание подобные крайности, нужно отметить, что стремление христиан избежать браков юношей и особенно девушек с язычниками привело к усилению мер контроля над сексуальным поведением молодых людей в тесно сплоченных христианских общинах. Мораль, которая из этого следовала, была более понятна посторонним и еще строже соблюдалась верующими.
Безбрачие как знак
Этим давлением объясняется и общая тональность морали, господствовавшей в среднестатистической христианской общине времен Поздней Античности. Однако никакое давление не объясняет того, почему отказ от сексуальных отношений — идет ли речь о тщательно охраняемой девственности или же о воздержании в браке — принимает глобальный характер и становится основанием для мужского доминирования в христианской Церкви. В этом отношении христианский мир избрал il gran rifiuto
[34]. Именно в течение этих веков, когда раввинат признал вступление в брак обязательным критерием мудрости, руководители христианских общин заняли прямо противоположную позицию по отношению к критериям, определяющим право человека на управление общиной: высокое положение практически всегда означало отказ от вступления в брак. Едва ли какая–либо властная структура смогла бы с такой быстротой и точностью добиться желаемого результата в столь интимной сфере, а именно полного отказа от сексуальных отношений. Странность, которую отметил Гален в конце II века, становится качеством, отличающим христианскую Церковь от иудаизма и ислама в течение всех последующих столетий.
Начнем с того, что попытаемся несколько расширить самое распространенное объяснение подобного положения вещей. Принято утверждать, что отвращение к человеческому телу было широко распространено уже в языческом мире. Исходя из этого предполагают, что к описываемому нами времени христианская Церковь успела уже достаточно далеко уйти от своих иудейских корней, то есть, среди прочего, и от оптимистических представлений иудеев о сексуальности и браке как о явлениях, созданных Богом, а потому благих по определению, — а сами христиане восприняли мрачные настроения окружающего их языческого мира. Подобная гипотеза объясняет далеко не всё. Контраст между языческим пессимизмом и иудейским оптимизмом выявляет важность отказа от сексуальных отношений, используемого радикальными иудеями в качестве средства достижения «простоты сердца», однако это же самое средство неожиданно всплывает и в христианстве. Не говоря уже о том, что само по себе происхождение идеи сексуального воздержания могло быть различным, именно в христианстве эта россыпь представлений об отказе от сексуальных отношений кристаллизовалась в символ мужского доминирования в христианских общинах II-III веков.
Вместо того чтобы задаваться вопросом, почему человеческое тело вызывало настолько обостренный интерес во времена Поздней Античности, попробуем для начала ответить на противоположный вопрос: почему тело определялось при помощи сексуальных по сути своей терминов, представлялось в качестве средоточия сексуальных же мотиваций и, одно временно, полагалось как центральное понятие в области социальных структур, также представленных в терминологии навязчиво сексуальной — иными словами, по какой причине сформировалось крайне устойчивое представление о теле как о носителе исключительно признаков пола, ориентированном лишь на брак и беременность? Отсюда возникает следующий вопрос: почему особое восприятие тела имело настолько важное значение в первые века христианства? Определения телу человека давались порой в таких брутальных и негативных выражениях, что это могло бы оскорбить слух современного читателя.
Именно здесь проходит наиболее явная черта, разделяющая христианство и иудаизм. Раввины полагали, что сексуальность является неотъемлемым качеством любого человека. Несмотря на то что a priori это качество импульсивно, оно вполне может оставаться под контролем: и хотя женщины пользуются в Израиле заслуженным уважением, они никогда не вмешиваются в серьезные мужские дела. Эта модель основана на изоляции и контроле над раздражителем, который тем не менее является важным элементом человеческого существования. У христиан все происходило с точностью до наоборот: сексуальность здесь приобретает природу откровенно знаковую, символическую, — и добровольный отказ от нее считается значимым проявлением веры, поскольку служит доказательством ее наличия, причем доказательством более важным, чем любые другие, а потому необходимым для человека, которому можно доверить управление религиозной общиной. Отмена сексуальности или, во всяком случае, отказ от нее означали получение в глазах Бога и окружающих сильнодействующего средства для достижения идеала «простоты сердца».
ЦЕРКОВЬ
Новое публичное пространство
Господство холостых мужчин в христианской Церкви отсылает нас ко временам правления Константина и следующих за ним императоров. Различные формы безбрачия существуют одновременно, с тех пор как желание создать новое «публичное» пространство прочно укоренилось в сознании тогда еще довольно аморфной конфедерации семей, составляющих христианские общины. «Публичное пространство» касается не только отношений человека с внешним миром, но и его собственного тела. И создание такой внутренней «общественной» среды особенно актуально для предстоятелей Церкви. В какой бы форме оно ни проявлялось, безбрачие означало для христианских общин отмену всего того, что они рассматривали в качестве источника личных мотиваций, которые могли бы разрушить наиболее глубокие социальные связи, призванные обеспечить целостность и сплоченность правильно выстроенного сообщества. Для этого следовало создать общество, руководимое Церковью, которым управляли бы холостые муж чины. Они же должны были выступать его представителями «в миру», населенном надменными людьми с «разобщенными сердцами», но с крепкими семейными и родственными узами, которых за честолюбие, а также за их преданность семье следовало бы наказывать самым безжалостным образом.
Безбрачие часто встречается и среди женатых людей, где оно принимает форму сексуального воздержания. С воздержанием легко соглашаются люди зрелого возраста, а священникам старше тридцати отказ от сексуальных отношений будет вменен в обязанность. Именно в такой форме безбрачие станет нормой жизни для городского духовенства среднего звена в период Поздней Античности. Такой отказ от сексуальной жизни не был чем–то из ряда вон выходящим. Мужчины Античности считали сексуальную энергию некой летучей субстанцией, которая в пылу юности может быстро испариться. Жестокие реалии жизни античного общества с присущей ему высокой смертностью обеспечивали постоянный резерв вполне приличных вдовцов, находящихся на пороге зрелого возраста: то есть весьма существенный по численности и по социальному статусу контингент взрослых и свободных мужчин, готовых «со всей страстью» предаваться радости исполнения церковных обязанностей. Таким образом, безбрачие становилось способом существования для людей, занимающих центральное положение в «общественной» жизни Церкви, поскольку позволяло им навсегда избавиться от того, что они рассматривали как частную жизнь среднего обывателя «в миру». Вдохновленный воспоминаниями о «Пастыре» Гермы, веком позже Ориген сравнивает человека не просто богатого, но к тому же еще и «женатого», с крепким, но бесплодным деревом, вокруг которого вьется цветущая лоза Церкви.
И все–таки безбрачие, а точнее, состояние постоянного сексуального воздержания, вовсе не было обычным делом для публичного человека в римском мире. Августин, будучи в Медиолане и размышляя о себе самом как о человеке в самом расцвете сил, чей социальный статус и близость к сильным мира сего позволяют получить любое сексуальное удовлетворение, тем не менее признает, что завидует Амвросию, христианскому епископу, потому что «его положение безбрачия представляется более надежной опорой». Для деятельных людей, решившихся отказаться от брака, чтобы создать «публичное» пространство в своем собственном теле, это пространство должно было стать реальным и даже привлекательным, а для общины в целом потребность в таком пространстве становится насущной необходимостью.
Церковь и власть
Вот что происходит с христианской Церковью в III веке. К 300 году Церковь становится общественным институтом, которому недостает только официального признания. В 248 году Римская церковь насчитывает 155 членов клира и поддерживает около 1500 вдов, вдовцов и нищих. Эта группа, не считая монахов, становится наиболее многочисленным и влиятельным объединением горожан. И в самом деле, это сообщество выглядит просто огромным по сравнению с культурными и погребальными товариществами, в которых, как правило, не насчитывается и нескольких десятков членов. Наиболее показательным может стать пример папы Корнелия, который, исходя из приведенной выше статистики, сделал заключение, что имеет право считаться епископом города. Киприан, его сторонник, не преминул подчеркнуть, что «тонкая нравственная организация и девственное целомудрие» Корнелия несовместимы со столь тяжким бременем. Если учесть тот уровень ответственности и те колоссальные ресурсы, которые уже были задействованы в игре, то практики целибата и язык власти неминуемо должны были объединиться между собой и вместе выйти на широкую политическую сцену — на уровне крупного римского города. Будучи холостыми и потому «отрешенными от мира», христианские епископы и клир становятся к концу III века элитой, такой же авторитетной, как и традиционные элиты городской знати.
Именно такой Церкви, с целомудренными лидерами во главе, обращенный в христианство император Константин в 312 году придает статус государственной религии, который окончательно и необратимо укрепится в течение IV века. Однако вначале нам предстоит вернуться немного назад, чтобы подробнее рассмотреть трансформацию гражданских элит в городах, происходившую в течение предшествующих веков и достигшую своей кульминации во времена правления Константина и его сыновей.
Служилая знать
Империя в период правления Константина (с 312 по 337 годы), провозгласившего христианство государственной религией, во многом отличается от «классического» гражданского общества эпохи Антонинов, о которой пойдет речь. Сложности существования Империи мирового масштаба, имевшие место с самого ее основания, теперь в большинстве городов становятся слишком ощутимыми. После 230 года возникла необходимость повысить налоги для знати в целях сохранения единства и целостности Империи. В экономике Античности такое повышение означало увеличение доли прибыли, которую имперское правительство попросту присваивало. Высший класс должен был перестраиваться, чтобы получить свободный доступ к этим средствам. Практика освобождения от налогов, применявшаяся на местах, так же как и их сокрытие, подвергавшее богатых людей риску полностью утратить свой статус, ушли в прошлое. Становится нормой прямое вмешательство имперской администрации в дела городов.
Между тем ужесточение системы сбора государственных податей еще не означало упразднения статуса городов как таковых, так же как не означало оно и вытеснения традиционных элит. Просто элиты изменили свою структуру. Отныне знать, Желавшая оставить за собой ключевые позиции в обществе, к своему положению местного нобилитета добавляет статус слуг императора. Получив огромную выгоду от доступа к имперскому управлению, эти люди отныне перестают рассматривать себя в качестве сограждан, соперничающих с другими, равными им согражданами — которые все вместе, согласно от века идущим традициям, «кормят» свой милый город. Теперь они potentes, могущественные люди, контролирующие собственный город от имени далекого императора в этакой созерцательной и отстраненной манере, пользуясь при этом приемами, характерными для прежнего «высшего общества». В эпоху Антонинов можно отметить то колоссальное давление, которое испытывали представители среднего класса в условиях меняющейся культуры и растущего социального разрыва. Придавая все большее значение непреодолимости границ между правящим классом и любым другим, представители «высшего общества» воспринимали себя в качестве взаимозаменяемых членов общегосударственной элиты. В течение II и III веков эта явная элитарность успешно маскировала все возраставшее неравенство внутри самого высшего класса, а также тот факт, что господствующее положение в нем занимали те его представители, которые находились под защитой своего статуса слуг императора. Тем не менее к концу III века такая модель была признана основой Империи, призванной обеспечить ее выживание. Поздняя Римская империя представляет собой общество, которым правит альянс слуг императора с крупными землевладельцами; этот альянс возник для того, чтобы контролировать крестьян, находящихся под тяжким гнетом налогов, а также поддерживать закон и порядок в городах. Явное превосходство некоторых представителей «высшего общества» над другими, равными им по статусу, во времена правления Константина и его приемников обнаруживается со всей определенностью. Кодекс поведения общественного деятеля изменяется, приобретая выраженную наклонность к зрелищности почти театральной. Рассматриваемый всеми и вся в качестве приверженца умеренных взглядов и сторонника сохранения в целостности прежнего, традиционного поведенческого кодекса, человек при должности, potens, буквально расцветает, забывая обо всех приличиях. От скромной одежды, которая была униформой для всех без исключения представителей знати классического периода, — изящно драпированной тоги, символа бесспорного превосходства взаимозаменяемых nobiles надо всеми другими представителями рода человеческого, — отказываются в пользу одежды, которая демонстрирует знаки
статуса (приобретшие характер уже едва ли не геральдический) и призвана выразить иерархические отличия в пределах высшего класса. Новая одежда — это целая вереница нарядов: от струящихся шелковых платьев сенаторов и тоги слуг императора, похожей на униформу, расшитую узорами, точно определяющими их официальный статус, — до туник намеренно безликих, которые тем не менее со всей определенностью указывают на то, что перед вами христианский епископ. И если прежде красивое и совершенное тело, во всей своей наготе демонстрируемое в общественных банях, символизировало природную принадлежность к особому классу, то отныне тело облачают в тяжелые, хорошо подогнанные по фигуре одежды, которые как раз и призваны обозначать социальный статус своих обладателей посредством разнообразных орнаментов, каждый из которых определяет его точное положение на иерархической лестнице, достигшей в это время своего наивысшего развития.
Что же касается городов, то, поскольку экономические условия в большей части регионов Империи препятствовали ее дальнейшему расширению, внутреннее соперничество среди городского нобилитета неизбежно должно было проявляться прежде всего в финансировании строительства новых зданий, организации зрелищ и прочих роскошных «даров согражданам». Собственно, именно так на практике дело и обстояло. Однако наиболее ярко, а подчас и с настоящей роскошью, эта тенденция проявлялась в крупных императорских резиденциях, то есть в таких городах, как Трир, Сирмий и особенно Константинополь, а также в некоторых других крупных центрах — в Риме, Карфагене, Антиохии, Александрии и Эфесе. Только теперь блеск и великолепие этих городов обеспечивались самим императором или, от его имени, — местными potentes. Сверкающие роскошью самостоятельные города, где со всей возможной мощью проявлялось могущество местных властных элит, уступают место городам, являвшим собой микрокосм порядка и безопасности — этакий слепок с Империи в целом.
Город или дворец
Город IV века вовсе не был бледным отражением своего классического предшественника. Многие его общественные здания, такие как древние величественные языческие хра мы, были бережно сохранены. Во многие города имперское правительство продолжает поставлять продовольствие и, как в предыдущие века, распределять его между гражданами, вне зависимости от степени их богатства или бедности. Та же власть содержит общественные бани во всех крупных городах. Цирки, театры — зачастую перестроенные для орга низации еще более грандиозных зрелищ, таких как морские баталии или сражения с дикими зверями, — и знаменитый ипподром Константинополя, ранее служившие публичными пространствами, на которых язычники традиционно и при людно могли выражать свою любовь и уважение к богам, становятся местом бурного и торжественного проявления верности горожан своим правителям и благодарности им за поддержку данного конкретного города. Культурные союзы считавшие, что церемонии и торжества нужно проводить с соблюдением строго определенного порядка, объединялись и участвовали в организации зрелищ с той же горячностью, с которой прежде язычники проводили свои религиозные обряды. Жители Трира, Карфагена и Рима — трех городов, в V веке подвергшихся нападениям варваров, — были уверены в том, что соблюдение всех правил при проведении торжественных игр в Цирке оберегает город от врагов: благодаря присущей этим зрелищам таинственной мистической силе.
Potentes не слишком часто появляются на форуме. Теперь они больше стремятся властвовать в «своем» городе, оставаясь в принадлежащих им пышных дворцах и на загородных виллах, то есть находясь на некотором удалении от традиционного центра городской общественной жизни. Дворцы и виллы — вовсе не место для уединения и покоя, скорее, это нечто вроде частного форума. Женские апартаменты располагались по бокам от большого зала для торжественных приемов, который часто был снабжен апсидой, где устраивались пиры для узкого круга лиц. Эти торжественные приемы, на которые собирались лишь посвященные, то есть люди, управляющие городом, значительно отличались от прежних пышных публичных пиров, открытых для всех без исключения, куда имели доступ и клиенты хозяина, и его вольноотпущенники, и друзья, и просто сограждане, — пиров, на которых Плиний Младший тремя веками ранее щедро угощал своих друзей и вольноотпущенников не слишком изысканным вином. Многие скульптурные шедевры, прежде располагавшиеся внутри или вокруг форума, безо всяких колебаний были перемещены в просторные внутренние дворики или установлены у дверей роскошных частных домовладений. Эти статуи служили символом права potentes присваивать и хранить по их собственному усмотрению все лучшее, что было в классических городах. Предстояло убедить этих людей и людей, от них зависящих, в том, Что христианские епископы и представленные ими быстро увеличивающиеся религиозные общины могут предложить Церемонии, согласующиеся с привычной для них концепцией городского сообщества, сохраняемого и поддерживаемого благодаря тому, что власть в городах они осуществляли как собственной волей, так и волею своего господина — императора. В течение IV века еще не было никакой уверенности в том, что новая христианская Церковь сможет навязать свои догматы сообществу античного города — как единому целому, в рамках которого на протяжении долгих веков существования сформировались свои собственные, причем весьма устойчивые представления о должном и недолжном.
Церковь богатая и маргинальная
Христианский епископ и его церковь появляются на сцене городской жизни в качестве одного из составляющих ее элементов. В новой ситуации стало возможным строить любые церкви, благодаря дарам императора и новой модели имперского устройства. Базилика — здание, очень напоминающее зал для «аудиенций» императора или тронный зал для Божьего суда: император незримо присутствует в каждом городе. Духовенство получает определенные привилегии, скажем, освобождение от налогов или ассигнования на питание. Епископ имеет доступ в круг правителей и potentes. Он выступает в роли защитника бедных и угнетенных. Однако, как отмечает Августин, зачастую епископу приходится часами просиживать в прихожей сильных мира сего в ожидании приема, в то время как более важные персоны проходят к патрону прежде него. Несмотря на то впечатление, которое Церкви удалось произвести на современников с самого момента своего появления, Церковь IV века остается маргинальной по отношению к saeculum
[35], к «миру», внутренняя структура которого перестраивается под давлением могущественной политической власти, жесткой социальной иерархии и требований безопас ности. Христианство остается на периферии этого saeculum, даже если теперь представляет собой официальное вероисповедание власть имущих.
Христианская община представляется единой благодаря созданному ей же самой миражу, а именно единомыслию, которое отныне можно выразить публично во время церемонии в епископской базилике. То есть, несмотря на то что такое единомыслие так и не стало «святым собранием», христианская базилика остается тем местом, где структурное устройство saeculum практически сведено на нет. Иерархия в базилике проявляется не так очевидно, как на улицах города. Несмотря на возросшую значимость духовенства, несмотря на то что женщин и мужчин стараются разместить в базилике раздельно, все чаще выделяя им места в противоположных нефах, несмотря на новую манеру знати «выглядеть блистательно» (на фоне блеклой массы лиц из низших социальных слоев) в своей выходной одежде, расшитой богоугодными сценами из Евангелий, христианские базилики служат местом, где мужчины и женщины и представители разных классов — все равны перед высокой кафедрой епископа в апсиде и перед испытующим взором Бога. Мы знаем, что Иоанн Златоуст, будучи в Константинополе, снискал исключительную непопулярность тем, что имел привычку следить глазами за крупными землевладельцами и их угодливой свитой, в то время как те фланировали внутри или снаружи базилики во время его проповедей; его пронизывающий взгляд публично указывал на них как на источник грехов и несправедливости, которые он изобличал с высоты своей кафедры. Отныне проповедники, обладающие «свободой слова» древних философов, приобретают значительный вес во всем городском сообществе, собранном духовенством в «зале для аудиенций» самого Бога. Община, действующая таким образом и управляемая такими яркими персонажами, неминуемо Должна была попытаться преобразовать город в сообщество, созданное по необычному образцу, который и должен был стать «природным», собственным образом города как такового.
По мнению религиозных лидеров, Церковь — это новая общественная структура, объединенная на основе осознания необыкновенной важности трех тем, никогда не звучавших с такой остротой в античном мире: тем греха, бедности и смерти. Три эти мрачные концепции, явно абстрактные и переплетающиеся между собой, заполняют все поле зрения христианина эпохи Поздней Античности. Отныне этим трем сюжетам духовенство со всей определенностью противопоставляет идею о том, что самые обычные мужчины и женщины могут достичь «царствия небесного», которое на христианских мозаиках поздней Античности изображается с откровенной чувственностью, исполненным разного рода удовольствий и наслаждений. Христиане того времени представляли себе красивые и умиротворенные лица святых, угодных Богу мужчин и женщин, которых тот отправил не в стерильную и эфирную «загробную жизнь», образ, рожденный современным восприятием, а в античный «сад наслаждений», «плодородные земли, орошенные прохладными водами, где нет ни боли, ни страданий, ни слез».
Грех
Христианская базилика давала приют всем грешникам, ищущим прощения Божьего. Именно осознание греха и надежда на спасение служили гарантией сплоченности группы. Таким образом, христианская община приводит в действие новые элементы, значимости которых не стоит недооценивать. В вопросах не менее интимных, таких как mores
[36] в личной жизни или собственное мнение относительно христианских догм, духовенство берет на себя роль судьи и может даже публично отлучить нарушителя от христианской Церкви. В этот период система раскаяния становится целиком и полностью публичной. Отлучение от Церкви влечет за собой и отлучение от причастия, причем вернуться в лоно Церкви отлученный может лишь при условии такого же публичного раскаяния и процедуры примирения с епископом. Таким образом, единство паствы в базилике IV века напрямую связано с представлениями о грехе и о «преступных помыслах» еретиков, с представлениями, которые со всей определенностью проявятся в последующие века. Значимость святого причастия возросла настолько, что единая в прежние времена паства отныне делится согласно выстроенной Церковью иерархии. Толпы вновь обращенных не допускаются в храм во время основной литургии причастия. Церемония начинается с движения верующих, несущих дары на алтарь. Поскольку желающих торжественно приобщиться к «тайной вечере» слишком много, они выстраиваются согласно строго иерархическому принципу: первыми выступают епископы и клир, за ними следуют лица обоих полов, принявшие обет безбрачия; состоящие в браке миряне оказываются в конце списка. Отдельно от других, в специально выделенном для этого месте вдалеке от апсиды, располагаются «кающиеся грешники», не допущенные к участию в церемонии. Морально униженные, одетые хуже, чем это допускает их социальный статус, с небритыми бородами, на виду у всех присутствующих они ждут от епископа официального дозволения вернуться в лоно Церкви. Иногда иерархия saeculum и представление о том, что во грехах равны все, вступают в конфликт. Вспомнить хотя бы Василия Кесарийского, отказавшегося принять дары от императора–еретика Валента; или факт отлучения от Церкви императора Феодосия: Амвросий, епископ Медиоланский, не допустил тогда императора к святому причастию за то, что тот устроил бойню в Фессалониках, и велел ему оставаться среди кающихся грешников. После этого Феодосий снял с себя тогу и императорский венец и публично принес покаяние за совершенные им злодеяния.
Бедность
Бедность в римских городах — явление очень распространенное. Калеки, нищие, бродяги и пострадавшие в военных конфликтах крестьяне — многие из них ищут себе пристанища возле базилики: они сидят у ее дверей, спят под колоннами окружающих ее портиков. О бедных всегда говорят во множественном числе, определяя их терминами, не имеющими никакого отношения к предыдущей «гражданской» классификации римского общества, которая попросту делила всех людей на граждан и не–граждан. В условиях прежней экономики бедные представляли собой безликую массу человеческих отбросов. Именно в силу анонимности этой массы более удачливые члены христианской общины выбрали ее в качестве средства избавления от грехов. Милостыня служила вполне подходящим лекарством, которое можно было использовать в длительном процессе излечения кающегося грешника от «простительных» грехов, не требующих публичного покаяния, таких, например, как леность, нечистые помыслы или пустословие.
Бедственное положение нищих еще более отягощалось тем религиозным значением, которое принято было ему придавать. Бедные олицетворяли собой состояние грешника, вынужденного каждый день просить у Бога прощения. Символическое уравнивание бедных и грешников, презренных и покинутых Богом, со всей очевидностью отражается в языке Псалмов, составляющих каркас всей церковной литературы, — и особенно в религиозных обрядах покаяния. Подобный символизм был необходим, чтобы пробудить в людях чувство сопереживания к тем, кого они привыкли считать человеческими отбросами, нарушающими порядок, присущий прежнему гражданскому обществу. Теперь же бедные превращаются в символ бедственного положения всего человечества, которое сплошь состоит из грешников и живет во грехе. Милостыня становится выразительным аналогом отношений Бога с человеком–грешником. Стенания нищих, обращенные к верующим, которые входят в базилику с молитвой, становятся прелюдией к отчаянной мольбе христиан о божественном милосердии. «Когда ты устал от молитв, не дождавшись на них ответа, — вспомни, сколько раз ты слышал просьбы бедных и не ответил на них, — говорит Иоанн Златоуст. — Не в молитве (orans) поднявший руки ты будешь услышан. Протяни руку свою к бедному, а не к Небу».
Обезличенность бедности самым непосредственным образом поддерживает чувство единства грешников в Церкви. Принцип гражданского общества, согласно которому сильные и богатые обязаны щедро одаривать город, играет важную роль и в христианской Церкви, поскольку подобные щедроты дают дарителям несомненное право контролировать свою общину. В сущности, немногие базилики могли бы быть построены без учета этого факта. Наиболее впечатляющие из них были созданы на средства, дарованные императором или представителями высшего духовенства; эти дары, по сути, являли собой страстное стремление человека на старый манер доказать свое право «кормить» и, следовательно, контролировать христианское братство. Имена тех, кто приносил к алтарю дары, произносились во всеуслышание во время торжественных молитв, предшествующих причастию, и часто приветствовались овациями — как в золотой век римского меценатства. Благодаря одному лишь понятию греха удалось выстроить эту рискованную пирамиду из покровительства и зависимости. Епископы настаивали на том, что каждый член христианской общины, будь то мужчина или женщина, — грешник по определению и что любое подаяние, каким бы скромным оно ни было, — благодеяние для бедных. Поэтому явное покровительство сильных мира сего, выражавшееся в камне, мозаике, сверкающих канделябрах или шелковой обивке, во всех деталях повторявшее традиционную благотворительность римского мира, было скрыто за постоянным моросящим дождем тех ежедневных подаяний, которыми христианские грешники одаривали анонимных бедняков.
Богатые женщины
В сущности, крайняя нужда превращала бедных в идеальных клиентов для той категории людей, которая имела все основания избегать отношений настоящей клиентелы. Из всех форм патроната, к которым, по общему признанию, относилось и покровительство духовенству, наиболее опасной и постыдной язычники считали зависимость от богатой женщины. Со времен Киприана понятия бедности и роль в Церкви влиятельных женщин тесно связаны. Богатство большого числа дев, вдов и диаконис возникло благодаря отношениям покровительства между богатыми женщинами, которые в конце IV века имели доступ в руководящий состав сенатской аристократии, и клиром, а также наличию унизительных обязательств со стороны последнего. Такое богатство в сочетании с патронатом самым серьезным образом коснется бедных, поскольку всем известно, что бедные, не имея возможности оказать ответную услугу, не представляют никакой ценности в качестве клиентов. Кроме того, строгий кодекс поведения, предполагающий разделение полов, закрывал для женщин доступ к власти в Церкви. Любое нарушение этого кодекса вызывало скандал и давало пищу для разговоров о той опасности, которую представляют влиятельные женщины для Церкви, проникая туда благодаря своему богатству, образованности или решительности. Однако эти табу не распространялись на женщин, помогавших несчастным изгоям. В качестве организаторов богаделен и покровительниц бедняков, больных и чужеземцев, зажиточные женщины в средиземноморских городах получали высокий общественный статус, что чрезвычайно редко встречалось в любых иных аспектах общественной жизни во времена поздней Империи, основанной на иерархии и превосходстве мужчин.
Епископ
Покровитель бедных и защитник влиятельных женщин, которые всю свою энергию и все свое богатство отдают служению Церкви, духовный наставник многочисленной группы вдов и дев, епископ приобретает значительный вес в античном городе IV века. Из категории лиц, существование которых было практически незаметным при старой модели «гражданского» общества, подконтрольной городскому нобилитету, он решительно выходит на арену общественной жизни. Согласно «Уставу» святого Афанасия, «епископ, любящий бедных, — богат, и город и его окружение будут его почитать». Трудно было бы найти более яркий контраст с тем образом человека «гражданского», который нобилитет создал для собственного пользования двумя веками ранее.
Христианская община, увеличиваясь параллельно с развитием античного города, в котором в IV веке она занимала отнюдь не господствующее положение, тем не менее создает, посредством публичных церемоний, свой собственный тип общественного пространства, которым уверенно управляют общественные деятели нового типа: пользуясь поддержкой незамужних женщин, холостые епископы завоевывают себе авторитет тем, что «кормят» новую категорию людей, безликую массу бедных, людей откровенно антигражданских по статусу, отверженных и не имеющих корней. В V веке города Средиземноморья постиг новый кризис. Поколение 400 года и поколение, следующее за ним, пережившие самые настоящие катастрофы, такие как разграбление Рима вестготами в 410 году, стали свидетелями появления целой генерации влиятельных епископов: Амвросия Медиоланского, Аврелия Августина в Гиппоне, папы римского Льва I, Иоанна Златоуста в Константинополе и беспощадного Феофила Александрийского. Основной вопрос, который следовало бы задать себе этим поколениям, состоял в том, по какой причине они подвергли риску разрушения доселе бережно сохраняемые фасады древних римских городов, позволив христианским епископам, стоящим во главе «негражданских», по их же собственному определению, общин, пользоваться полной свободой в качестве единственных действующих лиц в спектакле, разыгрывавшемся в городах Средиземноморья.
Смерть
Самое что ни на есть безусловное и, если можно так выразиться, окончательное, единомыслие проявляется в облике христианских надгробий. В любом современном музее, переходя из языческого зала в христианский, мы попадаем в мир, в котором общий смысл образов ясен и предопределен. Самые разнообразные сюжеты на саркофагах богатых людей из высшего класса II и III веков — ученые не оставляют попы ток разгадать их значение — уступают место однообразному репертуару легко узнаваемых сцен, изображенных на всех христианских надгробиях. Разнообразие надписей и изображений на языческих саркофагах, то есть своеобразное искусство надгробия, свидетельствует о том, что в языческом обществе не было общепризнанных представлений относительно смерти и загробного мира. Могила, оставаясь личным пространством, была при этом местом особым. Покойный, вверенный заботам семьи, людей своего круга, похоронных товариществ или, в случае с власть имущими, самому городу, должен был объяснить живым на понятном всем языке значение своей смерти. Отсюда необычайное распространение похоронных товариществ среди простых людей, ключевая роль фамильных мавзолеев в среде среднего класса и странное разнообразие тех высказываний покойных или о покойных, что отражены в эпитафиях. Так, например, знатный грек Опрамоас велел покрыть свой саркофаг цитатами из писем римских правителей, в которых они возносят хвалы его щедрости и благодеяниям, а на надгробии простого каменщика высечены его слова, в которых он приносит извинения за плохой слог своей эпитафии! Эти эпитафии, призванные порадовать читавших их греков или римлян, совершенно безнадежны для историков религии, стремящихся выстроить из них связную систему представлений греко–римлян о загробном мире. В языческом мире II-III веков не было ни одной крупной религиозной общины, способной из настолько разнообразных личных представлений о загробной жизни, звучащих буквально с того света, выстроить какую–либо теорию.
С возрастанием роли христианства Церковь проникает и в жизнь города, и в жизнь семьи, и в жизнь отдельного человека. Духовенство придает большое значение сохранению памяти о покойных. Основательное христианское учение о загробной жизни, проповедуемое духовенством, объясняло живым смысл смерти покойного. Традиционные похоронные и поминальные обряды еще сохранялись, но этого было уже недостаточно. Приношения к святому причастию служили гарантией того, что имена покойных будут произноситься в молитвах всей христианской общиной, которая в этом случае представлялась как общая для всех семья, все члены которой связаны родственными, хотя и не кровными, узами. Ежегодные праздники, посвященные покойным и прославляющие их души, праздники, неизменно устраиваемые в пользу бедных (извечный пред- лог для праздника), происходили во внутренних двориках базилики и даже в ее стенах. Умерших теперь прославляла Церковь, а не город. Однажды переступив порог базилики, всеобщая греховность непостижимым для язычников образом Распространяется на загробную жизнь. К тому же клир может позволить себе и отказаться от приношений, сделанных от имени нераскаявшихся грешников, от людей, слишком ревностно относящихся к интересам семьи, и от самоубийц.
Могила
Новое значение выражения «освященная земля» упорно собирает в тени базилик все больше и больше покойных. Крупные христианские кладбища, управляемые духовенством, появляются в Риме в начале III века. Это старательно сконструированные подземные галереи, построенные таким образом, чтобы как можно больше бедных могли найти здесь последний приют. Расположенные одна над другой ниши, вырубленные в стенах катакомб, и по сей день служат молчаливым подтверждением того статуса, который присвоило себе раннехристианское духовенство: статуса патрона бедноты. Даже в смерти бедные едины: вереницы могил простых людей, расположенные на почтительном расстоянии от богатых мавзолеев, свидетельствуют о заботливости и сплоченности христианской общины.
К концу IV века распространенная практика depositio ad sanctos
[37] — возможность быть похороненным по соседству с могилами мучеников — обеспечивала духовенству право контролировать доступ к этим священным местам, поскольку христианская община подчинялась определенной иерархии среди своих членов, а духовенство выступало в качестве блюстителя этой иерархии. Девы, монахи и представители клира могли быть похоронены в непосредственной близости от многочисленных могил мучеников на кладбищах Рима, Медиолана и других городов. В эту новую городскую религиозную элиту могли войти и простые миряне, принятые туда в награду за добропорядочное поведение, предписанное истинному христианину. «Пробилиан <поставил этот памятник> Хияарии, женщине, целомудрие и добрый нрав которой были известны всем соседям. <…> Во время моего отсутствия она сохраняла невинность на протяжении восьми лет; и поэтому она покоится в этом святом месте».
Став полноправными членами христианской Церкви, покойные незаметно превращаются в главных действующих лиц городской жизни. Стремление обеспечить вечный покой и добрую славу своим усопшим собратьям приводит к тому, что христианские семьи отныне уже просто не могут обходиться без духовенства. Гражданские торжества уходят на задний план. Лишь в маленьких италийских городках все еще сохраняется обычай устраивать праздники в честь важных персон, с обязательными пирами для знати и простых граждан. В IV веке императорский двор публично отмечает похороны Петрония Проба, «главного гражданина», величайшего из potentes Рима. Но затем память о нем вверяется заботам святого Петра. Великолепный саркофаг из мрамора олицетворяет уверенность в том, что Проб удостоился своего места в ближнем круге Христа, в его небесной свите. Великий человек покоился в нескольких метрах от святого Петра до тех пор, пока в XV веке рабочие не откопали его саркофаг, полный золотых нитей, которыми когда–то был расшит его последний наряд. Что же касается духовенства и христиан, почивших в святости, то мы можем увидеть их на мозаиках изображенными вдалеке от древних городов, гуляющими в божьем раю под пальмами по зеленой траве, в окружении равных себе и совсем не классических персонажей:
И теперь [живет] он среди патриархов,
среди мудрейших пророков,
мучеников и апостолов,
в окружении мощных властителей.
МОНАШЕСТВО
Модель уединения
Однажды сам Константин написал письмо святому Антонию, чем, впрочем, нисколько старца не взволновал. Антоний покинул свою деревню в Фаюме в те времена, когда император еще только появился на свет, и с тех пор уже долгое время жил в Фиваидской пустыне. Пахомий Великий также основал свои первые монастыри еще до того, как Константин стал императором Востока. Эдикт Константина, в котором не было ничего неожиданного для города, стал новостью для мира аскетов. Монахи, monachoi, то есть «отшельники», продолжают настолько своеобразную христианскую традицию, что она может рассматриваться как архаичная. Их духовные и моральные воззрения уходят корнями в деревенскую среду, весьма отличавшуюся от среды городских христианских общин. В IV веке египетские и сирийские монахи уже имеют некоторую, подчас скандальную, известность в Средиземноморье. «Житие Антония» — труд Афанасия Александрийского — увидело свет сразу после смерти святого, в 356 году. Короткий, но весьма значимый период своей жизни, с 380 по 383 год, Иоанн Златоуст проводит с отшельниками, живя среди них на холмах, окружавших Антиохию. «Мысленное путешествие на вершину горы, где произошло преображение Христа» — страстная мечта Иоанна Златоуста, самого яркого из всех христианских ораторов. В августе 386 года история святого Антония толкнула Августина к сомнительным матримониальным проектам, а затем вывела на траекторию, приведшую его со временем к кафедре епископа в Гиппоне, где он и оставался на протяжении последних тридцати пяти лет своей жизни. В конце IV века роль христианской Церкви в городах затмевается совершенно новой для человеческой природы и общества моделью существования, созданной «пустынниками».
Авторитет монаха основывается на том, что это «одинокий человек». Он олицетворяет собой старый идеал «простоты сердца». Монах достигает этого идеала постепенно. Для начала он решительно отказывается от всего мирского наиболее очевидным способом: приняв anachoresis, он отстраняется от мира и уходит жить в пустыню, становясь «отшельником». Отшельники, по одному или группами, оставались жить на землях необрабатываемых и мало пригодных для жизни, окружавших города и деревни Ближнего Востока. Отшельники известны как люди из eremos, люди пустыни — наши «пустынники». Их существование в пустыне всегда резко контрастировало с «мирской» жизнью. Пустынники часто располагались на небольшом расстоянии от деревень в зоне прямой видимости тех общин, которые они покинули, и поэтому быстро становились героями и духовными проводниками для жителей своих деревень.
Слава Адама
Таким образом, монахи оставались в маргинальной зоне, со всей очевидностью воспринимаемой местными жителями как зона отчуждения, на землях, не имеющих четкого определения и не используемых для жизнеобеспечения организованного сообщества. Они занимали территории, в социальном плане эквивалентные арктическому континенту, пространству, с незапамятных времен числившемуся на картах средиземноморских цивилизаций пустынным. Эта no mans land — ничейная земля, расположенная за границами городов и вызывающая пренебрежение, отторгнутая культурным сообществом, — предлагает совершенно иной способ существования, отличного от жестокой и строго организованной жизни в перенаселенных городах.
Совершив этот изначальный жест, монах может со временем в душе своей, перед лицом Бога и своих единомышленников достичь идеала «простоты сердца». Свободный от соблазнов, свойственных человеческому обществу, медленно и мучительно очищаясь от помыслов, внушенных демонами, монах жаждет обрести «верное сердце», сердце неиспорченное, лишенное зерна сомнения и мелочных желаний, свойственных разделенным сердцам, подобным твердому снаружи, но молочно–жидкому внутри ядру кокоса.
Сторонники монашества были убеждены в том, что «одиночество», обретенное вдали от общества, способно вернуть человеку его первородное величие. На протяжении веков выстроенная на основе многочисленных, выводимых одно из другого умозаключений «слава Адама» все более и более набирала вес, подобно тому как сам Адам, искренне поклонявшийся Богу, изначально был им вознесен в рай небесный. Мрачный, не приспособленный для жизни пейзаж пустыни, очень далекий от представлений о рае, был первым домом человечества, местом, где Адам и Ева во всем своем величии пребывали еще до того, как изощренный и неудержимый поток эгоистических забот, составляющих основу всякого человеческого сообщества, — брак, жадность плоти, обработка земли и изнуряющие дух земные хлопоты — не привел к их изгнанию с небес. Совершенная простота сердца и неотъемлемое от него, вновь обретенное единство с небесным воинством в постоянном и непрерывном восхвалении Господа были целью монаха, жизнь которого, таким образом, представлялась земным отражением ангельской жизни. Он становился «ангельским человеком»: «Часто мне виделось, — говорит старец Ануб, — как ангельское воинство предстает перед Господом; часто я замечал блаженных и праведников, мучеников и монахов, которые не имели иных устремлений, кроме как славить и почитать Господа в полной простоте сердец своих». Парадигма монашества не была чисто христианским изобретением. Она объединяет наиболее радикальные аспекты языческой контркультуры и, в особенности, асоциальный стиль жизни киников и иудео–христиан далекого прошлого. Оригинальность парадигмы кроется, скорее, в изменении общей точки зрения. Она рассматривает «мир» в качестве познаваемого феномена — современного ей человеческого общества — и прозревает сквозь него истинный закон, то есть закон ангельский, первоначальное состояние человека. Проповедь Иоанна Златоуста относительно Целомудрия, датируемая приблизительно 382 годом, и сейчас вызывает у нас восторг: пророк видит человеческий род стоящим на пороге новой эры. Жизнь города, такого как Антиохия, со всеми его реалиями — отношениями между полами, браками и рождениями, — существовавшими с незапамятных времен, представляется, даже с точки зрения классического христианства, в виде мутного водоворота, быстрого течения, влекущего род человеческий из Рая к Возрождению. Само нынешнее общество и человеческая природа, формирующая условия существования этого общества, — всего лишь стечение непредвиденных обстоятельств, нечто вроде несчастного случая, а вовсе не результат исторической предопределенности. «Прежние времена подходят к концу; Возрождение уже на пороге». Все человеческие учреждения, все человеческие сообщества, «искусства и дворцы», «города и жилища», и даже самая сущность мужчин и женщин, которые До сей поры являлись существами, предназначенными лишь Для брака и размножения, — уже готовы замереть в неописуемой тишине пред лицем Господним. Те, кто проводит жизнь в невинности и монашестве за пределами городов, предвосхищают возрождение истинной человеческой природы. Они «готовы принять Господина ангелов». В момент наивысшего восторга и преклонения перед величием Божьим, во время литургии евхаристии в Антиохии голоса верующих, вливаясь в хор ангелов, пели «Святый, святый, святый!» Царю из царей, тогда как Сам он, невидимый, у алтаря на мгновение являл миру истинную и неделимую природу человека. Город, брак, культура, «необходимые излишества» размеренной жизни — не более чем мимолетная интерлюдия перед обретением состояния всеобщей прозрачности и ясности, доселе скрываемого за «суетой этой жизни». Монахи на холмах за городом стремились к этому моменту всю свою жизнь.
За пределами античного города
Парадигма монашества, в сущности, представляет нам мир, освобожденный от своего обычного устройства. Разобщенность, иерархия и социальная дистанция, на которых основывалась жизнь города, были, конечно же, до некоторой степени нивелированы и смягчены благодаря впечатляющим обрядовым действиям, разворачивавшимся в христианских базиликах. Но и эти базилики все–таки остаются учреждениями, встроенными в жесткую структуру города. Общественное устройство может быть отодвинуто на задний план на то короткое время, когда верующие принимают участие в христианских ритуалах, однако оно не может быть упразднено в сознании горожан — полностью и навсегда. Выйдя из базилики после окончания церемонии, они все равно возвращаются в суровую действительность городской жизни времен поздней Античности. Истинные христиане, такие как Иоанн Златоуст, хотели, чтобы все общественные институ ты сами собой растворились во все возрастающем блеске новой эры Заря «Возрождения» уже поднимается в маленьких поселениях «ангельских людей» на холмах вокруг Антиохии. Она должна распространиться и омыть спящий город своим сиянием. Такова была мечта Иоанна Златоуста, который умер в изгнании, измученный и обессиленный, подчиняясь воле «мирской» власти. Тем не менее парадигма монашества со всеми ее многочисленными вариациями, воспринятая такими крупными фигурами христианской традиции, добавила чувства уверенности городам Востока эпохи Константина, сохранившимся после нашествия варваров в V веке. Следствием нападений становится укрепление социальной организации, увеличение численности населения и, в довершении всего, еще большая нищета. Отстроенные заново римские города подвергаются риску еще более значительных потерь. Парадигма радикального монашества, одобренная предусмотрительными лидерами христианских общин, привела к окончательному разрушению классического устройства города. Монахи и их приверженцы становятся первыми христианами Средиземноморья, сознательно обратившими свой взгляд за пределы античного города. Монахи представляют собой зерно совершенно иного, незнакомого общественного устройства, и их стремление к новым формам самодисциплины, включающим отказ от сексуальных отношений, пропитывает иным вкусом частную жизнь христианских семей в эпоху Поздней Античности.
Согласно парадигме монашества, город теряет свое преимущество в качестве социальной и культурной единицы. В многочисленных регионах Ближнего Востока широкое распространение монашества знаменует окончание доселе практически полной разобщенности, существовавшей между эллинистическим городом и окружавшими его деревнями. Теперь горожане толпами отправляются за советом и благословением к святым людям, живущим по соседству с их городом, и все чаще встречают среди них крепких неграмотных сельчан, которые в лучшем случае говорят на местном греческом наречии. Повсюду в Средиземноморье монахи присоединяются к безликой массе бедных и вместе с ними формируют новый «всеобщий класс», не имеющий связи ни с городом, ни с деревней, но защищенный божественной милостью, каким бы ни было его мирское окружение.
Бедные реальные и церемониальные
Прежний символизм бедноты — мрачного отражения ничтожности человека в этом мире — достиг еще большего размаха благодаря расположившимся вокруг городов небольшим колониям бедняков. Настоящие бедняки, в сущности, не получали никакой выгоды от распространения монашества. Миряне предпочитали — что само по себе вполне естественно — подавать милостыню монахам, этим новым «церемониальным беднякам», умевшим молиться профессионально, а не отвратительным шумным нищим, сидящим повсюду вокруг базилики. Монахи вызывают эффект, аналогичный действию проявителя в фотолаборатории: их присутствие с большей остротой и контрастом, чем ранее, подчеркивает новые черты общества в христианском его понимании. Этот образ отныне не ограничивается одним лишь городом: оставляя без внимания традиционные различия между городом и деревней, между гражданами и не–гражданами, он концентрируется вокруг всеобщего различия между богатыми и бедными, как в городе, так и в деревне.
Приведем лишь один пример. Вплоть до конца III века провинциальный египетский город Оксиринх в качестве привилегии получал продовольственные поставки, которые распределялись среди горожан, являвшихся гражданами этого города, вне зависимости от их богатства или бедности. Чтобы установить право жителей участвовать в распределении продуктов, их происхождение подлежало обязательной регистрации и отслеживалось веками с момента установления в Египте римских законов. К концу IV века прежние структуры были окончательно вытеснены. Вокруг города было построено множество густонаселенных монастырей и обителей. В новом своем качестве, превратившись в благочестивых христиан, городская знать теперь соперничала между собой в щедрости милосердных даров, предназначенных беднякам и чужеземцам, а вовсе не «блистательному городу Оксиринху». Нотабль–христианин более не philopatris, «влюбленный в свой город», a philoptochos, «влюбленный в бедноту»; и тем не менее простой человек может приблизиться к нему только на коленях. Что же касается бедных, их нищета была у всех на виду, и она никуда не делась, несмотря на весь христианский символизм, окружающий понятия греха и покаяния. Бедняки дрожали от холода ночью в пустыне и толпились около базилики, где монахи накрывали для них стол с воскресной трапезой «от широкой души самых блистательных семей», которые, как и в былые времена, продолжали держать под контролем город Оксиринх и его окрестности. Отныне этим семьям больше не нужно было доказывать особую любовь к своему городу: город теперь заменила безликая масса бедняков, которой они могли управлять как в городе, так и в деревне! «Влюбленные в бедноту» власть имущие покровительствовали всем бедным без исключения, неважно, откуда те были родом — из города или из деревни.
Монашеское воспитание
Парадигма монашества не только разрушила образ классического города, она представляла собой угрозу и с другой точки зрения — с точки зрения возможного ослабления влияния нобилитета на куда более тонкие аспекты городского бытия. Встает вопрос о сохранении ведущей роли публичного пространства в социализации молодых людей. Было бы большой ошибкой полагать, что все монахи оставались неграмотными героями антикультуры. Среди тех, кто принял аскезу, было много образованных людей, которые попросту увидели в пустыне — или по крайней мере в самой идее пустыни — простоту, как нечто противоположное всеобщей испорченности. Под опекой Василия Кесарийского или Евагрия Понтийского практика морального, духовного и этического воспитания, прежде свойственная исключительно представителям городских элит, с новой силой возрождается в монастырях. Эта культура ориентирована уже не только на людей зрелого возраста. В середине IV века в монастырях появляется множество молодежи. И городские, и деревенские семьи отдают своих детей служению Богу, по большей части из соображений сохранения семейного имущества, которое, в противном случае, пришлось бы распределять по наследству между слишком
большим количеством сыновей или, что еще того хуже, дочерей. Эти юные монахи не растворялись в пустыне. Они имели обыкновение спустя несколько лет вновь появляться в городах, в качестве членов новой аббатской элиты или аскетических религиозных братств. Таким образом, монастырь становится первой общиной, способной дать полностью христианское образование, начиная с юного возраста. Ассимиляция литературной культуры, полностью основанной теперь на литургии и Библии, обучение нормам поведения, подчинявшегося строгому кодексу, еще более ужесточенному в монастырях, и, в особенности, отшлифованное монастырской практикой образование мальчиков и девочек и постепенное проникновение в их души пугающей «уверенности в постоянном невидимом присутствии Бога»: благодаря всему своему содержанию, а еще более через посредство эмоций, к которым она прежде всего и апеллировала в самом начале процесса социализации молодого человека, парадигма монашества положила конец идеалу городского воспитания. Вплоть до конца IV века само собой разумелось, что все мальчики, как христиане, так и язычники, начинали свое образование с того, что, расположившись вокруг форума, слушали речи риторов. Такая форма просвещения, основанная на уважении к общественному мнению и соперничестве среди равных, могла попросту исчезнуть.
То, что в действительности новая парадигма воспитания оказала настолько незначительное влияние на публичное образование юных представителей правящего класса, представляется ярким доказательством устойчивости позднеантичного города. Идеалы городского образования вовсе не были уничтожены образованием монастырским. Тем не менее парадигма монашества совершенно очевидно привела к возникновению ощутимой трещины между городом и христианскими семьями, которая должна была еще больше расшириться в недалеком будущем. Древнему городу, с его пережившей века системой формирования внутренней дисциплины, отличавшей членов правящего класса от всех прочих его обитателей, грозила опасность раствориться, превратившись в простую конфедерацию семей, каждая из которых при посредничестве Церкви или монахов сама по себе заботилась о, так сказать, истинно христианском воспитании своих детей. Читая проповеди Иоанна Златоуста, ощущаешь, как двери христианских домов постепенно закрываются для юных верующих. Их отрочество более не принадлежит городу. Основы классической культуры, служившей привилегированным инструментом обмена между представителями правящего класса, они и сейчас могут получить в школе, в традиционном центре города. Но это уже «мертвая» культура: основанная на классических текстах, изучение которых и раньше было продиктовано необходимостью приобретения навыков правильной речи и письма, теперь теряет связь с повседневной жизнью, поскольку кодекс поведения юного христианина не основывается более на тех же источниках, как это было двумя веками ранее. Правила поведения христиан теперь со всей очевидностью ориентируются на стиль жизни монахов, то есть люди молодые воспитываются прежде всего в страхе перед Богом. Следует заметить, что страх перед Богом, взращенный в монастырской среде, проникает в сознание молодого человека глубже, чем воспитывавшийся прежде «гражданский» страх порицания Со стороны «высшего общества». Этот страх поддерживается в среде, более близкой человеку, чем некогда была для него компания равных ему по статусу молодых людей из высшего класса. Иоанн Златоуст хочет вырвать молодого антиохийца из его города и вернуть его отцу, внушая ему при этом острый страх перед его собственным родителем. Великий психолог по части религиозного страха, Иоанн Златоуст рассматривает страх перед Богом, внушаемый день за днем мальчику, выросшему под гнетом своего отца–христианина, в качестве основы нового христианского кодекса поведения. И тут перед нами вдруг предстает первый отблеск Антиохии византийской, такой, какой ей еще предстоит сделаться. Теперь это уже не эллинистический город; поведение его граждан, принадлежащих правящему классу, более не опирается на жесткие правила, продиктованные общественной жизнью с ее традиционными центрами. Прежнее публичное пространство забыто, театр и форум упразднены. Узкие извилистые переулки ведут из христианской базилики, вмещающей большие массы верующих, к уединенным домам; здесь, за высоким забором, верующий отец будет передавать своим сыновьям искусство почитания Бога. Вот вам и беглый набросок будущего исламского города.
Подобный взгляд на ситуацию был бы, конечно, ошибочным. Если от проповедей Иоанна Златоуста мы перейдем к греческим и латинским эпитафиям, мы сможем увидеть городского христианина с совершенно другой стороны. До самого конца он оставался человеком из публичной среды. Даже если он не был более человеком, «влюбленным в свой город», он оставался «влюбленным в народ Божий» или «влюбленным в бедноту». За исключением нескольких могил, в которых покоятся представители монашества и духовенства, нам не пришлось бы увидеть здесь надписей, подчеркивающих исключительную набожность покойного христианина и его страх перед Богом Христианский мирянин оставался человеком старой закалки, достоинства которого описывались теми же прилагательными, что и раньше, и, так же как и прежде, основной акцент делался на похвалы его умению выстраивать отношения с людьми, равными ему по статусу. И тем, чтобы запечатлеть на своих надгробиях в назидание последующим поколениям слова молитв, заставлявшие истинных героев тогдашней современности, монахов, трепетать в исцеляющем душу ужасе и горестно воздыхать до самой своей смерти над бренностью земного бытия, — эти люди были озабочены гораздо меньше.
Парадигма монашества и плоть
Изо всех аспектов установленного порядка жизни общины, которым парадигма монашества придает вес настолько же значительный, насколько неосязаемый, наиболее интимный относится к браку, к сексуальным отношениям в браке и к роли сексуальности в жизни отдельного человека. Предполагается, что христианские семьи противились тому, чтобы местом воспитания их детей служил форум или театр. Но кроме того, от них требовалось еще и признать правильность нового представления о природе сексуальности, рожденного среди принявших безбрачие «отцов–пустынников». В той разнице, которая существует в реакциях на такого рода предписания со стороны семей, или, если сформулировать проблему еще точнее, в разнице ожиданий епископов, клириков и духовных наставников по этому поводу, кроется самая сущность контраста между христианским обществом Византии и Западным католичеством Средних веков.
Едва ли можно понять концепцию «близости» в контексте современного западного общества, явно тяготеющую к представлениям о сексуальности и браке, оставив без внимания решительное вмешательство парадигмы монашества, охватившей организованные элиты христианской Церкви в конце IV начале V века. Контроль над сексуальностью — один из наиболее простых и наиболее интимных символов веры — становится и одним из самых сильных средств выражения старого стойкого идеала частной жизни, отныне и навсегда приданной подчиняться публичным наставлениям религиозной общины — в том виде, в котором этот идеал окончательно сформировался к началу эпохи Раннего Средневековья.
Именно тот факт, что женатые христианские пары на Западе оказались под давлением монашеских представлений о сексуальности, переработанных святым Августином, городским епископом, в то время как христианские семьи Востока активно противостояли не менее жестким идеям монашества, получившим развитие в среде пустынников, стал поворотным моментом в истории христианства, который очень многое объясняет. Ставкой в этой игре была ни больше, ни меньше как власть духовных лидеров Церкви над частной жизнью входящих в религиозную общину семей. Согласно выбору, сделанному различными регионами Средиземноморья в течение V и VI веков, вырисовывается контур двух различных обществ, занимающих различную позицию по отношению к природе городской жизни, по отношению к своей антитезе — пустыне, и по отношению к могуществу духовенства в городах. На этом контрасте мы и закончим.
ВОСТОК И ЗАПАД: ПЛОТЬ
Жуткая боязнь плоти
Парадигма монашества поставила точку в вопросе брака, сексуальности и даже дифференциации полов. В раю Адам и Ева были существами бесполыми. По мнению монахов, они утратили свое «ангельское» состояние единственных в своем роде детей Божиих и почитателей Его, потому что пали до сексуальных отношений; и именно с этого падения начинается отклонение мужчин и женщин от пути истинного в сторону мира личных интересов, связанных с браком, рождением детей и тяжелым трудом, необходимым, чтобы прокормить голодные рты.
Пользуясь той же терминологией, можно сказать, что падение человечества, начатое Адамом и Евой, является зеркальным отражением души аскета тогдашней эпохи: стоя на краю пропасти, представляющей собой губительные для души условия жизни «в миру», он принимает решение избрать «ангельскую» жизнь монаха. Вступление человека в «мир» и в закостенелой деревенской среде, и в среде строгих христианских городских семей всегда начиналось с брака, который родители устраивали для юных пар сразу по достижении ими подросткового возраста.
Выраженная в радикальной форме, утверждающая, что путь к «возвращению в рай» лежит через пустыню, парадигма монашества грозила разрушить наиболее крепкие основы «мирской» жизни на средиземноморском Востоке. Согласно ее представлениям, женатые христиане не могут надеяться на рай, поскольку он досягаем только для тех, кто на всю жизнь принимает воздержание Адама и Евы до грехопадения, приведшего их к сексуальным отношениям и браку. Если жизнь монаха действительно предвещает райское бесполое состояние человеческой природы, то мужчины и женщины — монахи и девы, полностью лишенные сексуальности благодаря воздержанию, — могут скитаться все вместе по угрюмым склонам сирийских гор, подобно Адаму и Еве, которые когда–то бродили по цветущим долинам рая, забыв обо всем, что связано с деторождением, и обретя тем самым защиту от волнений и терзаний пола.
Угроза упразднения полов и возникающего вследствие этого безразличия к сексуальности превращалась в отношениях между мужчинами и женщинами в предмет для постоянных страхов и испугала весь восточный мир IV века. Немедленно последовала реакция со стороны монашества и духовенства. Первое, что замечает современный читатель в монастырской литературе, — это яростное женоненавистничество. Смысл цитаты из Писания «Всякая плоть подобна траве» они видели в том, что мужчины и женщины как существа неизгладимо разнополые способны в любой момент воспламениться! Благочестивый монах должен был и собственную мать тщательно укутать в свой плащ, прежде чем перенести ее через ручей, потому что «прикосновение к телу женщины подобно огню». Из такого рода сюжетов и боязни осрамиться, нарушив табу, вытекает еще более радикальная альтернатива. В группах христианских радикальных аскетов отречение от брака идет рука об руку с отказом от сексуальности как таковой, что в свою очередь предполагает стирание границ между «миром» и «пустыней». Те, что уже сейчас ступают по долинам рая, избрав «ангельскую» жизнь монахов и дев и глядя на мир невинными детскими глазами, могут вернуться в города и деревни и свободно влиться в толпу мужчин и женщин. По этому поводу Афанасию стоило бы проконсультироваться в Египте, у последователей Гиеракса. Известный мыслитель и аскет Гиеракс размышлял над тем, будет ли место в раю для женатых, но в то же время требовал от своих взыскующих аскезы учеников вести себя благоразумно и не подвергать опасности своих девственных подруг. Иоанн Златоуст в своих проповедях выступает против «духовного содружества» монахов и дев в Антиохии. Несколько позднее эндемиком Сирии и восточной Малой Азии станет движение мессалианов — монахов, обрекших себя на вечные скитания и постоянные молитвы, заведомо равнодушных к тому, что в их убогих рядах числились не только мужчины, но и женщины.
Тело как знак
Необходимость обуздать скрытый радикализм парадигмы монашества приводит к тому, что средиземноморский Восток в своем отношении к телу становится обществом еще более строгим и, если можно так выразиться, более стыдливым, чем это было ранее. Начиная с отцов семейств из числа правящего класса и вплоть до героических «пустынников», вне зависимости от социального статуса и профессии, все теперь старались придерживаться принципа сексуального воздержания. В Антиохии, к примеру, Иоанн Златоуст решается выступить с нападками на общественные бани, посещаемые преимущественно состоятельными гражданами, представителями высшего класса. Он осуждает обыкновение женщин–аристократок демонстрировать перед толпой слуг свое ухоженное тело, облаченное только в дорогие украшения, которые указывают на высокий статус своей обладательницы. В Александрии лохмотья нищих вызывали в воображении верующих пугающие образы: в сознании еще сохранился неописуемый страх прежних веков перед этой частичной наготой, которая считалась тогда недостойной полноценного человека, однако теперь к нему примешивалось еще и ощущение неотвратимой нравственной угрозы.
Все, что касается женатых христианских пар Восточного Средиземноморья этого и последующего периодов, можно рассматривать в качестве парадокса. Героями и духовными наставниками kosmikoi, «людей мирских», часто становятся «люди пустыни». Kosmikoi очень любят наносить визиты «людям пустыни» или принимать у себя этих монахов, тело которых источает «мягкий аромат пустыни». Как мы уже отметили, монастырская литература, труды «людей пустыни», вызвали большое беспокойство — в той части этих текстов, которая касается сексуального воздержания. Сексуальное влечение предстает здесь как от века заложенное в человеческую природу зло, готовое властно заявить о себе в любой момент, проявиться в любой ситуации, в которой мужчины и женщины оказываются вместе. Несмотря на это, навязчивые идеи «людей пустыни» относительно сексуальности нисколько не противоречили тем представлениям, которые сложились о ней «в миру», у людей женатых.
Отцы–пустынники, принявшие на себя ношу духовного наставничества, — в особенности Евагрий и Иоанн Кассиан, его латинский толкователь, — рассматривают сексуальное поведение как лучший индикатор духовного состояния монаха. Сексуальные фантазии, проявление сексуального влечения во сне и ночные семяизвержения подвергаются такому скрупулезному самоанализу, который раньше был бы невообразим, но без которого эти проявления считались бы нечаянным, неосознанным контактом с противоположным полом. Взгляд на сексуальность с этой точки зрения явил собой перемену вполне революционную. После того как сексуальность стала рассматриваться в качестве источника «страсти», возбужденной в доселе гармоничной и благовоспитанной личности каким–либо соблазнительным партнером, женщиной или мужчиной, которые превратились для этой личности в объект сексуального желания, она трактуется, скорее, как симптом, обнаруживающий и другие душевные изъяны. Сексуальность становится особым окошком, сквозь которое монах может проникать взглядом во все самые сокровенные уголки своей души. В традициях Евагрия сексуальные фантазии изучаются со всей тщательностью, поскольку они выявляют присутствие в душе монаха конкретных (пусть даже и постыдных!) порывов, еще более губительных от того, что их труднее распознать: леденящих укусов гнева, гордыни и жадности. Поэтому снижение числа сексуальных фантазий и даже качественное изменение ночных выделений рассматривались едва ли не как показатель прогресса, которого монах достиг на пути к полной прозрачности сердца, предназначенного для любви к Богу и к ближнему своему. «Все самое сокровенное естество мое принадлежит вам, — пишет Иоанн Кассиан, передавая слова аббата Херемона. — Таков монах днем, таковым же он встретит ночь, в постели, как и в молитве, один или в окружении толпы». Постепенное исчезновение из снов сугубо личных сексуальных переживаний знаменует изгнание из души чудовищ еще более страшных, таких как гнев и гордыня, монстров, тяжкая поступь которых эхом отдается в сексуальных фантазиях. Это означает, что монах ликвидировал последнюю трещину, узкую, как лезвие бритвы, которая еще оставалась в его «простом сердце».
На Востоке: жизнь в браке
Взгляд на сексуальность как на симптом преобразования личности привел к неожиданному и, пожалуй, наиболее значимому переходу от прежних неистовых поисков «простоты сердца», в иудейской ли, в христианской ли среде, к глубокому самоанализу. Переработанный такими интеллектуалами, как Евагрий, новый подход стал наиболее оригинальным из всего того, что мы унаследовали от Поздней Античности. Однако новый взгляд на сексуальность не слишком серьезно коснулся мирян, с головой ушедших в обыденную жизнь. Двери христианских домов, которые, как мы уже успели заметить, ставят надежный заслон между молодым человеком и городом, воспринимаемым в качестве источника моральных влияний, точно так же закрываются и перед этим странным новым представлением о сексуальности, которое «люди пустыни» старательно пытаются внедрить в сознание простого обывателя. Мораль брачных взаимоотношений была у первых византийских христиан достаточно строгой, но не представляла каких–либо особых проблем для самого института брака. Эти правила предоставляли простые и ясные указания молодым людям, пожелавшим остаться «в миру». На всем византийском Ближнем Востоке нормы семейной жизни были просты и нерушимы, и в этой структурности своей напоминали мирские законы и государственную систему, которая в эпоху Юстиниана неизменно считала Ближний Восток неотъемлемой частью Империи с границами, «прочными как бронзовые статуи».
В восточной христианской морали духовенство не при давало сексуальным отношениям какого–либо особого мистического смысла. Эти отношения либо имели место между людьми, живущими в браке «в миру», либо же от них отказывались вовсе, дабы тело источало «мягкий аромат пустыни». И выбор этот нужно было сделать очень рано. Времена повального обращения людей зрелого возраста ушли в прошлое. Начиная с 500 года особую значимость приобретает сам момент выбора, который мальчики–подростки и, в особенности, молоденькие девушки делали в пользу того или другого пути, соглашаясь с необходимостью вести мирскую жизнь в браке или же отказываясь от нее еще до того, как их начнут связывать жесткие социальные ограничения, касающиеся помолвки (то есть при мерно к тринадцати летнему возрасту). По прошествии этого момента неопределенность в данном вопросе неизбежно вела к тяжелым моральным последствиям для человека, осознавшего свою тягу к пустыне, но вынужденного всю свою жизнь прожить в браке. Очень часто выбор за ребенка делали его родители. VI век в этом плане можно считать веком «святых» детей, которые с самого раннего возраста вели жизнь аскетов. Так, Марфа, набожная мать Симеона Младшего из Антиохии, растила своего сына в убежденности, что он, приняв уготованную ему свыше судьбу, должен стать знаменитым столпником. Святой в возрасте семи лет! Сама Марта против своей воли была отдана замуж за стремительно разбогатевшего компаньона отца по ремеслу. В юном Симеоне воплотились ее неосуществленные мечты о святости, о пути, закрытом для нее самой, как это часто бывало в случае брака, о котором семьи уславливались заранее.
В мире Восточного Средиземноморья женщин стали избегать еще активнее, чем это было в прежние времена. Былые воображаемые границы между полами еще более укрепились, и по многим позициям сразу. Новые правила требовали, чтобы женщина не допускалась к евхаристии в периоды менструаций. В византийских городах жилища простых людей были очень тесными и обычно располагались вокруг одного общего дворика, поэтому разделение на мужскую и женскую половину могло существовать разве что чисто теоретически. Архитектура гарема, предполагающая полное отделение женской части дома, тогда еще не получила широкого распространения в христианских городах Ближнего Востока. Что же касается мужчин, они знали, что «горячность» юности часто можно остудить посредством добрачных сексуальных отношений. Однако отдавая дань традициям аскетизма, даже кающиеся грешники должны были отвечать на вопрос, «потеряли ли они невинность», и если да, то при каких обстоятельствах. Тремя неками ранее даже сам этот вопрос, будучи задан мужчине, показался бы весьма странным, поскольку понятие «невинности» могло иметь отношение только к его сестрам и дочерям.
Византийская действительность
Молодым людям обоих полов ранний брак преподносился в качестве волнореза, способного защитить христианина от штормов в бурном море подростковых взаимоотношений. И при этом даже такие проницательные моралисты, как Иоанн Златоуст, не видели ничего дурного в самом половом акте, если он происходит в тихих водах законной семейной жизни. На сексуальные отношения и прежде накладывались ограничения, но касались они в основном того, когда и каким образом они имели место. К прежним правилам избегать контакта с женщинами во время менструаций и беременности добавилось требование соблюдать воздержание в дни церковных праздников. Однако в остальные дни, когда сексуальные отношения между женатыми партнерами дозволялись, они рассматривались как нечто само собой разумеющееся. Более того, медики продолжали утверждать, что только возбуждающий и приятный для партнеров акт сладострастной любви может привести к зачатию ребенка, и только от собственного «темперамента», от того, насколько он горячий или холодный, зависит рождение мальчика или девочки, ребенка больного или пышущего здоровьем.
В последний раз обратимся к обществу первых византийских «мирян», окруженному теперь импозантными «людьми пустыни», которые, впрочем, оставались от него на почтительном расстоянии: древнее, очень древнее городское сообщество доживает свои последние дни.
За воротами базилик и вне стен христианских домов город остается сугубо мирским и сексуально недисциплинированным. Теперь ему покровительствует христианская знать, действуя от имени христианского же императора, подчеркнуто набожного. Тем не менее девушки из низших слоев общества продолжают доставлять удовольствие горожанам из высшего общества Константинопольской империи. Они шумно веселятся на больших морских представлениях в Антиохии, Герасе и других городах. В «благословенном граде» под названием Эдесса, самом древнем христианском городе Ближнего Востока, гибкие танцовщицы, принимавшие участие в мимических представлениях, вихрем кружатся в театре. Одна из статуй обнаженной Венеры установлена перед общественными банями в Александрии; говорят, что неверные жены при виде ее задирали подолы своих одежд выше головы; окончательно статую уберут только в конце VII века, и сделает это вовсе не епископ, а новый мусульманский правитель. Еще в 630 году в Палермо три сотни проституток подняли настоящий бунт против византийского наместника, когда тот вошел в общественные бани. Нам известно об этом происшествии потому, что наместник, как добропорядочный византиец, требовал от клира исполнения своих обязанностей по отношению к городу и поэтому назначил епископа имперским инспектором борделей. Епископ же, в свою очередь, был шокирован этим назначением и расценил его как оскорбление, нанесенное самому папе. Наследие, доставшееся византийскому Востоку от античного города, не было полностью подчинено тому моральному кодексу, который монахи ставили в пример мирянам.
На Западе: обретенный рай
А теперь оставим в стороне византийские «мир» и «пустыню» и обратимся к проблемам сексуальности — таким, какими их видели святой Августин и его последователи из числа латинского духовенства. Можно проследить, как по ходу рассуждений епископа Гиппона, изложенных в его рукописях, над которыми он трудился в течение нескольких десятилетий, вплоть до самой своей смерти в 430 году, в сознании человека, наделенного властью, постепенно укореняется новый смысл сексуальности. Здесь мы уже вполне в состоянии предугадать Формирование общих контуров того мира, который после падения Империи в западных провинциях будет сконцентрирован вокруг епископов Католической церкви.
Прежде всего вполне очевидно, что парадигма монашества, основанная на вечном образце Адама и Евы, предпосланном возникновению мира социального с его сексуальными отношениями, которая так волновала и мучила епископов средиземноморского Востока, не слишком интересовала епископов латинского Запада. Августин со всей возможной твердостью отвергает этот постулат. Социальное пространство, с неотъемлемыми от него браками и сексуальностью, ни в коем случае не представляет собой некого переходного этапа в истории человечества, тоскующего по утраченному «ангельскому величию», которое невозможно вернуть. Для Августина Адам и Ева никогда не были бесполыми существами. В раю они наслаждались, живя в полноценном браке. Не отказывались они и от того, чтобы в детях обрести свое продолжение, и Августин не видит никакой причины для того, чтобы эти дети не могли появиться на свет в результате любовного акта, исполненного удовольствия и страсти. В представлении гиппонского епископа, рай не был чем–то вроде радужной антитезы жизни «в миру». Это «гармоничный мир покоя и радости», не пустыня, в которой отсутствует какое–либо установленное общественное устройство, а скорее общество, каким оно должно быть, так сказать, избавленное от напряжения, свойственного его нынешнему состоянию. Рай и жизнь в раю Адама и Евы послужили основой для целой парадигмы вполне реальных перемен, социальных и сексуальных. Сексуальные взаимоотношения мирян, состоящих в браке, рассматривались с точки зрения их соотнесенности с этой парадигмой и расценивались как неполноценные, поскольку человек слишком низко пал. Если рай может быть представлен в качестве идеального социума, то и тень обретенного рая можно наблюдать не только в великом безмолвии пустыни, далекой от любых форм организованной жизни, как это было принято в Византии, но и в торжественной иерархии служения и власти, в городских католических базиликах. Некоторая часть обретенного рая может быть связана не только с полным и публичным отказом от брака в пользу пустыни, но еще и со страстным стремлением женатых пар достичь таких же высот чистоты и гармонии в сексуальных отношениях, какие были у Адама и Евы.
При подобных перспективах сексуальность уже не представляется аномалией, и ее значение может быть сведено к минимуму в сравнении с аномалией куда более катастрофической, такой как падение человека и утрата им своего «ангельского» состояния. Таким образом, в отличие от Евагрия и Иоанна Кассиана, Августин не может надеяться на то, что сексуальность попросту исчезнет из некоторых «простых сердец», выращенных в безграничном одиночестве пустыни. Не мог Августин и согласиться с отцами византийских семей и с их духовными наставниками в том, что сексуальность служит малозначительным приложением к браку и подчиняется традиционным правилам социальной сдержанности. Поскольку долгое время сексуальность не слишком четко связывали с представлениями о смерти, реальности гораздо более очевидной и значимой, она не представляла особых проблем. Иоанн Златоуст и другие греческие епископы считали возможным рассматривать сексуальные отношения лишь в качестве дезорганизованного, но абсолютно необходимого средства для продолжения рода посредством зачатия и производства на свет детей. Иоанн Златоуст мог даже считать их неким бонусом: Господь согласился признать сексуальность Адама после его падения, чтобы люди, утратившие первородное «ангельское» величие и ставшие смертными, смогли бы по крайней мере утешиться, наблюдая мимолетную тень вечности, отразившуюся в лицах детей, похожих на своих Родителей. Для Августина, напротив, сексуальность, такая Как она есть сейчас, представляется столь же очевидным симптомом грехопадения Адама и Евы, как и постигшее их проклятие смертности: ее нынешняя неуправляемая природа связана с их падением настолько же явно и непосредственно, насколько и с леденящим прикосновением смерти.
Открытие вожделения
Аномальная природа сексуальности, таким образом, коренится в конкретном сексуальном опыте. Этот опыт со всей печальной очевидностью указывает на пропасть, разделяющую сексуальность прежних Адама и Евы, которой они могли бы наслаждаться, если бы не пали, и сексуальность нынешних женатых христианских пар, чья жизнь греховна по определению. Обладая тонким чутьем древнего ритора и будучи способным представить свои умозаключения в виде очевидных фактов, понятных уму и сердцу как христиан, так и язычников, Августин раскрывает некоторые стороны полового акта, обнаруживающие глубокий разрыв между волей и инстинктом. Он заостряет внимание на эрекции и оргазме как на явлениях, которые, что вполне очевидно, с человеческой волей никак не связаны: ни импотент, ни фригидная женщина не могут вызвать этих ощущений усилием воли, если же они появляются, то уже не контролируются никакими волевыми усилиями. Согласно Августину, именно здесь кроются яркие и явные признаки гнева Божьего, направленного против холодной гордыни Адама и Евы, отрекшихся от Его воли; гнева, который неотвратимо преследует весь род человеческий, как мужчин, так и женщин, как женатых так и целомудренных. Вожделение плоти, этот бесформенный фантом, без возраста и без лица, готовый в любой момент проявиться через явственно видимые и ощущаемые симптомы в сексуальных отношениях женатых пар, и заставляющий постоянно быть начеку людей целомудренных, сам по себе есть признак фатального разрушения внутренней гармонии, которая некогда господствовала в отношениях между человеком и Богом, мужчиной и женщиной, душой и телом, и которой наслаждались Адам и Ева в свою бытность в раю. Они были вовсе не бесполыми, не были они и свободны друг от друга, напротив, они жили в полноценном браке, настолько же признанным человеческим обществом in nuce
[38] как и любая семья в Гиппоне. Идеальный брак и нынешняя мирская семейная жизнь противопоставлялись друг другу, при этом без устали повторяемые сравнения были неприятными и даже обидными для простой семейной пары.
Эти идеи и вариации на их тему так глубоко проникли в общественное сознание западных христиан, что стоит сделать некоторое отступление, с тем чтобы лучше понять всю их необычность и оценить своеобразие той ситуации, к которой привели европейцев Августин и его последователи, практически вывернув наизнанку парадигму монашества, доставшуюся им в наследство от Востока.
Для светского христианина новая интерпретация той значимой роли, которую играл в человеческой жизни секс, действительно крайне важна. К этому примешивается и специфический поведенческий кодекс, прочно укоренившийся в своеобразной психологической модели личности. И то и другое способствовало в эпоху Антонинов подчинению энергии сексуального влечения требованиям сформировавшейся в то время модели общества. Медики и моралисты тогдашней эпохи пытались встроить сексуальность в упорядоченную структуру города. Они считали само собой разумеющимся, что мощная разрядка «плодородного жара», объединяющая тела мужчины и женщины и сопровождаемая чистым ощущением физического наслаждения, создает условия sine qua non
[39] для зачатия: зачатие и страсть не могут существовать порознь. Единственной проблемой для моралистов была забота о том, чтобы эта страсть не отразилась на социальном поведении и не подорвала авторитет человека, если он станет слишком ею злоупотреблять и начнет в личной жизни вести себя несдержанно и фривольно. Кроме того, многие верующие, которые в своих сексуальных отношениях соблюдали нормы благопристойности, в некоторой степени представлявшие собой продолжение кодекса поведения в обществе, производили на свет детей с не меньшим успехом, чем те, которые, презирая все нормы, занимались любовью, предаваясь оральным ласкам, принимая неадекватные позы и не отказываясь от близости во время менструации. Таким образом, половой акт мог быть представлен в качестве наиболее интимного признака «моральной стороны социальной дистанции», связанного с особыми правилами благопристойного поведения, которые вырабатывались в высшем обществе.
Августин полностью разрушает эту модель, предлагая совершенно новые представления о теле. Сексуальное влечение не рассматривается больше исключительно в качестве физического «жара», рассеянного и хаотичного, достигающего кульминации во время сексуального контакта. Внимание теперь приковано к совершенно конкретным вещам, связанным с сексуальными ощущениями: мужской эрекции и эякуляции. Этим слабостям в равной степени подвержены все мужчины. Поэтому наиболее брутальные проявления женоненавистничества были несколько смягчены, если и не в повседневной жизни Запада в начале Средних веков, то во всяком случае в учении Августина. Перестали говорить о том, что женщины обладают большей сексуальностью, чем мужчины, и что имен но они подрывают разум мужчин, вызывая в них сексуальное влечение. Августин со всей определенностью признает, что мужчины настолько же морально неустойчивы и подвержены сексуальным соблазнам, что и женщины. В телах и тех и других заключены фатальные симптомы грехопадения Адама и Евы. Тот факт, что. разум, как мужской, так и женский, полностью растворяется во время оргазма, затмевает извечный страх римлян перед «женоподобием» и перед утратой публичным человеком своей силы вследствие личной зависимости от низшего существа и того или другого пола.
Вторжение Церкви в интимную жизнь
Удивительно стойкая уверенность в том, что благопристойное сексуальное поведение представителей высшего класса способствует рождению «хорошо задуманных» детей, исполненных здоровья, послушных и предпочтительного мужского пола, перекрывается новым представлением о половом акте как о моменте неизбежного отступления от всякой рациональности, или, иначе говоря, социальности. Вожделение плоти, занимающее место разума во время полового акта, есть свойство любого человека, не поддающееся никаким социальным определениям, и сдерживать его можно только снаружи, посредством социальных ограничений. Для мирян, как мужчин, так и женщин, к обычным ограничениям, наложенным на их сексуальные отношения извне, со стороны общества, должно добавиться новое ощущение глубокой трещины в текстуре самого сексуального акта. В конечном счете именно Бог создает ребенка и дает ему жизнь; и сексуальный акт, посредством которого партнеры предоставляют Ему необходимый материал, не имеет никакого отношения к строгим и всепроникающим законам города.
Вопрос о том, насколько эти идеи, со всеми присущими им безнадежностью и оригинальностью, в действительности омрачили сексуальные отношения пар на закате западной Римской империи, — предмет уже совсем другой истории. Принято полагать, что если и омрачили, то не слишком, и молчаливым тому подтверждением служит тот факт, что с течением веков прежний, привычный образ жизни мало изменился — даже в условиях все возрастающего могущества христианского духовенства. Христианские пары продолжали верить своим медикам; в любом случае, только акт любви, полный страсти и наслаждения, мог подарить им детей, которые в глазах клира, принявшего обет безбрачия, служили всего лишь доказательством того, что половой акт имел место как таковой. Отныне христиане старательно избегают сексуальных отношений в запретные дни, установленные Церковью, — главным образом в воскресенье, в канун больших церковных праздников и в дни поста — из опасения, что подобные нарушения нового кодекса благопристойного поведения могут плохо сказаться на потомстве. Тем временем к упорным рассуждениям Августина относительно роли простительных грехов в сексуальных отношениях семейных пар — даже несмотря на то что он не окрашивает эти грехи в тона похоти и описывает их со значительно большей толерантностью, чем это делали позднеантичные авторы (которые по привычке осуждали любое сексуальное действие, если оно выходило за рамки сознательного и серьезного проекта по зачатию детей «для города»), — примешивается ощущение непристойности, относящееся к самому понятию любви в браке. Однажды, в со всем другом обществе эпохи Раннего Средневековья, кому–то придет в голову мысль о том, что любовь в браке можно сознательно контролировать — с тем чтобы минимизировать сей неприличный ее аспект, — решительно изменив отношение к самой природе субъективного наслаждения, к примеру осуждая и отвергая некоторые формы эротических ласк. Можно констатировать: учение Августина пробило такую брешь в оборонительных порядках христианских семей, которую ни какая Византия не решилась бы себе даже представить; сквозь эту брешь ворвется ледяной ветер более позднего Средневековья с его канониками, чтецами и отцами–исповедниками.
Западная одержимость сексом
Идеи Августина предписывают морально неустойчивым мирянам из простонародья строгость и сознательный аскетизм. Для главы простого семейства Католическая церковь соединила в себе разом и «мир», и «пустыню». Именно так он и жил в то время, пока тихо и неотвратимо возрастала мощь Католической церкви в Западной Европе. В Галлии, Италии и Испании католические епископы, а не «люди пустыни» становятся блюстителями парадигмы монашества, которую Августин изменил изящно и необратимо, причем настолько глубоко, что она затрагивала теперь и сексуальность «в миру». В этом обличье «пустыня» проникает в город и накрывает его с головой. «Пустыня» и «мир» не имеют больше строгого разграничения, как в случае Византии. Наоборот, создается новая иерархия: часто объединенное в городские христианские общины, как это было во времена Августина, духовенство продолжает руководить мирянами, главным образом в смысле их подчинения общему порядку — и наставлений относительно общего, свойственного им всем без исключения морального дефекта, низменных проявлений сексуальности.
В стороне от этой иерархии, простой и неделимой, мы видим социальную структуру, образованную с легкой руки старого гиппонского епископа. Мужчины и женщины, люди «благородных кровей», их челядь и «люди пустыни», не с такой мрачной обреченностью, как люди женатые «в миру», но не менее неотвратимо, — все эти люди несут в себе общий и врожденный дефект: природную сексуальность, унаследованную от Адама и Евы, да еще и в нарушенной форме. Никакое воздержание не позволит человеку — любому человеку — подняться выше этой природы; всякий кодекс, как бы старательно он ни соблюдался, может лишь слегка ее сдерживать. Этот дефект представляется теперь отличительным признаком любого человеческого существа, поскольку отражает самую сокровенную сущность человеческого рода: человек, как существо сексуальное, становится наименьшим общим знаменателем для великой демократии грешников, собранных под эгидой Католической церкви.
Дойдя до этой точки, мы останавливаемся на последнем перекрестке. Приблизительно в 1200 году некий автор наставлений в вере заявляет: «Изо всех христианских сражений битва за целомудрие есть битва самая важная. Борьба здесь непрерывна, а победы редки. Воздержание — это великая битва. Так говорит Овидий… к этому призывают нас Ювенал и Клавдиан… этому учат нас святой Иероним и святой Августин».
В более поздних писаниях Латинской церкви яркая любовная поэзия античного Рима и мрачные пророчества христианских авторов нашего времени смешиваются. Это вызывает довольно странное чувство: подозрение, что специфической навязчивой идеей западного европейца, источником всех его страхов и наслаждений была именно сексуальность, а не гордыня или необузданные силы «мира», темные и обезличенные, пугавшие Византию с ее постоянным миражом обретенного в пустыне рая.
Может быть, именно этим путем, рассматривая те же этапы и те же — а на самом деле и многие другие — сюжеты истории частной жизни времен Поздней Античности, смогут пойти те, кто решит изучить ее значительно глубже, чем это возможно здесь и сейчас, на небольшой поверхности этих нескольких страниц. Мы начали с человека и города: мы заканчиваем Церковью и «миром». Какая из этих антитез оказала большее влияние на развитие западной культуры, к которой мы принадлежим? Пусть это решит читатель.
ГЛАВА 3 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА В РИМСКОЙ АФРИКЕ
Ивон Тебер
ДОМ: ВОДА, ОГОНЬ, ЦВЕТ, СВЕТ, ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО
Проточной воды в домах нет, за исключением немногих привилегированных жилищ; акведуки питают общественные бани и фонтаны.
Всякому иностранцу или горожанину — если не считать привилегированных лиц, которые также встречаются не слишком часто, — запрещено передвигаться по городу верхом на лошади или в повозке, поскольку это оскорбляет достоинство города. Колеи, которые видны на улицах Помпей, могли быть оставлены только телегами, на которых перевозили материалы или товары, и — иногда — ритуальными повозками, задействованными в религиозных процессиях.
Стекла здесь мало: окна закрыты створчатыми ставнями
либо решетками из камня или терракоты. Обитателям остается либо замерзнуть, либо затвориться в комнате совершенно темной или освещенной относительно ярким светом, который исходит от бесчисленных масляных ламп.
Нет ни каминов, ни печей. Когда поля покрывал снег, жар очага, в котором гудит большой огонь, а дым выходит через отверстие в крыше, был — парадоксальным образом — одной из самых благословенных радостей сурового сельского быта. Тем не менее в некоторых областях Империи (например, согласно подробному свидетельству Галена, в Пергаме, нынешней Турции) сельская архитектура знала несколько типов жилищ с налаженным и достаточно эффективным обогревом воздуха. Однако в городах Италии все выглядело примерно так же, как до сих пор выглядит в современных Помпеях, где холодной зимой 1984 года двери магазинчиков были распахнуты настежь, поскольку и внутри, и снаружи было одинаково холодно. Тогда, как и в наши дни, люди кутались в плащи, которые носили и на улице, и дома, да и в постель ложились полностью одетыми (эротические поэты сетовали на жестоких женщин, которые не снимали плаща даже в постели). При этом, как и в наши дни, в городских домах тут и там пылали жаровни; прогреть воздух они были не в состоянии, но время от времени можно было подойти к ним и погреться в не слишком широкой ауре исходящего от них тепла.
Отхожие места — общественные; в жутковатом и вульгарном анекдоте из жизни поэта Лукана действие происходит в общественных уборных при императорском дворце
[40]. Мужские общественные туалеты больше и шикарнее женских (как в храме Эскулапа в Пергаме или на роскошной вилле, недавно обнаруженной в Оплонтисе, то есть в Торре Аннунциата, недалеко от Неаполя).
Мебели мало. Тот традиционный и поэтически переосмысленный набор мебели, который кажется нам идущим от века, все эти миниатюрные шедевры столярного искусства — шкафы, комоды, сундуки, старинные, видавшие виды буфеты, — еще только начал появляться на свет. Несколько кроватей для сна или отдыха, маленькие круглые столики на трех ножках, комоды, стулья, стенные шкафы; деревянные (их редкие обломки сохранились в Геркулануме, а также в Англии), каменные, мраморные или бронзовые. И высокие напольные светильники. Все это больше напоминает нашу дачную мебель, нежели меблировку жилых комнат.
Если говорить о частной архитектуре имущего класса, то domus’ы, которые скорее были чем–то вроде гостиниц, нежели домами в нашем смысле слова, — являют собой один из прекраснейших образцов греческого и римского искусства. Жилище — это прежде всего обширное пустое пространство, которое обнаруживаешь, когда попадаешь в самое сердце здания, а иногда и сразу, едва переступив через порог: анфилада не замкнутых залов, но отдельных зон: крытый двор, крытая галерея (или «портик»), сад с фонтанами; пустота торжествует над заполненностью. Что касается пространства и перспектив: «самнитский дом» в Геркулануме раскрывает свою внутреннюю структуру сразу, в этом незаполненном объеме чувствуешь себя свободно. Вокруг этой пустоты стройными рядами расположены крошечные комнатки, поражающие своими раз мерами; каждый возвращается в свой закуток, чтобы поспать или почитать, а вся жизнь происходит в центральных пустых пространствах, куда выходят примыкающие к ним обеденные залы, как если бы у коробки убрали одну из четырех стенок.
Более того, вне зависимости от достатка хозяев, полы, стены и потолки дома украшают цветные мозаики, росписи под мрамор и декоративные или мифологические картины; изображенная на них фантастическая архитектура увлекает в пространства воображаемых зданий. Представьте себе, скорее, не великолепие царских апартаментов, но красочную феерию театральной волшебной сказки — царство не величия, но воображения. Перед нами предстает то кричаще дурной вкус (о, мозаичные, инкрустированные морскими раковинами фонтаны!), то изысканная, уравновешенная оригинальность. Когда думаешь о том, каким было это общество, — о свойственных ему социальных отношениях, о тяжеловесных гражданских добродетелях и мудрости, основанной на неизменной готовности покарать отступника, — то эти пестрые домашние праздники воображения, в которых не стоит искать аллегорических смыслов (праздник проживали, не останавливая взгляда на подробностях), начинают казаться более чем предсказуемыми. И декор здесь значил больше, чем меблировка. К нему добавлялась интерьерная скульптура в половину человеческого роста: наши музеи полны ею.
Другой приметой роскоши было пространство, не используемое в утилитарных целях. Эта архитектура умела, не прибегая к сети узких коридоров, сочетать общий размах с возможностью уединения в маленьких комнатках: связующую функцию выполняло центральное пространство. В Пестуме скромный горожанин, хозяин двух или трех рабов, обитал именно в таком доме, весьма небольшом по тем временам, в сотню квадратных метров; здесь были только кухня и три комнатушки, но располагались они по краям обширного внутреннего двора, занимавшего большую часть общей площади. Посетитель, постучавший в дверь этого дома (ногой, потому что именно так стучали в двери), едва переступив порог, оказывался в обширном пространстве и уже по одному этому признаку понимал, что здешний обитатель не плебей. В конце Античности, в III или IV веке, на юго–западе Галлии, недалеко от Сен—Годана, была построена великолепная вилла Монморен, до сих пор очень мало изученная: анфилада пустых пространств, вокруг которых причудливым образом закручен лабиринт комнатушек и лестниц, дающий воображению разыграться, но не потеряться окончательно, приводит наконец в святая святых, в недра жилища, где в зале, ничуть не большем по размеру, чем остальные, обитает хозяин дома.
Окажись мы в Эфесе, в современной Турции, или в египетском Каранисе, повсюду в домах мы с удивлением обнаруживаем изображения и другие произведения искусства. И следом — еще одно поразительное открытие: естественный цвет Материала, из которого изготавливались барельефы и статуи, неизменно прятался под слоем краски, а идеалом античной скульптуры была расписная гипсовая статуя из наших сельских церквей. Античные города никогда не были белыми; в Помпеях колонны одного из храмов были окрашены в желтый и белый цвет, а капители — в красный, голубой и желтый; Парфенон также был раскрашен, чтобы приглушить блеск мрамора, красным был и наш Пон–дю–Гар.
Поль Вейн
Анализ частной жизни мы начнем с тех сведений, которые может дать изучение жилищной архитектуры. Сразу уточним рамки исследования, ограничив их и географически — пределами Римской Африки, и строго определенной категорией жилища — домом зажиточного горожанина. Это вынужденное ограничение предмета исследования проистекает как из состояния источников, так и из необходимости более четко определить сам предмет, дабы избежать повторения общих мест. Впрочем, Римская Африка представляет собой выигрышное поле для исследования, поскольку речь идет об одной из важнейших провинций Римской империи: сосредоточив внимание на определенном географическом регионе, можно будет выявить и общие принципы, действовавшие в масштабах всей Империи, и региональные особенности, в конечном счете вторичные, но позволяющие лучше понять реалии повседневной жизни.
Попытка понять частную жизнь через рамку, предположительно вбирающую в себя все формы деятельности, которые относятся к приватной сфере, не разрешит всех интересующих нас вопросов. Нас интересует практическое исследование, а не теория частной жизни; впрочем, если мы хотим понять то, что позволяют увидеть руины, мы не сможем полностью избежать теоретических аспектов. Очевидно, что с течением времени про исходили эволюционные изменения. В классическом греческом полисе архитектура и декор частных жилищ отличаются крайней умеренностью, и ограничения здесь действуют достаточно строгие: в городе, который основан на единстве индивида и общества, на взаимной адекватности частного и публичного, величие и роскошь уместны только в публичном пространстве. При этом индивид всем, включая статус гражданина и право на частную жизнь, обязан принадлежности к политическому сообществу. В эпоху эллинизма кризис классического полиса знаменует собой эволюционный сдвиг, суть которого можно охарактеризовать как значительное расширение сферы частного за счет публичного. Чтобы не выходить за рамки обозначенной здесь области исследования, можно подчеркнуть хотя бы растущую роскошь жилищ или появление частных коллекций — феномен, возникший параллельно с утверждением произведения искусства в качестве товара.
Остается прояснить общие принципы понимания этого феномена. Стоит ли интерпретировать его в эволюционистской перспективе, настаивая на том, что мы становимся свидетелями возникновения самого факта частной жизни? Таким образом, следовало бы вести речь об одном из ключевых моментов «большой истории» — о начале постепенного становления сферы частного наряду с публичным; о событии, от коего начнет свой отсчет цепочка связанных между собой явлений, цепочка, которой, петляя и возвращаясь вспять, предстоит протянуться через века. Впрочем, как представляется, основная проблема заключается не в количестве, а в качестве. Речь идет не о выяснении того, какова доля частного по отношению к публичному, но о попытке понять, каким образом эти две сферы соотносятся между собой и определяют одна другую. История частной жизни не есть история появления приватности как таковой и последующего долгого и трудного ее становления в процессе преодоления социальных ограничений. В действительности природа частного имеет свою специфику в каждом конкретном социуме: она является продуктом общественных отношений и составляет конститутивную часть любой социальной формации. Из этого следует, что она может оказаться предметом неожиданных и радикальных переосмыслений и что желание изобразить ее историю как непрерывную, без разрывов, которые неизменно присутствуют в любых сферах общественной жизни, попросту нереально. Таким образом, исходить из нынешних, актуальных представлений о частной жизни и ограничиваться описанием ее генезиса, прочитывая все прошлое именно в этой системе координат, было бы крайне рискованно. В подобном случае нам пришлось бы отнести рождение частного как такового к относительно недавней эпохе, и речь при этом следовало бы вести об утверждении современного буржуазного мировоззрения, и не более того.
Из этого следует также, что отношения между публичным и приватным не могут быть осмыслены только в рамках психологического подхода к данному вопросу: то есть подхода, исходящего из представлений об индивиде, наделенном личностными качествами, которые выявляются через стратегии его взаимодействия с внешним миром. При подобном подходе на контрастную пару терминов «частное/публичное» накладываются такие дихотомии, как «индивид/общество», «внутреннее/внешнее», превращая отношения между ними в подобие игры: равновесные социальные измерения, стоящие за каждым из полюсов, таким образом размываются в пользу дихотомии «индивид/общество», которая историка не интересует. Наши интересы, напротив, совпадают с интересами некоторых социологов, которые отрицают решающую роль «внутреннего» и настаивают на необходимости изучать взаимодействие частного и публичного через посредство конкретных социальных практик.
[41]
Эти замечания крайне значимы для дальнейшего исследования. В самом деле, они подразумевают, что домашнее пространство организуется не в соответствии с логикой частных, якобы независимых интересов, но что оно само есть продукт социальный. Небезынтересно отметить, что эта реальность прекрасно проиллюстрирована в единственном обобщающем исследовании архитектуры, которое дошло до нас со времен Античности, а именно в тексте Витрувия: там мы находим подтверждение связи, существующей между планом жилища и социальным статусом его владельца. И что еще более важно, автор увязывает появление дома не с логикой утверждения индивидуальных потребностей, но, напротив, с логикой появления на свет человеческих сообществ: люди, собираясь вокруг огня, коллективно изобретают язык и искусство создавать домашний кров.
Эти замечания подразумевают также, что домашнее пространство следует воспринимать как некое единство, включающее в себя аспекты как приватные, так и публичные. Римский дом — это пространство, в котором сосуществовали необычайно разнообразные социальные практики, иные из которых сегодня принято относить по преимуществу к сфере публичной: как, скажем, в случае с почти ежедневно повторявшейся церемонией, в ходе которой хозяин дома принимал визиты своих многочисленных клиентов. Витрувий сам использует названия публичных мест, чтобы определить домашние пространства, доступные для посторонних людей, и нам представляется вполне уместным использовать при изучении различных составных частей дома дихотомию «частное/публичное», чтобы охарактеризовать существенную разницу в функциональном назначении различных помещений. Как и в любую другую эпоху, в жилищах существовали пространства, значительно различавшиеся по степени «прозрачности», но в случае римского дома это разнообразие переходило в многообразие. Однако отказываться воспринимать римский Дом как единое целое и полагать, что он состоит из соположениях и противопоставленных друг другу зон, главным образом частных или главным образом публичных, было бы ошибкой. Тот факт, что частное римское жилище было в значительной СТепени развернуто в сферу публичную, не содержит в себе противоречия и не является плодом больной фантазии: напротив, эта архитектура позволяет ухватить самую суть частной жизни господствующих классов в эпоху, которая характеризуется колоссальным расширением приватной сферы. Этот крайне значимый феномен со всей определенностью демонстрирует нам, что некоторые виды деятельности, социальное измерение которых очевидно, самым естественным образом осуществлялись в домашнем пространстве. При этом речь не идет ни о явлениях из ряда вон выходящих, ни о «переводе» публичной сферы на язык приватности.
Итак, можно констатировать, что дома африканской аристократии, как и жилища знати в других частях Империи, предполагали несколько уровней, несколько модусов частной жизни. Обычно домашнее пространство включало в себя места и контексты, предназначенные как для индивидуального отдыха, так и для семейной жизни, в узком и вполне современном смысле слова: для хозяина дома, его супруги, которая, выйдя замуж (convenit in manum), переходила под «отеческую» руку мужа, а также для их детей. Кроме того, данная семейная структура предполагала возможность значительного расширения. Она не только была способна принять стороннюю женщину, вышедшую замуж за одного из членов семьи; отеческая власть, постепенно слабевшая вследствие эволюции нравов, продолжала задавать умозрительную рамку, позволявшую включать в состав домочадцев весьма много численные и разнородные элементы: помимо всевозможных родственников, сюда входила и прислуга, и рабы, среди которых принято было особо выделять vernaculi, тех, кто родился в доме, — что создавало специфическую внутреннюю структуру римской familia. Этот семейный словарь на языковом уровне отражает способность семьи интегрировать социальные от ношения, далеко не всегда ей присущие. Отношения, которые связывали между собой патронов и клиентов, идентичны отношениям между отцом и детьми и включают в себя элемент религиозного чувства. Языческие жрецы прямо уподоблялись родителям, а рядовые участники церемоний — детям (Apul., Met., XI, 21): христианская секта, также воспринявшая семейную модель, только укрепила эту давнюю традицию. Все эти феномены по–своему характеризуют то важное место, которое в римском мире начиная с последних веков Республики занимала сфера частного: в те времена в доме Цезаря или Помпея принимались политические решения не менее важные, чем в сенате. Многообразие видов деятельности, характерных для римского дома, отсылает к самой природе римского общества и объясняется только через его посредство: оно наглядно демонстрирует, в частности, новый тип взаимосвязи между частным и публичным, характерный для римского мира (сенаторы — не суть ли «отцы»?), который, в рамках общей эволюции средиземноморской цивилизации, окончательно утверждается к концу республиканского периода и продолжает в разных формах существовать в эпоху Империи.
Изучая именно архитектуру частного жилища, мы хотели бы внести свой вклад в разработку истории приватной жизни африканских элит и, следовательно, элит римского мира в целом. Подобный подход предполагает, что предметом систематического рассмотрения станут не только богатые городские жилища, но и тексты африканских авторов, представляющие собой источник информации не столь благодатный, как литература собственно италийская, но зато куда менее изученный, источник, который a priori можно считать единым целым с африканскими руинами. Такая точка зрения подразумевает также, что наши рассуждения основываются прежде всего на изучении руин domus’ов, то есть разрозненных фрагментов материальной культуры; при этом явления и единичные, и широко распространенные следует интерпретировать только Через посредство процедур сопоставления и классификации. Именно конкретные археологические данные позволяют, в изустной мере, обращаться к данным литературных текстов, проводить сравнения с другими провинциями или даже эпохами — а не наоборот. Этот подход, во–первых, дает возможность оперировать сведениями более достоверными, чем те, что можно извлечь исключительно из самих текстов, которые в значительно большей степени представляют собой интерпретации частной жизни, нежели свидетельства о ней. Во- вторых, он позволяет сопоставлять результаты исследований многочисленных ученых, которые, работая непосредственно с «почвой», содействуют пересмотру чересчур литературного и идеализированного видения античного мира, когда каждый предмет трактуется как произведение искусства, нагруженное символическими значениями. Сама по себе благотворная процедура демифологизации, однако, не исключает риска, поскольку иногда приводит к гиперкритицизму, к стремлению с чрезмерной осторожностью подходить к анализу качества и обстоятельств жизни интересующих нас элит. Таким образом, изучение домашнего пространства станет очередной попыткой понять реальную природу частной жизни. Для этого необходимо более отчетливо обозначить роль, которую в процессе строительства играл заказчик: в этом отношении руины могут быть весьма информативными.
ХАРАКТЕР ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ
Интернациональность архитектуры
В античном мире характер архитектуры, свойственной социальным элитам, определяла сама природа Средиземноморья. Достаточно напомнить, что на протяжении столетий существовало культурное сообщество, базировавшееся на интенсивном обмене людьми, идеями, товарами, — сообщество, сердцем и движущей силой которого долгое время оставался греческий мир и внутренние системы связей которого значительно укрепились в ходе перемен, имевших место в эпоху эллинизма. Сквозь непрерывную череду конфликтов проглядывает не образ мира, разделенного на разноприродные и самодостаточные блоки, но, напротив, образ некоего единства, каждая составная часть которого своим собственным, уникальным образом сочленяется с целым. Это фундаментальное сходство наиболее отчетливо проявляется на уровне социальных элит, политические пристрастия которых напрямую обусловлены этой реальностью, а культура со всей очевидностью принадлежит единой цивилизации, которая несет определяющий отпечаток Греции.
Архитектура правящих классов Римской Африки прекрасно иллюстрирует эту закономерность. История жилищного строительства Средиземноморья начинается с весьма Решительной новации: введения в центр здания перистиля, то есть дворика, окруженного портиками, вокруг которого располагаются другие части дома. Это греческое изобретение было очень быстро адаптировано пуническим миром: доказательство тому — пример дома с колоннами в Керкуане, городе на мысе Бон, разрушенном и опустевшем к середине III века до н. э. Африканские элиты напрямую заимствуют у греков эту типовую конфигурацию жилища, более прочих соответствующую их представлениям о необходимом уровне престижа — поскольку она располагает в самом сердце жилища архитектурную композицию, сам масштаб которой в былые времена подобал бы только общественным зданиям.
Зато традиционный италийский дом с атриумом, то есть украшенным по периметру залом для приемов, не перекрытым в центральной части; залом, в который попадаешь непосредственно из входного вестибюля, — неизвестен в Африке. Долгие дискуссии значительно прояснили этот вопрос, в частности, благодаря тому, что в расчет был принят фактор чисто количественный, а именно численное соотношение в домашнем пространстве крытых и открытых площадей. Такой взгляд на проблему сделал очевидным тот факт, что подавляющее большинство двориков с колоннадами в африканских домах, с их обширным открытым центральным пространством, полностью зависит от архитектурной концепции перистиля. Можно выразиться еще более определенно: относительная значимость крытых и открытых пространств варьируется не только в зависимости от местных особенностей архитектуры, но, со всей очевидностью, и от общей полезной площади дома Достаточно взглянуть на таблицу, составленную Р. Этьеном для домов богатого квартала в северо–восточной части Волюбилиса, чтобы заметить, что перистили, открытая площадь которых в пропорциональном отношении к общей площади жилого комплекса составляет наименьшую величину, находятся в средних по размеру домах — причем справедливо также и обратное Так, вычисление пропорций помогает выявить закономерность, которая даже применительно к помещениям с дворами скромных размеров позволяет не прибегать к понятию атриума.
Разумеется, подобных архитектурных критериев в любом случае было бы недостаточно для идентификации атриума, так как сам этот термин подразумевает вполне определенную функцию помещения. Однако само расположение этих двориков с колоннами на плане африканских жилищ, а также характер их взаимосвязей с другими залами со всей определенностью свидетельствуют о том, что подобной роли они выполнять никак не могли. Таким образом, можно сделать вывод, что атриум в Африке существовал разве что в исключительных случаях, весьма немногочисленных, которые тем не менее могут претендовать на некую историческую уникальность, поскольку речь, по всей вероятности, должна идти об атриуме, достаточно далеком от исходных италийских образцов. Это подтверждается африканскими текстами, где даже слово это появляется всего один раз в описании эксцентричного сооружения (Apul., Met., II, 4), а также руинами, при интерпретации которых пользоваться данным термином в голову не приходит практически никому.
Отсюда следуют два вывода. Первый касается того, где именно знатные африканцы могли принимать многочисленных посетителей, которым никак нельзя было отказать в этой любезности; притом жилище было лишено атриума, который в Италии главным образом и брал на себя эту функцию: мы еще вернемся к рассмотрению этого важного вопроса. Второй затрагивает характер отношений африканской жилищной архитектуры с миром Средиземноморья. Отсутствие атриума показывает нам, что данная архитектурная традиция не представляла собой побочного продукта архитектуры италийской, но была специфическим образом связана с доминирующей в этой части мира культурой: она создала особый тип дома с открытым внутренним пространством, и ей не нужно было Дожидаться римского завоевания, чтобы узнать, что из себя представляет перистиль. Интеграция Африки в римский мир не создала новых связей: она всего лишь сделала более интенсивными связи уже существующие.
Теория архитектуры
Африканская жилищная архитектура, как и жилищная архитектура других римских провинций, является продуктом теоретической рефлексии и как таковая противопоставляется архитектуре местного типа, создававшейся без участия профессионального архитектора, так что один и тот же социальный заказ мог привести к постройке совершенно разных зданий. В последнем случае о проекте как таковом речь, вероятнее всего, даже и не заходила. Заказчик в общих чертах формулирует свои пожелания, ориентируясь на конкретные примеры из окружающей действительности. В результате формируются местные типы жилищ, в процессе создания которых большую роль играет импровизация, но которые при этом исходят из конкретных возможностей, предопределенных местными условиями, например климатом или имеющимися в распоряжении материалами.
Напротив, жилищная архитектура римской эпохи свобод на от подобного рода предопределенности и руководствуется социальными, эстетическими или индивидуальными интересами, которые позволяют разработать настоящую архитектурную программу, поскольку интенции как заказчика, так и архитектора формируются в рамках глубоко фундированной теории. Действительно, существует очень древняя традиция рефлексии на тему города и его составных частей, традиция архитектурной теории, конкретные следствия из которой оказывали вполне реальное воздействие на формирование городской цивилизации. Городской пейзаж видоизменяется не только в результате масштабного строительства, но и в результате того, что возникают новые города: в последнем случае идея города, такого, каким он должен быть, материализуется на некоем участке земли в соответствии с детальным планом, который может включать даже типовые планы жилищ или по крайней мере a priori определять тот объем пространства, который будет отведен каждому дому — наряду с другими, стоящими рядом.
Таким образом, теории города непосредственно обусловливают тип жилища, определяют его местоположение, размеры и ориентацию в пространстве. Это не означает, что жилищная архитектура была всего лишь вторичным продуктом масштабных градостроительных планов. Планы не были результатом абстрактных размышлений и не ограничивались попытками совместить топографические реалии с потребностями публичной жизни. Так, начиная от Гиппократа и Аристотеля и вплоть до Витрувия правильное расположение построек считалось решающим фактором, влияющим на процветание города и на сохранность здоровья его обитателей. Таким образом, этот частный аспект общего соотношения между публичным и приватным оказывается значимым с самых первых мгновений существования нового города и играет свою роль при разработке его общего плана. Особенно интересно подчеркнуть, что со временем люди, разрабатывавшие тему градостроительства, все больше и больше внимания уделяли индивидуальным потребностям жителей: Аристотеля все еще в большей мере интересуют сооружения общественные; Витрувий осмысляет все составные части города и подробно останавливается на проблемах собственно жилищной архитектуры.
В этих размышлениях о городе каждому находящемуся на его территории зданию отводится своя теоретическая ниша. В труде Витрувия конкретные постройки приводятся в качестве типологических примеров: когда автор описывает базилику, возведенную в Фано, он никоим образом не уклоняется в сторону от главной темы: напротив, описание это становится иллюстрацией к набору признаков, относящихся к данной категории зданий. Отныне теория предшествует практике: действия заказчиков и строителей вписываются в линию от века идущей теоретической традиции.
Заказ на строительство нового дома или перестройку старого — это предприятие, в рамках которого и заказчик, и строители имеют в виду вполне надежные ориентиры. Они располагают основными принципами организации и пространственной ориентации здания, типологией внутренних помещений, предусматривающей желательные для каждого из них пропорции, а также эстетическими принципами, в соответствии с которыми происходит не только выбор деталей декора, но и размещение колоннад. Эта культурная реальность, плод социальной однородности и политического согласия средиземноморских элит, объясняет очевидное единообразие их жилищной архитектуры. Правящие классы повсеместно адаптируют формат, который позволяет им жить на римский манер: в качестве знака, указывающего на то, что они участвуют в управлении Империей, — ив качестве безотказного способа утвердить собственный престиж в глазах зависящего от них местного населения.
Определяющая роль теории придает частной архитектуре очень важное идеологическое значение. К концу существования Римской Республики появление предметов роскоши в домах власть имущих становится объектом горькой критики со стороны сенатского большинства, скрывающего за аргументами морального порядка свои политические страхи. Достаточно вспомнить чувство, которое вызвало у римских консерваторов появление мраморных колонн в домах какого–нибудь Красса или Скавра. Размах и роскошь, с которыми оформляются жи лища, увеличиваются по мере того, как индивидуализируется политическая жизнь и на политической сцене, наряду с традиционными институтами власти, появляются деятели, чья личная харизма соперничает с auctoritas сената. Значительное увеличение масштабов частной роскоши радикально и на века меняет рамки домашнего уклада. К тому же эта трансформация задает определенную планку для людей, причисляющих себя к социальным элитам: если жилые дома представителей высших слоев власти остаются исключительными по своему размаху, то каждый гражданин Империи чувствует себя обязанным владеть домом, который отражает его социальный статус и позволяет отвечать соответствующему уровню требований.
Таким образом, проблемы, присущие жилищной архитектуре, нужно рассматривать именно в рамках глубоко продуманной теории города и составляющих его компонентов. Отсюда следует ряд достаточно определенных выводов. Во–первых, следует вести речь о городском характере подобной архитектуры. В Африке, как, несомненно, и в других провинциях, никогда не было оттока элит в сельскую местность. Конечно, они возводили великолепные виллы в своих обширных загородных имениях, но никогда, вплоть до эпохи, которая выходит за временные границы Античности в самом широком понимании этого термина, они не покидали городов, где разыгрывалась их политическая судьба, а значит, и их судьба вообще, и где всегда оставались их главные резиденции. Отсюда вывод: сознательно исключая из рассмотрения сельские жилища африканских элит, мы, быть может, и отказываемся принимать во внимание часть традиционной библиографии, но зато ставим во главу угла то, что можно назвать «пространственной стратегией» этих элит. К тому же наше исследование принципиально опирается на те источники, которые по преимуществу имеются в распоряжении современного историка: дело в том, что из общего числа африканских вилл раскопана ничтожно малая часть, а если говорить 0 тех виллах, которым уделено внимание в публикациях, то их и того меньше.
Второй вывод касается невозможности оценить природу частного пространства, не принимая во внимание окружающей его городской среды. Это отсылает нас к самому простому уровню — к проблеме вписанности жилища в конкретные условия: даже Витрувий настаивает на необходимости изменять устоявшиеся архитектурные приемы в зависимости от обстоятельств и предлагает, например, корректировать принятые пропорции комнаты, чтобы улучшить ее освещенность. Это особенно ощутимо на более высоком уровне: само функционирование жилища в значительной степени зависит от общегородской планировки. Наличие системы водоснабжения — вода может нагнетаться в трубы под давлением или, наоборот, идти самотеком — существенно меняет повседневную жизнь. Однако такие системы существуют не везде, а там, где они существуют, их сооружение редко совпадает со временем основания города. Проведение подобного рода широкомасштабных общественных работ напрямую влияет на уровень частного комфорта. Также невозможно адекватно оценить качество городского жилища, не учитывая многочисленных коммунальных учреждений, в частности терм или общественных уборных, которые город предоставляет в распоряжение жителей. Такой подход подразумевает не противопоставление публичного и частного, но необходимость учитывать возникающие между ними взаимодополняющие отношения: дом не может быть изолирован от контекста, в котором он находится.
Третий вывод касается тех способов, которыми жилища включаются в ткань города. Наличие большого количества крупных общественных сооружений может создать иллюзию того, что план города представляет собой продуманную структуру: частное жилье в этом случае заполняет собой оставшиеся свободные пространства. Однако не все так однозначно В Тимгаде или Куикуле городская стена была разрушена, а освободившиеся площади застроены, очевидно, в эпоху Северов, жилыми кварталами. Более того, в случае с северо–восточным кварталом Волюбилиса
[42] (рис. 4) возникает вполне обоснованное предположение, что не жилые здания вписывались здесь в пространство, ограниченное городской стеной, а наоборот, сама стена была возведена только затем, чтобы повысить стоимость земли в окруженном ею квартале, а затем застроить его роскошными жилыми зданиями — то есть публичное сооружение фактически послужило инструментом в руках спекулянтов недвижимостью.
[43] Этот случай позволяет понять, как огромное сооружение, обладавшее значимостью как престижной, так и утилитарной (с военной точки зрения), было лишено своего фундаментального публичного смысла ради того, чтобы быть поставленным на службу частным интересам: данный пример самым неожиданным образом иллюстрирует изменения, произошедшие между эпохой классического полиса и эпохой Римской империи. Отныне область частных интересов расширяется настолько, что с полным правом присваивает сферы, которые когда–то входили в поле компетенции исключительно коллективной и публичной.
 Рис. 4.
Рис. 4. Волюбилис, северо–восточный квартал (план Алье, Гольвена и Ленна. Rebuffat R. Le developpement urbain de Volubilis… // ВАС. 1965–1966)
Необходимо отметить и еще одно обстоятельство: всякая попытка вписать жилые здания в ткань города наталкивается на полное наше невежество: мы не знаем, как именно уличное пространство было связано с пространством жилым. Ни один фасад невозможно восстановить в его изначальном виде. Поэтому нам не известно ни количество проемов, выходивших на улицу, ни их размеры, ни принцип их расположения, ни, в большинстве случаев, те способы, которыми их принято было закрывать. Сведений о самых обычных повседневных практиках нам также катастрофически не хватает. Принято ли было окна закрывать или оставлять открытыми? Можно ли было посидеть у окна или на балконе? Украшались ли в праздничные дни фасады жилых зданий? И еще немалое количество не менее интересных вопросов относительно связей домашнего пространства с жизнью улицы по–прежнему остается без ответа, и тексты в данном случае красноречиво безмолвствуют.
Однако существует и такой момент, касающийся взаимосвязи публичных и частных пространств, который археологические источники все–таки могут прояснить. Речь идет о модусах взаимодействия этих пространств на уровне первого этажа, в тех случаях, когда их разделял не фасад, четко маркирующий границу, но портик как некая промежуточная зона. Эта архитектурная форма двойственна сама по себе: переходные пространства могут либо принадлежать сфере сугубо публичной, либо, напротив, совершенно определенным образом связываться со сферой приватной. Так, короткий портик перед главным входом в «Дом Сертия» в Тимгаде (рис. 19) составляет часть жилого здания, наружную часть которого он украшает. Напротив, когда пышные колоннады, возводимые в рамках масштабного градостроительного проекта, дублируют улицу, они, по сути, играют роль сугубо публичного пространства, что читается и в их архитектуре и в том, что они прежде всего предназначены для того, чтобы облегчать движение пешеходов по городу. Так подтверждается идея единства города, преодолевающего дробность частных пространств.
 Рис. 5.
Рис. 5. Фрагмент плана колонии в Тимгаде (Boeswillwald Е., Ballu А., Cagnat R. Timgad, une cite africaine sous L’Empire romain. Paris, 1905. P. 337. Fig. 166). Первоначальная площадь включает 132 инсулы — квадратных участка со стороной примерно 20 метров. Достаточно часто можно отчетливо различить стены последующего деления, разграничивающего участок на несколько частей. Инсулы 73 и 82 были объединены за счет присоединения общего пространства улицы. Инсула 100 увеличена за счет захвата части уличного пространства.
Однако при ближайшем рассмотрении архитектура широких портиков, строившихся вдоль улиц, делает очевидной двойственность этих пространств. Их однородность в действительности никогда не была абсолютной, в том числе и на такой важной артерии, как decumanus maximus в Волюбилисе (рис. 4), где можно констатировать, к примеру, что перед «Домом подвигов Геракла» (рис. 25) ритм междуколонных промежутков меняется. Большие арки покоятся на девяти опорах, причем общая композиция очевидным образом связана с жилым помещением: справа от стен, которые изначально ограждали это последнее, еще более мощные опоры развернуты таким образом, чтобы поддерживать арки, перпендикулярные линии улицы. Так, чисто эстетически данное пространство связано со зданием, которое оно ограничивает. С функциональной же точки зрения это нарушение ритма вторично: оно не нарушает единства ансамбля и нисколько не препятствует использованию портика как части уличного пространства. Тем не менее Подобный двусмысленный статус, придаваемый публичному пространству, может быть следствием вполне прагматического умысла: на параллельной улице подобное же пространство было аннексировано владельцами «Дома Свиты Венеры», которых ничуть не заботило уличное движение (рис. 22: первый входной вестибюль VI и комната 19, служившая раздевалкой при домашних термах). Похожая операция, по всей видимости, была проделана в Куикуле в пользу «Дома Европы» (рис. 15): расширение, очевидно, в результате перестройки, части его комнат вплоть до мостовой большой cardo
[44] разрывает портик, дублирующий эту магистраль. Колоннада остается на своем месте и со стороны не кажется захваченной полностью. Однако дробление портика, публичная функциональность которого коренится в непрерывности ограниченного колоннадой пространства, фактически превращает его в пристройку здания, окончательно интегрируя его в общий облик фасада.
Унитарность архитектуры
Что подразумевает данная формулировка? Безусловно, существуют специфические особенности жилищной архитектуры, отвечающие потребностям, которые она должна удовлетворять, однако решающей для ее понимания чертой является наличие тесных связей между общественными и частными сооружениями. Эти — очень давние — связи (между италийскими виллами республиканских времен и современными им публичными зданиями прослеживаются поразительные аналогии: вплоть до лексики, которую используют для их описания современники) не менее актуальны и в эпоху Империи. Они прослеживаются на уровне декора, прежде всего в мозаиках, причем не только в том, что один и тот же набор геометрических мотивов использовался для всех типов построек, но и в некоторых особых случаях, когда усложнение мотивов позволяет проследить влияние официального искусства на декор жилых помещений. Примером тому, как показал Ж. Пикар, может служить дом Азиния Руфа в Ачолле, где современная императорская мистика, в данном случае коммодовский жест Геракла, самым непосредственным образом повлияла на выбор декоративных сюжетов.
[45] И в самом деле, мозаика триклиния иллюстрирует подвиги героя, изображая его самого в соответствии с типом, созданным в годы правления Коммода и известным по репрезентациям на монетах этого периода. Император посвятил своему любимому божеству статую, которая, очевидно, и явилась источником тем, воспроизведенных мозаичистом Ачоллы.
 Рис. 6.
Рис. 6. Булла Регия (план А. Бруаза в кн.: Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Les Ruines de Bulla Regia. Rome, 1977. Fig. 3). 12: дом № 3 (см. рис. 27); 18–19: «Дом Охоты» (см. рис. 8: строго прямоугольный в плане участок резко отличается от других, имеющих менее правильную форму); 23: «Дом Рыбалки» (его западная граница расширена за счет улицы). Существование перистиля установлено в домах № 10, 11 (?), 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 36 и 37. Наличие частных купален зафиксировано в домах № 9, 18, 23, 25, 28 и 37 (?)
Это концептуальное единство не менее заметно и в самой архитектуре, во всех отраслях которой происходили подобные же эволюционные изменения. В поздней Римской империи и в жилых домах, и в общественно–значимых постройках зафиксирована тенденция к увеличению апсид, а также ко все более частому использованию арок, опирающихся на колонны вместо традиционного архитрава. Однородность архитектуры и декора зданий разного предназначения такова, что в отсутствие описаний бывает трудно установить принадлежность руин к тому или иному типу. Действительно, функциональные задачи публичных сооружений, будь то служебные помещения официальных лиц, здания, предназначенные для приема жителей города, либо резиденции коллегий и ассоциаций, игравших столь важную роль в общественной жизни, очень близки нуждам частного домовладения. Непрекращающиеся Дебаты исследователей по поводу частного или публичного характера некоторых построек весьма показательны для того сущностного единства, которое характеризует тогдашнюю архитектуру. в отдельных случаях эти споры позволили в конце концов найти правдоподобную интерпретацию. Так, например, предполагалось, что «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе был предназначен для
коллективного использования — просто в силу того размаха, с которым была возведена постройка. Присутствие в нем поздней мозаики, на которой фигурирует нечто вроде корзины с именем Асклепия, заставляло думать, что функции здания поменялись, и, вероятно, в связи с культом Эскулапа. Правильная интерпретация предмета, на котором написано имя (фактически, это агонистический венок, которым награждали победителя игр, проводившихся под покровительством Асклепия), опровергла эту гипотезу.
[46] Дом никогда не переставал принадлежать частным владельцам, и именно один из них решил увековечить победу, одержанную в каком–то из многочисленных состязаний, проходивших по всему Средиземноморью (рис. 12).
Особого внимания заслуживает здание, которое прекрасно иллюстрирует общее единство архитектуры эпохи Империи. В самом деле, домашняя базилика в «Доме охоты» в Булла Регия позволяет понять, какое отношение жилищная архитектура имела к проблемам, возникавшим в других отраслях строительства, и к решению этих проблем
[47]. Этот памятник, четко датируемый первой половиной IV века, был воздвигнут по проекту, включавшему апсиду, трансепт, пересечение которого с нефом подчеркнуто использованием опор, украшенных лепным орнаментом, и длинный неф, фланкированный подсобными помещениями там, где в базилике гражданской или религиозной находились бы боковые нефы. Большая часть этих расположенных анфиладами помещений также сообщается с центральным нефом, что позволяет пере двигаться внутри строения почти так же свободно, как в больших зданиях с тремя нефами. Несмотря на многочисленные поздние перестройки, можно легко представить стройность и гармоничное единство первоначального ансамбля (рис. 7 и 8).
Некоторые из рассмотренных архитектурных решений имеют прямые аналогии с конструктивными особенностями первых христианских храмов. Это позволяет соотнести их с одной из самых сложных проблем античной архитектуры — проблемой происхождения формы раннехристианской базилики, которая включает прямоугольный разделенный на нефы зал (самый высокий центральный неф освещается дневным светом из окон, расположенных выше уровня крыш боковых нефов), апсиду и второстепенные элементы, наиболее характерным из которых является трансепт.
[48]
Сам по себе этот спор, породивший обширную литературу, в значительной степени базируется на ошибочной постановке проблемы. С одной стороны, мы видим желание обосновать оригинальность христианской архитектуры: в этом случае перед нами не более чем очередной извод старого представления о необходимости отстаивать автономность религиозных феноменов вместо того, чтобы вписывать их в процесс общей социальной эволюции. С другой — вполне логичный отказ от подобного образа мысли, уравновешенный, впрочем, воспроизведением одних и тех же, по сути, аргументов, основанных на теории влияний и на попытках любой ценой отыскать некие предшествующие формы. Ответ же следует искать в несколько иной области.

 Рис. 7, 8, 9.
Рис. 7, 8, 9. Булла Регия, «Дом Охоты» и южный подземный этаж (планы А. Оливье; Ibid. Fig. 44, 46. А: въездной двор; В: вестибюль; С: лестница на второй этаж; D: спальня; Е: триклиний (столовая); F: перистиль; G: экседра (приемная); Н: домашнее святилище; I: туалет; J: термы), с интерпретирующей участок схемой, где показаны базилика и большой перистиль в их исходном состоянии (длинным штрихом — эллинистическое деление участка; пунктиром — южная граница между «Домом Охоты» и «Новым Домом Охоты»)
Вполне очевидно, что, несмотря на все уверения в оригинальности христианских построек, последние по большей пасти наследуют решения, уже отработанные в рамках более ранних архитектурных традиций. Апсида как способ выделить сакральное пространство — один из стандартных приемов гражданской и религиозной архитектуры с начала эпохи Империи. К этой же традиции восходит принцип разделения обширного внутреннего пространства на иерархизированные Нефы. Не менее очевидным представляется и тот факт, что данный набор архитектурных форм жив и до сей поры и что период поздней Римской империи — это время весьма значимых перемен, движущей силой которых является отнюдь не христианство: речь идет о глобальной эволюции самой архитектуры, напрямую связанной с изменениями в сфере социальных отношений. В поздней Римской империи культовые сооружения возводили по тем же принципам, которыми руко водствовались при строительстве других зданий. Термин «христианская архитектура» может служить лишь для обозначения построек, предназначенных для отправления христианского культа, с тем чтобы отразить их специфику, а вовсе не для именования принципиально нового архитектурного направления, способного продуцировать оригинальные формы и проекты.
Домашняя базилика в Булла Регия служит тем более очевидной иллюстрацией этого факта, что ее крестообразный план соответствует тому типу архитектурных проектов, который христианство существенно обогатило символическими значениями. До этого, несмотря на существование текста Витрувия, описывающего «халкидики» — поперечные пристройки, используемые для уравновешивания некоторых архитектурных композиций, — ни одно археологическое свидетельство не подтверждало существования трансепта в языческой базилике. Первые известные примеры базилики с трансептом — это религиозные сооружения Константина в Риме и Константинополе. Что же касается проблемы происхождения формы христианской базилики, то имеет смысл предположить, что базилики с трансептом могли появиться как специфически христианский вариант архитектурного использования креста как символа — со всем подобающим размахом.
Таким образом, спор как таковой оказывается лишенным смысла. В 380 году Григорий Назианзин, описывая церковь Святых Апостолов, построенную в Константинополе, в первую очередь подчеркивает ее сходство с крестом. Именно в это время благодаря распространению культа креста такая архитектурная форма пользуется огромным успехом и на Западе, примером чего служат постройки епископа Амвросия Медиоланского. Однако пятьюдесятью годами ранее Евсевий, говоря о том же самом памятнике, вовсе не обращает внимания на это подобие. Хронология возникновения символики креста, столь популярной в будущем, — аргумент вполне достаточный, чтобы опровергнуть любую попытку найти специфически религиозную причину разработки плана такого типа. Дело обстоит как раз наоборот: христианская интерпретация накладывается на архитектурную форму, исходно лишенную какого бы то ни было религиозного смысла.
Датировка домашней базилики в Булла Регия наглядно подтверждает наши рассуждения. До сих пор не было известно ни одного сооружения подобного типа, относящегося к периоду между появлением памятников константиновского времени и крестообразными в плане христианскими базиликами V–VI веков. Особенно интересно, что лакуна отчасти заполняется именно зданием сугубо приватным, что свидетельствует о необходимости связать использование трансепта в раннехристианской архитектурной традиции с тем, что происходило в сфере гражданской архитектуры и в архитектуре в целом. По всей видимости, начиная с этого времени трансепт предлагает эффективное решение проблемы передвижения участников всевозможных церемоний в интерьерных пространствах — верующих вокруг реликвий, духовенства вокруг алтаря или сановников вокруг правителя. В Булла Регия стояла та же задача: организовать торжественное предстояние dominus’a людям, находящимся под его рукой. И решение, вплоть до пропорций — выступающие части трансепта образуют два квадрата, — идентично тому, к которому прибегала христианская архитектура и которое, вероятно, было применено в императорском дворце в Равенне.
[49]
Фактически, главная особенность этих зданий — членение пространства с помощью продольных нефов и поперечной оси, при котором все объемы объединяются в центральной точке. Такая структура, задающая доминантное положение одной пространственной зоны по отношению к другим, где располагаются второстепенные участники церемонии и зрители, соответствует отношениям господства–подчинения, каковые по умолчанию предполагает статус императора, епископа или аристократа, — и противоположна структуре здания для совещаний, предполагающей не только центрированный план, но прежде всего однородность пространства. Из длинных нефов базилики пассивные участники ритуала могут лишь наблюдать за тем, что происходит перед ними в апсиде; трансепт способствует фокусировке их внимания и усиливает иерархическое противопоставление привилегированным участникам.
Таким образом, сходные задачи обусловливают параллельность архитектурных решений, использование набора приемов давно выработанных и просто–напросто адаптированных к потребностям не новым, но ставшим существенно важными. Пример здания в Булла Регия показывает, что такая характерная форма, как базилика с трансептом, не является исключительной принадлежностью религиозных построек и что в архитектуре того времени нет принципиальной разницы между частным и публичным.
Архитектура в развитии
Хронологические рамки нашего исследования жилищной архитектуры Римской Африки охватывают несколько столетий, в течение которых произошли глубокие изменения, повлияв шие на весь уклад частной жизни. Общая эволюция строительных планов, объемов и декоративного оформления зданий меняет внутренний облик дома, иногда ценой значительных усилий. В некоторых случаях сами границы жилища подвергаются корректировке, причем когда приобретенное таким образом пространство достаточно обширно, может произойти полная перепланировка застроенного участка. Попытка понять, каким образом элиты создавали свои многочисленные domus’ы, может привести также и к уточнению такого понятия, как «квартал», которое все еще с трудом поддается определению.
В зависимости от того, где находится жилище — в квартале с плотной застройкой или же в интенсивно развивающемся окраинном районе, — условия его появления на свет могут быть очень разными. Контраст особенно разителен, когда центральная часть города является продуктом масштабной программы колонизации, приводящей к созданию населенного пункта, где система улиц жестко ограничивает участки. Очевидно, что такая структура никак не благоприятствует созданию domus’ов, позволяя оперировать минимальными по площади территориями. В таких случаях крупные жилые комплексы внедряются в пригородные кварталы, где ограничений гораздо меньше.
В этом отношении показателен пример Тимгада (рис. 5), колонии, основанной в 100 году н. э. императором Траяном. Здесь городское пространство изначально было четко разделено на квадраты площадью примерно 400 квадратных метров каждый, и только форум и некоторые крупные общественные здания нарушали эту структуру, занимая по нескольку участков. Зона же частных владений, охватывающая около трех четвертей поделенного таким образом пространства, строго разграничена улицами на квадраты, которые, в свою очередь, иногда дробились на более мелкие участки, принадлежавшие разным хозяевам. Структура этого урбанистического центра, отражающая сравнительно гомогенную социальную организацию, оказалась достаточно прочной, чтобы не допустить появления крупных domus’ов: лишь несколько домовладений смогли реализовать свои амбиции путем создания скромных перистилей.
Крупные жилые комплексы Тимгада, площадь которых иногда почти в десять раз превышает площадь инсул центральных кварталов, могли возникнуть во всем своем великолепии только на окраинах, которые быстро разрастались за пределами первоначальной городской стены — либо же прямо на месте этой последней, снесенной в результате операций с недвижимостью. Пример захвата публичного пространства, отведенного изначально под фортификационные сооружения, частными лицами, в данном случае богатыми собственниками, был изучен Жаном Лассю.
[50] Западная городская стена (рис. 19, 20), занимавшая полосу земли шириной 22 метра, со временем оказалась в центре города, поскольку он разросся преимущественно в этом направлении, и целиком перешла в распоряжение состоятельных горожан. Подобный способ приватизации оказался для них тем более выгодным, что сопровождался полным нежеланием считаться с изначальной структурой застройки: вместо того чтобы продолжать уже существующие улицы, приспосабливая вновь освоенное пространство к общей градостроительной логике, застройщики превращают их в тупики. Таким образом, рост города сопровождается социальной дифференциацией кварталов. Роскошные жилища привилегированных горожан не находят себе места в тесной ткани первоначального поселения, предполагаю щей — до некоторой степени — социальное равенство, но присваивают пространства, освободившиеся после разрушения крепостных стен и изъятые из коллективной собственности, или располагаются в новых кварталах на окраинах.
В Африке мы имеем исключительную возможность по следовательно проследить эволюцию города. Однако модель эта не уникальна. В марокканском Банасе центральная часть поселения представляет собой ортогональную структуру, несомненно восходящую к эпохе Августа, что позволяет определить время основания этой колонии. В результате ситуация очень напоминает то, что происходило в Тимгаде: крупные жилые комплексы по большей части расположены на периферии, за пределами изначальной жестко структурированной территории.
Эволюция населенных пунктов, центр которых не был организован в соответствии со строгой ортогонально ориентированной градостроительной логикой, выстраивается приблизительно по одной и той же схеме. В таких случаях большая гибкость структуры города, а также случайности, неизбежные в процессе долгой эволюции, часто благоприятствовали тому, что дома крупных собственников возникали в непосредственной близости к сердцу города. Так было в Тугге и Булла Регия, где дома, имеющие достаточную площадь для того, чтобы комнаты располагались вокруг перистиля, соседствуют с форумом. Все это, однако, справедливо только отчасти: domus’ы центральных кварталов никогда не достигают площади, которая могла бы сравниться с самыми престижными африканскими домовладениями.
Пытаться, не принимая во внимание историю каждого конкретного поселения, сформулировать некие общие правила, в соответствии с которыми возводились дома богатых горожан, — дело практически безнадежное. Когда город интенсивно развивается, зажиточные кварталы возникают на периферии городского ядра, какова бы ни была его первоначальная структура. Пример Волюбилиса, поселения, которое никогда не имело строго ортогонального градостроительного плана, вполне сопоставим с примером Тимгада. На протяжении целых столетий в этом древнем городе самым распространенным оставалось жилище скромных размеров, перистиль же был исключительно редким архитектурным решением. Крупные жилые комплексы также строились на периферии, в частности в северо–восточном квартале (рис. 4), возникшем в результате широкомасштабной операции с недвижимостью, которая позволила каждому владельцу приобрести участок площадью примерно 1200 квадратных метров, если не более того. Эволюция Волюбилиса также практически идентична эволюции Тимгада: расширение площади застройки сопровождалось социальной дифференциацией кварталов. Зажиточные горожане, не имея возможности реорганизовать плотно застроенный центр в соответствии со своими нуждами, превращают в модный квартал пригородное пространство.
Напротив, в более мелких поселениях, где не было значительной урбанистической динамики, ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь местные элиты были вынуждены искать необходимое для них пространство в пределах старого города. Несомненно, именно этим объясняется тот факт, что в небольших городах богатые собственники старались любой ценой расширить принадлежавшую им территорию, возводя свои domus’ы где только можно. При этом им приходилось мириться со множеством неудобств: приобретать участки либо очень неправильной формы, либо слишком ограниченной площади, явно не соответствовавшие их амбициям.
С этой же точки зрения следует рассматривать и еще одну любопытную проблему жилищной архитектуры, по поводу которой уже пролит не один литр чернил. Речь идет о подземных этажах, которыми снабжены многие богатые частные дома в Булла Регия. Такое архитектурное решение само по себе не было из ряда вон выходящим, напротив, оно полностью вписывается в процесс развития римской архитектуры, и хотя им редко пользовались на равнинных территориях, подобных той местности, где стояла Булла Регия, некоторые параллели отыскать будет не сложно. Тем не менее на данный момент Булла Регия — единственный римский город, в котором обнаружено настолько большое количество зданий, чьи владельцы пытались расширить их полезную площадь, зарываясь в землю.
[51] Климатические преимущества таких построек очевидны, одна ко сами по себе они не объясняют до конца тот факт, что во множестве других мест с таким же, в зависимости от времени года, жарким или холодным климатом, не возникла подобная же архитектура. Наиболее интересна в данном отношении теория существования особой местной школы, однако она воз вращает нас все к той же проблеме: почему школа эта появилась именно здесь? На самом деле ответ можно найти, сопоставив потребность местных элит в расширении площади, занимаемой их домами, с тем, что город практически не имел возможности разрастаться: богатые собственники только потому готовы увеличивать пространство, которым владеют, причем ценой весьма дорогостоящих работ, что не имеют другого решения. Исследования, проведенные на окраине этого древнего пуническо–нумидийского поселения, продемонстрировали, что город, элита которого развивалась весьма динамично и регулярно поставляла своих представителей в римский сенат, сам по себе безнадежно застыл в пределах своих овеянных вековой славой стен. На его окраинах так и не появился ни один сколько–нибудь значимый квартал. Правящий класс не мог строить жилье в новых, растущих районах: в данном контексте тяга к созданию подземных этажей вполне объяснима.
Таким образом, мы имеем возможность проследить некоторые основные принципы, определявшие эволюцию африканских городов. В интенсивно развившихся городах элиты, стремясь занять как можно больше пространства, переносили свои жилища на периферию. В городах, развивавшихся менее динамично, контраст между разными кварталами кажется не столь заметным, а владельцы богатых домов, за редким исключением, пытаются усовершенствовать свои жилища в исконно заданных пределах, кто во что горазд. Конечно же, степень ригидности старых городских центров переоценивать не следует. Несмотря выраженную тягу к сохранению status quo, они в течение столетий подвергались медленной перепланировке. Самым простым и распространенным способом было слияние соседних владений. В Булла Регия (рис. 7) «Дом Охоты» сохранил следы первоначального деления на четыре участка прямоугольной формы и примерно одинаковой Пощади. Два из них, ориентированные с востока на запад, Расположены по краям «Дома», два других, ориентированных севера на восток, занимают его центральную часть. Такая организация пространства обусловлена наличием единого градостроительного замысла, в чем легко убедиться, взглянув на план города: в то время как более ранние участки имеют контуры неправильной формы, соответствующие расположению улиц, строившихся без четкого руководящего принципа, «Дом Охоты», напротив, может похвастаться правильными очертаниями, которые вполне соответствуют общей ортогональной уличной структуре. Раскопки наглядно показали, что эта структура была создана в эллинистическую эпоху, во времена нумидийской монархии. Установлено также, что зона застройки продолжается к западу, однако на данный момент невозможно уточнить ее масштабы.
Следовательно, речь идет о перепланировке квартала (поскольку земля ранее уже была освоена) согласно принципам, напрямую заимствованным из греческой градостроительной практики. Строгость этих принципов напоминает, в совершенно ином историческом контексте, классическую стройность более поздних римских колоний. Площадь, изначально выделенная каждому собственнику, составляла примерно 500 квадратных метров и позволяла, в лучшем случае, создать лишь небольшой перистиль; фрагменты здания на южном участке показывают, что иногда так и делалось. В течение трех столетий эллинистическая структура остается неизменной: лишь в эпоху Северов, вероятно, в начале III века, происходит слияние южного участка с центральным и восточным. С этого момента начинается перестройка жилища: на севере возводится большой перистиль, тогда как второй маленький перистиль в южной части исчезает. Стремление к увеличению площади остается актуальным на протяжении долгого времени, с течением которого меняются потребности владельцев: к середине IV века они смогли присоединить второй центральный участок, уступив лишь незначительную часть территории северному соседу, что позволило построить термы и домашнюю базилику. За полтора столетия площадь жилого комплекса была утроена, а планировка полностью изменена: в давно обжитом квартале, практически в центре города, появился настоящий domus, занимающий площадь примерно 1500 квадратных метров.
Подобные операции производились достаточно часто и представляли собой одно из наиболее эффективных средств преобразования структуры города. В первоначальном центре Волюбилиса, где дома занимали в среднем по 500 квадратных метров, единственный крупный жилой комплекс — это «Дом Орфея», площадь которого превышает 2000 квадратных метров, что является результатом слияния четырех или пяти участков. Таким же образом наиболее крупные жилища смогли появиться в центре города в Куикуле: «Дом Европы» (рис. 15), занимающий около 1400 квадратных метров, еще сохраняет следы объединения существовавших ранее участков.
Другая возможность, которой пользовались желающие расширить свои земельные владения, — захват уличного пространства. Сужение пространства, предназначенного для уличного движения, в пользу жилых домов — вполне распространенное явление. Раскопки «Дома Охоты» позволили детально изучить, каким именно образом он был расширен. Поскольку финальное состояние сохранило правильную геометрическую форму исходного варианта планировки, можно было бы подумать, что расширение изначального плана постройки было единовременным действием или по крайней мере что перенос каждой стены фасада был осуществлен за один раз. На самом же деле ничего подобного не происходило, и эволюция этой инсулы представляет собой целую серию последовательных операций. Если выражаться более конкретно, то владельцы, судя по всему, извлекли пользу из масштабных работ по дорожному строительству (улицы вымостили плиткой, перед этим достаточно существенно подняв уровень дорожной поверхности, дабы облегчить устройство сети водостоков): они выдвинули некоторые участки стен здания вперед. Все эти выступы мало–помалу были выровнены таким образом, что постройка, расширившись, вернула себе исходную форму. Эти перестройки, однако, не являлись следствием стихийного самозахвата: каждая операция, по всей видимости, была проведена с разрешения местных властей. Показательна в этом смысле неудавшаяся попытка владельца «Дома Охоты» устроить в своих термах бассейн за счет пространства западной улицы. Это относится к более позднему периоду, но никак не позже IV века. Однако бассейн был обрезан и тщательно засыпан — вероятнее всего, вследствие энергичной реакции властей. Отсюда можно заключить, что по крайней мере до IV века местные власти продолжали достаточно жестко контролировать большую часть подобных нарушений кадастра. Предположение это представляется достаточно обоснованным, поскольку и в других городах подобная же политика проводилась весьма последовательно: так, в Утике, где фасады большинства инсул были перестроены так, чтобы захватить очередной кусок уличного пространства, владельцам, судя по всему, через какое–то время пришлось все отыграть обратно.
Впрочем, были, видимо, и такие домовладельцы, которые умудрялись осуществлять свои экспансионистские планы со всей возможной ненавязчивостью и гибкостью, даже если дома их находились в самом сердце старых, застывших в при вычном состоянии городов. Постепенное расширение «Дома Охоты» позволяет констатировать, что примерно через пять столетий после появления эллинистической системы улиц приобретенное пространство составляет по меньшей мере 200 квадратных метров, то есть первоначально имевшаяся в распоряжении домовладельцев площадь увеличивается при мерно на 10 процентов. Существовала, впрочем, возможность и куда более радикальная: присоединить пространство улицы полностью. Это позволяло не только захватить более обширные фрагменты публичного пространства, но еще и осуществить слияние участков, когда–то разделенных осью коммуникации. Подобные операции, конечно же, могли кардинальным образом модифицировать городской ландшафт. Расширение «Дома Рыбалки» в Булла Регия превратило переулок в тупик: прохожий просто–напросто упирается в стену, за которой начинается жилое пространство. В центре колонии в Тимгаде только этот прием мог позволить владельцам домов значительно увеличить площадь, изначально выделенную каждому кварталу, — что, в свою очередь, приводило к слиянию некоторых кварталов воедино (рис. 5).
Подобного рода факты вписываются в рамки отношений между частными и публичными пространствами внутри города — отношений, юридического аспекта которых нельзя не учитывать. С самого момента возникновения римское право старалось осмыслить эту проблему: в основном предпринимались попытки согласовать права владельцев соседних участков. С началом эпохи Империи роль государства возрастает, как показывает сенатус–консульт 45 или 46 года, регулирующий спекуляции недвижимостью в Риме. Начиная с этого времени утверждается новый тип общественного контроля над правами частных собственников. Законодательство поздней Римской империи, в соответствии с этой тенденцией, демонстрирует достаточно сложную систему отношений между правами отдельных лиц и прерогативами центральной власти.
[52] Отдельные его положения самым недвусмысленным образом утверждают примат последней: так, в конце VI века появляется процедура самой настоящей экспроприации в силу общественной необходимости.
Ситуация, однако, вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд: целый ряд принятых мер указывает на попытки властей защититься от злоупотреблений отдельных лиц которые незаконно присваивали те или иные площади около публичных зданий или даже внутри последних, уродуя их возведением импровизированных дощатых или каменных перегородок. Уже Ульпиан, юрист эпохи Северов, был вынужден обратиться к этой проблеме: обязанность судить о том, нужно ли высылать граждан, посягающих на публичную собственность, или же просто облагать их налогом, возлагается на правителя провинции: решение он должен принимать исходя из интересов города. Документ, составленный в 409 году наглядно иллюстрирует возникающую время от времени для центральной власти необходимость вести оборонительную борьбу за свои собственные здания даже в столице: «Все места, которые во Дворце Нашего Города [Константинополь] были неподобающим образом заняты частными постройками, должны быть как можно скорее освобождены посредством сноса всех сооружений, которые находятся в вышеупомянутом Дворце. Оный не должен быть стиснут стенами частных владений, так как Власть имеет право на обширные пространства, дабы находиться на расстоянии ото всех…» (С. Th.
[53], XV, 1, 47).
Государство чаще всего пытается находить средства мирного урегулирования, способствующие гармонизации отношений публичного и частного, и время от времени властям приходится балансировать между желанием покарать за ущерб, причиненный общественной собственности, и заботой о получении налоговой прибыли от уже совершенных злоупотреблений, что, в свою очередь, поощряет последние. Сохранились постановления, которые специально регламентируют порядок предоставления общественных мест в частное пользование, при условии сохранения дееспособности публичного учреждения как такового и отсутствия ущерба для внешнего вида городов (С. Th., XV, 1, 4, 3). Если общая направленность подобной эволюции ясна, сам этот процесс, однако, не линеен, и в нем нс следует усматривать стремления официальных органов власти к уничтожению частной собственности. Эти тексты, реальная действенность и область применения которых до сих пор за частую мало изучены, не позволяют как следует разобраться в образе действий местных властей: впрочем, на то, как дело обстояло в действительности, намекают некоторые пассажи имперских законов (например, С. Th., XV, 1, 33, 37 или 41). Как правило, внутри каждого города выстраивается своя система отношений между сферами частной и общественной собственности, учитывающая взаимные обязательства и баланс сил, причем и то и другое может существенно меняться в зависимости от эпохи и конкретных личных интересов тех или иных лиц. Крайне редко в нашем распоряжении оказывается текст, касающийся подобных эпизодов, такой как надпись из Помпей, датированная временем правления Веспасиана, где упоминается трибун, который заставил произвести возврат (реституцию) общественных территорий, присвоенных частными владельцами (CIL
[54], X, 1018 = Desseau
[55] 5942). Чаще же всего только археология позволяет догадываться о ситуациях подобного рода: история «Дома Охоты» в Булла Регия с его успешными, но не выходящими за определенные границы захватами прилежащих уличных площадей, с тягой к присвоению публичной собственности настолько же очевидной, насколько привыкшей к тому, что ее держат на строгом поводке, позволяет оценить всю сложность описываемого явления.
Внутренняя планировка domus’a ставит перед нами важный вопрос: свойственно ли было представителям римских имущих классов мириться с незыблемой архитектурной рамкой, с модусом существования, подобным тому, в котором пребывают аристократические особняки в современной Франции, мало изменившиеся за достаточно длительный период времени? Конечно, существуют вещи, не считаться с которыми трудно. Стены зачастую строились на века, и хотя бы поэтому основные Черты жилых домов могли подолгу оставаться неизменными. В первую очередь это справедливо в отношении зданий, которые сразу возводились на достаточно обширных участках. Более хрупкие элементы, такие как мозаичный декор, также могут использоваться достаточно долго: чаще всего к концу своего существования дом может похвастаться фрагментами мозаичного пола, относящимися к совершенно разным эпохам. Даже дорогие предметы мебели, по всей видимости, переходят из поколения в поколение либо по наследству, либо через по средство торговцев произведениями искусства. Этот феномен со всей очевидностью продемонстрировали специалисты, занимавшиеся, к примеру, изучением бронзовой мебели из Марокко.
[56] Было замечено, что фрагменты предметов роскоши, зачастую очень древних, обнаруживались главным образом в поздних слоях, соответствующих упадку городов. Более того, в одной и той же комнате в «Доме Свиты Венеры» (рис. 22, комната 11) в Волюбилисе было обнаружено несколько принадлежавших, по всей вероятности, одному ложу фрагментов, два из которых, выполненные из бронзы, особенно интересны. Первый представляет собой великолепно сделанную голову мула и датируется I веком, второй, посредственного качества, изображает голову Силена и принадлежит к более поздней эпохе. Эта находка дает конкретный пример того, насколько долго могла использоваться дорогая мебель: ложе было отремонтировано местным мастером, стиль которого резко отличается от стиля его предшественников.
То обстоятельство, что владельцы теми или иными способами старались поддерживать постоянство плана и декора зданий, не должно, однако, скрывать еще одного, не менее существенного факта: фундаментальной характеристикой интерьерных пространств жилых зданий является столь же постоянная наклонность к трансформациям. Это позволяют понять лишь самые тщательные раскопки. Так, на первый взгляд, кто мог бы предположить, что большой перистиль «Дома Охоты» в Булла Регия (рис. 8), с большой северной экседрой, выходя щей на колоннаду, претерпел существенную перепланировку?
Изначально с восточной стороны не было ни одной комнаты: двор (размером 6 на 5 колонн, а не 6 на 4, как сейчас) и портики занимали всю ширину присоединенного участка. Пространство, необходимое для строительства маленьких комнат в восточном крыле, появилось позднее, когда был уменьшен дворик перистиля и одновременно стена восточного фасада передвинута с присвоением части уличной территории.
Фактически, дом, который бы многократно, по крайней мере в тех или иных деталях, не перестраивали, изменяя объемы залов или переходы между ними, отыскать практически невозможно. В некоторых случаях можно даже воссоздать масштабную программу работ, реализация которых существенно трансформирует жилое здание. Так, в «Новом Доме Охоты» в Булла Регия во второй половине IV века владелец решил построить подземный этаж — конечно, достаточно скромных размеров — тем не менее это повлекло за собой временное разрушение значительной части северного крыла здания (рис. 8, 9). Параллельно он приступает к замене большинства напольных мозаик первого этажа. Таким образом, кардинально изменилась не только организация архитектурного пространства здания, но и его оформление.
Частота и, иногда, размах перемен, которые затрагивают домашнюю архитектуру, заставляют задаться вполне логичным вопросом: каким именно образом эти работы задумывались и выполнялись? Ответ можно найти, только если самым внимательным образом изучать городские руины.
Подземный этаж «Дома Охоты» в Булла Регия был построен в эпоху Северов по достаточно простому плану. Он включает в себя небольшой квадратный подземный перистиль, центральный дворик которого окружен восемью колоннами (рис. 9). Комнаты размещаются только с двух сторон — северной, где находится также входная лестница, и — главным образом — западной, где расположено главное крыло. Композиция последнего основана на простых классических формулах: просторный зал с тремя входными проемами (речь идет о триклинии, или столовой) окружен двумя спальнями, двери которых, смещенные по отношению к осям этих комнат, продолжают трехчастную композицию входа в столовую. Следовательно, речь может идти о едином плане, основанном на принципах иерархии и симметрии. Однако конструкция обнаруживает шокирующие несуразности. Особенно удивительно то, каким образом перистиль соединяется с западным крылом. Эти два основных элемента действительно смещены друг относительно друга настолько, что принцип симметрии, лежащий в основе концепции главного крыла, не распространяется на его сочленение с пространством, включающим колоннаду, — несоответствие, которое значительно ослабляет эффект всей композиции.
Как интерпретировать подобные аномалии? Нужно ли расценивать их как оплошности, возникшие вследствие того, что рабочие и заказчики мало заботились о деталях? Или же стоит видеть в этом доказательство слабого понимания классической архитектурной композиции, сопровождая такое объяснение сетованиями на провинциализм, поскольку речь идет об Африке? Проблема, возникающая таким образом перед нами, тем более интересна, что подобного рода интерпретации меняют подход к изучению условий жизни в Античности, характерный для множества недавних исследований.
Эта позиция предполагает прежде всего уточнение понятия ремесленной продукции и, как следствие, отказ от привычки считать любой античный предмет произведением искусства. Подход несомненно правомерен в той степени, в которой он расходится с концепцией чрезмерной эстетизации Античности, но и здесь можно легко дойти до крайностей. Такие приемы, как имитация мозаичного пола на современных паласах или настенных росписей на обоях, эффективно демифологизируют сами эти предметы, однако маскируют некоторые весьма существенные аспекты и создают опасность того, что исследователь перестанет учитывать способность мастеров сугубо ремесленнического уровня к адаптации высоких образцов. Необходимо добавить, что тиражность античной архитектурной и декоративной продукции сама по себе не является очевидным доказательством ее ценности: в значительно большей степени она может свидетельствовать о том, что потребности у средиземноморских правящих классов были достаточно униформными, нежели о том, что строители чисто механически воспроизводили одни и те же модели.
Кроме того, подобная позиция недооценивает роль заказчика. Сталкиваясь с продукцией по сути однотипной, он с самого начала — в лучшем случае — имеет дело только с общими чертам плана и декора. Незаинтересованный, некомпетентный или неспособный заказчик не мог бы действенно вмешиваться в работы, которые финансировал.
В целом все эти рассуждения ставят под вопрос само представление о некой заранее выработанной программе строительства, которое подразумевает четко сформулированный заказ и строгий контроль за его исполнением со стороны собственника: и способность в минимальной степени отступать от проекта — со стороны строителей. Не следует, к примеру, исходя из подобной оптики, анализировать неправильности подземного этажа «Дома Охоты»: все эти неправильности надлежит всего лишь констатировать и фиксировать, чтобы попытаться затем представить себе те рамки, которыми ограничены как свойственные римским правящим классам представления о качестве жизни, так и чисто технические архитектурные возможности, которыми они располагали для удовлетворения оных.
Так, раскопки подземного этажа «Дома Охоты» позволили установить истинную причину отступлений от симметрической композиции. В действительности они возникли в Результате расширения предыдущего подземного помещения, полностью перестроенного. Созданный в итоге перистиль занимает то место, где первоначально были расположены комнаты, выходившие на запад, в длинный западный портик. Северное и западное крылья — в основном более поздней постройки. Именно такая история угадывается, в частности, за основной композиционной несуразностью, состоящей в несовпадении осей триклиния и перистиля. Таким образом, логика произведенных работ более или менее ясна: исходя из существующего положения вещей, владелец производит экономический расчет, взвешивая «за» и «против», возможные выгоды от вносимых в план здания изменений и предполагаемые затраты, и выбирает тот вариант, который представляется ему наилучшим соотношением цены и качества.
Впрочем, внимательное изучение архитектуры и декора показывает стремление максимально сгладить несимметричность, что предполагало восстановление части первоначальных стен. Чтобы максимально сблизить главные оси, северную спальню построили меньшей по размеру, чем южную, что позволило передвинуть триклиний, насколько возможно, к северу. По той же причине северный портик шире южного: это позволяет достичь почти идеального расположения колоннады. Кроме того, перед центральным входом в триклиний геометрическая мозаика, украшающая портики, прерывается, уступая место фигуративной сцене, очень плохо сохранившейся до настоящего времени. Северный бордюр мозаики слегка скошен, так, чтобы как можно более гармонично объединить колонны триклиния и перистиля. Впрочем, отметим, что если некоторые изъяны конструкции, обусловленные повторным использованием первоначальных стен, например сужение западного портика к южному краю, были сохранены, то другие, видимо, показавшиеся домовладельцу вовсе уже непозволительными, как раз напротив, были устранены ценой значительных усилий строителей. В частности, южную стену перистиля полностью перестроили таким образом, чтобы придать пространству другую форму: в ходе раскопок была обнаружена стена первоначального плана подземного этажа, расположение которой, очевидно, не соответствовало новому проекту.
Все эти усилия доказывают, что в данном случае не может быть и речи о некомпетентности, о работе по принципу «и так сойдет» или о провинциализме. Фактически мы имеем дело с самостоятельной концепцией жилищного строительства, которая осознанно интегрирует противоречивые данные и пытается найти оптимальное решение поставленной задачи. Тот способ, которым в конечном счете были соединены западное крыло и перистиль, как раз и символизирует достигнутое равновесие. Не имея возможности совместить две оси, строители организовали пространство так, чтобы эти два ансамбля согласовывались по диагонали, соединяющей северо–восточный угол перистиля с юго–восточным углом триклиния и проходящей через две угловые колонны. Отказ от принципа строгой симметрии не сделал композицию менее стройной и визуально эффектной.
Итак, нам представляется, что попытка судить о качестве жилищной архитектуры и о той роли, которую она играла в жизни современников, основываясь лишь на очевидном, была бы ошибочной. Большая часть отступлений от классических канонов объясняется необходимостью считаться с теми или иными конкретными условиями и попытками найти гармоничное и осуществимое на практике решение. Реализация же такового может приводить к новым нарушениям, которые невозможно понять, если рассматривать их изолированно от общего замысла. Поэтому, прежде чем критиковать недостатки, нужно убедиться, что они не обусловлены логикой самого проекта.
Можно было бы провести такой же анализ подземного этажа соседнего «Нового Дома Охоты», построенного полтора столетия спустя, замысел которого может с первого же взгляда
поразить наблюдателя тем, насколько компетентными в данном случае оказались заказчик, строители и городские власти (рис. 9). С этой же точки зрения имеет смысл рассматривать замечания некоторых археологов, в частности Ж.-П. Дармона, подчеркивающего, что в «Доме Нимф» в Неаполе архитектор и мозаичист сходным образом способствовали созданию иллюзии прямоугольного перистиля, там, где в действительности пространство было трапециевидным, первый — заботой о том, чтобы немного подвинуть колоннаду, второй — легкими нарушениями, внесенными в мотивы мозаичного пола.
[57] Жизненные практики правящих классов не являются продуктом механического сочетания попыток скопировать классические образцы — с врожденной безответственностью или неспособностью адаптироваться к контексту. Все упомянутые выше здания построены в соответствии с более или менее продуманными проектами, причем заказчик играл в их разработке и реализации весьма существенную роль и принимал решения, исходя из собственных потребностей и финансовых возможностей.
ПРОСТРАНСТВА «ЧАСТНЫЕ» И «ПУБЛИЧНЫЕ»: СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ DOMUS’A
Как мы подчеркнули во введении, все внутренние пространства domus’a принадлежат к сфере частного. Однако как жизнь внутри дома имела целую гамму модальностей — от полного уединения до приема большого количества посетителей, с которыми хозяин мог не поддерживать близких отношений, — так и жилые пространства характеризуются весьма различной степенью прозрачности по отношению к внешнему миру. Поэтому, чтобы попытаться понять природу различных элементов, составляющих domus, мы считаем возможным использовать терминологию, связанную с дихотомией частного и публичного, постоянно помня о том, что с помощью этих терминов нам нужно уловить конкретную степень открытости того или иного пространства, каждое из которых, несмотря на все различия в модальностях, относится к частной сфере.
Взаимосвязь внутреннего и внешнего
Как с логической, так и с топографической точки зрения первая проблема, с которой сталкивается исследователь, — это проблема того, как пространство улицы связано с пространством жилища. Крупные domus’ы зачастую имеют несколько входов, но в любом случае существует вход главный, и это именно то место, где — символически и на практике — осуществляется переход между внутренним и внешним пространствами. Именно там Тримальхион велел повесить объявление, гласившее, что «каждый раб, который выйдет из дома без приказа хозяина, получит сто ударов». Во всех известных нам текстах это место сопряжено со множеством коннотаций. Идет ли речь об изобличении дурных нравов какого–нибудь семейства, и участник судебного разбирательства заявляет, что под окнами горланят песни и дверь в любой момент готова открыться нараспашку, только пни ее ногой: неуважение к сакрализованному пространству входа и выхода доказывает, что такой дом не может быть ничем иным, кроме как притоном (Apul., Apol., LXXV). Также и в многочисленных сценах грабежей, которыми изобилуют «Метаморфозы», входная дверь играет решающую роль в успехе или провале предприятия: стоит только преодолеть эту преграду и ограблению больше ничего не препятствует — если, конечно, не считать опасности разбудить соседей. Дверь охраняет собственность как некая моральная инстанция.
 Рис. 10.
Рис. 10. Ачолла, «Дом Нептуна» (Gozlan S. Karthago, 16, 1971–1972, fig. 2). Перистиль с экусом на западе, триклинием на юге и спальнями с ведущими в них прихожими или коридорами на юго–западе. Я хотел бы выразить здесь благодарность М. Е. Васту, фотографу Университета аудиовизуальных технологий (UAV) Высшей нормальной школы (ENS) в Сен—Клу, который помог мне в работе над этими материалами
Это стратегическое место — предмет особой заботы проектировщиков. Во многих случаях портик, образуемый двумя колоннами, поддерживающими крышу, подчеркивает значимость этого двойственного пространства, которое, еще не будучи в полном смысле этого слова частью домашнего интерьера, зачастую вторгается в пределы улицы. Реальная граница маркирована створками двери, и переход устроен сложно: чаще всего это не одна дверь, а два или даже три прохода, отчетливо иерархизированных. Широкий дверной проем, закрываемый двумя створками, фланкирован одним или двумя более узкими входами. Вопреки тому что иногда пишут, речь идет вовсе не о въездных воротах и о двери, через которую люди ходят на своих двоих: тот способ, которым двери и пороги используются в контексте общей системы жилых помещений, не позволяет полагать, что даже самая маленькая Повозка могла бы проехать через этот проем. Фактически речь идет о том, что один вход делился на несколько частей, что давало возможность варьировать степень «открытости» дома в зависимости от ситуации: как правило, пользовались одним только малым входом, скромные размеры которого подчеркивают границу между пространством внешним и пространством домашним; иногда, наоборот, открывали главный вход: это, вне всякого сомнения, происходило в тех случаях, когда хозяин дома давал какой–нибудь важный прием, и, вероятнее всего, еще и по утрам, чтобы обозначить момент, когда он изъявляет согласие принимать знаки почтения от своих клиентов.
Вход в жилище является, таким образом, местом непростым и весьма значимым, поскольку по одному только его виду в разное время суток и в разные дни можно сделать вывод о том, на каких условиях дом в данный момент готов общаться с внешним миром. Стоит ли удивляться, что он получает и особое архитектурное оформление, отражающее амбиции владельца: многим согражданам никогда не суждено пересечь данную границу, и это прекрасный способ продемонстрировать им свое богатство. Архитектурные решения, ориентированные именно на подобного рода семантику, широко распространены в зажиточном северо–восточном квартале Волюбилиса, и прекрасный тому пример — «Дом Подвигов Геракла»: две небольшие полуколонны обрамляют малый вход, вся композиция которого украшена лепным орнаментом; главный вход с обеих сторон фланкирован сдвоенными полуколоннами. Таким образом, сам внешний облик входа позволяет прохожему составить представление о роскоши жилища, а клиенту дает понять, как, в зависимости от времени дня, следует себя вести.
Пройдя через главный вход, посетитель сразу попадает в вестибюль: пространство также переходное, но уже принадлежащее собственно к дому, где вошедший сразу оказывается под контролем. Стоя в вестибюле, сам он, чаще всего, имеет возможность оглядеть лишь крайне ограниченный объем внутреннего пространства. Как правило, это место находится под наблюдением привратника: ianitor нередко упоминается в текстах, и очень часто в руинах домов находят небольшое помещение, выходящее непосредственно в вестибюль; по всей видимости, оно служило комнатой для рабов, обязанностью которых была охрана входа. Вестибюль, как и другие переходные пространства, должен отражать пышность дома и демонстрировать ее всякому входящему. Описывая дворец Психеи (речь идет об утопии, однако в нашем случае это не умаляет ценности текста), Апулей подчеркивает, что божественная природа жилища бросается в глаза сразу же, как только попадаешь в него (Met., V, 1): богатство дома должно поражать своим великолепием от самых дверей. Витрувий помещает вестибюль между комнатами, которые в домах владельцев с высоким достатком должны быть просторны и роскошны, и торжество этого принципа прекрасно подтверждают руины зданий. Особенно примечательно, что в большинстве богатых domus’ов входной вестибюль является одним из самых больших помещений. Случается также — и подобными архитектурными решениями весьма богат северо–восточный квартал Волюбилиса (рис. 11), — что вестибюль ведет прямо в перистиль через тройной проем, масштабная композиция которого перекликается с композицией главного входа. Небольшая колоннада, сооруженная в самом вестибюле, также может усиливать впечатление о богатстве домовладения: именно так обстояло дело в «Доме Кастория» в Куикуле или в «Доме Сертия» в Тимгаде (рис. 14 и 19). Однако один из самых ярких примеров того, насколько важное значение придавали прилегающей ко входу части здания, нам дает «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе (рис. 12), городе во внутренней части Туниса. Позади длинной Двадцатиметровой галереи, соединяющей комнаты, которые образуют два выступа по фасаду здания, находятся расположенные фактически бок о бок три входных вестибюля; они соответствуют трем иерархизированным входам. Главный вход позволяет попасть в центральный зал, размещенный на оси симметрии здания: имея площадь около 70 квадратных метров, он является самым обширным помещением этого памятника. Внимание, уделенное декору, отвечает архитектурному размаху: стены облицованы мраморной плиткой, пол покрывает масштабная мозаичная композиция, изображающая морские сюжеты; сложность и качество исполнения мозаики свидетельствуют о том важном значении, которое придавали этому месту. Два боковых вестибюля фактически продолжают центральный зал. В каждом из них находится открытый бассейн, обращенный к центру, и, по сути, они играют роль проходов, позволяющих попасть в комнаты, расположенные по краям от них. Свойственная всей композиции идеальная симметричность последовательно выдерживается по всей площади здания.
 Рис. 11.
Рис. 11. Волюбилис, вход в «Дом Подвигов Геракла» (Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. PL XXXIII)
 Puc. 12.
Puc. 12. Альтибурос, «Дом Асклепиэй», первое описание (Ennaifer М La Cite dAlthiburos et I’Edifice des Asclepieia. Tunis, 1976. Plan V). Позади фасадной галереи три двери ведут в самый большой вести бюль и в два других, с портиками вокруг бассейнов. Во дворике пери стиля — сад: слева и справа — триклинии; приемная экседра, на мозаике которой изображен агонистический венок, — в глубине, то есть на севере
Забота собственника об оформлении места, где осуществляется переход из внешнего пространства во внутреннее, была практикой распространенной и устойчивой, однако это никоим образом не исчерпывает проблемы отношений между этими двумя зонами в римской жилищной архитектуре. Своеобразные анклавы публичности можно отыскать в огромном количестве domus’ов. Помещения, предназначенные для экономической деятельности владельца, доступ к которым чаще всего осуществляется через большой центральный вход, в этом качестве рассматривать нельзя. Специфика данного сектора не делает его чужеродным жилищу, поскольку именно через его посредство осуществляется, в частности, снабжение всего домохозяйства. Иначе дело обстоит с торговыми лавками, которые зачастую располагаются по фасаду домов (рис. 8, 21 и 24). Некоторые из них могли использоваться самими собственниками для сбыта части принадлежащих им товаров (что совершенно очевидно, когда лавка непосредственно сообщается с domus’ом (рис. 23 и 24)); впрочем, нередко их сдавали внаем. В этом случае лавка представляет собой сложное пространство, архитектурно интегрированное в жилое здание (особенно когда подобные помещения расположены симметрично по обеим сторонам от входного вестибюля), но функционирующее вполне автономно (рис. 24). Кроме того, такие лавки демонстрируют весьма прихотливое смешение частного и публичного измерений с коммерческой деятельностью: иногда арендатор живет там со всей своей семьей, и когда лавка закрыта, она превращается в жилище.
Существует, наконец, и еще один, последний анклав публичности в однородном, ориентированном на конкретную семью мире domus’a: речь идет о квартирах, сдававшихся внаем посторонним людям, — практика, о которой часто упоминается в текстах сугубо италийских, но засвидетельствованная и в Африке. Разве не был Апулей обвинен в совершении ночных жертвоприношений в domus’e некоего Аппия Квинтиана, у которого один из его друзей снимал жилье (Apol., LVII)? Однако распознать в процессе раскопок эти сдававшиеся внаем части не так–то просто. Тексты и надписи побуждают нас склониться к тому мнению, что съемные квартиры располагались не на цокольном этаже, а выше: наличие лестниц, попасть на которые с улицы не составляет никакого труда, наводит на мысль о том, что в данном конкретном доме могли существовать изолиро ванные комнаты, пригодные для сдачи. Однако верхние этажи зданий, как правило, бывают разрушены, что зачастую делает исследование такого рода помещений практически невозмож ным. Куда, к примеру, вела лестница, основание которой сохранилось в юго–восточном углу «Дома Охоты» (рис. 8) в Булла Регия? На террасы? В комнаты, связанные с domus’ом? Или и отдельные квартиры? Ее расположение в непосредственной близости и от вестибюля, и от главного входа свидетельствует о том, что арендаторы могли свободно пользоваться ею, не жертвуя при этом приватностью своего жилища, но одной только констатации такой возможности явно недостаточно И напротив, с большой долей вероятности мы можем считать предназначенной для сдачи в аренду квартиру в северо–восточном углу «Дома Золотой Монеты» в Волюбилисе (рис. 23). Этот крупный жилой комплекс занимает всю территорию инсульт и маловероятно, чтобы маленькая квартира от него не зависела. Однако она построена именно как автономная: сюда можно попасть с северной улицы через коридор 36, ведущий к комнатам 1 и 16; окно первой выходит на ту же улицу. Кроме того, в помещении 15, судя по всему, была лестница, которая выходила на восточную улицу. Таким образом, две комнаты на первом этаже и три на втором могли сдаваться в аренду. В том же Волюбилисе в доме, расположенном к западу от дворца наместника (рис. 24), вестибюль фланкирован лестницей, выходящей на улицу через одну из трех дверей: она вела, по всей видимости, в квартиры, сдававшиеся внаем, устроенные над торговыми лавками и входным вестибюлем, которые образуют фасад здания. Создается любопытное чередование помещений, имеющих разный статус. Дом был связан с улицей только посредством вестибюля, своеобразного форпоста, окруженного комнатами, предназначенными для сдачи в аренду. С полным основанием следует предположить, что коридор, ведущий к комнатам, расположенным на втором этаже над южным портиком, выходил во дворик перистиля одними только узкими и достаточно высоко расположенными окнами: приватность жилых помещений никак не страдала.
Перистиль
Перистиль — сердце богатого домовладения. Центральный дворик под открытым небом был источником воздуха и света для соседних комнат, а окружающая его колоннада — одним из тех немногих мест, где были возможны сколько–нибудь масштабные и выразительные архитектурные решения. Иногда из-за нехватки полезной площади владельцы были вынуждены Довольствоваться неполным перистилем, отказываясь от одного или двух портиков. Однако чаще всего домовладельцы предпочитали отвести под него большую часть имевшегося в их распоряжении пространства, нежели урезать или радикально сократить его пропорции. В домах самых амбициозных владельцев перистиль достигает значительных размеров: более 350 квадратных метров в «Доме Асклепиэй» в Альтибуросе или в «Доме Павлина» в Тисдре, более 500 квадратных метров в «Доме Рыбалки» в Булла Регия, около 600 квадратных метров в «Доме Лабериев» в Утине.
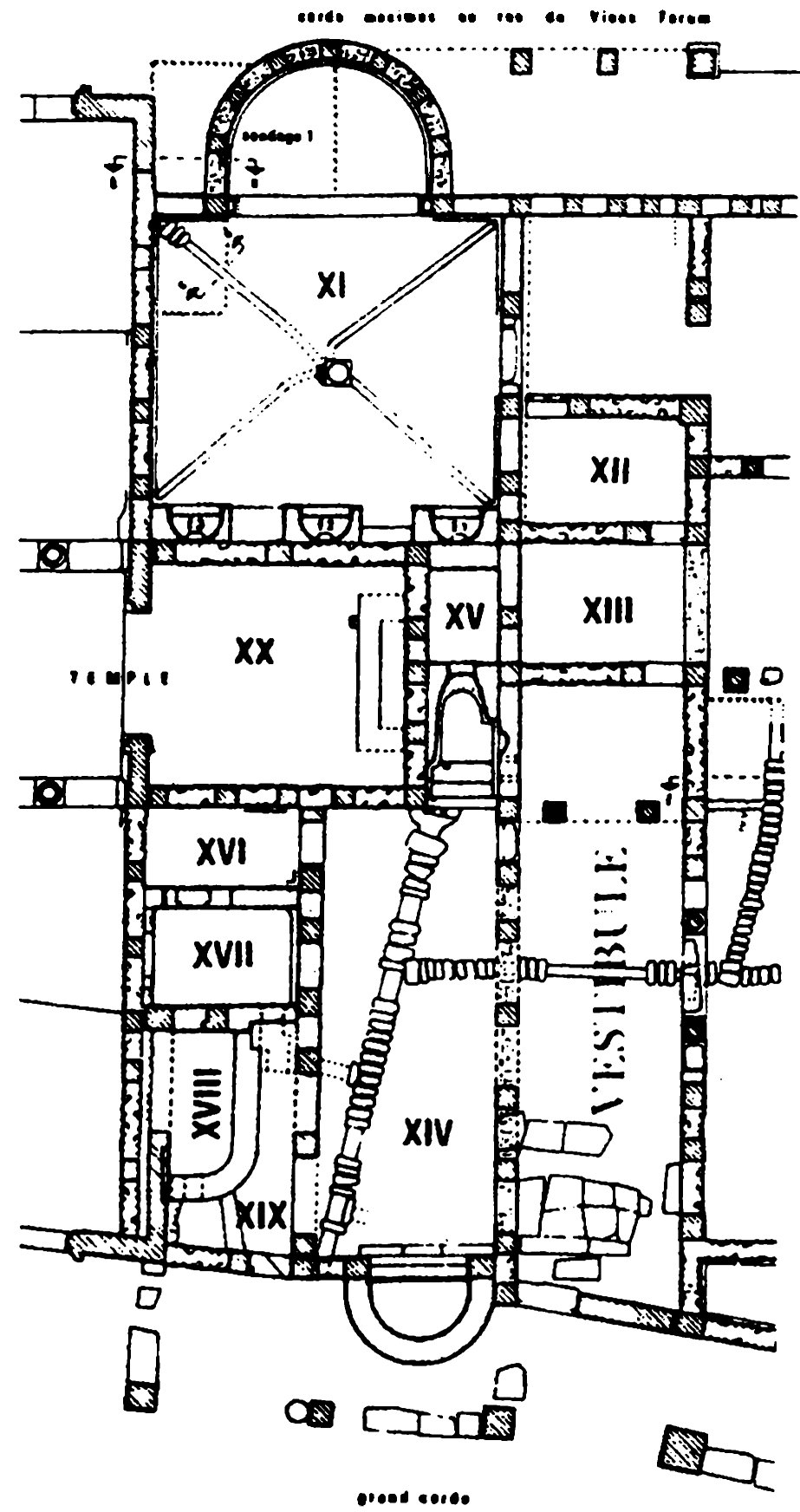 Puc. 13.
Puc. 13. Куикуль, «Дом Осла» (Blanchard—Lemee, Quartier central, fig. 4). XII–XIII: продолжения вестибюля; XIV–XIX: термы, построенные во время расширения территории жилого комплекса к северу, за счет храма, целла (cella) которого (XX) оказалась между ванными комната ми и залом XI, украшенным гротом, посвященным нимфам (нимфей) который расположен напротив алтарного подиума и апсиды, захватывающей часть улицы. Характерный пример разрастания частных зданий в ущерб публичным пространствам
Анализ этого элемента жилого комплекса представляет, таким образом, едва ли не главный интерес; ведь здесь затрагиваются материи куда более тонкие, чем может показаться на первый взгляд. В настоящее время принято считать, что перистиль является средоточием публичной жизни дома: это обширное архитектурное сооружение служит для приема гостей. Планы зданий подтверждают это мнение: очень часто в перистиль не только можно попасть непосредственно из входного вестибюля, но именно на его периферии располагается большая часть приемных залов. Поэтому его колоннады кажутся существенным дополнением для помещений, предназначенных для приема посетителей.
Должны ли мы исходя из этого противопоставить африканский дом, с его перистилем для приемов, жилому дому помпейского типа, с расположенным в передней его части традиционным атриумом, предназначенным для приема посетителей, — при том что перистиль чаще всего был расположен на Другом конце архитектурного комплекса и использовался главным образом для украшения внутренней части дома? Подобное противопоставление кажется чересчур резким. На самом деле нужно прежде всего провести различие между двумя типами посетителей: с одной стороны, простыми клиентами, приходящими поприветствовать патрона и получить свои спортулы, а с Другой — гостями, которых принимали в личных покоях хозяина дома. Атриум помпейского дома приспособлен для приема первой категории, и ни в коем случае не для второй: для этого пользовались столовыми или гостиными, которые чаще всего выходили в перистиль. Таким образом, противопоставление атриума и перистиля помпейского дома в рамках антитезы частного и публичного было бы явным преувеличением.
 Рис. 14.
Рис. 14. Куикуль, «Дом Кастория» (Blanchard—Lemee, ibid., fig. 62). Поскольку площадь дома составляет около 1500 квадратных метров, речь в данном случае идет о самом крупном жилом комплексе центрального квартала Куикуля: он является результатом слияния нескольких участков и разрушения первоначальной крепостной стены. Байонетный план. I: вестибюль (изначально — перистиль одного из предыдущих домов?); IX: вестибюль (с комнатой для привратника X?); XVI: перистиль; XVII: триклиний с трехчастным входом, закрывавшимся дверями; XXII–XXVIII: термы с туалетами; ХХХ-ХХХП: поздние купальни, устроенные на месте тротуара
Как же обстоит дело в богатом африканском доме? Действительно ли настолько очевидно, что исчезновение атриума способствовало увеличению публичной значимости перистиля? Если бы это было так, там должны были бы принимать клиентов, что не подтверждается ни текстами, ни расположением комнат, мало пригодных для подобного рода практик. Фактически, в африканских жилищах функции атриума берут на себя другие залы, расположенные в стороне от перистиля: прежде всего частные базилики, к которым мы еще вернемся, и входные вестибюли. Мы только что констатировали практически повсеместное распространение значительных по площади вестибюлей, и, несмотря на то что не существует какого–либо решающего доказательства в пользу нашего предположения, мы склонны считать, что эти последние, в сущности располагавшиеся почти в том же месте, что традиционный атриум, отчасти унаследовали его функции. Простой анализ планов жилищ зачастую подтверждает пригодность этих вестибюлей для приветственных церемоний. В «Доме Осла» в Куикуле длинный вестибюль завершается чем–то вроде экседры, ограниченной двумя колоннами, позади которой расположены помещения, наводящие на мысль о продуктовых лавках, которые в этом случае следовало бы связать с раздачей спортул. Специфическая значимость вестибюлей особенно ярко бросается в глаза, когда жилые комплексы оказываются результатом слияния нескольких участков. В этом случае, вместо того чтобы выиграть некоторое количество полезной площади, оставив только один вход, владельцы, наоборот, оставляют несколько, причем некоторые из этих промежуточных зон занимают явно несоразмерную площадь, если предположить, что им была отведена скромная роль прихожих. Как можно объяснить, к примеру, существование в «Доме Европы» в Куикуле (см. рис. 15, вестибюли 1 и 26) большого южного вестибюля (1), расположенного далеко от центральной части здания, а следовательно, в том месте, где по логике вещей должен был бы располагаться черный ход, не говоря уже о том, каким странным образом его пришлось соединять с перистилем? Несмотря на то что пол покрыт плиткой, нельзя сказать, что речь идет об открытом помещении: размер трехчастного входа, проемы которого украшены изысканной лепниной, в достаточной степени демонстрирует значимость этого места, и, хотя исследование здания не завершено, анализ его плана заставляет полагать, что это не первоначальный вход, сохраненный при объединении соседних домов, но вход, построенный специально, чтобы в результате этой операции выиграть место. То есть все указывает на то, что вестибюль действительно функционировал как зал для приема клиентов: к нему, как и положено, примыкают дополнительные комнаты, а напротив входа находится крыльцо, которое могло служить подиумом для хозяина дома или по крайней мере обеспечивать его выходу должную торжественность. Кроме того, было бы интересно получше разобраться в назначении помещения, расположенного севернее (26). Оно имеет двойной выход на улицу (портик, который его предваряет, позволяет исключить предположение, что более широкий проем играл роль въездных ворот), а мозаичный пол является доказательством того, что зал не был открытым. Зал сообщается с комнатой в глубине здания, от которой он отделен рядом каменных резервуаров. Эти сосуды, закрывавшиеся крышками, вполне соответствуют задачам этого помещения, предназначенного прежде всего для раздачи спортул. Согласно данной гипотезе, вся юго–западная часть здания, которая включает также торговые лавки, должна была выполнять «публичные» функции (см. рис. 15, залы 27, 28 и 46).
 Рис. 15.
Рис. 15. Куикуль, «Дом Европы» (Blanchard—Lemee, ibid., fig. 49). Этот жилой комплекс площадью 1366 квадратных метров появился в результате объединения нескольких участков (стены, разделявшие участки, I-J и F-F’). 1: вестибюль с трехчастным входом; 12: перистиль, большую часть дворика которого занимают бассейны (а, Ь, с) и жардиньерки (d и d’); 13: триклиний; 18: триклиний или экседра; 26: вестибюль; 27–28: торговые лавки; 29–43. термы с туалетом (29)
Итак, оказывается, что в африканском доме были залы, расположенные в непосредственной близости к улице и, подобно атриуму, пригодные для приема посетителей, благодаря чему сохранялся приватный характер остальной части жилища. Проблема решается не менее логично, чем в традиционном италийском доме, хотя решение это достаточно радикально отличается от исходного образца. Помпейский перистиль не предназначен для одних только обитателей дома; с другой стороны, африканскому перистилю не приходится, несмотря на отсутствие атриума, брать на себя функцию приема всех посетителей. Это впечатление подтверждается анализом помещений, выходящих во дворик: залы для приемов соседствуют со множеством комнат совершенно другого назначения, что не позволяет приписывать перистилю только публичную функцию.
Особенно интересный случай — спальни: во–первых, по тому что они относятся к самому интимному сектору жилища, во–вторых, потому что речь идет о помещениях, которые легко идентифицировать благодаря часто встречающемуся в них помосту, немного возвышающемуся над уровнем пола (здесь было принято устанавливать ложе). Другая характерная особенность — использование двух видов напольного орнамента, причем то место, где расположена кровать, обозначено более простым мотивом (рис. 26). Так что спальню опознать довольно легко, а тот факт, что спальни и приемные залы оказываются поблизости, сам по себе весьма информативен. Подобное рас положение встречается часто: «Дом Соллертиана» в Гадрумете имеет две комнаты, занимающие все крыло перистиля (рис. 18, комнаты 4 и 6, в последней был помост); примерно таким же образом обстоит дело и в Ачолле, в «Доме Нептуна» (рис. 10), где все помещения занимают северо–западный угол перистиля между двумя столовыми: три из этих комнат, вероятно, являются спальнями, на что указывают двойственные мотивы напольных мозаик. Наконец, «Дом Охоты» в Булла Регия дает яркий пример такого чередования. В доме два триклиния: один на цокольном этаже, другой на подземном, и оба эти зала выходят на второй перистиль и фланкированы спальнями (рис. 8 и 9).
Такое соседство разнородных помещений по периферии перистиля выявляет сложную природу последнего: попытка определить, какие функции выполнял этот архитектурный элемент, не может сводиться к представлению о нем как о пространстве для приемов. Здесь имели место настолько разные виды деятельности, что возникает вопрос — каким образом они вообще могли сочетаться: мы вернемся к этому, когда будем рассматривать не только составляющие элементы жилого комплекса, но и то, как они были друг с другом связаны.
Двойственный характер перистиля проявляется и в самом его устройстве. Иногда это простой глинобитный двор с колодцем или цистернами для воды — в таких случаях его утилитарное значение вполне очевидно. Прекрасная иллюстрация подобного решения — «Новый Дом Охоты» в Булла Регия (рис. 8). Но чаще всего обширное пространство с колоннадой использовалось для декоративных инсталляций, главная цель которых — введение окультуренной природы в самое сердце жилого пространства. Разнообразие вариантов бесконечно. Иногда двор полностью покрыт мозаиками: в таком случае наибольшее значение придается архитектурным элементам в ущерб растительному компоненту, присутствие которого допускается лишь в виде горшечных растений. Однако две взаимодополняющие темы, вода и растительность, доминируют постоянно и порой настолько увлекают хозяев дома, что двор перистиля превращается в сад, украшенный фонтанами и бассейнами, или же, наоборот, в бассейн, декорированный растениями.
Фактически каждый сколько–нибудь значительный перистиль украшен фонтаном. Одна из самых простых и распространенных форм — полукруглый бассейн у края портика. Иногда в бортике бассейна проделаны отверстия, как правило, не связанные с работой фонтана: глубиной они в несколько Десятков сантиметров и закупорены снизу. Не возникает сомнения, что в них крепились деревянные опоры беседки из вьющихся растений: таким образом, пусть и в несколько редуцированной форме, мы имеем все ту же тесную связь растительных и водных элементов.
Этот тип декоративной программы получает иногда трактовку гораздо более широкую по размаху (рис. 15: бассейны а, b и с, жардиньерки d-d’). Существует множество примеров жилых домов, где большую часть площади перистиля занимают бассейны. Так, в «Доме Европы» в Куикуле три бассейна сложной конфигурации дополнены двумя жардиньерками. В «Доме Кастория» четыре полукруглых бассейна расположены у стен портиков, тогда как пространство в центре двора занимает прямоугольный бассейн. В подобных композициях свободного пространства, в котором могли бы перемещаться люди, остается, судя по всему, совсем немного. Еще более радикальный вариант предполагает сплошную водную поверхность во всей площади двора. Приведем только один пример: «Дом Рыбалки» в Булла Регия.
[58] В этом огромном перистиле, площадь которого составляет около 350 квадратных метров, собственно двор занимает примерно 270 квадратных метров; и вся его площадь, за исключением отверстий, необходимых для того, чтобы на расположенный под перистилем подземный этаж поступали воздух и свет, целиком отведена под бассейны, разделенные низкими перегородками, в которых проделаны отверстия для циркуляции воды. Кроме того, поверху этих перегородок остались следы от врезных отверстий, которые служили для крепления деревянных столбов или небольших каменных колонн, часть из которых сохранилась. Легко пред ставить, что эти опоры поддерживали легкий каркас, украшенный подвесными растениями.
Таким образом, хозяин дома имел широкий спектр возможностей для внедрения в центр своего жилища двух при родных элементов — воды и растений. Иногда он предпочитал один бассейн и несколько растений в горшках; иногда, напротив, все пространство двора занимал сад, украшенный фонтанами, или огромные бассейны, что предельно затрудняло доступ в эту часть жилища. Часто сам декор подчеркивал истинное назначение перистиля: на остатках росписей в «Доме Рыбалки» видны изображения птиц и растений, тогда как небольшой многоступенчатый бассейн, служивший для слива избытка воды, украшен мозаикой, на которой представлены рыбы; на «Вилле Вольера» в Карфагене на мозаиках портиков изображены различные животные среди цветов и плодов. Впрочем, многочисленные перестройки свидетельствуют об изменении вкусов, но точных данных все еще слишком мало, чтобы утверждать, что существовала общая тенденция предоставлять этому кусочку одомашненной природы все больше и больше места. Как бы то ни было, не существует богатого африканского домовладения, где декор перистиля не содержал бы такого рода элементов — в тех или иных сочетаниях. Однако если мы стремимся определить функции этого пространства, подобной констатации недостаточно. Не вызывает сомнений, что изысканное убранство интерьеров в первую очередь было призвано доставлять удовольствие обитателям дома, однако очевидно и то, что это убранство, иногда весьма роскошное, равным образом было предназначено и для демонстрации гостям. Доказательством может служить само расположение декоративных элементов двора. В большинстве случаев существует тесная связь между расположением бассейнов и залов Для приемов; первые насколько возможно выровнены по одной оси со вторыми. Эта связь иногда бывает весьма изысканной с архитектурной точки зрения, как в «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14) у где три бассейна композиционно соответствуют трем входам большого приемного зала. Связь между архитектурой перистиля и архитектурой близлежащих больших залов иногда носит еще более строгий характер: в «Доме с Крестообразным Бассейном» в Волюбилисе (рис. 21, зал 9) ритм колоннады был полностью нарушен, чтобы выровнять ее относительно трех входных проемов большого зала. Этот крайний случай, когда весь перистиль был подчинен потребностям приемного церемониала, со всей очевидностью демонстрирует, насколько важную роль играло это пространство для утверждения престижа владельца дома в глазах гостей.
Пространство перистиля, таким образом, прекрасно передает всю сложность сферы частного: в этом помещении, привлекательность которого усиливалась сочетанием архитектурных эффектов и одомашненной природы, сосуществовали практики самого разного рода, здесь можно было как уединяться, так и проводить приемы, соответствующие статусу хозяина дома; не стоит забывать также и о деятельности слуг, для которых перистиль был прежде всего очередным объектом приложения сил, пространством, связывающим между собой разные части дома, и тем местом, где хранились запасы воды. И наконец, еще одна, последняя функция этого пространства, венчающая все предыдущие: когда в африканских домохозяйствах отправляли домашние культы, это почти всегда происходило в непосредственной близости от перистиля, а то и в нем самом. В «Доме Четырех Колонн» в Банасе алтарь расположен в комнате, выходящей в перистиль. В Ливии, в Кирене, в Инсуле Ясона Магна, как и в доме Птолемея с перистилем D-образной формы, небольшое культовое сооружение также расположено во дворе. Та же ситуация наблюдается и в «Доме Диких Животных» в Волюбилисе и в доме Флавия Германа, где алтарь, посвященный гению domus’a, расположен под одним из портиков. Эти факты, однако, вовсе не свидетельствуют о «приватизации» перистиля в ущерб его «публичной» роли: в доме Азиния Руфа в Ачолле надгробная колонна воздвигнута cultores domus — клиентами, участвовавшими в домашнем культе Азиниев, хозяев дома. Ясно, что эти частные культы никоим образом не были рассчитаны исключительно на семейный круг в узком смысле этого слова: они самым непо средственным образом касались всех зависящих от хозяина дома людей и являлись частью той сложной сети социальных отношений, которую он ткал вокруг себя. Поэтому и алтарям этим — самое место в перистиле, многообразные функции которого вполне отвечают не менее многообразным аспектам религиозных феноменов подобного рода.
Залы для приемов
Некоторые помещения в доме выделяются своими размерами, архитектурой и декором. Зачастую в них легко опознать известные нам из текстов залы для приемов, которые играли очень важную роль в жизни дома, поскольку сами приемы, как можно более пышные, хозяин должен был давать регулярно. Публичная значимость этих залов проявлялась прежде всего в том, что именно здесь проходили разного рода трапезы. Нет ни одного крупного домовладения, в котором не было бы одного или нескольких триклиниев. Идентификацию этих помещений часто упрощает мозаичный декор пола: центральное пространство обычно украшено каким–нибудь особым мотивом, тогда как вдоль стен, где находились ложа, на которых располагались обедавшие, — рисунок более простой. Очень часто важность помещения подчеркивалась тройным входом, а также и размерами пространства: нередко речь идет о самом крупном и самом торжественном зале. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на планы зданий, таких как «Дом Свиты Венеры» в Волюбилисе (рис. 22, комната 11), где триклиний размером 7,8 х 9,8 метра, с тройным входом, был больше двора перистиля и украшен сложной мозаикой, Центральный мотив которой изображает плаванье Венеры. В «Новом Доме Охоты» в Булла Регия столовая также была самым просторным и богато украшенным помещением. Здесь Центральное панно представляет сцену охоты, окруженную сложным растительным орнаментом, который оплетает тела Животных (рис. 8).
 Рис. 16, 17.
Рис. 16, 17. Гадрумет, «Дом Масок» (Foucher L. La Maison des masques, a Sousse. Tunis, 1965. PL h. t.). Наверху: с западной стороны в перистиль выходит просторный триклиний, отделенный от сада галереей. На юге — приемная экседра с апсидой. Внизу: реконструкция: сечение южного крыла, проходящее через комнаты, расположенные восточнее экседры (3–5), и через южный портик (I)
Иногда пышность этих залов усиливалась за счет необычайно сложных и изысканных архитектурных решений. Витрувий описывает большие триклинии, украшенные внутренними колоннадами, и руины позволяют констатировать, что этот архитектурный прием, который римский архитектор назвал oecus’ом, иногда применялся в Африке. В «Доме Масок» в Гадрумете (рис. 16) триклиний, занимающий примерно 250 квадратных метров, отделен колоннами от галереи, шириной 2,4 метра, выходящей, в свою очередь, в сад через колоннаду. В Ачолле «Дом Нептуна» имеет триклиний площадью более 100 квадратных метров, где ложа отделены от внешней галереи колоннадой (рис. 10).
Роскошь этих комнат свидетельствует о той ключевой роли, которую они играли в жилом доме. Церемониал трапезы позволяет продемонстрировать высокое положение хозяина дома, утвердить его жизненные принципы; позволяет он также и отслеживать изменения, происходящие в социальных и семейных отношениях. Здесь нет необходимости перечислять сведения, которые мы можем почерпнуть из всем известных текстов, — сведения, касающиеся прежде всего Италии или восточной части Империи. Если сосредоточить внимание на источниках собственно африканских, можно без особого труда прийти к выводу, что в этих провинциях, как и в Риме, именно триклиний был тем местом, где хозяин дома отрабатывал свой имидж и демонстрировал его прилюдно.
Центральной темой этой демонстрации было богатство. Сочетание власти и богатства утверждалось со всей возможной откровенностью: собственно, пиры и задумывались именно с этой целью. Последуем за героем «Метаморфоз» Апулея: «Здесь застаю множество приглашенных, как и полагается для знатной Женщины, — цвет города. Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыты золотыми тканями, большие Чаши, Разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло, искусно граненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может, — все здесь было. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, проворно подносят полные до краев блюда, завитые мальчики в красивых туниках то и дело подают старые вина в бокалах, украшенных самоцветами» (Met., II, 19)
[59]. По существу, все это должно восприниматься как само собой разумеющееся; здесь, не возвращаясь к роскоши чисто архитектурной, роскоши декора и обстановки, стоит обратить внимание на социальное значение того, что употреблялось в пищу. Для пира, достойного такого именования, необходимо качественное вино, признаками которого, как и в наши дни, являются его проис хождение и возраст. Неменьшее значение имеют подаваемые блюда. Тримальхион сервировку каждого блюда превращает в целый спектакль. В Африке рыба свидетельствовала о столе в высшей степени роскошном. Это была действительно дорого стоящая пища: эдикт Диоклетиана уточняет, что она в среднем стоит в три раза дороже мяса. В более ранний период то же самое констатировал Апулей, говоря о «чревоугодниках, за чей счет богатеют рыбаки» (Apol., 32)
[60]. В прибрежных городах проблема снабжения практически не возникала. Напротив, в городах, расположенных далеко от побережья, доступность свежей рыбы — проблема отдельная. На редкость этого продукта ссылается Апулей, отвечая на обвинение в колдовстве: «Я… был в глубине горной Гетулии, где рыба могла бы найтись разве что после Девкалионова потопа» (мы бы сказали Ноева; Apol., 41). Так что отнюдь не случайно морские темы, где изображения рыб и других морских обитателей занимают важное место, часто украшают триклинии или прилегающие к ним помещения. В «Доме Венеры» в Мактаре триклиний украшен целым каталогом съедобных морских животных, который изначально включал более двух сотен сюжетов и представлял собой «самое крупное античное произведение, посвященное морской фауне».
[61] Помимо декоративной значимости этих сюжетов, а также их апотропеической роли (считалось, что рыба предохраняет дом от пагубных воздействий), такие мозаики несомненно выполняли и еще одну функцию: они увековечивали роскошь стола. Впрочем, эта «пропаганда» не настолько прямолинейна, как то могло бы показаться на первый взгляд. В «Апологии» Апулей сообщает, что изучает рыб, следуя традиции крупнейших греческих философов. Он препарирует и описывает рыб, суммирует и дополняет сведения своих предшественников, создает латинские эквиваленты для перевода греческих терминов. Не эта ли забота о научной классификации и инвентаризации столь замечательно проиллюстрирована мозаиками Мактара, где животные изображены с такой точностью, что практически все они могут быть совершенно однозначно идентифицированы нынешними исследователями и соотнесены с современными научными именами? Очень может статься, что одним из источников для этих мозаичных панно следовало бы считать пассажи Плиния, посвященные рыбам. Однако стоит ли рассматривать выраженную кулинарную составляющую подобных изображений в роскошных банкетных залах Африки как уступку низменным материальным вкусам, приносящую научность в жертву необходимости лишний раз восславить хозяина дома? Подобная позиция привела бы к неправильному пониманию того, каким образом столь радикально отличающиеся друг от друга подходы могли сосуществовать в рамках самой что ни на есть благородной интеллектуальной традиции: Шпулей сообщает, что живший на юге Италии эллинистический Поэт Энний, несомненно имитируя греческие источники, сочинил поэму, в одной из частей которой воспел рыб и дары моря: «О каждой породе у него сказано, где она водится и как Повкуснее ее приготовить — сварить или зажарить» (Apol., 39).
Приведенные выше наблюдения заставляют нас обратиться к бассейнам во дворе перистиля. В самом деле, их часто украшали морскими сюжетами, искусственно напоминая таким образом в домашнем пространстве об удовольствиях, связанных с морем. Однако случалось и так, что одной только иллюзии владельцу оказывалось недостаточно. В некоторых африканских домах в бассейны запускали живую рыбу. В «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14) в каменную кладку центрального бассейна встроены небольшие амфоры — характерное приспособление, свидетельствующее о том, что там разводили рыб. То же мы видим и в «Доме Вакха» в Куикуле. В «Доме Сертия» в Тимгаде (рис. 19) конструкция бассейна сложнее. Вероятнее всего, зал, находящийся в глубине дома — относительно главного входа, расположенного вдоль Cardo Maximus, — и выходящий во второй перистиль через прихожую с двумя колоннами, следует считать триклинием. Двор перистиля украшен бассейном, фактически состоящим из двух размещенных один над другим резервуаров, сообщающихся посредством двух отверстий. В выложенные кирпичом стенки подземного резервуара встроены вазы, зафиксированные горизонтально. Такое приспособление должно было служить укрытием для рыб, где они могли откладывать икру. В подобных случаях, а они встречаются довольно часто, речь идет о самых настоящих рыбных садках, декоративная функция которых дополняется экономической ролью: в городах, расположенных далеко от моря, они позволяли обеспечить стол хозяина дома редкими и очень дорогими продуктами. Вероятно, такие садки представляли собой всего лишь скромные копии крупных рыбоводческих хозяйств, которыми владели многие римские аристократы, получившие за это от Цицерона прозвище piscinarii (любители живорыбных садков) и «живорыбные Тритоны». Тем не менее в случае с домашними садками мы имеем дело с явлением, по сути, аналогичным — с поправкой на уровень доходов и на местные условия.
Триклиний — не только место, где хозяин дома утверждает собственный статус с помощью демонстративных практик. Это место подходит также для выражения более тонких и ничуть не менее значимых для дома в целом семантических комплексов, таких, скажем, как участие в трапезах женщин, а иногда даже и детей (см., к примеру, в «Исповеди» у Августина - IX, 17 — где эти последние
едят за одним столом с родителями). Такие практики с давних пор были распространены в Африке, так же как и в других частях римского мира: эволюция семейных обычаев сказывалась и на том, как и с кем люди вкушали пищу — вплоть до трапез посмертных, как показывает одна похоронная мозаика, на которой пара пирует в потустороннем мире в соответствии с этикетом, идентичным земному. Древний порядок, требовавший, чтобы за едой возлежали только мужчины, а женщины сидели, соблюдался только откровенными консерваторами и ретроградами: когда Апулей впервые показывает ростовщика Милона, известного всему городу своей жадностью и гнусной подлостью, он изображает его за приготовлениями к ужину: Милон расположился на убогом ложе перед пустым столом, а жена сидит у его ног. Скудость стола и убожество обстановки можно трактовать по–разному, а вот взаимное положение супругов исключает всякую двусмысленность интерпретации (Met., I, 32).
Трапеза служит также и укреплению сплоченности familia, в широком смысле, включающем всех домочадцев. Рабы могли получать объедки со стола (Met., X, 14), а в некоторые праздничные дни имели право лежать за столом как хозяева: искусство трапезы, благодаря системе запретов и возможностей (пусть крайне редких) эти запреты не соблюдать, одновременно маркирует социальные дистанции и способствует сплочению гетерогенных групп. Не случайно застолья становятся крайне важной формой общественной жизни внутри христианских общин и, среди прочего, поводом для демонстрации на практике принципа милосердия. В Африке подобные трапезы приобрели такой размах — особенно в рамках погребальных ритуалов, когда принято было устраивать угощение в честь покойного в непосредственной близости от его могилы, — что церковные власти были вынуждены ограничить эту практику.
Итак, триклиний — одно из главных помещений жилого дома. Прежде всего это место для приемов, но также и сцена, на которой происходят значимые в жизни дома события: именно здесь благочестивый господин принимает странствующих жрецов сирийской богини для жертвенной трапезы (Met., IX, 1); именно сюда приводят чудесного осла, который ест те же блюда, что и человек, — дабы осел продемонстрировал свои невероятные способности, и первое, чему его учит раб, приставленный за ним ухаживать, — это лежать за столом, опираясь на «локоть» (Met., X, 16–17). Это место, где наиболее открыто являют себя отношения, которые, собственно, и создают сферу частного: на всех возможных уровнях, идет ли речь о семейной паре, семье в узком смысле слова, обо всех домочадцах или о круге гостей. Отношения эти не только считываются здесь на том уровне, на котором принято считывать социальные практики: хозяин дома вполне осознанно использует эту сцену для того, чтобы обнародовать свою жизненную позицию. Триклиний — пространство кодифицированное: место, которое человек занимает за столом, автоматически обозначает его статус, поскольку и ложа, и каждое конкретное место на каждом конкретном ложе — составные части строго иерархизированного порядка, вершина которого — место хозяина дома на центральном ложе справа; роль хозяина за столом — это роль magister convivio, человека, возглавляющего трапезу (Apul., Apol., 98). Гости занимают места под наблюдением специального слуги, nomenclator’a, а само пиршественное действо становится возможным только благодаря расторопности специальных рабов, servi triclinarii, каждый из которых имеет строго определенные обязанности: африканские художники не преминули запечатлеть их на мозаиках, изображающих сцены пиршеств.
В подобных условиях трапеза служит одним из способов демонстративного утверждения жизненных принципов. Читаем у Тертуллиана Африканского: «Вечеря (сена) наша свидетельствует о себе самым именем своим: она называется таким именем, каким греки называют любовь [agape]. <…> Если причина вечери почтенна, то об остальном судите по причине ее. Что же касается до обязанности религиозной, то она не допускает ничего низкого, ничего неумеренного. За стол садятся не прежде, чем выслушают молитву Божию. Едят столько, сколько нужно для утоления голода. Пьют столько, сколько требуется людям воздержным. <…> Говорят так, что знают, что их слышит сам Бог. <…> Молитвою также и заканчивается вечеря. С вечери расходятся… как такие люди, которые не столько ели, сколько учились» (Apol., XXXIX, 16–19)
[62]. Та же забота о дидактической составляющей трапезы проявляется двумя столетиями позже у Августина: его друг Поссидий сообщает, что изречения, вырезанные над столом, имели целью давать пример и повод для застольных речей, и, хотя сотрапезники пользовались серебряными ложками, тарелки у них были глиняные, конечно, не из–за бедности, а из принципа.
 Рис. 18.
Рис. 18. Фисдр, «Дом Павлина» (на севере) и дом, называемый domus’ом Соллертиана (Foucher L. Decouvertes archeologiques a Ihysdrus en 1961. Tunis, s.d. Plan I). «Дом Павлина» (примерно 1700 квадратных метров, байонетный план). А: перистиль с двором (12,35 х 10,20 м) с садом; 4: приемная экседра (10 х 8 м) со служебным выходом; 7 и 11: триклинии; 3 и 5: коридоры; С: дворик; D: дворик с фонтаном; Е: дворик с садом; 9: спальня (см. рис. 32); 18: домашняя церковь? «Domus Соллертиана». А: перистиль; 1: триклиний; В: второй двор; 3: приемная экседра; 4 и 6: спальни с ведущей в них прихожей 5
Фактически нет никакого противоречия между тем, как вели себя в указанных контекстах христиане, и искусством трапезы предшествующих веков. В языческой идеологии наряду с четкой связью, существовавшей между социальным статусом и роскошными, порой доходящими до откровенных излишеств пиршествами, всегда была в почете тема умеренности. Когда Эразм восхвалял «стол более богатый учеными беседами, чем удовольствиями уст», он всего лишь повторял одну из любимых формул древних римлян, по крайней мере тех, кто считал себя компетентным в искусстве речи и мысли. Плиний Младший, восхваляя пиры императора Траяна, настаивает на привлекательности бесед и подчеркивает, что единственными развлечениями на этих пирах были музыка и комедийные представления. На африканских банкетах, напротив, были весьма популярны танцовщицы и куртизанки, которые изображены на одной карфагенской мозаике, в серединной зоне триклиния, окруженной столами пирующих. Апулей, желая опозорить одного из своих противников, описывает его в обличии «некоего пропойцы и обжоры, этого бесстыжего» человека, которому «с утра невтерпеж напиться» (Apol., 57), и аргумент этот, судя по всему, весьма весомый: другой обвинитель «сожрал» три миллиона сестерциев, полученных в наследство, заботясь, как бы «прожрать, пропить и протранжирить на всяческие непотребные пиршества» эту сумму, так что «от изрядного состояния уцелели у него лишь жалкое тщеславие да ненасытная прожорливость» (Apol., 75). Доверимся проницательности Апулея в том, что такая аргументация была способна оказывать воздействие на судей.
Совершенно очевидно, что столовая играет первостепенную роль в социальном функционировании жилища, поскольку те практики, которые так или иначе с ней связаны, охватывают все уровни частной жизни, начиная от взаимоотношений между супругами и вплоть до того, каким образом домочадцы выстраивают отношения с внешним миром. Это место насыщено смыслами, поскольку это своего рода театр, в котором действуют строго определенные правила; более того, здесь существует целый ряд конвенций, которые позволяют хозяину дома и его гостям демонстрировать свой образ жизни, положение в обществе и отношение к его нравам. В соответствии с этими ориентирами значение придавалось мельчайшим нюансам поведения, любому блюду. Достаточно прочитать, как Ювенал или Марциал, интеллектуалы, скорые на анализ и критику, объявляют перед гостями изысканное и исполненное притворной скромности меню будущего пиршества, с обещанием бесед высокого морального и интеллектуального уровня, чтобы понять, что, по сути, нет никакой разницы между ними и Тримальхионом: в обоих случаях трапеза — это повод для публичной демонстрации и навязывания гостям некой этической нормы, движущей силой которой в конечном счете является личная история хозяина дома. Однако всякая открытость и раскованность чреваты неожиданными последствиями: удовольствие от трапезы может быть отравлено вызывающей и угрожающей самым основам социального бытия дерзостью, и примеров тому также множество. Следовательно, место, где сотрапезники раскрывают себя, одновременно является и местом, где царят запреты. Страх витает над головами пирующих: Марциал обещает гостям, что на следующий день они не будут сожалеть ни о чем из того, что они сказали или услышали (X, 48); помпейский горожанин велит написать на стенах своего триклиния максимы, внушающие гостям сдержанность и корректность речи под угрозой изгнания из–за стола; Августин лишает вина всякого, кто осмеливается сквернословить.
 Рис. 19.
Рис. 19. Тимгад, «Дом Сертия». Главный вход (первоначально трехчастный?), выходящий на Cardo Maximus; мощеный вестибюль с колоннадой в центре; термы в верхнем правом углу: справа налево первый перистиль, в который выходит большой зал (триклиний?); второй перистиль с бассейном–аквариумом и второй триклиний(?), предваряемый прихожей. Как и следующий, этот жилой комплекс, занимающий более 2500 квадратных метров, был построен на месте разрушенных стен, след которых отмечен пунктиром (закругление рядом со вторым триклинием, соответствует юго–западному углу крепостной стены)
 Рис. 20.
Рис. 20. Тимгад, «Дом Гермафродита». Слева, под портиком, идущим вдоль Cardo Maximus, которая отделяет этот жилой комплекс от «Дома Сертия», были расположены торговые лавки; далее, слева направо, то есть на восток, входной вестибюль, выходящий в большой зал, соседствующий с просторной комнатой (11 х 7,6 м), в двух стенах которой по три дверных проема, что позволяет без сомнений считать ее триклинием. Широкая стена, которая ограничивает дом с севера, соответствует контуру первоначальной крепостной стены
Итак, застольные удовольствия занимают центральное место в человеческих отношениях, поскольку позволяют реализовать предельное разнообразие поведенческих сценариев: от самой бурной оргии до строжайшей аскезы, и принципиальной разницы здесь нет. Эти противоположности всего лишь демонстрируют два крайних предела дозволенного, объединенных общим пространством трапезы, и приверженцы этих двух экстремальных позиций охотно используют одно и то же место действия, чтобы достигнуть результатов, на первый взгляд столь разительно отличающихся. Рассмотрение тех вполне объективных причин, что делают трапезу столь богатым с семантической точки зрения событием, выходит за рамки нашей темы. Мы только позволим себе сослаться на то, как Августин Рассуждает об этом в «Исповеди», в главе, которую он назвал «Человек в борьбе с самим собой». В рубрике, посвященной чувствам, внимание автора дольше всего занимает проблема опасности вкуса к трапезе: «Мы восстанавливаем наше ежедневно разрушающееся тело едой и питьем. <…> Теперь же эта необходимость мне сладка, и я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен: я веду с ней ежедневную войну постом и частым «порабощением тела». <…> Ты научил меня принимать пищу, как лекарство. Но пока я перехожу от тягостного голода к благодушной сытости, тут мне как раз и поставлен силок чревоугодия. Самый этот переход есть наслаждение, а другого, чтобы перейти туда, куда переходить заставляет необходимость, нет. <…> Пребывая в этих искушениях, я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями: обрезать раз навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи. И найдется ли, Господи, тот, кого не увлечет за пределы необходимого?» (Conf., X, 43–47)
[63]. Акт еды так заботит мудреца, языческого или христианского, потому что он одновременно необходим и достоин осуждения. Напомним, что единственный грех, который тот же Августин чувствовал себя вправе вменять в вину своей матери, — это несколько чрезмерная и быстро обузданная склонность к вину (Conf., IX, 18). Но социальная реальность неотменима: существует искусство трапезы или, скорее, разные традиции питания, и никто не безгрешен. Более того, сила этого акта абсолютно инверсивна по отношению к психоаналитическому подходу: в случае необходимости мы осознаем реальные причины своих действий никак не a posteriori; опасность совершения аморальных поступков во время застолья известна, и поступков этих либо избегают, либо на них решаются: осознание предшествует бессознательному характеру рискованных действий или слов, произносимых в пылу празднеств. Опасность еще больше, если мы знаем, что некоторые люди не могут себя контролировать; или, еще того хуже, для некоторых «безобразия» на банкетах становятся стилем жизни.
Итак, столовая играет решающую роль в контактах обитателей дома с внешним миром, однако только этим вопрос не исчерпывается. Современный уровень знаний позволяет утверждать, что существовали и другие помещения, специально предназначенные для приемов: речь идет об экседрах, или небольших парадных комнатах, размеров, как правило, меньших, чем столовые, но отличающихся от остальных комнат относительно большой площадью, широкими дверными проемами, которые связывают их с другими помещениями, и вниманием, которое уделяется их декору. Иногда эти салоны легко идентифицировать. В «Новом Доме Охоты» в Булла Регия (рис. 8) экседра расположена напротив столовой и первоначально выходила в один из портиков перистиля через три входных проема; аналогичное архитектурное решение использовано в «Доме Охоты», где особенно просторная экседра занимает площадь даже большую, чем триклинии. В «Доме павлина» в Фисдре (рис. 18, комната 4) помещение также весьма обширное, что свидетельствует о значимости, которую владелец придавал этой комнате. В том же городе в «Доме Масок» экседра выделена при помощи апсиды. В действительности практически ни один крупный африканский жилой комплекс не обходится без этого зала для приемов.
 Рис. 21.
Рис. 21. Волюбилис, «Дом с Крестообразным Бассейном» (Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. Фрагмент плана XV). Аксиальный план: 7: перистиль с мощеным двором; 9: триклиний? (11 х 7,4 м); 16: второй перистиль (7,7 х 7 м), на который выходят комнаты 17–20
Фактически триклиний был предназначен главным образом для больших вечерних приемов, поэтому хозяину дома было необходимо другое помещение для исполнения иных социальных обязанностей. Парадный зал африканских домов в значительной мере наследует функции tablinum’a, характерного для традиционного итальянского жилища: так, например, в рабочем кабинете хозяина в «Доме Фонтея» в Банасе именно мозаичный рисунок дает нам возможность узнать имя владельца, S. FONTE(ius). Здесь хозяин дома может уединиться, удалившись от повседневной домашней суеты. Здесь же он занимается делами или принимает друзей. Таким образом, это помещение предназначено главным образом для культурных мероприятий, будь то обычные беседы или публичные чтения. То обстоятельство, что декор экседры часто отсылает к интеллектуальной деятельности, не случайно: доказательство тому — мозаики с Музами в домах в Альтибуросе или в Фисдре, комедийные маски и изображение трагического поэта и актера в экседре «Дома Масок» в Гадрумете (рис. 16). Действительно, культурные связи играют важнейшую роль в социальной жизни элит, одной из моделей которой является vir bonus dicendi peritus, «муж честный и в словесах изощренный», по формулировке Апулея (Apol., 94): умение вести беседу и писать письма выражает истинную суть личности автора, включая и присущие ему моральные качества. Впрочем, в текстах упоминаются и другие жилые помещения, связанные с чисто культурными практиками, хотя при раскопках распознать их довольно трудно: Апулей описывает, к примеру, библиотеку, комнату, которая запиралась на ключ и надзирать за которой был приставлен вольноотпущенник (Apol., 53, 55).
Существует, однако, другой тип социальных отношений, для поддержания которых экседры, часто располагавшейся глубоко внутри жилища и имевшей все–таки достаточно скромные размеры, могло оказаться недостаточно. Речь идет об отношениях клиентелы, которые фактически предполагают наиболее массовое вторжение в дом людей извне. В Италии важность клиентских связей, которые структурировали общество на основе взаимовыгодных отношений обмена и заставляли каждого человека зависеть от другого, более могущественного, подтверждается множеством источников. По аналогии имеет смысл предполагать, что подобные связи играли столь же значимую роль и в Африке. Апулей женился в деревне, чтобы избежать необходимости раздавать спортулы, еду или денежные подарки, которые патрон обязан раздавать зависящим от него людям (Apol., 87); Августин сообщает, что Алипий, один из его учеников в Карфагене, имел обыкновение регулярно отправляться по утрам в дом к одному сенатору, чтобы поприветствовать его, — то есть наносил церемониальные визиты, обязательные для клиента по отношению к патрону.
Эти церемонии, отражающие отношения зависимости, мы видим и на интерьерных изображениях. Наиболее показательна в этом отношении, бесспорно, мозаика, происходящая из карфагенского «Дома Господина Юлия». Новое толкование этого памятника было предложено П. Вейном
[64] мы же остановимся лишь на тех моментах, которые связаны с нашей темой. В центре изображения мы видим виллу, во круг которой разворачивается сцена выезда на охоту. Два других фриза, напротив, фиксируют несколько иные смыслы: фактически здесь представлены образы, по сути своей сугубо символические. В соответствии с традиционной интерпретацией четыре угла занимают сцены, изображающие четыре времени года: зиму (сбор оливок и охота на уток), лето (жатва), весну (цветы) и осень (сбор винограда и водоплавающие птицы). Однако, как подчеркивает П. Вейн, весь верхний фриз образует единый ансамбль: три персонажа несут подарки даме, находящейся в центре композиции. Как согласовать такое пространственное единство с разницей времен года? Это очень легко сделать в рамках символического истолкования сцены: дары преподносятся всегда, вне зависимости от времени года, недостатка в них не бывает. То же символическое значение проявляется и в нижнем фризе, где владетельная пара изображена среди обильно плодоносящей растительности: муж сидит, поставив ноги на скамеечку, жена стоит, облокотившись о полуколонну рядом с креслом (cathedra), — детали, указывающие на то, что в действительности они находятся в домашнем интерьере. Таким образом, перед нами аллегорическая репрезентация тех церемоний, в ходе которых патрону воздают почести зависимые от него люди. В данном случае речь идет не столько об отношениях клиентелы, сколько о символическом изображении экономической зависимости: это хозяин и колоны — крестьяне, которым предоставлены в аренду участки земли и которые пришли не рассчитаться собственно за аренду, а для того — и мы опять следуем здесь за П. Вейном — чтобы преподнести хозяину начатки выращенного урожая или же плоды охоты и рыбалки. О том, что это именно начатки и, следовательно, сама церемония имеет культовый характер, свидетельствует Ряд деталей изображения: мозаика ясно дает понять, что сбор оливок только начался, что жатва еще не снята и виноград еще не собран.
Правомерность нашего анализа подтверждается изучением xenia — изображений фруктов, овощей и животных, хорошо известных по италийской живописи; тема эта регулярно встречается также и на африканских мозаиках. Согласно Витрувию, эти «натюрморты», которые, впрочем, могут включать и вполне живые элементы, воспроизводят подарки, которыми хозяин дома одаривает своих гостей. У нас нет причин отвергать такую интерпретацию, но нам представляется, что в Африке (и маловероятно, что этот феномен был исключительно локальным) с подобными мотивами связана целая система значений. Обширная иконография позволяет установить четкую связь этих даров природы с Дионисом, что совершенно логично превращает их в символы плодородия, находящегося в ведении этого бога. Более того, такого рода религиозные коннотации укоренены в совершенно определенном социальном контексте: помимо всего прочего — а возможно, и прежде всего — xenia являются изображениями тех начатков урожая, которые именно колоны преподносят своим хозяевам. Последнее значение, выявленное П. Бейном, видимо, подтверждается вымосткой одной из комнат «Дома Павлина» в Фисдре (рис. 26). Действительно, в четырех центральных квадратах мозаичного покрытия изображены корзины, наполненные продуктами земледелия, вполне сопоставимыми с традиционными xenia, но в данном случае эти натюрморты символизируют еще и времена года, поскольку каждая корзина наполнена продуктами, характерными для четырех времен года. Таким образом, более внятным становится и смысл мозаики из «Дома Господина Юлия»: здесь абстрагированной аллегории предпочли социально–конкретную форму, которая тем не менее содержит и репрезентацию акта приношения, пусть даже и в весьма обобщенном виде.
 Рис. 22.
Рис. 22. Волюбилис, «Дом Свиты Венеры» (Etienne, ibid., pi. XVII). Аксиальный план. V. 1 и V. 2: двухчастный входной вестибюль (15 х 3,8 м и 6 х 5,4 м), первый, так же как комната 19, пристроен за счет уличного портика, располагавшегося вдоль фасада; 1: перистиль (14 х 13 м); 9: приемная экседра; 10: спальня, связанная с перистилем коридором; 11: триклиний; 12: второй дворик с бассейном; 18–26: термы, появившиеся в результате перестройки, произошедшей одно временно с присоединением уличного портика
 Рис. 23.
Рис. 23. Волюбилис, «Дом Золотой Монеты» (Etienne, ibid., pi. X). Этот жилой комплекс, один из самых крупных в Волюбилисе, занимает более 1700 квадратных метров. План почти аксиальный. 1, 15, 16 и 36: изолированный блок; 4: вестибюль (6x5 м); 2, 3, и 5: торговые лавки, сообщающиеся с домом; 6 и 11: изолированные лавки; 35: квадратный перистиль (12,5 м); 34: триклиний (?) (7,4 х 6,5 м) с двумя небольшими служебными входами; 30: второй дворик с бассейном, ведущий, в частности, в комнату 21 (5,6 х 4,3 м), вымощенную мраморными плитами. На юге, за пределами плана, расположен обширный хозяйственный сектор, включающий маслодавильню и хлебопекарню
Подобного рода ритуальные действия, которые размеряют части годового цикла, призваны прославлять власть хозяина, уполномоченного преподносить богам первые плоды труда всей общины, а также периодически напоминать о его правах: система колоната часто предоставляет крестьянам столь широкую автономию, что культовые формы зависимости служат поддержанию легитимности тех прав господина, которые сам принцип организации хозяйственной деятельности может затушевать и поставить под сомнение. Отводя dominusy центральную роль, римская религия ставит его власть выше человеческой компетенции. И наконец, отметим последний момент, непосредственно касающийся нашей темы: на мозаике из «Дома Господина Юлия» сам он изображен дважды — во время аудиенции и отправляющимся на охоту; его супруга также появляется два раза, причем в центральной роли, поскольку именно она принимает подношения. Следовательно, если не вызывает сомнений, что именно хозяину крестьянин протягивает свиток, который, судя по всему, следует рассматривать либо как прошение, либо как отчет по арендной плате, то не менее очевидно, что хозяйка дома вовсе не отодвинута на второй план. Не следует ли интерпретировать ее присутствие, скорее, в символическом ключе, как знак, дающий зрителю понять, что она здесь тоже полноправная хозяйка? Или, напротив, нужно видеть в этом вполне реалистическую иллюстрацию ее домашних функций и предполагать, что римская матрона действительно принимала участие во властных ритуалах, главной целью которых была демонстрация высокого социального статуса крупных собственников? Ответ на этот вопрос был бы весьма ценен для нашего понимания жизни аристократической четы во времена поздней Империи, однако никакого определенного заключения на сей счет дать по–прежнему нельзя. Впрочем, вне зависимости от степени соотнесенности с жизненными реалиями, мозаика все–таки дает представление о той роли, которую женщина играла в управлении домом. На данный момент нам придется довольствоваться сопоставлением этих фактов с фразой Апулея, в которой он описывает свою будущую жену как женщину, которая «вполне осмысленно и со знанием дела подписывала счета, поступавшие от управителей мызами, от смотрителей стад и конюшен» (Apol., 87).
Идет ли речь об утренних визитах клиентов или о не столь регулярно повторявшихся церемониях, крупным собственникам для них требовались помещения, причем располагаться они могли в разных частях жилого комплекса. Мы уже подчеркнули роль, которую в таких случаях играли приемные экседры и особенно некоторые входные вестибюли. Р. Ребюффа также отметил, что в Тингитании часто встречаются обширные ком наты с узкой дверью, выходящие в перистиль и расположенные недалеко от входного вестибюля, — например, зал № 3 в «Доме Свиты Венеры» (рис. 22). Он предложил видеть в них продуктовые лавки, связанные с раздачей спортул, — гипотеза, которая могла бы подтвердить ту особую роль, которую выполняли в этих церемониях входные вестибюли.
Из текстов нам известно, что в некоторых домах были помещения, специально предназначенные для церемониальных практик, связанных с отношениями зависимости: Витрувий называет их частными базиликами. Мы уже были вынуждены проанализировать один из самых ярких примеров такого рода сооружений: частную базилику «Дома Охоты» в Булла Регия, которая, будучи снабжена апсидой и трансептом, представляет весьма удачную рамку для выхода dominus’a (рис. 7–8). В данном случае, как нам кажется, подобная интерпретация помещения не вызывает сомнений. Кроме уже рассмотренной выше планировки, отметим, что базилика имеет автономный вход, что само по себе вполне логично, и занимает значительную часть площади присоединенного участка: никакое другое расположение просто не позволило бы соорудить помещение настолько обширное. Несмотря на то что идентифицировать частную базилику не всегда бывает настолько же легко, предположения, судя по всему, подтверждаются достаточно часто. Подобное предположение можно безо всяких колебаний высказать по поводу длинного зала, расположенного рядом со вторым входом «Дома № 3» (рис. 27, зал В), также в Булла Регия: здесь наличие апсиды подтверждает эту идентификацию, поскольку ее обрядовая архитектура прекрасно соответствует репрезентативной функции, столь значимой для хозяина дома. Есть искушение выдвинуть такое же предположение и относительно огромного прямоугольного зала в «Доме Гермафродита» в Тимгаде (рис. 20): расположенный недалеко от входа, он связан с перистилем посредством просторного триклиния, который имеет трехчастные выходы в оба эти помещения. В подобном случае перед нами была бы не лишенная величия архитектурная форма, искусно соединяющая перистиль и два помещения (предназначенные для приемов и предполагавшие две разные степени приватности) с остальными домашними пространствами: множеству зависимых от домохозяина людей, коим доступ к сердцу дома был закрыт, пришлось бы воспринимать эту святая святых исключительно через игру проемов и колоннад, которые вроде бы и позволяли видеть дом насквозь, и оставляли его недосягаемым. Вместо того чтобы множить такого рода примеры (мы не всегда можем быть уверены в правомерности конкретной интерпретации), достаточно обратить внимание на мозаику из Карфагена, которая ясно свидетельствует о существовании частных базилик в крупных жилых комплексах. На мозаике изображена приморская вилла, разные части которой обозначены надписями, среди которых можно прочесть и слово «базилика».
Другие части жилища
Среди прочих комнат жилого комплекса остается не слишком много таких, которые мы могли бы идентифицировать с легкостью, — за исключением спален. Речь идет, безусловно, одном из самых закрытых пространств дома, и мы могли бы повторить в отношении жилищ африканской знати фразу А. Корбена, сказанную по поводу буржуазного дома XIX века, спальня была «пространством интимности, храмом частной жизни, воздвигнутым глубоко в сердце домашнего мира».
[65] Сексуальные коннотации, связанные с этим помещением, здесь вполне очевидны — собственно, как и во все другие эпохи. Это прежде всего самое интимное место в доме с точки зрения самих супругов и, следовательно, место, где самым безрассудным образом нарушались нормы господствующей морали: место для адюльтера, инцеста и необычных способов соития (Apul., Met., IX, 20 — X, 3 и 20–22), которые, становясь известными посторонним, воспринимались как распутство (Apul., Apol., 75) формулировка Августина, вероятно, в большей степени, чем любая другая, свидетельствует о глубокой интимности cubiculurna. Действительно, для описания своих напряженных переживаний он неоднократно использует сравнения, заимствованные из домашней архитектуры, сравнения, в которых спальня символизирует для него самое сокровенное место: «В этом великом споре во внутреннем дому моем, поднятом с душой своей в самом укромном углу его, — в сердце моем… cum anima mea in cubiculo nostro, corde meo» (Conf., VIII, 19), или еще в молитве, обращенной к Богу: «Говори по всей истине в сердце моем… я выгоню их вон: пусть вздымают пыль дыханием своим и засыпают ею глаза свои; да войду „в комнату мою” и воспою тебе песню любви, стеная „стенаниями неизреченными” в странствии моем…» (Conf., XII, 23).
 Pиc. 24.
Pиc. 24. Волюбилис, дом, расположенный к западу от губернаторского дворца (fitienne, ibid., pi. VIII). План почти аксиальный. 1, 2, 4 и 5: торговые лавки (1 и 4 первоначально сообщались с жилой частью дома); 3: вестибюль (7,35 х 6 м) с трехчастным выходом на улицу и перистиль (лестница, вероятно, вела в съемные помещения); 11: приемная экседра; 13: зал очень похож на просторный триклинии (11,6 х 8 м) со служебной дверью в глубине; 22: въездной двор; 23: второй перистиль, предназначенный прежде всего для парадного зала 27, вход в который украшен двумя полуколоннами; 24: уборная(?) 26 и 29: термы(?)
Между тем богатство и сложность жилищной архитектуры проявляются и на этом уровне: из персонажей сторонних только влюбленный незаконно «проникает» в спальню, «полный надежд» (Apul., Met., VIII, 11). Обычай гостеприимства — в отношении людей знакомых или имеющих рекомендации — прочно укоренен, поэтому в богатом жилище должны были быть комнаты для гостей. Конечно, их очень сложно идентифицировать при раскопках, но тексты свидетельствуют о том, что они существовали (например, Apul., Met., I, 23).
Наконец, пора обратиться к последней проблеме — частных бань. Во всех африканских городах существовали общественные бани игравшие важную роль в повседневной жизни граждан. Они не только предлагали широкий выбор водных процедур, но были также местом упражнений — как физических, так и интеллектуальных. Как правило, баня была одним из тех мест, где горожане получали великолепную возможность поддерживать самые разнообразные формы социальных связей. Основывалась эта их функция на том, что строились они, как правило, с размахом, а потому обладали большим набором разных по характеру пространств, каждое из которых было в состоянии принять значительное количество посетителей. Однако со временем ситуация меняется: наряду с этими огромными зданиями термы появляются практически в каждом квартале — более доступные и, по всей вероятности, не предназначенные для того, чтобы задерживаться в них надолго. Причиной могла быть эволюция нравов, по крайней мере если верить позднему галльскому автору Сидонию Аполлинарию, чье замечание вполне применимо и к Африке. В частности, он сообщает, что после дружеских собраний то в одном, то в другом доме все отправлялись в бани, причем не в большие общественные термы, а в заведения, задуманные таким образом, чтобы оберегать стыдливость каждого (Carmen
[66] XXIII, 495–499). В таком образе действий, как нам кажется, сочетаются аристократическая потребность держаться на расстоянии от толпы и новое отношение к телу, одной из характерных черт которого становится стыдливость.
 Рис. 25.
Рис. 25. Волюбилис, «Дом Подвигов Геракла» (Etienne, ibid., pi. IV). 1: вестибюль (8 х 6 м) с двухчастным выходом на улицу (см. рис. 11) и трехчастным в перистиль (на севере — комната привратника?); 2: просторный зал для приемов (10,45 х 8,40 м) — триклиний или экседра с четырьмя служебными входами; 5: триклиний (7,2 х 5 м), украшенный мозаикой, изображающей подвиги Геракла; 6 и 8— 11: комнаты, в которые ведет коридор–прихожая (в помещении 10 — круглый бассейн); 12 и 14: дополнительные входы в дом; 17–24: торговые лавки, не связанные с жилым пространством; 26–33: термы, появившиеся в результате перестройки дома
В этот же эволюционный процесс, несомненно, следует вписать и распространение частных терм в домах привилегированных африканцев. Частные термы, безусловно, известные с давних пор, судя по всему, получают все большую популярность во времена поздней Империи: изучение жилых комплексов показывает, что во многих случаях речь идет об участках, присоединенных к первоначальной площади дома: на этих участках либо возводятся новые постройки, либо расширяются помещения, прежде имевшие скромные размеры. К концу позднеимперского периода частная баня становится обычным явлением. Приведем пример: в городе Булла Регия из восьми домов с перистилем, полностью или почти полностью раскопанных, четыре имеют небольшие термы, и, как нам известно, в «Доме Охоты» (рис. 8) баня была построена в IV веке, одновременно с домашней базиликой.
Таким образом, феномен приватизации терм свидетельствует о значительной эволюции: богатые домовладельцы стремятся увеличить степень автаркии собственных жилищ по отношению к коллективистским комфортным практикам. Следует отметить, что эти изменения вписываются в рамки процесса, связанного с установлением все более и более код и фицированной социальной иерархии: прилично ли тому, кто утром, восседая в апсиде, принимает своих подопечных, после полудня общаться с ними, сидя рядом в общественном бассейне, да к тому же в обнаженном виде, мало приличествующем высокому статусу? Все возрастающая потребность в частном комфорте позволяет сохранять необходимую дистанцию.
К тому же эволюционному процессу относится появление в частных домовладениях уборных, которые мы находим в некоторых африканских жилых комплексах. В «Доме Охоты» в Булла Регия они появились позже первых терм: их строительство заставило пожертвовать изначально существовавшим там frigidariurn’ом
[67] и перенести его южнее. В данном случае речь идет о двухместной уборной, причем возможность коллектив ного пользования отмечается и в других домах, оборудованных сходным образом. Итак, мы снова обнаруживаем в доме пространство, имеющее двойственное назначение: с одной стороны, это место уединения, с другой — здесь сохраняется форма социальности, характерная для общественных уборных: впрочем, отныне круг допускаемых сюда персон сводится к минимуму. Таким образом, эволюция затрагивает как практики, касающиеся всех обитателей города, так и практики, связанные с наиболее приватными частями жилища. Появление специальных отхожих мест (в былые времена, если выходить за стены дома было почему–либо неудобно, довольствовались горшками) несомненно свидетельствует об утверждении нового отношения к телесным звукам и запахам. Уборные «Дома Охоты» оборудованы системой труб, отводящих воду прямо в канализационный канал соседней улицы. Однако, изучая архитектурные трансформации, мы схватываем лишь небольшую часть изменений жизненных практик привилегированных классов, которая, как нам кажется, напоминает о явлении, которое А. Корбен мог называть, применительно к XIX столетию, «буржуазной дезодорацией», «тяжелой битвой с экскрементами». Обстоятельства, связанные с процессом эволюции элит, ставших с какого–то времени более чувствительными к запахам и грязи, требуют специального подробного исследования, которое позволило бы выстроить логику этого процесса и, что особенно важно, лучше датировать его этапы. В текстах, где говорится о нечистоплотности общественных терм или о стыдливости и о появлении в домах удобств, бывших когда-то исключительно общественными, прослеживается одна и та же логика, отражающая новое отношение к телу. Эта логика, объединяющая разные поведенческие комплексы, прямо отсылает нас к тому, каким образом элиты утверждают теперь свое могущество, осуществляют свои властные функции; к образу действий, который характеризуется усиливающимся Дистанцированием, растущей иерархизацией социальных отношений. Строгая кодификация церемоний, которые разворачиваются в сакрализованном пространстве частных базилик, Распространение домашних бань и уборных имеют одну и ту причину. Они стали результатом приватизации некоторых практик, увеличения роли домашнего пространства (прежде всего его внутренней части), а также выраженной тенденции к специализации различных помещений.
В завершение — о неопознанных частях жилых комплексов. В африканском доме мы можем лишь догадываться о предназначении множества раскопанных комнат. Сложно даже с небольшой долей вероятности идентифицировать служебные помещения, в частности кухни, что доказывает, что они были сравнительно просто оборудованы и их производительность зависела исключительно от количества рабочих рук. Кстати, тексты на сей счет весьма красноречивы. Так, у Апулея одна из главных задач хозяина дома — руководить семьей (familia) (Apol., 98); хозяйка не выходит из дома без свиты из многочисленных слуг (Met., II, 2); обилие прислуги необходимо для того, чтобы к дому относились с должным уважением: «много там челяди в просторных покоях» (Met., IV, 9 и IV, 29: numerosa familia; IV, 24: tanta familia); часто этот персонал выполнял вполне конкретные задачи: мы уже упоминали тех, кто занимался обслуживанием столовой, но Апулей показывает нам и других, таких как погонщик мулов, повар, лекарь и спальник (cubicularius) — в романе их перекусала ворвавшаяся во двор бешеная собака (Met., IX, 2); нескольких прислужниц (cubicularii) знатной дамы (X, 28); нескольких поваров у одного хозяина (X, 13); добавим, наконец, педагога (X, 5) и получим примерное представление о том, сколько прислуги обреталось в каждом богатом доме. Итак, мы практически не представляем себе, каким образом эти люди размещались в доме. Наиболее привилегированные из них, по всей вероятности, располагались в комнатах на верхних этажах, в настоящее время разрушенных. Два брата, рабы хозяина, для которою они готовили пищу, жили в каморке (cellula), достаточно просторной, чтобы там кроме них поместился еще и осел (Apul., Met., X, 13–16). Чаще всего эти слуги имели лишь узелок с пожитками и должны были довольствоваться для сна убогим ложем, которое перемещалось по воле обстоятельств и необходимости: когда у Луция, героя «Метаморфоз», живущего в гостях, возникает потребность уединиться в своей комнате, постель раба, сопровождающего его в путешествии, выносят за порог и стелют на полу в дальнем закоулке дома (Met., II, 15).
С точки зрения архитектуры пространство жилого комплекса, организованное вокруг одного или нескольких перистилей, кажется очень однородным, фактически — единым целым. В действительности же в нем реализовывались сложные, разнообразные практики, относящиеся к разным формам и уровням частной жизни. Два полюса этого разнообразия можно показать на примере мест для уединенного отдыха и помещений, где хозяин принимал буквально толпы зависящих от него лиц. Поэтому стоит задаться вопросом: каким образом внутри жилого комплекса могли сосуществовать практики, столь радикально различающиеся между собой? Следует, не довольствуясь простой инвентаризацией основных составных частей дома, попытаться понять, как они друг с другом сочетались.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ DOMUS’A
Общая планировка
Главное для понимания того, как функционировал жилой комплекс, — уяснить, каким образом было принято распределять его основные элементы. Исследователи уже давно привыкли различать несколько характерных типов планировки, основанных на взаимном расположении вестибюля и других важнейших элементов жилища, таких как перистиль и триклиний. Обычно выделяют три таких типа: аксиальный, когда все элементы располагаются на одной оси; байонетный, когда оси этих элементов параллельны; и наконец, ортогональный план, когда вестибюль расположен под прямым углом по отношению к общей ориентации здания.
Подобная типология не лишена смысла, однако представляется малоэффективной при изучении способов функционирования жилища. Ее применение на практике не столь удобно, как может показаться на первый взгляд. Различие между аксиальным и байонетным планами иногда очень условно: так, дом, расположенный к западу от дворца наместника (рис. 24), одни авторы относят к первой, а другие ко второй категории. Иногда проблема еще больше усложняется: например, который тип плана следует предпочесть в случае «Дома Охоты» в Булла Регия (рис. 8) — аксиальный (или байонетный?), объединяющий входной вестибюль, второй перистиль и триклиний, или же ортогональную схему, связывающую вестибюль, главный перистиль и приемную экседру? Прежде всего эта типология не учитывает взаимосвязей элементов, составляющих жилой комплекс. Она лишь позволяет констатировать, что аксиальный план, наиболее распространенный в африканской жилищной архитектуре (если употреблять термин «аксиальный» в широком смысле), видимо, благоприятствовал осуществлению связей между внешним миром и внутренними пространствами жилища, позволяя располагать комнаты анфиладой, что особенно удобно при организации приемов.
При всем том, данная типология все–таки привлекает внимание к очень важному моменту, а именно к той значимости, которую приобретают при проектировании дома пространства для приемов. Именно их расположение задает основные линии организации жилого комплекса, определяющие размещение остальных, более интимных пространств. Социальный статус хозяина влияет на
формирование структуры здания. Архитектура и декор подчеркивают этот фундаментальный выбор. Строители обладали набором средств, который позволял им создавать архитектурные композиции, акцентируя узловые точки жилого здания: колонны или опоры (портики или трехчастные входные проемы), бассейны, мозаичные панно подчеркивают и усиливают значимость основных осей (в связи с этим стоит отметить, что в африканской жилищной архитектуре лестницы играют исключительно служебную роль). Подобную схему мы видим в «Доме Нептуна» в Ачолле (рис. 10): проход, связывающий oecus и колоннаду перистиля, подчеркнут апсидами, образуемыми невысокой стенкой двора; главная ось здания, проходящая через столовую, акцентирована разрывом мозаичного орнамента портика, который уступает место причудливому ковру, также доминирующим положением центрального бассейна, более широкого, глубокого и богаче украшенного, чем обычно. Можно было бы привести еще множество примеров подобного рода: планировка, при которой вдоль одной оси размещают какой–нибудь из самых больших залов дома и просторную колоннаду перистиля, — важнейшее из решений, найденных проектировщиками. Архитектурные решения подобного рода, очевидно, чаще всего встречаются в зданиях, построенных по аксиальному плану, где главная ось превращается в настоящий становой хребет всей конструкции. Яркий пример — «Дом Свиты Венеры» в Волюбилисе (рис. 22), где посетитель сперва минует два двухчастных входа, после чего выходит к проемам трехчастным: две установленные на пьедесталах колонны об разуют три прохода, ведущие в перистиль, колоннада которого, продолженная длинными стенами просторного триклиния, разделена по коротким сторонам на три междуколонных прохода, которые открывают доступ в столовую. Композиция подчеркнута и украшена длинным бассейном в аксиальной позиции, а также мозаичным ковром перед центральным проходом в триклиний, на котором представлены запряженные животные. Постепенно нарастающее богатство декора (столовая организована вокруг панно, изображающего плаванье Венеры) соответствует последовательному усложнению архитектурной схемы: переход от двухчастного ритма к трехчастному, более широкий портик перед триклинием (шире, чем с трех других сторон) и в завершение композиции — самый просторный зал. В данном случае все здание построено вдоль этой оси, задающей сам принцип организации пространства, которое должно было включать в себя и другие, чисто функциональные помещения.
Однако определяющим моментом, от которого зависела структура жилого комплекса, была не столько общая планировка, сколько то, каким образом было организовано движение внутри него. Важнейшая роль при этом отводилась перистилю, по периметру которого располагалось множество помещений. Очень часто главный перистиль окружали пространства, выполнявшие, в меньшем масштабе, ту же функцию: второстепенные перистили или простые дворы без колоннад, нередко украшенные фонтаном или садом. Комнаты в жилом здании распределялись вокруг нескольких иерархизированных центров. Помимо этого, довольно часто использовались коридоры, которые обеспечивали доступ к одному или нескольким помещениям, находившимся далеко от дворов. При такой организации пространства комнаты располагались почти исключительно анфиладами, одна за другой, но были автономны, то есть досягаемы из нескольких общих пространств, служивших для передвижения по дому.
Чтобы проиллюстрировать эти основные принципы, приведем несколько примеров. На первом этаже «Дома Асклепиэй» в Альтибуросе (рис. 12) все помещения связаны либо с входным сектором, либо с перистилем. В «Доме Павлина» в Фисдре по сторонам большого зала для приемов идут две галереи, открывающие доступ к комнатам, расположенным вокруг дворов. В соседнем с ним domuse Соплертиана видим похожее решение (см. рис. 18, коридоры 3 и 5; двор D с бассейном и двор Е, где, по всей вероятности, был сад; L-образный коридор 2 дополняет второй двор В). В этом комплексе отметим также композиционное решение другого типа, часто применяемое для сохранения уединенного характера помещения, расположенного в непосредственной близости от мест с оживленным движением, таких как перистиль, а именно — использование прихожей (помещение 5, предваряющее комнату 4 и спальню 6). Такая конструкция встречается и в «Доме Подвигов Геракла» в Волюбилисе, где три комнаты изолированы от перистиля прихожей в виде коридора (рис. 25, комнаты 6, 10 и 11), в этом большом здании движение шло еще по двум коридорам (12 и 14), которые вели из перистиля на улицу и служили проходами к двум небольшим квартирам, а также по Двум длинным галереям (15 и 16), фланкирующим просторный триклиний, первая из которых ведет в комнаты, а вторая в Домащние термы. Дома в Волюбилисе дают особенно много примеров второстепенных перистилей, которые являются центрами интимной части жилого комплекса, куда зачастую можно попасть через коридор: дом, расположенный к западу от дворца наместника (рис. 24, пространство 23), где двор, окруженный колоннами, украшен бассейном и служит проходом к восьми комнатам; «Дом с Крестообразным Бассейном» (рис. 21) у в котором архитектурная связь между двумя перистилями строится таким образом, что южный портик одного переходит по диагонали в северный портик другого, что обеспечивает вполне реальную автономию всей юго–восточной части здания; «Дом Свиты Венеры» (рис. 22: пространство 12, комнаты 16 и 17), где второй двор, украшенный бассейном со сложным орнаментом, дает доступ к пяти комнатам, в двух из которых, декорированных красивыми напольными мозаиками, на кирпичных полуколоннах были установлены бронзовые бюсты Катона и правителя с диадемой; «Дом Золотой Монеты», один из самых крупных в Волюбилисе (рис. 23, пространство 30), занимающий площадь 1700 квадратных метров, где доступ в разные помещения существенно облегчен благодаря коридорам, которые окружают триклиний, и небольшому дворику с бассейном и фонтаном, вокруг которого расположено несколько комнат.
 Рис. 26.
Рис. 26. Фисдр, «Дом Павлина»: мозаика из спальни (см. рис. 18, Etienne, ibid., pi. X). Расположение ложа обозначено более простым геометрическим мотивом, чем в основной части комнаты: последний узор, воспроизведенный здесь
Эти примеры, как и многие другие, показывают, что использование перистилей, дворов и коридоров позволяло обеспечивать независимость доступа во все помещения. Следует ли делать из этого столь часто встречающийся в литературе вывод, что крупные жилые комплексы включают в себя публичную зону (залы для приемов, сосредоточенные вокруг главного перистиля) и зону приватную (уединенные покои, расположенные вокруг второго центра здания)? Эта концепция требует серьезных уточнений. Мы уже подчеркивали разнородность помещений, которые окружают главный перистиль: то же самое можно сказать и о комнатах, выходящих во второстепенные перистили или во дворы. В этом отношении показателен пример «Дома охоты» в Булла Регия (рис. 8): в большой перистиль выходит лишь один зал для приемов, тогда как две просторные столовые выходят на два уровня малого перистиля. В данном случае удивляет то, что вокруг обоих центров жилища располагаются и приватные, и публичные пространства. В том же Волюбилисе, в только что рассмотренных жилых комплексах, размеры и декор некоторых комнат, размещенных вокруг вторичных центров, наводят на мысль, что они не были предназначены исключительно для членов семьи. Ту же ситуацию видим и в «Доме Павлина» и domus’e Соллертиана в Фисдре (рис. 18, залы 7 и 3): триклиний и приемная экседра выходят в малые дворы.
Таким образом, нам представляется, что коридоры и перистили не служат для того, чтобы отделять «публичные» зоны дома от «приватных», но, напротив, дают возможность размещать рядом комнаты совершенно разного назначения, позволяя при этом сохранять их независимость друг от друга. Функционирование domusa основывается не на соединении разных зон, а на других формах противопоставления разноприродных пространств, сама изолированность которых и делает подобные контрасты особенно эффективными.
Способы деления пространства в domus’e
Во–первых, способ членения пространства жилого комплекса мог зависеть от времени дня. Утром хозяин принимал визиты клиентов, вечером давал званые обеды. В промежутке между этими событиями центральное пространство domus’a, перистиль, могло использоваться для домашних дел и досуга домочадцев. Такое деление, конечно, не оставляет видимых следов. Однако существуют определенные конструктивные элементы, которые при раскопках как раз и можно обнаружить.
В самом деле, внимательное исследование руин показывает, что внутреннее пространство жилища членилось с помощью множества дверей: это вполне сравнимо с современными архитектурными сооружениями, где редко встречаются помещения, которые не были бы отделены от соседних системой затворяющихся проемов. При достаточно хорошей сохранности руин такое исследование дает удивительные результаты: например, можно констатировать, что довольно часто использовались двери, которые фиксировались прямо в каменной кладке и порожных плитах либо крепились к деревянным конструкциям, от которых в таких случаях сохранились лишь небольшие фрагменты пазов. Комнаты, вход в которые был свободным, весьма немногочисленны. Закрываться могли даже широкие проходы в большие залы для приемов: триклиний открывали для вечерних пиршеств, во всякое прочее время дня этот просторный зал чаще всего был заперт, выключен из жизни дома. Более того, лестницы, связывавшие между собой этажи здания, отделялись дверями, которые и открывали доступ, и защищали от постоянных посягательств со стороны грабителей. В некоторых случаях сохранились также следы дверей, которые регулировали движение между портиками и двором перистиля, в тех местах, где перегородка, разделяющая эти два элемента, прерывается, оставляя проход. Подобное разграничение значительно усиливает эффективность общей структуры жилища, и без того задуманной так, чтобы обеспечивать независимость разных комнат друг от друга.
Следы другого элемента интерьера распознать гораздо труднее, однако именно он играл решающую роль в отгораживании одного пространства от другого: речь идет о занавесах, которые могли использоваться не только вместо дверей, но главным образом для членения больших архитектурных объемов. Их использование кардинально меняло функциональные характеристики перистиля: реконструкция занавесов, которые Могли перекрывать междуколонные пространства и создавать преграду между двором и портиком, превращая последний в подобие коридора, позволяет утверждать, что эти приспособления давали возможность эффективно регулировать доступ тепла и света. Кроме того, они позволяли использовать просторный двор перистиля одновременно для разных целей, не нарушая целостности архитектурного ансамбля, которая, по сути, базируется на колоннаде. Действительно, легко представить, как при этом происходили приемы в триклинии, откуда через широко открытые двери гости могли наслаждаться видом перистиля, в то время как игра драпировок сохраняла интимность части двора, а для людей, не имевших отношения к празднеству, создавала должное ощущение дистанции. Таким образом, принцип соположения разных по своей природе пространств реализовывался с максимальной эффективностью.
Все большая любовь к организации «комнат», образуемых полотнищами ткани, также связана с социальной эволюцией: это можно считать индикатором установления в обществе более иерархизированной системы отношений. Чем выше социальный статус человека, тем больше ткани развешено в его доме, подчеркивает Августин (Serm., LI, 5). Он же упоминает чрезмерно высокую апсиду и епископский трон, задрапированный дорогими тканями, по пышности очень напоминающий трон, на котором восседает патрон, принимающий клиентов. Апулей описывает церемонию культа Исиды, во время которой «раздвигались белоснежные завесы», скрывавшие статую богини (Met., XI, 20). Очевидно, языческие и христианские религиозные ритуалы, как и церемонии, во время которых аристократы в окружении приближенных к ним лиц принимали знаки почтения от клиентов, строились по одной и той же матрице. Действенность ее лучше всего проявляется в том сложном церемониале, который постепенно сложился вокруг правителя, наделенного высшей политической и религиозной властью, — ключевой фигуры новой социальной организации поздней Римской империи. Этот момент важен и для понимания частной архитектуры. Занавес — это не радикальное средство перепланировки пространства, но всего лишь легкий и удобный вариант перегородки или двери: он весьма эффективен и в том смысле, что отныне становится важнейшим элементом глубоко продуманного церемониального протокола. Как и в наши дни, занавес не раздвигают: он преграждает путь гораздо надежнее, чем дверь, поскольку останавливает посетителя на подступах к цели; это предмет, который либо скрывает, либо, наоборот, позволяет лицезреть некую могущественную инстанцию — императора, божество, господина. Не приходится сомневаться в том, что подобные практики во многом детерминируются смыслами по сути своей сакральными и что в эту эпоху дверь и занавес — это серьезные преграды, преодоление которых представляет собой самостоятельную проблему. Если не учитывать идеологического аспекта, трудно будет понять, почему кусок материи мог настолько эффективно разделять и иерархизировать внутренние пространства жилища.
Помимо дверей и занавесов, в период поздней Римской империи нужно обратить внимание и на возникновение новой тенденции, направленной на дробление больших архитектурных объемов, унаследованных от предшествующей традиции. Трансформации подвергается прежде всего перистиль, от которого в принципе не отказываются, однако расчленяют таким образом, что меняется сам принцип его функционирования. При этом осуществляются две взаимодополняющие процедуры: двор отделяется от портиков, галереи разбивают на отдельные участки. Эта тенденция проявляется, например, в декоре «Дома Нептуна» в Ачолле (рис. 10): геометрический мотив напольной мозаики одинаков с четырех сторон, но композиция прерывается так, что галерея перед oecus’ом отделяется от трех Других. Однако декор лишь подчеркивает архитектурное Решение: эта галерея и в самом деле весьма существенным образом выходит за пределы перистиля и оказывается от него отделена. Сходным образом организован декор в «Доме Свиты Венеры» в Волюбилисе (рис. 22): то обстоятельство, что мозаики портиков разделены, ослабляет визуальное единство пространства двора, подчеркивая композиционную ось, которая его пересекает.
Эволюционные изменения еще более заметны в архитектурной трактовке перистиля. В какой–то, относительно поздний период, датировать который более или менее точно не представляется возможным, в промежутках между колоннами часто возводят невысокие стенки, убирая в них основания колонн: чаще всего они заменяют более легкую ограду, например из простых обтесанных плиток, и значительно усиливают разрыв между двором и галереями. Другой способ повышения значимости пространства портиков — это строительство ниш, апсид, а иногда даже небольших помещений, которые существенно усложняют изначально очень простой архитектурный объем и таким образом обеспечивают ему некоторую автономность. Так, в domus’e Соллертиана в Фисдре (рис. 18) северный коридор завершается на одном конце небольшой апсидой, а в «Доме Диониса и Одиссея» в Тугге одна из сторон перистиля украшена нишами. «Дом Масок» в Гадрумете (рис. 16 и 17) демонстрирует другую процедуру: здесь открытое пространство, окруженное невысокой стенкой, находится ниже уровня портиков и отделено от них узкой галереей, промежуточной по высоте: элементы, образующие перистиль, приобретают все большую и большую самостоятельность.
На последних стадиях этого эволюционного процесса портики присоединяются к залам, непосредственно к ним примыкающим. Особенно показателен в этом смысле при мер «Нового Дома Охоты» в Булла Регия (рис. 8)у поскольку в данном случае мы располагаем достаточно точными хронологическими данными. Во второй половине IV века владелец одновременно меняет напольное покрытие триклиния и прилегающего к нему портика. Такая синхронность не случайна: когда, не ранее конца IV века, в свою очередь меняется мозаика экседры, точно так же одновременно с ней обновляются и покрытия восточной и южной галерей. Окончание перепланировки приходится, по всей видимости, на конец V века: площадь мозаики восточного коридора увеличивается за счет мозаики коридора южного, выигранное таким образом пространство огорожено стеной с двумя дверными проемами. Видимо, в то уте самое время аналогичная перепланировка была осуществлена на противоположном конце перистиля. Его южная и западная галереи были разделены перегородкой с проемом, который обрамлен колоннами, украшенными лепным декором, где до сих пор видны следы системы крепления двери. С этого времени следует говорить не о едином центральном пространстве (двор, окруженный портиками, куда выходят разные залы), но о расположенных рядом, отгороженных друг от друга пространствах, где к главным комнатам примыкают самостоятельные портики, превратившиеся в вестибюли.
Наш анализ подтверждается и тем, как западный портик теперь сообщался с двором. Два этих элемента разделены достаточно высокой стенкой, увенчанной массивными каменными блоками, которая, с большой долей вероятности, в свою очередь, поддерживала более легкую перегородку. По всей видимости, проемы, ведущие во двор, были малозначимы — настолько, что в одном из промежутков между колоннами даже был построен резервуар, с эстетической точки зрения совершенно бессмысленный. Бассейн, расположенный во втором междуколонном пространстве, также не составляет визуального единства с двором: по краю колодца сохранились отверстия, служившие для крепления каркаса беседки. Эта апсида–фонтан — всего лишь продолжение портика, которое, не будучи частью двора, освещается идущим оттуда светом.
Несмотря на то что когда–то перистиль как композиционный элемент существенно обогатил архитектурную концепцию здания, организованного вокруг простого двора, позднейшая эволюция жилого дома, характерного для африканских элит, а также для элит других провинций Империи, в некотором смысле направлена на возвращение к концепции более ранней. Тем не менее ощутимая польза в этом была: главным образом это касалось главных залов, к которым присоединились дополнительные пространства, усиливающие впечатление их величественности; колоннады же, загроможденные множеством перегородок, продолжали существовать, хотя свойственная им ритмическая организация сделалась теперь неочевидной.
Что означает эта тенденция, направленная на все большее дробление внутренних пространств жилища? Это могло быть следствием близкого соседства помещений совершенно разного назначения. Однако такого объяснения недостаточно. Прежде всего следует иметь в виду, что перистиль — это монументальное архитектурное сооружение, которое занимает много места и оказывается рентабельным в полной мере только в крупных жилых комплексах. С этой точки зрения мысль о том, что владельцы «Нового Дома Охоты», жилая площадь которого достаточно ограниченна, должны были с легкостью отказаться от роскошного классического перистиля, представляется вполне правдоподобной. Между тем этот аргумент оказывается абсолютно неубедителен, если учитывать широко распространившуюся практику трансформации портиков в закрытые помещения, присоединяемые к приемным залам. Поэтому, скорее, следует думать, что в действительности речь идет об изменении домашнего пространства как такового. Нужно стараться при раскопках не разрушать стен, которые представляются более поздними в сопоставлении с исходным каркасом здания: поздними они, несомненно, и являются, однако это свидетельствует об эволюции жилища, а не о его упадке. Остается выяснить, что означает эта эволюция. Думается, имеет смысл провести параллель между дроблением обширного единого пространства, составляющего центр жилого комплекса, и тем, что было сказано выше об увеличении числа частных бань и туалетов. Растущая автономность жилого дома до отношению к общественным учреждениям, все большая раздробленность и спецификация внутренних домашних пространств — это неразрывно связанные феномены, которые, судя по всему, отсылают к новому представлению о человеке в картине мира, свойственной поздней Римской империи. Иерархизация социальных отношений, обожествление власти, индивидуальная стыдливость суть разные аспекты одной и той же проблемы, наиболее заметными модусами которой являются упадок рациональности и едва ли не полный отказ от демонстрации обнаженного тела в пользу все более широкого распространения различных форм мистического мироощущения. Именно в рамках этой эволюции перистиль как пространство единое и многофункциональное расчленяется и превращается в совокупность изолированных помещений.
Месседжи архитектуры
Уже неоднократно подчеркивалось, что архитектура является носительницей значимой информации: те архитектурные решения, согласно которым строятся некоторые помещения, и то, каким образом организован план жилого комплекса в целом, служат прославлению власти хозяина дома и позволяют ему выполнять престижные социальные функции. Пожалуй, вплоть до эпохи Возрождения мы не увидим в западных городах такого значительного количества частных домов, со всей очевидностью предназначенных для того, чтобы обеспечивать их владельцам возможность жить в роскоши и соответствовать требованиям их социального статуса.
Не менее концептуальным может быть и декор жилого дома. Настенные или потолочные орнаменты при раскопках встречаются исключительно редко, и потому приходится сосредотачивать все внимание главным образом на мозаиках, покрывающих полы. В любом случае проблема та же: речь идет о вполне определенном декоре, чаще всего выполненном местными мастерами и, следовательно, неразрывно связанном с архитектурной средой. Впрочем, декор зала случайным не бывает практически никогда. Витрувий подчеркивает, что он должен соответствовать назначению помещения; можно добавить, что и его богатство также объясняется той значимостью, которой зал обладает в иерархии домашних помещений.
Теперь обратимся к проблеме теоретического характера, по природе своей близкой к той проблеме, о которой речь у нас шла выше и которая связана с сутью предпринимавшихся хозяевами домов перепланировок. Какую роль играл заказчик в разработке программы оформления здания? Стоит ли вообще пользоваться термином «программа» для характеристики сюжетов, которые украшают жилище? Два этих вопроса связаны между собой, и в настоящее время преобладает тенденция отвечать на них отрицательно: собственник в минимальной степени вмешивается в выбор мотивов, а мозаичисты навязывают ему свой репертуар; репертуар этот в минимальной степени нагружен символическими значениями, поэтому не имеет особого смысла «расшифровывать» сюжеты, придавать им значение более глубокое, нежели, в лучшем случае, неопределенная отсылка к культурному наследию, общему для всех и ни к чему не обязывающему.
Такой образ действий резонно противопоставляется фантазиям, столь же неправомерным, сколь и замысловатым, на которые наводят некоторые особенно возбуждающие воображение мозаичные картины. Тем не менее и сам этот образ действий, в свою очередь, представляется не вполне оправданным. В действительности он отводит античному художнику–ремесленнику несвойственную ему роль: в отношениях, которые связывали его с заказчиком, ведущую партию играл именно этот последний, именно он выбирал сюжеты, которые его интересовали, если не саму манеру их исполнения. Чтобы в этом убедиться, достаточно констатировать, что эволюция стилистики и мотивов декора четко соответствует эволюции всего социума и прежде всего новым потребностям правящих классов поздней Римской империи. Впрочем, не стоит a priori отвергать те соображения, которые подсказывает нам элементарный здравый смысл: изображенные сюжеты, вероятнее всего, обладают неким смыслом и были выбраны не случайно.
Проще всего дело обстоит в тех случаях, когда декор включает сцены из языческой мифологии. Стало хорошим тоном считать, что они никоим образом не отражают религиозных пристрастий домовладельцев, а были всего лишь стерилизованными пережитками более ранней культуры, в самом примитивном значении этого слова. При такой интерпретации существовавшие в Империи практики на несколько столетий предвосхищают культурную ситуацию, при которой господствовавшее христианство действительно могло без особого риска примерять на себя лохмотья античной культуры, поверженной, но притягательной. Однако политическим, культурным и религиозным реалиям поздней Римской империи эта интерпретация не соответствует. Прежде всего нужно заметить, что если в отношении мозаик откровенно языческих зачастую принято отрицать какое бы то ни было религиозное значение, то никому не приходит в голову делать то же самое в отношении мозаик с христианскими мотивами. Этот курьезный подход мог бы быть оправдан лишь в том случае, если бы мы могли констатировать исчезновение в эпоху поздней Империи всех религий, кроме христианства. Часто утверждают: сосуществование христианских и языческих мозаик доказывает, что последние в это время были лишены определенного смысла. Такого рода рассуждения не позволяют учитывать те случаи, когда можно констатировать намеренное разрушение этих мотивов: так, в недавно раскопанном доме в Мактаре, в центре Туниса, мозаика с морским мотивом, украшающая бассейн, как и мозаика фонтана, изображающая Венеру, были скрыты под слоем цемента: судя по всему, эта операция — дело рук христиан.
[68] Принимая интерпретацию, отрицающую возможность сосуществования разных религиозных систем, мы рискуем получить в итоге искаженное представление о том, как христианская религия распространялась в римском мире. Эта религиозная экспансия была вовсе не первопричиной радикальной трансформации социума и человека, а всего лишь одним из аспектов общей эволюции, которая влияла на распространение христианства в гораздо большей степени, нежели сама была обусловлена его влиянием. Если вынести за скобки меньшинство, для которого происшедшие перемены являют собой настоящую духовную революцию и способствуют разрушению привычного жизненного уклада, в подобных условиях для большинства населения новые верования скорее наслаиваются на верования старые, чем замещают их. Именно в этом контексте следует понимать соседство мозаик на совершенно разные темы, и приватное пространство — самое подходящее место для того, чтобы должным образом интерпретировать эти совмещенные в едином поле позиции. В самом деле, домовладельцы были куда более свободны в том, что касалось их собственных взглядов: Августин с гневом осуждает господствовавшее мнение, что человек является хозяином своей судьбы (Serm., 224,3). Однако каковы бы ни были их религиозные убеждения, все люди в эту эпоху были уверены, что мир — это игралище демонов; и если оборона общего пространства вверена городу, то защищать свое собственное жилье каждый должен сам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этом деле рассчитывают на помощь Пенатов и других языческих божеств, обитающих в доме, религиозные же символы (а религия неизменно настаивает на своей способности охранять мир от всякой скверны, подкрепляя эту способность чудесами) должны его оберегать. Было бы странно, если бы человек, который несет ответственность за семью, вдруг сознательно отказался от одной из этих гарантий. Видение мира меняется не потому, что люди становятся христианами, а с точностью до наоборот: просто переходная фаза может быть очень долгой.
Весьма примечательно, что мотивы откровенно христианские крайне редко встречаются на поздних мозаиках в домах богатых африканцев. Это заставляет задуматься о реальных масштабах распространения христианства среди африканских властных элит в достаточно позднюю эпоху — во всяком случае, явно позднее IV столетия. Все происходило, как если бы по крайней мере у местной аристократии (относительно удаленной от центральной власти и ее религиозно–политических требований) поддержание культуры, в основе своей совершенно классической, сопровождалось ко всему прочему еще и религиозным традиционализмом, для которого отныне приватное пространство представляло собой привилегированное и едва ли не единственно возможное место бытования.
Таким образом, если нам представляется неправомерным вчитывать в сюжеты мозаичного декора дома больше того, что они означают, то было бы не менее ошибочным считать их вовсе лишенными смысла. В некоторых случаях существуют достаточно веские доказательства того, что мозаики созданы с целью трансляции некоего месседжа и отражают вполне определенный заказ домовладельца. Так, на мозаике, найденной в поселении Смират в Тунисе, запечатлен акт эвергетизма некоего Магерия, который организовал в цирке звериную травлю.
[69] Имена гладиаторов и леопардов сохранились на легендах к изображениям. На играх председательствуют Дионис, Диана и сам Магерий, а в центре слуга держит на подносе Денежные призы победителям. По обе стороны от него — надпись, которая четко дает понять, что на мозаике запечатлено конкретное событие и что изображенные поединки не являются чисто символическими. Текст повествует, что Магерий на виду у толпы даровал бойцам вознаграждение, достойное того, чтобы остаться в памяти и заслужить одобрительную реакцию зрителей: «Вот что значит — быть богатым! Вот что значит — быть могущественным!» Этот знаменательный день и увековечен на мозаичном панно к вящей славе хозяина дома.
Связь между мозаичным декором и событиями семейной истории не менее очевидна и в «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14), где некоторые мозаики сопровождаются надписями. Две из них, достаточно хорошо сохранившиеся, можно прочитать. Первая, расположенная в восточном портике, обрамлена лавровым венком и прославляет, по всей видимости, владельца дома, некоего Кастория, который начал менять часть напольных покрытий. Неизвестно, в какой момент Касторий или его предки приобрели этот дом с перистилем, один из самых красивых в квартале, но качество мозаик с надписями явственно демонстрирует уровень материальных возможностей и культуры гораздо более низкий, чем того можно было бы ожидать, судя по роскошному обрамлению этого дома. Стоит ли видеть в этом пример ослабления могущества одной конкретной семьи, целого социального класса — или же просто упадка квартала? Вторая надпись, хотя и поврежденная, подтверждает это впечатление и представляет яркий пример стремления к прославлению того социального слоя, который сегодня мы могли бы назвать средней буржуазией. «Этот дом (haec domus) — место, откуда вышли эти знаменитые молодые люди <…> благородные, они — заседатели в судах в богатой Ливии <…> счастливы родители, которые этого удостоились».
[70] Функция прославления, если речь идет о том, что молодые люди из хорошей семьи оказались интегрированы в окружение наместника провинции, оперирует здесь материями, достаточно далекими от сколько–нибудь высоких должностей. Это желание зафиксировать навечно достаточно рядовой эпизод перекликается с пассажем из «Исповеди» Августина (III, 5), где автор упоминает усилия своего отца, направленные на то, чтобы дать возможность сыну продолжить обучение: «…я вернулся из Мадавры, соседнего города, куда было переехал для изучения литературы и ораторского искусства; копили деньги для более далекой поездки в Карфаген, которой требовало отцовское честолюбие и не позволяли его средства: был он в Тагасте человеком довольно бедным. <…> Кто не превозносил тогда похвалами моего земного отца за то, что он тратился на сына сверх своих средств, предоставляя ему даже возможность далеко уехать ради учения. Очень многие, гораздо более состоятельные горожане, не делали для детей своих ничего подобного».
Существуют не менее эффективные, но более скромные средства усилить великолепие domus’a. Для удовлетворения потребностей аристократической пропаганды мозаичисты поздней Римской империи создают новые сюжеты, среди которых особое место занимают масштабные сцены охоты. Во множестве вариаций, в самых разных манерах, неизменно прослеживается основная тема: dominus и его друзья верхом преследуют всевозможных животных в сопровождении многочисленных слуг, которые науськивают собак, расставляют сети, загоняют дичь и уносят добычу.
Таким образом, дома украшаются изображениями аристократических увеселений, которые, помимо всего прочего, имеют еще и определенный экономический смысл и играют важную роль в поддержании социальных связей между мужчинами и женщинами, в противоположность тому, что будет происходить в других сообществах, где такого рода развлечения не были приняты. Впрочем, неразрывную связь между заказчиком и произведением, которое украшает его жилище, очень часто удостоверяют надписи, сопровождающие изображенные сцены. Эти надписи доносят до нас имена хозяйских животных — собак или лошадей; трудно поверить, чтобы эти имена были чистой условностью.
Однако наряду с конкретно–реалистической составляющей этих картин, существенно важно и их символическое значение. Это прежде всего своеобразный социальный манифест: превосходство dominus’a и его сотрапезников демонстрируется здесь через посредство охотничьего снаряжения (они единственные, кто едет верхом), действий (только они нападают на животных, слуги лишь помогают хозяевам или ловят живых животных) и одежды. В самом деле, несмотря на усилия, которых требует охота, господа одеты в красивую одежду, которая в эпоху поздней Римской империи становится одним из главных внешних признаков их высокого статуса, и костюм этот никогда не приходит в беспорядок. Физическая нагрузка никоим образом не сказывается на щегольском виде одежды, «благодаря которой можно узнать положение каждого» (Августин, О христианской вере, II, 25). Даже выбитый из седла dominus остается dominus’ом, сразу узнаваемым.
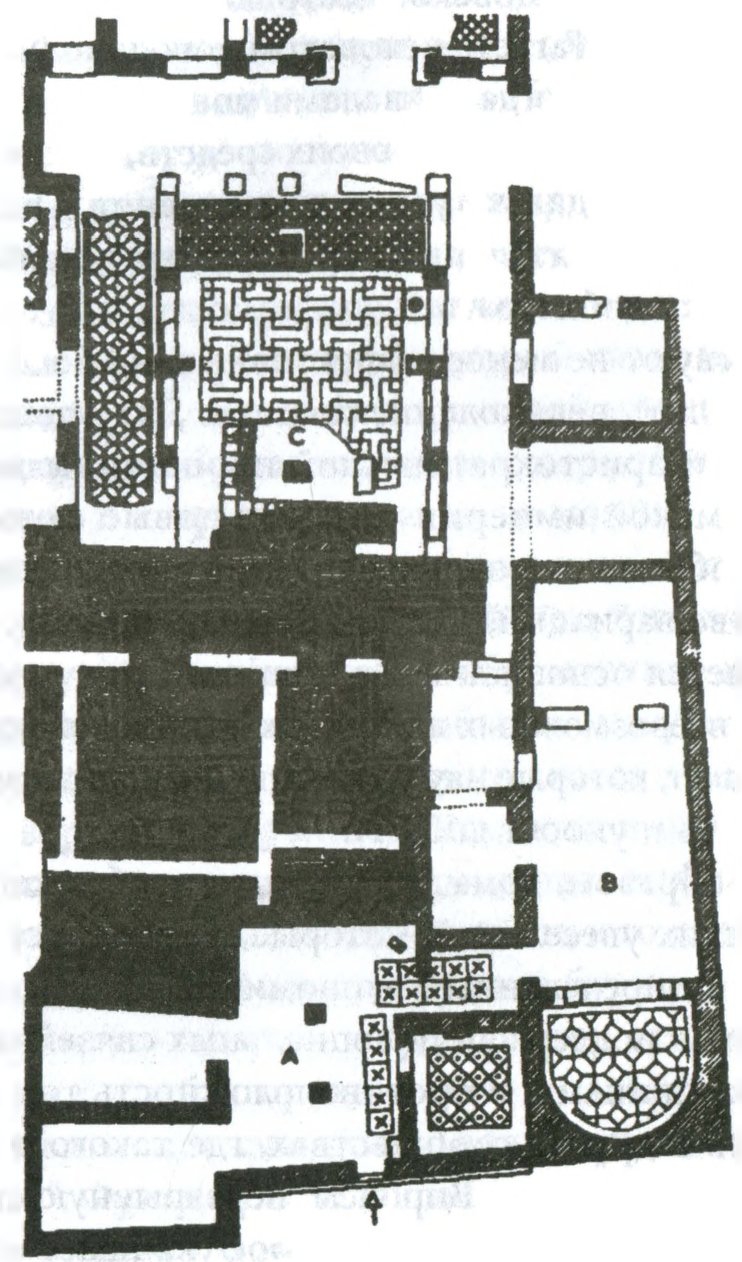 Рис. 27.
Рис. 27. Булла Регия, «Дом № 3» (см. рис. 6; часть плана А. Бруаза в кн. Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Ibid. Fig. 23). Еще один пример дома с подземным этажом, частично раскопанным. А: служебный вход; В: домашняя базилика; С: перистиль
Значимость этого социального манифеста усиливается благодаря мифологическому значению охоты. Иногда встречаются прямые аллюзии. На мозаике из города Утина, располагавшегося недалеко от современного Туниса, художник изобразил поместье, в котором разворачиваются сцены крестьянского труда, а также охоты. Один из охотников, рогатиной убивающий кабана, представлен обнаженным, то есть в образе мифического героя: персонаж уподоблен Мелеагру, победителю чудовищного вепря, который опустошал поля его родного города.
Вне рамок погребального искусства такая процедура уподобления не получила широкого распространения, скорее всего потому, что лишала господина внешних признаков влиятельности, ставших существенными для новой концепции власти; поэтому престижная значимость охоты реализовывалась другим путем — тиражированием императорской модели. В самом деле, с давних пор одним из способов проявления Доблести для императора была охотничья искусность — важнейшее качество, которое воспринималось как знак божественного покровительства и гарантировало процветание народа. Способность преодолеть животную силу, победить дикость благодаря своей собственной мощи, уму, ловкости, стала одним из признаков властного статуса. Речь прежде всего идет о риторике, предназначенной для изобразительного искусства, но не исключены и более конкретные способы воплощения этой идеологии: Коммод без колебаний выходил на арену, чтобы пронзать стрелами разъяренных львов.
Воспроизводя у себя в доме сцены собственных охотничьих подвигов и опасности, с ними связанные (изображения несчастных случаев встречаются очень часто), аристократ извлекает пользу из подражания этой императорской идеологической модели. Именно подражания, поскольку охота на льва стала монополией императора — и аристократ часто должен был довольствоваться схваткой с вепрем или преследованием зайца или шакала. Однако не все так просто: иногда вельможа изображается вступающим в поединки, вполне достойные императора. Так, на мозаике триклиния в «Новом Доме Охоты» в Булла Регия среди поражаемых животных появляются не только кабан, но и крупные хищники — гепард и даже лев, изображенный дважды.
Таким образом, изучение декора жилищ африканской аристократии выводит на проблему общеполитического характера, касающуюся организации власти на разных уровнях. Глава государства являет собой модель, которая транслируется на все остальные ступени власти. Но о чем именно идет в данном случае речь: о почтительной имитации или о потенциальной конкуренции? Вполне очевидно, что владелец (в сущности, относительно небогатый) «Нового Дома Охоты» никоим образом не пытался изобразить из себя кандидата на престол: львы в его триклинии свидетельствуют не о претензиях на узурпацию сюжетов верховной власти, но, вне всякого сомнения, отражают следствия (мнимые или реальные) одного из многочисленных пожалований императора африканскому нобилитету: некоторым подданным разрешалось охотиться на императорского хищника (С. Th., XV, 11, 1). Может статься, что именно за неимением этой привилегии владелец «Дома Шествия Диониса» в Фисдре вынужден был довольствоваться изображением также в триклинии — хищников, нападающих на других животных, вместо того чтобы делать их жертвами собственных охотничьих талантов. Однако затронутая нами здесь проблема гораздо глубже, и ее невозможно решить, пытаясь разобраться только в том, законными или нет были такие изображения. С одной стороны, императорская власть, мистический характер которой на протяжении веков только усиливается, может быть лишь моделью всякой сколько–нибудь значимой власти. С другой стороны — все более и более мистический, иррациональный характер власти ослабляет ее и дает возможность ее оспаривать: не становится ли в конечном счете победа в том или ином ее обличии единственным средством доказать законность власти? В принципе, эти сцены охоты на льва, украшающие частные жилища, выражают амбивалентность, которая касается проблемы в высшей степени публичной — проблемы власти. Не следует забывать, что африканская аристократия неоднократно проявляла готовность не только оказывать мощную поддержку тому или иному претенденту на престол, но и выдвигать претендентов собственных. Дискуссии, которые вот уже несколько десятилетий ведутся по поводу богатой виллы Пьяцца Армерина на Сицилии, весьма характерны для нынешней весьма запутанной ситуации с попытками выделить типологию того нового типа социума, который появился на свет в позднеримский период. В данном случае размах строительных работ, использование привозного порфира, а также сцен охоты на льва, составлявших привилегию императорских дворцов, породили долгие споры относительно личности владельца: представителя высшей имперской аристократии или — императорской семьи. Сам факт, что подобная проблема вообще возникла, весьма подателей для уровня амбиций, которыми руководствовались позднеримские элиты в организации своего частного пространства. Знать задает себе такую рамку, которая не только позволяет ей жить в любой точке Империи на чисто римский манер, но и жить на манер этаких маленьких подобий императора. В подавляющем большинстве случаев речь идет всего лишь о почтительной имитации базовой модели, но в такого рода имитациях всегда остается толика двусмысленности, и то обстоятельство, что на протяжении достаточно долгого времени нобилитет мыслил местную власть как реплику власти центральной, вплоть до образа мышления и ритуальных церемоний, не могло не иметь последствий.
Заключение
Частный жилой комплекс по сути является общественным местом, и слово domus, означающее дом, и прежде всего дом богатый, в то же время служит для обозначения множества других, связанных с ним реалий — начиная с семьи. На уровне словаря именования рода и жилища совпадают: domus — это и стены, и их обитатели, и эта реальность проявляется как в надписях, так и в текстах, где термин может обозначать или то, или другое, а чаще всего — некую целостность, понимаемую как неразрывное единство всех составляющих ее элементов. Кроме того, архитектурная рамка не является всего лишь пассивным вместилищем этого единства: гений (genius) domus’a, которому посвящают культ, — это точно так же и место, и существо, которое в этом месте обитает. Идея domus’a укоренена в самых разных сферах: в ней воплощены религиозные, социальные и экономические аспекты. И поскольку domus располагает необходимой материальной базой для воспроизводства и порождает соответствующую идеологию, он является величиной, протяженной во времени. В самом деле, крупные семьи, так же как в Италии, исповедуют культ предков и прошлого: хранят картины, изображающие памятные события (Apul., Met., VI, 29), ту же роль играют и некоторые мозаики; более того, недавнее открытие, сделанное в Фисдре, мастерской скульптора, где создавались погребальные маски, делившиеся непосредственно с лиц покойных, доказывает, что практика создания портретных галерей предков, в самом что ни на есть реалистическом смысле слова, была известна и в Африке. Следовательно, domus укоренен в прошлом, и поэтому смысл термина может расширяться до обозначения родины.
Однако не стоит преувеличивать силу связи, соединяющей семью и жилище. Для социальных элит — по крайней мере для наиболее привилегированной их части, чьи карьерные и экономические установки ориентированы на продвижение по иерархической лестнице Империи, — дом уже достаточно давно стал товаром, который покупают,
перестраивают, снова продают, исходя из нужд профессиональных, матримониальных или финансовых. Богатые вельможи чаще всего владеют не одним патриархальным родовым гнездом, полным воспоминаний, а несколькими резиденциями.
Фактически, долгое время мы скорее догадывались, чем достоверно знали, какие отношения связывали привилегированных граждан с тем или иным жилищем. Лишь в исключительно редких случаях можно выяснить имя одного из сменявших друг друга домовладельцев, и практически никогда не получается на протяжении нескольких поколений проследить, как собственность переходила из рук в руки. По правде говоря, речь здесь идет лишь об одном из аспектов неведения гораздо более глубокого: мы до сих пор не знаем, каким образом социальные элиты воспроизводили себя — иными словами, как в ту или иную эпоху происходила смена поколений знатных граждан: путем обновления крови или путем наследования. Когда, благодаря эпиграфике, мы имеем возможность проследить, как возвышалась какая–либо семья и какую систему отношений она при этом выстраивала (разобраться в этой системе можно прежде всего благодаря матримониальной политике семьи), — бывает трудно понять, имеем ли мы дело со случаем исключительным или же достаточно типичным. Впрочем, все эти разрозненные истории все равно практически невозможно увязать с археологическими данными.
Итак, на данный момент нам остается лишь чисто теоретически привязывать руины богатых жилищ к историям жизни некоторых семей, которые прослеживаются более или менее полно. Это, конечно, немного, но все–таки дает нам возможность сформулировать некоторые замечания общего по рядка, позволяющие достаточно отчетливо охарактеризовать жилища африканских правящих страт. Прежде всего отметим амбициозность архитектурных проектов. Конечно, эти жилые комплексы сильно различаются по площади, но примечательно то, что все они выказывают один и тот же уровень амбициозности: она проявляется в использовании архитектурных и декоративных приемов, основанных на одних и тех же руководящих принципах. Какова бы ни была реальная власть этих элит, они выстраивают рамку своей жизни по одной модели.
Организация внутреннего пространства дома также подчиняется одинаковым базовым принципам. Широкий диапазон видов деятельности, связанных в римском обществе со сферой частного, обусловливает возникновение сложной архитектурной рамки, для которой характерны, в частности, две черты: специализация разных помещений и забота о поддержании необходимой связи этих помещений между собой. Важная роль отводится перистилям — как в архитектурной композиции, так и в общей структуре дома: множество задач, которые они берут на себя, всего лишь отражает общее разнообразие функций жилого комплекса. Эти дворы с колоннадами являются главной отличительной чертой богатых домовладений. Дополненные коридорами и прихожими, они весьма эффективно содействуют разрешинию проблемы, на первый взгляд неразрешимой: создавать однородное пространство, в котором без особых проблем могли бы осуществляться столь разные виды деятельности в худшем из возможных случаев это могло бы привести к созданию пространства раздробленного и лишенного внутренней связности, в лучшем — к простому соположению зон «публичных» и «частных». Ничего подобного, однако, не произошло: строители и заказчики сумели создать единое пространство, через посредство которого мы можем различить достоверный образ африканских элит.
ГЛАВА 4 РАННЕЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Мишель Руш
Прошло триста лет. В 499 году Хлодвиг крестился и получил инсигнии консула Рима (то есть Византии, столицы Римской империи, лишившейся своих западных провинций, оккупированных варварами). На Западе греко–римский мир уничтожен, здесь начинаются новые времена: как сказал Макиавелли, «люди, которые звались Цезарями и Помпеями, становятся Жанами, Пьерами и Матье». На византийском Востоке римская система остается нетронутой, но, как всякое явление, постепенно видоизменяется полностью; греческие язык и культура станут там единственными хозяевами.
Запад варваризируется, не столько под натиском германцев, которым величие Рима внушало восхищение, сколько вследствие захвата ими политической власти; старая аристократия — и отцы городов, и знать, служившая в римском аппарате, — отстранена от власти, ни в чем более не находит смысла, опускает руки и теряет то, что делало римский мир «цивилизованным» обществом: бессознательную волю к само стилизации; и только Церковь, преследуя свои собственные цели, до некоторой степени эту волю сохраняет.
Варварство и культура: общества, называемые варвар скими, обладают собственной культурой, те же, что принято называть цивилизованными, поддерживают таковую ценой серьезных усилий, вне зависимости от того, направлены эти усилия к лучшему или к худшему; общества, зацикленные на пуританских или эстетских ценностях, насквозь мили таризованные или проникнутые духом капиталистическою предпринимательства, в равной степени относятся ко второй категории. Драма великих завоеваний состоит не в развале имперского аппарата, кризисе экономики или демографии, она касается другой сферы, где различия пролегают, скажем, между теми людьми, которые читают, и теми, кто не считает нужным прилагать для этого усилия, людьми, которые приучены к тяжелому труду, и теми, кто от этого свободен. Подобные бессознательные установки, связанные с самой возможностью делать над собой то или иное усилие, формируются не школой и не общественными установлениями, которые являются, скорее, их следствиями; они формируются в рамках того процесса, который очень неточно называют воспитанием — то есть тем, что автоматически дает человеку социальная группа, в рамках которой эта воля к самостилизации воспроизводится. Этот автоматизм совершенно явственным образом носит неосознанный характер, ведь как только возникает малейшее подозрение, что отцы произносят фразы, которым сами же не верят, обман становится очевидным и сыновья оставляют отцов произносить речи, которые больше никто не слушает. Если отцы хотят, чтобы им верили, их проповедь должна быть подкреплена реальной властью. А на Западе, в ходе великих завоеваний V века, эта власть исчезает, а потому и традиция самостилизации прерывается, и начинается то, что воспринимается нами как «мрачная ночь Раннего Средневековья». Здесь мы сталкиваемся еще с одной сугубо антропологической закономерностью: культурное усилие, работа над собой, которая практикуется лишь в некоторых обществах, как и любая традиция, не может быть навязано человеку умышленно или по принуждению. Иными словами, это усилие не имеет ничего общего с тем, что сторонники традиционализма подразумевают под воспитательной ролью труда и наказания; всякая попытка навязать здесь свою волю в конечном счете оборачивается медвежьей услугой, не будучи в состоянии подменить собой реальную власть традиции предотвратить девальвацию ценностей. Усилие, направленное на себя, не имеет никакого отношения к принуждению, и только в этом случае оно остается эффективным; скорее, оно должно подпитываться амбициями, чувством игры, тягой к роскоши, даже снобизмом. И некоторые уже за это ненавидят культуру; за культивацию усилия, направленного против природы, — а не только и не столько за ее классовую сущность, что бы при этом ни утверждали они сами.
Поль Вейн
В 584 году у короля Хильперика родился сын, которого он «повелел воспитывать на вилле Витри–ан–Артуа, чтобы с ним не случилось какого–либо несчастья, — говорил он, — если будет он на глазах у народа, и чтобы он не умер». Всего в нескольких словах епископ Григорий Турский дает нам точное представление о той тональности, в которой разворачивалась частная жизнь во времена Раннего Средневековья. Король только что получил важное известие: у него родился мальчик. Только мужской пол достоин внимания. О матери — ни слова, мы даже не знаем ее имени. Может быть, просто потому, что она была королевской наложницей. Разумеется, сразу же после рождения он отправляет сына к кормилице, из города — Камбре — в деревню. Нужно спрятать ребенка, такого беззащитного в первые годы, дать ему возможность жить частной жизнью, чтобы избежать несчастья. Окружающий мир так опасен! Едва он родился — отец уже думает о смерти. В самом деле, из пяти детей Хильперика выживет только этот, будущий Хлотарь II; впрочем, уже по одной только этой истории мы имеем возможность представить себе те обстоятельства, в которых протекала частная жизнь во времена Раннего Средневековья: любовь, жестокость, страх и смерть, несмотря на попытки найти счастливое убежище в сельской глуши.
По сравнению с римской Античностью, частная жизнь действительно становится значимым цивилизационным фактором, если не сказать — самым важным. Наиболее ярким тому доказательством служит упадок города по сравнению с деревней. Когда–то для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком, никак нельзя было обойтись без городских улиц и крупных общественных зданий, теперь же счастью суждено ютиться в частных домах и лачугах. Когда–то Империя гордилась тем, что благодаря своим законам, своим войскам и своим эдилам создала публичную жизнь как идеал человеческой жизни вообще. В эпоху германских королевств культ урбанизма уступает место частной жизни. Для пришельцев извне — германцев — к сфере частного сводится едва ли не все разнообразие доступных поведенческих практик. Потому читатель не должен удивляться тому, что я чаще буду говорить о Северной Галлии, чем о Южной, расположенной к югу от Луары. Относительно последней, остававшейся куда более римской по духу вплоть до IX столетия, практически не сохранилось никаких документальных свидетельств, связанных с частной жизнью. Очень немногие аквитанские или провансальские авторы описывают бракосочетание или похороны своих современников, их стол или ложе. Их позиция — это позиция беспомощных свидетелей как медленного разрушения галло–римских общественных структур, которое вызывает в них чувство отчаяния, так и неожиданного вторжения нового жизненного уклада, который их попросту пугает. Лучшие из них находили для себя выход в попытках христианизировать языческие народы, пришедшие с севера или с востока: это и была единственная доступная стратегия сопротивления. О пришлых же народах мы можем судить прежде всего по их сводам законов и по тем распрям, которые возникали между ними и Церковью. Исходя из этого мы можем делать выводы том, какой ценностью для них обладали личное имущество, еда, собственные тела, женщины, семейные связи; понять мотивы их мести и свойственные им страхи, те поводы, которые вызывали в них агрессию, и те надежды, которые они питали, их представления о сакральном, и, наконец, их приобщение таинству индивидуализации. Эта исходно заданная диспропорциональность вырисовывающейся в итоге картины в действительности отражает историю наступления частного с Севера на Юг.
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОЕВЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
Новые правительства, которые формируют в V веке в Галлии вестготы, бургунды или франки, пытаются имитировать режим правления Римской империи как на уровне политических институтов, так и на уровне социальных структур, однако цели своей не достигают практически ни в чем. По большому счету, повсюду, начиная от королевского двора и до самого последнего чиновника, в профессиональных и религиозных сообществах, в городе и в деревне, частный человек и приватное пространство играют первостепенную роль. Даже богатство становится личным делом, а индивид пытается приватизировать все, что можно, включая то место, где он живет, и пищу, которой он питается.
Поздняя Империя прославляла государство и развивала право, чтобы поддерживать мир и препятствовать воине. Германские племена, создавшие монархические режимы, всегда воспринимались галло–римлянами как скопище варваров и рабов, единственным предназначением которых было подчинение либо Риму, либо Константинополю. Поэтому Григорий Турский, оставивший великолепные наблюдения касательно монархии и возникающего на его глазах нового общества, в своей «Церковной истории франков» использует Термин «республика» применительно к Восточной Римской империи. Res publica, государство, — понятие, которое требует способности к абстрагированию, а потому недоступно пониманию варваров. У них не существует государства, так как понятие варварства субъективно и охватывает не только германцев; оно применимо и к обитающим в Бретани кельтам, и к развращенным галло–римлянам, и к солдатам, которые на малейшую обиду отвечают бурной агрессией и могут испытывать лишь грубые чувства. Варвары жестоки и неотесанны, легко пьянеют, так как напиваются и наедаются до рвоты; занимаются же они главным образом грабежами, оставляя за собой опустошенную землю. Если мы подойдем к анализу «государственных» структур франков и других варварских народов со всей возможной беспристрастностью, придется и в самом деле признать, что это суждение небезосновательно.
Неразличимость «частного» и «публичного» у германцев
В тех племенах, где власть воспринимается как имеющая одновременно магическое, божественное и воинское происхождение и исполняется совместно королем, выборным военачальником и свободными воинами, нестабильный союз между heer–könig’ом, стремящимся к постоянным военным победам, за счет которых он только и может удерживать свою власть, и воинами, верными своему вождю только до тех пор, пока тот способен на деле доказывать свою силу, и составляет то, что следует называть «государством» нового типа. Это государство можно охарактеризовать как род воинского союза, участники которого не имеют определенного места жительства и продолжительность существования которого непредсказуема. Той субстанцией, которая цементировала этот институт, была не идея общественного спасения и общего блага, как в Риме, а скорее объединение частных интересов в рамках времен ной ассоциации, существование которой продлевает каждая следующая победа. Этим объясняется тот факт, что франки колеблются между вождем племени Хильдериком, которого осуждают на изгнание, и римским военачальником Эгидием. После убийства последнего они вспоминают о Хильдерике, отце Хлодвига. Тот велел похоронить себя с почестями одновременно гражданскими и военными, а предметы, обнаруженные в его могиле, включают одновременно и атрибутику частную, германскую, — и атрибутику римскую, свидетельствующую о том, что он занимал важные государственные должности. Хлодвиг восстановил римское государство, но сделал он это ценой уничтожения всей своей родни, дабы устранить вождей отдельных дружин, лояльных каждая собственному вождю, который также имел право претендовать на наследство.
Поскольку король является хозяином добычи и захваченной земли, после его смерти все, что ему принадлежало, делится поровну между наследниками — как частная собственность. Это материнский, по сути, принцип раздела между всеми сыновьями. Известно, какие кровавые гражданские войны были результатами такого раздела государства, низведенного до стадии простой частной недвижимости, и как это привело к раздробленности меровингской Галлии на автономные регионы — Бургундию, Аквитанию, Прованс, Бретань и т. д. Но не будем забывать, что и Каролинги, еще одно благородное семейство, которое силой захватило власть, тоже осуществляли раздел королевства, то между Пипином и его братом Карл Оманом I в 741 году, то между Карлом Великим и Карломаном II в 768 году. Карл Великий сам позаботился о разделе своей империи между тремя сыновьями в 806 году, и только благодаря случаю, который распорядился так, что двое из них умерли раньше старшего, Людовика Благочестивого, Империя оставалась единой с 814 до 840 года. Но давление германских обычаев было таково, что между 817 и 840 годами, несмотря на церковных советников, которые пытались вернуть государство в сферу публичного, называя его Respublica Christiana, несмотря на дворянское окружение императора, не говоря уже о настойчивости императрицы Юдифи, старавшейся для своего любимого маленького сына, будущего Карла Лысого, было предложено по меньшей мере четыре проекта раздела Империи. Верденский раздел 843 года, благодаря которому карта Европы до сих пор имеет вид барочной мозаики, является, таким образом, логическим завершением принципа раздела королевства между братьями. Лотарингия также стала жертвой этой практики, поскольку после смерти Лотаря I королевство разделили между тремя сыновьями, разбив на части европейскую ось, а ныне существующие Нидерланды, Бельгия, Лотарингия, Швейцария и Италия — это оставшиеся от него лоскуты. Важно осознать, что такое представление о государстве как о личной собственности властителя, представление весьма конкретное и телесно ориентированное, характерно для всех правителей Раннего Средневековья и что Капетинги могли бы надолго сохранить свою власть, если бы, наконец, поняли, что возвращение к понятию публичного государства, понятию, которое им пытались втолковать церковники, проникнутые духом римского права, в гораздо большей степени соответствовало их собственным интересам.
Их предшественники — Меровинги и Каролинги — не смогли понять того, что сегодня кажется нам очевидным, поскольку германские законы касаются главным образом сферы частного и в гораздо меньшей степени — сферы публичного права. В самом деле, давайте посмотрим, как вырабатывались эти законы. В эпоху Великого переселения народов вестготы, бургунды и франки не имели письменности, за исключением горстки рун, употреблявшихся в религиозных целях, и доверяли нормы права памяти отдельных знатоков, которые назывались у франков «рахимбургами». Они заучивали каждую статью наизусть, включая последние принятые решения, регулирующие судебную практику. Будучи своего рода живыми библиотеками, они представляли собой воплощенный закон, непредсказуемый и ужасный, так как было достаточно, чтобы судья произнес на древнем верхненемецком, например, friofalto uaua buscho, «свободный человек искалечен на траве», чтобы был вынесен приговор: «Сто золотых солидов
[71] штрафа». Примат устной традиции в правосудии придавал судебному акту характер в высшей степени личный и субъективный, так как закон был неведом никому, кроме знатоков. Кроме того, каждый человек был, в зависимости от своего происхождения, подсуден — кто закону салических франков, кто закону франков рипуарских, то есть рейнских, кто — законам бургундов или вестготов, более известным под именем «Кодекса Эйриха». Субъективность законов усиливала разобщенность общества и лишала правосудие какого бы то ни было универсального характера, момента фундаментального для римского законодательства, применимого ко всем гражданам Империи. Поэтому очень скоро все эти правовые системы были записаны: Кодекс Эйриха — в 461 году, законы бургундов — в 502–м и первая редакция Салической правды — в 511–м. Тем не менее их продолжали заучивать наизусть и применяли в течение всего Раннего Средневековья, вплоть до X века — и даже еще того позже. Таким образом, они увековечили концепцию права, радикально отличавшуюся от концепции права римского. Действительно, из 105 статей закона бургундов только шесть являются нормами публичного права. Так же дело обстоит и в Салической правде — только восемь из 78. В других параграфах нормы, касающиеся короля и налогового управления, причудливым образом смешиваются с нормами, регулирующими жизнь простых граждан. Напротив, Кодекс Феодосия, обнародованный в 438 году, состоит из шестнадцати книг и содержит несколько десятков законов; только половина VIII книги и IX книга полностью посвящены частному праву. То есть соотношение между разными областями права — строго противоположное. В Галлии эту римскую традицию в усеченном варианте продолжал еще Бревиарий Алариха, опубликованный в 506 году и применявшийся в среде галло–римлян, живших к югу от Луары, а также среди христианского духовенства, поскольку XVI книга касается Католической церкви, жизнь которой по–прежнему регулировали нормы публичного, а не канонического права. Следовательно, расширение сферы частного права за счет права государственного — это инновация германцев. Франкские судьи будут заниматься делом о краже собаки с тем же усердием, с каким судьи римские рассматривали налоговые правонарушения членов муниципальных советов и курий.
Итак, система правосудия франков, Меровингов и Каролингов ориентирована главным образом на сферу частного. По–видимому, судьи, как и королевский трибунал, были зава лены делами о ссорах из–за размежевания земельных участков, тяжбами о недействительности завещаний, спорами между наследниками, протестами против нечестности торговцев. Среди редких сохранившихся актов государственной власти Меровингов можно найти достаточно много решений, подобных вердикту Дагоберта (629–639), подтверждающему раздел имущества Хродоления и Хемедия между их наследниками Урсинием и Беполением, или вердикту Хлотаря III (657–673), решающему судьбу наследства некоего Эрмелия. Конечно, в большинстве случаев речь идет о могущественных знатных родах, но то, что проблемы семейной собственности приобрели такое значение, доказывает доминирующую роль частных интересов. Этот феномен становится еще очевиднее благодаря огромному количеству дел о кражах движимого имущества. У германцев, которые, за исключением вестготов, практически не имели опыта владения землей, жестко и педантично охраняются главным образом ценные или жизненно необходимые предметы: украшения, оружие, продукты питания или домашние животные. Поэтому кража горшка меда, совершенная рабом в районе Ангулема в VI веке, принимает драматический оборот. Виновника должны были бы незамедлительно повесить, если бы за него не вступился отшельник Сибард и не добился, чтобы ему сохранили жизнь. Позднее Теодульф, епископ Орлеана, человек воспитанный в традициях римской культуры, горько сетовал, когда во время поездки missus dominicus, которую он совершил в Нарбоннскую Галлию в 798 году, увидел, что за кражу там карали смертью, а за убийство — денежным штрафом. Это было неизбежным следствием того первостепенного значения, которым в воинском по происхождению сообществе наделялось личное имущество. «Иметь» значило гораздо больше, чем «быть», — для народов, находившихся на грани выживания. Святой Амвросий называл это скупостью, Григорий Турский — алчностью. Но для тех работников ножа и топора, какими были германцы — кочевники и завоеватели, — смерть была лучшим способом маркировать непреодолимые границы между принадлежавшей разным людям частной собственностью.
И тем более, по мнению этих людей, те золотые монеты, которые возвращались в королевскую казну благодаря сложной системе римского налогообложения, должны были, по идее, быть частью их личного богатства, которое напрямую соотносилось с общей добычей. Итак, каждый воин имеет право на свою долю трофеев: в связи с этим нельзя не вспомнить знаменитый эпизод с суассонской чашей. Кроме того, он ждет от своего короля наград за службу: Меровинги, как и Каролинги, не скупились на подарки — золотые монеты, золотые и серебряные украшения с перегородчатыми эмалями, посуда из граненого хрусталя, оружие, инкрустированное драгоценными камнями — которые извлекались из королевских сундуков пли снимались с возов с добычей, для которой могло потребоваться, как после победы над аварами в 796 году, пятнадцать Телег, запряженных каждая двумя парами быков. Посредством обязательной демонстрации щедрости этот взаимный обмен дарами между королем и представителями воинской элиты укреплял существующие между королевской властью и войском связи. Понятно, что попытка адаптировать подобные практики к римской по происхождению системе налогообложения была чревата серьезными трудностями. Относительно франков меровингские короли, конечно, признавали, что «на лог кровью», который те платили на службе, освобождал их от налога, которым облагали галло–римское население, однако на юге они старались с помощью чиновников поддерживать практику взимания подушной подати и налога на землю со всех своих подданных. В каролингскую эпоху королевская власть потерпела поражение в этом длительном противоборстве, а феномен приватизации прямого государственного налога был столь широко распространен, что историки до сих пор расходятся во мнениях, когда речь заходит о том, является ли тот или иной налог, который платили крестьяне в крупных каролингских регионах, государственным или частным. В конце концов слово «франк» неизбежно стало означать «свободный человек», то есть человек, освобожденный от уплаты налогов. Тот, кто их платил, стал считаться крепостным, а сам статус выплачиваемой суммы был понижен до уровня локальных, сугубо частных отношений. Таким образом, налог попросту исчез, и подобная ситуация сохранялась во Франции до конца Столетней войны. Король должен был жить на доходы от своего хозяйства — так же как и любой рядовой землевладелец. Частная жизнь душила государство, лишая его финансов.
Армия сопротивлялась дольше и упорнее. Тем не менее уже на раннем этапе формирования института королевской власти германцев появились достаточно важные инновации: к примеру, личная охрана. Называемая hirdh у скандинавов или truste у Меровингов, она состояла из равных между собой по статусу молодых воинов, обязывавшихся хранить верность патрону в жизни и в смерти. У кельтов зачастую речь шла о молочных братьях, берущих на себя обязанность защищать своего кормильца. Пищевая общность, возможность быть сотрапезником военачальника, или, как сказано в Салической правде, разделять с ним хлеб, превращают охранника (cum panis, отсюда companio) в настоящего товарища, человека, отношения с которым напоминают едва ли не кровное родство. Оно и закрепляется кровью, бок о бок проливаемой в сражениях и как ничто другое сплачивающей этих «горилл», стоящих на защите власти. Кроме того, члены королевской дружины, antrustionbi, защищены штрафом, который составлял шестьсот золотых солидов, то есть самым значительным взысканием, которое вообще могло быть назначено в делах об убийстве. Эта санкция начиная с V века распространилась по всей Римской империи из–за постоянных покушений на жизнь важных особ. У римлян и вестготов этих воинов называли bucellaires, то есть едоками бисквита, так как лучший хлеб в армии предназначался им. Они хранили верность патрону даже после его смерти. Так, император Валентиниан III, убивший в 454 году своего полководца Аэция, амбиций которого опасался, в 455 году в свою очередь был заколот букеларием Аэция Акилой, а также зятем императора Трасилой. В данном случае оба типа родства — через трапезу и через усыновление — уподобляются кровному родству, если судить по поведению мстителей. Война стала делом частным благодаря тому, что мотивации, связанные с государственной властью, вытеснялись мотивациями телесно–ориентированными.
Эта «абсолютная монархия, ограниченная убийством», как говорил Фюстель де Куланж, то есть, собственно, ограничение всевластия монарха возможностью его убийства, сопровождалась весьма необычным режимом взаимодействия Устной и публичной составляющих в органах центральной власти германских королевств. Знаменитый мажордом, который дождался упадка династии меровингских королей и Дал начало возвышению Каролингов, изначально был всего лишь главным управляющим королевской налоговой службы, унаследованной от римской администрации. Там, где Империя различала государственную собственность, то есть казну, затем имущество частное, то есть собственность короны, и, наконец, личную собственность императора, меровингская администра ция смешивала все три категории. Мажордом стал, по сути, самым влиятельным администратором во всем королевстве. Эта должность была ликвидирована Каролингами. Однако в своей попытке восстановить государственность они остались в плену у прежних ошибок. Может ли сенешаль — sinis kalk на старонемецком, самый старший из придворных — считаться высокопоставленным чиновником? Да, когда он занимается внутренними делами. И — нет, не может, если мы рассматриваем его как человека, который занимается снабжением королевского стола. Точно так же управляющий винными по гребами показался бы нам простым официантом, если бы мы не знали о той важной роли, которую с чисто «политической» точки зрения играет в эту эпоху бокал вина, непременная для человека, умеющего уважить своих гостей и сотрапезников, обязанность устраивать попойки. Что касается престижных должностей коннетабля и маршала, давайте вспомним, что в то время они означали слугу, ответственного за конюшни, и слугу, ухаживающего за лошадьми (comes stabuli; maris kalk). Короче говоря, речь шла о главном конюхе и о кузнеце — приятелях и пройдохах, совершенно необходимых во время путешествия. Ближний круг прислуги включал в себя еще и королевского казначея, который, помимо надзора за сундуками, в которых хранились документы на право владения собственностью и королевские драгоценности, а также главного своего дела, то есть управления государственными доходами, не забывал о необходимости заниматься своевременной сменой пологов и постельных принадлежностей.
Это смешение представлений о частном и публичном, эта неспособность абстрагироваться от конкретных, сугубо личных интересов, показывают, что правители меровингской монархии так и не смогли подняться до понимания общественного блага — если не считать отдельных чиновников римской формации. Влиятельные аристократы отправляли своих малолетних сыновей ко двору в Нейстрии или в Австразии, с тем чтобы те смогли получить там навыки, связанные с отправлением ответственных должностей, которые они позднее смогли бы занимать в городах и деревнях. Их называли «питомцами» (nutriti), поскольку их брали, я бы сказал, на полный пансион — обеспечивали жильем, кормили, обстирывали, они жили под одной крышей с королем, который становился для них приемным отцом. Эмоциональный характер отношений, основанных на такой пищевой общности, маркировался определенными жестами, которые активировали поведенческую модель сыновнего подчинения. Так как за королевским столом (как и за всеми прочими) ели руками, и одна из важнейших застольных функций заключалась в том, чтобы держать полотенце, которым король вытирал руки каждый раз, когда их мыл. Поэтому mapparius (подносящий полотенце) был человеком гораздо более значимым, чем могла предполагать его скромная задача. Монарх, удостоверившись за эти годы в привязанности и преданности ребенка — от семи до четырнадцати лет, когда мы еще не умеем ничего скрывать, — мог сделать соответствующим образом вышколенного молодого человека графом или герцогом. Забавная школа кадров — школа, где сердце было важнее, чем компетентность! Часто называемая schola, то есть сообщество юных учеников, будущих чиновников, она продолжала существовать и в эпоху Каролингов. Однако, поскольку сердце имеет свои резоны, неведомые разуму, эти бывшие компаньоны короля или императора, в свою очередь, Регулярно путали публичные обязанности с личными интересами. Каролингская административная революция, начавшаяся в 840 году, присвоение администраторами прав, принадлежавших ранее королю, приводит к тому усилению местных властей, которое мы называем феодализмом. Как говорит в 888 году летописец, «тогда каждый в глубине души захотел сделаться королем». Невозможно лучше передать это торжество частного над публичным. Не стоит забывать и о том, что причинами этой трансформации были не только и не столько личные амбиции, сколько главенство чувства любви или ненависти по отношению к королю–отцу. Для Регино королевская власть в буквальном смысле порождается отцовским чревом, средоточием любви. Никто не может быть своим собственным отцом — но следует ли из этого неизбежность абсолютизации собственной персоны?
Феномен повсеместной приватизации можно наблюдать и во многих других сферах. Прекрасным тому примером служит такая, вне всяких сомнений, чисто королевская монополия, как чеканка монеты. С 560–580 годов монетные дворы, главной миссией которых была трансляция публично значимых символов, без каких бы то ни было колебаний начинают чеканить на золотых монетах собственную легенду вместо имени короля. В 790 году Карл Великий восстановил все свои полагающиеся по статусу права и упразднил всякую частную чеканку монет. Но при Эде, первом не–каролингском короле, верховная власть снова утратила часть своих прав, и у нас есть все основания полагать, что еще за несколько лет до 918 года бывший королевский администратор, герцог Аквитании Гильом Благочестивый повелел чеканить в Бриуде серебряный денье. Таким образом, он открывал путь появлению бесчисленных средневековых монет. Другой прерогативой королевской власти, сохранявшейся с древнеримских времен, было содержание дорог и строительство оборонительных сооружений. Меровингские правители, и особенно Брунхильда, постоянно заботились о римских дорогах; некоторые из них, скажем, так называемые «шоссе Брунхильды», еще и сегодня пересекают наши поля. Ту же за боту проявлял и Карл Великий. Но шок от скандинавских вторжений был настолько серьезным, что со временем рухнувшие мосты и пострадавшие от наводнений дороги ремонтировать перестали. Начиная с X века благодаря частной инициативе то здесь, то там появляются новые местные сети дорог, называемые путями. Кроме того, в то время как Карл Великий, дабы упрочить свои завоевания, строил масштабные деревянно–земляные цитадели, Карл Лысый в 864 году жалуется, что некоторые его подданные по своей собственной инициативе сооружают «барьеры и крепости», то есть укрепления, сделанные из плотно переплетенных деревьев и колючих кустарников, — или дома, окруженные частоколом. Действительно, начиная с 950 года в королевстве увеличивается число феодальных замков. Как великолепно заметил Жорж Дюби, феодализм — это не что иное, как «раздробление власти на множество автономных ячеек. В каждой из них хозяин в частном порядке обладает властью приказывать и наказывать; он пользуется этим правом как частью полученного по наследству достояния».
Увеличение числа малых групп
Перейдем теперь от государства к обществу и проследим за процессом развития частного сектора. Когда–то римские законы, зафиксированные в Бревиарии Алариха, тщетно запрещали владельцам строить свои дома вплотную к внутренней стороне крепостной стены, с тем чтобы сэкономить на строительных материалах за счет стены общественной — и за счет возможности для городского гарнизона свободно перемещаться внутри крепости. Точно так же и теперь мы можем констатировать возникновение частных пространств и частных горизонтальных связей, замыкающих иерархические структуры или создающих свои собственные. Мы уже видели значимость понятия schola. Если прежде оно означало императорскую гвардию, отныне оно применяется к свите из вооруженных слуг, к гильдии, к группе священнослужителей, окружающих епископа, к монашескому дортуару, в конце концов, к хору, но собственно школу оно до IX века не обозначало. Группа королевских дружинников имела свою параллель и в структурах общественных — группу вассалов. В этом смысле особенно показательна этимология слова. Речь идет о кельтском понятии gwas, которое во французском дает gars (парень), а в женском роде garce (девка) и обозначает молодого мужчину, раба, что доказывает его латинизированная форма vassus, употребляе мая в Салической правде. Этот персонаж упоминается в одном ряду с другими домашними рабами — кузнецом, золотых и серебряных дел мастером, свинопасом. Однако крупный собственник может иметь уже несколько таких рабов, иногда дюжину. Эти молодые парни (juniores) вверялись старшему, старому (senior, взрослый, откуда «сеньор», хозяин) посредством любопытной церемонии, наставления, в ходе которой хозяин охватывал своими ладонями соединенные вместе ладони будущего слуги. Такое дарение самого себя позволяло слабому человеку войти в новое для него пространство за щиты и взаимной помощи. Касанием рук начальник охраны передавал другому нечто вроде сакрального магнетического флюида, hail. Охраняемый системой табуистических запретов, вассал находился отныне под харизматической, языческой по происхождению властью господина, mundeburdium, main–bour, настоящей властью — которая одновременно предполагает возможность распоряжаться человеком и необходимость его защищать. Понятие отцовской защиты и сыновнего повиновения здесь неактуально. Новый тип отношений зависимости — между подчиненным и начальником — базируется на языческой, амбивалентной по природе вере в существование мира, по сути своей являющегося копией тела взрослого статусного человека, со всеми соответствующими коннотациями, связанными с тематическими полями не только могущества и оплодотворения — но также и разрушения. В то же время мир несовершеннолетних, женщин, рабов и прислуги целиком полностью принадлежит отцу или начальнику. Последний, через посредство mainbour, структурирует этот мир, тем самым фактически «оживляя» своих вассалов. В свете этих эмоциональных и религиозных отношений социальные разногласия буквально растворялись и freund становился frei — раб, он же друг, обретал свободу. Поэтому нет ничего удивительного з том, что в эпоху Каролингов вассалы стали свободными и что захвату власти Каролингами в значительной степени содействовали группы вооруженных слуг, жившие под одной крышей. Карлу Великому человеческие связи казались настолько сильными и надежными, что он счел нужным воспользоваться ими для усиления своего государства. Так, он ввел вассальную зависимость в политическую систему своего времени, сделав всеобщим правилом взимание доходов с земли каждым вассалом и увеличив число вассалов королевских, княжеских, графских и т. д. — в составе пирамиды, которую, по его мысли, он должен был увенчивать собственной персоной. Однако произошло обратное. Во время гражданских войн между сыновьями Людовика Благочестивого вассалы повиновались ближайшему сеньору, а не сеньору слишком далекому, императору, поскольку имели все основания гораздо сильнее опасаться мести со стороны соседнего князька, чем со стороны титулованного правителя. Как очень точно сказал об этом Робер Фольц, «Карл Великий [и его преемники] были преданы своими же людьми».
В этом случае перед нами встает проблема, имеющая глубоко личностное свойство — проблема обмана и клятвопреступления. В социуме, где доминирует молодежь — а в следующей главе мы увидим, что дело обстояло именно так, — соблюдение данного другому человеку слова практически не волнует индивида, переживающего острое наслаждение от настоящего мгновения. Задумываться о времени и о том, что будет дальше, — удел дряхлых старцев. Лжесвидетельство и клятвопреступление были настолько распространены, что Салическая правда, которая обычно посвящает в среднем три или четыре строки каждой статье, этим вопросам отводит три параграфа; и только один из них — о человеке, который отказывается соблюдать данное обещание, — занимает целых тридцать восемь строк! Проблема, судя по всему, была весьма животрепещущей: так, Теодульф, присутствовавший на одном судебном процессе, был повергнут в полное смятение невероятным обилием лживых клятв, которые давали все его участники — обвиняемые, обвинители, сами судьи, готовые в любой момент привлечь к делу несуществующий прецедент, не говоря уже о свидетелях. Что же говорить о Поле лжи (Lügenfeld), равнине, находившейся в пятидесяти километрах от Кольмара, где одной трагической ночью приверженцы Людовика Благочестивого один за другим предательски по кинули императора, оставив его в одиночестве, — чтобы тут же присоединиться к его сыновьям? Никогда человеческие отношения не обнаруживали такой слабости, как в этот момент поругания самого понятия дружбы — особенно после того как Людовик начал побуждать тех немногих, кто остался верен ему до конца и не пожелал оставить своего господина, все–таки уйти, «чтобы не лишиться жизни или не получить из–за него увечья». Индивидуальная ложь представляла собой силу в высшей степени разрушительную. Церковь настолько хорошо это чувствовала, что практически во всех пенитенциалиях Раннего Средневековья клятвопреступление считается самым тяжким в перечне особо тяжких грехов. В пенитенциалии святого Колумбана, самом распространенном и авторитетном из всех, человек, виновный в клятвопреступлении, совершенном из корыстных побуждений, осуждался на за точение в монастыре на всю оставшуюся жизнь, тот же, кто совершил это деяние из страха, должен был провести семь лет в покаянии, из которых первые три — на сухом хлебе и воде, и, что особенно страшно для той эпохи, — в изгнании и без оружия; кроме того, он должен был раздать едва ли не все свое имущество в качестве подаяния и освободить рабов! Короче говоря, если изначально вассалитет был питомником друзей, этаким фаланстером молодых людей, преданных человеку старшему, или же боевой ударной группой, — то был он также и клубком змей, и своеобразной социальной иллюстрацией принципа бумеранга.
Между тем сплоченность вассалов между собой была гораздо слабее, чем сплоченность других групп. Старые римские корпорации не исчезли полностью — или по крайней мере исчезли не все; весьма вероятно, к примеру, что корпорации каменотесов или стекольщиков продолжали существовать, бережно храня секреты производства и ноу-хау. Григорий Турский описывает случай с архитектором, который неожиданно потерял память о своих навыках и мастерстве. Тогда во сне ему явилась Святая Дева и вернула все утраченные знания. Этот эпизод показывает, насколько было важно, даже для южан, прямых наследников римской цивилизации, заучивание наизусть и сохранение культуры и профессии с помощью устной передачи от человека к человеку. Более известны маргинальные сообщества, которые священники всячески изобличают, называя их «заговорами», другие же авторы именуют те же объединения «гильдиями». Самые разные люди — крестьяне, ремесленники, а главным образом торговцы —
давали взаимные клятвы поддерживать друг друга, как равные равных, — чего бы это ни стоило. Подобные присяги старались принимать 26 декабря, в день праздника языческого бога Юла, когда можно было общаться с душами мертвых, которые в этот день возвращались на землю, — и с демонами. Будущие коллеги устраивали огромные пиршества, где объедались до рвоты и напивались До потери чувств, что позволяло войти в контакт со сверхъестественными силами. И тогда каждый торжественно клялся. кто — убить такого–то, кто — поручиться за такого–то в сделке, и т. д. Многие церковники протестовали против этих объединений как откровенно опасных для общественного порядка, но прежде всего их беспокоили вещи куда более, с их точки зрения, серьезные: эти сборища носили характер сатанинский и аморальный. Гинкмар в 858 году тщетно пытался их христианизировать. Церковные соборы их запрещали В действительности же эти группы, способные в любой момент превращаться в самые настоящие отряды самообороны, иногда оказывались весьма полезны — скажем, для борьбы против викингов, как, например, в 859 году, между Сеной и Луарой. Объединения торговцев очень часто были попросту необходимы, чтобы противостоять морским пиратам или чтобы навязать свои цены в иностранном порту, где купцы сходили на берег. Эти гильдии, называемые так из–за денежных сумм (geld), которые каждый вносил в общий фонд, судя по всему, действовали очень эффективно. Они были вполне способны диктовать всем прочим социальным группам свои экономические условия, что объясняет стойкую неприязнь Церкви по отношению к торговцам и мещанам вплоть до XI столетия. Тогда эти весьма любопытные сообщества еще смешивали между собой право на законную самооборону и мотивацию куда более сильную, основанную на «пищевом» братстве и уравнительном эгалитаризме.
Еще более закрытыми были еврейские общины. Выходцы из римской диаспоры I и II веков — а в их случае это была уже диаспора второго порядка — утверждаются в галло–римских городах в меровингскую эпоху, затем в эпоху Каролингов закрепляются в Септимании (нижний Лангедок), в Рейнской области и в Шампани. Сосредоточенные на Торе, Законе, ставшем вместе с Библией их единственной настоящей родиной, эти общины, состоящие из еврейских семей, управлялись советом глав семейств, в котором не было единого духовного лидера. Раввины были не более чем учителями, а каждый верующий занимал определенное мести в социальной иерархии. Община выбирала одного из своих членов, с тем чтобы от общего имени вести переговоры с язычниками, goyim (иноверцами), то есть, фактически, с христианами, — по урегулированию проблем сосуществования, размеров пошлин и т. д., — и поэтому внутренняя и частная жизнь еврейских общин была абсолютно закрыта для галло-римлян и франков. Одновременно непроницаемая изоляция и интеллектуальное превосходство евреев, накопивших колоссальный опыт в толковании Писания, побуждали христиан измышлять всевозможные небылицы об этих автономных сообществах, анонимных союзах и странствующих торговцах, которые, живя по соседству, могли одновременно являться агентами чужеземных общин — испанской, египетской, итальянской и т. д.
Гораздо лучше христиане относились к общинам монашеским — как к пространствам умиротворения и трамплинам в вечность. Их закрытость не казалась подозрительной, но воспринималась, скорее, как идеальный микрокосм, этакое антиобщество, миниатюрное и незначительное по сравнению с жестоким миром, который его окружал. Конечно, первые монастырские уставы, действовавшие в Галлии начиная с V века, еще несли на себе отпечаток веселой анархии тех атлетов богоискательства, каковыми были неграмотные египетские крестьяне, чемпионы в искусстве поста и умерщвления плоти. Но вскоре, благодаря святому Колумбану, ирландскому монаху, который объединил древние уставы с уставом святого Бенедикта Нурсийского, умершего к 560 году, это закрытое пространство, охраняемое привратником, становится характерным элементом духовного и физического пейзажа по всей Галлии. Святой Бенедикт считал, что «монастырь должен, насколько это возможно, быть организован таким образом, чтобы производить все необходимое, иметь воду, мельницу, сад и Разные ремесла, чтобы монахам не было нужды выходить за его стены, так как это пагубно для их душ». Однако, в противоположность еврейским общинам, монахи, жившие в монастырях, не порывали связей с внешним миром и не инкапсулировались окончательно, отторгая окружающую социальную структуру. Они принимали гостей, паломников неофитов. Это был максимально замкнутый мир людей ищущих Бога, но в то же время он оставался приоткрыт для братьев–мирян. Принимая решения по многочисленным вопросам, отец аббат неизменно должен был консультироваться с советом своих братьев, монахов. Отношения в общине выстраивались одновременно по горизонтали и по вертикали. Ее приватное пространство служило своеобразным мостиком между двумя мирами — земным и небесным. Так, после церковного собора в Эксе в 817 году Людовик Благочестивый поручил своему советнику, Бенедикту Анианскому, распространить бенедиктинский устав по всей Империи. В результате увеличилось число самых настоящих социальных микроорганизмов, живых утопий братства, о которых Адельгард, аббат Корби, в 822 году сказал, что они не должны превышать численности в четыреста человек, включая работников–мирян, иначе в них воцаряются обезличивание и очерствение человеческих отношений. Действительно, в понимании Бенедикта аббат (abba, «отец» в переводе с арамейского) должен быть внимательным отцом, который воспитывает и направляет своих духовных сыновей на путь познания Бога, обучая их добродетелям молчания и смирения. В то же время, исходя из этой логики, понятно, почему впоследствии монастыри превращаются в то место, где на устойчивой основе парадоксальным образом сочетаются между собой элементы художественной мастерской и духовной школы. Бенедикт так настаивает на роли постоянной общины, живущей по уставу, что приходит к строгому осуждению странствующих — тех монахов египетского или ирландского типа, которые бродят от одной обители к другой безо всякого контроля, — и требует, чтобы затворникам было разрешено жить в одиночестве только после длительного пребывания в монастыре.
Слабость одиночки
Таким образом, он явно шел против течения, так как одним из самых удивительных новшеств в германо–латинских социумах было развитие отшельничества, проходившее в несколько последовательных этапов. Просто поразительно, какое широкое развитие получило это движение в мире, сплошь построенном на насилии, где, как мы увидим, для защиты индивида была необходима пусть небольшая, но община. Итак, некий человек — в некоторых случаях без всяких колебаний — уединялся в глуши лесов Галлии, которые в те времена должны были покрывать больше двух третей территории страны, и становился настоящим дикарем, лесным человеком (латинское silvaticus, «дикий», действительно происходит от silva, «лес»). В этом стремлении к изоляции не было ничего общего с суровой мизантропией человека надменного, презирающего моральную гнилость своих современников. Прежде всего это было опасно, поскольку отшельник уподоблялся человеку вне закона, покинутому своим племенем, которого кто угодно может убить как бешеную собаку. Многие отшельники и в самом деле погибли насильственной смертью. Этот уход от мира, как показал Жан Эвклен, в самом деле являлся попыткой дистанцироваться, поиском личного контакта с Богом, который потом посылает уверовавшего в него, преисполненного любви человека завоевывать мир. Необжитые земли вокруг отшельника мало–помалу заселяются; расцветают монастыри, а вскоре и города. Только в Северной Галлии с V по XI век более трехсот пятидесяти отшельников подобным образом духовно и материально преобразили социальную, экологическую, а главное человеческую среду. Три больших волны отшельничества — первая в V веке, вторая в VI и VII столетиях — были обусловлены влиянием высокой культуры ирландцев и аквитанцев.
Позже это движение вступило в период кризиса, а затемни вовсе свернулось под давлением каролингского законодательства, которое, стремясь построить упорядоченное общество, сделало недоверие Бенедикта Нурсийского к странникам недоверием всеобщим. Упорядочению подверглась даже жизнь затворников и затворниц, которые запирались в тесных кельях или, как Хильтруда из Льесси, в часовне, стоявшей рядом с церковью и сообщавшейся с ней посредством маленького окошка. Устав Гримлака, созданный в первой половине IX века, полностью пресек эту практику, разрешая ее лишь немногим, дабы исключить сумасшедших и неуравновешенных. Поэтому третья волна отшельнического движения смогла подняться только после 850 года. Необходимо подчеркнуть еще одно немаловажное изменение. В то время как в VII веке среди нищенствующих во славу божию было очень много простолюдинов и женщин, к концу каролингской эпохи большинство составляли представители знати — и мужчины. Пророческое, маргинальное, а в предельных случаях даже и разрушительное одиночество с трудом вписывалось в разраставшиеся церковные структуры. Чтобы им противостоять, нужны были персоны социально значимые. Тем не менее эти необыкновенные люди продолжали пользоваться народной любовью и олицетворяли противоположность окружающему — несправедливому — обществу. Эти проповедники, первопроходцы, земледельцы были столь воздержанны, что довольствовались травами, кореньями, куском черствого хлеба и глотком гнилой воды. Постоянными молитвами в тишине своих добровольных узилищ они исцеляли душу и тело и изгоняли бесов, старых языческих богов. Наконец, они ничего не имели, живя в хижинах из веток. Отказываясь от ненасытного стремления к обладанию собственностью ради обретения радости бытия, отшельник, по сути, представлял собой воплощение антиобщества, альтернативной жизненной модели Однако нужно было обладать немалым мужеством, быть незаурядной личностью, чтобы без страха встречать трудности этого духовного пути и не поддаваться чувству оставленности (в том числе и богом), которое является неизменным спутником одиночества. Куда проще было по слабости своей укрыться в защищенном пространстве, которое церковь стремилась предоставить «убогим», то есть тем, кто не имел высокопоставленных покровителей, чтобы избежать наказания за преступление или спастись от ложного обвинения. Нищий мог найти убежище при каждом храме, соборе или сельской приходской церкви, вписав свое имя в матрикул, список, который обеспечивал ему, вместе с дюжиной (символическое число) других товарищей по несчастью, кров и стол. Беглый раб, закоренелый убийца, брошенная жена могли укрыться на территории убежища — «паперти» храма, то есть прилегающей к западному фасаду церкви тройной галереи с колоннадой. Эти пространства были священны, а потому неприкосновенны, как земли, принадлежащие святому покровителю. Зоны подлинной свободы, они принимали вперемешку и целые семьи, и несчастных опустившихся людей, и отъявленных негодяев — в настоящий пандемониум бродяг. Поскольку там располагались надолго, некоторые предавались пьянству и разврату, тогда как их враги, взбешенные тем, что добыча от них ускользает, с нетерпением выжидали момент, когда жертва, потеряв бдительность, выйдет за пределы священной ограды и с ней можно будет тотчас расправиться. Григорий Турский, в частности, сообщает, что в его городе, внутри базилики Святого Мартина и непосредственно перед ней, герцог Клод устроил настоящую засаду на некоего Эберульфа; эта засада была наголову разгромлена во время грандиозной потасовки между рабами обоих господ, вассалами и церковными старостами — вскоре пол был залит кровью. Несмотря на подобные нарушения, а возможно и благодаря им, право убежища неизменно сохранялось в обществе Раннего Средневековья, становясь лучом надежды для слабых и местом отдыха для циников.
Та же идея защищенного пространства, охраны безоружных лиц от лиц вооруженных, как мне кажется, порождает привилегию иммунитета. По просьбе епископа или аббата король Даровал землям, которыми владела их церковь, право свободы каких–либо досмотров, инспекций, налогообложений и т. д., каковые по закону там мог осуществлять королевский служащий. Таким образом, земли получали иммунитет от местною тирана, а епископ или аббат, не имевшие возможности обнажить шпагу, были защищены от каких–либо преследований и могли расходовать свою прибыль на многочисленные в обложенные на них строительные и благотворительные нужды Наконец, идея ограды и ее реальные воплощения представляются мне факторами воистину фундаментальными в процесс возникновения в меровингской и каролингской цивилизациях «своей маленькой частной территории», собственной сферы вляния и островка законной неприкосновенности. Когда саксы обосновались в Булони, они построили деревни из землянок и шалашей, окруженных живой колючей изгородью, называемой zaun. Слово оставило следы в современных топонимах, таких как Ландретен и Бенктен. Zaun в конце концов превратилось в thun, а в английском — town, город. Последний является, в духе германцев, прежде всего изолирующим поясом, островком частной жизни. Кроме того, в законе бургундов и Салической правде нередко встречаются упоминания о пограничных деревьях, границах и изгородях на полях. Особенно строго были защищены виноградники: всякое чужое домашнее животное, которое потопчет или погрызет виноградные лозы и грозди, будет незамедлительно убито. С помощью необычайных процедурных ухищрений франкские рахимбурги наказывали того, кто украдет собранный в снопы урожай, срубит яблоню или грушу, увезет чужое сено или тем паче разрушит ограду, — за все это назначали разные штрафы, от 3 до 45 солидов. Тот же, кто сломает несколько звеньев ограды, или перевезет их на повозке для своего собственного пользования, или спрячет их, должен будет заплатить штраф в размере от 15 до 65,5 солида. Огромные суммы, поскольку раб или лошадь в то время стоили 12 солидов! Какое же у франков было желание защитить свою частную собственность, если они с таким рвением ее огораживали! Законы бретонцев обнаруживают ту же тенденцию, и это отсылает нас к кельтским и германским корням рощи Тьераш и современного французского Запада.
 Рис. 28.
Рис. 28. План монастыря Санкт—Галлен. Как показали археологические раскопки, этот план, нарисованный Хейтоном для аббата монастыря Санкт—Галлен, был действительно осуществлен. Номером 11 обозначен гостевой дом для знатных посетителей, 31 — гостиница для паломников и бедняков, каждая со служебными помещениями (Exposition Charlemagne, Aix–la–Chapelle, 1965, рр. 400–401)
Однако самым дорогим огороженным пространством, без сомнения, был сад. Иногда франки выращивали в саду только какую–нибудь одну культуру — репу, турецкий горох, бобы или чечевицу. Но чаще всего в садах выращивали все. Фортунат, епископ Пуатье, в стихотворении так описывает сад одного из своих друзей: «Здесь пурпурноликая весна заставляет расти зеленые газоны, а воздух наполнен райским благоуханием роз. Там молодые виноградные лозы дают тень, защищая от летней жары и служа укрытием лозам, отягченным гроздьями. Весь этот участок усыпан тысячами разнообразных цветов. Одни плоды белого цвета, другие — красного. Лето здесь мягче, чем в других местах, и ветерок с тихим шелестом беспрестанно колышет висящие на ветках яблоки. Хильдеберт прививал их с любовью». Это место интимного отдыха и индивидуального труда, сад был маленьким миром, где каждый вкушал удовольствия жизни и готовился отведать овощей и фруктов, выращенных своими руками, которые, как известно, куда слаще тех, что растили руки чужие. Интимная связь, создаваемая садовником между возделанной землей и плодами, которые укрепят ею здоровье, имеет природу одновременно физическую (благодаря пролитому поту) и духовную (благодаря заботе об их росте). Сады монастырские и сады крестьянские, сад монастыря Санкт-Галлен, как и любой из тех садов, что существовали в каждом крупном каролингском поместье, — все требовали множества подсобных работ: рыхления почвы мотыгой, посева, пикировки, прополки и ремонта изгородей. Также очень часто встречались фруктовые сады, где могли выращивать по одному дереву от разных плодоносящих видов. Монахам рекомендовалось отводить несколько грядок под лекарственные растения — кустарниковую полынь, которая исцеляет подагру, укроп, помогающий при запорах, кашле и болезнях глаз, кервель, останавливающий кровотечения, и полынь для снижения температуры. Одним словом, в садах заботливо выращивали и деликатесы на десерт, и лекарства, способные вернуть страждущему радость жизни.
Кроме того, зачастую они были предназначены для приема гостей. Усталость и опасности, которые угрожали путешественнику, разбойники и овраги, заставлявшие аббата Лупа из Ферьера советовать своему другу брать с собой нескольких сильных спутников для защиты от нападений и грабежей, скоро забывались в атмосфере теплого общения в монастырской гостинице или в доме знатного франка. На самом деле гостеприимность была обязательной. «Тот, кто откажет прибывшем гостю в крове или очаге, заплатит 3 солида штрафа», — уточняет закон бургундов. Зимой нельзя отказывать им в сене или ячмене, которые необходимы их верховым животным. Впрочем, по предписанию аквитанского капитулярия 768 года, любой свободный человек, призванный в войско и направлявшийся в пункт общего сбора, бесплатно получал необходимые ему воду и траву. ® 789 году Карл Великий настаивал на необходимости организовать гостиницы «для путешественников, приюты для бедных при монастырях и церковных общинах, потому что в великий день воздаяния Господь скажет: „странником был, и вы приняли меня”». Это аллюзия одновременно и на Евангелие, и на устав святого Бенедикта. Таким образом, гостеприимство являлось священным долгом, по сути своей религиозным, и для язычников, и для христиан. Действительно, на плане монастыря в Санкт—Галлене справа от входа мы видим дом для паломников и бедняков, квадратную комнату со скамьями, два дортуара, служебные помещения с квашнями, печью и пивоварней, слева же расположен дом для гостей с двумя отапливаемыми комнатами, помещениями для слуг и конюшнями для верховых животных. Все это было весьма обременительно с финансовой точки зрения, как для больниц в прямом смысле этого слова, называвшихся xenodochia, так и для приютов для странствующих монахов, особенно ирландцев, hospicia Scottorum, которые направлялись через Галлию в Рим и на Восток. Предугадать возможное количество гостей было сложно. Скажем, в Корби планировали принимать на ночь по Двенадцать бедняков и запасали для них по полторы ковриги хлеба на ужин и в дорогу, оставляя еще двадцать семь ковриг на случай, если народу вдруг придет больше. А в Сен—Жермен—де—Пре в 829 году насчитывалось до сто сорока гостей в день! Фактически каждый епископ и каждый аббат, в конце концов, встраивал у себя одну гостиницу для бедных, другую для богатых, графов, епископов и других сановников, путешествующих по делам. И все же странноприимство не было деятельностью само собой разумеющейся. Так, святой Бонифаций сообщает что в 730 году его англосаксонские соотечественницы, отправившиеся в паломничество в Рим, чтобы добраться до цели были вынуждены по дороге в каждом городе заниматься проституцией. Из–за вероятности отказа в милостыне, порождавшего такой своеобразный способ умерщвления плоти, Церкви пришлось запретить паломничества женщинам. Салическая правда очень строго карала (300 солидов) убийцу королевского гостя, то есть близкого друга властителя, поскольку король делил с ним хлеб, и обязывала выплатить цену убийства гостя всем тем, кто принимал участие в одной с ним трапезе. Таким образом, общность трапезы, несмотря на обремененность смыслами, не всегда приводила к «перевариванию» чужака, который всегда в большей или меньшей степени воспринимался как враг. Тем более важно, что на будущее устав святого Бенедикта устанавливал, что «аббат и вся община омоют ноги каждого гостя». Это было началом кардинальной трансформации менталитета.
Уют домашний и застольный
От разговора о гостеприимстве мы переходим к домашнему пространству и попадаем в святая святых частной жизни. Прекрасные здания галло–римских вилл с мраморными полами и мозаиками из черных и белых квадратиков по–прежнему существовали в регионах, расположенных к югу от Луары. Описания, которые дают нам на сей счет Сидоний Аполлинарий в V веке и Фортунат в конце VI века, доказывают, что Айда в Оверни, Бур, Бесон, Борш и Преньяк в Бордоле нимало не утратили римского искусства жить в сельской местности с городским комфортом, как это было во времена Плиния Младшего. Однако археологические раскопки, в частности в Севиаке в Гаскони, показывают, что в разное время в разных регионах происходили отход от традиций или их трансформация. Взводились новые, более грубые каменные постройки, а планы королевских или господских жилищ в крупных каролингских поместьях становились намного примитивнее. Самый известный пример — Аннапп, где в начале IX века был «дом очень хорошей постройки, каменный, с тремя комнатами: все здание окружено одноэтажной деревянной галереей, в которой находятся одиннадцать маленьких отапливаемых комнат; внизу подвал; два портика; в глубине двора семнадцать других отапливаемых деревянных домов с таким же количеством комнат и другие подсобные помещения в хорошем состоянии, стойло, кухня, пекарня, два овина, три амбара. Двор надежно защищен оградой с каменными воротами, а сверху — деревянная галерея, служащая кладовой (для хранения провизии). Маленький дворик с красивой планировкой также обнесен оградой и засажен деревьями разных пород». Читатель, вероятно, обратил внимание на значимость оград и на появление деревянных конструкций внутри каменных построек и рядом с ними. Большинство зданий, вероятно, действительно были деревянными, с саманными стенами и соломенными крышами. Фортунат, итальянец, привыкший к камню, тем не менее восхищается тем, что он называет «дворцом из досок», причем доски эти скреплены так основательно, «что там совсем не видно щелей». Это творение плотника должно было быть поистине роскошным, поскольку археологические раскопки позволили реконструировать самые настоящие хижины, в которых жили крестьяне, «жалкие жилища… крытые листвой» (Григорий Турский). Их размеры, к примеру, в Бребьере или в Провиле, на севере, составляли от 2 до 6 метров в длину и порядка 2 метров в ширину. Раскопанные фундаменты на самом деле были подвалами под полом. Два, четыре, шесть или восемь столбов, которые проходили сквозь эти фундаменты, поддерживали соломенную крышу, спускавшуюся до земли. Таким образом, самые маленькие хижины на уровне подвала занимали площадь в 2,5 квадратных метра и порядка 5 квадратных метров на поверхности земли. Никаких следов очага в этих жилищах обнаружено не было, видимо, они были чем–то вроде времянок или предназначались для занятий ткачеством — а может быть, служили для хранения инструментов. Рядом в земле обнаружено множество мусорных ям и ям для зерна в форме бутылей. Следы очагов были найдены лишь в нескольких местах снаружи от хижин. По сравнению с этими более чем примитивными лачугами, в Дуэ археолог Пьер Демолон обнаружил две настоящие прямоугольные фермы, построенные из дерева: первая — меровингская, вторая, превосходящая ее по размерам, — каролингская, 16 метров в длину и 4 метра в ширину. Последняя имела по углам массивные дубовые столбы, вкопанные в землю, и стяжки в фундаменте, доказывающие, что конструкция здания была очень прочной. Анализ остатков дерева и экскрементов показывает, что дорожки и изгороди, сплетенные из орешника, позволяли ходить от одного здания к другому и охватывали весь комплекс в целом. В самом большом доме, должно быть, жили вместе люди и животные. И вдруг перед нами предстает картина повседневной жизни этих мужчин и женщин, которые прячут свое зерно и вино в ямах и подвалах, делятся теплом с животными, топчутся по навозу и грязи. Похожие фермы, построенные из камня, существовали и на Юге, например в Ларине в Бургундии, в V веке, но крыша там вместо соломы была крыта плоскими камнями.
Надо полагать, что имущество, хранившееся в погребах и подвалах, привлекало воров, поскольку Салическая правда предусматривает 15 солидов штрафа для того, кто ограбит одну из этих подземных домовин (screona), если она не заперта, и 45 солидов, если заперта. Утварь в этих жилищах была очень бедной: несколько шарообразных горшков красной, серой или черной керамики, котелки с коническими горловинами, подвешенные над огнем за ручки, костяные шилья и ножи. Украшена была только раннехристианская штампованная керамика — блюда и тарелки, изготовленные на Юге. Позднее к этому прибавилась керамика каролингская — разновидности фляжек, производившихся в Пингсдорфе и Бадорфе. Даже если У самых богатых и были стеклянные кубки или серебряные и бронзовые блюда, в целом утварь все же не отличалась разнообразием. Единственным большим новшеством стало изменение функциональных свойств столовой утвари: блюдам стали предпочитать кубки и другую посуду, которую можно держать одной рукой. Получают распространение кубки и чаши конической формы. Раннехристианская керамика такого типа появляется начиная с V века. Это доказывает, что даже на Юге римская манера принимать пищу лежа, опираясь на локоть, вытесняется галльской привычкой есть сидя за столом. У германцев это было принято уже давно и позволяло пользоваться ложкой и ножом, но прежде всего — есть двумя руками, очень часто пальцами, следовательно, как мы уже имели возможность убедиться, предполагалась необходимость достаточно часто их мыть — практика одновременно языческая и гигиеническая.
Вечерние трапезы, всегда более значимые, чем дневные, представляли собой настоящие религиозные ритуалы. Разделив трапезу, два человека становились друг для друга неприкосновенными. Участие в пиршествах сплачивало общину и поддерживало ее связь с богами, поскольку они были источником жизни и обновления. Галлы славились своей прожорливостью уже в IV веке, в эпоху аквитанца Сульпиция Севера. С приходом германцев эта склонность к обжорству только усилилась. Франки изобрели суп — мясной бульон с намоченным в нем хлебом — который ели в начале трапезы. Хильперик, чтобы задобрить Григория Турского, который называл его Нероном или Иродом нашего времени, предложил ему суп, более изысканный, чем обычный, сдобренный птичьим мясом и нутом. Григорий не притронулся к угощению — это значило бы одобрить политику неправедного властителя! У галло–римлян эквивалентом супа было пюре из сушеных овощей, pulmentum. Затем шли мясо в соусе и жареное мясо, то есть говядина, баранина, свинина и дичь. Все сопровождалось капустой, репой, редисом, было приправлено чесноком, луком и множеством пряностей, призванных облегчать пищеварение, — перцем, тмином, гвоздикой, корицей, нардом, острым стручковым перцем, мускатным орехом. Разные блюда часто поливали соленой приправой garum, приготовленной из вымоченных в маринаде внутренностей скумбрии или осетра с устрицами. Он был похож на современный ныок мам
[72]. Фортунат оставил нам описание совершенно пантагрюэлевских по размаху пиршеств, с которых он уходил «с животом, раздувшимся, как шар». Григорий Турский с возмущением говорит о двух епископах, Салонии и Сагиттарии, которые проводили ночи, пируя и пьянствуя, поднимались из–за стола с наступлением утра, спали, а затем, вечером, «возлегали за пиршественным столом, чтобы насыщаться ужином до рассвета». В свете всех этих сведений легко понять, что пост был не гигиенической необходимостью, но религиозной контрмерой, призванной противостоять культу утробы. Богатый бретонец Виннош довольствовался тем, что ел только сырые травы. Один монах из Бордо «не ел даже хлеба и только раз в три дня выпивал полную чашу травяного отвара». Факт, сам по себе весьма информативный, поскольку некоторые пили еще больше, чем ели. К концу одной пирушки в Турне, когда «стол убрали, все остались на скамьях, кто где сидел; было выпито столько вина и столько съедено, что рабы [и гости] валялись пьяные по всему дому, каждый там, где упал». Для сознания, привыкшего к тому, что опьянение есть дар богов и путь к истинному экстазу, трезвость вовсе не была достоинством. Кроме того, не будем забывать и о том, что вино было в то время единственным тонизирующим средством, доступным каждому Однако не следует полагать, что обжорство и пьянство были привилегией богатых. Мы только что видели, что рабы принимали в этом участие. Нет, такое поведение было общепринятым не только для всего меровингского общества, но и для общества каролингской эпохи. Святой Колумбан, который рекомендовал своим монахам есть «коренья [репу, редис и т. д.], сушеные овощи, жидкую кашу из муки с маленьким сухариком, чтобы не отягчать живот и не подавлять разум», был бы очень удивлен, если бы увидел обильные трапезы, практиковавшиеся за монастырскими столами. На волне эйфории, вызванной каролингским процветанием, предусмотренные рационы значительно увеличились. В среднем каждый монах потреблял в день 1,7 килограмма хлеба (а каждая монахиня 1,4 килограмма), полтора литра вина или пива, от 70 до 100 граммов сыра и 230 граммов пюре из чечевицы или нута (133 грамма для монахинь). Что касается мирян, тех, кто служил в монастыре, или тех, кто пришел со стороны, они довольствовались полутора килограммами хлеба, но зато им выделялось полтора литра вина или пива, более 100 граммов мяса, более 200 граммов пюре из сушеных овощей и, наконец, 100 граммов сыра. Эти пищевые рационы составляют около 6000 калорий, вдвое больше того, что сегодня мы считаем необходимым для человека средней активности, и на треть больше того, что нужно для человека, занятого физическим трудом. Этот средневековый идеал правильного питания основывается на убеждении, что насыщают человека только тяжелые и жирные блюда, пюре, а прежде всего хлеб. На самом деле все, что едят вместе с хлебом, имеет второстепенное значение — «травы», корнеплоды, фрукты, и даже мясо и пюре. Впрочем, когда нет тарелок, каждый съедает любые из перечисленных легких закусок прямо на кусках хлеба. Это почтительное отношение к хлебу хорошо характеризует слово companaticum — «то, что сопровождает хлеб», — которое позднее, в старофранцузском превратилось в companage.
Вторым элементом, необходимым для того, чтобы облегчить усвоение этих изобильных и неудобоваримых блюд, конечно же, было вино — вино, вероятно, очень легкое, но количество его удваивалось, когда не оставалось больше пива! В конце концов, учитывая необычайное однообразие этой еды, приправы, специи и garum были необходимы, чтобы возбуждать аппетит и стимулировать задремавшие вкусовые рецепторы.
Я повторяю, что это был обычный режим питания, и крестьяне, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, также ею придерживались. Когда же наступал праздник, все намеренно предавались излишествам. Праздничный рацион для монахов, каноников и мирян и в самом деле увеличивался еще примерно на треть. Христианский календарь включал по меньшей мере шестьдесят праздничных дней. Сюда добавлялись дни памяти некоторых особо почитаемых святых, а в крупных монастырях — поминальные трапезы в честь членов каролингской династии. Во время подобных больших праздничных пиршеств монахи съедали столько же хлеба, сколько в обычные дни, а норма вина и овощного пюре удваивалась, кроме того, в эти исключительные дни каждый получал по шесть яиц и по две птицы. На некоторые праздники каноники в Мане получали килограмм мяса и примерно пол–литра «микстуры» — вина, ароматизированного укропом, мятой или шалфеем. На время поста мясо и птицу заменяли морская камбала, копченая пикша, вьюны или морские угри. В общей сложности рационы доходили до 9000 калорий.
Как и почему в этих условиях поглощалось такое количество еды? Чрезмерное содержание углеводов и протеинов, недостаток витаминов требовали долгих сиест для ее переваривания, вызывали отрыжку и скопление газов в кишечнике, сопровождавшиеся самыми что ни на есть звучными акустическими эффектами, которые было принято считать признаком крепкого здоровья и выражением благодарности радушному хозяину. Гость был доволен только тогда, когда его живот был набит битком. Подобные пищевые практики не имели ничего общего с роскошными и изысканными пирами, а весь смысл обжорства сводился к борьбе с чувством голода, которое возвращалось снова и снова потому, что питание было не сбалансировано. Как следствие, появился физический тип заплывшего жиром толстяка, а несчастные монахини преклонного возраста, получая в качестве подаяния нескольких поросят, мучились от того, что их желудки были уже не в состоянии нее это переварить. Но такой порядок вещей в конечном итоге порождал чувство постоянной неудовлетворенности. Карл Великий испытывал неприязнь к своим лекарям потому, что они, из–за его слишком полнокровной комплекции, запретили ему есть жареное мясо. Таким образом, страдания толстяков превращали их в самых настоящих мучеников, вынужденных постоянно сносить пытку ожирением.
Языческие религиозные представления, усиленные христианскими, были неизбежной причиной всех этих пантагрюэлевских пирушек. Германская традиция поминальных династических трапез берет свое начало в жертвенных застольях язычников, объединений и гильдий, о которых мы говорили выше. Кроме того, человек, который много ел, подтверждал тем самым свою прокреативную мощь. Призванные обеспечить физическое и духовное спасение каролингской династии, эти невероятные пиршества, сопровождавшиеся обязательными молитвами, упрочивали положение королевской власти и увековечивали ее преемственность, поскольку молитвы возносились и за то, чтобы королева или императрица стала матерью. Согласно забавной и богоугодной желудочной алхимии, набитое брюхо монаха соответствовало округлившемуся животу королевы. Мышление этой эпохи было не способно ни отделить, ни даже отличить дух от тела, веру от знания, сердце от разума. Если четверть или две пятых времени литургии были посвящены пиршествам, значит, это было необходимо. На этих пирушках свойственное эпохе литургическое благочестие стремилось вызвать у присутствующих непосредственное ощущение того, что счастье материального существования и радостное ликование духа едины. Спасение империи и императора, здоровье его супруги и потомства, победу армии и изобилие урожая можно обрести в молитвах и застольях: благочестие, проникая с едой и вином в утробу верующих, приводит к подлинному воплощению, я бы сказал, подлинному слиянию вер — веры в Бога и веры в тех, кого он наделил властью. Забавная амальгама, с которой мы еще встретимся.
Этот настоящий культ пищевой избыточности, который исповедовали мужчины и женщины, способные испытывать только сильные чувства, в X веке исчез из повседневной практики — но остались пиршества, длившиеся по два или три дня. Во всяком случае, церковными соборами XI века клирикам и монахам было строго запрещено следовать каролингской модели питания. Но для матерей семейств и их мужей она продолжала оставаться нормой. Та же ненасытная алчность, которой не могли сдержать ни врачи, черпавшие советы по сбалансированному питанию из «De observatione ciborum»
[73] Анфима и диетических календарей, ни духовные власти и религиозные законодатели, проявляла себя и в скряжничестве.
Жажда золота
Ощущение власти, связанное с обладанием золотом и серебром, окрыляет тех, кто способен накапливать драгоценные металлы. Это зло обличает Григорий Турский, постоянно повторяя строки Вергилия: «О, на что только ты не толкаешь / Алчные души людей, проклятая золота жажда!»
[74] Оставим в покое богатства королей и обратимся к состояниям некоторых влиятельных мирян. Меровингский генерал Муммол оставил после своей смерти 250 талантов серебра и более 30 талантов золота в виде монет или серебряных лоханей и блюд, одно и3 которых весило 170 фунтов. В целом все это составляло 5250 килограммов серебра и 750 килограммов золота. Серебряная лохань весила почти 56 килограммов! Крупный франкский собственник, который захватил в заложники и обратил в рабство сына южно–галльского сенатора, просил за него выкуп в 3 килограмма и 270 граммов золота, то есть стоимость тридцати рабов! Образованный раб Андархий, управлявший делами своего хозяина, чтобы жениться на дочери знатной дамы, смог убедить ее в том, что имел 16 000 золотых солидов, то есть 68 килограммов! Жадность не щадила никого. Григорий Турский описывает случай с одним крестьянином, которому во сне явился святой и попросил очистить свою молельню. Так как он этого не исполнил, святой явился снова, сопроводив свою просьбу ударами посоха. Зря он старался! В третий раз святой предпочел оставить на самом видном месте у постели землепашца золотой солид. И — о, чудо! — тот мгновенно сообразил, что от него требовалось. Этим объясняется процесс активной тезаврации, характерный для конца меровингской эпохи, с накоплением гигантских сокровищ в частной и церковной собственности. К примеру, в 621 году епископ Дидье Оксерский, уроженец Аквитании, завещал своей церкви около 140 килограммов золотых и серебряных литургических предметов. Жадность до украшений и драгоценностей была такова, что Фредегонда, которая ненавидела свою дочь Ригунту, однажды заманила ее в ловушку: «Войдя в кладовую, она открыла сундук, наполненный ожерельями и драгоценными Украшениями. Поскольку мать очень долго вынимала различные вещи, подавая их стоявшей рядом дочери, то она сказала: „Я уже устала, теперь доставай сама, что попадется под руку”. И когда та опустила руку в сундук и стала вынимать вещи, мать охватила крышку сундука и опустила ее на затылок дочери. Она с такой силой навалилась на крышку и ее нижним краем так надавила ей на горло, что у той глаза готовы были лопнуть»
[75]. Ригунта была спасена своими рабынями. Тем не менее в качестве приданого к свадьбе с королем Испании она получила пятьдесят телег, наполненных золотом, серебром и драгоценными одеждами. В каролингскую эпоху сокровища богатых мирян не были столь значительны, но, судя по их завещаниям, по–прежнему могли произвести весьма серьезное впечатление. Эбергард, основатель Сизуена, в 865 году имел девять шпаг, клинок и гарда которых были украшены золотом, шесть золотых перевязей, инкрустированных драгоценными камнями и слоновой костью, чаши из мрамора или рога, по крытые золотом и серебром, и т. д. Мы прикоснулись здесь к другой традиции этой цивилизации: к роскоши как маркеру качества жизни, которое, собственно, во многом и определяло статус того или иного человека.
Кроме того, нужно признать, что меровингские и каролингские украшения из золота и серебра были, вероятно, самыми красивыми за всю историю существования ювелирного искусства. Однако вовсе не эстетизм был главной заботой литейщиков, граверов и золотых и серебряных дел мастеров. Лишь немногие из их чудесных произведений — пряжки для ремней с чернью и инкрустациями серебром, найденные в парижских захоронениях, или кубок Тассилона — дошли до нас сквозь столетия. Изначально это были защитные амулеты, которые со временем утратили свою функцию и превратились в предметы сугубо престижные. С V по VIII век ременные пряжки, портупеи с филигранью, вставками из стекла, кабошонами из гранатов, круглые или дуговые фибулы, застежки кошельков, серьги и заколки для волос неуклонно увеличиваются в размерах. Перстень с печаткой, особенно золотой, вроде того, что был обнаружен на правом большом пальце Арнегунды, одной из жен короля Хлотаря I, был и свидетельством личной власти. Знак, который он позволял поставить на восковой печати в конце государственного акта, демонстрировал присущие автору текста статус и уровень богатства. Другие перстни украшены античными инталиями, и меровингскую глиптику нельзя считать упадком по сравнению с глиптикой IV столетия. Впрочем, как показывают раскопки захоронений, постепенно привилегия ношения драгоценностей закрепилась за женщинами и только одна мужская принадлежность — оружие — еще сохраняла прекрасные образцы золотого и серебряного декора. Следует ли из этого, что такое разделение погребальных предметов между полами было бессознательным свидетельством закрепления насилия за мужчинами, а богатства за женщинами?
Прежде чем перейти к рассмотрению роли человеческого тела в частной жизни, следует отметить, что последняя захватила буквально все сферы социального бытия — государство, право, судебную систему, армию, финансы, чиновничество, деньги, дороги. Она стерла принципиальные различия между закрытым интимным пространством личного отдыха и пространством, куда была допущена воинская свита, между общностями с горизонтальными внутренними связями, такими как группы заговорщиков или еврейские общины, и общностями со связями горизонтально–вертикальными, как монастыри. Она умножила количество садов и оград. Она превратила дом и хижину в места, где люди прячут свои сокровища. Но эту частную жизнь, которая все на свете разграничивала и при этом связывала индивидов между собой, раздирало противоречие между наслаждением иметь и счастьем быть. Она порождала ложь и ненасытность, колебалась между стремлением принять чужеземца и желанием ответить ему отказом, одинаково искренне приветствовала и отшельника, и массовые убийства, и, терзаясь зовом утробы и жаждой золота, обожествляла на языческий манер свои инстинкты и желания. Мы увидели стол, заглянули в сундук, подойдем же к постели. Теперь за мечом воина и украшениями женщины нам нужно разглядеть основы раннесредневековой сексуальности.
ТЕЛО И СЕРДЦЕ
Когда епископ Клермон—Феррана Урбик вступал в епископский сан, он развелся со своей женой, как того требовал обычай. «Охваченная желанием, одолеваемая греховными помыслами, она во мраке ночи направилась к епископскому дому. Обнаружив, что все двери в доме заперты, она начала стучаться в них, говоря так: „Доколе ты будешь спать, епископ? Когда наконец отопрешь ты
двери? Зачем ты пренебрегаешь своей спутницей? Почему ты глух к наставлениям Павла? Ведь это он писал: „Не уклоняйтесь друг от друга, чтобы не искушал вас сатана” [1 Кор., 7: 5]. <…>” Долго взывая к нему сими и подобными речами, она наконец охладила благочестие епископа. Он велел впустить ее в опочивальню и, разделив с ней супружеское ложе, отпустил ее». И для контраста тот же автор, Григорий Турский, чуть дальше приводит историю о новобрачных, которые поклялись друг другу соблюдать воз держание и в течение многих лет после этого спали в одной постели, но оставались непорочными. После смерти две их тяжелые гробницы разместили за разными оградами, но однажды утром обнаружили, что они оказались друг подле друга. Это погребение называют «могилой двух влюбленных». Таким образом, место тела и сердца определяется двойным противопоставлением в постели целибата и брака, неуемного либидо и целомудренной нежности. Чтобы разрешить это противоречие, сначала нужно выяснить, какова была роль тела и какой была демографическая ситуация в ту эпоху. Тогда мы сможем лучше понять, каким образом была организована и как развивалась система взаимоотношений, связанная с супружеским ложем, как вписывались в нее ребенок, старик, жена и муж, одним словом, вся семья.
Тело одетое, тело обнаженное, тело обузданное, тело обожаемое
Начнем с того, что всеобщим правилом было ношение сшитой одежды, хотя она и оставалась очень просторной и закреплялась при помощи фибул и поясов. В этом практически не было разницы между галло–римлянами и франками. И те и другие носили льняную рубаху до колен, тунику с короткими или длинными рукавами (напоминающую современную овернскую biaude), штаны, обмотки и кожаные полусапоги или сабо, в зависимости от социальной принадлежности. Женщины поверх туники надевали длинное до пят платье, спереди распашное или с подолом, приподнятым с помощью специальной цепочки, чтобы было легче ходить. Когда было холодно, к этому добавлялись жилет из кожи или красивого меха и, конечно же, широкий квадратный плащ, сагум, который накидывали на спину, а спускающиеся вперед полы закрепляли на правом плече при помощи фибулы. Социальные различия в то время маркировались только богатством ткани, ношением оружия и драгоценностей. Нагота была возможна только в двух случаях: во время купания и во время сна.
Римские бани какое–то время еще сохранялись даже в монастырях, но постепенно стали предназначаться в основном Дни больных. Оставались реки и бассейны возле термальных источников, вроде источника в Эксе, где Карл Великий обожал плавать вместе со своими гостями, коих часто бывало больше сотни. Каролингские правители купались и меняли одежду по субботам. Для туалета у каждого пола были свои ритуалы, а также набор принадлежностей, которые крепились к поясу; расческа, ножницы и пинцеты для эпиляции.
Франки, так же как и их короли, носили длинные волосы, но римляне стригли волосы на затылке, а франки выбривали затылок и лоб и выщипывали бороду. Рабы и представители духовенства, напротив, должны были стричься: у священников и монахов оставалась только корона из волос или, как у ирландцев, нестриженая полоса, идущая от уха до уха. Символические смыслы здесь вполне понятны: длинные волосы означают силу, мужественность и свободу. Короткие волосы у рабов делали очевидным их зависимое положение, а у клириков — их принадлежность Христу. Женские шевелюры оставались нетронутыми и должны были громоздиться на головах, искусно уложенные и скрепленные с помощью длинных шпилек. За стрижку свободного длинноволосого мальчика или свободной девушки Салическая правда предусматривала компенсацию в 45 солидов, а закон бургундов — только 42 за девушку. В нем уточнялось, что за это преступление не должно быть наказания, если оно было совершено за пределами ее дома, во время битвы, в которой она принимала участие.
Закон салических франков столь же суров в отношении правонарушений, которые вводили языческое понимание телесности: если какой–нибудь свободный человек схватит свободную женщину за кисть руки, он должен будет заплатить 15 солидов; за руку ниже локтя — 30 солидов; выше локтя — 35 солидов; и наконец, если он доберется до груди — 45 солидов. Итак, женское тело было табуировано. Почему? Тексты некоторых пенитенциалиев показывают нам, что во время языческих ритуалов молодая девушка или женщина полностью обнажалась, чтобы таким образом способствовать плодородию полей, вызвать дождь и т. д. Следовательно, дотрагиваться До женщины означало наносить ущерб процессу воспроизводства жизни. Женщина и мужчина могли быть обнаженными только в одном месте, там, где происходит зачатие, — в постели. С тех пор нагота стала сакральной.
В христианстве нагота имела совершенно другой смысл. До начала VIII столетия мужчин и женщин крестили обнаженными в восьмиугольных бассейнах, располагавшихся рядом с каждым храмом, в ночь на Страстную субботу. Обнаженные, как Адам и Ева в день Творения, они выходили из воды умершими для греха и воскресшими для вечной жизни. При этом нагота была свидетельством изначальной чистоты их природы, созданной Богом до грехопадения. Нагота христианская символизирует человека сотворенного, а нагота языческая — человека творящего. В каролингскую эпоху исчезновение процедуры погружения в воду во время крещения по сути дела вернуло постели языческий символизм и придало наготе смыслы, связанные с полом и сексуальностью, которых ранее она не имела. Уже в VI веке пришлось убрать распятия, где Христос был пригвожден обнаженным, будто какой–нибудь приговоренный к этой позорной казни раб. Священнику из Нарбонны однажды было видение, в котором ему явился именно такой Христос и попросил одеть его. В эту же эпоху в Византии развивалась традиция изображения Христа на кресте, облаченного в длинную тунику, colobium. Видимо, чувствительность эпохи отвергала это зрелище, которое казалось непристойным, да к тому же еще и опасным, поскольку Христос мог превратиться в предмет обожания для женщин, подобно богам плодородия вроде Приапа или более позднего Фрейра викингов, скульптурные изображения которого в итифаллическом состоянии не оставляют никаких сомнений в приписываемых ему функциях. Таким образом, тело одето, вымыто, причесано, ухожено и, наконец, обожествлено. Но для того чтобы поклонение не превратилось в идолопоклонство — тело необходимо было одеть. Святой Бенедикт это прекрасно понимал, и потому в своем уставе рекомендовал монахам спать полностью одетыми. «Каждый пусть спит на особой кровати» и «если можно, пусть все спят в одном месте», чтобы «как только дан знак, без промедления вставши, спешить на дело Божие, опережая один другого». Ночь монаха также должна быть посвящена любви, но любви к Богу воплощенной в молитве.
Как всегда, подобное языческое поклонение телу неизбежно несет в себе собственную противоположность — ненависть к телу и страх по отношению к нему. В самом деле, Салическая правда обязывала строго наказывать за изнасилование и кастрацию. Чуть позже мы увидим, как каралось изнасилование; пока же любопытно констатировать, что ни римское право, ни закон бургундов не предусматривали строгого наказания за кастрацию, а вот Карл Великий был вынужден добавить дополнительный пункт, касающийся тех, кто совершал это действие, где штраф определялся в размере от 100 до 200 солидов и отдельно оговаривалось, что если подобная участь постигнет антрустиона
[76], виновник должен будет уплатить 600 солидов. Таким образом, эта практика не исчезла в VIII веке, и в коллективном бессознательном франков кастрация была равносильна смерти, хотя в законе предусматривалась даже плата в 9 солидов врачу на лечение жертвы. Рабы, обвиненные в воровстве, могли быть кастрированы, но чаще всего их просто секли плетью. Иногда, в спорных случаях, их подвергали пыткам. Римское право предусматривало пытки для всех осужденных преступников. Случаи, описываемые Григорием Турским, свидетельствуют о настоящем садизме, который проявляли палач и толпа. Зажившие раны истязаемых растравляли снова и снова, приводили врача для лечения несчастного, чтобы потом его можно было «замучить до смерти медленными пытками». Григорий смог спасти диакона Рикульфа от смерти, но не от пытки: «А между тем ничего, никакой металл не смог бы выдержать таких ударов, как этот несчастнейший. В самом деле, он висел, подвешенный к дереву с трех часов дня [9 часов утра], с завязанными назад руками, в девять часов его сняли, растянули на дыбе, били палками, прутьями и ремнями, сложенными вдвое, и не один и не два человека его били, а столько людей, сколько могли подступиться к телу несчастнейшего». Эти методы продолжали применяться и в каролингскую эпоху, в то время как практика ордалии («божьего суда»), имевшая языческие корни, стала появляться гораздо чаще, чем это было раньше. Самое известное из испытаний состояло в том, чтобы заставить обвиняемого пройти босиком по девяти раскаленным добела лемехам плугов. Предполагалось, что Бог должен защитить невиновного от ожогов, а тому, для того чтобы быть оправданным, только и нужно было, что показать через несколько дней, что подошвы ног у него разве что чуть розовее кожицы сливы. Таким образом, Бог входил в чистые тела, но отказывался от всякого контакта с телами, оскверненными убийством. И эта языческая концепция продержалась в христианстве вплоть до XII столетия, несмотря на протесты некоторых епископов — и благодаря архиепископу Гинкмару Реймсскому.
Тело больное, тело исцеленное
Итак, человеческое тело было настоящим полем битвы между добром и злом, между болезнью и чудодейственной божественной силой, которой можно было причаститься, помолившись нужному святому. И в самом деле, физические страдания причиняли не только люди. Эпидемии вроде бубонной чумы опустошали Галлию в VI и VII веках. Появление бубонов в подмышках предвещало скорейшую смерть — практически никто из зараженных чумой не исцелялся в великих святилищах Галлии. Люди, пораженные медленно прогрессирующей чумой болезни, были попросту безнадежны. Протоколы многочисленных чудесных исцелений, переписанные в нескольких сотнях экземпляров, как в меровингскую, так и в каролингскую эпоху монахами–врачами, которые умело ставили диагнозы на манер Гиппократа, позволяют нам получить картину состояния здоровья населения, весьма информативную с точки зрения оценки общей статистики заболеваемости той эпохи. Поразительно, что в каких бы регионах Галлии ни находились крупные центры паломничества, среди исцеленных был 41 процент пораженных параличом, слабостью или судорогами, 19 процентов слепых, 17 процентов больных разными другими болезнями, 12,5 процента умалишенных и бесноватых и наконец, 8,5 процента немых, глухонемых и глухих. Большое количество парализованных можно объяснить недостатками питания, о чем было сказано выше, а именно авитаминозами, которые провоцировали полиневриты, трахомы или глаукомы, и очень часто детские рахиты, распространенные среди несчастных, устремлявшихся к порогам святилищ. Отсутствие гигиены, вызванное запущенностью акведуков, употреблением гнилой воды, увеличением числа заболоченных зон на месте заброшенных полей, провоцировало бесчисленные случаи полиомиелита (осложнения после которого, как известно, дают, среди прочего, разного рода телесные деформации — и параличи), малярии или четырехдневной лихорадки, а также всевозможные паратифозные заболевания. Значительное число детей с физическими недостатками, полученными в результате травм в до- или послеродовой период, позволяет представить себе и осознать, насколько обыденной должна была быть смертность среди детей и рожениц. Семейные пары и женщины, которые приходили с молитвами об исцелении бесплодия или о благополучном разрешении от беременности, демонстрируют, что озабоченность проблемами воспроизводства граничила с одержимостью.
 Рис. 29.
Рис. 29. Средний возраст смертности галло–римлян
 Рис. 30.
Рис. 30. Средний возраст смертности в эпоху Меровингов
 Рис. 31.
Рис. 31. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (предполагаемый возраст)
 Рис. 32.
Рис. 32. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (реальный возраст)
И здесь мы переходим к болезням психосоматическим и психическим. Большим количеством неврозов можно объяснить некоторые случаи параличей, вроде скрюченных пальцев, загнутых настолько, что ногти впиваются в ладонь, а также множество различного рода сенсорных нарушений. К этому добавлялись истерические неврозы с раздвоением личности, маниакальны ми состояниями, сопровождавшимися логореей
[77], — зачастую видимо, вследствие алкоголизма. Монахи–врачи очень точно описывают даже состояния буйного помешательства или депрессии, связанные с эпилепсией, которые наводили верующих на мысль об одержимости дьяволом. В этих случаях авторы протоколов о явлении чудес, твердо веря в подобные феномены, рассматривали больных как полностью — психически и физи чески — одержимых Сатаной. Они подчеркивают, что изгнание демона сопровождается выделением ядовитых кровавых или гнойных жидкостей, источающих зловоние. Таким образом, тела больных были измучены страданиями, а души тяготило глухое чувство виновности — неизбежная плата за колебания между поклонением плоти и отвращением к ней. Итак, изучение тела и чувств, которые оно провоцирует, — роли одежды и прически, табуированной наготы, патологической склонности к кастрации и пыткам, органических заболеваний и маниакально депрессивных состояний, — показывает, что для человека этой эпохи главными ценностями были сила, продолжение рода, физическое и духовное здоровье — вероятно, потому, что они были необходимы для выживания в нестабильном, угрожающем и непонятном мире.
Идеал: сила, прокреация, здоровье
Действительно, некоторые исследования населения целых деревень V–VIII веков самым очевидным образом подтверждают сделанные выше выводы. Антропологический анализ, проведенный Люком Бюше на кладбище Френувиля в Нормании, позволяет составить представление о демографической ситуации той эпохи, причем общая тенденция подтверждается и отдельными исследованиями, выполненными в других северных районах. В целом крайне высок уровень детской смертности: 45 процентов. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении очень мала: около 30 лет. Средняя продолжительность жизни колеблется в пределах 45 лет для мужчин и всего лишь от 30 до 40 лет для женщин, которые часто умирали между 18 и 29 годами от тяжелых родов или послеродовой горячки. Следовательно, если группа хотела выжить, в ней должно было быть много детей и женщин. И действительно, уровни рождаемости и смертности были очень близки: в обоих случаях порядка 45 процентов, с краткосрочными резкими отклонениями. До старости доживали немногие, однако, когда людям переваливало за 40 лет, их шансы на выживание удваивались. По расчетам Жана Эвклена, средний возраст смерти отшельников составлял около 67 лет для женщин и 76 лет для мужчин. Правда, их режим питания был более сбалансированным, но, по большому счету, складывается ощущение, что здесь мы имеем дело просто–напросто с классическим долголетием холостяков, посвятивших свою жизнь служению тому или иному культу; их жизнь более спокойна, чем жизнь мирян, — поскольку не только отшельники, но и многие епископы в VIII веке также достигали почтенного возраста. Кроме того, изучение скелетов показывает, что эндогамия увеличивала число кровнородственных связей и что развивавшиеся вследствие этого дегенеративные нарушения ускоряли смерть. Средний рост, несомненно, по причине плохого питания, был невелик: 167 сантиметров для мужчин и 155 сантиметров для женщин. Это крестьянское население почти не изменилось со времен неолита, а следы иноземных захватчиков, рост которых достигал 180 сантиметров, до сих пор удавалось обнаружить лишь в очень редких случаях. Однако,как показывают исследования, несмотря на все изрядные жизненные сложности, в конце VII века в некоторых меровингских деревнях население удвоилось, а в каких–то увеличилось в пять раз. Молодые мерли как мухи, но тем не менее общины процветали. Деревня была замкнута на самой себе — и все–таки продолжала развиваться!
Эта парадоксальная победа жизни над смертью сближает наше меровингское общество с обществами стран третьего мира, но только с поправкой на детскую смертность, которая не регулируется при помощи прививок и антибиотиков: в Средние века дети умирали чаще. Этот парадокс подтверждает изучение полиптихов каролингской эпохи. Моник Зерне—Шардавуан недавно проанализировала цифры, содержащиеся в инвентарных описях монастырского комплекса Сен—Виктор в Марселе за 813-814 годы, и установила наличие нерегулярных демографических вспышек, с высоким уровнем рождаемости и высокими показателями младенческой смертности. При этом 22 процента от общей численности населения составляли дети в возрасте до 12 лет и еще 38 процентов — не состоящая в браке молодежь. Количество детей в семье в среднем равнялось 2,9. Тщательно зарегистрированы слабоумные, и девочек в этой категории гораздо больше, чем мальчиков. Наконец, и нуклеарная семья далеко не всегда соответствовала малой семье в нашем понимании термина (отец, мать и их дети): это доказывает, что семейная ячейка христианского типа еще не получила повсеместного распространения. Одним словом, общество, в котором 60 процентов населения моложе 25 лет, не может не быть, несмотря на то что смерть постоянно наносит ему удары, динамичным, молодым, поддерживающим характерные для соответствующих возрастных категорий ценности — те, что мы описывали выше: физическая сила, способность к прокреации, физическое и психическое здоровье. Мы осветили негативные аспекты этих ценностей: поговорим теперь об аспектах позитивных.
Франкское общество всячески покровительствовало прокреации. Тот, кто лишил жизни молодую свободную женщину детородного возраста, должен заплатить 600 солидов, так же как за антрустиона; если же убитая женщина уже не могла иметь детей — всего лишь 200 солидов! Если побои нанесены беренной женщине и она умерла — 700 солидов штрафа; и только 100, если в результате выкидыша умер ребенок! Король Гунтрамн в конце VI века утвердил дополнительную статью закона, вероятно потому, что число такого рода правонарушений росло: отныне нужно было платить 600 солидов за убийство беременной женщины и, кроме того, еще 600 солидов в случае, если умерший ребенок окажется мальчиком. Весьма показательный момент. Если принять во внимание, что подросток моложе двенадцати лет «стоил» 600 солидов, а девочка того же возраста только 200, то перед нами начнет выстраиваться настоящая иерархия ценностей: на самой нижней позиции — девочка и старуха, не способные иметь детей; в середине — мальчик; на вершине — беременная женщина! Вдобавок и то, что возраст вступления в брак всегда очень близок ко времени полового созревания, то есть около двенадцати лет (Фортунат описывает случай, когда юная Вилитута была выдана замуж в тринадцать лет… и вскоре умерла во время родов), и то, что король Гунтрамн счел нужным установить штраф в размере 62,5 солида для любой женщины, которая даст другой женщине чудодейственное снадобье из абортивных трав и растений, чтобы та никогда больше не могла иметь детей, свидетельствует о том, что женщина имеет значение лишь в качестве матери (genitrix). Таким образом, языческая религиозность и стремление к выживанию направлены на одно и то же — на рождение ребенка.
Одержимость ребенком: раб или принц
«Одна женщина из Берри родила сына — парализованного, слепого и немого, который был похож скорее на чудовище, чем на человека. Рыдая, она признавалась, что он был зачат в воскресную ночь, и не осмеливалась убить его, как в таких случаях часто поступали матери; она отдала его нищим, которые положили его на тележку и возили, чтобы показывать народу». Здесь божественный гнев проявляется — буквально демонстрируется — через чудовище. И сила преподанного урока удваивается христианским советом воздерживаться от плотских сношений в святой день. Языческие практики в отношении ребенка, в частности сама возможность подкинуть его посторонним людям, остаются в силе, но если женщина оставляла новорожденного у дверей церкви, это больше не приводило к смерти последнего. Священник объявлял его найденным на престоле и, если никто не требовал его вернуть, отдавал «нашедшему», который становился его хозяином, воспитывал его и превращал в своего раба. Но в общем за ребенком ухаживали достаточно хорошо, в богатых семьях отдавали кормилицам, а в простых — кормили грудью до трех полных лет. Можно было бы привести множество доказательств привязанности родителей к детям, несмотря на ужасающую детскую смертность. Наиболее характерным остается свидетельство Григория Турского, который признается, что был глубоко потрясен смертью маленьких сирот, которых он подобрал и сам выкармливал с ложки. Их скосила эпидемия. Как ни парадоксально, принцип защиты ребенка действовал даже во время войны. Это ценное имущество, не менее ценное, чем женщина, всегда составляло часть добычи. В каждом захваченном городе победители истребляли всех, кто мог «мочиться к стене». Следовательно, в рабство уводили всех женщин и грудных детей, в частности мальчиков младше трех лет, поскольку те, кто был старше, уничтожались вместе со взрослыми мужчинами. Отсюда происходит именование ребенка «рабом», на латыни puer. Таким образом, младенца холили больше, чем мальчиков или девочек подросткового возраста, которых часто муштровали при помощи палки. Эта разница в обхождении четко обозначена в монастырских уставах, в очередной раз противоречащих обычаям, которые бытуют в мире за стенами монастырей. Монахи, конечно, соглашались на то, чтобы родители отдавали в монастырь одного своих детей как залог благополучия всей семьи, так как это означало отдать Богу самое дорогое для них существо. Устав святого Бенедикта уточняет: «Когда сей отрок еще мал возстом, родители его делают письменное обещание, о котором сказано выше, и, принося потребное для бескровной жертвы, как и свое рукописание, так и руку отрока влагают в покровы алтаря и таким образом посвящают его Богу». Следовательно, во всех монастырях жили многочисленные облаты
[78], что превращало общины в своеобразные детские питомники, в особенности общины кельтских монахов, у которых приемное отцовство, имевшее языческие корни, естественным образом стало христианской ценностью. Достигнув совершеннолетия, облаты либо давали пожизненный обет монашества, либо отказывались от дальнейшего пребывания в монастыре. Между тем они получали воспитание радикально противоположное обычным педагогическим практикам своего времени. Вместо того чтобы культивировать в мальчиках агрессивность, а в девочках покорность, монастырские педагоги отказывались от наказания ферулой
[79] и стремились сохранить достоинства детства, современниками воспринимавшиеся как слабости. Беда Достопочтенный, как и многие другие вслед за ним, восхищался подростком: «Он не упорствует во гневе, он не злопамятен, его не привлекает женская красота, он говорит то, что думает». И наконец, что важнее всего, он послушен наставлениям учителей. Одним словом, вместо того чтобы ожесточать сердца, монахи подвергали их огранке. Но в то же время они терялись перед феноменами, связанными с половым созреванием. Сталкиваясь с резкими изменениями, которыми тогда сопровождался переход от детства к взрослой жизни, они апеллировали к старой доброй строгости. Статус ребенка и его место в семье варьировались от одной крайности к другой На меровингских кладбищах от детей, умерших в малолетстве практически ничего не осталось; в каролингскую эпоху их любят и заботятся о них, о чем свидетельствуют первые упоминания о колыбели, относящиеся именно к этому времени. Раб у себя дома, принц в монастыре, существо двойственное по сути своей, сущее и не–сущее одновременно, игравшее к тому же второстепенную, подчиненную роль и в доме, и в постели.
То же самое можно было бы сказать и о стариках, как мы видели, столь малочисленных и столь бесполезных, если они не были seniores — старейшинами, властителями, главами кланов, племен, родов или крупных благородных семейств. В том, что Брунхильда прожила больше семидесяти лет, усматривали дьявольский промысел, который должно было нейтрализовать при помощи смертной казни; то же обстоятельство, что Карл Великий дожил до шестидесяти семи лет, доказывало, сколь велико было оказанное ему божественное покровительство. Во всяком случае, старик приемлем, только если он ведет себя как человек зрелый, способный постоянно контролировать свои силы. В противном случае ему не оставалось ничего другого, кроме как преподносить дары аббатству — с тем чтобы впоследствии в обмен на это иметь возможность туда удалиться и обрести надежный приют на старости лет. Так, в некоторых контрактах оговаривалось количество хлеба, вина или пива и даже одежда, которую они должны будут получать. В каролингскую эпоху матрикулы очень часто включали только старух и стариков (nonnones). Зато в варварских правдах не было ни одной статьи, касающейся пожилых людей… хотя это может объясняться тем фактом, что настоящие старики, в сегодняшнем понимании этого слова, судя по всему, были — особенно в эпоху Меровингов — весьма немногочисленны. Дети же, как мы видели, напротив, составляли большинство в обществе, в котором молодость была доминирующей характеристикой. Бедные (pauperes) и немощные, как тогда говорили, то есть дети и женщины, были самой многочисленной группой. Вероятно, их должно было быть три четверти всего населения! Такая диспропорция по отношению к численности взрослых мужчин предопределяла существование очень широкой семейной структуры, охватывавшей дальних родственников, вдов, малолетних сирот, племянников или племянниц, а также рабов мужского и женского пола, и все они были подчинены власти мужчины, который принадлежал к одной из ветвей (stirps), линий большого рода, клана или династии, древней и знаменитой. Эта обширная система, которую одни называют «большой семьей», другие «патриархальной семьей» и которую писатели Раннего Средневековья называли familia, представляет собой сложную общность с многочисленными ответвлениями, основной функцией которой была защита всех ее членов.
Семья — защита и кандалы
Салическая правда уточняет, что человек не имеет права на защиту, если не является частью рода. «Если кто захочет отказаться от родства, он должен явиться на судебное заседание и там, в присутствии судьи или сотника, сломать над своей головой четыре ольховых ветки и бросить их на четыре стороны. Затем он должен поклясться, что отказывается от какой бы то ни было защиты, от наследства и от любого имущества членов своей семьи. Если потом кто–нибудь из его родственников умрет или будет убит, он не получит от него ни наследства, ни виры. Если же сам он умрет или будет убит, наследство его и вира перейдут не к родственникам, а в казну». Таким образом, франкская семья была самым настоящим юридическим лицом и выполняла прежде всего защитную функцию — ценой жесткого подчинения. Индивид, проявивший неповиновение, ломал над головой ветки ольхи — дерева несчастий, которое растет вблизи болот и сгорает так быстро, что не дает согреться, — чтобы предотвратить катастрофу, которая неминуемо должна была постигнуть его. Считалось, что этот языческий обряд поможет избежать внезапной или насильственной смерти. Но за выраженными здесь страхами угадывается мрачная реальность. В отличие от римской семьи, основанной на браке, которая могла ограничиваться сосуществованием под одной крышей бабок и дедов, родителей, детей и рабов благодаря более сильной социальной защищенности, семья франкская или к югу от Луары — семья, на которую оказывали влияние представления кельтов и германцев, обязательно должна была быть значительной по численности, чтобы жизнь и наследство могли быть переданы последующим поколениям. Такова была цена нежелания понимать значимость общественного блага — семья разрасталась за рамки кровного родства за счет родства приемного и вассалитета.
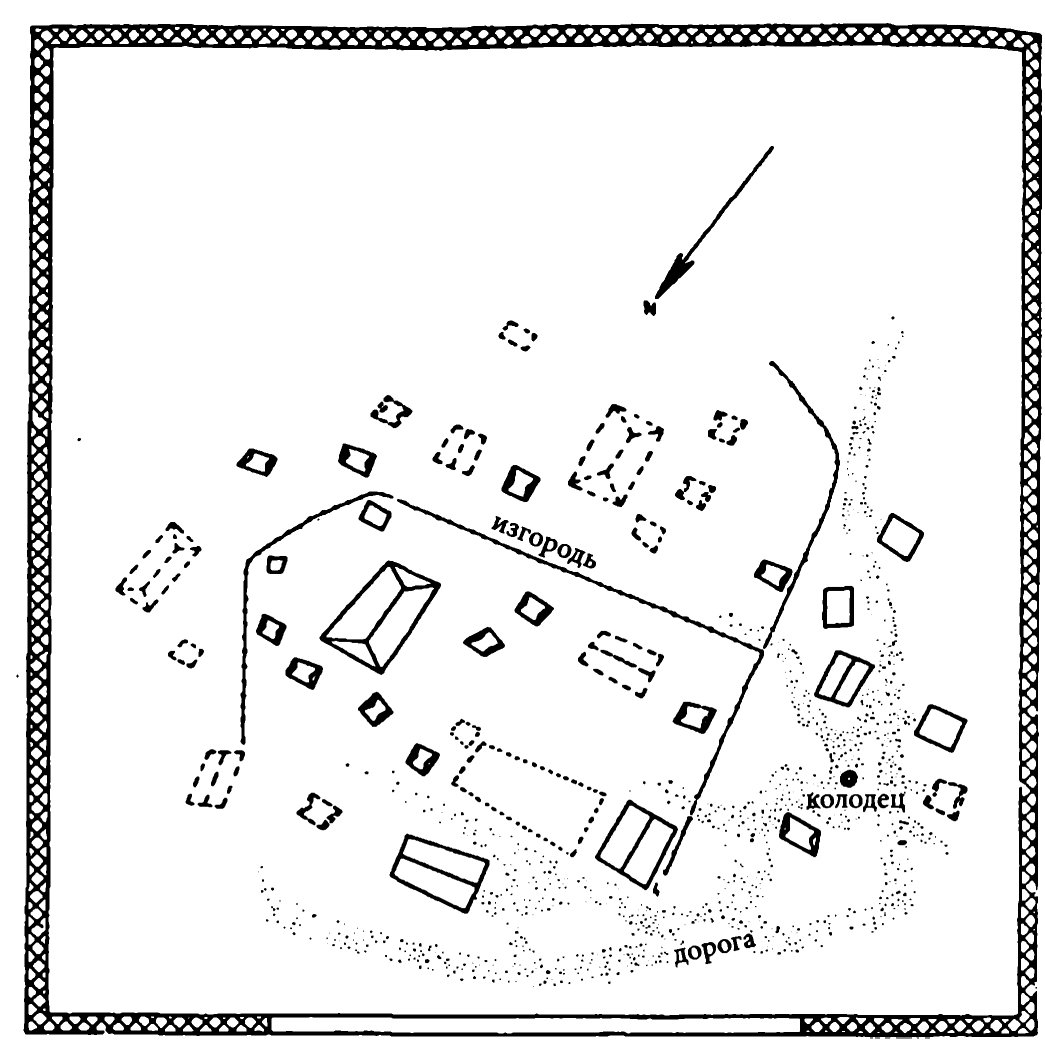 Рис. 33.
Рис. 33. План поселения Гладбах, VII–VIII века. Вокруг большого дома «зального» типа располагаются хижины, хлебные амбары, силосные ямы. Все большие дома обнесены изгородями (Бонн, Ландсмузеум)
Однако у такой системы были и свои, вполне реальные преимущества. Помимо постоянного присутствия товарищей по оружию, готовых встать на защиту сотоварища, у какого-нибудь бедняка, не способного заплатить большой штраф, появлялась возможность привлечь к участию в оплате долга всю свою родню или других близких людей. Солидарная ответственность в финансовых вопросах была обязательной. Строгие правила наследования регулировали переход имущества от одного человека к другому. Каждая семья имела общую вотчинную землю, которая считалась местом ее происхождения. Женщинам было запрещено наследовать эту землю, называемую салической, в противном случае семья, клан или племя должны были объединиться с семьей ее мужа, утрачивая отныне самостоятельный статус. Эта статья Салической правды, неправильно понятая королевскими юристами, в 1316 году, когда, как и на протяжении всей эпохи Капетингов, действовало правило прямого престолонаследования, была интерпретирована как запрет женщинам быть наследницами и, следовательно, всходить на трон. В действительности они обладали правом наследования, исключение составляла эта прародительская земля, без которой рушилась франкская система частной защиты.
Так объясняется существование больших деревянных Домов, похожих на ангары, в которых жили по нескольку десятков человек или же скромных жилищ, где в общую постель Угадывались родители, дядья и тетки, кузены и кузины, их Дети, рабы и слуги, часто более десятка человек, обнаженных, объединенных между собой совокупной роскошью тепла. В каролиннгскую эпоху их число, естественно, пошло на убыль из–за того, что Церковь настаивала на развитии института брака, но переписчики, которые составляли подворные описи, дают хорные цифры, которые показывают, что число членов семьи от одного–двух человек скачкообразно увеличивается до восьми, десяти и двенадцати, создавая тем самым обманчивое впечатление средней численности, близкой к четырем. Раб определялся как familiaris — член семьи, которая, таким образом, представляла собой широкое социальное сообщество, базировавшееся на множестве внутренних связей. Впрочем, монастырская община обозначается тем же термином «семья/фамилия», чтобы охватить всех тех — монахов и мирян, — которые жили как внутри монастырской ограды, так и за ее пределами.
 Рис. 34.
Рис. 34. Реконструкция дома «зального» типа двенадцати метров длиной, целиком построенного из дерева и перекрытого соломой, по материалам археологических раскопок (Бонн, Ландсмузеум)
Итак, семья была большой и так исполняла свою защитную функцию, но для непрерывного воспроизводства ей нужны были женщины. Как мы уже имели возможность убедиться, мужчина, глава семьи или рода, являлся собственником mund
[80] своих детей, поскольку был защитником чистоты крови и аутентичности потомства. Эта охранительная функция переходила к мужу во время бракосочетания, а точнее, в момент помолвки, которая содержала в себе отголоски древнего обряда покупки жены будущим мужем, гарантирующего безопасность от насилия и удостоверяющего чистоту невесты. Во время церемонии помолвки родители получают положенную сумму за символическую продажу отеческой власти над девушкой. У франков эта сумма составляла 1 солид и 1 денарий при первом браке и 3 солида и 1 денарий при повторном браке. Церемония была публичной; выкуп — обязательным и не подлежащим возврату. Тот, кто женился на другой женщине, а не на своей уже просватанной невесте, должен был заплатить 62,5 солида штрафа. У бургундов выкуп за покупку mund, называвшийся wittimon, также был обязательным, а разрыв заключенного таким образом союза влек за собой выплату суммы вчетверо большей. Собственно, Кодекс Феодосия и римские законы вообще придавали задатку, внесенному во время помолвки, то же значение. Тем более что помолвка, по сути, была эквивалентом свадьбы, несмотря на то что до заключения брачного союза мог пройти целый год, а то и два, и на то что все решения здесь принимали только родители, не спрашивая согласия ни у девушки, ни даже у молодого человека. Стоило бы привести здесь ряд цитат из жизнеописаний святых, например из жития святой Женевьевы или святой Макселанды, чтобы понять, какой скандал мог вызвать отказ девушки от вступления в брак. Официально меровингские церковные соборы и указ Хлотаря II, выпущенный в 614 году, запрещали выдавать женщин замуж против их воли. Но на практике — за редким исключением, когда неуступчивая невеста оказывалась христианкой с сильным характером, — предполагалось, что все девушки, так же как и юноши, заранее давали свое согласие. «Когда он достиг брачного возраста, родители Леобарда, следуя мирскому обычаю [выражение, показывающее, что практика эта не христианская], стали убеждать его обручиться с молодой девушкой, чтобы потом жениться на ней. Отец легко убедил совсем еще юного сына сделать то, чего тот не желал». Этот любопытный случай, рассказанный Григорием Турским, перекликается с предусмотренными у бургундов мерами наказания, например, для женщины «народа варваров, которая решит без благословения тайно сочетаться браком с мужчиной» — Она считалась виновной в совершении прелюбодеяния, то есть женщиной, окончательно утратившей моральный облик, а виновник должен был заплатить ее родителям удвоенный «свадебный выкуп», то есть сумму mund, но мог жениться на другой! Кроме того, каждый из бургундов, принадлежал ли он к знатному роду или был простого происхождения, если женился на девушке без благословения ее отца, «должен был заплатить тестю mund в тройном размере, чтобы не спрашивать его согласия, 150 солидов своему отцу и 36 солидов штрафа в казну». Зато в этом случае брак не мог быть отменен, поскольку физическая близость имела место по инициативе мужчины и две крови уже смешались воедино.
Все это, напомним, касалось только помолвки. Церемония была более пышной, чем свадебная, — роскошное пиршество сопровождалось обильными возлияниями, пением и откровенно непристойными шутками, намекающими на плодовитость будущих супругов. После этого происходило одаривание невесты. В местностях, где действовало римское право, составлялся письменный перечень подарков, у германцев дарение совершалось в присутствии трех свидетелей, но в любом случае, как правило, дарили домашних животных, одежду, украшения, драгоценности, монеты, сундук, кровать с постельным бельем, хозяйственные принадлежности и т. д. — то есть главным образом движимое имущество. Кроме того, по древнему галльскому обычаю жених дарил невесте пару домашних туфель как залог семейного согласия и, конечно, — уже в соответствии с римской традицией — золотое кольцо как символ верности, поскольку круг без начала и конца означает бесконечность. Римляне носили его на среднем пальце правой руки или на безымянном пальце левой, откуда, согласно древнеегипетской медицинской теории, нерв идет прямо к сердцу. Также на большом пальце правой руки знатные женщины носили печатки, часто обнаруживаемые в захоронениях, — свидетельства административной власти, которой эти дамы владели как личной собственностью. Наконец, помолвленные обменивались поцелуем в губы, символизировавшим соединение тел. В результате все необходимое могло быть оговорено задолго до свадьбы. Это справедливо и в отношении галло–римлян, у которых празднование свадьбы продолжалось в соответствии с римскими обычаями и завершалось препровождением молодоженов в их собственный дом на брачное ложе, поскольку «согласно обычаю, супругов укладывают в одну постель».
Представляется, что у франков, и вообще у германцев, сущность самой свадьбы состояла в фактическом подтверждении уже заключенного союза: проходила она без особой пышности, и дальнейшая совместная жизнь как таковая и считалась браком. И последний важный момент: наутро после брачной ночи муж дарил новоиспеченной жене еще один, дополнительный подарок (morgengabe). О нем сохранились свидетельства как у франков, так и бургундов. Дар этот — знак благодарности мужа, удостоверившегося в девственности супруги и получившего таким образом гарантию, что дети, которых она родит, точно будут от него. Это знак чистоты крови невесты. Следовательно, такая практика не имела смысла в случае второго или третьего брака, которые имели меньшую ценность как раз по этой причине, хотя и были явлением весьма распространенным. Между тем женщина, ставшая вдовой, оставляла себе лишь треть приданого, остальное же возвращала семье покойного. Таким образом, женщина могла чувствовать себя защищенной только при условии сохранения невинности до самой свадьбы, так как, в конечном счете, потомство и наследование были гораздо важнее, чем сам по себе брак. Поэтому чистота женщины была ее главным достоинством по причинам одновременно религиозным и социальным. В коллективном бессознательном укореняется глубокая убежденность в том, что невинность идентична моральной чистоте и что нужно делать все, чтобы женщины были чисты. От этого зависит равновесие всего общества. И здесь мы обнаруживаем старинное римское языческое верование — в то, что несмываемое пятно развращенности делает брак невозможным.
Любовь — порыв или чувство?
Как мы видели, в те беспокойные времена, когда повсюду властвовало насилие, надежда на продолжение рода была связана с девственностью невест. Отсюда ряд мер, надавленных на борьбу с расторжением или невозможностью брака. Женщин необходимо было уберечь от изнасилования и похищения, кровосмешения и супружеской измены. Этим правонарушениям посвящены бесчисленные статьи законов — и у германцев, и у римлян. Я уже показал, насколько жестко женское тело было табуировано у франков. То же самое мы наблюдаем и у бургундов. Изнасилование женщины–рабыни наказывалось, однако результат его был необратим. Женщин, подвергшихся насилию, называли «развращенными». У галло-римлян изнасилование свободной женщины каралось смертью; изнасилование рабыни — выплатой ее стоимости. Иначе говоря, развращенная женщина ничего больше не стоила. Она больше не имела даже права владеть собственностью — как сказано в визиготском Кодексе Эйриха относительно вдовы, «которая была уличена в прелюбодеянии или в порочащей ее связи». Можно побиться об заклад, что эти женщины не имели иного выхода кроме проституции (строго запрещенной, однако широко распространенной). У франков в VI веке изнасилование свободной женщины подлежало штрафу в размере 62,5 солида; правда, при Карле Великом сумма увеличилась до 200 солидов, что, вероятно, является признаком значительно возросшего числа этих правонарушений.
Очень часто похищение отождествлялось с изнасилованием, хотя даже если результатом его становилось изнасилование, похищение могло произойти по различным причинам. У галло-римлян шла настоящая охота за наследницами, у германцев же зачастую это было средством добиться согласия родителей. Если девушка была похищена, с ее согласия или без него, и в самом деле изнасилована или по крайней мере лишена девственности, брак считался свершившимся фактом. Не оставалось ничего другого, кроме как смириться и получить от похитителя с одной стороны часть суммы mundium, с другой — 62,5 солида. Если похищение совершалось с согласия девушки, разумнее было этого не афишировать, поскольку в противном случае она становилась рабыней. Таким образом можно было и спасти честь, и сохранить чистоту крови. Этот примат девственности подтверждается деталями, которые дает нам бургундская правда. Если девушка возвращалась в родительский дом «не испорченной», похититель выплачивал mund в шестикратном размере и 12 солидов штрафа. Если у него не было необходимой суммы, вне зависимости от того, осталась ли сохранна чистота девушки или нет, его выдавали родителям, которые могли ею кастрировать. За совращенную или опозоренную девушку — превращение в осмеянного евнуха без надежды на продолжение рода! Этот принцип «око за око» показывает, что похищение и изнасилование были едва ли не единственными средствами, которые оставались индивиду, чтобы в обход всех традиций и запретов овладеть женщиной и приобрести достойный статус, но кроме этого он демонстрирует также и значимость табуистических запретов, связанных с сохранением девственности для поддержания социальных порядков.
Еще более тяжкими преступлениями считались инцест или супружеская измена. В этом пропитанные язычеством тексты Салической правды единодушны с текстами меровингских церковных соборов, которые строго–настрого запрещали браки, которые можно квалифицировать как кровосмесительные, хотя в строгом смысле слова они таковыми не были; крайне редко речь шла о союзах родителей со своими детьми или даже между братом и сестрой. Уже святой Павел в «Первом послании к Коринфянам» (5:1) трактовал как инцест союз с женой отца. Эти кровосмешения в широком смысле означали всевозможные браки с родственниками по крови или по супружеству: «родственница или сестра его жены» у бургундов; «дочь сестры или брата, жена брата или дяди» у франков. Эти преступные свадьбы «клеймили позором», а виновников разлучали. Король франков Хильдеберт II своим эдиктом конца VI века ужесточил это наказание. Кроме того, он обязывал графа убивать
всякого похитителя, уточняя, что кровосмеситель, же отлученный от Церкви, подобно чужаку оказывался вне закона, а потому был обречен рано или поздно быть убитым. Следовательно, количество правонарушений этих двух видов возросло. Здесь нет ничего удивительного, ввиду обычной для той эпохи эндогамии, существование которой со всей очевидностью доказывают палеопатологический анализ меровингских захоронений, большой размер семьи и глубокая убежденность в том, что родство, скрепленное браком, равноценно кровному родству. Эта эндогамия, называвшаяся инцестом, постоянно усиливала внутрисемейные связи. Например, совершенно не удивительно обнаружить в пенитенциалии следующую фразу: «Если в отсутствие твоей жены, без твоего ведома и сама о том не догадываясь, сестра твоей жены легла в твою постель, и ты думал, что это твоя жена, и имел с ней интимные отношения…», поскольку речь идет о феномене, который, судя по всему, был совершенно обычным, когда ночь темна, а постель общая. Все эти «кровосмесительные» практики, при которых для вдовца было нормой жениться на сестре своей первой жены, или на жене дяди, или же на своей двоюродной сестре, в меровингскую эпоху фактически поддерживались, поскольку короли отказывались запрещать браки до четвертой степени родства. Нужно было дождаться эпохи Каролингов и церковного собора в Майнце в 814 году, чтобы эти нечистые браки постепенно начали исчезать.
Женщина чистая и нечистая
Если «инцест» с родственницей считался нормальным, этого никоим образом нельзя сказать об адюльтере: «Смрад дружеской измены», если воспользоваться этим выражением из закона бургундов, казался настолько нечестивым, что означал для замужней женщины немедленное возвращение к родственникам, после чего ее, задушенную, бросали в болотную трясину. Что касается галло–римлян, закон императора Майориана позволял мужу, застигшему любовников на месте преступления, убить их «одним ударом меча», пронзив обоих разом. Обычаи франков были еще жестче: не только муж, но и вся его семья, и семья совершившей измену жены считали этот акт пятном позора, марающим весь их род, которое должно быть смыто кровью преступницы. Григорий Турский приводит множество случаев, когда близкие, то есть родня, требовали от отца неверной супруги: «Докажи нам, что твоя дочь достойная женщина, или пусть она умрет». Далее следовала кровавая ссора между двумя семьями; а «спустя несколько дней, когда эту женщину вызвали в суд, она повесилась». В других случаях, чтобы снять обвинение, женщин сжигали заживо или подвергали «божьему суду» водой — бросали в реку с тяжелым камнем на шее. Если выплывет — что практически невозможно — значит, невиновна. У бургундов представление о супружеской измене было еще шире и распространялось и на девушку, и на вдову, если они сочетались с мужчиной по собственной воле. Они считались порочными и опозоренными. У франков это понятие применялось и к свободному мужчине, который вступал в связь с чужой рабыней. Если эта связь получала огласку, виновник превращался в раба; то же самое в аналогичной ситуации происходило и со свободной женщиной. Таким образом, к гнусности супружеской измены добавлялась печать рабства! Вне зависимости от смыслового поля — социального или сексуального — моральные коннотации остаются в равной степени значимыми. Моральный аспект очевиден и в интерпретации собственного вещего сна одним пресвитером из Реймса, которому привиделись два голубя — один черный, другой белый, — севшие ему на руку. На следующее утро он увидел двух приближающихся беглецов: первый, раб, помогал второму» своему хозяину, спастись из плена. Тот был сыном сенатора. У пресвитера сразу возникла ассоциация: черный цвет он связал с первым — верным рабом, белый — со знатным юношей. Здесь мы сталкиваемся с манихейским типом религиозного мышления, связывающим воедино разные явления. В отличие от изнасилования или похищения, которые, несмотря ни на что, со временем могли завершиться браком, поскольку и то и другое совершалось мужчиной, супружеская измена в большей степени оскверняла женщину и ее возможное потомство, то есть будущих наследников. Всякий союз, презирающий общественные законы, неприемлем, потому как разрушает общество, точно так же как неверная жена по собственной воле дает повод усомниться в законности своих детей и отвергает зов крови. Строго наказывали насильника или похитителя, но не изменника–мужа. В самом деле, первые двое покушаются на власть главы семейства, тогда как последний не причиняет никакого ущерба своей собственной семье, и дети, которые родятся от него у изменившей жены, принадлежат ее мужу. И наконец, главное — он не может быть запятнан собственным совокуплением. Женщина, напротив, виновна в настоящем преступлении, поскольку она перечеркивает будущее своей семьи. В отличие от жизни мужчины, ее личная жизнь, по сути, абсолютно публична — из–за тех последствий, которые она способна спровоцировать.
Разница в образе жизни между мужчиной и женщиной (один — хозяин своего mund, другая — зажата рамками множества запретов) становится еще более очевидной, когда речь заходит о разводе. Нам неизвестно, был ли разрешен развод у Франков. Во всяком случае, они запрещали разрывать помолвку, которая была эквивалентна заключению брака, и наказывали за это Штрафом в 62,5 солида. Законы же бургундов и римлян, вовеки мнению Церкви, разводы разрешали — на условиях, которые практически всегда были неблагоприятны для женщин. Так, муж мог отказаться от жены, если она совершила «одно из трех следующих преступлений: супружескую измену, порчу [то есть приняла напиток, вызывающий выкидыш или неспособность иметь детей] и осквернение погребения». Римский закон заменяет два последних преступления на «отравительница и сводница». Но если женщина осмеливалась уйти от мужа, ее должны были задушить и бросить в болото, поскольку сделать это она могла только ради супружеской измены. У галло–римлян развод мог происходить по обоюдному согласию сторон. Жена могла развестись с мужем, если тот совершил убийство или осквернил могилу. Здесь мы обнаруживаем классическое различие двух цивилизаций. Римляне мыслили в категориях равенства полов, тогда как германцы руководствовались представлением об их иерархичности и о доминировании мужчины. Дальше мы постараемся прояснить эту разницу, однако есть один момент, сближающий два мира: ни в том, ни в другом случае не идет речи о мужской измене. Разрыв супружеских отношений с последующим повторным браком был обычным явлением в меровингскую эпоху. Об этом свидетельствуют нотариальные формулы римского права, применявшиеся во всей южной Галлии, в Туре, Анжере и даже в Париже, вплоть до 732 года, даты появления сборника формул Маркульфа. Весьма показателен текст из Анжера, датированный концом VI века: «Такая–то такому–то, своему супругу, который не проявил любви, а оказался несносным и надменным. Всем известно, что по бесовскому наущению, несмотря на божественный запрет, мы не можем больше жить вместе. Мы договорились между собой и перед судом, что нам нужно освободиться от взаимных обещаний. Так и было сделано. Где бы мой муж ни захотел жениться, он вправе и свободен это сделать. Точно так же, где бы вышеназванная женщина ни захотела выйти замуж, она вправе и свободна это сделать. И если, начиная с сегодняшнего дня, один из нас попытается действовать против этого документа или подвергнуть сомнению его положения, он, в соответствии с законным соглашением, выплатит своему бывшему супругу сумму в столько солидов, сколько потребует судья, который будет представлять противоположную сторону. Он не получит ничего из того, что будет требовать. Этот документ останется в силе на все последующие годы». Следовательно, Церковь должна была терпимо относиться к разводу по обоюдному согласию, даже если варвары считали его безнравственным и скандальным — как в данном случае, когда развод был инициирован женщиной. Если учитывать другие, более поздние свидетельства, относящиеся к VIII веку, то становится очевидным, что в некоторых деликатных случаях речь шла даже о прямом содействии разводам. За несогласием на продолжение брачных отношений — помимо языческих представлений, адюльтера, бесплодия женщины, проказы и т. д. — могли скрываться жестокость или импотенция мужа, желание женщины уйти в религию. Далее мы познакомимся с причинами подобных сделок с совестью.
Итак, с того момента, когда Церковь смогла добиться введения в социальную реальность полного запрета разводов, то есть после правления императора Людовика Благочестивого (814–840), она столкнулась с новой поведенческой коллизией все в той же частной сфере. Франки, жившие в военных поселениях, основанных Карлом Великим на юге, заводили там жен. Возвращаясь в Австразию, они женились снова. Многие не видели ничего странного в том, чтобы продолжать брачные отношения с обеими женами или развестись с одной из них в зависимости от ситуации. Моногамия и нерасторжимость брака стали невыносимыми оковами прежде всего для высших слоев аристократии — где социальный и политический аспекты брака становились все более и более важны, где эндогамия всегда была преимуществом, которое усиливало сплоченность Семьи или рода, и где разрыв связей с кланом во время гражданских войн, начавшихся с 830 года, мог быть легко разрешен Разводом, оставлявшим женщине ее имущество и morgengabe. В своем эпическом повествовании об осаде Парижа викингами в 885 году Аббон из Флёри высказывает мнение, что одна из причин успеха скандинавов заключалась в неумеренном пристрастии дворян к женщинам и в их многочисленных браках с родственницами. Возможно, причинно–следственная связь проведена автором и не очевидна, но это никоим образом не отменяет реальности этих бесчисленных союзов. Гинкмар, архиепископ Реймса (840–882), не стесняясь демонстрирует, какое изящное решение нашли некоторые крупные собственники, чтобы избавиться от надоевшей законной жены. Ее отправляли с небольшой инспекцией на кухню, где раб–мясник между делом (между двумя свиньями) умело перерезал ей горло. Этот «развод по–каролингски», после положенной выплаты оскорбленной семье, позволял жениться повторно, совершенно легально в религиозном смысле, поскольку муж был вдовцом.
В действительности существенным препятствием для нерасторжимости брака оставалась у германцев, как и у галло–римлян, полигамная практика постоянного сожительства с рабынями. Все законы осуждают и карают штрафом за изнасилование рабыни, ее похищение или союз с ней, даже если она на все согласна, — в тех случаях, когда она принадлежит другому человеку, так как речь идет о посягательстве на честь и собственность законного хозяина. Но никто не принимает законов против господина, который совокупляется со своей собственной рабыней. В этом случае достаточно простого уточнения, что это не брак, а сожительство. В римском праве, если хозяин не освобождал ребенка, родившегося от этой «связи», тот оставался рабом, но в любом случае, ребенок, появившийся от союза двух субъектов права, один из которых свободный, а другой раб, должен был получать самый низкий статус. Только брак позволял сохранить свободу. Короче говоря, делать детей женщинам–рабыням было обычной практикой на всех социальных уровнях и у всех народов, будь то галло–римляне или германцы. Зато полигамный режим существования был присущ вновь прибывшим — франкам и викингам, — которые в Нормандии до XI века практиковали то, что условно можно назвать браком «по–датски» (more daniсо). Мы уже видели, что у германцев все существующие нормы толкали человека к эндогамии и что никто не был заинтересован в том, чтобы заставлять девушку уйти из одной семьи и перейти в другую, поскольку она уносила с собой свое имущество. Точно так же родители выбирали для своего сына официальную жену из ближайшей родни. Однако мужу было позволено иметь жен неофициальных, из числа свободных женщин, чтобы закреплять уже существующие плотские связи. Их называли friedlehen, то есть гарантирующими мир. Наконец, всегда оставалась возможность сожительства с одной или несколькими рабынями. В общем, брак был один, а женщин несколько. Официально существовала моногамия; реально — полигамия. В отличие от официальной супруги, неофициальные жены — friedlehen — имели гораздо меньше прав, и еще меньше их было у сожительниц–рабынь — женщин с самым низким статусом из всех возможных. Только первая жена имела все права, и только ее дети обладали правом наследования. Если friedlehe получала отставку — она отправлялась домой без приданого. Ее дети считались свободными, но незаконнорожденными, без права наследования, если только официальная жена не была бесплодна — это было неоспоримым аргументом в глазах современников. Что касается рабынь — они имели право только на то, что даровала им страсть влюбленного хозяина. Если эта сложная система полигамии была страховкой от возможных в будущем рисков, то она же имела и отрицательную сторону: развязывала жесточайшие битвы женщин за обладание сердцем мужчины… и властью.
Эти сражения в гинекее затрагивали в основном аристократические и королевские семьи. Иногда они имели Катастрофические политические последствия из–за разделов имущества между наследниками, а иногда опускались до уровня самых гнусных преступлений. После Хлодвига практически все меровингские короли имели по несколько жен Хлотарь I (511–561), которого жена попросила найти достойно го супруга для своей сестры Арегонды, не нашел ничего лучше чем сделать ее своей наложницей. Здесь полигамия осложнялась инцестом — в широком смысле слова. Теодеберт (543–548) имел в качестве наложницы свободную римскую матрону из Безье, Деотерию. У нее была дочь от первого брака, которая спустя несколько лет повзрослела и расцвела. Деотерия, беспокоясь, как бы та не лишила ее расположения короля, посадила ее в повозку, запряженную быками, и велела сбросить в Маас недалеко от Вердена. Всем известна знаменитая ссора между Брунхильдой и Фредегондой, однако никто не настаивает на том факте, что гражданская война, которую они развязали и которая длилась с 573 по 613 год, была спровоцирована убийством — убийством официальной супруги Хильперика, Галесвинты, сестры Брунхильды. В самом деле, Хильперик был так страстно влюблен в свою рабыню Фредегонду, что без колебаний велел задушить жену, чтобы освободить ее место для фаворитки. Напомним, что и династия Каролингов была основана бастардом, сыном наложницы Карлом Мартеллом. Ему пришлось сначала бороться против своей тещи, ставшей вдовой, чтобы помешать ей править от имени своих внуков. А сын Карла Великого от наложницы, Пипин Горбатый, в 792 году стал участником заговора с целью убийства короля (то есть фактически — в его случае — речь шла о покушении на отцеубийство), чего в дальнейшем во французской истории не бывало вплоть до убийства Генриха III в 1589 году. Напомним, наконец, и о том, что у Карла Великого, большого любителя женщин, последовательно было четыре официальные жены и по меньшей мере шесть наложниц. Очень часто поголовье сожительниц хозяина увеличивалось за счет сестер, кузин или племянниц его наложницы. После его смерти она перебиралась в постель его преемника. В глазах Церкви, которая в течение долгого времени ничего не могла с этим поделать, это было двойным или тройным инцестом. Чтобы ликвидировать эту полигамную эндогамию, Церковь возобновила так и не возымевшие в свое время действия запреты меровингских соборов, направленные на поддержание нерасторжимости брака и на утверждение моногамии. На церковном соборе в Майнце в 813 году они были расширены. Отныне было запрещено вступать в брак с кровными родственниками ближе троюродных. Эти законодательные решения вызвали бесчисленное множество протестов. Самым серьезным был протест Лотаря II, короля Лотарингии, в будущем современной французской провинции, который, не имея ребенка от законной супруги Теутберги, захотел с ней развестись, чтобы жениться на наложнице Вальдраде, которая родила от него сына. Он столкнулся с непримиримой оппозицией в лице архиепископа Реймса Гинкмара и папы Николая I. Теутберга, будучи честной женой, заботившейся о наследовании, сделала ложное признание о том, что была изнасилована и растлена своим братом—содомитом, аббатом монастыря Сен—Морис—д’Агон, — надеясь таким образом заставить аннулировать брак при помощи абсолютно языческого представления о нечистоте, усугубленной инцестом: и совершенно напрасно, ничего из этого не вышло. Лотарингия, за неимением наследника, была разделена между дядьями. Впервые норма частной жизни — запрет развода — восторжествовала над интересами государства.
Фактически моногамия и нерасторжимость брака только в X веке вошли в повседневную практику — сначала народа, потом аристократии, сначала галло–римлян, а позднее — франков. В самом деле, складывается такое впечатление, что разница в поведении южан в каролингскую эпоху по сравнению с меровингской отчетливо ощутима. К примеру, в VI веке Григорий Турский описывает происшествие, которое должно былою быть в его времена совершенно обычным: «А была у него [Графа Евлалия] жена Тетрадия. <…> Поскольку Евлалий в своем доме делил ложе со служанками, он стал пренебрегать супружескими обязанностями и, когда возвращался от наложницы, часто сильно избивал жену. <…> И вот когда она находилась в столь плачевном положении и потеряла всякое уважение, которое она имела в доме мужа, на нее… обратил свой взор племянник ее мужа Вир… желая жениться на Те традии, так как он потерял супругу. Но боясь враждебных действий со стороны дяди, Вир отправил женщину к герцогу Дезидерию, видимо, для того чтобы вскоре жениться на ней. Тетрадия взяла все имущество своего мужа: золотые и серебряные вещи и одежду, и все то, что можно было унести. < .. > Евлалий узнал о случившемся. После того как его гнев утих и он немного успокоился, он напал на своего племянника Вира и убил его. <…> Услышав о том, что Вир убит, Дезидерий, не давно потерявший жену, взял Тетрадию в жены. Евлалий же похитил девушку из монастыря в Лионе и взял ее к себе. Однако его наложницы, как утверждают некоторые, из ревности усыпили его любовное чувство чародейством». В этом рассказе есть все, что связано с разладом супружеской жизни: вероятное сожительство с племянником, похищение движимого имущества мужа, убийство соблазнителя, похищение монахи ни и, наконец, сексуальное влечение, охлажденное амулетами наложниц, за которыми и осталось последнее слово. Похоже, что в IX и X столетиях на юге галло–римского мира отказались от этих практик, поскольку о них не упоминается ни в одном источнике. Конечно, сожительство со служанками, феномен, характерный для любого сельского сообщества, продолжало существовать, но развод и полигамия исчезли.
Любовь — необузданная страсть
Теперь мы попытаемся понять, каким было любовное чувство в эпоху Раннего Средневековья. Сразу же бросается в глаза очевидный факт: ни в одном тексте — ни светского ни религиозного происхождения — слово amor не используется в положительном смысле. Речь всегда идет о чувственной, иррациональной и деструктивной страсти. Словом «любовь» могли именовать как чувства любовников, так и отношения между родителями и детьми, однако, насколько мне известно, его не применяли к официальному браку. Чтобы обозначить чувство супружеской любви, папа Иннокентий I (411–417), обращаясь к епископу Руана Виктрицию, употреблял выражение charitas conjugalis, трудно переводимое, поскольку речь, видимо, идет одновременно о супружеской привязанности и о смеси нежности и дружеских чувств. Другие говорят о dilectio, любви как предпочтении и уважении. Иона Орлеанский в IX веке постоянно пользуется словом caritas для обозначения супружеской любви — любви, включающей одновременно honesta copulatio, то есть законную и умеренную физическую близость, и верность, неразрывно связанную с чуткой самоотверженностью и бескорыстием. Речь идет вовсе не о благих пожеланиях, нравоучительной литературе или христианской утопии, но о настоящей битве за отход от принятой практики любви, при которой господствовали неистовые страсти. Эти новые представления проникают в жизнь некоторых образованных мирян. «Книга поучений» (Liber Manualis), которую Дуода, супруга маркиза Бернара Септиманского, адресовала своему сыну Гильому, прекрасно раскрывает почтительное и нежное чувство любви женщины к мужу и горячее — по отношению к сыну: «Я, твоя мать, чье сердце пылко горит для тебя, мои первенец». Любовь супружеская и любовь материнская здесь, очевидно, сливаются воедино. У современника Дуоды Эйнхарда (биографа Карла Великого), который в 836 году потерял жену, по мнению Стефана Лебека, еще отчетливее видно, что0 его вдовство стало причиной, обнажившей ту истинную глубину любовного чувства, которым проникнуто все его существо — и тело, и сердце. В письме к своему другу Лупу, аббату Ферьера, он описывает свою возвышенную любовь к той, которая была для него одновременно женой, сестрой и подругой. Несмотря на веру в воскресение, боль, печаль и меланхолия охватили его и повергли в тяжелую депрессию Сталкиваясь со столь тонким психологическим анализом шока испытываемого из–за потери любимой женщины, мы не можем отрицать, что христианская супружеская любовь действительно существовала. Это уже не чистый и лишенный плотской составляющей брак двух влюбленных, описанный Григорием Турским, о котором я упоминал выше. Речь идет не о грезе монаха, ненавидящего плоть, и не о парах, подобных Мелании и Пиниану из V века, которые, отказавшись от тяжкой обязанности продолжения рода, с радостью спешат разойтись, чтобы, наконец, насладиться мистическим слиянием с Богом в молитвенном уединении, — но о мужчинах и женщинах, которые переживали трудности и радости любви физической и духовной. Однако мы не питаем иллюзий: разумеется, речь идет о случаях исключительных.
Теперь мы лучше понимаем, почему в эпоху Раннего Средневековья слово «любовь» всегда относилось к сфере внебрачных связей. Дело здесь вовсе не во влиянии «Любовных элегий» Овидия на авторов того времени, поскольку они тогда были мало кому известны: дело в глубокой убежденности в том, что этот непреодолимый натиск чувств, это неутолимое желание — по мнению язычников, божественного происхождения, а по утверждениям некоторых христиан, происхождения сугубо дьявольского, — в любом случае может быть только пагубным и разрушительным. Эта убежденность была укоренена как в школах, так и в ментальности германцев. Школьное упражнение, недавно опубликованное Жан—Пьером Девруа, который обнаружил его в бельгийском аббатстве в манускрипте XI века, перечисляет крайности, проистекающие от переизбытка или недостатка той или иной христианской добродетели. Например: «любовь, желание, стремящееся завладеть всем» милосердие, нежное единение; ненависть, презрение к суете мира сего». Следовательно, любовь — противоположность милосердия, его негатив. У германцев было другое слово для обозначения этого безрассудного и эгоистичного порыва — libido. Оно всегда применялось только по отношению к женщинам. Мы уже видели, как Григорий Турский воспользовался им в рассказе о несчастной жене Урбика, который оставил ее чтобы стать епископом, а также в рассказе о Тетрадии. Король бургундов Сигизмунд в 517 году издал специальный закон, посвященный одной вдове, Онегильде, обручившейся с человеком по имени Фредегискл, с согласия родителей и по своей воле. Тем не менее, «сгорая от жгучего желания [libido], она нарушила обещание, данное на заседании королевского трибунала, и сбежала к Балтимоду, неся с собой не столько свои желания, сколько свой позор». Она заслуживала смерти и была бы казнена, если бы король не помиловал ее в честь праздника Пасхи. Точно так же и любая вдова, которая «свободно и стихийно, побежденная желанием [libido], соединится с кем–нибудь и об этом станет известно», тотчас же потеряет свои права и не сможет сочетаться браком с этим человеком. Поведение, воспринимаемое как деяние по природе своей неблагородное, недостойно брака, одним словом, это и есть самый настоящий позор. Любовь разрушительна. Глубокая вера в это усиливалась, как мы уже видели ранее, в случае с наложницами графа Евлалия, благодаря тайному искусству колдовства, снадобьям из трав, амулетам и другим магическим средствам, которые поддерживали любовь мужа или возбуждали ее в том мужчине, которого женщина хотела завоевать, — искусству исключительно женскому. Впрочем, не находятся ли женщины во власти космоса, сил инфернальных и хтонических, поскольку их менструальный цикл, как и лунный, составит двадцать восемь дней? И какой ужас охватывает людей, когда начинается лунное затмение! Наступает конец света, Женщины больше не смогут иметь детей. Чтобы помочь луне выбрать из тьмы, нужно произвести целую серию «шумовых эффектов». Эта вера и эта церемония, называемая vince luna («Побеждай, Луна!»), были осуждены Лептинским церковным собором 743 года, и тем не менее духовенство, с точки зрения интеллектуальной артподготовки прекрасно вооруженное для научного объяснения лунных затмений небольшим трудом Исидора Севильского «De natura rerum»
[81], было не в состоянии заставить восторжествовать представление о женщине как существе человеческом, а не космическом. Лептинский собор действительно констатировал наличие в некоторых людях веры в то, «что женщины предаются луне, чтобы завоевывать сердца мужчин, как язычники». Для многих женщина оставалась тайной, то благотворной, то пагубной, источником счастья и неприятностей, средоточием небесной чистоты и разрушительной порочности. Чтобы успокоить страх и уважить богов, новобрачным подносили кубок хмельного меда. Это успокоительное, вызывающее эйфорию средство, любовное антизелье, одновременно сильнодействующее и смягчающее действие аффектов, должно было вселить в молодых смелость перед посвящением в таинства плоти. Отсюда происходит характерное выражение «медовый месяц», обозначающее ту неизбежную синкретичную фазу, когда супругов охватывает чувство слияния с миром, растворения себя в другом, которое знакомо всем новобрачным. За месяц накал страстей утихал, и можно было жить дальше в мире и согласии.
Этот долгий, еще языческий, путь от тела к сердцу продемонстрировал нам, что нагота была священной и что общая постель была алтарем чувств и прокреации. Однако то самое тело, к которому относились с таким благоговением, вызывало и противоположные чувства; ему постоянно грозили насилие, кастрация, пытки, не считая бесчисленных физических и психических болезней. Тело, обожаемое и ненавистное, мучимое микробами и страхами, озабоченное выживанием, было телом, существующим в контекстах преимущественно молодежных, популяции, в которой старики составляли незначительную часть, и при этом делалось все возможное, чтобы защитить замужнюю женщину детородного возраста. Ребенок, несмотря на постоянную угрозу его потерять, был драгоценным достоянием. Семейство, управляемое своим главой, должно было защищать всех слабых своих представителей — одиноких мужчин, замужних женщин, детей, рабов и т. д. Именно отец и его супруга неизменно решали вопросы женитьбы детей. Молодые при этом не имели права голоса, а невеста непременно должна была быть девственницей, что служило гарантией аутентичности и чистокровности потомства. Чтобы избежать возможной катастрофы, делалось все для предотвращения похищений, кровосмешения, неверности и, способами несколько менее чистыми, разводов. Однако эндогамия и полигамия приводили к результату прямо противоположному — к ужасающей развращенности, к грязи и скверне, которые нужно было очищать огнем и железом — или утоплением в воде или болоте. Впрочем, представление о нечистоте касалось прежде всего женщины, даже если мужчина был виновником множества преступлений на сексуальной почве. Воспринимаемая как первопричина и источник любви, этой безумной разрушительной страсти, она должна была быть вырвана из космического, стихийного или уж во всяком случае, «неправильного» мира, чтобы стать достойной супругой и нежной матерью, строительницей общества. Таким образом, положение женщины и семьи в целом объясняется сакрализацией тела и изгнанием чувств, однако, чтобы понять, почему женщина и ребенок всегда должны были быть под защитой, нам теперь нужно объяснить роль мужчины и повседневный характер бытового насилия.
НАСИЛИЕ И СМЕРТЬ
«Много зла делалось в то время», — говорит Григорий Турский о 585 годе, потому как — добавляет биограф святого Леже о годе 675–м — «каждый видел правоту в своей собственной воле». Невозможно лучше выразить мысль о том, что насилие стало делом сугубо частным и что если роды представляют квинтэссенцию женственности, то убийство ассоциируется с настоящей мужественностью. Не менее важно здесь будет и показать шаг за шагом тот механизм, который ведет от агрессивности — качества необходимого — к разрушительному насилию и смерти, от невинных игр — к охоте, дракам, к упокоению на кладбище и к представлениям о загробном мире.
Воспитание агрессивности
Если интеллектуальное образование подростка в школах при монастырях или соборах больше не принадлежало — за исключением занятий с домашним учителем — к сфере частной жизни, то спорт и охота по–прежнему оставались навыками, получаемыми внутри семьи. Обычно их начинали осваивать после barbatoria, церемонии, следовавшей за первой стрижкой бороды юноши. Рост волос был здесь свидетельством того, что пора начинать взращивать одно из фундаментальных мужских качеств — агрессивность. В самом деле, франки смогли победить Римскую империю, только постоянно культивируя воинские доблести. Само слово «франк» происходит от древневерхненемецкого frekkr, что означает «смелый, сильный, мужественный». Так, начиная с четырнадцати лет и даже раньше основным атлетическим навыкам — плавать, бегать, ходить на большие расстояния — обучались очень быстро, поскольку они были необходимы. Примерно тогда же подросток садился на лошадь. Правильнее было бы сказать, что он на лошадь запрыгивал, так как, за отсутствием стремени, до IX века на лошадь вскакивали примерно так же, как сегодня на гимнастического коня: нужно было разбежаться, подпрыгнуть, раздвинув ноги, и опереться руками о круп животного. Чтобы слезть с лошади, всадник сначала откидывал одну ногу назад, а потом спрыгивал на землю. Таким образом, между человеком и ручным животным очень рано устанавливалась тесная связь. Иногда она была настолько сильна, что в 793 году, во время нападения мусульман на Конк, один молодой аквитанский аристократ, Дат, предпочел сохранить коня и не менять его на свою захваченную в плен мать. Тогда враги вырвали ей груди и отрубили голову на глазах у сына, который слишком поздно осознал ужас произошедшего. Точно так же дорожили мечом, который отец или сеньор вручал молодому человеку на церемонии торжественного посвящения в рыцари (adoubement), по всей видимости, очень древней. В самом деле, слово происходит от глагола dubban, который во франкском языке означает «ударять». Когда обучение военному искусству — владению мечом, луком, франциской (топором, удачно метнув который можно было разнести в щепки щит противника еще до того, как ты столкнешься с ним лицом к лицу) — было закончено, отец, родной или приемный, заставлял подростка встать перед «им на колени и сильно ударял его по плечу, чтобы испытать его стойкость. Посвящение в рыцари было ритуалом перехода в иной статус, удостоверяющим, что отныне молодой человек способен сражаться и убивать, чтобы защищать свою семью. После этого он начинал принимать участие в настоящих сражениях.
Игры, судя по всему, почти не имели распространения за исключением игры в кости, которая была известна галло-римской аристократии в эпоху Сидония Аполлинария, в конце V века, и, шахмат, в которые играла вся кельтская и германская знать, поскольку с их помощью постигались основы военной стратегии и тактики.
Самой важной тренировочной практикой оставалась охота, идеальный вид деятельности, в ходе которой учились убивать крупных животных и ловить мелкую дичь. Здесь устанавливалась двойственная связь — дружбы и взаимопонимания с домашними животными, которые помогали охотиться, и враждебности и агрессивности по отношению к миру дикому, невозделанному или неокультуренному. Этот таинственный и безлюдный мир начиная с VII века назывался for–estis, что в первоначальном смысле означало дикую природу, неподвластную (for) человеческому воздействию. В понимании франков эту природу можно покорить только насилием, и тогда, когда она менее всего защищена, то есть осенью, когда растительность постепенно исчезает, а детеныши больше не нуждаются в материнской заботе. Охота — это соперничество между человеком и зверем, которое дает возможность проверить, чей закон более действенен — природы или человека, инстинкта или разума. Цель охоты — не только в том, чтобы поставлять на кухни мясо крупной дичи, но и в тренировке в военном искусстве — в искусстве убивать. И часто жертвой охотников становился человек. В 675 году именно на охоте в лесу Бонди, к востоку от Парижа, меровингский король Хильдерик II из охотника превратился в дичь и был зарезан как олень взбунтовавшейся знатью во главе с Бодилоном. Вместе с королем погибла его беременная супруга Билихильда. И наоборот Карл Дитя (прозвище, свидетельствующее о скороспелости полученного опыта), сын Карла Лысого, погиб в 864 году вследствие несчастного случая на охоте, так же как и его племянник, Карломан III, который в 884 году был ранен кабаном. Что касается брата последнего, короля Людовика II, недавнего (двумя годами раньше) победителя викингов, то он не нашел ничего лучше, чем охотиться на дичь куда более хрупкую — на девушку, которая побежала прятаться в свою хижину. Забыв, что он на лошади, он галопом влетел в дверь, и его череп раскололся как яйцо, потому что притолока, конечно же, была слишком низкой. Как видно, удовольствия от охоты имели свои оборотные стороны.
Эта война между человеком и животным не только доставляла удовольствие убивать, но и устанавливала тесную связь с домашним животным, инстинкт которого должен был быть выдрессирован человеком. Для псовой охоты галло–римляне использовали собак двух видов, умбрийских и больших сторожевых, которые, возможно, представляли собой эквиваленты наших гончих и — догов, которые хватали зверя за шею. Бургунды использовали борзую — очень быструю собаку, сегусиава — собаку для преследования дичи и петрункуля — вероятно, разновидность дога. Тот, кто украл собаку, должен был публично поцеловать ее в зад или же, если он отказывался от такого бесчестья, заплатить 5 солидов хозяину и 2 солида виры. У франков сумма была более значительной: 15 солидов. Украсть домашнего оленя (с поставленным каленым железом на его шкуре клеймом владельца) «стоило» 45 солидов. Действительно, эта древняя кельтская практика, еще сегодня называемая «охотой на крик», состояла в том, чтобы спрятать за деревьями и сетями U-образной формы привязанную олениху, которая во время течки издавала призывные крики, тем самым привлекая Других олених и самцов. Столь же ценными были и хищные птицы, выдрессировать которых было еще сложнее. Франки налагали виру в размере 15 солидов за кражу сокола, сидящего на жерди, то есть готового к охоте, и 45 солидов за сокола, запертого в клетке, — столько же, сколько за дрессированного оленя, и втрое больше, чем за раба. Бургунды нашли прекрасный способ отбить охоту к таким кражам: украденный сокол должен был выклевать пять унций живого мяса с груди вора. Отсюда до того, чтобы остаться без глаза, был всего лишь один удар клюва.
Эта страсть к охоте, к животным для травли и ловчим птицам, была общей для всего населения меровингской и каролингской Галлии. Людовик Благочестивый специально оговорил в капитулярии, что если кто–то не мог заплатить сумму wergeld’a (возмещения за убийство) наличными и если он собирался оплатить ее натурой, то в состав этой выплаты не должны были входить меч и ястреб преступника: этим двум своим обязательным спутникам преступник придавал такую эмоциональную ценность как в хорошие, так и в плохие времена, что изъятие их чрезмерно повысило бы реальный размер компенсации. Как и лошадь, эти предметы и животные были необходимы для выживания, и стоимость их превосходила по значимости ценность семейных уз. Напротив, два других вида охотничьего оружия — лук и рогатина — кажется, меньше ценились владельцами, хотя и были ничуть не менее важны. Первый, с колчаном, полным стрел, использовался для охоты на птиц. По свидетельству Сидония Аполлинария, Теодорих II, король вестготов (451–462), охотился на птиц верхом на лошади, но стрелял, только выбрав нужный момент, и заставлял сопровождавшего его оруженосца везти рядом лук с уже положенной на тетиву стрелой. Овернский сенатор Авит, в 456 году ставший римским императором, пользовался рогатиной, но для этого ему нужно было слезть с лошади и, уже стоя на своих двоих, вонзить это оружие в тело кабана, зверя, для охотника самого опасного. Эти два вида оружия, вероятно, должны были быть дешевле и проще в изготовлении. Они не были чреваты той эмоциональной связью, которая возникала при воспоминаний о метких ударах, нанесенных франкским мечом, этим чудом гибкости и остроты, или о годах, посвященных дрессировке верного пса или птицы, которая никогда не упустит добычи. Устанавливалось своеобразное сотрудничество двух охотников — человека и животного.
К диким животным отношение было другое — более сложное в котором объединялись одновременно страх и стремление к подражанию. В то время волк был обычным для сельской местности животным. Когда зима становилась слишком холодной, оголодавшие хищники проникали даже за крепостные стены городов, как в 585 году в Бордо, где они истребили всех собак. В начале IX века в капитулярии «De villis»
[82], Карл Великий приказывал своим егермейстерам рыть ямы для ловли волков и, главным образом, волчат в мае. Епископ Меца Фротер писал императору Карлу Великому, которому он отдал в аренду свои леса: «Я убил больше сотни волков в ваших лесах…» Охота на волка была настолько распространена, что среди капканов, которые ставили «в пустыне», то есть на невозделанных землях, были и такие, которые состояли из приманки и натянутого лука; достаточно было слегка его задеть, чтобы стрела вылетела и пронзила неосторожного — зверя или человека. Закон бургундов, во избежание такого рода несчастных случаев, уточнял, что капкан должен был быть обозначен тремя метками — одной на земле и двумя в воздухе. Видимо, волки терроризировали население и казались столь же опасными, как кабаны, которые очень агрессивны, если на них нападают, и могут тяжело ранить человека одним сокрушительным ударом. Охотиться на них настолько трудно, что тот, кто украл или убил кабана, загнанного другими охотниками, должен был выплатить 15 солидов. Однако это никоим образом не касалось самки, убитой во время охоты. В отличие от самца, который сразу бросается в атаку, самка спасается долгим безостановочным бегством. Как могло у франков не возникнуть соблазна провести параллель, с одной стороны, между этими агрессивными самцами и мужчиной, с другой — между самками, всегда убегающими, чтобы спасти свое потомство, и женщиной? Природа животных буквально диктовала людям мужскую и женскую роли — агрессии и нежности, господства и подчинения.
От страха очень легко переходили к подражанию. Со второй половины V века галло–римская аристократия — и даже простой народ — начинает отказываться от принципа именования тремя именами, оставляя только одно. Франки делали то же самое и выбирали имена, состоящие из двух корней. Очень часто, чтобы придать ребенку качества желаемого дикого животного, составное имя идентифицировало будущего взрослого со зверем: Bern–hard — «сильный медведь», что дало Бернара; Bert–chramn — «сверкающий ворон» — сегодня Бертран; или еще Wolf–gang, «идущий как волк», то есть бесшумно.
Поскольку имя — это человек, галло–римляне мало–помалу переняли тот же образ мышления. У герцога Лупа («волка») был брат Магнульф (magnus wolf, «большой волк») и два сына — Жан и Ромульф («римский волк» — тонкая латино–германская аллюзия на легенду об основании Рима). Впоследствии, благодаря успеху этой антропонимики к северу от Луары, южане (даже духовенство) постепенно переняли германские имена с корнями, связанными с воинской деятельностью и животным миром. Если в VI веке к югу от линии Нант—Безансон лишь 17 процентов епископов носили германские имена, то в VII веке предстоятелей с подобного рода именами стало уже 67 процентов. Мода эта свидетельствует о нарастании общей агрессивности в меровингском обществе и, в то же время, о широком распространении охоты. Конечно, не все имена с германским звучанием были тотемами для антропоморфических культов, и незнание точного значения этих слов за пределами зон, заселенных франками, вероятно, было почти всеобщим. Тем не менее, читая повторенные всеми меровингскими и каролингскими церковными соборами решения об осуждении священников, которые носят оружие и охотятся с собаками и соколами, мы вынуждены сделать вывод, что искусство убивать стало всепоглощающей страстью, охватившей даже тех, кому следовало во всякое время оставаться мирными пастырями. Со времен распада Западной Римской империи и вплоть до VIII века архиерейский корпус Аквитании славился рением владеть копьем. В IX веке нравы несколько смягчаются, но тем не менее Иона Орлеанский протестует против людей, которые настолько любят охоту и собак, что пренебрегают и собой, и бедняками. «Чтобы убивать животных, которых не вырастили, сильные мира сего лишают бедняков последнего». Эта критика практически не имела действенной силы, поскольку охота была одновременно разрядкой и допингом для необходимых в повседневной жизни импульсов агрессии. Во время осады Парижа викингами в 885 году некоторые защитники имели при себе ястребов, как сегодня принято иметь при себе платок, а самым ярым бойцом был епископ города Гозлен, облаченный в шлем и кольчугу, с мечом в руке, наносивший этим оружием смертельные удары язычникам.
В завершение разговора об этой
любви–страсти, о страхе перед животными и интересе к ним, упомянем два последних характерных момента. Статья 36 Салической правды гласит, что если четвероногое животное убьет человека, то его хозяин должен выплатить половину суммы, полагающейся за убийство, а животное отдать истцу из пострадавшей семьи. Эта практика, которая легла в основу средневековых судебных процессов над животными, раскрывает глубокую веру в их разрушительную мощь, в тот темный мир насилия, к которому они принадлежат и который человек должен себе подчинить. Речь идет не только о том, чтобы доказать вину животного и тем самым снять подозрение с человека — рассуждение здравое, но слишком в духе нашего времени, — но и о том, что человека и зверя воспринимали как сообщников, как носителей одного и того же стремления к смерти. К этой же системе представлений восходит и привычка германцев одеваться в меховую одежду. Отвращение к варварам у римлян вызвало не только то обстоятельство, что они, подобно бургундам, мазали волосы прогоркшим маслом и воняли луком и чесноком но и то, что они были «одеты в звериные шкуры» — в глазах римлян неоспоримое свидетельство дикости. Тем не менее меховой жилет, подобно германской антропонимике, получил широкое распространение на всей бывшей имперской территории. Карл Великий носил его зимой точно так же, как какой–нибудь простой крестьянин, но — значимая деталь, на которую обратил внимание Робер Делор, — мехом внутрь. Ты хочешь приобрести качества зверя: но если ты рискуешь при этом носить его шкуру шерстью наружу, не окажешься ли ты при этом слишком на него похож, и не рискуешь ли в силу этого тем, что в какой–то момент он вдруг и впрямь в тебя вселится? Следовательно, если принять во внимание страх превратиться в оборотня, опуститься до уровня зверя, речь шла только о том, чтобы приобрести качества исключительно человеческие — и чисто человеческое искусство убивать.
Если охота создает связь со смертью, рыбная ловля, как ни странно, представляется связанной именно с жизнью. Вовсе не потому, что люди не хотят есть рыбу, а просто потому, что она не вызывает лишней агрессии. Салическая правда считает кражу рыбы преступлением столь же серьезным, как и кража убитых животных или животных охотничьих, но воздерживается от каких–либо других уточнений. Рыбалка — занятие слишком мирное, чтобы провоцировать воровство. Императорские лесничие должны были одинаково заботиться о реках и рыбных садках, о зарослях и заповедных местах для рыбалки, но конфликты, которые могли быть следствием кражи пойманной рыбы или изменения течения реки, нам неизвестны. Кто начинает говорить о рыбе — заканчивает разговором о монахах. Действительно, в уставе святого Бенедикта сказано: «Что касается мяса четвероногих животных, абсолютно все должны воздерживаться есть его, за исключением очень ослабленных больных». Поэтому у мирян воздержание от пищи во время постов и по пятницам — то есть употребление в эти дни рыбы — является подражанием обычному поведению монахов. В X веке потребление морской рыбы постепенно выросло до такой степени, что превысило потребление рыбы речной, но в пищевой и социальной символике рыба осталась пищей тех, кто ее вылавливал, — мирных безоружных людей, монахов, и прежде всего благодаря своему водному происхождению источником жизни, связанным с женским миром. Таким образом, рыбалка воспринималась как антиохота, деятельность в целом унизительная и вызывавшая пренебрежение, заниматься которой аристократия считала ниже своего достоинства.
Смерть в результате поджога и грабежа
К сочетаниям «охота–рыбалка», «мужское–женское» и т. д. можно добавить оппозицию кражи и поджога — двух основных преступлений в частной сфере, вызывавших эскалацию насилия. Салическая правда, по всей видимости, была составлена древними и мудрыми людьми, которым очень досаждали кражи: из 70 статей по меньшей мере 22 так или иначе касаются этого правонарушения — то есть почти треть. Закон бургундов, напротив, посвящает этой теме лишь 13 статей из 105. Именно по такого рода деталям можно оценить то, насколько институт владения частным недвижимым имуществом был Древнее у бургундов и готов вообще по сравнению с франками, для которых главной была собственность движимая — как свидетельство богатства и как инструмент создания нужного имиджа. Здесь тщательно выстроенный список преступлений по Дотошности своей граничит с манией. Ничто не остается без внимания: свиньи и крупный рогатый скот, бараны и козы, собаки и охотничьи птицы, а также петух, курица, домашний Павлин, гусь, горлица и любая пойманная в ловушку птица. Далее упоминаются кражи ульев или роев пчел (в то время единственного источника сахара), а также похищения всевозможных рабов — свинопасов, виноградарей, берейторов кузнецов, плотников, ювелиров и т. д. В общем, как мы видим, законодатель переходит от краж самых распространенных к наиболее редким. Что в то же время дает нам удивительную иерархию стоимости имущества: 45 солидов за кражу улья — и только 35 за раба или кобылу; 62,5 солида, если раб — квалифицированный ремесленник. В расчет принимается только стоимость разыскиваемого; стоимости человека самого по себе не существует. Упряжная лошадь, жеребец–производитель — оба очень дороги, «стоят» 45 солидов — больше, чем обычный раб. Кажется, украсть можно было все что угодно: колокольчик свиньи или колокольчик вожака стада, муку на мельнице или железные части мельничного оборудования, сеть для ловли угря, бочонок вина, сено и т. д. Итак, перед нами вырисовывается картина сурового сутяжнического общества, в котором ничто не должно быть забыто, где малейшая пропажа становится личным оскорблением, где, как уже было сказано, вор, застигнутый на месте преступления, карается смертной казнью, а раб, совершивший кражу, — ста двадцатью или ста пятьюдесятью ударами плетью, пытками или кастрацией, поскольку все–таки нельзя потерять принадлежащую тебе собственность, даже если вышеупомянутый индивид стоит на рынке всего лишь 12 или 25 солидов! Было бы слишком просто высказать здесь некое морализирующее суждение на манер христианского духовенства той эпохи. Фактически речь идет об урегулировании отношений между франками в соответствии с их представлениями о богатстве и зависти, которые порождали воровство перед лицом растущей социальной дифференциации, каковая все сильнее и сильнее отдаляла друг от друга изначально равных между собой воинов и вела к появлению семейств более влиятельных, чем другие. Цель этого драконовского регулирования состояла прежде всего в том, чтобы отличить законные трофеи от награбленного имущества, законный захват собственности у врага от кражи преступной, вызывающей конфликты между самими франками. Разрывающиеся между войной и землей, эти солдаты–крестьяне не понимали разницы между насилием, направленным вовне, и грабежом и насилием внутренним. Они могли выпотрошить человека буквально ни за что. В качестве доказательства можно привести тот факт, что у бургундов вышеперечисленные виды краж, франкам казавшиеся столь важными, квалифицируются как второстепенные и наказываются всего 3 солидами виры. Единственным видом настоящей кражи было похищение лемеха сохи или пары быков с ярмом. Виновника такого преступления превращали в раба. Таким образом, здесь гораздо больше чувствуется значимость частной земельной собственности. (В еще большей степени это касается галло–римлян, чьи юридические тексты изобилуют проблемами перемещения межей, фальсификации купчих, сжигания документов на право владения собственностью, захватов земель и т. д. Однако это уводит нас за рамки нашей темы, поскольку речь идет уже не о частных делах, а о делах, которые решаются в присутствии нотариуса.) Кроме того, разбойники, воры, latrones, по–галльски называвшиеся также bagaudes («те, кто объединяется»), не давали покоя галльским деревням с V века — и вплоть до века X. Члены этих маргинальных групп за совершенные ими взломы и грабежи приговаривались к рабству, принимались также и официальные постановления о подавлении особо опасных очагов бандитизма и об уничтожении банд королевскими войсками. Эти «злодеи», Не боявшиеся ни казней, ни наказаний, создавали атмосферу страха и тревоги, которая окутывала частную жизнь каждого человека и каждого вынуждала запереться в своем доме.
Если кража воспринималась как нападение на отдельного человека, то поджог был угрозой уже на уровне семейном и родовом. А еще в большей степени он вызывал травмы психические. Не было ничего проще, чем поджечь дом, крытый соломой, плетенку для просеивания соли, хлебный амбар гумно, хлев, конюшню и т. д. Салическая правда предусматривает значительные виры для того, кто совершил эти деяния в то время, когда хозяева спали; он должен будет выплатить возмещение за каждого погибшего и за каждого живого, избежавшего смерти. Как мы можем видеть, поджигатель здесь отделывается штрафом. Римское право, напротив, приговаривало его к изгнанию, если он из знатного рода, и к каторжным работам на рудниках, если он из свободного сословия. Если совершенное им преступление причинило значительный ущерб, его приговаривали к смерти. Однако в обоих случаях речь, видимо, идет о поджоге из ненависти к соседу, поскольку римляне проводили четкое различие между пожаром в результате поджога и огнем, который был разведен, чтобы очистить раскорчеванный участок, и распространился случайно. В интерпретациях подобных феноменов следует отказаться от привычки списывать все на свете на цивилизационные различия — и попытаться заглянуть чуть дальше. Объяснение лежит в глубинах коллективной психологии. Огонь воспринимался как средство очищения. Тот, кому угрожает огонь своего же собственного очага или кто пострадал от пламени, горящего в месте, специально отведенном для полезного огня, или же от огня, который застиг его врасплох — случайно или вследствие чьего–то злого умысла, — считался человеком проклятым или нечистым. И галло–римляне, и христиане полагали, что горящий город — как неоднократно горевший Тур, Бурж в 584 году, Орлеан в 580–м или Париж в 585–м — может быть только сам виновен, наказан за грехи или уничтожен дьяволом. Следовательно, нужно искать защиту, средство отвести удар. В те времена каждый старался защитить свой дом при помощи креста или образа какого–нибудь святого Можно было иметь в доме изображение святого Мартина или соответствующие реликвии на домашнем алтаре. «Однажды в городе Бордо был сильный пожар, а дом сирийца Евфрона, окруженный пламенем, совсем не пострадал», поскольку он поместил на верхнем обрезе стены кость от пальца святого Сергия. По слухам, Париж подвергался пожарам с того момента, когда, очищая сточные канавы, «убрали змею и крысу, сделанных из меди, которых там нашли и которым он как будто до тех пор был посвящен». Этот рассказ Григория Турского показывает, что небесный огонь может быть дьявольским и даже хтоническим, подземным, неотъемлемой частью темных сил космоса. Его можно остановить только с помощью апотропеических символов животных, вышедших из земли, таких как змея и крыса, которые значительную часть времени проводят, не видя солнечного света. Франки разделяли эту точку зрения, но были совсем не согласны с представлением галло–римлян о виновности поджигателя по двум причинам. Прежде всего они полагали, что если поджигатель является убийцей, то это отсылает к проблеме убийства, деянию не наказуемому, как мы увидим дальше, и, следовательно, они считали огонь проявлением мужской агрессивности, одним из значимых человеческих изобретений. Вспомним, что в меровингских захоронениях человек иногда погребен с огнивом, овальным железным кольцом, прикрепленным к поясу; прорезанное сбоку, оно надевалось на четыре пальца руки и, когда им с силой ударяли о кремень, давало искры для разжигания огня. В руках мертвых иногда находят также и сами эти стесанные кремни. Добывание огня трением по аналогии отсылает к другому, еще более древнему методу, называемому nodfyr, «огонь по необходимости». Палку из сухого и твердого дерева упирали в выемку в дощечке из сухой и мягкой Древесины и быстро вращали при помощи веревки: через некоторое время это приводило к появлению тлеющего уголька, который постепенно разгорался и превращался в пламя. Эту практику считали магической, а огонь, полученный таким образом, — даром богов; Лептинским церковным собором 743 года она была осуждена, впрочем, безрезультатно. То, что люди, вооруженные священным огнем, могли вызвать пожар, внушало благоговейный страх по отношению к ним. Лучше было их не трогать.
Тем не менее Церковь нашла, сама того не ведая, адекватный ответ поджигателям, внушавшим суеверный страх. Дело в том, что в пенитенциалиях всегда была предусмотрена епитимья за мастурбацию. Очень незначительная по отношению к молодежи, она возрастала до года для взрослого мужчины и до трех лет для женщины. А как заметил знаменитый психоаналитик Карл Густав Юнг, почти все поджигатели являются онанистами, и случаи, которые он описывает, доказывают глубокое родство между этими двумя проявлениями поисков тепла — созидательного и разрушительного одновременно. Впрочем, у автора преступления оба действия были синхронны. Огонь буквально выплескивался из тела. Причина, которой пенитенциалии мотивируют запрет, — это, по сути дела, избыток желания (libido), который у женщин был более значительным, чем у мужчин, — точка зрения, подтвержденная еще Юнгом. Связь с поджогами не была ясно установлена. Тем не менее практика мастурбации смутно ощущалась как опасная, и вот теперь мы возвращаемся к воровству — акту, который воспринимался как скорее мужской, и поджогу, как акту скорее женскому, то есть — к сексуальным корням агрессивности.
Убийство, пытки, месть
Звеном, объединявшим секс и смерть, была вдова. Вдовец — персонаж неведомый для социальной структуры Раннего Средневековья: вероятно, просто потому, что он не существовал как таковой по причине повышенной мужской смертности, обусловленной насилием в частной и публичной сферах. В законодательстве германцев для того, чтобы помешать вдове повторно выйти замуж, было сделано все возможное — поскольку, как мы видели, ее libido представало опасность. Однако при этом нужно было обеспечить ей достаточную экономическую независимость. Поэтому она сохраняла свое приданое и свой morgengabe. У бургундов даже было предусмотрено, что если ее дети вступали в брак, то подучали только две трети ее имущества, чтобы она не впала в нищету. Благодаря этому вдова могла стать могущественной и влиятельной фигурой, тем более что она снова обретала покровительство своей семьи. Если же она снова выходила замуж, то попадала под mundium своего нового мужа. В частности, франки обязывали второго мужа выплатить семье жены 3 золотых солида. Эту сумму называли «золотом зрелости», reipus, а ее выплата доказывает, что даже если влиятельная и уважаемая женщина — вдова — могла существовать в германской социальной природе, то она никогда не была полностью свободна, потому как, будучи сама по себе не способна совершать насилие, постоянно нуждалась в мужчинах, которые могли бы выполнять за нее эту функцию. Цветущая сексуальность и надежная материальная обеспеченность делали ее еще более уязвимой, привлекательной и могущественной.
Побои и ранения ведут к смерти. Если уж мы добрались до материй настолько серьезных, как убийство, следует прежде всего оценить пропорциональное отношение числа этих преступлений к общей численности тогдашнего населения: мы убедимся, что они были распространены гораздо шире, чем сегодня. Ощущая утомленное безразличие в рассказах Григория Турского, читая пламенные протесты в стихах и проповедях епископа Орлеана Теодульфа и архиепископа Реймсского Гинкмара, мы понимаем, насколько обыденным было насилие. То, что миряне убивают друг друга, — еще куда ни шло, но что сказать о клире, восставшем против своего епископа, что думать о монахинях монастыря Сен—Круа Де Пуатье, которые клевещут на свою аббатису и епископа, избивают и разгоняют клириков, собирают «шайку убийц колдунов и прелюбодеев» и нападают на собственный монастырь? Пьер Рише упоминает об инциденте, произошедшее в IX веке с одним епископом из Мана, который, недовольный своими клириками, велел их кастрировать. Чтобы лишить сана этого разъяренного безумца, в дело пришлось вмешаться Карлу Великому. Но мы были бы не правы, если бы сочли причиной всех этих действий умственные отклонения. Речь идет о вполне обычных проявлениях агрессии, таких как убийство в начале X века реймсского архиепископа Фулька, организованное графом Фландрским. Мудрые старцы, авторы Салической правды, создали настоящую литанию, перебрав все возможные виды телесных повреждений, за которые полагалась тут же оговоренная денежная компенсация, wergeld, то есть «золото за человека». Выражение очень характерное: только золото способно помешать кровопролитию. Таким образом, были предусмотрены практически все варианты: от наиболее опасного, когда убийца пытался поразить жертву отравленной стрелой, и вплоть до самого невинного — когда для того, чтобы умереть, пострадавшему оказывалось достаточно одного удара кулаком. Три удара кулаком влекли за собой 9 золотых солидов виры; оторванная рука, отрезанная нога, выколотый глаз, отсеченное ухо или нос — 100 солидов; однако если рука или большой палец еще висят, сумма будет меньше. Эта нудная арифметика усложнялась, поскольку отсеченный указательный палец, который служил для стрельбы из лука, стоил 35 солидов, а мизинец только 15. Хуже того — некоторые доходили до того, что вырывали язык своему противнику «так, что тот не в состоянии будет говорить»; стоимость: 100 солидов. О причине такой жестокости нетрудно догадаться: месть! А иначе почему негодяй старался выполнить столь сложную «хирургическую операцию», несмотря на вопли несчастного, — с помощью друзей, которые его обездвиживали, — если не из глубокого желания уничтожить ту часть тела, которая причинила ущерб агрессору? Месть — это мотив, который проще всего объясняется тем, что гораздо легче убить того или иного человека, чем преследовать его по закону, и стоить это будет примерно столько же — если, конечно, речь не идет об убийстве антрустионов и сотрапезников короля. Действительно, каждое убийство кодифицировалось в соответствии с социальным статусом умершего, а вира, которую убийца выплачивал его семье, была строго одинаковой и за франка, и за римлянина. Значение имело только место в социальной иерархии — был ли убитый приближенным короля или просто свободным человеком. Мы в третий раз сталкиваемся с этой любопытной практикой франков: смерть для вора, вира для убийцы. Это тем более удивительно, что у римлян и бургундов любой убийца подлежал смертной казни. У бургундов только убийство в целях самообороны влекло выплату семье жертвы половины установленной суммы, варьировавшейся в зависимости от статуса, знатности, свободного или зависимого положения. Следующий этап в нашем анализе мести — «это месть родственника, которую мы называем faide», как говорил Регино Прюмский.
С того момента, когда произошло убийство, родственники жертвы считали своим настоятельным религиозным долгом отомстить за эту смерть либо самому виновнику, либо члену его семьи. А последняя, в свою очередь, действовала точно так же. Процесс воспитания агрессивности достигал кульминации в этой нескончаемой череде актов кровной мести, которая иногда растягивалась на столетия и о которой рассказывают современники, начиная с Григория Турского в VI веке и до Рауля Глабера в XI. Не отомстить за свою семью считалось абсолютным позором. Один римлянин, услышав Из Уст самого убийцы, молодого Сихара, что его близкие зарезаны, решил для себя: «Если я не отомщу за гибель своих Родственников, я не достоин называться мужчиной, а должен буду называться слабой женщиной». И тотчас же разрубил топором голову спящего убийцы. А король Гунтрамн после убийства Хильперика восклицает: «Я не вправе считать себя мужчиной, если я не отомщу за его смерть в этом году!» В очередной раз убийство ассоциируется с мужественностью. И нет никакого осуждения самого акта убийства. Более того — оно становится привычным. «Если кто найдет на перекрестке дорог человека без рук и без ног, брошенного там его врагами, и добьет его… присуждается к уплате… 100 солидов». Или еще: «Если кто голову человека, которую его враг посадил на кол, осмелится снять без позволения… того, кто ее посадил на кол, присуждается к уплате 15 солидов». Эти законодательные акты, непонятные для нас сегодня, на самом деле были важны. В обоих случаях жертва была выставлена на всеобщее обозрение в священном месте — на перекрестке дорог или на колу ограды — как свидетельство осуществления священного долга кровной мести. Если третий вмешивается в эти faides — он запускает новую цепочку мести. В этом случае три семейства оказывались вовлечены в одну и ту же faide! Эти дела были настолько сложны, что королева Брунхильда нашла только одно средство выхода из ситуации: однажды она велела своим сеидам изрубить секирами всех без исключения членов обеих семей, терзаемых faide, которых она предварительно напоила.
Однако, как подчеркивает Сильви Десме, существовал очень простой способ прервать цепную реакцию мести: соглашение, wergeld. Поскольку каждое увечье и каждое действующее лицо были буквально снабжены «ценниками» со строго определенной стоимостью в золотых солидах, достаточно было, чтобы семья потребовала «цену человека» или «золото за человека» и чтобы семья убийцы согласилась ее выплатить, чтобы положить конец кровной мести. В обществе, где человеческая жизнь сама по себе ничего не стоила, где значение имел только причиненный ущерб, такое решение, вероятно, могло быть привлекательным ввиду стоявших на кону огромных сумм, которые сулили быстрое обогащение. Тем не менее очень часто алчность побеждали ненависть и страх прослыть трусом или бабой. В то время, если человек переставал вести себя по–человечески, возникала еще и угроза социальному равновесию. Часто на возмещение не соглашались, и месть разгоралась с новой силой.
Хуже того — она была обязательной. Вспомним застолья, во время которых заключались союзы и заговорщики давали клятвы убить того–то или того–то или защищать своих сотоварищей, что бы ни случилось. Составители, которые в конце VIII века добавили статью к тексту Салической правды, прекрасно это понимали. Они сочли необходимым уточнить, что «в те времена, когда закон был записан, франки еще не были христианами. Поэтому они клялись своей правой рукой и своим оружием». Впоследствии они переняли христианскую манеру давать клятвы. Однако привычные способы поведения, сформированные под знаком грозящей смерти, не могли исчезнуть в одночасье. Рука все еще тянулась рефлекторным жестом выхватить меч из ножен. За этот жест бургунды карали штрафом, хотя у них насилия, видимо, было меньше, поскольку их законы касались в основном таких предметов, как зубы, выбитые ударом кулака. Таким образом, рука в сочетании с оружием означала одно: ничем не сдерживаемый инстинктивный акт убийства другого человека. Рефлекс и воля — суть одно и то же (прежде всего у франков, хотя это проявлялось и у других народов), потому как слово и действие — также едины. Почему? Изучение брани позволит нам это доказать. В самом деле, оскорбление неизбежно влечет за собой насилие.
Могло бы показаться жалким и смешным, если бы законодатель опустился до тарификации оскорблений, которыми все друг друга осыпают. Но это затрагивало честь каждого — обидчика и обиженного. Не ответить — значило согласиться с достоверностью позорящего определения. Бросить непристойное обвинение было — со стороны слабого по отношению к сильному — единственным возможным средством того оскорбить и унизить. Подобное положение вещей проистекало из глубокой веры в действенность слова. Римляне довольствовались наказанием за оскорбление, нанесенное публично. Для германцев любое оскорбление деструктивно, поскольку оно покушается на личные добродетели, за которыми стоят общественные идеалы и языческая мораль. Вершиной бесчестья было обозвать кого–нибудь шлюхой: 45 солидов. Здесь сказывается та самая одержимость чистотой женщин, которые ни в коем случае не должны были попасть под подозрение. Характерно, что на нижней ступеньке иерархии, оцененные всего–навсего в 3 солида, находятся всевозможные оскорбления, порочащие мужчин. Только за обвинение в педерастии был предусмотрен штраф в 15 солидов. За ним следовало слово concagatus, которое можно перевести лишь с помощью старого средневекового прилагательного conchie
[83]. Ассоциация этих двух оскорблений по смежности показывает, что в мире одновременно воинском и крестьянском мужчина–гомосексуалист из античного, достойного всяческого уважения «бойцового петуха» превратился в мерзкого отталкивающего «жука-навозника». В сущности, всякая сексуальность должна была быть чистой — вплоть до самых интимных ее проявлений. Что касается противостоящих оскорблениям добродетелей — то это честность (поскольку оскорблением считалось, если кто–то назвал кого–то лисом, предателем и доносчиком) и воинская доблесть (было обидным сказать, что кто–то бросил свой щит на поле боя, чтобы спастись бегством, или обозвать его зайцем). Здесь мы снова обнаруживаем связь с животным миром и его воображаемыми пороками. Весь этот обзор выдуманных оскорблений является реликтом дологического индивидуалистического мышления, где ненависть является причиной всех зол, где коллективное бессознательное порождает чувства, подрывающие репутацию других. Никто не станет отрицать, что слово может причинить зло, но у людей Раннего Средневековья оно вызывало вполне реальные психосоматические изменения. Поэтому ответ на оскорбление был обязательным, а насилие неизбежным.
Страх перед мертвыми
До сих пор я не касался самого смертельного оскорбления, поскольку оно имеет отношение к подземным силам и ведет нас в загробный мир. «Если кто обзовет другого прислужником ведьм или таким, про которого ходит слух, будто он носит бронзовый котел, где ведьмы варят свои снадобья, присуждается к уплате… 62,5 солида». «Если вампирша [колдунья] съест человека… она присуждается к уплате 200 солидов». В самом деле, колдуньи, которым нужно было убить человека, чтобы совершить свои дивинационные манипуляции с магическим котлом, внушали особый страх. Связанные с инфернальными силами, как жрица с крышки кратера из Викса, они предсказывали будущее с помощью человеческой крови, пролитой на внутренние стенки котла. Считалось, что они пьют кровь и пожирают людей. Таким образом, женщина, дающая жизнь, могла одновременно нести и смерть. Здесь проявляется вся неоднозначность франкского и языческого отношения к смерти. Никто не должен ее бояться, но те, кто посвящен в ее таинства, вызывают страх. Как и секс, смерть принадлежит сфере sacer (священного). Она рождает страх и трепет, поскольку мы никогда не знаем, какое зло покойники могут причинить живым, но в то же время — как показывает практика человеческих жертвоприношений, еще в VI веке существовавшая у Франков, — убивать нужно было, чтобы жить, и прежде всего поэтому необходимы были войны: для выживания племени.
Следовательно, ритуал смерти — это удаление, опасливое и почтительное, мертвого на достаточно существенное расстояние от живых. Для этого живые создают особый мир мертвых — кладбище, которое в меровингскую эпоху всегда находится далеко от поселения и других мест обитания. Впрочем, и у римлян существовала практика, фактически идентичная франкской, поскольку могилы располагались вдоль дорог, за пределами города. Но германцы создали сельские кладбища несколько необычного типа. По возможности, эти участки земли располагались на пологом склоне с южной стороны холма и вблизи родника, или же в аллювиях реки, или на развалинах галло–римской виллы. Могилы расходились рядами в разных направлениях, которые могли меняться от столетия к столетию. Эта мода очень быстро распространилась с севера на юг. В местностях, населенных франками, тело часто клали в землю обнаженным, иногда в коробе из мягкого камня, который к югу от Луары в большинстве случаев имел форму каменного или мраморного саркофага. Также часто использовали деревянные гробы с железной оковкой. Дети иногда бывают похоронены рядом с могилами родителей, группой. Изначально общепринятой была кремация. В V и VI столетиях она еще практиковалась на севере на некоторых кладбищах саксонского или франкского происхождения. Единственной ее целью было помешать мертвым возвращаться и беспокоить живых. Кроме того, на могилах часто сажали колючие кустарники, чтобы мертвец оставался в своем мире. У франков надгробие имело форму столба или стелы в виде небольшого моста.
Таким образом, все было предусмотрено для того, чтобы создать частный мир мертвых, и распространение погребений, даже до христианизации, усилило эту характерную особенность. Сельское кладбище воспроизводило эндогамный мир деревни. В подавляющем большинстве случаев покойника хоронили в одежде. В самых бедных захоронениях сохранились только скромные пряжки от ремней или, в конце VII века, маленькие застежки с крючками, скреплявшие саван. Некоторые были похоронены со своими инструментами, в частности это касается кузнецов — так, кузнец из Эрувиллета был обнаружен со всеми своими инструментами. В Средние века кузнеца называли «fevre». Он владел искусством укрощать огонь и с помощью своих таинственных знаний умел сгибать железо. Его также считали особым человеком в деревне — почти что колдуном и одновременно целителем. К тому же одной ногой он стоял в мире сакрального, и потому на кладбище ему отводилось особое место. Другие люди, из небольших коллективных захоронений, были погребены с оружием (меч, скрамасакс
[84], копье, щит) и с мелким домашним инвентарем (гребень, пинцет для эпиляции, огниво и т. д.). Женщины отправлялись в мир иной со своими украшениями: ожерельями, браслетами, серьгами, круглыми или дугообразными фибулами, длинными шпильками для волос; с кошельками, полными золотых монет; серебряными наконечниками ремней, поддерживавших обмотки. Царские могилы, как, например, в Ордэне, на севере, или могила Арегонды в Сен—Дени, часто были чрезвычайно богаты. Так, родственница герцога Гунтрамна Бозона была похоронена «со множеством драгоценностей и золота». Таким образом, мертвецы переходили из сферы частной жизни в сферу не менее частной смерти, сопровождаемые привычными вещами, но при этом были отделены от живущих невидимой границей.
Сквозь разнообразные погребальные ритуалы меровингской эпохи можно в самом деле ощутить двойственное отношение живых к мертвым: дистанцирование и близость одновременно. Прежде всего нужно, чтобы умерший был правильно похоронен и замкнут в своем мире. В полудюжине могил к северу от Сены обнаружены останки лошадей, которые были принесены в жертву и похоронены рядом с покойником. Речь шла о Слейпнире, животном, посвященном Одину, солярном символе, слуге бога войны, который раз в год, 26 декабря, приводил мертвецов на землю на праздник Юла. Намного реже умершего сопровождал в могиле олень, символ королевской власти. Чтобы все эти мертвецы оставались на своих местах, покойников снабжали целым магическим арсеналом из многочисленных талисманов и амулетов: ожерельями из янтарных бусин, подвесками с хрустальными шарами, кабаньими или медвежьими клыками. Редкие камни обладали апотропеическими свойствами — защищали от демонов; зубы диких животных способствовали сохранению личной силы человека. Необходимо упомянуть, наконец, мешочки с обрезками волос и ногтей, считавшихся носителями жизненной силы, поскольку они продолжали расти после смерти, а иногда, под влиянием христианства, — с мощами святых. Кроме того, бывало, что обол для Харона — монету, которую клали в рот мертвецу, чтобы тот мог расплатиться за переправу на лодке через Стикс, — после выхода обола из обращения заменяли облаткой, несмотря на запреты Церкви. Иногда у ног покойника помещали несколько керамических чаш, стеклянных кубков или бутылочек, как приглашение отведать земной пищи во время путешествия в бесконечный загробный мир. В некоторых случаях археологи находили остатки этих съестных приношений. Они состояли из мяса, зерна, лесных орехов. В погребения клали также символы мужественности: палки из орешника, стесанные кремни (выше мы объясняли почему), или женственности: морские ракушки, устье которых — по краю белое, а внутри розовое — ассоциировалось с вульвой. Одним словом, мертвец ел, сражался и любил как живой. Его жизнь была материальной копией жизни живого Живые делали все возможное для того, чтобы обеспечить ему покой в загробном мире. Некоторые особо опасные покойники изгонялись самым беспощадным образом: мертворожденных детей протыкали насквозь, поскольку невинное существо нс могло оставаться под землей — оно стремилось подняться на поверхность земли, чтобы вознестись на небо и найти живых, которых можно будет упрекнуть в том, что они живы. Другие, вероятнее всего, колдуны или преступники, были пригвождены к своим гробам, изуродованы, обезглавлены или окружены кольцом из очистительного древесного угля.
Кто говорит о страхе смерти — говорит и о попытке ее прирчения. Жития святых и археологические данные удостоверяют существование случаев бальзамирования с помощью мира и алоэ. Тело королевы Билихильды было обнаружено в Сен—Женмен–де–Пре с подушкой из ароматических трав под головой. Но очевидно, что эти практики были уделом главным образом богатых семей. Остальные проявляли по отношению к мертвым заботы более прозаические, предназначенные исключительно для собственного успокоения, заставляя восторжествовать жизнь над смертью, но не придавая трупу вид живого человека. Тело переносили из деревни на кладбище в сопровождении процессии, лежащим на носилках, с полотном или платком на лице, чтобы не увидеть глаз покойника и не навлечь на себя беду; чтобы он не смог преодолеть притяжения подземного мира, его несли на высоте коленей. Затем, родственники регулярно устраивали на могиле поминальные трапезы. При археологических раскопках иногда обнаруживают остатки подобных пиршеств. Церковные соборы, в частности Турский собор 567 года, выступали против этой практики: «Некоторые, следуя древним заблуждениям, приносят мертвым еду в день святого Петра [22 февраля]… и едят сухие овощи, угощая демонов». Поминальные трапезы укрепляли семейные узы и успокаивали мертвых благодаря тому, что они участвовали в трапезе наравне с живыми. Следы подобных практик сохранялись вплоть до XI столетия. Иногда для заклинания усопших к трапезам добавлялись бдения, ночные танцы и пение. Таким образом, благодаря практикам отстранения и приручения на кладбищах воцарялся мир, а живые избавлялись от страха.
Но нужно было принять еще одну, последнюю меру предосторожности: эффективно предотвратить осквернение могил живыми. Это была распространенная практика: многие археологи испытывали разочарование, обнаруживая, что захоронения уже разграблены. А сколько саркофагов находятся сегодня в наших музеях, разбитые и продырявленные ловкими руками, которые сняли с трупов оружие и драгоценности? Очень часто осквернения совершались вскоре после погребения. Григорий Турский приводит несколько такого рода примеров, самым известным из которых был случай с родственницей Гунтрамна Бозона, похороненной в базилике в Меце: «Слуги же… пришли к базилике, в которой была погребена женщина. Войдя в нее, они заперли за собой двери, открыли гробницу и сняли все драгоценности с усопшей, какие только они могли найти». У этого вида преступлений было два катастрофических последствия, влиявших на умы современников. Во–первых, ограбленный индивид терял свой статус. Во–вторых, он возвращался по ночам беспокоить живых. Именно по этой причине появлялись ночные призраки — недовольные мертвецы, которые составляли свиту, с воплями и завываниями сопровождавшую Диану и ее собак у галло–римлян и Хольду у германцев. Здесь же источник фольклорного сюжета о дикой охоте. Чтобы побороть эти кошмары, нужно было принять строгие меры против безбожников, которые, движимые алчностью, не боялись смерти. Одни снимали одежду с убитого человека до того, как его тело было предано земле, другие — после. «Если кто, вырывши уже погребенное тело, ограбит его и будет уличен, пусть будет поставлен вне закона до того дня, в который он даст удовлетворение родственникам умершего. <…> И если, прежде чем он примирится с родственниками покойника, кто–нибудь даст ему хлеба или окажет гостеприимство, будь то родственники или даже собственная его жена, присуждается к уплате… 15 солидов. Сам же уличенный в допущении этого присуждается к уплате… 200 солидов». Первый штраф выплачивался семье, второй — представителю королевской власти. Следовательно, это преступление наносило оскорбление не только покойнику, но и всей его семье. Семейные связи продолжали существовать и после смерти, и легко понять страх, который охватывал близких после того, как один из их родственников был таким образом ограблен. Однако само это понятие, «осквернение», имеет более узкое значение. Выше мы видели, что это преступление, совершенное как мужчиной, так и женщиной, и у римлян, и у бургундов могло стать причиной развода. Сексуальные коннотации этого термина, который сам по себе попахивает некрофилией, вполне естественным образом внушали мысль о нечистоте совершившего подобное деяние человека. Этот акт воспринимался как настоящий адюльтер со смертью, в то время как связи между сексом и смертью — двумя табуированными инстанциями — не должно быть никакой. Это нарушило бы мировой порядок. Кроме того, могила должна была быть строго персональной: контакт между двумя покойниками также порождал беспорядок и причинял беспокойство живым: «Если кто одного мертвого человека положит в деревянном или каменном гробу на другого, присуждается к уплате… 45 солидов». Король Гунтрамн распространил наказание на тех, кто совершал то же самое в обычной погребальной базилике или в базилике с мощами святого. Борьба за применение такого закона должна была быть очень жесткой, так как проводимые сегодня археологические раскопки часто выявляют случаи двойных или тройных захоронений в одной могиле. Следовательно, сохранить интимность погребения было сложно. Этот комплекс запретов был, в конечном счете, более суровым, чем запреты, относившиеся к браку, поскольку касался явлений одновременно публичных и частных, таких как похороны и смерть, социальный статус и могила, в то время как сексуальность женщины было гораздо легче ограничить строгими правилами. Но попробуйте запереть мертвого… От того, что он невидим, подозрений могло становиться только больше.
Здесь также необходимо подчеркнуть роль Церкви, которая стремилась придать смерти публичное измерение, чтобы нейтрализовать страх перед проявлениями инфернальных сил и сделать этот момент и это состояние переходом к иной жизни, актом надежды. Перелом, судя по всему, наступил во второй половине VII века. Уже к 750 году последние частные гипогеи и мавзолеи исчезают, а кладбища, находившиеся на окраинах деревенских земель, переносятся к приходской церкви. Таким образом, кладбище располагается вокруг церкви. Самый ранний и точно датированный (между 650 и 700 годами) пример тому — кладбище, обнаруженное Клодом Лорреном в Сен—Мартен–де–Мондевиль, в Нормандии. Моделью стали загородные погребальные базилики VI века. Захоронение рядом с мощами святых и главным алтарем создавало близость и надежду на спасение, которых старые языческие погребальные практики дать не могли. В то же время так называемые привилегированные могилы каких–либо знатных персон — принца или военачальника — избегали участи простых смертных и располагались под церковными плитами или даже в специальных церквях. Так смерть становилась публичной. Верующие возносили молитвы, стоя на телах своих близких. Мир живых и мир мертвых теперь составляли единое целое и были разделены лишь плитами пола — в едином сакральном пространстве границей вполне условной. Свойственный частному человеку страх смерти отходил на второй план перед покоем смерти публичной, даже если женщины каждый раз продолжали рыдать на похоронах, рвать на себе волосы и раздирать ногтями лицо, чтобы успокоить мертвого. Таким образом, именно в эту эпоху была, по сути, перевернута последняя страница истории смерти. Отныне, вплоть до XVIII столетия, в сельском храме одновременно будут присутствовать и живые и мертвые. А археологи XX века будут лишены какой–либо возможности проведения раскопок большого каролингского кладбища. Тысячи скелетов, сложенных один на другой в меровингских некрополях, теперь были нагромождены в тени приходских фруктовых садов. Смерть была интегрирована в человеческую вселенную.
Представления о загробном мире
Соответственно, эта борьба против ужасов смерти порождает индивидуальное воображаемое пророческого или эсхатологического типа. Загробный мир стремится стать постоянно присутствующей в сознании человека мыслительной категорией, а духовенство старается развивать религиозное воображение, превращая страхи посюстороннего мира в ужасы жизни вечной. Подобно тому как он перемещает изгнанного умершего на земле невозделанной в землю благословенную, каждый пастырь стремится перенести за пределы настоящего, в будущее, то близкое, то далекое, беспокойство и страх перед лицезрением мира, застывшего в неподвижности. Подобный «перенос фрустрации» имел свои преимущества, поскольку заставлял человека прикладывать усилия не к тому, чтобы наладить связи с грозным космосом, но к преображению, конечной цели человека, готовящегося к вечной жизни. Эсхатологическое видение, переживание вполне индивидуальное, будучи распространено публично через проповедь или через книгу, имело в те времена важные последствия в сфере частного, вызывая в психике каждого слушателя или читателя состояние шока. В этом смысле визионерская традиция и была
созидательницей нового воображаемого. Уже в VI веке некоторые духовные лидеры пытались, впрочем, тщетно, возвещать о новом мире. Однако в конце VII — начале VIII века ряд видений, по сути, представлял собой попытку дать ответ на тревоги и чаяния современности, связанные с кризисом меровингской монархии и распространением в Средиземноморье ислама. И в самом деле, моменты цивилизационных кризисов неизменно создают благоприятную атмосферу для появления мистически настроенных индивидов, кристаллизующих тайные страхи и надежды всех остальных. При этом одни из них — пессимисты, другие — оптимисты. Приведу лишь два примера: видения монаха Баронта и монахини Альдегунды.
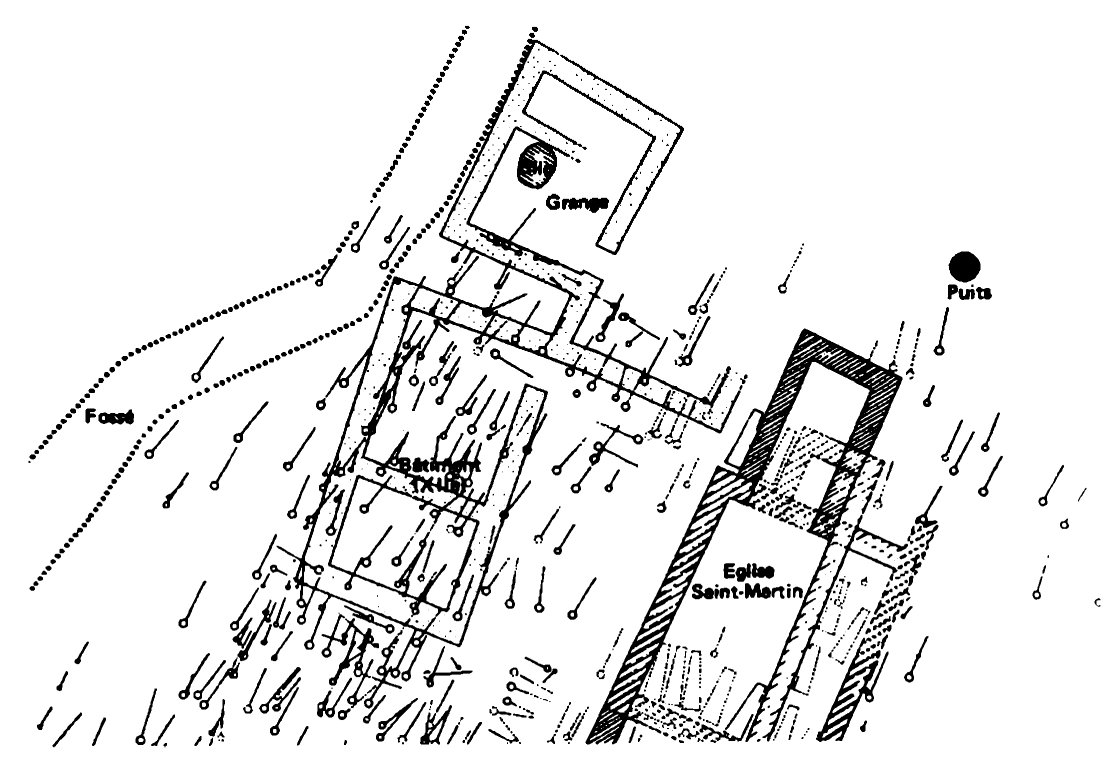 Рис. 35.
Рис. 35. План кладбища в Мондвиле (Кальвадос). Это самый ранний известный пример кладбища, построенного вокруг сельской церкви (Сен—Мартен–де–Мондвиль, вторая половина VII века). Смерть, таким образом, приручена, смешана с живыми (Кан, CRAM, с любезного разрешения Клода Лоррена)
Первый был обращенным в христианство знатным франком, который во время путешествия в загробный мир увидел, как демоны обвиняют его «в сожительстве с тремя женами, что было непозволительно, и, вдобавок, в совершении других супружеских измен». То есть этот бывший чиновник практиковал полигамию и конкубинат, и эти провинности отягчали его совесть. В своем монашеском уединении в Меобеке, в Берри, до 678–679 годов, он имел видение вечной жизни, совершив путешествие в ад и в рай. Ад теперь располагался не под землей, как у язычников. Он находился в каком–то пространстве вне нашего мира. Следовательно, мертвецы больше не могли возвращаться и беспокоить живых! Кроме того, проклятые не могли оттуда сбежать: «Тысячи людей, стонущих в тоске, связанных по рукам и ногам и истязаемых демонами, которые кружат вокруг них как пчелы вокруг улья… сокрушенных пытками, испускали протяжные вопли». Демоны черны. Они терзают своих жертв когтями и зубами, усугубляя их мучения. Очевидно, что страх перемещен за пределы настоящего. Наводящими ужас описаниями участи, которая ожидает грешников, и душевным потрясением, порожденным этими образами, Баронт надеется вызвать внутреннюю трансформацию, подобную той, что произошла в нем самом. Затем в сопровождении архангела Рафаила он проходит через трое врат и достигает четвертых — врат рая, охраняемых святым Петром. Но тот преграждает ему путь. Время еще не пришло. То есть путешествие в воображаемое завершается у порога несказанного блаженства, которое нужно еще заслужить. Следовательно, страх ада имеет целью использовать ожидание для того, чтобы преобразить настоящее и тем самым отворить двери таинственного будущего. Воображение, захваченное видениями потустороннего мира, предоставляет свободу реализму повседневности, принятию истории, которую язычество отвергало. В самом деле, напомним, что языческий космос, не имевший начала и конца, пребывал во власти сил постоянно возрождавшихся. Угрозой страха быть проклятым когда–то потом, а не сейчас, визионер расширял границы каждого индивидуального воображения за пределы кошмара непрерывного возобновления — весна, лето, осень, зима, рождение, рост, жатва или набег, смерть — и видением необратимого линеарного времени внезапно разрушал языческий миф о вечном возвращении.
Пессимистическое видение, порожденное воображением мужчины, было обращено прежде всего к тем взрослым Детям, тем молодым до самой смерти людям, которые составляли меровингское общество. Людьми они были весьма Жестокими, а потому и воспринять могли только педагогику телесного наказания. Видение оптимистическое — плод воображения женщины, — адресовано другой публике и внушает Другие представления. Альдегунда, знатная молодая женщина, неоднократно отклонявшая предложения о браке, убедила родителей принять ее волю и основала в Мобёже монастырь где скончалась в 684 году. В монастыре у нее было двенадцать видений, о которых она поведала своим монахиням с целью их духовного воспитания. В то время как Баронт использовал страх языческого мышления перед космосом, Альдегунда задействовала сексуальное языческое воображение, чтобы разрешить его дилемму «деструкция — прокреация». А сделала она это, уподобив путь любящей души к Богу любовным отношениям между мужчиной и женщиной. В собственном стиле, несколько напоминающем «Песнь Песней», она очень точными выражениями в нескольких картинах описывает свои поиски возлюбленного Существа. Затем, в шестом видении, — пьянящий восторг встречи, и — после несказанного счастья — внезапную потерю Другого. Далее следует сцена мрачной ночи, в которой Альдегунда напрямую предвосхищает Терезу Авильскую, сцена, дающая ей повод описать невозможность любви и свое неизбежное поражение перед необычностью Другого. Сияющие миры, освещавшие ее монастырь, сменяют жажда, серость, печаль, неутолимый, как в раскаленной печи, жар и искушение отказаться от дальнейшего поиска. Потом, вдруг — встреча и окончательное воссоединение с небесным супругом, свободное приятие после страданий; первоначальный импульс трансформировался в приятие любимого: совсем не похожего на того, кто появлялся вначале. Этот оптимизм, на сей раз проецирующий земное на небесное, есть оптимизм довольно специфической педагогики, которая помещает внутрь брака то, что и было причиной его разрушения: любовную страсть. То, что вызывало страх, становится созидательным, при условии возвращения через смерть к самому себе, к своим же собственным стремлениям. Таким образом, это представление о браке самым радикальным образом отличается от прежнего. Баронту было достаточно использовать страх проклятия, чтобы заставить человека действовать и достичь спасения. Альдегонда обращает любовь–страсть в любовь к свободе, р ответ на другую любовь, которая спасает. Очевидно, нет необходимости уточнять, что подобная любовь была достоянием очень небольшой группы людей, если не сказать нескольких человек, но то, что их индивидуальные представления смогли расширить общее поле духовного опыта до таких пределов, доказывает, что восприятие христианства совершилось. Частная жизнь приобрела новое измерение — «мое», «личное» отношение к загробной жизни, «мои» окончательные спасение, гибель или расцвет.
Эпоха Каролингов изобилует визионерской литературой. Сверхъестественное принято замечать повсюду. Вещие сны, описания адских мук или славных вступлений в рай умножаются и распространяются за пределы монастыря. Многие, подавляющее большинство, продолжают пессимистическую линию Баронта. Почти все эти видения так или иначе включают тему наказания сильных мира сего. Например, после смерти Карла Великого нам известны по крайней мере три видения, касающихся возможного проклятия императора, если только христиане не станут молиться о прощении его греховных прелюбодеяний — вероятно, имелось в виду его сожительство с многочисленными наложницами, которое приравнивалось к инцесту. Каролингский загробный мир столь же реалистичен, как и загробный мир предыдущей эпохи: кровожадные животные, терзающие проклятых за те части тела, которыми они согрешили, огнедышащие драконы, котлы с кипящей смолой, серой, расплавленным свинцом и воском. Одним словом, к услугам визионеров был целый арсенал средств очищения, раскрывающий в то же время навязчивые страхи каждого смертного человека. Они происходили главным образом, как Это было после 675 года, от осознания бедствий, вызванных гражданскими войнами, и поражений, нанесенных христианам викингами, и число их еще множилось в 830–840 годах. Отныне каждый был убежден, что поражение вызвано не незнанием законов реального мира, а косвенным сигналом мира потустороннего. Земное и небесное связаны между собой. При этом секс и смерть предстают в новом свете: не являются ли они препятствиями для будущего счастья человека?
Теперь у нас есть ответ на вопрос, поставленный в предыдущей главе. Подчиненный статус женщины и ребенка обусловлен вездесущим характером насилия в приватной сфере. Оно было необходимо в мире, где непостижимая при рода постоянно угрожала человеку. Человек считал, что в той ожесточенной борьбе за жизнь, которая была единственным способом существования для животных, разгадал намек на настоятельную необходимость культивировать агрессивность в мужчине и защищать фертильность женщины. Поэтому охота была наиболее удобной практикой для усвоения законов выживания и, более того, — закона главного и единственного — закона сильнейшего. Воровство (утверждение себя) и поджигательство (компенсация себя) являются побочными продуктами этой постоянной агрессивности, сексуальное происхождение которой ранее не было выявлено. Действительно, закон выживания вменял в обязанность месть как религиозный долг — ради того, чтобы собственный род мстителя не пресекся. Хочешь жить — умей проливать кровь. Смерть была устрашающей необходимостью, поскольку отправляла индивида в подземный мир, мир со своими частными законами, которых погребальные практики ни в коем случае не должны были нарушать. Таким образом, глубинная связь соединяла в единый комплекс насилие, секс и смерть. Насилие считалось нормальным, даже обязательным. Секс и смерть, напротив, были настолько страшны, что их пришлось окружить запретами. Языческое воображение своими фобиями по отношению к оскорблениям подтверждает, что только сексуальность, сохраняющая чистоту крови, и физическая храбрость, основанная на честности, могут оградить от «неправильной» смерти. Кровь нельзя ни загрязнять, ни высасывать — можно только проливать. Напротив, перемещение кладбищ, которые с кого–то момента начали разрастаться вокруг церквей, придавая смерти измерение публичности, стремится освободить ее от табу. Христианское воображение может избавить от страха, окружающего секс и смерть, перенося его на загробный мир. Видения задействуют с этой целью либо пессимистическую морализирующую педагогику, либо мистическую оптимистическую перспективу. И внезапно насилие, секс и смерть принимают в частной жизни каждого человека совершенно иную окраску. От внешних проявлений частной жизни нам нужно перейти теперь к внутренним убеждениям. Что же становится сакральным?
САКРАЛЬНОЕ И ТАЙНА
Тяжесть насилия, страх секса и смерти вызывали в каждом индивиде глухое чувство вины — и тем самым возвращали его к глубоко личным отношениям с сакральным. С победой христианства над язычеством индивидуальная связь со сферой божественного действительно приобретает первостепенное значение. Интимное и внутреннее превращаются в духовные категории, наполненные новым содержанием. Языческое сакральное, претворенное руками Церкви, письменный документ, священник и писарь становятся основными действующими лицами этого нового внутреннего спектакля, новых поведенческих модусов и — посредниками между человеком и Богом, хранителями или разоблачителями тайн каждого в тяжком и двусмысленном постоянстве сомнений.
После 391 года в Галлии и на Западе христианство становится государственной религией — вместо язычества. Обличаемые святыми чудотворцами, осуждаемые соборами Отцов Церкви, языческие религиозные практики постепенно переходят на положение практик сугубо частных, и даже — чем дальше, тем больше — глубоко законспирированных. Языческое сакральное со временем попытается укрыться в ночных культах, гадании, магии, фольклоре или, еще лучше, позволит облачить себя в христианские одежды. Под сакральным я понимаю здесь совокупность охватывающих мир и человека космических сил, которые могут быть использованы как во благо, так и во зло. Обращаться же к ним надлежит через посредство ритуальных практик, действенных только при неукоснительном соблюдении принципа обмена даров на ответные дары. С исчезновением официальных культов, особенно начиная с VIII века, после Лептинского церковного собора 743 года, на котором было принято решение закрыть, вероятнее всего, самые последние сельские храмы (fana), языческая вера, замкнутая в деревенской среде, подвергается все более и более настойчивой христианизации при помощи пенитенциалиев, служивших руководствами для исповедников. Однако несмотря на то что они в большей степени соответствовали указанным целям — если сравнивать их с текстами, составленными в VIII веке, — влияние на ментальность, проникнутую тревогой и страхом, они оказывают весьма незначительное.
Сохранение языческой сакральности
И в самом деле, по меньшей мере до X века жалобы епископов и священников на сохранение языческих практик слышны почти постоянно, особенно когда речь идет о недавно завоеванных регионах вроде Северной Галлии, Фризии или Саксонии. Так, помимо сохранившихся очень надолго публичных языческих праздников, подобных 1 января, почти неизменными остаются на протяжении более пятисот лет и многие частные практики. Страх перед будущим увековечивает римские или германские традиции гадания. Ворона, с карканьем летящая в левую сторону, предвещает путешественнику, что его поездка будет благополучной. Зерна ячменя, брошенные на горячую золу очага и начавшие подпрыгивать, предрекают большую опасность. Внимательное изучение людского чиха и экскрементов лошадей или быков позволяет — по этим эманациям их жизненной силы — определить, каким будет День — благополучным или неудачным. Гадание может быть связано даже с вызыванием мертвых. Прорицатели садились ночью на перекрестке на шкуру быка, вывернутую окровавленной стороной наружу, чтобы заставить духов выйти из–под земли в сакральное пространство, образованное перекрестьем дорог. В ночной тишине они вступали в таинственные контакты с духами покойников, что позволяло им предвидеть исход того или иного конфликта или причину катастрофы. Об этой древней галльской и кельтской практике еще в 1008–1012 годах сообщает Бушар Вормский. Он же упоминает о существовавших на протяжении долгого времени жрицах–медиумах. Считалось, что кельтские filida были способны предвидеть и выдавать предсказания о будущих сражениях. У германцев они были хранительницами рунической письменности, которой викинги еще пользовались в IX и X столетиях. Слово «руна» означает «тайна», а также «нежная подруга». Связь между тай ной, женщиной и тайнописью обнаруживает, какие неведомые богатства таит в себе женский пол. Каждая буква была вместилищем божественных тайн. Руна Y означала богатство, покровительство; N — нужду, несчастье; Т — победу; J — хороший урожай, богатый год. Написанные на деревянных брусочках руны женщина выбирала в случайном порядке. Даже после христианизации гадание на рунах считалось эффективным. Более того, эта практика была христианизирована настолько, что иногда даже считалась вполне законной. Ее называли sortes sanctorum, «жребий святых».
Из 46 известных пенитенциалиев 26 без особого осуждения говорят о гадании на Библии, когда ребенок или священник открывал книгу на случайной страницей читал первую попавшуюся на глаза строку, которая приобретала звучание настоящего пророчества. Григорий Турский приводит множество примеров на эту тему. Приключение претендента на престол Гундовальда, которое трагически закончилось в Сен—Бертран–де–Комменж в 585 году, было предсказано другим способом — через интерпретацию стихийного бедствия. Вознесеииый на большом щите на плечах воинов, новоиспеченный король едва не упал на землю. В тот же момент началось землетрясение и появился огненный столб, который поднялся выше звезд. Совокупность этих явлений могла предвещать только насильственную смерть. Таким образом, предсказание будущего, сделанное двумя способами — христианским и языческим, — всегда подразумевает страх перед судьбой, совершающейся по воле Бога или богов. В обоих случаях степень собственной свободы человека остается ничтожной. Ему нужно получить преимущество над сакральными силами, хранящими тайну, которая интересует лично его. Кроме того — и это явное нововведение — книга и вообще любой письменный текст становится в цивилизации с преимущественно устной традицией предметом таинственным и сакральным. Священные книги интегрированы в мир страха, и даже обыденные письменные тексты обретают тон посланий из потустороннего мира. Последним проявлением такого состояния сознания является книга с характерным названием Domesday Book — «Книга Страшного Суда», обнародованная Вильгельмом Завоевателем в 1087 году. В действительности это был обычный юридический текст, в котором владения короля и сеньоров перечислялись с такой точностью, что достаточно было прочесть страницу, касающуюся того или иного поместья, чтобы прекратить любой спор и вынести неоспоримое судебное решение. То есть в глазах людей неграмотных письменный текст был одновременно магическим и пророческим.
Парижский церковный собор 829 года в очередной раз осудил подобные верования, проникавшие даже в среду Духовенства, а Пьер Рише обнаружил каролингские манускрипты с магическими квадратами, предсказывающими «исход болезни по сочетанию букв ее названия и числу дней, в которые она длилась». Колдовские формулы, написанные на макаронической латыни, использовались как средства против кровотечений, водянки, болезней глаз и т. д. Здесь мы попадаем во вторую область языческой сакральности, связанную с секретами пагубного или благотворного воздействия на других.
Магия, хотя и находившаяся под строгим запретом, стала идеальной сферой для амбивалентной языческой сакральности и средством изменения межличностных отношений. Я уже говорил об амулетах и талисманах в связи с похоронными обычаями. Живые тоже их носили, а талисман из горного хрусталя, принадлежавший Карлу Великому, видимо, является самым знаменитым предметом этого типа. На пряжки для ремней наносили апотропеические рисунки — как средство защиты от неудач. К рукам и ногам привязывали на счастье сплетенные из травы жгутики. Случалось, что клялись чьими-то волосами или бородой, чтобы — в случае нарушения клят вы — попасть под весьма вероятное наказание жизненной силой, исходящей от головы адресата клятвы. Рабан Мавр сообщает даже, что некоторые сжигали дотла голову мертвеца и, чтобы исцелить недуг, заставляли больного выпить отвар из полученного пепла. В конечном счете, настоящая магическая медицина старалась уловить малейшее движение божественного духа, веющего в космосе. Чего только не сделаешь, чтобы спасти больного ребенка! Мать могла положить его на перекрестке дорог в земляной туннель, закрытый колючими ветками; соприкосновение с матерью–землей имитировало возвращение в материнское лоно; подземный мир каким–то образом сдерживал болезнь, и если ребенок переставал кричать — он выздоравливал. Если ребенок заболевал коклюшем, его клали в дупло дерева. В общем, каждый раз нужно было найти способ вступить в контакт с потусторонними силами и произвести обмен, вызвать духа или, наоборот, преградить ему путь.
Я предпочитаю оставить в стороне процесс сбора лекарственных трав и растений, который совершался в начале каждого месяца и сопровождался заклинаниями. Его легко христианизировали при помощи чтения «Отче наш» и «Верую». Обратимся лучше к зельям, поскольку они связаны со всем комплексом представлений о сексе и смерти, который был свойственен людям той эпохи. Они позволят нам увидеть, насколько частная жизнь была исполнена невидимых миру войн и навязчивых идей. Вспомним сначала всеобщую веру (о которой свидетельствуют едва ли не все юридические тексты) в колдовство, то есть, по большей части, в волшебные зелья. По общему мнению, эти чудесные напитки могут быть либо вредными, либо полезными. Пенитенциалии однозначно подтверждают существование этой веры; 26 из них свидетельствуют, что полученные путем искусного смешивания яды, в которые входили белладонна и ягоды жимолости, могли вызвать смерть — или выкидыш. Однако намного чаще (48 раз) упоминаются зелья, предназначенные для того, чтобы убивать или вызывать любовь. В 26 случаях их готовили женщины. Чтобы сделать мужчину импотентом, практика привязывания шнурков или ленточек ко всем предметам одежды обоих супругов казалась недостаточной. Женщина, которая хотела спровоцировать импотенцию, раздевалась донага, обмазывалась медом и затем каталась по куче зерна. Зерна тщательно собирали и перемалывали на ручной мельнице, которую крутили в направлении противоположном нормальному, слева направо. Из полученной муки замешивали хлеб, которым потом кормили мужчину, которого женщина фактически хотела кастрировать. Поскольку весь процесс приготовления хлеба был вывернут наизнанку, прокреативный и возбуждающий эффект наготы и меда (о значимости которых мы говорили в главе «Тело и сердце») аннулировался. Мужчина был уничтожен. Напротив, «нормальное» приготовление того же самого хлеба приводило к противоположному результату, тем более Что тесто при этом месили на ягодицах женщины, заменяющих в Данном контексте ее гениталии — с тем чтобы умерить или Усилить желание у ее мужа или у мужчины, которого она домогалась. Использовался и другой способ: женщина вводила себе во влагалище живую рыбу и держала до тех пор, пока та не умирала. Затем ее, наполненную порождающей и возбуждающей чувственность силой, варили, сдабривали приправами и подавали мужу. Это же средство жена могла использовать и для того, чтобы помешать мужу привязаться к наложнице. Но, как мы уже имели возможность в том убедиться, делалось и обратное. Тем не менее целью, к которой безотчетно стремились, было зачатие, а не только удовольствие. Сегодня нам прекрасно известно, что жизнь зародилась в воде, что рыба была одной из первых форм жизни и что в начале первого месяца жизни эмбрион имеет жабры. Какая таинственная связь, какая удивительная догадка языческого религиозного мышления! Стоит ли удивляться, что мужчины Раннего Средневековья были убеждены в том, что женщины хранят тайны безумной страсти под названием любовь и ключи от главного сокровища — жизни. В этом смысле кельтская легенда о любовном напитке, который объединяет Тристана и Изольду вопреки их воле, легенда, распространявшаяся устно задолго до того, как была записана в XII веке, должна была вполне соответствовать тогдашней реальности. Верить в безумие любви — значит уже любовь испытывать.
Не буду останавливаться на других типах магических напитков, которые использовали для возбуждения желания (менструальная кровь, мужская сперма или моча обоих полов). Принцип их действия был аналогичным: получить контроль над жизненными силами при помощи всего того, что выделяется живым существом. Приручить сакральное, приоткрыть покров, из–за которого сочится его опасное для смертного человека сияние — таков, в конечном счете, главный секрет этих прорицателей, колдунов и ведьм, которые отправлялись по ночам в священные леса (nimidas, nemeton), этих толп верующих, которые собирались, чтобы праздничными трапезами и ритуальными танцами добиться плодовитости и процветания, изгнать или вызвать мертвых.
Рождение внутреннего сознания
Что нужно было сделать, чтобы традиционные языческие представления о сакральном заменить в умах понятием таинства? Как христианизировать верования, которые были недосягаемы, поскольку целиком и полностью принадлежали сфере домашней и интимной? Одним словом, как почувствовать Бога в самом своем сердце, если прежде божественная сила воспринималась как внешняя? Создание новых священных пространств, базилик и часовен, развитие культов святых, крестные ходы и торжественные богослужения способствовали распространению веры публичной. Мы уже имели, в частности, возможность разобраться в причинах того, что культ мертвых стал публичным. Но чтобы «приватизировать» или интериоризировать веру, было только два пути: либо приписать «неправильную» сакральность Сатане, либо изменить «правильную» сакральность в христианском духе. Мы уже видели, как христианское воображение включило дьявола в свои представления о потустороннем мире. Включен он был также и в повседневную жизнь. Культ идолов рассматривался как сатанинское проявление: сам идол и есть демон. Кроме того, зелья, колдовство, sortes sanctorum, и магия вообще преподносились как дьявольские порождения. Церковные соборы в Агде (506) и Орлеане (511) осудили прорицателей и гадалок, «одержимых дьяволом». Представляемые как наваждения, эти бестелесные существа, обретавшие реальное бытие в облике льва или змея, то есть, собственно, демоны, стали олицетворять собой темные силы космоса, которые внушали страх древним язычникам. Противнику следовало дать имя, и это уже меняло соотношение сил. Способный на всяческие перевоплощения (мы наблюдали, как в храмах его изгоняли Из тел одержимых), по словам Григория Турского, он мог «осквернить епископский трон, восседая на нем, в насмешку одетый в женское платье». Кроме того, он нападает на слабых: «Женщины, робкие существа, должны всегда его опасаться». Он присваивает свойственные человеку дурные чувства — коварство, зависть — и превращается во внутреннего врага Страх перед дьяволом становится новым именованием страха перед злыми силами мира, а чтобы их нейтрализовать, нужны были близость и мощь того покровительства, которое могли дать святые. Угрожающая безграничность необузданной при, роды уступала место противостоянию двух сторон, борьбе а не договорным отношениям с неотъемлемыми от таковых хитросплетениями обходных путей.
Между тем нам недостает свидетельств об эволюции внутреннего восприятия дьявола, поскольку автобиография, произведение нового типа, начало которому было положено «Исповедью» Блаженного Августина, — есть литературный жанр, в VII столетии основательна забытый. К ней обращаются вновь значительно позже, в XII веке, Рауль Глабер и, особенно, Гиберт Ножанский. Если, для того чтобы проследить процесс интериоризации религиозного чувства, мы обращаемся к житиям святых, то сталкиваемся с теми же препятствиями, обнаруживая лишь косвенные свидетельства случаев одержимости. Напротив, примеры христианизации языческого поведения многочисленны. В сборниках чудес значительный процент всех сюжетов (иногда до 26 процентов) касается несчастных случаев, болезней, в частности параличей, которые поражают мужчин и женщин, зачастую высокопоставленных, из–за того, что они нарушили наказ святого, проявили скептическое отношение к нему или же утаили от него какой–то проступок. Эти «чудеса» наказания обнаруживают у пострадавших скрытое чувство вины. Особенно это заметно, когда речь идет о каролингских храмах на севере Франции. В меровингскую эпоху такого рода феномены встречаются реже, и если наказание настигает грешника, то исходит оно не от святого — святой только исцеляет, а не наказывает. Есть существенная разница между этими двумя важнейшими моментами христианизации: люди как бы переходили от представления о существовании внешнего источника своих бед к представлению о собственной внутренней ответственности.
Чтобы лучше понять феномен столь значимый, как процесс возникновения внутреннего сознания, обратимся к эволюции таинств — в их отношении к человеку. Как уже было показано, к началу каролингской эпохи крещение стало таинством, ориентированным главным образом на детей — естественно, за исключением территорий, еще только подлежавших христианизации. При этом погружение в воду было заменено окроплением. Крестильная вода как символ перехода от смерти к воскресению занимает место воды как источника жизни. Отныне крещение воспринимается как освобождение от греха, вхождение в церковь, в общину, в христианский мир — и как обещание спасения. В некотором смысле крещение означало автоматическое и почти магическое причащение ко всему вышеперечисленному, и это представление легло в основу насильственного, несмотря на протесты Алкуина, крещения саксов Карлом Великим. Им же объясняется и то обстоятельство, что крестные отцы и крестные матери отныне были связаны, как кум и кума, настоящим духовным родством, которое становилось каноническим препятствием для брака между ними. После Римского церковного собора 721 года нарушители этого установления приговаривались к покаянию в течение срока, длившегося от семи и до пятнадцати лет, и должны были быть разлучены. По мысли каролингских Церковнослужителей, подобный брак, видимо, следовало квалифицировать как самый настоящий инцест. Действительно, крестный отец и крестная мать были из того же рода, что и ребенок. Это позволяло настаивать на том, что в результате процедуры крещения человек рождается заново. Но в то же самое время это должно было побуждать духовных отца и Мать стать реальными отцом и матерью, тем более что приемное отцовство вызывало очень сильные чувства; а ввиду многочисленных в ту эпоху смертей, крестные родители часто становились опекунами осиротевшего крестника. С развитием практики крещения детей союзы между крестными должны были стать обычным явлением, а само таинство рассматривалось как средство укрепления семейного единства при помощи новых связей, продолжающих браки, вассальные отношения и т. д. Следовательно, суровость запретов имела целью остановить распространение языческой эндогамии, в соответствии с августинианским принципом, согласно которому брак является seminarium caritatis, семенем любви, прорастающим за пределами семьи. Поскольку любовь родительская, сыновняя, духовная уже существует в семье — бессмысленно и опасно ее усиливать, необходимо и полезно извлечь ее оттуда и посеять в другом месте. Таким образом, несколько искаженное представление о крещении (созданное впечатлением, что исполнение этого ритуала вело к немедленному включению только что окрещенного человека в общину) вызывало реакцию, направленную против большой семьи и против взаимного влечения, которое этот обряд мог порождать по примеру других языческих церемоний.
Евхаристия также претерпела весьма показательную трансформацию. До конца меровингской эпохи освященный хлеб во время мессы вкладывали в руку верующему. Но уже Оксерский церковный собор (561–605) потребовал, чтобы женщины, принимая тело Христа, обертывали руку полой своего платья, как будто над ними тяготело подозрение в нечистоте, вызываемой менструацией. В этом вопросе каролингская церковь пошла не так далеко, как византийская, но когда она приняла римскую литургическую реформу, Алкуин воспользовался этим, чтобы под страхом святотатства заставить принять принцип причастия в рот пресным (то есть без дрожжей) хлебом. Последнее стало причиной постоянных споров с Византийской церковью и, несомненно, воплощало еще языческую по происхождению веру в сакральность евхаристии — пищи неприкосновенной и не подверженной порче. Естественный аспект освященного хлеба, таким образом, был стерт в пользу сверхъестественного, выходящего за рамки обыденного, а отношение к Богу утрачивало часть своей чисто человеческой составляющей. Скачок, который по требованию христианства должен был совершить каждый верующий, был огромен: от богов далеких и ужасных — к Богу близкому и благому. Оно имело дело с массовым притоком германцев в церковь, и страх перед трансцендентным Богом, вероятно, был не худшим педагогическим средством для того, чтобы заставить их входить в храм с уважением.
Если, по сравнению с периодом Поздней Античности, евхаристия из «близкой» становится «далекой», то покаяние проходит противоположный путь. До Цезаря Арльского (503–542) покаяние предлагалось грешнику как возможность, которой он мог воспользоваться добровольно, чтобы освободиться от своих грехов. Для этого он входил в группу кающихся и носил одежду, украшенную крестом. Церемония была публичной, а покаяние разрешалось пройти лишь раз в жизни. Для германских воинов такое официальное унижение было немыслимо. Страх умереть опозоренным, если хоть какое–то из событий в твоей жизни дает к этому хоть какие–то основания, был невыносим. Тогда в конце VI века кельтскими монахами был предложен новый способ примирения с Богом: частное покаяние с исповедью на ухо священнику, с тайным признанием грехов и их искуплением в соответствии с законами германцев. Успех был достигнут сразу же и надолго, поскольку последний пенитенциалий — Алана Лилльского — Датируется 1180 годом. Как смерть, становясь публичной, стремилась избавить человека от страха перед мертвыми, так Же и частное покаяние имело целью устранить его страх перед своей собственной смертью.
На первый взгляд представляется, что процедуры поения почти не меняют образа мышления ввиду их тесной связи с германскими законами, и прежде всего с теми, которые были составлены до IX века. В самом деле, каждому греху соответствовало определенное количество лет, которые следовало провести в воздержании от пищи, на сухом или подгорелом хлебе и воде. Если грешник не мог или не хотел поститься, ему позволялось выкупить свою епитимью за определенную плату установленную за год поста. Это, конечно, не могло способствовать развитию христианской совести, так как не принимало в расчет греховного намерения; поэтому всегда оставалась возможность рецидива, а денежный эквивалент поддерживал представление о том, что спасение можно попросту купить. В результате был увековечен древний языческий принцип do ut des, «ты — мне, я — тебе». Бесплатное милосердие Бога совершенно не принималось в расчет. Парижский церковный собор 829 года осудил практику составления пенитенциалиев и повелел искоренить ее, а тексты сжечь. Тем самым высшее каролингское духовенство еще раз продемонстрировало свою полную оторванность от народа. Из двух–трех книг, которые имел в своем распоряжении сельский священник IX века, одной практически всегда был пенитенциалий. Следовательно, предписания, содержавшиеся в этих маленьких книжечках, отвечали глубоким потребностям верующих и должны были успокаивать их тревоги.
На какие бы уступки языческой религиозности ни шли пенитенциалии, они, в отличие от германских законов, нисколько не мешали кардинальному изменению ценностей. В то время как законы расценивали кражу как преступление более серьезное, чем убийство, а изнасилование и похищение считали более опасными, чем полигамию и конкубинат, нормы пенитенциалиев ставят на первое место три самых тяжких греха: блуд — термин, который покрывает все виды сексуальных прегрешений, насилие — тоже в самом широком смысле слова, и клятвопреступление. Только последний из грехов получал одинаково негативную оценку со стороны как светских законодателей, так и духовенства. Поддаться плотским желаниям, убить человека или дать ложную клятву — таковы были самые частые и самые, по общему мнению, предосудительные грехи. Другое новшество: хотя только богатые были в состоянии обменять епитимью на деньги, каждый грех имел свою стоимость без какой бы то ни было скидки на социальный статус грешника. Теперь не имело никакого значения — был ли такой–то рабом, свободным, знатным, королевским антрустионом и т. д. утверждалось реальное равенство перед Богом, а произвол хозяев в отношении рабов осуждался. За один и тот же грех наказание для мирян и для духовенства было разным. В то время как с каждой ступенью восходящей церковной лестницы, от псаломщика к епископу, епитимья становилась все более суровой, и за одинаковую провинность всегда оказывалась серьезнее, чем для мирян, у последних больше не учитывались ни пол, ни профессия, ни этническая принадлежность. Искупление греха было инструментом уравнивания мирян и сакрализации духовенства, учитывая строгость по отношению к нему. Пенитенциалии распространяли представление о том, что священники и монахи должны быть абсолютно непорочны, и тем самым выделяли их из числа всех прочих христиан.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что мирянина за убийство наказывали покаянием в течение трех–пяти лет, а епископа — низложением и постом в течение двенадцати лет. Что касается преследования за насилие, пенитенциалии содействуют воспитанию чувства личной ответственности, постепенному переходу к приоритету существования («быть») над обладанием («иметь»). Воровство, за исключением разграбления храмов или погребений, которые относятся к ценностям священным и вечным, всегда наказывается мягче и искупается легче, чем убийство. Согласно Кодексу Эйриха, Раб, который совершил преступление по приказу хозяина, не Должен быть наказан. Пенитенциалии идут дальше, заявляя, что хозяин обязан нести ответственность за подобного рода правонарушения со стороны рабов и выплачивать возмещение. Такое утверждение было бы немыслимо в V веке. Более того если хозяин запорет своего раба до смерти, он должен будет провести четыре или пять лет в покаянии — как если бы убил свободного человека.
Однако подлинные новшества заключались в другом В некоторых случаях наказание было направлено против насилия внутри рода. Хозяину, который изнасиловал собственную рабыню, иногда приходилось даже освобождать ее, чтобы искупить грех. Новшество, вероятно, должно было быть принято не без скрежета зубовного, поскольку посягало на го, что каждый считал своим правом, тем более когда речь шла об убийстве из мести, то есть о faide. Сначала церковники не свирепствовали, но начиная с IX века за убийство, совершенное из ненависти, стали наказывать гораздо строже, чем за другие убийства. Это уже означало, что при разборе дела начали учитывать субъективные намерения, даже если они оставались невыраженными. В любом случае, одна и та же степень ужесточения наказания наблюдается и при убийстве из мести епископа, жены и мирянина. Эти три изменения произошли синхронно после 800 года. Целью их было сокращение числа такого рода преступлений — ни одно из трех не было новым. Но в период Каролингского возрождения они должны были казаться недопустимыми. Это особенно очевидно для случаев убийства жены мужем. До IX века пенитенциалии о них не упоминают совсем. Я далек от мысли, что сами Меровинги не убивали своих жен. Вспомним Хильперика, приказавшего задушить Галесвинту. Однако необходимость избавляться от них, особенно среди аристократии, была не столь уж велика, учитывая практику полигамии. Распространение моногамии и нерасторжимости брака, напротив, привело к росту того, что я назвал «разводом по–каролингски». Нужно было любой ценой остановить эту волну смертей. Поэтому подобный тип убийства стал считаться самым серьезным. В трех пенитенциалиях он был приравнен к убийствам сеньора и отца, потому как «его жена является частью его». И наоборот, женщина, отравившая своего мужа, подлежала точно такому же наказанию. Итак, речь шла о попытке уравнять мужчину и женщину, защитив женщину замужнюю. Покаяние, полагающееся за супружескую измену, которое до каролингской реформы составляло три года, выросло до семи лет. За убийство супруги — с четырнадцати лет в IX веке стало пожизненным в XI веке. Такая суровость привела, судя по хроникам того времени, к явному сокращению числа прецедентов подобных преступлений. Аристократия была вынуждена хитрить, манипулируя запрещенными степенями родства, чтобы избавиться от бесплодной, сварливой, бесполезной и бог знает какой еще супруги, которая становилась препятствием для осуществления политических планов мужа, надеясь таким образом получить развод и разрешение на повторный канонический брак.
В противоположность этому, авторы пенитенциалиев менее суровы в отношении изнасилований и похищений. Никакого увеличения срока покаяния (примерно три года) не произошло, за исключением, естественно, наказаний, предусмотренных для духовенства. Почему? Эта относительная снисходительность была обусловлена все той же общей концепцией: позволить женщине иметь равные права и свободу в браке. Я уже упоминал о похищениях и «изнасилованиях», происходивших по обоюдному согласию молодых людей, с тем чтобы преодолеть родительские запреты. Совершенно очевидно, что духовные власти начали вмешиваться в эти Дела, чтобы выяснить, было ли их причиной совпадение интересов, по пословице: «Взаимное согласие приводит к свадьбе». На севере Галлии даже появился очень любопытный обычай, stefgang, проход между палками. Если два семейства жаловались, что произошло похищение и за ним изнасилование, девушка должна была публично встать между двумя столбами. За каждым из них стояли семьи похитителя и «изнасилованной»; последняя должна была повернуться либо к своей семье, либо к семье молодого человека. В первом случае возмещение за похищение и изнасилование должно было быть выплачено Во втором — брак становился официальным. Таким образом чтобы узаконить частное взаимное согласие, нужно было сделать его публичным. В то же время женщина из подчиненной становилась равноправной, утверждая полную независимость своей личной жизни. Это был первый шаг хотя бы к некоторому равенству.
Следовательно, изменения, происходившие в частной жизни, заметнее всего были на уровне поведения в публич ном пространстве. Смогла ли интимизированная исповедь изменить поведение частного человека внутри семьи, выяснить гораздо сложнее, поскольку здесь христианский идеал напрямую сталкивается с языческими верованиями и практиками. В каких же грехах, не осуждавшихся язычеством, люди действительно исповедовались священнику? По степени тяжести на первое место, вероятно, следует поставить зоофилию, часто приравнивавшуюся к содомии; за ней следовали оральный секс, кровосмешение в широком смысле слова и все формы супружеских разводов, особенно начиная с IX века, в частности из–за бесплодия женщины, — запрет абсолютно непонятный для новообращенных христиан, так же как и осуждение женской гомосексуальности, в которой языческие религии не усматривали никакого криминала. Два последних положения, и в самом деле, должны были казаться абсурдными, ведь бесплодная женщина могла быть только проклятой богами, а лесбиянка, как мы видели, считалась чистой, в отличие от мужчины–гомосексуалиста. Далее следовали деяния, за которые назначались намного менее суровые наказания — по большей части сроком в несколько десятков дней (вместо трех-семи лет) — за мастурбацию и все сексуальные позы, кроме позы лицом к лицу. Наконец, рекомендовалось воздерживаться от секса в течение трех дней до воскресенья, во время постов (на Пасху и Рождество) и праздничных дней и т. д. Было подсчитано, что в
некоторых пенитенциалиях, как, например, у Финиана в VI веке, оставалось всего двести дней в году, когда супруга 6ыло позволено заниматься сексом. Это дает нам первый срез того, что исповедники полностью отвергали или настоятельно рекомендовали. В соответствии со Священным Писанием они выступали против всякого союза, не похожего на моногамный и нерасторжимый союз между Христом и Церковью. Сюда добавлялось стремление к распространению в обществе и в умах естественного порядка, одновременно божественного и человеческого. Это подразумевало некоторую защиту женщины от мужчины, скрытую борьбу против родовых отношений и старание канализировать желание. Удовольствие от физической близости никогда не осуждалось само по себе, а только в том случае, если оно становилось самоцелью. Впрочем, представляется, что в ту эпоху оно не было неотступной заботой супругов. Например, оральный секс осуждали не за то, что женщина ищет удовольствия, а за то, что она доставляет его мужу, «чтобы он любил тебя за твои дьявольские действия». Многие эротические практики стали считаться языческими, магическими и демоническими. Это объясняет, почему в подобных, чисто дисциплинарных, текстах уничижительный термин amor — неуправляемая страсть, как и противоположный ему термин caritas — целомудренная супружеская любовь, отсутствует. Лишь однажды, в 830 году, епископ Камбре Халитгер использовал слово amor в своем пенитенциалии: «Если кто колдовством пытался добиться чьей–то любви…» Как видно, он использовал его в значении необузданной страсти. Напротив, слова libido, desiderium, concupiscentia, delectatio, которые можно перевести как «жажда наслаждения», «желание», «эгоистическое желание», «удовольствие», употребляются часто. Однако существенная разница с германскими законами заключается в том, что они применяются по отношению к обоим полам. В то время как язычество осуждает женщину как единственный источник страстного желания, христианство приписывает его как женщине, так и мужчине. Таким образом, нам становится понятнее контраст между двумя типами религиозной оптики и, в частности, при, чины серьезных столкновений между Церковью и аристократией в вопросах брака в IX веке.
Между тем мышление не могло измениться столь же быстро, и превосходство мужчины над женщиной не могло исчезнуть в одночасье, хотя бы по причине господствовавшего в обыденной жизни насилия, а также из–за одною малоизвестного лингвистического феномена — превращения вульгарной латыни в старофранцузский язык. Каролингские церковные соборы напрасно провозглашали «единый закон для мужчин и для женщин», как, например, собор в Компьени в 757 году, — это представление никак не могло проникнуть в умы. В качестве доказательства хочу привести лишь один самый знаменитый пример — вопрос, заданный одним из епископов на Маконском соборе 585 года: «…поднялся кто–то из епископов и сказал, что нельзя называть женщину человеком (homo). Однако после того как он получил от епископов разъяснение, он успокоился. Ибо Священное Писание Ветхого Завета это поясняет: „…мужчину и женщину сотворил их, и нарек им имя Адам”, что значит — „человек (homo), сделанный из земли”, называя так и женщину Еву (Ева означает живая). Таким образом, он обоих назвал человеком». Этот текст, ставший источником знаменитой легенды о соборе, на котором якобы отрицалось существование души у женщин, в действительности отражает лингвистическую трансформацию, которая и по сей день обусловливает лексическую бедность французского языка. Когда епископ задавал этот вопрос, он, фактически, употреблял слово homo в значении vir, то есть «человек» в значении «мужчина», а не «человек в общем смысле». Следовательно, его вопрос был вполне логичен, однако его латынь уже была немного французской, поскольку наш язык отказался от латинского слова vir, отчего ему и до сей поры не хватает — в отличие от английского и немецкого языков — специального наименования для обозначения человека в мужском роде. В данном случае двойной смысл слова «человек» (существо человеческое и существо мужского пола) мог только укрепить убежденность в превосходстве одного пола над другим, даже несмотря на то что библейский текст указывал на их полное равенство. Разница между языческим и христианским мышлением здесь очевидна, и даже сегодня еще не преодолена: вот до какой степени означающее может скрывать означаемое.
Мы рассмотрели противоречия между язычеством и христианством, вызванные бескомпромиссностью Церкви в вопросах сексуальности и брака. Теперь стоит перейти к тем точкам, в которых эти два типа ментальности если и не совпадали полностью, то были вполне совместимы друг с другом. Опираясь на те же самые пенитенциалии, мы можем констатировать, что меровингское и каролингское общества стремились культивировать частную жизнь плодовитую и очищенную от скверны. Самыми тяжкими грехами, бесчестьем, как мы видели, у язычников считались содомия и супружеская измена. Но это совпадает с тем, что я только что продемонстрировал выше: начиная с IX века наказание для женщины, совершившей измену, от более сурового, по сравнению с наказанием для мужчины–изменника, становится равным с наказанием Для супруга, который обманывает свою жену. Это полный отказ от языческой идеи, согласно которой адюльтер оскверняет женщину, но не мужчину. Зато мы наблюдаем полное сходство в осуждении абортов, противозачаточных средств (которые путали с абортивными снадобьями и приворотными зельями), Увечий (прежде всего кастрации), а также запрет на наготу, которая никогда и ничем не может быть оправдана, и половые контакты во время менструации, до и после родов — по причине явственной их нечистоты. Таким образом, пенитенциалии воспринимают две основные языческие религиозные интуиции: цель брака — деторождение, в котором можно преуспеть только при условии полной чистоты супругов. (Впрочем здесь снова проявляются языческие женоненавистнические предрассудки. Женщина считается единственной ответчицей за аборт, детоубийство и применение противозачаточных средств. Повторные браки вдов никогда не поощряются.) Женщина нечиста из–за крови и всех прочих выделений, которые могут выходить из нее. Можно только поражаться тотальному противоречию этих предписаний тексту Евангелия от Матфея (XV, 18), уточняющего, что только дурное слово, исходящее из сердца человека, оскверняет его. Здесь мы снова сталкиваемся с явным смешением понятий чистоты и чистоплотности. Языческие представления определенно повлияли на христианское поведение. Но как было избежать подобного смешения в сельской цивилизации, где все жили в грязи и навозе? Повседневная жизнь не была чистоплотной, такой же — по принципу контаминации — должна была быть и жизнь частная, и при этом морализм все–таки как–то умудрялся процветать.
Интериоризация через молитву
Таковы были тайны, которые поверяли шепотом на ухо в атмосфере двойственной сакральности, то вступая в противоречия, то соглашаясь с исповедником. В отличие от старых языческих запретов и новых христианских санкций, практика исповеди оказывала положительное воздействие на развитие самосознания мирян — и тем более духовенства и монашества. Теперь суровость наказания грехов священнослужителей значительно превосходила осуждение, которому подвергались проступки людей светских. Появилось большое количеств о литературы, предназначенной для воспитания моральных представлений мирян. «Зерцала» правителей стремились выработать христианские политические принципы на основе справедливости и послушания. Трактат Ионы Орлеанского «De institutione laïcali» («О мирских учреждениях») распространял идеал христианского брака, состоявший в умеренности и цедомудрии. Мать Гильома Септиманского Дуода в наставительной книге, адресованной сыну, старалась привить будущему воину представления о верности, милосердии и молитвенной жизни. Епископ Камбре Халитгер включил в свой пенитенциалий целый список качеств, которые необходимо развивать христианину, будь он человеком деятельного склада — или склада созерцательного: вера, надежда и милосердие (последнее всегда определяется как любовь: «Тот, кто не любит, — верит и надеется напрасно»), благоразумие, справедливость, сила и умеренность. Эти стремления достигли высшей точки прежде всего в обучении молитве.
В Галлии инициатором подобного воспитания души был Иоанн Кассиан, в 417 году основавший в Марселе два монастыря. В своих трактатах «О постановлениях киновий», «Собеседования египетских отцов»
[85] (и прежде всего в последнем) он разработал метод познания Бога, основанный на изучении Священного Писания: lectio divina (божественное чтение).
Божественное чтение является повторением «устами [то есть вслух] и сердцем» псалмов и внутреннего опыта первых монахов. Оно названо божественным потому, что является словом Бога, произнесенным в присутствии Бога («Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я среди них», — говорит Иисус). Оно позволяет слышать, чтобы лучше понять и принять через слова, то, чем является Бог, так же как во время Долгой глубокой беседы каждый собеседник позволяет понять и почувствовать, кто он есть, через то, что и как он говорит. Со временем чтение и повторение фиксируют и отпечатывают слово в духе того, кто молится. Тогда даже во время физической работы может зародиться и подняться из глубин души мысленная молитва, что–то вроде диалога и эмоционального излияния, исхода слова, запечатленного в сердце. Кассиан добавлял к этому стратегию борьбы с пороками и терапию: освобождающее от всякого дурного помысла признание старцу который духовно руководит монахом. Такая глубина психологического самоанализа была совершенно новой. Она позволяла направить индивидуальное сознание на самое себя, заставляя его от явившегося извне, глухого и безотчетного чувства вины перейти к простому анализу причин этого чувства, формируя тем самым представление об ответственности.
Святой Бенедикт Нурсийский, который разработал устав, с 817 года распространившийся по всем монастырям каролингской империи, воспринял нововведения Кассиана и продолжил их в плане поиска личного пути к Богу. «Уготовим же, — говорит он, — сердца наши и тела [заметим, что речь идет не о разуме] к воинствованию во всеоружии святого послушания божественным заповедям. <…> И так создадим школу, где сможем научиться служению Господу». Как только молодой монах выучивался читать и писать, затвердив наизусть сто пятьдесят псалмов, практика «повторения» позволяла ему перейти к медитации. Устав помогал ему в этом, делая обязательным пение и чтение наизусть всех псалмов каждую неделю. Таким образом, монашеская община исполняла сто пятьдесят псалмов по пятьдесят два раза в год. Кроме того, устав в одной откровенно скучной главе уточняет порядок, в котором их следует петь. Советуя, как группировать те или иные псалмы, он подсказывает каждому монаху внутренний путь личного познания Бога, начиная от восхваления божественного величия, через страдания и заброшенность, которые испытывает грешник, к помилованию и благодарности за оказанные благодеяния. Поэтический язык этих текстов посредством образов и символов внушает мысль о существовании другого измерения — измерения вечности, осуществляя тем самым разрыв с окружающим миром. В этом случае духовная культура становится как бы второй натурой, а отречение от мирской жизни — осознанным благодаря глубокому изменению менталитета, которое происходит из–за веры в Другого. В то время как франкская и даже галло–римская цивилизации культивируют насилие, монашеская община отказывается от него и надеется на помощь иной силы.
Однако завоевание внутреннего мира не было полным отказом от мира внешнего. Напротив, оно вело к изменению мира. Первоначальный разрыв, борьба за исполнение трех обетов — бедности, целомудрия и послушания — позволяет вырваться из космоса, чтобы потом однажды вернуться в него уже вполне сформировавшейся личностью. Идеал бенедиктинской жизни можно передать короткой формулой: «Молись и работай» (Ora et labora). Это совершенно ново по сравнению с римской цивилизацией, где жизненным идеалом считался личный досуг культурного человека, otium. Итак, несмотря на то что (или потому что) Бенедикт был из знатного римского рода, он осудил otium и предпочел negotium, не–досуг, работу, рассматриваемую как страдание. Почему? Потому, что «праздность — враг души. Потому в известное время братья должны заниматься рукоделием, в известные же опять часы — божественным чтением». Радикальное изменение! Тяжелая физическая работа становится идеалом, а умственный труд, уединенный или коллективный, из развлечения, которым он был прежде, превращается в часть общей человеческой Деятельности. Ничего удивительного, если в этих условиях внутренняя монашеская жизнь, конечно, при успешном сохранении должных балансов, ведет к новому мироустройству.
Эти новшества имели огромное значение, поскольку вместо инстинктивной, субъективной реакции на опасность Побудительной причиной действия становилась внутренняя убежденность. Они были результатом напряженного умственного труда: совместного чтения во время трапез и после повечерий, а иногда даже и во время кухонных или других работ. Чтение совершалось также для гостей монастыря Наконец, святой Бенедикт со всей тщательностью установил время для личного чтения: по два часа каждое утро от Пасхи до 1 ноября и по три часа в зимние дни. Во время отдыха «если кто хочет читать — пусть читает себе так, чтобы никого не беспокоить». На самом деле читали почти всегда вслух, за отсутствием знаков препинания и разделения слов в текстах той эпохи. К тому же чтение «про себя» оставалось трудным занятием в обществе, где одиночество было редким, исключительным состоянием, одним словом — согласно языческому выражению — происходило от «ненависти к роду людскому». Бенедикт же, не сомневаясь, поощряет его и даже делает обязательным. Во время поста воскресенье полностью посвящали уединению. В начале поста каждый из братьев «пусть возьмет себе из библиотеки особую книгу, которую должен прочитать всю подряд». В общей сложности на личное чтение уходило более двадцати часов в неделю. Эту дисциплину было настолько сложно соблюдать, что были предусмотрены два старших монаха, чтобы следить во время чтения за болтунами, лодырями, за теми, кто предавался otiurn’у, или теми, кого охватывала ацедия (отвращение к духовным предметам), и делать им внушения. Для тех, кто хотел почитать ночью, наоборот, оставляли книгу и светильник. Основной целью было направить каждого брата в молельню. «Кто хочет таким образом помолиться, пусть войдет потихоньку и молится не громким голосом, но в сокрушенном и со слезами устремлении сердца к Богу». Таким образом, сердечная молитва является результатом напряженной аскезы, интеллектуальной работы, строгость которой современникам казалась чрезмерной. Кроме того, такая молитва совершается без слов — произносимых вслух или мыслимых, что является еще одним источником страданий почти невыносимых.
Открытие молчания
Чтение в одиночестве должно было вести к молчанию. Эта новая ценность действительно была необходима для того, чтобы сосредоточиться. «Девятая степень смирения, — гласит устав, — есть, когда монах удерживает язык свой от говорения, я храня молчание, не говорит, пока не спросят». «Во всякое время монахи должны со всем усердием хранить молчание; особенно же в ночные часы». «И после повечерия никому уже нет позволения говорить о чем–либо с кем бы то ни было». Если воспользоваться выражением Августина, целью молчания является воспитание «внутреннего человека». Здесь эта ценность еще нова. Бенедикт требует ее иногда с суровостью и даже с раздражением, поскольку в его глазах она является главной для обретения стремления к жизни вечной «всем духовным желанием» (concupiscentia spiritualis). Слово «желание» выбрано здесь сознательно, чтобы заставить почувствовать, насколько связь с Богом отличается от связи любовной — она не эгоистична и не ограничена плотью, но включает эту любовь в себя и превосходит ее. В уединении монастырей и молелен Бенедикт и все его последователи способствовали развитию субъективности, а анализ привязанностей, чувств и достижений каждого человека в жизни духовной готовил открытие человеческой личности во всем ее богатстве, наконец, обретшей свободу от сотворенности, рабом которой он больше не был и мог взамен стать ее господином. Сошлемся здесь на влияние таких знаменитых монахов, как Бонифаций, Бенедикт Анианский, Одон Клюнийский, чтобы показать рождение нового типа человека, кажущегося слабым и одиноким, но неизменно сильного благодаря своему бесстрашию перед лицом молчания.
Несомненный прогресс обнаруживается и во внутренней жизни другого погруженного в одиночество человека — переписчика. Этот монах, не имевший возможности, как другие братья, находиться в отапливаемом помещении (шофуаре) и часто жаловавшийся в надписях, которые он оставлял на полях (колофонах) манускриптов, на то, что ему холодно, что час отдыха еще далеко или что чернила замерзают в чернильнице, — один из наименее известных исторических персонажей. В конце Античности его задача стала проще благодаря отказу от папирусных свитков и переходу к codex’y — книге, страницы которой мы перелистываем до сих пор (в то время они были пергаментными). Это изобретение имело важные психологические последствия. Оно позволило обходиться без раба–чтеца, когда нужно было сделать заметки. Можно было одной рукой следить за текстом, а другой писать. Чтение и письмо становятся отныне синхронными действиями и побуждают начать читать «про себя», что в каролингскую эпоху, судя по всему, становится распространенным навыком и дает саму возможность возникновения внутреннего диалога между текстом и читателем. Помимо возможности размышлять, codex позволяет с гораздо большей легкостью копировать текст или сверять несколько экземпляров одновременно.
Тем не менее работа переписчиков была очень тяжелой. Даже когда они находились по нескольку человек в одном зале, им приходилось молчать, чтобы лучше сосредоточиться. Книгу или свиток, который нужно было скопировать, клали на пюпитр. В каролингскую эпоху писарь работал тростниковой палочкой с расщепленным острием или, чаще всего, птичьим пером, держа страницу либо на коленях, либо на доске или столе. Предварительно он должен был сухой иглой прочертить горизонтальные и вертикальные линии, чтобы разметить поля и столбцы. Добавим к писарям других работавших в одиночестве монахов — корректоров, рубрикаторов, художников, миниатюристов и переплетчиков. В конце VIII века в Корби был изобретен каролингский минускул впоследствии получивший широкое распространение (наша современная антиква). В отличие от беглого меровингского курсива, писавшегося единой линией, этот очень разборчивый шрифт нужно было каллиграфически выписывать. Это изобретение увеличило нагрузку на переписчика. Тяжелое ремесло, по свидетельству одного из них: «Оно затуманивает взор, делает тебя горбатым, вдавливает грудь в живот, вызывает боль в пояснице. Это суровое испытание для всего тела. Поэтому, читатель, переворачивай страницы осторожно я не прикасайся пальцами к буквам». Таким образом, копирование было формой самой настоящей аскезы, наравне с молитвой или постом, прекрасным средством усмирения страстей и обуздания воображения в силу необходимости постоянно удерживать глаза на тексте и напрягать пальцы. Чтобы скопировать одну Библию, требовался год работы. Благодаря каролингским переписчикам до нас дошло более восьми тысяч манускриптов. Среди них — труды практически всех известных античных авторов.
Что происходило в голове и воображении этих монахов, когда они переписывали языческий текст, по их мнению, либо неправильный, либо фривольный или непристойный? Прежде всего заметим, что они никогда не проводили отбора или цензуры. Переписчики были верны тексту. Но некоторые из них оставили нам свои впечатления. Только Хросвита, монахиня из Гандерсгейма, которая в X веке, подражая Теренцию, писала комедии, признает, что некоторые его выражения, даже извлеченные из своего непристойного контекста, заставляют ее краснеть. Прочие предпочли сохранить молчание. Как сказал об этом монах–бенедиктинец дон Леклерк, «остается Доля тайны, которую лучше не нарушать». Это в неменьшей степени служит доказательством того, что ко всем текстам относились с уважением и благоговением и что никакие из них не считались более достойными, чем другие. Книга стоила очень дорого. Нужно было целое стадо баранов, из расчета По одному животному на четыре страницы, чтобы скопировать Цицерона или Сенеку. Корешок и переплетные крышки, украшенные клуазоне
[86] и кабошонами
[87] из драгоценных камней зачастую становились настоящими предметами ювелирного искусства, что роднило книги с реликвариями
[88]. Таким образом культ прекрасного приводил к настоящей сакрализации книги, достойного собеседника в частной жизни образованного человека эпохи Раннего Средневековья. Для монахов это тем более справедливо, потому как и грубые, и утонченные удовольствия им были запрещены — и оставалось восхищаться одной только прекрасной поэзией. Аббата Лупа из Ферьера, который радовался, отправив в подарок другу сочные персики, нисколько не утомляли самые напыщенные стихи Вергилия, тогда как представитель предыдущего поколения Павел Диакон, развлекался писанием стихов «немного сатирических». Одиночество переписчика и автора в целом вело к поиску красоты и тому глубокому удовольствию, которое доставляет стилистическая удача у порога невыразимого.
Может ли быть передана другому человеку столь интенсивная, достигшая таких вершин духовная жизнь? Был старый путь литературной переписки, мастерами которой оставались Плиний Младший и Сидоний Аполлинарий, умерший епископом Клермон—Феррана между 486 и 491 годами, после того как сделал все возможное для защиты культуры и веры от вестготов. Только в IX веке Луп из Ферьера смог в своих письмах подняться до их уровня и достичь тех же эстетических высот. Однако он оставался исключением, а на его апостольскую миссию, вершимую при помощи пера, практически никто не откликнулся, кроме разве что одного мирянина, Эйнхарда, столь же образованного, как и он. Чаще всего переписка была средством урегулирования конфликтов, как в том случае, когда епископы Импортун Парижский и Фродеберт Турский в 665 году обменивались взаимными оскорблениями, или в случае с многочисленными выступлениями архиепископа Гинкмара Реймсского, который не оставлял попыток вернуть земельные участки, отнятые у его церкви. Другие — как Алкуин — возносят молитвы о прощении грехов и успокоении души. В описываемую эпоху именно осознание важности молитвы становится причиной возникновения общин священников и мирян. Они брали на себя обязательство молиться о каждом из своих заболевших братьев, заботиться о нем до самой смерти и служить мессы после его кончины. Церкви и монастыри обменивались пергаментными свитками, на которых были записаны имена мертвых, о которых нужно было молиться. Пьер Рише упоминает о заключении в 842 году такого союза между Сен–Жермен–де–Пре, Сен–Дени и Сен–Реми–де–Реймс. Когда один из братьев умирал, кто–нибудь из монахов каждый день в течение месяца читал Псалтирь. Священники служили мессу в первый, седьмой и тринадцатый дни после смерти. Так появилась практика молиться за умерших, которая в X веке была одним из основных занятий монахов в Клюни. Однако из–за опасности механического произнесения текста она была очень далека от богатства внутренней жизни великих мастеров молитвы.
Это доказывает, что монахи и священники считались особой кастой заступников, которые благодаря личным связям с божеством могут быть очень полезны как для повседневной жизни, так и для жизни загробной. Эти люди, которые создали сакральные пространства (монастыри, церкви, территории, где действовало право убежища), которые были хранителями мощей святых и священных книг и которые воздерживались от сексуальной жизни, отгораживались от остального населения. Таким образом, они более или менее сознательно поддерживали путаницу между sacer и sanctus, между табуированным и священным. Кроме того, добровольный возврат священнослужителей в конце каролингской эпохи к старой педагогике страха и трепета как единственному действенному средству для обуздания насилия укрепил представление о том что Церковь является хранительницей сакрального.
Следовательно, чтобы достичь личного спасения, нужно было Церковь присвоить. Наивное умозаключение, благодаря которому возникла так называемая «частная церковь» (нем. Eigenkirche). С самого начала деятельности в Галлии христианских миссионеров, германские аристократы помогали вновь прибывшим, обеспечивая их землей и имуществом, необходимыми для возведения первых культовых зданий. Но мысленно аристократы продолжали считать себя собственниками, светскими патронами и правообладателями новых церквей. Чего было проще — взять крестьянина–раба из своих земель, освободить, чтобы уважить церковные законы, и оплатить его священническое образование. В этом случае у крупного землевладельца появлялся свой собственный священник, который молитвами и мессами должен был выхлопотать ему вечную жизнь. Тем же более или менее осознанным расчетом руководствовались и короли, покровительствуя монастырям и епископствам. Система «частной церкви» превращала священников в прислугу, особенно на севере Франкского королевства. Иона Орлеанский с глубокой горечью говорит об этом: «Есть священники, которые настолько бедны и лишены человеческого достоинства, настолько презираемы некоторыми мирянами, что те не только нанимают их в качестве управляющих и счетоводов своего имущества (очевидно, по тому, что они единственные умеют читать и писать), но еще и используют их как светских слуг, не допуская их к своей трапезе». Господство влиятельных мирян было настолько подавляющим, что это привело к значительному ослаблению духовенства в X веке и спровоцировало грегорианскую реформу — настоящее его освобождение. Только в конце IX столетия некоторые благочестивые миряне вроде Жирара Вьеннского или Жеро д’Орийяка почувствовали опасность. Они основали монастыри, свободные от какой бы то ни было светской власти. Но Жеро был одним из тех немногих дворян своего времени, которые проводили жизнь в молитве, оставаясь при этом в миру. Он не только декламировал псалмы вставая с постели и одеваясь, но и заставлял себе читать библейские тексты за столом, сам комментировал и разъяснял их гостям. В целом приоритет внутренней жизни вел к освящению межличностных отношений мирян и духовенства. Отсутствие же внутренней жизни приводило к сакрализации духовенства и приватизации церкви. Наконец, следствием неполной христианизации частной жизни становилось возвращение к языческой сакральности. Этим объясняется тот факт, что в 1000 году Раннее Средневековье завершается стремлением сильных мира сего завладеть тайнами духовенства и рецептами сакрального, чтобы справиться со страхом, которого не могло утолить осуществление политической власти, приобретшей, наконец, характер абсолютно частной.
Итак, несмотря ни на что, христианизация — в каролингскую эпоху даже более интенсивная, чем во времена Меровингов, — не смогла уничтожить того конгломерата субъективных верований, который я назвал языческой сакральностью. Дологическое знание, женские предчувствия, магические рецепты, снадобья, зелья и все прочее в этом же роде вращается вокруг одних и тех же навязчивых идей — любви, смерти и загробной жизни. Усилия христианизации были направлены на избавление от страха перед злыми силами, этот страх переносился на дьявола — с тем чтобы освободить личное сознание. Но этот медленный переход от человека, ориентированного на внешнее, к человеку с внутренним, более личным сознанием, остался незавершенным. Таинства такие как крещение и евхаристия, были не лишены некоторой сходства с магическими ритуалами. Покаяние и брак были, вероятно, наиболее эффективными средствами христианизации частной жизни. Конечно, анализ пенитенциалиев в хронологической последовательности, начиная с VI века и до века XI обнаруживает несомненный прогресс в развитии морального сознания. Они свидетельствуют о настоящей бескомпромиссности по отношению к убийствам, полигамии, разводам и утверждают равенство для всех мирян в наказании за совершенный грех, а также — до некоторой степени — равенство между женщиной и мужчиной. Кроме того, они утверждают превосходство «существования» над «владением». В этом они полностью противоречат законам германцев и ведут к глубоким изменениям в личном и социальном поведении. В рамках брака жесткое требование нерасторжимости и естественного порядка в сексуальных отношениях противопоставлялось бурным разрывам, среди которых дело Лотаря и Теутберги было одним из простейших. Тем не менее епископский корпус прекрасно осознавал всю тяжесть тех необходимых компромиссов с языческими верованиями, которые все–таки допускались в пенитенциалиях, поскольку все попытки запретить их оказывались тщетными. Слишком часто осознание греха больше походило на признание в преступлении или материальной нечистоте, чем на осознание отказа от божественной любви. Механическое покаяние оставляло религиозное отношение на уровне контракта равного с равным. Использование языческой аргументации при запрещении некоторых практик приводило к возникновению противоречий с Евангелием. Наконец, непринятие в расчет человеческих намерений (за исключением случаев проявления ненависти) оставляло сознание в полном неведении относительно мотивов совершаемых действий. Прогресс был, поскольку теперь преступное деяние подвергалось осуждению вместо возмещения ущерба, но этот прогресс требовал следующего шага, который будет сделан только в Трудах Пьера Абеляра.
Таким образом, личное самосознание медленно формируется под воздействием несколько хаотичной и исполненной противоречий деятельности Церкви. Эта смесь непримиримости и готовности идти на компромисс показывает, что, несмотря на то что в течение десяти веков любовь и смерть проделали путь от языческой сакральности к христианским таинствам, первобытное мышление никуда не исчезло. Собственно, всякая аккультурация требует подобной же смеси ригоризма и терпимости. Философ Жак Маритен в своей последней книге использовал понятие «коленопреклонения перед миром» для обозначения того двойственного отношения, которое Церковь проявляет в своем уважении к нехристианским ценностям, капитулируя перед ними. Церковь Раннего Средневековья, присваивая языческую сакральность, играет с ней, как с огнем, рискуя обжечься, — при этом она переманивает с той стороны людей, чтобы привести их к самим себе.
Развитие внутреннего мира с помощью молитвы, уединения и молчания было единственным средством последующей десакрализации субъективного отношения к Богу. Здесь двойственность уже недопустима. Аскеза должна заменить ее — аскеза тела и сердца посредством умственной и физической работы, поста и молитвы. Бенедикт Нурсийский совершил настоящую интеллектуальную революцию, распространив lectio divina и чтение вообще. Так же как одинокий писарь перед пергаментом, человек во время молитвы подвергает себя настоящему насилию, постоянно перепахивая свои ум и сердце, чтобы раскрыть душу неведомому зову. Престиж монашеской молитвы в сочетании с общим ореолом сакральности, окружившим духовенство благодаря суровым наказаниям, предусмотренным для него в пенитенциалиях, и, особенно, в связи сакрализацией книги, приводит к изменению ситуации: влиятельные миряне присваивают монастыри и церкви, эти преддверия вечности. Монах–молитвенник или священник становятся магическим средством для достижения рая. Внутреннее развитие, непередаваемый индивидуальный опыт превращается в обыкновенный рецепт.
Заключение
От приватизации государства — к присвоению церкви: круг замкнулся. От политика — к монаху; Раннее Средневековье — время расцвета индивидуальности, отказа от абстракции и от широких горизонтов; время малых групп и сообществ с повышенной эмоциональностью. Главнейшей ценностью является инстинкт: ненасытность и алчность — две силы, правящие миром, жадным до жизни и обладания. Тело и сердце — в разладе. Природа осаждает культуру. Зверь завораживает человека. Тело боготворят, калечат или истязают. Только насилие позволяет выжить. Смерть угрожает каждому.
Речь вовсе не о романтическом видении, подобном тому, что сформулировал Гюго, или системе представлений, которую растиражировал словарь Морери
[89], — о крови, золоте и пурпуре наших корней. Я предлагаю рассматривать Раннее Средневековье, скорее, как наше коллективное бессознательное и как важный этап вытеснения наших спонтанных влечений, этап, на котором апроприация большей части публичных структур обнажает интенции каждого и позволяет создать нового человека. Это была битва двух религий — язычества и христианства — за семью, сексуальность и смерть.
Главной заботой народов, которые вторглись в Галлию и смешались с галло–римлянами, было выживание. Эта неиотступная мысль, внушенная неплодородными землями и лесами Европы, заставила их свести мужчину к искусству убивать, а женщину — к обязанности рожать детей. Следовательно, сексуальность была инструментом построения общества, который нужно было использовать в соответствии с законами природы: правом сильнейшего, чистоты матери и жены. Любовь, как страсть разрушительная, подлежала изгнанию. Необходимо было снискать расположение благих сил таинственного космоса и отразить его негативные импульсы. Смерть была столь же опасна, как и секс, потому как принадлежала другой части космоса — невидимой, подземной. Насилие было необходимо, чтобы обуздать любовь и укротить смерть. Так могли образоваться эти стаи, с тревогой вдыхавшие воздух, приносивший запах охотника, — эндогамные семейства, которые хоронили своих мертвых в самом центре принадлежавшей им территории.
На религию страха должна была дать ответ религия надежды. Она именно это и сделала, дав ответ одновременно слишком простой и слишком сложный, с сочувствием и враждебностью. Она восприняла все языческие представления, касающиеся ребенка и чистоты брака, однако слишком рано попыталась уничтожить родовые связи, чтобы заставить перейти к моногамии. Приняв языческую сакральность, церковь Галлии трансформировала ее в таинства. Прежде всего она произвела важные перемещения между двумя секторами: публичным и частным. Чтобы побороть страх смерти, она перенесла мертвых и разместила их вокруг живых, у всех на виду. Чтобы избавить человека от страха наказания, она отказалась от покаяния в публичном пространстве, заменив его исповедью священнику один на один. Наконец, мужчине, который ощущал смысл своего существования во враждебном Мире только внутри вооруженной группы, она предложила страсть изолированного отшельника или безмолвие монаха в Молельне. Каким бы неоднозначным ни было воздействие Церкви на частную жизнь, эта длительная аккультурация, усеянная поражениями, самым очевидным из которых был раздел каролингской империи, тем не менее вела к обособлению, автономии каждого человека от его окружения. От страха перед миром через безразличие к нему человек вскоре перейдет к его завоеванию.
ГЛАВА 5 ВИЗАНТИЯ В X–XI ВЕКАХ
Эвелин Патлажан
Византия — это огромная империя со столицей в Константинополе и с тысячелетней историей; это государство, просуществовавшее целую эпоху, и общество, которое жило и изменялось на протяжении многих столетий. Мы решили осветить здесь временной промежуток, заключенный примерно между 900 и 1060 годами, — куда входят и период наивысшего расцвета империи в X веке и поворот к современности, начавшийся в XI веке. Как и всякое развитое общество, Византия выразила себя во множестве текстов, откуда мы попытаемся извлечь категории мышления и культуры, которые и станут предметом исследования в нашей статье: рамки частного пространства и времени, деятельность, которая в них разворачивалась, дискурс, который был с ними связан. Но для начала стоит обозначить место действия, обрисовать обстановку и охарактеризовать персонажей. Читатель, таким образом, оценит многообразие социальных аспектов поставленной проблемы, прежде чем столкнется с тем, насколько неравномерно распределены касающиеся их документы.
Территория и история Византии в IX–XI веках
В это время империя простирается вплоть до Кавказского Армянского нагорья и верховьев Евфрата на востоке и до Таврских гор на юге. На Балканах она занимает земли по левому берегу Дуная, отделенные от нижнего течения реки Болгарским царством, которое образовалось в 681 году и было христианизировано византийскими миссионерами в 864 году. После IX века, отмеченного политической эмансипацией Венеции и борьбой с арабами за Сицилию, Крит и острова Эгейского моря, X век стал периодом триумфального возвращения потерянных территорий. Византия отвоевывает Крит, заново пускает корни в Южной Италии, присвоив целую провинцию в районе Бари и Тарента, возвращается в Месопотамию, где завоевывает Эдессу. В нижнем течении Дуная она заключает союз против тюркского народа печенегов с Киевской Русью, которая торговала с ней еще с начала века и которая вступает в лоно Византийской церкви в 988 году; позднее, в 1014 году, Византия разгромит Болгарское царство. В XI веке наплыв итальянских торговцев и западных наемников, а также выход на международную арену турок–сельджуков мало–помалу изменят картину. Впрочем, из всех этих исторических фактов, которые здесь и сейчас не слишком для нас важны, запомним только, что под именем Византии существовало весьма пестрое социальное и культурное пространство, жизнь которого доступные нам письменные источники высвечивают разве что редкими яркими вспышками. Они позволяют увидеть Константинополь, не просто самый крупный город империи и христианского мира, но «Царьград», великолепную столицу со включенным в нее еще одним, внутренним городом, то есть, собственно, императорским дворцом; на востоке — граница от Таврских гор до Армении; на севере — Фессалоники, единственный «большой город», чья история сопоставима с историей столицы, хоть и отличается от нее, и на дальнем плане — полуостров горы Афон, где в конце IX века распространяется и в X веке обретает организованные формы монастырская жизнь; наконец, на западе, в южной Италии (нынешних Апулии и Калабрии) — пространную местность с прибрежными городами Бари и Тарент, с поросшими лесом горами, куда уходят монахи, спасаясь от вторжений арабов, Затем продвигаются на север, все дальше и дальше, до самого Рима. Трудно представить, что столь разные пейзажи и населявшие их народы были частями однородной цивилизации.
Тем не менее в тогдашние времена существовала единая византийская цивилизация — в рамках общей политической истории, которая заключала в себе не только высящийся в сто. лице императорский дворец, но империю в целом. В 867 году император Михаил III был убит своим фаворитом и соправителем Василием, происхождение которого не ясно до сих пор. Василий стал основателем новой династии, правившей вплоть до 1056 года — года смерти Феодоры, последней ее представительницы. Однако с воцарением сына Василия Льва VI намечаются признаки политической напряженности между дворцом — центром власти и местом пребывания династии — и крупными военачальниками, без которых императорам было не обойтись, если они хотели вести войны. Между тем приход Василия к власти знаменует начало политики отвоевания старых и даже захвата новых территорий — политики, которая продолжалась вплоть до смерти Василия II в 1025 году и которая сменила ставку на миссионерскую деятельность (кстати, вполне успешную) в молодых южно- и восточнославянских государствах. Отсюда и особая роль военачальников, происходящих из родов, слава которых восходила не далее, чем к VIII столетию, и о преуспеянии которых свидетельствовало употребление родового имени, образованного, впрочем, либо от прилагательного, либо от какого–нибудь вполне заурядного слова. Самые знаменитые из них были уроженцами востока и юго–востока Анатолии — и даже Армении. Дом в столице, недалеко от дворца, был знаком их возвышения, хотя опирались они прежде всего на владения, оставшиеся на исторической родине, — а также и на верность живших там людей. Даже трон не был для них недоступен, несмотря на то что в принципе передавался от отца к сыну, поскольку они могли вступить в альянс с властью, которая допускала совместное правление двух императоров. Именно так пришел к власти Роман I Лакапин (правил в 920–944), выдав свою дочь замуж за юного Константина VII. Никифор II Фока, представитель четвертого поления рода, достигшего вершин власти, в 963 году женился на Феофано, вдове Романа II, сына Константина VII. В 969 году его убил и сменил на престоле Иоанн I Цимисхий — сын его сестры, любовник императрицы и блестящий генерал: кроме того, он был еще и родственником влиятельного семейства Склиров.
К моменту смерти Иоанна I в 976 году Василий II, сын Романа II, достиг возраста, когда уже мог править самостоятельно, и должен был бороться против крупного восстания на востоке Малой Азии, в ходе которого друг против друга сражались два родственника — Варда Фока и Варда Склир. Официально Василий II занимал престол совместно со своим братом Константином VIII, реально же правил единолично и не женился до самой своей смерти в 1025 году, за которой в 1028 году последовала и смерть Константина. Тогда династию продолжила дочь последнего, Зоя, дважды вступавшая в брак — сначала с Романом Аргиром (Роман III), которого она в 1034 году велела убить, потом с Михаилом IV, братом придворного евнуха (1034–1041). За неимением детей она усыновила и
возвела на престол племянника своего второго мужа, Михаила V, который был низложен в 1042 году, после этого она разделяла трон со своей сестрой, монахиней Феодорой, а потом вышла замуж за аристократа Константина Мономаха (Константин IX). Зоя скончалась в 1050 году, Константин IX — в 1055–м, а со смертью в 1056 году Феодоры закончилось правление династии. В 1057 году выбранный Зоей преемник, Михаил VI, был устранен Исааком I Комнином. Он стал первым из рода Комнинов, взошедшим на престол: в следующий раз они займут трон в 1081 году, после Царствования представителей семейства Дук — Константина X (1059–1067) и Михаила VII (1060–1067 и 1071–1078), Романа IV (1068–Ю71) и Никифора III (1078–1081). Приход к власти Алексея I, племянника Исаака I, открывает век Комнинов — целую эпоху, на пороге которой мы и остановимся.
Для выстраивания необходимой хронологической канвы нам потребовалось проследить последовательность сменявших друг друга правителей, но данный выбор не был свободным выбором историка: здесь прежде всего сказывается наша зависимость от источников, о которых нам еще предстоит поговорить подробнее. Между тем информация о социальной истории интересующей нас эпохи со всей очевидностью не исчерпывается борьбой за власть потомков Василия I и представителей крупных аристократических родов. С одной стороны восточная граница жила своей жизнью, вдали от политической власти и столичной культуры, вдали от православных центров и в тесном контакте с исламом, чьи собственные центры также находились достаточно далеко. Конечно же, ею управляли, делили ее на участки, находившиеся в ведении тех или иных военачальников, которые размещались в крепостях, и в роли которых иногда выступали местные вожди, интегрированные в византийскую оборонительную систему. Однако тот факт, что мы имеем возможность отследить особенности официальной организационной структуры, никоим образом не помогает нам в попытках понять те мотивации, которые стояли за решениями, принимаемыми тем или иным участником боевых действий, а также специфические особенности здешней приграничной культуры, которые постепенно сглаживаются в XI веке, вследствие все более и более широкого использования наемников, а также выхода на сцену турок. С другой стороны, императорский дворец и столица — это место сосредоточения людей, облеченных властью как гражданской, так и церковной: придворных, государственного управленческого аппарата, судебных органов, а также управленческих и судебных структур, подчиненных патриарху. Общей отличительной особенностью этих людей, основой присущего им специфического символического капитала, было мастерское владение ученым языком, жанрами и правилами риторики, культурным наследием Античности — светской и христианской. Эта общая культура учености, к которой в случае необходимости добавляются еще и элементы традиционной юридической культуры, является предметом обучения: в перспективе оно готовит человека к государственной и церковной карьере, и об организации такого обучения императоры заботились на протяжении всего рассматриваемого периода. Правящая среда разветвляется, уходя в провинции, куда императорская власть посылает своих функционеров, а патриархат — своих епископов.
Настоящим фундаментом и общества, и экономики является сельская местность, населенная мелкими землевладельцами, арендаторами, иногда рабами. По большей части живут они в деревнях, но их можно увидеть обустроившимися и в приграничных районах, на целинных землях. Социальный класс землевладельцев также весьма неоднороден, как в смысле владения собственностью, так и в смысле обладания социальной и политической властью. Пример центральной и восточной Анатолии, региона с традиционно крупным землевладением, не является характерным. Кроме того, следует принимать в расчет и монастырские владения, в целом значительные, но также распределенные неравномерно. С другой стороны, в этот период в Византии, как и в других странах, наблюдается заметный рост городов — благодаря развитию ремесел и торговли. X век отмечен повсеместным расцветом торговли шелковыми тканями и специями, мехами и рабами. Если торговлей зачастую занимались купцы еврейские или мусульманские, выходцы из Амальфи или Венеции, то главными центрами этой торговли оставались Константинополь, Фессалоники и Трапезунд. Иностранные купцы получали в столице концессии: русские в начале X века, венецианцы — в самом его конце. Динамика усиливается в XI веке, превращая Константинополь в крупнейший Международный центр. Начиная с XI века столица приобретает Все больше и больше социальных особенностей, свойственных крупному городу: черт многолюдного, разномастного, динамично урбанистического сообщества.
Церковный мир дублирует мир гражданский, с которым он прочно связан многочисленными семейными, локальными и, конечно же, культурными связями. Византийская церковь преодолела серьезный кризис в середине IX века, когда 6ыл окончательно восстановлен культ икон. Обоснованный почитанием святых и, в конечном счете, догматом о воплощении отныне он накладывает особый отпечаток на коллективную и индивидуальную религиозность. В дальнейшем структура церкви практически не изменится. Патриарх, опирающийся на свою канцелярию и на патриарший суд, управляет церковью, состоящей из епископов, приходов и мирян, а также монашескими общинами, если они не автономны и не напрямую подчинены юрисдикции императора. Однако в действительности именно монахи в эту эпоху играют ведущую роль в церкви и в византийском христианстве. Формы, которые принимало бегство от мира, изменились со времени первого расцвета этой традиции между концом III и концом V века. Обе власти, религиозная и политическая, стремились избавиться от самых свободных и индивидуально ориентированных моделей аскезы, да и само общество, вне всякого сомнения, следовало в русле той же интенции. Так, исчез, к примеру, всякий домашний аскетизм. Точно так же общинная или полуобщинная жизнь — как принцип — постепенно восторжествовала над отшельничеством, к которому относились с подозрением, тогда как монахи и монастыри занимали все более значительное место в городском социуме. Статус монастырей мог быть разным: они могли подчиняться императору, патриарху, местному епископу, могли быть независимыми или же — подчеркнем это — частными, то есть принадлежать одному человеку, роду, и даже другому монастырю. Центрами монашества в это время становятся район Бруссы и начинающая набирать влияние гора Афон, «святая гора», монашеская республика, уменьшенное подобие которой появляется в Южной Италии. В Константинополе Студийский монастырь, поборник религиозного радикализма, сохраняет что–то вроде официально признанного первенства. Однако императоры выказывают расположение главным образом тем монастырям, которые не были в фаворе во времена правления династии Василия I. Так, Никифор II Фока и его брат Лев стоят у истоков афонской Лавры, а Алексей I и его мать всю свою заботу отдают монастырю Иоанна Богослова на Патмосе. Частные лица, богатые и не очень, учреждают новые монастыри и вносят пожертвования. Но кроме этого, Византия проходит через диссидентское возрождение античной духовности, распространением которой, как мы увидим, будет отмечен XI век.
Источники
Сделанный нами беглый набросок географического и социального положения империи позволит выстроить типологию письменных и прочих документов, которые оставило после себя византийское общество и которых впоследствии история нас частично лишила. То, что утрачено слишком многое, и то, что состояние наших сегодняшних знаний об эпохе отнюдь не идеально, особенно очевидно в двух областях — археологии и архивистике. Археология средневековой Византии все еще далека от результатов, подобных тем, которыми могут похвастаться специалисты по западному Средневековью. Разрушения отчасти являются следствием землетрясений, отчасти же причиной их стало излишнее усердие археологов–классиков, которые в XIX веке полностью уничтожили византийские слои в Афинах. Современная наука все больше и больше стремится, там, где это возможно, к воссозданию как можно более протяженной истории археологических объектов, от Античности до Османской империи (как, например, это имело место в случае с Раскопками Эфеса). Однако византийские слои просто–напросто не всегда бывают доступны, и в первую очередь в Стамбуле. Раскопки деревень и крепостей только начинаются, а исследования знаменитых пещерных храмов Каппадокии уже дали некоторый объем информации. Так что на археологические объекты и памятники надежда здесь невелика, в отличие от того, как дело обстоит в отношении памятников XIV и XV веков. И напротив, в нашем распоряжении достаточно много как предметов чисто бытовых, так и дошедших до нас в большом количестве предметов роскоши — изделий из слоновой кости шелка, драгоценностей, а также средств индивидуальною общения с потусторонним — икон и амулетов.
Эпоха оставила после себя множество изображений — прежде всего речь о книжных миниатюрах, — с помощью которых можно было бы попытаться заполнить лакуны в археологическом материале, однако обращение к этому типу источников также сопряжено с определенными сложностями. В X–XI веках в Константинополе, так же как и в провинции, создавали большое количество иллюстраций. В это время книгу чаще всего делают на заказ, и ее оформление зависит от желания и возможностей клиента: а в качестве такового мог выступать даже сам император. Так, у нас есть Псалтирь и Четьи–минеи (сборник жизнеописаний и поучений святых для ежедневного чтения), которые были выполнены для Василия II. Некоторые тексты буквально взывают к необходимости дополнить их иллюстрациями: Евангелия, Псалтирь, литургический цикл «Гомилий», автором которого был Григорий Назианзин, один из Отцов Греческой церкви. Впрочем, картинками украшен и экземпляр трактата о змеиных укусах; однако чаще всего мы будем обращаться к мадридской рукописи «Обо зрения истории» Иоанна Скилицы, которое было составлено в конце XI века и посвящено недавнему прошлому. Мадридская рукопись является копией этого документа, сделанной а XIII веке, и частично воспроизводит миниатюры, вероятнее всего, современные оригиналу. Во всяком случае, вопрос об актуальности изображений остается открытым. Брак в Кане Галилейской, демон, стоящий рядом со священником, впавшим во грех симонии, сцены крестьянского труда — скопированы ли они с оригинала или появились под влиянием веяний более позднего времени? Или же в медленно развивающейся цивилизации не имеет смысла искать иных, альтернативных источников влияния, выходящих за рамки совершенно очевидных отсылок к Античности, столь любимой в X веке? Как бы то ни было, книжная миниатюра представляет собой источник, без которого здесь обойтись мы попросту не сможем.
Архивные документы еще больше пострадали от резких поворотов истории. Те, что сохранились и относятся к интересующей нас эпохе, происходят из монастырских картуляриев, в первую очередь с Афона; другие хранилища, возможно, еще просто не успели раскрыть своих секретов. Мы должны будем разобрать некоторые акты об учреждении новых монастырей вместе с уставами (typikon) последних, договоры дарения с обозначенными в них причинами, побудившими дарителя совершить сей акт, включая завещания. Завещание, помимо прочего, составляли накануне вступления бывшего мирянина в монастырь, поскольку монах не мог иметь никакой собственности. В свою очередь, женщины, овдовев, приобретали право распоряжаться собственностью семьи, что также отражается в этих актах. С другой стороны, единственный брачный договор, в котором зафиксирован перечень свадебных подарков, — это еврейский документ, составленный в 1022 году в Маставре, на берегу Меандра, и найденный за пределами империи, в знаменитых архивах синагоги Старого Каира. Недостаток частных актов до некоторой степени компенсирует замечательный документ — сборник постановлений судьи Евстафия Ромея, который заседал в столице в первой трети XI века. Дела в этом сборнике изложены достаточно хорошо для того, чтобы мы со временем могли получить представление о статистической Репрезентативности тех или иных конкретных поводов для супружеских и семейных тяжб. Наконец, источниками сведений могут быть и сами книги. Переписчики не всегда ограничиваются тем, что ставят на них свою подпись, владельцы указывают на них свое имя, делают пометки, иногда на чистых страницах записывают какие–нибудь документы. С другой стороны, в означенную эпоху проявляется выраженная тяга к возрождению греческой традиции. Она явственно ощущается в тогдашнем разговорном языке, в тяге к традиционным фамильным именам, а также в верованиях, пословицах и песнях, следы которых дошли до нас.
Устанавливаемые монархами и церковью нормы, которым подчинялась жизнь византийских мужчин и женщин, судя по всему, не столько противоречат друг другу, сколько друг друга дополняют. За ними в ряде случаев можно угадать те или иные конкретные практики, которые либо согласуются с ними, либо, наоборот, очевидным образом им противоречат. В интересующую нас эпоху собрание «Новелл» (законодательных постановлений, дополняющих римское право) Льва VI, появившееся в последние годы IX века, свидетельствует о стремлении провести систематическую ревизию законодательства; те из Новелл, подлинность которых подвергается сомнению, вероятнее всего были созданы уже в X–XI веках, впрочем, таких не очень мно го. В свою очередь, Церковь продолжает непрерывную, а в некоторых случаях даже и многовековую работу. Собор 692 года принял важные постановления, направленные на борьбу со множеством обычаев и празднеств, которые он справедливо счел пережитками античного политеизма. Второй Никейский собор 787 года, временно восстановивший почитание икон, стал главным памятником дисциплине священнослужителей, монахов, мирян, и отношениям между разными ветвями христианства. На Двукратном соборе, который состоялся в 861 году в Константинополе, обсуждались те же вопросы. Впрочем, Константинопольский патриархат опирался на постоянно действующий синод, ряд решений которого известен нам по крайней мере косвенно. Пенитенциальная литература отчасти еще не опубликована, но, в любом случае, она не предлагает нам того изобилия информации, которой может похвастаться современная ей западная литература. В XII веке постановления церковных соборов 692, 787 и 861 годов — как единая серия — обрастают комментариями трех канонистов: Феодора Вальсамона (самого крупного из них, юриста и сотрудника патриархата, впоследствии патриарха Антиохии), Иоанна Зонары и Алексия Аристена. Наконец, два небольших по объему труда, которые, как мы увидим, станут свидетельствами переломных моментов в эволюции византийской религиозности, разоблачают еретические заблуждения: один, созданный в начале XI века, подписан монахом Евфимием, другой, одноименный, — Алексеем I Комнином.
Нам придется прочитать массу подписных и анонимных сочинений. И те и другие не выходят за рамки вполне определенных жанров, то есть информация в них отфильтрована в соответствии с правилами, которые жанр определяют. Кроме того, закон, общий для всех проявлений византийской культуры, состоял в необходимости постоянно воспроизводить (или, скорее, утверждать) традицию и каждое свое высказывание подкреплять ссылками на нее, официально признанную или апокрифическую — не важно. Следует избавиться от одного устойчивого предрассудка (который, к сожалению, разделяют слишком многие исследователи), от уверенности в том, что эта фундаментальная черта делает византийскую культуру холодной и статичной. Это всего лишь одно из правил игры.
Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, как сложно будет вычленить данные, опираясь на которые мы смогли бы этому предрассудку противостоять; для этого нам придется обнаружить в исторических источниках следы умонастроений, которые свидетельствовали бы о стремлении выйти за рамки этих правил. Определим для начала, как будет выглядеть общий корпус наших источников, к каким именно произведениям нам следует обращаться, — естественно, с оглядкой на установленные нами же хронологические рамки. Это и будет первым шагом на пути к разрешению поставленных задач.
До нас дошли сотни писем X–XI веков, сохранившихся не вследствие седиментации архивных пластов, но благодаря отбору, проведенному византийскими библиотекарями, которые составили из них сборники исходя из представлений как о внутреннем единстве эпистолярного жанра, так и о существующей в его рамках иерархии, связанной с превосходством одних авторов, таких как Михаил Пселл (крупнейшая политическая и культурная фигура XI века), над другими. Эти письма отражают жизнь однородной социальной группы, причем исключительно мужской: высокопоставленных чиновников, епископов, придворных и, при случае, самого монарха. Рядом с ними мы ставим произведение, уникальное по своей форме и по личностной интонации, — это «Советы и рассказы», написанные между 1075 и 1081 годами Кекавменом, аристократом, который удалился от службы в свою родную провинцию. К ученой поэзии византийских эрудитов мы обращаться практически не будем — может быть, напрасно. Зато мы остановимся на эпической поэме о Дигенисе Акрите, поскольку здесь под позднейшими романтическими напластованиями скрывается материя тех эпических песен, которые бродячие музыканты исполняли в замках у восточной границы на рубеже X столетия. Сама устная форма эпической поэмы, вероятно, распространяется в XI веке, транслируя образцы героизма, обольщения и любви в самые далекие пределы.
Библиотеки монастырей и частных лиц содержали также и книги для повседневного чтения — сборники медицинских рецептов, молитв на все случаи жизни, сонники. В данном случае проблема датировок становится еще более сложной: характерные для Константинополя литургические практики зафиксированы уже в рукописи VIII века. Гиппократова традиция в медицине накладывает отпечаток как на трактат по гинекологии, так и на диетический календарь, указывающий, чем следует питаться на протяжении года, чтобы хорошо себя чувствовать. Наука толкования сновидений восходит к греко–римской античности и в Византии развивается по меньшей мере по двум разным направлениям. Мы выбрали здесь «Онейрокритику» Ахмета — загадочного персонажа, чья книга была написана между 813 годом и концом XI века и актуализировала античный материал.
Читатель может поинтересоваться, обращаемся ли мы к «жизнеописаниям» этой эпохи. В тогдашней Византии, как и прежде, эту роль выполняли жития святых, и достаточно успешно, поскольку представляли собой одновременно образцы для подражания и индивидуальные биографии. Последние обретают законченную форму в житиях X и XI веков, не умаляя при этом значения образцов. Поэтому мы считаем их весьма ценными источниками. Эти жития писались для прославления монастыря или храма, связанного с конкретным святым или с праздником в его честь. Следовательно, авторами, за редким исключением, являются монахи, но за этой социальной характеристикой скрывается некоторое культурное разнообразие. Сами святые — также персонажи, далеко не всегда схожие между собой. В X и XI веках мы насчитали двадцать святых, среди них несколько женщин, но большинство — мужчины; конечно же, никаких популярных героев между ними нет, это было бы попросту невероятно, но светская карьера каждого из них до вступления в монастырь складывалась по–разному. Чаще всего биография, в еще даже более значительной степени, чем тот образец, по которому она создана, разворачивается в совершенно разных географических и социальных локусах; иногда речь идет только о Константинополе, иногда о провинции — Малой Азии или Южной Италии, или же о дорогах на горе Афон. Историография эпохи не менее богата, но ее труднее использовать.
Она, по большому счету, сосредоточена на дворце, если не напрямую им инспирирована. Так, следует с осторожностью воспринимать информацию, относящуюся к императорам и не сразу согласовывать ее с другими сведениями — по при чине ее откровенной символической нагруженности и не менее откровенной ориентированности на демонстративные эффекты. Но зато здесь есть сведения об аристократии, вращавшейся вокруг верховной власти, которых мы не смогли бы отыскать в других источниках.
Слова
Таков круг источников X–XI веков — пускай далеко не полный, но все же информативный материал для исследования частной жизни Византии означенной эпохи. Обратимся сначала к греческому языку. В самом деле, ему знакома категория частного, именно в том смысле, который мы хотели бы ему здесь придать. Старые слова продолжают использоваться: «дела» (pragmata), в самом широком смысле, противопоставляются «отдыху» (hesychia) — светскому, политическому или духовному — и «досугу» (schole); «частный» в смысле имущественном и социальном (idios, откуда происходит idiazein, «жить в своем доме»), «собственный» (oikeios) — человек или имущество, которое является частью дома (oikos). Однако история существенно изменила традиционные оппозиции и связи. «Город» (polis) в провинции обычно превращается в укрепленный населенный пункт, kastron, населенный уже не «гражданами» (politai), но простыми «жителями» (oiketores) Тогда politikos означает «гражданский» в классификации именно фискальной, где противопоставляется «военному» (stratiotikos). Настоящая социальная классификация светского населения фактически противопоставляет «бедных» (penetes) «власть имущим» (dynatoi). «Государственная власть» (demosion) с давних пор сводится к власти монарха и его налоговой и судебной администрации, «народ» (demos) к X век уже давно является лишь фигурой имперского дискурса, некой группой, которая во время церемоний устраивает овации оператору. «Человек из народа» (demotes) превращается при этом в человека с улицы, если не в бандита. В XI веке ситуация меняется. Бурное развитие городской жизни снова приводит к demokratia — не как к тирании отбросов общества, но как к политическому давлению, хотя бы временному, городского населения: ремесленников и торговцев. Эти изменения в терминологии «публичного» отчетливо отражают многовековую деградацию античного города как социальной и политической структуры и переход к структуре имперской с ее принципами централизации и всеобщего единообразия. Эволюция эта слишком существенна, чтобы мы не смогли обнаружить ее следов в категории «частного», под нетронутой поверхностью словаря. Что касается laikos, он является частью христианского «народа» (laos). В этом смысле «частным» может быть то, что ускользает от авторитарного взгляда Церкви — священнослужителей и монахов — например, празднества, которых та не признает. Это говорит о том, что мы имеем полное право исходить только из собственных воззрений, которыми и будем руководствоваться в нашем исследовании. «Публичное» подразумевает не только государство, но и более широкую сферу коллективной жизни, во всех ее проявлениях, «частное» же означает круг более узкий, личную жизнь и, одновременно, внутри нее, «я», которым каждый из нас является, со своими собственными установками и предпочтениями. Из этого мы и будем исходить.
ЧАСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Дом мирянина
Начнем с пространства и с той демаркационной линии, которая разделяет его на «публичное» и «частное» — то есть с «дома». Его по–прежнему обозначают двумя греческими словами: oikos — как группа совместно проживающих людей и oikia — как здание, в котором они живут. Таким образом, oikos одновременно определяется и пространством, и группой, и тем, как они друг с другом связаны. Его замкнутость на интимности домашней жизни, закрытой и обособленной, подчеркивается в «Ключе к сновидениям»
[90] Ахмета, который выстраивает свои интерпретации снов исходя из значений, приписываемых частям человеческого тела. «Рот, — пишет автор, — это дом (oikos) человека, где заключено все, что ему принадлежит… все зубы человека понимаются как его родственники», коренные зубы означают детей: верхние — мальчиков, нижние — девочек. На первый взгляд oikos, по большому счету, представляется пространством не вполне частным, но находящимся на стыке двух сфер. В некоторых отношениях «дом» действительно зависит от сферы «публичного». В деревнях собрание «домовладельцев» берет на себя судебные и — прежде всего — фискальные функции в сельской общине, которая состоит из совокупности семей, учтенных во о время налоговых переписей населения. «Стратиотские семьи» представляли собой категорию собственников, обязанных в качестве налога отправлять в армию одного из членов семьи, снарядив его всем необходимым оружием и амуницией. Наконец, историография представляет аристократический oikos как группу людей, живущих в столице. Ядром его являются родители, но он включает и «родных» (oikeioi), «прислугу» — рабов и свободных (oiketai), и даже «вассалов» или просто «людей» (anthropoi) и «друзей» (philoi). Эта группа выступает на политической сцене дворца, куда ее могут привести военная слава главы семейства, наследство или замужество одной из принадлежащих к семье женщин. И напротив, в случае провала, неудавшегося заговора, неблагоприятного изменения ситуации она возвращается в свою резиденцию, так что hesychia может быть и вынужденным «отдыхом» для того, кто был удален из императорского окружения. Такой oikos является пространством амбивалентным, поскольку, став антиподом дворца, сердца империи, он служит то плацдармом для политической экспансии, то надежным тылом, куда можно отступить в случае необходимости. Эта двойственность распространяется на провинциальные резиденции тех знатных семейств, которые в любой момент могут приобрести политическое измерение. Так, когда Василий II останавливается в имении одного из крупнейших магнатов того времени, Евстафия Малеина, пышное гостеприимство хозяина с постоянно маячившим на заднем плане личным войском последнего расценивается монархом как открытая демонстрация угрозы.
Oikos объединяет лишь часть семейства — группу, КОТОРА осознает себя связанной родственными узами. Начиная с IX века, и даже с конца VIII, как мы видели, эти группы начинают носить передаваемые по наследству фамилии. Поэтому иногда, чтобы уточнить, о ком именно идет речь, историограф к имени родовому прибавляет название его столичной резиденции. В нескольких налоговых ведомостях этой эпохи упоминаются крестьянские семьи с одной и той же фамилией, которые, однако, не живут под одной крышей, поскольку разделены между несколькими главами семейств. В «Житии Филарета» (богатого землевладельца и, по совместительству святого), которое было составлено около 821 года, описывается дом, где живут три поколения одной семьи. «Житие Марии Новой» (умерла около 902), появившееся после 1025 года и «Житие Кирилла Филеота» (умер около 1110) дают нам представление о семьях из двух поколений, с маленькими детьми. В сборнике постановлений судьи Евстафия упоминаются зятья, переехавшие жить в дом супруги. Завещания и списки крестьянских хозяйств свидетельствуют о том, что хозяйками домов могли быть вдовы. Некий любитель писать письма жил со своей матерью, которая умерла после сорока лет вдовства. Впрочем, среди авторов писем было много холостых священнослужителей, которые вообще не упоминают ни о каких родственниках.
Провести границу между слугами и теми, кого мы сейчас называем членами семьи, бывает очень непросто. Благодаря неоднозначности смысла слов под «слугами» часто подразумевают рабов. Митрополит Никеи Феодор в одном из писем рисует сцену того, как он посреди ночи покидает свой дом в столице, чтобы поклониться мощам Иоанна Златоуста в церкви Святых Апостолов: впереди него верхом на муле едет племянник со светильником, сзади идут двое слуг, два «человека», которые не смогли защитить его от нападавших. Он же, отправляясь в изгнание, оставляет свой дом на попечение одному «человеку», который каждый день все закрывает и запирает. Освобождение рабов было достаточно распространенной практикой, получившей отражение в молитвенниках, где зафиксирован соответствующий ритуал. Часто это делалось по завещанию: так, в 1049 году Гемма, вдова чиновника из Южной Италии, освободила свою рабыню Марию, которая по завещанию должна была получить постель, на которой она спала, и четыре меры зерна из будущего урожая. В доме встречаются и другие люди. Жития святых — студийского монаха Евареста и милетского епископа Никифора, прибывших детьми или подростками в Константинополь, чтобы сделать там карьеру, — показывают, что они жили у какого–то родственника или обеспеченного «патрона». «Конкубины» (pailakai), сны о которых возвещали спящему обновление, вероятно, иногда жили у него в доме. В больших домах есть свой собственный священник, который совершает богослужения. И когда Дигенис покидает свой дом в провинции, чтобы впервые отправиться на охоту вместе с отцом и дядей по материнской линии, их сопровождает отряд состоящих при них «юношей» (agouroi). В городе, по свидетельству документов, жилище зачастую было довольно сложно организовано, родственные друг другу семьи жили рядом, но не под одной крышей: либо несколько домов могли выходить в один двор (aule), либо даже разные этажи могли представлять собой самостоятельные жилища с отдельными входами.
В многоэтажных городских зданиях также обитают по нескольку семей; ремесленники живут, работают и торгуют в своей «мастерской» (ergasterion). Между тем встречаются и упоминания «домиков» (oikiskon). На этом скромном жилищном уровне зачастую находятся арендаторы. Жилище аристократии, в принципе, представляет собой независимый от внешнего мира комплекс. Внутренние дворы с галереями, террасы, окна с консолями, просторные залы и маленькие комнаты, бани образуют рамку частной городской жизни — пропорционально имущественному положению владельца. В деревне собственные Дома принадлежали представителям групп, находившихся на противоположных полюсах социальной иерархии: «лачуги» — рабам и арендаторам, поселенным в поместье для его прямой эксплуатации, резиденции — магнатам. Этот последний тип зданий получает распространение к концу эпохи Античности; прекрасные образцы аристократических загородных резиденций, относящиеся к начальному периоду развития ислама, цзвестны по мозаикам и раскопкам в Сирии и Палестине. Оттуда модель вернулась в Византию, а именно на восток империи и дворец, с таким наслаждением описанный в поэме о Дигенисе, является ее фантастической реминисценцией. Однако мы не знаем, как выглядела резиденция, в которой Евстафий Малеин принимал Василия II — с той самой демонстративностью, которая бросила на него тень подозрения. В Чавушине недалеко от Ургупа, сохранился вырубленный в скале замок с крепостной башней и церковью, в апсиде которой изображены ктиторы — император Никифор II Фока, его супруга Феофано, его отец Варда Фока (Старший) и его брат Лев Фока (Куропалат). Несколько крестьянских домов составляют деревню, где переплетение отношений соседства, родства, общности владений создают «близость», которая, в свою очередь, может порождать как солидарность, так и конфликты, от коих в стороне остаются некоторые обособленные жилища.
Средний дом — это, конечно же, тихая гавань интимности, в отношении которой можно смело употребить слово «комфорт». Митрополит Никеи Александр, по клеветническому навету попавший в заключение, настойчиво требует освобождения, жалуясь именно на отсутствие частной бани и уборной. Другой никейский митрополит, Феодор, пишет корреспонденту, способному содействовать окончанию ею изгнания: «Сможешь ли ты вернуть мне мой дом (oikia), из которого, как и из самой столицы, я был удален, как будто я был грязным пятном, так что теперь я сплю под открытым небом, живя жизнью диких зверей, лишен самого необходимого, я, который вынужден ежедневно бороться со своими болезнями и страдать от боли в печени, которому необходимы врачи и забота; и да вознаградит тебя Господь домом небесным». Дом как рот (напомним) запирался при помощи засовов и висячих замков, образцы их сохранились до нашего времени. Внутреннее пространство разделяли занавесами, которые приподнимают персонажи «Обозрения истории» Скилицы. Занавесы служили не только внутренними перегородками, но и защитой от сквозняков, на которые бранчливо жалуется епископ Лиутпранд Кремонский, во время своей посольской миссии попавший в открытый всем ветрам дворец Никифора II. Стены в эту эпоху покрывали керамическими изразцами с изображениями животных или листьев аканта, а о разнообразии предметов личного и домашнего обихода можно судить по списку ремесленных корпораций в «Книге эпарха» (градоначальника столицы), составленной в царствование Льва VI. До нас дошли шкатулки из резной слоновой кости, предметы посуды. Однако не очень понятно, существовал ли какой–то постоянный принцип распределения жилых комнат — ключевой вопрос для целей нашего исследования. Предметы быта никак не проясняют ситуацию, поскольку сохранившиеся документы не содержат ничего похожего на опись имущества после кончины средневекового или современного буржуа, и это, судя по всему, не случайно. В 1022 году в Маставре еврейская невеста, помимо личного приданого, приносит в хозяйство белье и домашнюю утварь; к сожалению, ее брачный контракт — единственный документ подобного рода. Несколько завещаний XI века, имеющихся в нашем распоряжении, не дают детального описания мебели и предметов быта. Вероятнее всего, принципы распределения этих вещей были настолько очевидны для современников, что оговаривать их особо не требовалось. Когда в 1059 году богатый провинциал Евстафий Воила решает составить завещание, то единственным инвентарным списком, заслуживающим подобного наименования, становится список Даров, передаваемых государственной церкви: в него входят иконы, священные и светские книги и утварь из драгоценных металлов, при этом нет никаких упоминаний о разделе недвижимости и вещей между его женатыми детьми. Ту же картину мы наблюдаем и в уже упоминавшемся завещании вдовы Геммы, составленном в 1049 году. Она оставляет «вемь дом, в котором [она] упокоится, Костасу и Петру, сыновьям [своего] племянника Льва». Выходит, особой необходимости в том, чтобы инвентаризировать все находившееся в доме имущество, никто не видел. Тем не менее чуть ниже та же Гемма распределяет — без какого–либо намека на системность — отдельные предметы мебели.
Отсюда мы делаем вывод не о скудости материальной жизни — любая выборка доступных нам источников такой вывод опровергла бы сходу, — но скорее о недостаточной разработанности нормативной базы и, возможно, вследствие этого, определенной пластичности жизненного пространства. Подобная гипотеза могла бы объяснить тот факт, что нарративные источники не зафиксировали точного и подробною распределения имущества. Первым и весьма значимым исключением является императорский дворец X века: его жизнь, повседневная и официальная, известна по историографическим описаниям, прежде всего по книге Константина VII «О церемониях». Но что из нее можно извлечь? Залы судебных заседаний, канцелярии, библиотеки и копировальные мастерские, залы для пиров, молельня, супружеская опочивальня монархов — можно ли рассматривать все это как адаптацию к императорской жизни модели, обладавшей всеобщей значимостью, или по крайней мере модели аристократической, которая вмещала бы и баню, куда невеста императора отправлялась накануне свадьбы, и «пурпурную спальню», где появлялись на свет законные наследники престола? Далее, в доме есть пространство, которое по определению остается исключительно частным, — женская половина. Не то чтобы византийские женщины были отшельницами. Фомаида свободно ходила в церковь Богородицы во Влахернах, пригороде столицы, и могла даже провести там в молитвах целую ночь. Мать милетского епископа Никифора, ребенком отправленного в Константинополь, приезжала навестить его и сопровождала в школу, дабы соблюсти его чистоту, — решение, которое агиограф приводит как пример для подражания. В то же время иллюстрация к «Обозрению истории» Скилицы, изображающая путешествие богатой вдовы — сидящей на носилках и плотно закутанной, — наводит на мысль о том, что пространство, отведенное женщине, перемещается вместе с ней и за пределами дома — по крайней мере это кажется справедливым в отношении женщин, занимавших верхние ступени социальной лестницы. Внутри этого пространства строгие правила благопристойности отделяют женщин и девушек от того, что происходит снаружи. «Житие Филарета», составленное около 821 года, описывает возмущение святого, когда императорские посланники, искавшие невесту для молодого монарха, попросили дать им возможность увидеть внучек Филарета (тогда как жена его появилась сразу и встречала гостей вместе с мужем). Тем не менее он уступил, и в итоге одна из них стала императрицей. Той же проблемой озабочен и старик Кекавмен в конце XI века. Он настоятельно советует не допускать гостей за один стол с женщинами из своей семьи и убеждает принимать посторонних для дома людей отдельно, приводя в назидание историю о соблазненной жене и обманутом муже. Тема чести отчетливо звучит, когда он пишет, к примеру: «Бесстыдная девица виновна не только перед самою собой, но и перед своими родителями и всей семьей. Поэтому держи дочерей твоих под замком как легкомысленных, как если бы они уже были признаны виновными, чтобы избежать укусов змеиных». Конечно, Анна Далассина, мать Алексея I, пригласила Кирилла Филеота в свою комнату, когда захотела с ним познакомиться. Но она была старухой, а он — святым. Присутствие женщин и их сегрегация дают Первый общий принцип разграничения домашнего пространства. «Хронография» Михаила Пселла свидетельствует, что в XI веке в императорском дворце, как и в обычном частном жилище, были «женские покои» (gynaikonitis). Мы не знаем, насколько широко в обществе было распространено подобное положение вещей. Остается полагать, что, в принципе, поссторонних старались не принимать в своем доме в присутствие женщин, но, если верить Кекавмену, в реальности этому правилу следовали не всегда.
Постель, стол… Стол требует первоочередного внимания из–за той сложной социальной функции, которую он выполняет. В праздничные дни — по крайней мере — за обедом собиралась вся семья. Когда в годы правления Василия I Мария Новая была ложно обвинена в прелюбодеянии с рабом, муж так на нее разгневался, что даже в первое воскресенье поста не позволил выйти к столу, «но один ел и пил со своими братьями [братом и сестрой, согласно житию] и родственниками». Если обратиться к застольным эпизодам из жизни императоров, которые, конечно же, нагружены массой политических коннотаций, то можно отметить, к примеру, присутствие Евдокии Ингерины (наложницы Михаила III, выданной им замуж за Василия Македонянина) на ужине — том самом ужине, после которого Василий убил Михаила. Важную информацию могут дать иллюстрации к манускриптам. В мадридской рукописи Скилицы вдова Данилида изображена как хозяйка дома. Она сидит между собственным сыном и будущим императором Василием, который еще не подозревает о своем грядущем возвышении, но она со всей очевидностью уже об этом знает: оба мужчины (гость справа от хозяйки) едят с одного блюда, она же этого не делает. Другая сцена изображает официальный обед Василия, взошедшего на трон: он один сидит во главе длинного стола, за которым собрались исключительно мужчины. Присутствие женщин на застольях допускается, уточняют канонисты, при условии что речь идет не о «попойках» (symposiai), то есть пиршествах, оживляемых малопристойными интермедиями: если женщина за таким столом все же оказывалась, это давало ее мужу повод для разводя» в то время как в адрес гостей–мужчин не высказывалось никакого осуждения.
Вопрос о постели ставит перед нами проблему, связанную с тем, где именно внутри дома отводила себе место супружеская пара, вокруг которой, в свою очередь, выстраивался весь остальной круг домочадцев. Согласно книге «О церемониях», императорские супружеские пары обычно имели общую комнату и общую постель. Это подтверждает рассказ Скилицы об убийстве Никифора II Фоки в 969 году. Император, который вынужден был отказаться от своего истинного призвания к монашеской жизни, изображен аскетом. Он покидал супружескую спальню во время периодов воздержания, предписываемых церковью. Убийство его произошло во время Рождественского поста, и заговорщикам пришлось долго разыскивать императора, пока, наконец, они не обнаружили его в одной из комнат спящим на земле, на медвежьей шкуре (подаренной ему дядей по материнской линии, монахом Михаилом Малеином), в пурпурной шапочке на голове. Организатор преступления, Иоанн Цимисхий, в ожидании последнего удара садится на супружескую постель. Императрица Зоя делит ложе со своим супругом Романом III, а также с молодым любовником, будущим Михаилом IV. Константин IX встречается со своей любовницей, Склиреной, за пределами дворца, а Лев VI со своей, Зоей Заутцей, — в загородной резиденции, где императрица не бывала. Императрица рожает детей не в той же самой комнате, где они были зачаты, но в «пурпурной спальне», предназначенной именно для этой цели — несомненно, по причине нечистоты, свойственной периоду родов, — и несовместимой со священным достоинством Империи. Гораздо меньше нам известно о привычках повседневной семейной жизни, начинавшейся после первой брачной ночи. В X веке Лука Столпник воскрешает младенца, которого родители случайно задушили в Своей постели. Муж Марии Новой, напротив, не спал в одной с ней комнате, а приходил туда по утрам, она же встречала его, лежа с младенцем на руках. Церковь предписывала супругам периоды воздержания, особенно во время постов, по субботам и воскресеньям: мы не можем знать наверняка, соблюдались ли они, но нам известно, что именно они были условием допущения к причастию. Нам неизвестно также, существовала ли на самом деле практика прекращать интимные отношен или по крайней мере переставать спать в одной постели во время месячных и после родов (именно этим можно было бы объяснить положение Марии Новой в только что приведенной сцене). Во всяком случае, отметим, что на миниатюрах художники
изображают больных, умирающих, покойников рожениц, лежащими на очень узких кроватях. И если эти кровати имеют вид койки с твердой рамой на ножках и со спинкой, то евангельский паралитик несет на спине легкий лежак, очень похожий на постель, принадлежавшую рабыне вдовы Геммы, которую та получила от хозяйки по завещанию вместе со свободой.
В частной сфере отправление религиозных обрядов осуществлялось в домашних часовнях, принадлежавших знатным семьям, или в государственных церквях, которые начиная с IV века возводятся крупными земельными собственниками в своих владениях. В 1059 году Евстафий Воила завещает своей церкви книги и драгоценную утварь. Некоторые храмы Каппадокии могли быть семейными, судя по находящимся в них именным изображениям ктиторов. Церковь долгое время с недоверием относилась к этой древней традиции, которая — без должного контроля — могла открывать путь к сугубо еретическим практикам. Однако потребность в частных священниках продолжала существовать, и в дальнейшем их деятельность была признана законной, при одном условии, а именно при получении одобрения местного епископа (хотя и при этом сохранялся запрет на выполнение ими пастырских функций за пределами своего прихода). Правило это соблюдалось тем хуже, чем охотнее частная церковь допускала злоупотребления в вопросе о пожертвованиях — который, впрочем, не относится непосредственно к теме нашего исследования. Впрочем, частная религиозность оставила о себе немало свидетельств: путевые иконы (зачастую небольшого размера, написанные на дереве и украшенные серебром), иконы, вырезанные на твердом камне, шкатулки–реликварии из слоновой кости и, конечно же, часть сохранившихся до наших дней литургических предметов из бронзы или серебра. Красный угол с размещенными в нем иконами в интерьерах вчерашних и нынешних православных христиан можно увидеть уже на иллюстрациях мадридской рукописи Скилицы, на которых изображена Феодора, супруга последнего императора–иконоборца Феофила, тайно поклоняющаяся святым образам, расставленным в специальном шкафчике в ее комнате.
Нам известно о существовании в зажиточных домах еще одного типа помещений, точное расположение и специфику которых, мы, однако, установить не в состоянии, — это место, отводившееся для чтения и, в случае необходимости, для письма. Многочисленные изображения евангелистов, может статься, сделали для нас чересчур привычным образ пишущего человека, обладающего необходимыми для этого инструментами, которые располагаются на небольшом столике, освещенном висящей над ним лампой и стоящем рядом с раскрытым шкафом, полным книжных томов. Образ этот чреват опасностью ложных толкований, хотя бы в силу формульной своей немногословности. Однако библиотека, которую мы видим, — это, вне всяких сомнений, библиотека переписчика, находящаяся в его мастерской, или — библиотека читателя в его доме. Следует ли нам в таком случае вести речь о практиках личного чтения? Да, если верить читательскому дневнику патриарха Фотия, написанному в IX веке, каждый лист которого открывается записью: «Прочитал… [такое–то произведение]». Нет, если следовать записи в манускрипте, сохранившемся в афонском монастыре Ватопед и скопированном в 1021 году Василием, «чтецом и хронографом, слугой господина Николая»; правда, этот титул, возможно, означает в данном случае всего лишь более высокую ступеньку в монастырской иерархии. Василий I, чье происхождение неизвестно, заставлял читать себе вслух и упражнялся в каллиграфии. Однако умение читать было общераспространенным навыком среди аристократии и горожан среднего класса; согласно житиям святых этой эпохи девушки также были допущены к учебе, даже если не всегда им приходилось читать те же самые книги, что и мужчинам. Чтение — практика, требующая наличия свободного времени: Кекавмен на этом настаивает и, как любитель писать письма, извиняет таким образом задержку ответа со стороны своего корреспондента. Книги, особенно в столице, покупают у книготорговцев, заказывают в мастерских переписчиков, в монастырских мастерских. Константинополь, восточная граница, Южная Италия — везде складывается своя собственная манера. Наконец, копии делают непосредственно во дворце, в крупных поместьях и монастырях. В то время отношение читателя к книге, принципы отбора и комплектования частной библиотеки существенно отличались от того, к чему мы привыкли сейчас. Что читали на досуге? Ниже мы попытаемся это выяснить.
Проблема письма представляется несколько иначе. Не потому, что она была, как и в других древних обществах, навыком второстепенным — ведь в X веке сам император занимается каллиграфией. Однако эпистолярии этой эпохи свидетельствуют о сложностях, существовавших для полноценного письменного общения: доставленное посланцем письмо может, конечно, содержать подробную информацию, но помимо этого — и довольно часто — оно является всего лишь красноречивым и умело составленным сочинением, дополняющим точные новости, которые посланец передавал устно. К тому же письмо не всегда пишется собственноручно — зачем трудиться над письмом самому, когда гораздо проще продиктовать ею секретарю? Таким образом, мы видим «человека пишущего» (grammateus, grammatikos), отвечающего за переписку хозяина из за пополнение его библиотеки, а в случае необходимости способного помочь и в творчестве — как показывает сцена диктовки, представленная в рукописи «Деяний Апостолов», скопированной в 1045 (Paris grec 223
[91]).
Жилища монахов
Монастырь также представляет собой oikos, поскольку именно этим словом — наряду с несколькими другими — его и называют: и в то же время это место «покоя» или «отдыха» (hesychia). В принципе, он также служит жилищем для семьи — в метафорическом смысле этого слова: для «братии» (adelphotes), состоящей из монахов, «братьев» (adelphoi), объединенных под властью игумена. Последний является «духовным отцом» (pater pneumatikos) не только для них, но и для мирян, живущих как в монастыре, так и за его стенами. Для организации монастыря требовалось минимум трое монахов, а в самой крупной обители на Афоне их в то время насчитывалось до семисот. Эпоха характеризуется широким распространением практик дарения, основания новых монастырей, пострижения в монахи, а также постоянным общением между мирянами и монашеством, как если бы монастырь был горизонтом жизни вообще, последним рубежом отступления, «покоя», иногда вынужденного. Такое положение дел имеет самое непосредственное отношение к вопросам частной жизни: необходимо прокомментировать в этой перспективе типологию учреждений и мест индивидуального уединения и сопоставить акты и постановления государственного и церковного законодательства с моделями, зафиксированными в агиографических текстах, чтобы за всеми этими чертами по возможности уловить тона и нюансы реальных практик.
Монашеское «домохозяйство», подобно стратиотским домохозяйствам, облечено службой, которая признана общественно полезной, и в результате одаривается налоговыми привилегиями и доходами, поступающими из самых разных источников. Тот факт, что монастыри имели право накапливать имущество и что имущество это не отчуждалось и не облагалось налогами, связан в X и даже в XI веке не столько с монастырской благотворительностью, сколько с той властью оказывать влияние в самых разных ситуациях и на разных уровнях общества — за счет заступничества и духовного руководства, — которую приобретают монахи. Соответственно, монастырский статус желателен и выгоден для владельцев недвижимого имущества, и это следует иметь в виду, изучая как возрастание в XI веке числа частных учреждений, так и одновременное увеличение количества случаев, когда монастырские бенефиции доставались мирянам. Что касается дисциплины, греческое монашество в эту эпоху неизменно следует принципам, разработанным в IV веке Василием Кесарийским. Однако Феодор Студит, чья деятельность в начале IX века открывает период расцвета столичного Студийского монастыря, создал устав, который впоследствии был принят не только Афоном, но и многими другими обителями, и даже за пределами Империи, в частности монастырями, основанными правителями молодых славянских государств. Церковные соборы 787 и 861 годов внесли в него некоторые уточнения. Тем не менее на этой общей основе любой основатель, будь то монах или мирянин, разрабатывал собственный устав для своего учреждения, оговаривая режим материального существования, перечень молитв, которые следует читать, а также основные цели проявляемого обителью милосердия.
Предполагалось, что монах не владеет никакой собственностью и на всю оставшуюся жизнь связан с монастырем, который выбрал. В случае необходимости непосредственно перед постригом он составляет завещание, а иногда и оплачивает свое вступление в обитель, но затем он живет в принципе своим трудом в общине, а фактически — как достаточно часто бывало в эту эпоху — за счет монастырской ренты. Сатирические поэмы написанные в Константинополе в XII веке, откровенно высмеивают роскошь стола и постели игуменов, их еженедельные ванны, врачей, которые спешат к их изголовью, тогда как простой монах страдает, бедолага, от нищеты и отсутствия комфорта. Договор, заключенный в 1030 году между афонской Лаврой и монахом Афанасием, демонстрирует более умеренные нарушения режима. Племянник предыдущего игумена Афанасий подарил свой частный монастырь в Вулевтириях, с кельями, церковью и виноградниками, — Лавре, которая его обустроила. Со своей стороны, он просил принять его в общину, где принял постриг. Договор гарантировал ему жилье по выбору, пропитание и содержание на протяжении всей его жизни троих слуг, лодки и лошади и предусматривал, что после его смерти слуги унаследуют вещи, находившиеся в его келье. В конце XI века случалось, что в русле общей тенденции к передаче государственной властью прав на доходы частным лицам император жаловал управление монастырем мирянину, ставшему монахом. Так, в 1083 году Алексей I Комнин приказывает передать управление афонским монастырем Ксенофонт и всем его имуществом Стефану, который в монашестве принял имя Симеон. Этот человек, евнух и адмирал при предыдущем правителе Никифоре III, пожелал уйти от мира и в качестве награды за службу получил право взять с собой троих «мальчиков», своих «близких» (oikeioi). Все эти люди действительно стали монахами — доказательством служит то, что они сменили имена после пострига. Документ напоминает об этом, чтобы прекратить начавшееся впоследствии расхищение, и предоставляет список принадлежавших монастырю зданий, икон и поступивших в его библиотеку ста тридцати книг.
Однако цели нашего исследования предполагают, что предметом интереса в данной статье являются прежде всего частные монастыри — весьма значимая черта византийского общества той эпохи. Превращение своего собственного дома в монастырь было практикой весьма распространенно. Так, в Константинополе монастырями стали дом стратега Мануила (с 830 года), дом некоего Мозеля, армянина по происхождению, род которого был приближен ко двору с конца VIII века, наконец, дворец самого Романа I: после его прихода к власти в качестве императора–соправителя этот дворец превратился в монастырь Мирелейон. В документе из Лавры датированном 1016 годом, упоминается, что Гликерия, впоследствии вдова и монахиня, и ее покойный супруг передали монастырю свое «скромное жилище» с той же целью. Многие другие монастыри были специально построены в столице и в провинции, где крупные и средние собственники возводили их на принадлежащих им землях. Например, Аргиры владели посвященным святой Елизавете «вотчинным монастырем» в округе Харсиан, откуда родом были многие аристократические семьи; это учреждение находилось в ведении турмарха (военного коменданта округа) Льва, деда Евстафия Аргира, современника Льва VI. Евфимий Солунский, происходивший из состоятельной стратиотской семьи и умерший в 898 году, организовал мужской и женский монастыри, куда ушли не которые его родственники. Но такого рода учреждения могли быть и весьма скромными. Закон 996 года свидетельствует, что жители сельских общин строят частные церкви и рядом с ними небольшие монастыри для себя и, при необходимости, еще двух–трех человек. Разумеется, частные монастыри могли быть проданы или подарены, и архивы Афона хранят следы таких операций. Впрочем, не все заведения частных лиц были предназначены для того, чтобы навсегда оставаться частыми. Приведем пример Бачковского монастыря в современной Болгарии: основанный в 1083 году двумя грузинами, сделавшими карьеру в Византии, великим доместиком (domestikos) Григорием Пакурианом (Бакуриани) и его братом, монастырь был провозглашен независимым, однако приоритет при вступлении в него отдавался родственникам братьев, их «людям» и их соплеменникам. Судья Михаил Атталиат в 1077 году, наоборот, выбирает формулу, которая утверждает исключительную принадлежность основанного им монастыря частной сфере: в завещании он передает его Создателю, который становится «наследником… управляющим и хозяином» маленькой столичной обители для семи монахов; однако реальное управление, в той же терминологии, сохранялось за прямыми потомками судьи, включая женщин, если не останется мужчин.
Частный монастырь выполняет функции усыпальницы и места поминовения умерших членов семьи. Тело Евстафия Аргира было перенесено в вышеупомянутый «вотчинный монастырь». Михаил Атталиат предписывает молиться о своих родителях, о нем самом, о двух его женах, еще о нескольких людях, которых он перечисляет только по именам, наконец, об императорах. Погребение в монастыре, несомненно, было духовной привилегией, которую таким образом обеспечивали себе состоятельные люди и которую они распространяли на своих протеже: Василий Новый, странный провидец, который в середине X века был вхож в дома столичной знати, похоронен в монастыре, принадлежавшем одному из его приверженцев. Становится понятным, почему Симеон Новый Богослов находит столько погребений мирян в монастыре Святого Маманта в Константинополе, когда становится его игуменом, и почему, проводя свои реформы, удаляет оттуда этих неправомерно похороненных покойников. Частный монастырь иногда кажется этакой пристройкой к светскому жилищу: евнух Самона, «правая рука» Льва VI, однажды принимал императора в своем монастыре. Впрочем, верно и то, что монахом можно было стать, учредив частный монастырь или переустроив для этих целей свой же собственный дом.
Именно эти общепринятые и широко распространенные практики и отменил церковный собор 861 года. Создание частных монастырей путем трансформации уже существующих зданий или строительства новых могло быть всего лишь выгодной уловкой, а постриг, принятый у себя дома, — жестом, который никоим образом не нарушал сложившихся у человека привычек и не лишал его обычных удовольствий. Собор потребовал в первом случае согласия местного епископа с приложением инвентарной описи; во втором — одобрения игуменом. Агиография, со своей стороны, заботится о том, чтобы из рассказов о достоверных событиях делались правильные выводы. Крайний пример дает история Кирилла Филеота, современника Алексея I. Почувствовав после службы во флоте духовное призвание, Кирилл сначала уступает просьбам жены, умоляющей не оставлять ее, не делать сиротами малолетних детей и не тешить злорадных соседей. «Оставайся здесь, с нами», — говорит она. Тогда, прежде чем уйти в монастырь, он сооружает себе временную келью недалеко от дома. В любом случае, путеводной нитью во всяком произведении является поиск hesychia, того «покоя», который позволяет обрести только духовный опыт. Между тем большинство житий святых связывают «покой» с монастырем и непременно рассказывают о жгучем нетерпении героя — когда же, наконец, избранный «духовный отец» дарует ему «одежду» (черную рясу с капюшоном) и тонзуру и сообщит его новое имя.
Поэтому после рассмотрения привилегированных резидентов монастырей и домашнего иночества, мы возвращаемся к жизни монашеской общины. В житиях святых и в уставах X и XI веков очень мало информации о внутреннем пространстве монастыря, представлявшем собой рамку для особой формы «покоя». Традиционным помещением является келья (kellion), небольшая комната, в которой монах живет один, даже если у него есть слуга. В городе несколько келий (kellia) обычно объединены в здании монастыря, отделенном от улицы оградой. На Афоне в документах иногда упоминаются изолированные или объединенные в небольшие группы кельи, но их обитатели подчиняются общему монастырскому уставу и участвуют в совместных богослужениях. Места общего пользования включают трапезную, часовню или церковь, в городах открытую для религиозных отправлений мирян, библиотеку и сокровищницу, архивы, вверенные хранителю, купальню и лазарет. Женские монастыри имеют аналогичную структуру. Известно нам и то, как протекала жизнь в этом пространстве. Типикон устанавливает режим питания в обычные и в праздничные дни, диету для больных, иногда нормы раздач бедным, а также перечень ежегодно выдаваемой одежды: с нарушениями этих правил мы ознакомились выше. Принцип монашеского труда также соблюдался не одинаково. Устав Студийского монастыря, созданный в начале IX века, нацелен на то, чтобы сделать обитель полностью самоокупаемой организацией. В этот период монахи все больше и больше превращаются в рантье, живущих на доходы от земельной собственности, а в середине XI века Лавра, владевшая грузовыми и рыболовными судами, развивает активную торговую деятельность. Также при монастырях организовывали школы, ученики которых, вероятнее всего, жили за их пределами.
И наконец — самый важный для нашего исследования момент. Сравнение монастыря с oikosoM мирянина позволяет выделить две характерные черты. Во–первых, здесь не действует принцип разделения пространства на мужское и женское, поскольку исключительное право на всю его полноту получает один из полов. Доступ в мужские монастыри строго воспрещен женщинам и всем, кто может ввести в подобное искушение, — самкам животных (относительно этого пенитенциалии выражают совершенно определенную позицию) и безбородым. Следовательно, детей туда тоже не допускали — об этом только что было сказано. При патриархе Николае III (1084–1111) на Афоне разразился скандал из–за того, что там поселились влахи
[92], пастухи–кочевники: утверждали, что их жены и дочери, одетые в мужскую одежду, пасли овец и прислуживали в монастырях. Для евнухов существовали специальные монастыри. Михаил Атталиат отдает в их распоряжение учрежденную им обитель и pacпоряжается, чтобы в качестве исключения там могли жить только его родственники либо же безупречные мужчины старше пятидесяти лет, владеющие земельной собственностью. Принцип труднее было реализовать в женских обителях которые также по большей части были основаны мужчинами поскольку священническая власть могла принадлежать только им. Монахини и основательницы монастырей сами поднимут эту проблему со всей остротой, когда в XII веке начнется эпоха женского монашества; впрочем, эти события уже выходят за наши хронологические рамки. Само существование ритуала покаяния, вероятнее всего, подразумевает, что не все монахи и монахини добросовестно соблюдали принцип разделения полов. Однако это никак не затрагивает модели как таковой и не имеет значения для реализации целей, поставленных нами перед собой. Во–вторых, что отчасти вытекает из первого положения, пространство монастыря замкнуто на его обитателях: монах не должен покидать его без разрешения настоятеля. На церковных соборах раз за разом повторяется запрет на странничество для монахов. Отсюда понятно, сколько запретов нарушил разом патриарх Михаил Керуларий одним только фактом своего личного знакомства с неким трио гастролеров — что и вменяет ему в вину Михаил Пселл в 1058 году. Патриарх, проявлявший выраженный интерес к магии и гаданию, что уже само по себе предосудительно, принял у себя переодетую предсказательницу, которая ездила по стране в сопровождении двух монахов.
Окончательного своего воплощения монашеский «покой» достигает в одиночестве кельи, где, согласно монастырским правилам, каждый должен делать свое дело, не отвлекаясь на праздное общение или совместную работу; запрещалось также проводить время «по своему разумению» (idios), по формулировке типикона Пакуриана. В то же время агиография этого времени хранит свидетельства об отшельниках и отшельницах. Но, как мы увидим далее, в первой половине XI века представления Симеона Нового Богослова ознаменуют собой начало Нового времени.
Человек и его близкие
Сегодня осевые линии или, лучше сказать, круги частной жизни определяются для нас отношением «я» к другому человеку — или к нескольким другим людям. Разумеется, нам они представляются несколько иначе, нежели дело обстояло в византийском обществе X и XI веков. И граница между частным и публичным для византийца также проходила не через отношение к другому, где — в рамках нашей модели — поместили бы ее мы. И в самом деле, сейчас принято полагать, что семья целиком и полностью основывается на отношениях частного порядка, начиная от имущественных и заканчивая эмоциональными, и, следовательно, ограничивается для каждого из нас относительно узкой концентрической сетью связей. Существующие на современном Западе социальные практики ежедневно ставят под вопрос то имущественную составляющую семейных порядков, то составляющую эмоциональную, то обе сразу. Но, справедливо или нет, сам этот принцип остается в основе нашего взгляда как на собственное общество, так и На общества, отдаленные от нас во времени и в пространстве.
В X и XI веках в Византии отношения между людьми выстраиваются иначе. Первое различие заключается в четко выраженной границе между отношениями неравенства — с прислугой (будь то рабы или свободные) и «людьми» — и теми отношениями, которые объединяют равных между собой участников коммуникации. Последние, безотносительно к полу, подразделяются на два типа, названия которых нам знакомы, а смысл существенно отличается от нашего: родство определяемое согласно общепринятым критериям, таким как кровное родство, усыновление или брачный союз; и «дружба» объединяющая группы, внешние по отношению к многочисленным рубрикам родства, которые мы по этой причине могли бы определить как свободные, если бы они не были иногда санкционированы юридическим соглашением. Эта система связей, образующаяся вокруг каждого человека, накладывается на домашнее пространство, не совпадая с ним: об этом мы уже говорили. В частности, если «слуга» (oikêtês) сразу обретает свое место в этой системе, то человек «близкий» (oikeios) занимает куда менее определенное положение — между равным и неравным. С другой стороны, демаркационные линии между публичным и частным, а также те, что отделяют религиозное от мирского, пересекают всю картину в целом.
Родственная группа и способы ее расширения
Кровные родственники составляют группу, которая осознает себя как систему вертикальных и горизонтальных связей и постоянно расширяется, предпринимая для этого действия, весьма различные по своему характеру. На самом деле значимость родства восходит к давним греко–римским представлениям и никогда не подвергается сомнению. Но степень публичной проявленности этой значимой системы связей могла варьироваться как с точки зрения их очевидности, так и с точки зрения их уместности, в зависимости от конкретного момента в социальной истории Византии, истории, которая сама по себе — в одной из своих ипостасей — базировалась на своеобразной диалектике семьи и государства. Последнее, воплощая в себе власть законодательную, фискальную и судебную, обозначается греческим термином demosion. X и XI столетия относятся к периоду, начавшемуся, самое позднее, в VIII веке, в эпоху, когда во внутриполитических стратегиях государства и Церкви семья как социальный институт начинает играть все более и более значимую роль. Таким образом, мы не можем рассматривать семью как средоточие частной жизни, не проведя границ, за которыми она играет совершенно иную роль. Приведем два примера, репрезентативных для разных социальных страт. Первый, очень известный, имеет отношение к самым верхам социальной структуры X столетия, к тем группам, которые принимали определяющее участие в тогдашних политических играх. В эту эпоху матримониальные переплетения объединяют три доминирующих рода: Фокадов, Склиров и Малеинов. Никифор II Фока, взошедший на императорский трон в 963 году благодаря браку с Феофано, вдовой Романа II, — правнук некоего Фоки, чье имя, начиная с десятого колена, становится родовой фамилией. Этот Фока был человеком, которому его «необыкновенная сила», по словам хрониста, открыла военную карьеру. В начале IX века его сын, Никифор Старший, делает блестящую карьеру в армии, а его внуки, Варда и Лев, сразу занимают высокие посты на государственной службе. Варда, отец будущего императора, женился на представительнице рода Малеинов. В это время Малеины могут похвастаться влиятельными родственниками в каждом поколении, вплоть До третьего — и по обеим линиям. Мануил Малеин, брат жены Варды, в монашестве принявший имя Михаил, становится духовным наставником и Афона в целом, и Афанасия, основателя Лавры — монастыря, к которому с почтением будут относиться племянники Михаила, Лев и Никифор (поздний — еще до того, как взойдет на трон). Кроме того, Елейны были крупными землевладельцами в Каппадокии. Как известно, в результате женитьбы Варды Фоки на девушке из рода Малеинов — женщин почти никогда не называют по имени, за исключением жен, сестер и дочерей императоров, — на свет появятся Никифор II, его брат Лев и две дочери. Одна из них, выйдя замуж за племянника Иоанна Куркуаса, крупного военачальника этой эпохи, станет матерью Иоанна Цимисхия который в 969 году примет участие в убийстве своего дяди и займет трон. К тому моменту, как он, в свою очередь, женился на императрице, он был уже вдовцом — первая его жена про. исходила из рода Склиров, армянского, как и некоторые другие знатные семьи, но занимавшего, по крайней мере в начале IX века, высшие посты в военной иерархии. На протяжении последних десятилетий X века в Малой Азии полыхает восстание провинциальных клиентов Фокадов и Склиров, которое было направлено против Василия II, императора с 976 года. Тогда Василий II сталкивает друг с другом Варду Фоку (Младшего) — сына Льва, брата убитого императора, и Варду Склира, брага первой жены Цимисхия, а также жены Варды Фоки. Если принять все вышеизложенное во внимание, то становится понятна гневная — а может статься, просто–напросто объективная — интонация новеллы 996 года, посвященной Василием II борьбе со всяческими злоупотреблениями «властителей», наносящими ущерб центральной власти и тем подданным, которые исправно платят ей налоги. Имена этих «властителей» указаны на полях: «Фокады, Склиры, Малеины»…
Наш второй пример не столь громкий, и тем не менее абсолютно похожий на первый, изложен в «Житии Феодоры Солунской», монахини, умершей в 892 году. Родилась она в 812 году на острове Эгина и была третьим ребенком в семье священника. Мать Феодоры умерла при родах, поэтому отец отдал ее на воспитание крестной — «духовной матери», а за тем, по достижении семи лет, обручил с одним из знатных жителей острова. Выйдя замуж, она родила троих детей, а в 926 году из–за вторжения сарацин вынуждена была вместе с семьей навсегда покинуть Эгину и поселиться в Фессалониках. Ее старшая сестра, к этому времени уже умершая, была монахиней; брат, убитый арабами, был диаконом, то есть состоял на церковной службе. В Фессалониках и отец ее окончит свои дни в монашеском облачении. Будущая святая теряет двух младших детей, после чего решает посвятить Церкви, в качестве «начатков», свою старшую шестилетнюю дочь. Девочку приводят к монахине Екатерине, сестре архиепископа Фессалоник, «родственника» семьи. Овдовев, Феодора и сама уходит в монастырь, которому передает часть своего имущества и настоятельница которого также является ее «родственницей». Позднее она встретит свою дочь, ставшую ее сестрой во Христе, а впоследствии — настоятельницей того монастыря, в котором оказались в итоге они обе. Агиограф, фессалоникийский священнослужитель, современник святой, изображая город и монастырь Феодоры, не преследует никаких иных целей, кроме наставления верующих. Однако в его рассказе можно прочесть о том, как средняя провинциальная семья в полном составе посвящает себя Церкви, делая сыновей клириками, а часть дочерей — монахинями и даже настоятельницами монастырей. Этих двух характерных примеров вполне достаточно, чтобы определить семьи этого времени как группы, которые формируются в частной сфере, а действуют в сфере публичной, преследуя при этом публичные же цели. Таким образом, прежде чем начать отвечать на вопрос об отношениях между семьей и частной жизнью, следует несколько видоизменить саму его формулировку. В нашу задачу не входит обсуждение тех стратегий, которые проблематизируют категорию публичного. Скажем только, что граница между публичным и частным проходит через семью, и поэтому обратимся к типологии и составу родственных связей и к их реализации в практике частной жизни — единственному, что нас здесь интересует.
Социальная эффективность семьи объясняет, почему увеличивается число форм родства, почему родство становится метафорой для обозначения многих других типов отношений и почему система родственных отношений в мельчайших деталях отражена в законодательстве, касающемся брачных запретов. Заключаемый брак являет собой значимую точку напряженности, стягивая на себя самые разнообразные аспекты существующих социальных практик.
Церковь, решения которой ратифицирует имперская законодательная власть, применяет принцип, предложенный в IV столетии: «не смешивать имена», иными словами — Не умножать количество связей, уже существующих между двумя индивидами. Патриарх Сисиний II подводит под этой темой черту, выпустив в 997 году объемный том своих канонических трудов о свадьбе и разводе: запрещены браки с двоюродными и троюродными братьями и сестрами; двух братьев (сестер) с двумя двоюродными сестрами (братьями); дяди и племянника с двумя сестрами; тетки и племянницы с двумя братьями (браки дядя/племянница и тетка/племянник были запрещены уже давно); наконец, одного человека последовательно с двумя сестрами или с дочерью и ее матерью. Запреты, предусмотренные для регулирования степеней биологического родства, распространялись и на родственные связи, возникавшие в результате усыновления и крещения. Запрет брака между крестным отцом и крестницей восходит к VI веку, но церковный собор 692 года сделал решающий шаг, запретив союзы между биологическими и духовными родителями одного ребенка, иными словами, между матерью и крестным отцом, — обосновывалось это превосходством «родства в духе» над «родством плоти». Церковная доктрина прекрасно согласовывалась с той целью, которую преследует любая семья: целью максимального расширения сети взаимосвязей. Обыденное право само создавало вполне последовательную систему запретов на брак между детьми родными и приемными, хотя таковая и не была официально признана каноническим правом. Правда также и то, что в X веке аристократия искала и, в общем–то, пока еще без особого труда находила возможности для заключения браков между разными линьяжами или для того, чтобы принять в семью громко заявившую о себе яркую личность, поскольку она воплощает в себе восходящий социальный поток, с которым имеет смысл связывать некие ожидания. В кульминационном примере «Фокады/Малеины/Склиры» к последнему поколению X века уже становится заметно, что спектр такого рода возможностей сужается и застывает.
Запросы, направленные в патриархию, свидетельствуют о том, что и в среде семей, не принадлежавших к высшему аристократическому слою, были такие, которые поддавались искушению продублировать уже существующие связи, вместо того чтобы увеличить их число, или по крайней мере желали найти возможности для браков в определенном тесном кругу. Вот, например, дело, представленное патриарху Алексею Студиту (1025–1043). Георгий получил благословение на брак с Феодотой, когда ей было пять с половиной лет, спустя некоторое время она умерла: патриарх аннулировал благословение из–за нарушения допустимого брачного возраста — мы к этому еще вернемся, — но только для того чтобы разрешить брак, который мать девочки, вдова, хотела заключить с троюродным братом Георгия. Повседневная закрытость семьи отражается не только в решениях патриархии, но и в навязчивом страхе «смешения крови», кровосмесительных сексуальных связей, будь то в браке или вне его. Об этом можно судить даже по тщательности, с которой пенитенциалий повторяет канонический перечень такого рода прегрешений. Историографические и агиографические тексты, как правило, не выходят за пределы обычных связей. В качестве персонажей историй с политически значимыми сюжетами фигурируют главным образом братья, тесть/зять, брат/муж сестры, что же касается всего рода (syggeneia) как единого целого или по крайней мере всего того, что принято называть «домом», то о них речи нет. Часто дядя по материнской линии открывает племяннику путь монашества, иногда карьеру патриарха. Остальных чаще всего обозначают общим термином «родственники». Однако ответы патриархии показывают, с какой точностью — при необходимости — византийцы умели идентифицировать семейное положение человека. В нескольких сохранившихся завещаниях за неимением прямых потомков наследство получают племянники: именно так в 1049 году распорядилась Гемма, не забыв упомянуть также и своих слуг. Такой завещатель отводит племяннику место сына, которого у него нет.
Родство, возникшее вследствие усыновления, редко упоминается в описаниях случаев из реальной практики, гораздо чаще речь о такого рода связях ведется в актах законодательных. Лев VI распространяет право быть усыновителями на женщин и евнухов (несмотря на неспособность последних к продолжению рода), в силу уже упомянутого принципа, по которому в качестве основы для родственной связи плотское ставилось после духовного. В тени остается также и древняя практика кровного братства, осужденная Церковью — вероятно из–за возникающих подозрений в ее гомосексуальном характере; практически отсутствующая в историографических и агиографических повествованиях, она тем не менее была достаточно распространенной, поскольку, несмотря на каноническое неодобрение, сборники молитв содержат специальный ритуал, который, видимо, был предназначен заменить старинный обычай смешения крови благословением в церкви. Впрочем, кровное побратимство сохранилось на обширной территории бывших византийских владений, прежде всего на Балканах. Выбор крестных родителей, напротив, упоминается в историографии, когда самый факт кумовства с будущим императором становится для крестного отца царственного младенца значимой вехой как с точки зрения обилия исходящих от правителя милостей, так и с точки зрения собственной карьеры. Быть крестным отцом не было запрещено деду или дяде, но выигрывать от такого союза обязательно должны были обе стороны, и кумовство создавало социально значимую взаимосвязь, вполне согласуемую с от века идущими традициями христианского Средиземноморья. Эта законная связь между мужчинами противоположна запрету на брак между крестными отцом и матерью — да и вообще на какие бы то ни было плотские отношения между ними. К табуированности подобных связей настойчиво привлекается внимание не только в пенитенциалиях, но и в рассказах о загробном мире и о воздаянии за грехи, и в «Письме, упавшем с неба», апокрифическом тексте, который со времени своего появления в V веке в разных греческих версиях аккумулировал общие положения клерикального дискурса. С другой стороны, крестный отец в будущем мог быть выбран на роль посаженного отца на свадьбе, который по греческому обряду обязан был держать венчальную корону над головой своего крестника. Вероятно, это обусловливало его роль в таком важнейшем элементе семейной стратегии, каким было заключение брака; впрочем, наверняка мы этого не знаем.
Брак — это, конечно же, очень важно, но семейная стратегия к одним только матримониальным аспектам никак не сводилась. Движущей силой семейной истории в каждом поколении является необходимость принять решение, которое определит дальнейшую судьбу детей. По крайней мере таков образ действий семей, тяжбы между которыми зафиксированы в сборнике постановлений судьи Евстафия Ромея, в вопросах, адресованных патриархии, и в некоторых эпизодах из житий святых: речь при этом может идти о перебравшихся в столицу аристократах, о представителях среднего класса или даже о священнослужителях, которые зачастую умудрялись весьма неплохо устроиться на государственной службе, — во всяком случае, в большинстве своем о горожанах или даже, более узко, о жителях Константинополя. Брак — это один из доступных путей, который не исключает возможности церковной карьеры для мальчиков и подразумевает необходимость выстраивания межсемейных связей. Другой путь — монашество. Наконец судя по всему, была распространена кастрация мальчиков в детстве, несмотря на запрет, который ограничивал ее по медицинским показаниям, — при этом принципиальное безбрачие прекрасно сочеталось с духовной или светской карьерой История византийского евнуха еще не написана, а рассматриваемая эпоха — время его наибольшей значимости: тогда он не имел ничего общего с тем персонажем с романтизированного европейцами Востока, который привычно вызывал улыбку у века Просвещения. Он представляется, скорее, некой третьей разновидностью человека, в которой природа была полностью подавлена и в которой, по этой причине, продолжала существовать одна только культура — и само это подавление могло иметь самые разнообразные последствия, коснуться которых у нас еще будет повод.
Таким образом, семья, а вместе с ней и род в целом, определяла судьбу своих детей. Относительно возраста, в ко тором это происходило, свидетельства наших источников существенно расходятся. В большинстве житий святых юноши или девушки выбирают путь аскезы на пороге взрослой жизни, в тот момент, когда им предстоит реализовать матримониальные планы семьи, от которых они отказываются. Евфимий Солунский (умерший в 898 году) даже женится в возрасте восемнадцати лет, чтобы обеспечить продолжение своего рода — провинциальных «военных» землевладельцев, — но как только становится ясно, что жена его беременна, а сестра тоже выходит замуж, он уходит в монастырь. В середине X века Фомаида с Лесбоса, повинуясь воле родителей, выходит замуж (вопреки собственному желанию сохранить девственность) только в двадцать четыре года. Впрочем, в иных случаях родители вполне могли вынудить своих чад либо поторопиться с браком, либо попросту не упустить удобную возможность. Детей, не достигших брачного возрастного порога, могли если не женить, то по крайней мере обручить, а вот для того чтобы получить согласие на брак или на уход в монастырь, требовался возраст уже достаточно сознательный. Древняя теория возрастов служит здесь для обоснования той поспешности, с которой семьи стремились реализовать свои матримониальные планы: считалось, что способность соглашаться формируется к седьмому году жизни, то есть к концу начального периода обучения — простейшего и относительно недифференцированного — грамоте и Псалтири. Вполне очевидно, что способность ребенка принимать осознанные решения в столь раннем возрасте была весьма сомнительной. Тем не менее малолетних детей, особенно девочек, продолжали отправлять в монастыри. Церковный собор 692 года и законодательство Льва VI зафиксировали в качестве приемлемого возрастного порога десять лет. На практике же и это ограничение никогда не принимали в расчет. Выше, в рассказе, который позиционируется как образец для подражания, мы видели, что Феодору Солунскую отдали в монастырь в шестилетнем возрасте. Другой, не менее сложной проблемой являются ранние браки.
В конце VIII столетия был принят закон, ставший результатом долгой эволюции, который определял обряд венчания как действие необходимое и достаточное для ознаменования бракосочетания. Однако, по крайней мере с VI века, все большее значение начала приобретать помолвка, приводя к последствиям, сравнимым с последствиями брака. Помолвка предлагала необходимое решение семьям, которые слишком торопились породниться, чтобы ждать достижения детьми определенного законом брачного возраста — двенадцати лет Для девочек и четырнадцати лет для мальчиков, — поскольку се могли заключать начиная с возраста, когда ребенок обретал способность давать согласие. Сборник постановлений судьи Евстафия включает в себя сведения о тяжбах, дающие представление о реальных конфликтных ситуациях, имевших место Следствие разрыва соглашения о помолвке — по крайней мере в среде аристократической. Мы видим, что помолвка была предметом нотариального акта, в котором фиксировались дата, сумма приданого, а в случае необходимости и размер отступных. Согласие родителей было необходимо для детей юридически недееспособных, каким бы ни был их возраст: так например, молодой человек заключал союз с девушкой в доме последней, после чего пара отправлялась в церковь, но брак не считался действительным из–за несогласия отца жениха. В семье вдовы полномочия заключать браки имели, как правило, матери и бабушки. Часто элементом договора является домицилиация
[93] жениха. Некий отец девочки, еще не достигшей брачного возраста, заранее взял к себе в дом будущего зятя, причем без объявления о помолвке, но с благословением: та кой договор был признан недействительным и безболезненно аннулирован. В другом случае суд подчеркивает, что девица напрасно пытается добиться помолвки и благословения на венчание, чтобы жить в доме у супруга, поскольку не может стать законной женой до достижения установленных законом полных двенадцати лет. По сути дела, нам неизвестно, насколько было
распространено заключение такого рода ранних браков, так же как неизвестен и точный принятый возраст женского пубертата в рассматриваемом социуме: однако настойчивость, с которой суд возвращается к законодательной норме, заставляет полагать, что нарушали ее довольно часто. И наконец, любопытное дело о домицилиации в доме у девушки, фигурантом которого является юноша из рода Комнинов. Он подписал предварительное письменное обязательство, а за тем, отказываясь от помолвки, пытался доказать, что не имел права таковую заключать в силу возраста — на тот момент ему было всего восемнадцать лет. Судья обвиняет его и осуждает за то, что он проник в аристократическую семью, «увидел там девушку, проводил с ней время, жил в доме, обещая заключить помолвку» — В данном случае мы не имеем возможности понять, насколько далеко зашла эта совместная жизнь. Следует отметить, что тот же сборник постановлений описывает случай с невестой, которую во время первой брачной ночи признали «испорченной». Муж выгнал ее незаконно, так как в подобной ситуации следовало незамедлительно покинуть комнату и призвать в свидетели «близких и родственников женщины». Небольшой трактат по гинекологии, относящийся к описываемой эпохе, среди прочего сообщает, по каким признакам можно определить потерю девственности.
Выбор будущего жениха или невесты обычно представляется делом родителей либо кого–нибудь из других членов семьи. В этом вопросе жития святых сходятся со свидетельствами сборника постановлений судьи Евстафия. Мать Евфимия Солунского, будучи вдовой, сама ищет для сына девушку из хорошей семьи, чтобы продолжить род; муж сестры Марии Новой предлагает своему другу жениться на ней, и т. д. Закон вменял родителям в обязанность женить детей, так что дочь, оставшаяся незамужней до двадцати пяти лет, получала право требовать, чтобы ее выдали замуж. Некоторые тяжбы из сборника судьи Евстафия показывают, что волю молодых людей не всегда игнорировали. Так, например, protospatharios (протоспафарий) Имерий, который «влюбился в девушку из семьи сенатора… соблазнил ее так, что этого не подозревал ее отец. Узнал он об этом, только когда его дочь оказалась беременной, и потребовал, чтобы соблазнитель женился. Имерий тотчас же отправился в церковь вместе с юною девицей»; брак был заключен, однако Имерий находился в тот момент под законной властью своего отца, который воспротивился этому союзу. После смерти отца он попытался возобновить свое супружество, что и стало поводом для процесса. С другой стороны, как мы помним, Кекавмен прекрасно знал, что девушки были не так уж и недоступны. Наряду с совращением прямо в родительском доме, молодые люди могли добиться супружества, организовав похищение — и при этом всегда возникало подозрение в тайном сговоре. В XII веке Феодр Вальсамон в одном из своих толкований на канонические тексты с весьма показательной строгостью решает дело девушки которая, прочитав договор, заключенный отцом о ее браке вступать в который она не хотела, договорилась со своим возлюбленным, чтобы он ее похитил. Вальсамон же объявляет их брак невозможным даже при согласии отца. И сами по себе моральные рамки, и те причины, по которым они сдвигаются весьма разнообразны — в этом мы еще не раз убедимся. Так в отличие от только что описанного случая, родители героя Дигениса женятся вполне благополучно: молодой эмир влюбляется в девушку–христианку из знатного рода и похищает ее, после чего на сцену выходит семья: сначала братья девушки, потом родители обоих молодоженов.
При поиске кандидатур для женитьбы детей семья оценивала материальное благосостояние и общую влиятельность будущих родственников. Когда выбор сделан, от молодой пары ждут появления потомства. Это зафиксировано в агиографических текстах, на этом со всей очевидностью сделан акцент в обряде венчания, и «Ключ к сновидениям» Ахмета выявляет эту же заботу у спящих мужчин и женщин. Но что нам известно о более личном супружеском опыте этого времени?
Супружеская пара, семья, чувства
Церковь еще со времен Античности учила вслед за апостолом Павлом, что брак есть единственный путь для тех, кто не в состоянии достичь истинных высот воздержания и сохранить свою невинность нетронутой, причем касается это как женщин, так и мужчин. Супружеская жизнь остается предметом церковного дискурса, который, при кажущейся внешней неизменности, приобретает существенно иные смыслы — и происходит это вне всякого сомнения, в соответствии с общим направлением социальной эволюции, в результате которой значимость семьи и внутрисемейной сплоченности возрастает. Церковь сохраняет настороженное отношение к сексуальности, даже узаконенной, и потому обосновывает запрет третьих браков и значимость женского вдовства. Агиография продолжает предлагать жизненные модели, в которых венцом земного пути является уход в монастырь. Но случается, что этому уходу предшествует период супружества — что является новшеством если не фактическим, то по крайней мере жанровым. Женская святость перестает занимать в агиографии пренебрежительно малое место. В некоторых рассказах супружество даже изображается как период счастливый и достойный, например в «Житии Фомаиды Лесвийской», составленном между рождением и восшествием на престол Романа II. Кале («красивая»), мать святой, «взяла ее из–под ига золота и, следуя божественным заповедям, вверила ее гармонии ига трижды счастливого, блаженного, евангельского». Она и ее муж в совершенном согласии соперничают между собой в стяжании духовных заслуг. Их брак был мотивирован «не стремлением к плотским удовольствиям, но желанием иметь добродетельного ребенка» — тема, которую автор развивает весьма подробно. После достаточно долгого ожидания — традиционного для большинства житийных текстов — на свет появляется Фомаида.
Бедняжка будет куда менее счастлива, но совершит еще больше духовных подвигов. Она хотела остаться девственницей, но согласилась выйти замуж — «два поступка, заслуживающих похвалы и всеобщего уважения», однако именно побои мужа сделали из нее святую. Мария Новая также была сильно избита после того, как ее ложно обвинили в прелюбодеянии с Рабом. Муж запирает ее и допрашивает ее любимую служанку, Черкая очами и повышая голос»; после чего, несмотря на то что последняя все отрицает, будет бить Марию, таскать за волосы и в конце концов нанесет ей смертельную рану. Вероятно, здесь мы имеем дело с чисто монашеским желанием акцентировать упорство на неприятных сторонах брака. Однако оно находит отголосок в сборнике постановлений судьи Евстафия в деле об имуществе женщины, которая укрылась в монастыре чтобы спастись от мужа: в его распоряжении шесть месяцев, чтобы заставить ее вернуться, поскольку родственники жены не могли запретить ему с ней видеться; ему надлежит «произносить льстивые речи, накрывать для нее стол, делать все возможное, чтобы снова разжечь былые чувства, но без давления и насилия»; впрочем, при встречах супругов присутствует третье лицо — очевидно, местная монахиня, которая вмешивается при необходимости.
Судя по всему, сожительство с наложницами (pallakai), несмотря на недвусмысленное осуждение со стороны Церкви, было практикой весьма распространенной. Сновидения содержат предзнаменования возникновения таких связей, тогда как пенитенциалий в перечне нарушений сексуальных запретов приравнивает наложницу отца к его жене (metruia). Вероятно, это были женщины по большей части из низших социальных слоев, что создавало трудности для их детей. Судья Евстафий описывает тяжбу, в которой противными сторонами были сын от умершей законной жены и дочь служанки, которую ее отец, в свою очередь, сделал матерью, а в конечном итоге и женой. Завещание, составленное в 1076 году Генезием, сыном Фалькона, перед уходом в монастырь, удостоверяет свободу, дарованную Лукии, «моей рабыне, купленной за деньги», и наследство, оставленное ее дочери Анне, к которому он добавляет два виноградника «за заботу и внимание, которые она проявляла», когда еще не знала, что станет законной наследницей. Если учесть, что всеми остальными наследниками являлись племянники и племянницы, то возникает предположение, что Анна, вместе со своей матерью в завещании названная первой, была дочерью самого Генезия. Роман I, тесть и соправитель Константина VII, имел сына от наложницы, о котором мы не знаем ровным счетом ничего, даже его имени — в отличие от многочисленных законных детей. Он будет кастрирован, что не позволит ему оставить конкурентоспособного потомства, но не помешает сделать политическую карьеру, о которой большинство его племянников могли только мечтать. Другой возможный вариант — любовный треугольник в императорской семье — описывает Михаил Пселл. Зоя, оказавшаяся единственной законной наследницей престола после смерти дяди, Василия II, и отца, Константина VIII, была уже старой — пятидесятилетней, — когда вышла замуж за Константина Мономаха. Последний открыто жил с Марией Склиреной, представительницей уже упомянутого рода Склиров, племянницей его второй жены. Он встречался с ней в ее доме, заключил с ней договор «о дружбе» (philia) — небывалый союз, вызвавший бурю возмущения в сенате, — ожидая, что смерть Зои позволит ему на ней жениться; однако именно Мария умерла первой. Если исключить политические аспекты, имеет смысл предположить, что ситуация, которую Пселл откровенно оправдывает возрастом супруги, могла быть достаточно распространенной.
Безнравственность женского поведения определялась по четким критериям, которые давали основания для расторжения брака. Судья Евстафий упоминает о банях и о пирах с чужаками, о выездах на ипподром на бега. Закон, впрочем, предусматривал причины развода, которые к одной только женской безнравственности не сводились: многочисленные сексуальные связи женщины здесь выступали наравне с импотенцией мужа, покушением на жизнь супруга, проказой. По закону любовникам, уличенным в супружеской измене, должны были вырвать ноздри, и женщину отправить в монастырь, после чего муж в течение двух лет имел право забрать ее обратно. На практике же все, очевидно, происходило несколько иначе. Супруги могли разойтись по обоюдному согласию, если кто–то из них решал уйти в монастырь, а жены, как мы уже видели, могли врываться там от мужей. Первую жену Василия I безо всяких церемоний отправили в родительский дом, чтобы Василий мог жениться на Евдокии Ингерине, то же самое сделали с женой Романа III Аргира перед тем, как он женился на Зое. И обе эти процедуры были беспрекословно приняты Церковью (которая столь жестко осуждала четвертый брак Льва VI и препятствовала Никифору II жениться на вдовствующей императрице из–за имеющихся между ними отношений кумовства): означает ли это, что они не представляли собой исключения из правил? Наконец, судебные тяжбы, ряд примеров которых мы уже приводили, прекрасно демонстрируют матримониальную стратегию, заключавшуюся в последовательном выборе нескольких кандидатур: при этом все предшествующие варианты старались объявить незаконными — с теми или иными мотивациями. Вдовство также открывало новые возможности, хотя трудно сказать, каким образом они реализовывались на практике. Церковь, пользуясь поддержкой законодательной власти, запрещала третьи браки и в принципе не одобряла повторный брак. В налоговых ведомостях деревень есть свидетельства о том, что вдовы были главами домохозяйств; в завещаниях они предстают как владелицы семейного имущества и как попечители, ответственные именно за заключение браков детьми и внуками. Отметим, что в первой половине XI века Евстафий Воила, автобиографическое завещание которого мы еще довольно много будем цитировать, подчеркивает, что после того, как в молодости потерял жену, в брак больше не вступал. Очевидно, что все эти ситуации, и прежде всего выбор кандидатуры для женитьбы, содержали в себе имущественный аспект. «Отсутствие состояния расстроило помолвку», — гласит один из «протоколов» судьи Евстафия. Законный статус вдовы об легчает вещи, которые все прочие формы разрыва, напротив, усложняют: однако мы не будем здесь вдаваться в подробности.
Дошедший до этого места читатель, вероятно, ждет, что анализ семейной структуры оживит перед ним картину чувств. Однако это практически невозможно. И не потому, что их не было — думать так было бы попросту абсурдно, — но по двум сходным причинам, обусловленным историческими обстоятельствами. Прежде всего потому, что сфера семейных отношений определялась множеством публично признанных социальных ценностей, которые диктовали и предпочтения при осуществлении выбора, и то, как будут в дальнейшем складываться отношения между супругами. Так, «Историю» Льва Диакона, историографа конца X столетия, можно считывать как на уровне политическом — в качестве хроники царствования Иоанна Цимисхия и начала правления Василия II, а также крупного восстания аристократии в Малой Азии, — так и на уровне семейно–родовом — с акцентом на сложном переплетении родственной солидарности и мести. Чисто приватная тема семейной чести, поруганной женами или дочерьми, которой мы касались выше в связи с сочинением Кекавмена, здесь перестает быть интимной. Цели и типы источников, в которых фигурируют целые семейства, не предполагали заострения внимания на проявлениях индивидуальных чувств — за исключением случаев редких или даже чрезвычайных. Кроме того, следует исследовать один жанр, поверяя его через другой, и следить за тем, чтобы не обманываться в отношении интенций самих этих текстов. Между тем документы XI века говорят о чувствах с такой степенью свободы, которая куда ближе к нашей нынешней, чем к классической суровости X века, и, как мы увидим далее, свидетельствуют, вероятнее всего, о том, что проявления чувств и в самом деле стали куда более свободными.
Агиографические тексты этого времени уже давно изучены, в них обнаружены сведения о детстве святых подвижников и подвижниц IX–X веков, об особенностях разных Жизненных возрастов, с весьма интересными иной раз деталями касательно методов воспитания и принятых семейных стратегий. Однако целью авторов этих произведений не было ни объективное документирование реальных событий, ни рассказывание увлекательных историй, ни создание достоверного жизнеописания персонажа, поскольку биографу вписывалась в узкие рамки церковной модели святости и стремилась лишний раз обосновать эту последнюю, а потому и все детали повествования должны были о ней свидетельствовать — вплоть до чудес, которые становились последним и решающим аргументом. Доказанное таким образом величие героя впоследствии переносится на его родителей, прежде всего на мать. Ее желание иметь ребенка трактуется как желание созидательное: это объясняется в «Житии Фомаиды» и в словах, которыми Богородица сообщает ей о будущем рождении дочери. Агиографические источники говорят об особой роли матери на начальном этапе воспитания, в том числе и в отношении мальчиков, что, впрочем, соответствовало традиции очень давней. В житии Никифора Мидикийского (умер в 813 году), составленном между 824 и 827 годами, его мать изображается как пример для подражания, поскольку именно она дала хорошее образование троим своим сыновьям. Она нашла для них учителей, чтобы «научить их священным текстам» и отвратить от развлечений, запятнанных верностью древним культам, от карнавальных плясок, зрелищ на ипподроме, театральных представлений — в общем, по словам автора, ото всех мальчишеских забав. В X веке, когда мать Никифора Милетского, детство которого приходится на годы царствования Романа I, меняет свое короткое платье на более длинные одежды и сопровождает сына в школу, чтобы охранять его чистоту, она, начиная с самого юного возраста, готовит его будущее возвышение, при этом его ранняя кастрация, про изведенная ради будущей карьеры, в жизнеописании никак не комментируется. Кроме того, весьма распространенный образ ребенка–старика, равнодушного ко всем развлечениям, свойственным его возрасту, подает эти его качества как истинное чудо. Что касается взрослого святого — непорочность его должна доходить до степеней максимально возможных: этого требует как риторика хвалебного текста, так и логика постепенного повышения степени святости, которой агиографы неизменно придерживаются. Вот почему Евфимий Солунский без сожаления покидает свою беременную жену. И именно поэтому в «Житии Феодоры Солунской» у святой проходит беспокойство, охватившее ее при виде суровых условий, в которых содержится ее маленькая дочь в монастыре, а в «Житии Марии Новой» — утихает боль матери от потери малолетних детей. После смерти она явится художнику–отшельнику и вдохновит на создание иконы с ее изображением, на котором она будет представлена в окружении обоих своих умерших детей и верной служанки. Несомненно, характерные черты конкретной человеческой личности можно почувствовать иногда даже и в этих волеизъявлениях. Когда монах Никита в 821 году составляет жизнеописание своего деда и крестного отца Филарета, в праведности своей способного соперничать с ветхозаветным Иовом, он выступает в качестве исполнителя семейного хронографического проекта, причем на роль автора его избрал сам Филарет. Однако этому автору все–таки удается придать своему сочинению интимную — самым очевидным образом — окраску счастливых детских воспоминаний.
Тексты, предназначенные для приватного чтения, несомненно, содержат куда больше интересующей нас информации. Тем не менее нет ничего менее показательного, чем произведения, восхваляющие храбрость и подчиненные при этом правилам античной риторики, чем выражения соболезнований или отчеты о свадебных торжествах. Богатые сведениями о социальных и культурных моделях, они за редкими исключениями жестоко разочаровывают каждого, кто приступает к поискам тайных сокровищ византинистики. Эпистолярный жанр, напротив, позволяет говорить о себе и о своем собеседнике в той мере, в какой избранные письма, объединенные в серии, зависят от «дружбы» (philia), то есть отношений светских и основанных на свободном выборе каждого, — впрочем, авторство этих посланий принадлежит исключительно мужчинам. Авторы писем, в частности, просят прощения и объясняют причины своего молчания или задержки с ответом. Именно это позволяет Константину VII в послании одному из своих ко респондентов — логофету (logothetos) и магистру (magistros) Симеону — описать свои недавние заботы, связанные с детьми и прежде всего с болезнью младшего из них. Завещания и документы об основании монастырей частными лицами, в свою очередь, отражают семейные привязанности, поскольку при составлении этих текстов со всей очевидностью проявляется некоторая гибкость формы, а риторика как раз таки не имеет на них никакого права. Евстафий Воила предваряет свое завещание, написанное в 1059 году, автобиографическим очерком. Затем он рассказывает о том, что, едва его семья устроилась после переселения на новом месте, «сын, прожив только три года, умер 6–го индикта, а по наступлению 9–го индикта [умерла] по божественному промыслу и мать его, моя сожительница. Постриженная в монашеский чин, она последовала за сыном, оставив мне все средства к жизни и двух дочерей»
[94]. Это все. И этого достаточно. Генезий, сын Фалькона, охваченный «желанием» посвятить себя монашеской жизни, в завещании, датированном 1076 годом, разделяет между наследниками свои владения в окрестностях Тарента. В части завещания, касающейся Фалькона и Геммы, детей одного из своих братьев, он добавляет: «только для Геммы, которую я любил за ее хорошие манеры и за уважение, коим она меня окружала и находила в том удовольствие». Эта фраза содержит некий знак — но на что он указывает? Была ли Гемма похожа на героинь Грёза — или Мопассана? Мы уже никогда об этом не узнаем.
Пара — супружеская или же не связанная узами официального брака — появляется в текстах XI столетия. Было бы ошибочным полагать, что с этого времени она только и начинает свое существование, скорее, именно в это время она попадает в поле зрения авторов текстов, начинает привлекать их внимание, что само по себе не менее показательно. Отслеживаются характерные черты поведения влюбленных — с тем чтобы подвергнуться либо осмеянию, либо осуждению. Пселл с беспощадной точностью описывает приемы обольщения, которые были пущены в ход для того, чтобы женить молодого и красивого Михаила на слишком зрелой и слишком легко возбудимой Зое, обладательнице законной императорской власти. Он «повел себя, как настоящий влюбленный: внезапно обнимал и целовал царицу, гладил ее руки й шею, действуя так, как его вышколил брат [евнух Иоанн]… начав с поцелуев, они дошли до сожительства, и многие заставали их покоящимися на одном ложе»
[95]. Кекавмену также прекрасно известно, каким образом добиваются расположения женщины и почему не следует позволять своим женщинам появляться в присутствии гостя: «Если он найдет удобный случай, он будет делать любовные знаки твоей жене, будет на нее смотреть бесстыдными глазами; если может, то и соблазнит ее»
[96]. Далее строгий провинциал переходит к подлинной истории об одном знатном человеке, жившем в столице и посланном с ответственной миссией в далекую провинцию, и о том, как тот, вернувшись через три года, застал в своем доме соблазнителя, который представился родственником его жены. Грех же последней поверг в отчаяние и обесчестил ее мужа и всю ее семью; «а юноша хвалился тем, как будто каким подвигом Геркулеса».
Тот же Пселл описывает страстные чувства, которые испытывали друг к другу Константин IX Мономах и Мария Склирена: «Любовь (erôs) так их связала, что и в злосчастии не желали они жить друг без друга». В эпической поэме о Дионисе (в том виде, в каком она до нас дошла) главный герой переполнен радостным чувством счастливой супружеской любви, торжествующей, но, в конце концов, сраженной смертью; в то же время он неоднократно поддается непреодолимому желанию вкусить любовных наслаждений в объятиях других женщин, после чего мучается от гнетущего чувства вины. Однако мы не будем приводить здесь цитаты, поскольку не уверены в датировке сохранившихся рукописных версий. Хотя само содержание поэмы хранит следы исторических событий IX века, но, опираясь на другие свидетельства того же рода, ее можно отнести и к XI или XII веку.
Больные, престарелые и умирающие миряне не всегда и не везде остаются в домашнем пространстве. В городах бедность приводит их в учреждения общественного призрения. Модель последних была выработана между IV и концом VI века в позднеантичных городах — больших и маленьких, куда стекались обнищавшие и деклассированные элементы. Основанные императорской властью или частными лицами или же находившиеся в ведении монастырей, эти учреждения заставляют снова говорить о себе (после многовекового упадка), начиная с XI и главным образом с XII столетия, благодаря движению, которое, очевидно, соответствует возрождению городов, начавшемуся в конце IX века, и прежде всего разрастанию самого Константинополя. Самый известный и показательный пример такого рода заведения — больница монастыря Спаса Вседержителя (Пантократора), деятельность которого регулировалась уставом, подробно проработанным Иоанном II Комнином в 1126 году. Более скромный пример: уже упомянутый нами Михаил Атталиат в завещании 1077 года распорядился основать одновременно со своим монастырем богадельню. Однако нет сомнения в том, что состоятельные горожане, так же как и зажиточные крестьяне, рождались, болели и умирали у себя дома. В письмах этого времени есть свидетельства о том, что к больным приходили врачи. А также повитухи, и если миниатюры изображают комнату роженицы в сценах рождества Богородицы или Христа, то некоторые из них показывают сами роды: Рахиль или Ревекка рожают своих сыновей сидя или стоя. Житие Марии Новой рассказывает о ее смерти в окружении близких после того, как ее избил муж: прежде чем приготовить погребальную ванну, родственники разражаются рыданиями, и именно эта сцена сопровождается иллюстрациями.
Монастырское братство, духовное отцовство
Монастырский oikos, как мы видели, является метафорой oikos’a семейного. Монашеская «семья», реальность которой засвидетельствована ее имущественными и судебными действиями, представляет собой структуру, объединенную родством особого типа, в том смысле, что единство ее не основано на браке. Состоящая из представителей одного пола, она образует «братию» (adelphotes), живущую в oikos’e, который помимо основной резиденции мог иметь и второстепенные (metoikia), — и подчиненную власти «отца» (pater). Эволюционные процессы, которые в данной статье нас не интересуют, привели к значительному увеличению числа священников среди монахов. «Отца» выбирают в соответствии с правилами, зафиксированными в уставе монастыря, однако в этот процесс могут вмешиваться, с одной стороны, пользующиеся особым авторитетом монахи, с другой — потомки основателей. «Братия» обновляется и разрастается благодаря индивидуальным и, чаще всего, добровольным решениям или же — в случае с малолетними детьми, неугодными женами и поверженными политическими противниками — решениям фактически вынужденным. Человек, желающий вступить в монастырь и признанный достойным такого шага после определенного срока послушничества, принимает постриг — символическое отречение от сексуальности — и одежду из рук «отца», который в знак начала новой жизни дает ему также и новое имя. Женское «сестричество» подчиняется «матушке», которая по самой природе своей лишена права обладать священнической властью, что не позволяет женскому монастырю быть полностью замкнутым внутри себя. Эта проблема разрешается по–разному.
Таким образом, монашеская «семья» представляет coбой идеальное — поскольку оно лишено «плотской» составляющей — отражение светской семьи. Она естественным образов исключает — как принадлежащие к сфере мирского — кумовство (возникающее при крещении) и кровное братство, а также и владение рабами: по крайней мере таковы были запреты, зафиксированные в 963 году в уставе афонской Лавры и встречающиеся в уставах других монастырей. Однако реальность, судя по всему, вносила некоторые коррективы, о которых мы уже говорили: монастыри могли нанимать свободных работников, а монахи — сохранять отношения родства в случаях превращения жилых домов в частные обители, что подтверждается множеством агиографических источников. Например, тексты, относящиеся к Студийскому монастырю, свидетельствуют, что в него вступали братья, а также дядья и племянники. В «Житии Феодоры Солунской», которое мы уже цитировали по тому же поводу, описывается встреча матери с дочерью и подчеркивается, что мирское чувство, свойственное такого рода отношениям, уступает место чувству одной монахини к другой, а затем требует и еще большего — повиновения матери своей дочери, которая стала настоятельницей. С другой стороны, мирянам случалось проникать в монашескую «семью» путем духовного принятия. Так, в 1014 году Константин и Мария Лагуды завещают свое имущество афонской Лавре, с которой их соединяет духовная связь, поскольку у них нет ни потомства, ни других наследников. А начиная с IX века огромное значение приобретает роль «духовного отца», который понимается как индивидуальный духовный наставник и важнейшее связующее звено между миром и монастырем.
Важной фигурой по–прежнему остается монах–священник (hieromonachos), хотя сама по себе исповедь не исчерпывает его роли и духовные отношения связывают его как с другими монахами, так и с мирянами. В последнем случае возникает возможность получения монастырем имущества по наследству. Прекрасный тому пример — дарственная, составленная в 1012 году на имя Евстратия — монаха и впоследствии игумена Лавры — бездетной семейной парой, патриаршим постельничим (koubouklesios) Иоанном и его женой Гликерией. В 1016 году, после попытки присвоения наследства местным епископом, Гликерия, ставшая к тому времени вдовой и монахиней, подписывает документ, подтверждающий завещание, в котором отчетливо проявляется реальная действенность метафоры отеческого отношения. Само же это отношение вырисовывается перед нами в моделях и примерах, предложенных монастырскими авторами IX, X и XI веков. Эволюция фигуры «отца» на самом деле происходит в соответствии с основной тенденцией эпохи, заключающейся в том, что состоящая из монахов церковь все больше и больше утверждает приоритет своей жизненной модели, а следовательно, и первенство своих членов среди византийских христиан.
Начиная с «Жития Петра Атройского», составленного в 837 году, через несколько лет после смерти святого, центральной темой становится признание исповеднику. Петр способен распознавать скрытые прегрешения. Он на некоторое время воскрешает монаха, — который умер в его отсутствие и потому не смог исповедоваться, чего очень хотел, — и тот заявляет: «Отче, я никогда не позволял себе смотреть на тебя или слушать тебя как обычного человека; я смотрел на тебя и слушал Тебя как ангела небесного и всю мою жизнь я принимал слова, которые ты обращал ко мне, как божественные указания». Петр и выслушивает признания мирян, и налагает на них епитимьи. Здесь мы сталкиваемся с явным изменением той шкалы духовных наказаний, которая восходит еще к IV веку. «Житие патриарха Евфимия», также составленное вскоре после смерти (в 917 году) центрального персонажа монахом из его монастыря, в некотором смысле представляет собой хронику царствования Льва VI, но истинной его целью было утвердить господство суверенной власти «отца» над самим императором и его окружением, несмотря на все трудности и дворцовые перевороты и вне связи с какими бы то ни 6ыло формами обрядности. Другой текст X века преследует туже цель, поскольку повиновение императора подобной власти является самым веским из всех возможных аргументов. Текст этот — устав (typikon) Афанасия, основавшего в 963 году Великую Лавру на горе Афон. Афанасий упоминает об участии в строительстве монастыря Никифора II Фоки, до того как тот взошел на трон, и о том, что в те времена будущий император чувствовал призвание к монашеской жизни; далее Афанасий описывает, как, узнав, что Фока стал императором, он оставляет стройку и отправляется в столицу, чтобы осыпать тою резкими упреками: «Я подверг осуждению столь набожного императора, так как знал, что он без возражений примет все, что бы я ему ни сказал». И Фока действительно отвечает извинениями. В свою очередь, эпистолярии X века предоставляют более обыденные, несмотря на стилистические изыски, свидетельства привязанности к «духовному отцу», даже если некоторые письма и позволяют полагать, что реальным их адресатом был крестный отец пишущего. И наконец, наш последний пример, из другого времени и места, переносит нас в Студийский мужской монастырь рубежа X–XI веков.
Здесь духовная отеческая связь соединяет монаха Симеона и подвизавшегося под его руководством Симеона Нового Богослова, который родился около 949 или 950 года и умер в 1022 году. Последний был игуменом столичного монастыря Святого Маманта и одной из ключевых фигур византийской истории и византийской мистики XI столетия. Мы знакомы с ним по его произведениям, отдельные страницы которых в настоящее время приписывают его наставнику, а также но житию, составленному после 1054 года его собственным духовным сыном, студийским монахом Никитой Стифатом. В центре повествования Никиты одновременно оказываются и мистическое озарение, полученное Симеоном Новым Богословом от Святого Духа и отразившееся впоследствии в его теологической доктрине и литургических гимнах, и общение со старцем Симеоном, духовное отцовство которого позволило ему обрести опыт монашеской жизни. Отношение ученика к учителю было проникнуто столь глубоким уважением, что после смерти старца он повелел написать его образ и учредить в его честь, как в честь святого, всеобщий праздник, пользовавшийся большой популярностью. Оба мотива, очевидно, были объединены в обвинении, выдвинутом против Симеона Нового Богослова патриаршим трибуналом, на котором, по свидетельству «Жития», ему пришлось долго объясняться и по поводу данного праздника, и по поводу почитания святых мужей. Оставляя здесь без комментариев масштаб исторического переворота, совершенного Симеоном Новым Богословом, отметим, что тот же разрыв, тот же раскол, та же независимость в рядах монашеской «братии» содержатся в требовании личного откровения и в беспрецедентном возвеличивании духовного отца, в необходимости полного ему повиновения и полной прозрачности для него. Впрочем, ко второй теме Никита возвращается и в связи со своими собственными отношениями с духовным наставником. Молодой евнух из хорошей провинциальной семьи, Новый Богослов уже подростком отказался от придворной карьеры, чтобы принять постриг у монаха, от которого получил также и имя и который был его духовным отцом до вступления в Монастырь. Их близость была такова, что — «за неимением Места» — юноша спал в келье своего учителя. В конце рассказа Никита описывает свое собственное видение, в котором тогда уже покойный Новый Богослов привиделся ему лежащим на богато убранном ложе в царском чертоге. Затем, прежде чем передать Никите послание «верным людям», «он обнял [его] и поцеловал в уста». Эти физические контакты демонстрируй читателю «Жития» то «бесстрастие» (apatheia), которое упомянутые святые мужи обретали как награду и благодать. Тема эта соответствует теме реальной или символической смерти тела, которая в аскетических медитациях Нового Богослова как утверждает его биограф, занимала особое место.
Приведенные примеры, как мы видим, — исключительно мужские. Однако покаяние, разумеется, предусматривает и исповедь женщин — монахинь или мирянок — и, как показывает сюжет с императрицей Зоей, матерью Константина VII, которая приняла постриг и новое имя от патриарха Николая I, духовные связи с женщинами устанавливались примерно так же, как и с мужчинами. Но базовая модель наталкивается здесь на фундаментальную асимметрию, обусловленную принадлежностью священнической власти исключительно мужчинам и сегрегацией женщин: ни таинство покаяния, ни обязанность исповедоваться вышестоящей «матушке» не могут полностью преодолеть эту трудность.
«Друзья»
Сколь бы важной и всеобъемлющей ни была область родственных связей, она не покрывает всего многообразия отношений, существовавших в сфере частной жизни, поскольку, применительно к обществу настолько сложно устроенному, система дихотомий, необходимая для демаркации различных социальных практик, не могла сводиться к логике исключительно семейной. За пределами этой области находятся прежде всего связи, которые делают индивида чьим–то «человеком»» заставляют его принадлежать тому, кого Воила в своем завещании называет своим «господином» (authentês). Мы не будем подробно останавливаться на этих отношениях. Не потому, что они, в отличие от родства как такового, не касаются частной сферы или даже связей между приватным и публичным, — но просто потому, что они выходят за рамки как того понятия частного, которое интересует нас в этой книге, так и той области, в которой это частное сталкивается с влиянием публичной политической власти. Кроме того, «родство» связано с «дружбой» (philia), которая приобретает в этом случае смысл дополнительный и, так сказать, остаточный: она объединяет отношения, которые, в общем, не предопределены родством биологическим или супружеским, или же метафорическим, возникающим в результате совершения какого–либо обряда.
Подавляющее большинство наших источников свидетельствует о дружбе опять–таки между мужчинами, понимаемой, по крайней мере на первый взгляд, именно в том смысле, который и мы привыкли вкладывать в это слово. Только дружба имела право на письменное выражение личных чувств, передаваемых в эпистолярном жанре. Само собой разумеется, что на тех уровнях общества, за которыми было в те времена зарезервировано производство письменных текстов, изучение дружбы еще раз ставит под вопрос демаркацию публичного и приватного. Историография показывает нам «дружбу» как некое предварительное условие, необходимое для того, чтобы один участник придворных интриг мог полагаться на содействие другого: в подобных случаях она может объединять и родственников, например родителей мужа и жены, как связь дополнительная, свободно выбранная, а потому — тем более эффективная. В подобном же контексте она может иметь под собой, скажем, тот незаконный договор о выгодной монополии на торговлю с Болгарией, который евнух Самона, доверенное лицо Льва VI, заключает в интересах двух греческих купцов.
В сфере, более адресно связанной с повседневной жизнью византийца, дружба оперирует рекомендациями в пользу третьих лиц, которые иногда являются родственниками адресанта, что само по себе выступает в качестве дополнительной характеристики, облегчающей то взаимопонимание, о котором речь шла выше. Корреспонденты также обмениваются новостям, хорошими или плохими, о карьере — своей собственной и общих друзей — в канцелярии или епископате. Все это вполне традиционно, как можно убедиться, изучая переписку IV века. Противоречит традиции разве что та неожиданная несдержанность, с которой авторы писем говорят о своем настроении и подробностях своих болезней. Наконец, современный читатель бывает озадачен весьма пылким проявлением, пусть даже и в стереотипных выражениях, чувств, которые вызывает у автора письма отсутствие друга: собственно, именно в силу этих чувств письма и писались, и сохранялись надолго. Озадачен — следует уточнить — просто в силу того, что его собственный опыт подобного рода переживаний привычно выражается совсем в другой форме. Фрагменты личных писем, признанные достойными включения в антологии или полные собрания сочинений, едва ли можно считать индивидуальными текстами интимного характера: они по необходимости должны придерживаться той риторической традиции, выдающиеся примеры которой являют собой и они сами — в силу масштаба личности их авторов или же успешно найденной формы самого изложения. Таким образом, мы должны отметить, что привилегия письменного выражения дружеских чувств принадлежала мужчинам — в обществе, которое не оставило ни одного эпистолярного памятника женской дружбы или любви. Нам ничего не известно о практиках, реально существовавших в этих двух сферах, но зато мы видим, что дружба между мужчинами выражалась в манере, которая сегодня вполне могла бы быть воспринята как двусмысленная. Так, например, в X веке чиновник финансового ведомства, magistros Симеон, пишет какому–то человеку, который, судя по всему, был монахом, но, может быть, и всего лишь братом по единому для них обоих духовному отцу: «Дорогой брат» я всегда ношу тебя в себе, в своей душе, вспоминая твое столь приятное общество». В другом месте того же письма: «Я получил твое очень дорогое для меня письмо, и чем больше я погружался в его строки, тем сильнее становилась во мне любовь (eros)» — Мы могли бы привести еще множество примеров и составить целый словарь «сердечных» выражений. «Желание» (pothos) — это влечение к отсутствующему, оно проходит по ведомству скорее ностальгии, нежели сексуальности; «нежность» (agape) — сильная, но не слишком детализируемая; «любовь» (eros), которая, на первый взгляд, кажется весьма подозрительной, но если воспринимать это слово в общем контексте высказывания, подозрение постепенно исчезает. Последняя заставляет полагать, что в приличном обществе, члены которого получали образование в хороших школах, было принято говорить о чувствах совершенно не так, как мы делаем это теперь, и, очевидно, совершенно по–другому, чем это делали монахи того времени.
Поэтому eros как «любовь», в конечном счете, не занимает особого места в нашем изложении. Приведенные выше наблюдения — по поводу выбора супруга, внебрачного сожительства в добавление к браку или вместо него или по поводу адюльтера — так или иначе относились к супружеской паре. Те же наблюдения, что будут высказаны ниже, продемонстрируют отношения между самосознанием индивида и его желаниями. Но мы нигде не найдем и намека на представление о любви как игре или самоцели. Ни единого намека на свободных женщин, торгующих собой за деньги, или на женщину как партнера. Не встретим мы и упоминаний о мужской гомосексуальности как о категории точно определенной в контексте конкретных социальных отношений, — как о неких презумпциях, которые Называют влияние на поведение монахов и хорошеньких школяров, коих пенитенциалий считает лицами, способными нести ответственность начиная с двенадцати лет — ив качестве активной, и в качестве пассивной стороны.
«Я» И САМОСОЗНАНИЕ
Итак, мы переходим к разговору о том, каким образом человек исследуемой нами эпохи понимал себя, свое «я», то есть к внутреннему миру личности. Свидетельства, которые позволяют судить об этом, принадлежат опять–таки взрослым знатным мужчинам, и лишь изредка и как бы между прочим в них проскальзывают упоминания о некоторых других социальных типажах. Придется с этим смириться и тем не менее все–таки решиться на допущение, что они, по крайней мере в какой–то значимой степени, отражают общее состояние византийского человека.
Отношение к телу
На первый взгляд кажется, что речи тех, кто говорит о своем собственном теле, лишены какой–либо внутренней цензуры. Выше мы видели, как подробно описывает свои болезни Феодор Никейский в письме с просьбой разрешить ему вернуться из изгнания. Монах с Латроса Иоанн, и тоже в качестве некоего общего места, приносит извинения за то, что долго не отвечал на письмо своего корреспондента: «Будь уверен, дорогой и желанный, что ни единого дня не видел я белого света, не ел и не пил с аппетитом, не спал, хотя все это было мне позволено, опечаленный и измученный болезнью, которую можно назвать невидимой; тем, кто видит меня, кажется, будто я в добром здравии; на самом же деле я чувствую себя очень плохо». Феодор Никейский описывает себя с иронией, по стилистике
вполне литературной: «густая борода, заплывшая жиром шея, толстый раздувшийся живот», облысевшая голова, блуждающий взгляд, исполненный тем не менее невиннейшего простодушия — несмотря на столь малоприятную внешность Феодора и те проступки, в которых его обвиняют. В истолкованиях сновидений Ахмета задействованы все части тела, а также выделения и испражнения. Впрочем, слишком доверять всему этому, пожалуй, не следует.
Более внимательный анализ выявляет то постоянное напряжение, которое существует в рамках усвоенной византийскими элитами ученой культуры, между античным наследием и актуальными практиками. Человеческое тело с неизбежно присутствующими и визуально неотменимыми признаками пола, вне всякого сомнения, было одной из тех точек, в которых это напряжение приобретало наибольшую силу. На шкатулках из слоновой кости можно было увидеть точно переданную наготу Адама и Евы — или изображенных на античный манер мифологических персонажей. Но изображения в манускриптах демонстрируют совершенно другой образ действий: в мадридской рукописи Скилицы фигура путешествующей вдовы Данилиды изображена строго, практически целиком закутанной; в Псалтири, созданной в Константинополе в конце XI века, роскошные одежды полностью скрывают тела танцовщиц — даже руки спрятаны в длинных широких рукавах, а на головах надеты широкие шляпы. Что касается мужчин, то на войне и во время полевых работ их ноги обнажены, но в городе мы увидим Разве что щиколотки мирянина, принадлежащего к хорошему обществу. Кроме того, стоит внимательно рассмотреть способы выражения сексуального желания. Некоторые страницы светских сочинений отражают изрядную вольность, в которой на самом деле куда больше верности древней литературной традиции, чем личной авторской склонности к откровенным сценам. Свидетельством тому — письмо, вполне способное ошеломить современного неподготовленного читателя, которое Феодор Дафнопат, секретарь Романа I и человек весьма серьезный, пишет от имени протоспафария (prôtospaîharios) Василия другу последнего, который накануне женился. Он рассказывает ему, как мысленно проследил за ходом брачной ночи, неукоснительно вплетая при этом в сюжет воинскую метафорику, и как сосредоточенность на предмете привела к тому, что его охватило физическое волнение, неистовую силу которого, точно отражающую его природу, он особо подчеркивает. На самом деле необходимо иметь в виду, что текст этот представляет собой свадебное поздравление (epithalamios) и что Феодор воплощает в нем широко известный античный сюжет о друге, присутствующем на ночи любви своего друга. Тем не менее писатель свободно использовал эту классическую реминисценцию для произведения настолько не интимного и не конфиденциального, что оно воспроизводилось в собрании его писем — то есть было доступно читающей публике.
Но не вызывает сомнений, что именно медицинская традиция, а не литературная, передает сущность отношения научной, монашеской и светской культуры к телу и сексуальности. В частных библиотеках были книги по домашней медицине, и прежде всего диетические календари, распределявшие продукты питания по временам года в соответствии с представлениями Гиппократа о четырех телесных гуморах, которые, якобы, по очереди в нем преобладали. Тот же достопочтенный источник подтверждает, что женщина тоже может испытывать сексуальное желание и получать удовольствие от секса, которые, впрочем, считались необходимыми для зачатия. Вытекающие из этого представления и практики изложены в опусе о «патологии женской матки», созданном между VI и XII веком — точную его датировку установить невозможно — и подписанном некой Метродорой, имя которой кажется слишком «говорящим»
[97], чтобы быть подлинным. Основой рассуждений автора является идея о первостепенном значении матки для здоровья женщины. В качестве доказательных аргументов автор приводит весьма разнообразные и живописные примеры расстройств, случавшихся у тех, «кто стали вдовами в расцвете лет, или девушек, которые упустили должный момент для вступления в брак», и объясняет эти расстройства тем, что «естественное желание осталось не удовлетворенным». В качестве лечения в этом — светском по своему характеру — трактате рекомендуется, однако, не повышение сексуальной активности, но применение лекарственных средств, состав которых автор приводит здесь же. Далее следует перечень целого арсенала препаратов, предназначенных для лечения болезней матки, проблем с зачатием или родами; но, помимо этого, описываются еще и способы определения девственности без специального осмотра и имитации ее, если она утрачена; а также и то, каким образом можно заставить признаться в супружеской измене, сделать невозможной любую связь с посторонним, получить максимально возможное наслаждение — мужчине от женщины или обоим партнерам в паре. Наконец, трактат предлагает рецепты для сохранения красоты груди и для «белизны и сияния» лица. В целом же вполне очевидно, что представленные здесь наблюдения, рекомендации и фармакопея по большей части вполне традиционны и добросовестно вписываются в рамки характерного для той эпохи разделения женщин на находящихся под властью супруга и тех, на кого подобная власть не распространяется.
Мужское сексуальное желание также становится предметом медицинского изучения, когда речь заходит о его аскетическом подавлении. Этот мотив был традиционным для агиографических повествований о препятствиях, преодоленных на пути к святости. Агиограф Никифора Милетского, монаха и впоследствии епископа, вынужден развивать эту тему, что бы тем самым оправдать присутствие в житии персонажа кастрированного в детстве. Его чистота была такова, что он не позволял себе не то чтобы прикасаться к своим близким но даже и смотреть на них. Это, продолжает автор, может показаться не слишком великим достижением для того, кто благодаря своей природе остался невредим в битвах с желанием. «Те же, кто в соответствии с предназначением человека и законами, установленными Создателем для его размножения, познали необузданность этого куска плоти и тяжесть борьбы с ним, пронзаемые стрелами нечистых помыслов, оказывающие мучительное сопротивление плотским мыслям и желаниям, — только те будут признаны воистину великими и достойными того, чтобы говорить об этом», — цитата явственным образом свидетельствует о том, что эти святые не допускали даже и мысли об удовольствии. «Мы не возражаем, — добавляет агиограф, — против отсечения тестикул, так как физиологам прекрасно известно, что побуждение к плотскому соединению сильнее и неистовей у людей, лишенных этой части тела, чем у тех, чье тело нетронуто и невредимо»; он подкрепляет свое утверждение ссылками на античные примеры. Впрочем, греческий оригинал «Жития» Никифора Милетского предлагает также и терминологию психических источников сексуального желания, все достоинства которой невозможно отразить в переводе. Причудливую связь между медициной и аскезой можно обнаружить и в тех суждениях, которые высказывались по другому классическому вопросу монастырской дисциплины — вопросу о ночных поллюциях. В «Исследовании об управлении душами», адресованном Львом VI монаху Евфимию (возможно, будущему патриарху), который возглавляя обитель, находившуюся под покровительством императора, эта проблема решается на основании представлений Гиппократа. Иоанн Зонара посвятил этому небольшой трактат «Тем, кто считает позорным естественное истечение семени», написанный им после принятия пострига. Он опровергает заявленную в названии трактата точку зрения с позиции физиологии, объявляя ее радикальной и запятнанной следованием иудаистским нормам Ветхого Завета. Не следует, пишет он, отбрасывать без разбора все сюжеты таинств и контакт с иконами, и каждый должен держать ответ перед собственной совестью: осуждать следует не естественное истечение лишнего, но только те случаи, когда вожделение к женщине разжигалось до такой степени, что было удовлетворено во сне.
Эта традиция оказывается на переднем плане в той перспективе, которая была задана приведенными выше текстами, однако она не единственная имеет отношение к византийскому «я» и к его телесности. Прежде всего следует упомянуть «Ключ к сновидениям» Ахмета, который без колебаний уступает сексуальным интересам своих читателей. Не стоит удивляться тому, что волосы и шерсть означали одновременно и политическую власть, и мужскую потенцию: множество параграфов сонника посвящено их росту или потере на разных частях тела. Наплечные застежки предвещали появление наложниц гораздо более привлекательных, чем законные жены; кивок женщине — будущие близкие отношения с ней: именно относительно таких «любовных знаков», напомним, предостерегал в своем проникнутом пессимизмом сочинении Кекавмен. Кто надевает новые сандалии, но не ходит в них — найдет жену; а если уже женат — новую наложницу. Спящие могли видеть во сне поцелуи и даже сексуальные акты с животными — толкователя это никоим образом не смущает. С другой стороны, жития святых, мужчин и женщин, в IX и X веках продолжают раз за разом повторять извечную тему бегства Накануне свадьбы из–за желания сохранить девственность. Было бы неправильно видеть здесь исключительно сюжетный штамп пишущей монашеской братии. Выбор, совершенный этими вполне реальными персонажами, самым очевидным образом связан с идеалом hêsychia; впрочем, цели, к которым стремились в таких случаях женщины, следовало бы оценивать исходя из жизни византийской женщины — или исходя из тех условий, в которых она жила. Но давайте пойдем дальше: XI век, в любом случае, более богат, говорит куда больше и вероятно, имея при этом в виду совершенно другие цели хотя бы отчасти.
Осмеивание тела также было давней традицией, вызывавшей откровенное неодобрение христианства, так же как и сам смех, который оно порождало. Однако создается впечатление, что вся эта цензура перестает действовать, когда Михаил Пселл рисует портрет Константина IX Мономаха — фактически, портрет столичного аристократа середины XI века, взошедшего на трон благодаря позднему браку. «Самодержец обладал душой, падкой до всяких забав, постоянно жаждал развлечений…»
[98] Ничто не развлекало его больше, чем дефекты речи: он сделал своим фаворитом человека, который намеренно усугублял свой природный недостаток, и к тому же стал любимцем придворных дам и кавалеров благодаря непристойным разговорам о двух престарелых женщинах, которым по праву рождения принадлежала законная императорская власть — Зое, жене Константина IX, и ее сестре, монахине Феодоре. Он «утверждал, что он сам родился от старшей, клялся и божился, что принесла ребенка и младшая, и так вот случились роды; он якобы вспоминал, каким образом появился на свет, приплетал сюда родовые муки и предавался бесстыдным воспоминаниям о материнской груди». Тот же монарх показан после смерти Склирены, его нежно обожаемой любовницы, о которой мы уже упоминали: «в царе бушевали страсти… он, разглагольствуя о любви (erôs), парил среди фантазий и странных видений. От природы помешанный на любовных делах (erôtika), он не умел удовлетворять страсть простым общением, но постоянно приходил в волнение при первых утехах ложа…» Пселл, будучи вынужденным свидетелем монарших прихотей, по его собственным словам, от этого краснел. Однако это не делает картину менее контрастной по отношению к грандиозной строгости предыдущего столетия.
Аскетический дискурс в ту же эпоху предлагает проявления, новые по интонациям, несмотря на сохранение исходной основы, которую всегда можно за ними обнаружить. Мы уже встречались на этих страницах с Симеоном Новым Богословом и его требованием личного постижения Святого Духа в уединении кельи. Его аскезе требуется столь незначительный повод для новаторства, что она находит свою отправную точку в одной–единственной фразе из трактата Иоанна Лествичника (Климакоса) о созерцательной жизни. И в самом деле, во время поездки на родину Симеон нашел в библиотеке родителей потертый том созданной в VII веке «Лествицы» и прочел в ней, что «бесчувствие есть омертвение души и смерть ума прежде смерти тела». Пораженный этой мыслью, он стал бодрствовать и молиться на могилах, «живописуя в сердце своем образы мертвых». Он приходил туда всякий раз, когда им овладевало специфическое «уныние» аскета, сидел на могилах, «то мысленно беседуя с мертвыми, находящимися под землей, то безмолвно предаваясь плачу, то испуская со слезами скорбные вопли, стараясь всем этим оградить себя и снять покров бесчувствия со своего сердца… ибо зрелище мертвых тел запечатлелось в его уме, словно писанное на стене изображение»
[99]. Вскоре чувства его изменились так, что все окружающие вещи стали казаться «поистине мертвыми». Смерть чувств, понимаемая через посредство вполне конкретного представления об индивидуальной смерти, — это подход, который — каковы бы ни были его основания — выделяется на фоне современной ему агиографии. Как выделялось и пуританство еретиков–богомилов, наследников древней традиции радикального отрицания плоти и отказа от института Церкви, а также и не менее давней традиции недоверия и подозрительности по отношению к ним самим, вменявшей им в вину всевозможные мерзости и злодейства. Секта появилась в X веке в Болгарии однако именно в XI веке она начинает действовать на византийской сцене как вполне сформировавшаяся грозная сила. Как и Симеона, богомилов заботит прежде всего будущее; до некоторой степени они принимают и настоящее — во всяком случае, если сравнить его с прошлым. Значимость и единство движения богомилов таковы, что нет смысла дробить его по ходу изложения на отдельные сюжеты: читатель еще встретится с ними в заключительной части текста. Давайте посмотрим, как описывает их Анна Комнина в тот момент, когда они проявили себя в полную силу в годы правления ее отца Алексея I: «… племя богомилов весьма искусно умеет облачаться в личину добродетели. Человека со светской прической не увидеть среди богомилов: зло скрывается под плащом и клобуком. Вид у богомила хмурый, лицо закрыто до носа, ходит он с поникшей головой и что–то нашептывает себе под нос»
[100]. Аскетизм мирян? «Но сердцем он — бешеный волк», — заключает принцесса.
Воображаемое
Византийское «я» традиционно проявляет особый интерес к сновидениям. Они занимают огромное место в повседневной жизни, поскольку считаются своего рода посланиями, полученными во время сна и предупреждающими о грядущих событиях. Так, встревоженный Роман I пишет Феодору Дафнопату письмо с рассказом о том, что предыдущей ночью увидел себя во сне находящимся в храме: сначала храм был полон света, роскоши и всяческих сокровищ, затем все вокруг потемнело, возникло ощущение, что своды в любой момент готовы обрушиться ему на голову, а пространство наполнилось убитыми зверями и черными эфиопами с окровавленными речами в руках. Секретарь отвечает на это поучительной интерпретацией, исходящей из тезиса о том, что человек есть храм божий. Историография передает нам сны императоров и крупных политических деятелей, иконография — их изображения. Впрочем, общественные порядки накладывают отпечаток и на сновидения частного человека, так что последние следует толковать в зависимости от социального положения и пола интересующего нас персонажа. Что касается влияния культуры — оно едва ли у кого–то может вызвать сомнения. В соннике Ахмета ряд параграфов посвящен животным — тем самым памятник сближается с литературной традицией бестиариев, представленной в Византии античным трактатом «Physiologos» («Физиолог»): наряду с обычными существами — ослами, свиньями, воробьями, волками — в императорских снах вместе с орлом и львом легко может появиться дракон, тогда как верблюд и слон открывают каталог животных экзотических. Спящий человек у Ахмета может увидеть также и персонажей религиозного предания: пророка Илию, Деву Марию, Христа и многих других. Сегодня мы по–прежнему пытаемся понять логику снов, поскольку каждый из нас обладает соответствующим опытом, но мы больше не понимаем видений, которые в ту эпоху считались нормальной и практически обыденной формой присутствия в жизни человека целой категории существ — на определенных условиях. Для византийца видения относились к сфере не воображения, но религиозного опыта, в связи с которым мы и будем их рассматривать. Иными словами, для читателей Ахмета не было разницы между появлением во сне живого существа и, например Христа, поскольку сон воссоздавал для спящего как в том, так и в другом случае специфическую форму потустороннего присутствия, перед лицом которой он находился как бы в Состоянии бодрствования. Таким образом, граница воображаемого, вне зависимости от того, вызывало оно в человеке испуг или восторг, в те времена проходила вовсе не там, где мы привыкли ее проводить сегодня.
В любом случае, те истории, которые люди рассказывают другим — или самим себе, — суть материи сугубо воображаемые. И здесь мы в очередной раз возвращаемся к проблеме личного чтения, а также к границе, разделяющей сферы приватного и публичного. Однако сейчас речь пойдет не о чтении, которое было в той или иной степени нужно для придворных и священнослужителей и связано с тем общественным — или, точнее сказать, политическим — подъемом классической культуры, о котором мы упоминали в самом начале раздела, но о книгах, которые читал на досуге частный человек, о его литературных вкусах и предпочтениях. Читательская программа человека, который держит руку на пульсе событий, приведена в «Жизнеописании Василия I», составленном его внуком Константином VII: это исторические рассказы, политические советы, моральные наставления, патристические и духовные сочинения, а также повествования о нравах, судьбах и деяниях полководцев и императоров — и жития святых.
Те же тематические разделы можно обнаружить и в библиотеке Евстафия Воилы, завещание которого, датированное 1059 годом, мы уже цитировали. Наряду с экземплярами Священного Писания он упоминает тома историографических и агиографических сочинений. В то же время у него были и «Ключ к сновидениям», и «Роман об Александре». Судя по всему, его книжное собрание представляет собой прекрасный пример частной аристократической библиотеки. Программа чтения Кекавмена отчасти сравнима с вышеназванными, из чего можно сделать вывод о том, что приватное чтение не было сугубо развлекательным. Если выразиться точнее, то мы полагаем, что внутри самого круга чтения частного человека существовала своя демаркационная линия, разделявшая сочиняя религиозного и светского характера. Однако показательно и то, насколько нам в действительности сложно эту границу зафиксировать. Не пытаясь воссоздать полную картину разнообразия литературы этого времени, приведем здесь лишь два примера, которые эти наши трудности продемонстрируют: роман «Варлаам и Иоасаф» и, конечно же, «Роман об Александре».
В «Варлааме и Иоасафе» небезынтересные сюжетные перипетии разворачиваются в «Индии», далекой благодатной стране, в которую византийцам было приятно переноситься в своем воображении. Роман повествует об успешной христианизаторской миссии и о монашеском призвании, которую юному Иоасафу — сыну местного царя, который затем и сам стал царем — внушил монах Варлаам, пришедший из пустыни Сенаар под видом торговца. Давно сложилось мнение, что, по сути дела, фабула романа восходит к преданиям о Будде: сюжеты многих греко–римских, а позднее византийских произведений часто заимствовались из неисчерпаемой сокровищницы восточного воображаемого. Однако для нас это не имеет значения, поскольку тема царя–монаха была весьма актуальна и в Византии X столетия. Сочинение традиционно приписывается Иоанну Дамаскину, греческому Отцу Церкви VIII века, но на самом деле вполне может относиться и к X веку, в обеих своих версиях, как греческой, так и грузинской. Но для целей нашего исследования это, опять–таки, не столь важно. Гораздо важнее отметить то обстоятельство, что византийские произведения всегда указывают на жанр, к которому они принадлежат, и что подзаголовок романа «История [historia], полезная для Души» позволяет отнести его к повествованиям о живущих в пустыне отшельниках, поучительным и полным чудес, которые пользовались особой любовью читателей на последнем рубеже античной эпохи и которые, судя по сохранившимся рукописям, оставались популярными и в более поздние времена. Сегодня, как мы видим, достаточно сложно понять составляющие элементы того удовольствия, которое византийцы получали от чтения, — в данном случае его могло вызвать само сочетание наставлений и приключений; следует добавить, что «Варлаам и Иоасаф» довольно часто бывал иллюстрирован. «Роман об Александре» — еще более сложный и поразительный пример поскольку предания о недюжинной силе героя начиная с III и IV веков порождают многочисленные рассказы, в которых он попадает не только в Индию, откуда пишет послания своему наставнику Аристотелю, но и в подводное царство, и в мир иной, и на небеса. Таким образом, с этим персонажем связана исключительно богатая литературная традиция, продолжавшая развиваться и в Византии, и за ее пределами на протяжении всего Средневековья. Нам неизвестно в точности, которая из версий романа находилась в библиотеке Воилы. Но в любом случае, «Александр» наводит на те же мысли, что и «Варлаам и Иоасаф»: при всем отличии материала, на котором строится повествование, в нем также по–своему сочетаются неотразимое обаяние героических фигур, приключения в далеких краях и благотворное озарение христианской мудростью.
Вопрос о том, имели ли возможность наслаждаться чтением еще и женщины, остается открытым. Несомненно, им была доступна душеспасительная литература, и сам тот факт, что в этот период сравнительно большую значимость приобретает женская агиография, может стать тому подтверждением. Повествовательный спектр дидактической литературы был, как мы только что видели, гораздо шире, чем можно было бы предположить. Но в то же время девушки и женщины, по крайней мере большая их часть, были лишены доступа к классической культуре. Когда в середине XII века Георгии Торник составлял надгробную речь в честь Анны, дочери Алексея I Комнина, это было именно так. И в самом деле, он подчеркивает, что принцесса начала изучать классическую литературу (grammatike) без ведома родителей, поскольку те, как и положено, опасались того пагубного влияния на девичью невинность, которое могли оказать мифы «со множеством богов, в следовательно, без бога», являвшиеся неотъемлемой частью этой литературной традиции. Анна преодолела противодействие, однако вполне очевидно, что ее случай был исключением. Впрочем, даже она не смогла вырваться из домашнего заточения, которое было общим для ее пола уделом в приличном городском обществе. Если она изучала медицину — делать это она должна была только дома. И потому, самое большее, что она могла, — это давать советы на уровне семейного бытового и, судя по сборникам рецептов, о которых мы уже упоминали, в достаточной мере распространенного знания. Итак, как же обычно проводили время женщины из этой среды? Несколькими десятилетиями ранее императрица Зоя, со всей свойственной ее натуре страстью, предавалась изготовлению косметических снадобий: напомним, что рецепты сохранения красоты и лекарственных средств соседствовали в трактате Метродоры. Пселл добавляет также, что Зоя «терпеть не могла женских занятий», не притрагивалась к веретену и не касалась ткацкого станка. Соответственно, и не вышивала — впрочем, все дошедшие до наших дней вышивки были созданы много позже XI столетия.
Вне дома
Наше описание частной жизни до сих пор не выходило за пределы внутреннего пространства жилищ мирян и монахов, однако двери их, как мы видели, были открыты — настолько Широко, насколько хозяева были рады посетителям извне. Это согласуется с принятым нами строгим определением «частного»: на уровне, сопряженном с социальными характеристиками» на котором удерживают нас письменные источники. Последние действительно содержат очень мало свидетельств о взаимодействии людей в открытом городском пространстве в X–XI веках. Как правило, по поводу улицы они хранят модчание. В «Книге эпарха» (столичного), составленной в X веке фигурируют небольшие таверны. Во множестве эпизодов из «Жития Андрея Юродивого», обычно датируемого X веком появляются портики со спящими в них бедняками, притоны с хулиганами, однако в основе этого произведения, вероятнее всего, лежали более ранние рассказы об аскезе в городской среде. Но только в XII веке, со свойственной ему, нарастающей по ходу времени особой значимостью чисто городских способов жизни, и — параллельно — с появлением в литературе вкуса к не лишенному прециозности реализму, мы получим возможность узнать об этом больше.
С другой стороны, в подавляющем большинстве случаев наши источники — это источники именно городские, причем не только по месту создания, но и по характеру ценностей, напрямую унаследованных от Классической Античности, — и потому едва ли стоит ожидать, что в них много внимания будет уделено частной жизни на лоне природы. Отсутствие комфорта и дикость провинциальной деревни, грубые нравы мужланов, ее населяющих, стали общим местом в переписке изгнанников — образованных горожан, сосланных в отдаленные епархии, в частности, Феофилакта, занимавшего архиепископскую кафедру в Охриде с 1090 года до самой своей смерти в 1108 году. Примерно в то же самое время вышедшего в отставку Кекавмена интересует не природа как таковая, но эффективная эксплуатация своего поместья, в чем также прослеживается связь с античной традицией. Только охотник и аскет имеют непосредственную связь с природной средой, и в этом контексте нелюдимость и необразованность приобретают позитивное значение. Однако охота несет в себе двойной смысл, представляя собой практику одновременно частную и публичную. Или, точнее сказать, вне зависимости от того, была ли она частной или публичной, главный смысл ее заключается в героизации охотника, одержавшего победу. Этим объясняется как разработка сложного церемониала императорской охоты, так и заранее заданная ценность несчастных случаев, которые во время этого действа могут произойти, а также ритуал перехода, который находит свое отражение в сцене первой охоты юного Дигениса. Здесь ничего нового нет. Между тем в этих текстах все еще трепещет жизнь. Вот стареющий Василий I, охваченный азартом преследования крупного оленя, далеко оторвался от своей свиты, и тут олень бросился на императора, поддел рогом за пояс, так что тот не смог освободиться, и потащил. Вот подросток Дигенис, умоляющий отца позволить ему, наконец, пройти испытание, да так настойчиво, что наутро оба они отправляются на охоту в сопровождении дяди Дигениса по материнской линии и отряда «молодых спутников» (agouroi).
По поводу аскезы можно привести похожие наблюдения. С тех пор как в IV веке была сформирована модель христианской святости, «пустыня» (erêmos) стала тем местом, где эту святость можно было обрести: посредством умерщвления плоти, отказа от цивилизации и борьбы с демонами. Таким образом, в означенный период времени святые — за исключением некоторых маргиналов, если не сказать закоренелых еретиков, — обитали далеко за пределами города. В V и VI веках в большинстве житийных текстов, герои которых были основателями монастырей, можно четко выделить два повествовательных плана: описание первоначального, приобретаемого в уединении, духовного опыта святого — и хронику монастыря, им прославленного. Картина изменилась в IX–X веках. Старая добрая модель духовной брани на лоне дикой природы вытесняется культивированием монастырских добродетелей, первейшей из которых становится послушание. Тем не менее модель продолжает существовать — как в нарративе, так и на практике. Так, например, Павел, сын командующего эскадрой и основатель крупного монастыря на горе Латрос недалеко от Милета, сначала удалился в пещеру (вместе с одним–единственным спутником и «другом» (philos), который впоследствии покинул его), где питался желудями, стоически переносил нападения демонов и «одиночество» (monôsis); пещера эта, однако, находилась в пределах досягаемости монастыря с полуобщежительным уставом (lavra). Вся его история — вплоть до смерти в 955 году — это череда уходов и возвращений, причем раз от раза он уходил все дальше и дальше. В действительности официальное монашество того времени относилось к жизни в полном уединении со все нараставшей подозрительностью и неприязнью — из–за свободы, которую та предоставляла личности. Так, Афанасий, основавший в 963 году знаменитую афонскую Лавру, приводит к общей дисциплине приехавшею из Калабрии отшельника Никифора Нагого. Сыграло ли здесь свою роль происхождение последнего? Во всяком случае, именно на этой далекой западной окраине Византии были созданы самые выразительные описания красоты и привлекательности, которую люди того времени находили в дикой природе. В этом отношении шедевром можно считать «Житие Нила Россанского», умершего в 1004 году. Структура этого нарратива об аскете напоминает житие Павла Латрийского: текст повествует о долгом путешествии Нила от Тарентского залива к Риму, в окрестностях которого он основывает монастырь Гроттаферрата, — путь отшельника пролегает через поросшие лесом горы, подальше от морского берега, постоянного подвергавшегося нападениям арабов. Как мы видим, модель эта — исключительно мужская, несмотря на то что в IX веке появляется новая версия образа Марии Египетской, история о Феоктисте Паросской: впрочем, в данном случае назидательный акцент сделан прежде всего на стареющем в условиях дикой природы женском теле как таковом.
ЧАСТНАЯ ВЕРА
Религиозная вера
Человеческий мир мыслился византийцами как часть мира куда более широкого, представление о котором было выработано предыдущими столетиями. Особое место в нем занимали святые и грешники. Общество живых, в свою очередь, постоянно ощущало присутствие персонажей, населявших священные сюжеты, так что и эта область была разделена на сферы частного и публичного, не теряя тем не менее своего фундаментального единства. Публичный культ, с императором и патриархом во главе, был нацелен на обретение небесного покровительства, адресованного государству и его защитникам. Поэтому Лев VI самолично произносит проповедь в соборе Святой Софии или возглавляет процессию столичных жителей, устремившихся в порт встречать мощи святого Лазаря — под звуки гимна, сочиненного императором. Литургическая роль последнего в самых разных обстоятельствах и заступничество, испрашиваемое властью у монахов, принадлежат к сфере публичного. Сюда же можно отнести и некоторые проявления религиозности: вся империя публично почитает Христа как Вседержителя, Деву Марию как покровительницу защитников отечества, святого Михаила как воина и проводника душ в мир иной. Святой Дмитрий покровительствовал Фессалоникам, второму по величине городу Империи. Семья Василия I исповедовала культ пророка Илии, так как выраженный солярный характер этого культа прекрасно согласовывался с традиционной символикой императорской власти. Кроме того, публичным — в несколько ином смысле слова — было почитание захоронений разных святых, а также почитание икон. Наконец, публичными были все многовековые традиции, начиная от привычки составлять гороскоп при рождении императорских детей и вплоть до карнавалов проходивших под знаком Диониса, которые Церковь постоянно запрещала, а городская толпа продолжала практиковать: мужчины и женщины в масках вместе кружились по улицам в непристойных танцах и смеялись: серьезное прегрешение, поскольку античный Дионис был низведен до ранга беса, а именно бесы получали удовольствие от смеха.
Все эти элементы можно найти и в сфере частного. Мы уже упоминали о местах, предназначенных для отправления семейных ритуалов, и сами эти ритуалы, в связи с анализом внутреннего пространства жилого дома. Некоторые описи имущества, прилагавшиеся к дарственным или к завещаниям, подтверждают, что частные лица владели литургическими предметами, священными книгами и иконами. Мы можем предположить, что некоторые знакомые нам книги и предметы культа служили для частного пользования. В отношении икон и разного рода драгоценных реликвариев, нательных крестов и медальонов с изображениями святых в этом можно быть уверенным практически на сто процентов. Икона играла в персональной религиозности византийца такую же важную роль, как и в религиозности публичной. Почитание иконописных образов, создававшихся по строгим канонам и в то же время бесконечно воспроизводивших сам этот канон, обосновывалось догматом о воплощении и представлениями о харизме, дарованной святым. Христианская трансцендентность, видения, иконы, физическое присутствие живых святых формируют систему средств сообщения, ясно разработанную в агиографии. Начиная с VII века в религиозных текстах начинают фигурировать иконы, оказывающие воздействие на людские судьбы и активно вмешивающиеся в человеческие дела — к примеру, в заключение договора. Таким образом, верующий поддерживал личный, повседневный, близкий контакт с изображением, находившимся у него перед глазами, в его доме. Пселл рассказывает, как императрица Зоя разговаривала со своей иконой Христа. В сфере частной признанием пользовались те же культы, что и в сфере публичной, о которых мы уже упоминали выше и среди которых важное место занимал культ Девы Марии. Жития святых приписывают ей способность возвещать о рождении долгожданных детей, столичные женщины по ночам возносят ей молитвы во Влахернской церкви. Тем не менее даже и в частной жизни, как мы видели, она не является покровительницей исключительно женского и материнского начал. Личная религиозность, будь то светская или монашеская, распределялась между святыми со свободой, которая имела, однако, свои границы. Официальное упорядочение в X веке традиционного набора житийных текстов, а также иконографических канонов, по которым должны были работать иконописцы (чаще всего — монахи), направляет религиозность в нужное русло.
Новые культы могли рождаться чуть ли не каждый день. Чудеса, совершаемые живым человеком, сразу привлекают к нему почитателей, но собственно культ возникает только после его смерти. Жития святых, по определению, иллюстрируют культы, уже получившие статус публичных, то есть одновременно коллективные и разрешенные. Контроль со стороны частей проявляется на процессе по делу Симеона Нового Богослова, описанном его биографом Никитой Стифатом. Симеон учреждает культ в честь своего духовного отца, студийского монаха Симеона: назначает день праздника и велит написать икону с образом старца, а верующие собираются по его инициативе. Однако следовал при этом Симеон исключительно ниспосланному лично ему вдохновению и потому был вызван, чтобы оправдываться перед патриаршим трибуналом. Процесс над ним отражает противостояние, которое могло возникнуть в первой половине XI веке между церковной властью и требованием личной духовности.
Демоны и примитивное мышление
К сфере частных верований относятся также представления о постоянном существовании рядом с человеком демонов — о представлении более сложном и в то же время более домашнем, чем те, которые доминировали на уличных праздниках, о которых мы упоминали выше. Ибо демоны (daimones) обитают повсюду: особенно много их в домах, в пустынных местах, на руинах и в водоемах. Жития святых IX и X веков больше не отводят им той роли, одновременно крайне значимой и весьма неопределенной, которая принадлежала им в рассказах об аскетах и чудесах периода Поздней Античности. Напротив, их воинство приобрело, так сказать, вполне конкретный облик, который указывает на формирование уже вполне современной греческой веры. Теперь эти существа зачастую имеют свои имена, «прописку» и свою «узкую специализацию» и, так же как и ангелы, обзаводятся своеобразной телесностью. В Византии не было человека, который бы в них не верил, к какому бы социальному слою он при этом не принадлежал. Доказательством тому служат амулеты в виде кулонов в золотой оправе, которые носили женщины X века, и, конечно же, то место, которое демоны занимали в сочинениях Михаила Пселла и его современников в XI столетии, то есть после великого возрождения античной культура в IX–X веках, уже в качестве культуры ученой. Действительно, в эпоху Пселла ученость гуманитарного типа далека от того, чтобы подвергать каким бы то ни было рационалистическим коррективам общепринятые верования: наоборот, она углубляет и обогащает их своими исследованиями, цитатами и интерпретациями классики. В это время, как, несомненно, и ранее, верования эти были отмечены славянским влиянием, чем, вероятно, можно объяснить особое значение водяных, а также некоторых способов гадания. Однако они вплоть до XX века сохранят практически неизменными некоторых античных персонажей, вроде Гиллы, которая нападает на женщин во время родов. Как мы видели, древние божества, к XI столетию давно уже превращенные в демонов, продолжают играть важную роль в магических практиках частных лиц и вызывают некий беспокойный интерес среди ученых. Но в данном случае мы имеем дело скорее с примитивным мышлением, нежели с научным мышлением того времени: овладение его навыками имеет целью получение конкретной практической выгоды. В этом смысле астрология, магия и алхимия составляют часть интеллектуальной перспективы — как для Пселла, так и для его современника, патриарха Михаила Керулария, против которого, после его низложения в 1058 году, он сочиняет удивляющую своей двусмысленностью обвинительную речь для выступления в синоде. В свою очередь, молитвенники Х-ХII веков содержат фрагменты, выказывающие явственную заботу авторов о практической действенности этих текстов. Кекавмен осуждает «необразованных людей», которые обращаются к прорицателям, чтобы узнать будущее, хотя это совершенно неподобающее занятие.
Иной религиозный опыт
На рубеже X–XI веков Симеон Новый Богослов и секта богомилов вносят в отношения, установившиеся между церковью и верующими, разлад — не вовсе беспрецедентный, но все–таки по–своему уникальный. Несмотря на все очевидные различия, обе предложенные стратегии поведения тем не менее обнаруживают поразительное историческое сходство. Выше мы уже обозначили, пусть предельно кратко, основные представления Симеона и теперь хотели бы остановиться на тех принципах, которые исповедовали богомилы и которые представляют для нас интерес с точки зрения целей нашего исследования. «Беседа» болгарского пресвитера Козьмы, появившаяся в 972 году или чуть позже, направлена против тех, кого можно было встретить тогда в этой стране, глубоко пронизанной всеми течениями современной византийской культуры. В самой Византии они вызвали появление в XI веке двух антиеретических трактатов, созданных православными монахами столичного монастыря Богородицы Перивлепты: первый был написан Евфимием Акмонейским около 1050 года, второй — Евфимием Зигабеном в годы правления Алексея I Комнина (1081–1118).
Богомилы уничтожают все различия, являющиеся основой самой структуры христианской Церкви: храмы, по их представлениям, — просто «общие дома»; крещение — всего–то навсего вода и масло; евхаристия — хлеб и вино. Они не признают ни духовенства, ни святости, не поклоняются кресту, не допускают никаких молитв, кроме «Отче наш», не признают брака и побуждают супругов к разводам. Они считают, что крещение Христа совершилось не водой, а Святым Духом, и стремятся крестить таким же образом своих неофитов: после исповедания грехов им на голову возлагают Евангелие, а все присутствующие, мужчины и женщины, кладут на него руки. Кроме того, они практикуют взаимную и смешанную исповедь. Наконец, каждого из них, в ком живет Святой Дух, следует именовать «Богородицей» (Theotokos), как обычно называют Деву Марию, — поскольку, по мнению сектантов, все они носят в себе Бога—Слово. Мы легко могли бы доказать, что все эти представления выстраиваются вокруг диссидентского отрицания догмата о Воплощении — фундаментального принципа, лежащего в основе христианской социальной структуры. Как следствие, секта живет религиозной жизнью, которую — в рамках византийского общества — можно считать частной. И это еще не все.
На самом деле богомилы участвуют в общей религиозной жизни, причем в полной мере, поскольку каждый из них внутренне отталкивается от ее смысла. Так, их учителя объявляют, что знание Священного Писания и трудов Отцов Церкви идет от дьявола. Их не смущает православное крещение, потому как они считают его недействительным; некоторые из них не гнушаются носить монашескую одежду. На церковных богослужениях они присутствуют с одной лишь целью — спрятаться там, где их не будут искать. Они уверены, что термином «грешник» следует именовать в первую очередь православных, что Вифлеем, место рождения Бога—Слова, символизирует их собственную «истинную» церковь, а Иерусалим все еще находится под властью Закона Моисеева, официального византийского вероисповедания. Их диссидентство не ново, поскольку в некотором смысле развивает тенденции, которые зародились в восточном христианстве задолго до появления в X веке богомилов и которым до них следовали, в частности, павликиане. Однако в XI столетии теории богомилов, очевидно, приобретают такую убедительную мощь и социальное их влияние достигает таких беспрецедентных масштабов, что у нас возникает соблазн связать все происходящее с нарастанием в обществе процессов урбанизации. И действительно, Евфимий Акмонейский упоминает города — во Фракии и в окрестностях Смирны — как территорию успешной миссионерской Деятельности Иоанна Чуриллы, по словам Евфимия, хорошо известного «благодаря тому, что он
оставил свою жену после того, как сделал ее ложной монахиней, чтобы самому стать ложным монахом». Затем гонения, начатые Алексеем I Комнином, выявляют истинное положение, которое секта занимает в столице. В результате скрытность и двоемыслие еретиков начинают сказываться на образе их действий, который, судя по всему, становится еще более продуманным, чем прежде. А источники, естественно, становятся еще более красноречивыми на этот счет. Однако даже и это представляется фактом уже новой, наступающей эпохи, поскольку богомилы, как легко можно убедиться, осуществляют приватизацию и интериоризацию религиозного опыта — точно так же, повторим, как это делал Симеон Новый Богослов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, на пороге XII столетия мы и остановимся. В своем исследовании мы стремились доказать не сам факт наличия частной жизни в Византии X–XI веков, поскольку это очевидность, не требующая доказательств. Все без исключения общества, существующие ныне и известные из истории, обладающие мало–мальски сложной структурой, содержат в себе сферу частного. Однако эта последняя, во–первых, в каждом конкретном случае по–разному отграничивается и структурируется переменными величинами власти, религии, обитаемого пространства и семьи, во–вторых. Она прежде всего определяется аутентичным ей культурным дискурсом. По письменным источникам, созданным властями и социальными элитами, — а только такие источники до нас и дошли, — мы увидели, что частная жизнь появилась в христианском Восточном Средиземноморье приблизительно на рубеже второго тысячелетия: в Византии, в середине эпохи, которую мы называем Средневековьем — термином, несомненно, не слишком оправданным по форме, но зато очень точным по своему историческому содержанию. Так или иначе, мы констатировали, что X век от века XI отделяло явное изменение общей тональности. Затянутый в корсет ориентированных на классику вкусов X века, личный опыт, казалось, освободился и раскрепостился в ходе становления классицизма XI века — в обществе, которое перестраивалось на более демократичных основаниях. Изменение дискурса, изменение сознания — мы не смогли бы отличить одно от другого. XII век продолжит начатое движение дальше — и в более сложных формах.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Реалии
Blanck Н. Einfuhrung in das Privatleben der Griechen und Romer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
Bliimner H. Die romischen Privataltertiimer. Miinchen, 1911 (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, IV, 2, 2).
Bowman A., Champlin E., Lintott A. (eds). The Cambridge Ancient History. Vol. 10: The Augustan Empire, 43 BC-AD 69. 2 ed. Cambridge, 1996.
Cagnat R., Chapot V. Manuel d’archeologie romaine: 2 vol. Paris, 1916.
Dill S. Roman Society from Nero to Marcus Aurelius. N. Y., 1904 (переиздание: N. Y.: Meridian Books, 1957).
Friedlander L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine: in 4 Bd. 9 Aufl. hrsg. v. G. Wissowa. Leipzig, 1920.
Gage J. Les Classes sociales dans TEmpire romain. 2e ed. Paris: Payot, 1971.
Garnsey P., Sailer R. The Roman Empire: economy, society and culture. London, 1987.
Giardina A. (ed.). L’Homme romain. Paris: Seuil, 1993. Lepelley C. (ed.). Rome et Tlntegration de TEmpire: 2 vol. Paris: Presses Universitaires de France, 1990–1998.
MacMullen R. Roman Social Relations, 50 B. C. to A. D. 284. Yale University Press, 1974.
MacMullen R. Les Rapports entre les classes sociales dans l’Empire romain (50 av. J. — C. — 284 apr. J. — C). Paris: Seuil, 1986.
Marquardt J. Das Privatleben der Romer: 2 vols in 1.2 Aufl. bes v. A. Mau. Leipzig, 1886 (Handbuch der romischen Altertumer, VII)
Paoli U. E. Vita romana, La Vie quotidienne dans la Rome antique / ed. fr. par J. Rebertat. Paris: Desclee de Brouwer, 1955.
Schneider H. (Hrsg.). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der romischen Kaiserzeit. Darmstadt, 1981 (Wege der Forschung, Bd. 552).
Wacher J. (ed.). The Roman World: in 2 vols. London, 1986.
Право и религия
Crook J. Law and Life of Rome. Cornell University Press: Thames and Hudson, 1967.
De Marchi A. II Culto privato di Roma antica: 2 vol. Milano, 1896–1903.
Graf E La Magie dans lantiquite greco–romaine. Paris, 1994.
Jacques F. Le Privilege de liberte: politique imperiale et autonomie municipale. Rome, 1984 (Collection de l'Eсоlе francaise de Rome, 76).
Kaser M. Das romische Privatrecht. Bd. I: Das altromische, das vorklassische und klassische Recht. 2 Aufl. Miinchen: Beck, 1971 (Handbuch der Altertumswissenschaft, III, 3, 1).
Kaser M. Das romische Zivilprocessrecht. Munchen: Beck, 1966 (Handbuch der Altertumswissenschaft, III, 4).
MacMullen R. Paganism in the Roman Empire. Yale University Press, 1981.
Nilsson M. Geschichte der griechischen Religion. Bd. II: Die hellenistische und romische Zeit. 2 Aufl. Munchen: Beck, 1961 (Handbuch der Altertumswissenschaft, Bd. 2).
Nock A. D. Essays on Religion and the Ancient World: in 2 vols. Oxford: Clarendon Press, 1972.
Ulansey D. The Origins of Mithraic Mysteries. Oxford, 1989.
Versnel H. S. (ed.). Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World. Leiden: Brill, 1981.
Wissowa G. Religion und Kultus der Romer. 2 Aufl. Munchen: ®eck, 1971 (Handbuch der Altertumswissenschaft, IV, 5).
Словари, сборники статей
Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, herausgegeben von H. Temporini und W. Haase. Многотомное издание, выпускавшееся издательством W. De Gruyter в Берлине и Нью—Йорке
Daremberg, Saglio et Pottier. Dictionnaire des Antiquity grecque et romaine. Paris, 1877–1918.
Pauly—Wissowa. Realencyclopadie der klassischen Altertums-wissenschaft. Stuttgart, 1893–1981.
Некоторые недавние работы
Alfoldy G. Die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft des romischen Kaiserreiches: Erwartungen und Wertmassstabe. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, 1980. VIII.
Ameling W. Herodes Atticus: in 2 Bd. Hildesheim, 1983.
Andre J. L'Alimentation et la Cuisine a Rome. Paris: Les Belles Lettres, 1981.
Andre J. — M. Les Loisirs en Grece et a Rome. Paris: Presses Universitaires de France, 1984.
Andreau J. Les Affaires de Monsieur Jucundus. Ecole francaise de Rome, 1974.
Balland A. Fouilles de Xanthos, VII, Inscriptions depoque imperiale du Letoon. Paris: E. de Boccard, 1981 (об эвергетизме).
Bleicken J. Staatliche Ordnung und Freiheit in der romischen Republik. Kallmunz: Lassleben, 1972 (Frankfurter Althistorische Studien, Heft 6).
Boulvert G., Morabito M. Le droit de lesclavage sous le Haut Empire // Aufstieg und Niedergang, II. Vol. XIV. P. 98.
Brodner E. Die romischen Thermen und das antike Badewesen. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1983.
Brodner E. Wohnen in der Antike. Darmstadt, 1989.
Brunt Р. А. Aspects of the Social Thought of Dio Chrysostom and Stoics // Proceedings of the Cambridge Philological Society. 1973. P. 9.
Brunt P. A. Charges of provincial maladministration under the eariy principle // Historia. 1961. Vol. X. Pp. 189–227.
Brunt P. A. Social Conflicts in the Roman Republic. London: Chatto and Windus, 1971.
Brunt P. A. Stoicism and the Principate // Papers of the British School at Rome. 1975. Vol. XLIII. P. 7.
Buti I. Studi sulla capacita patrimoniale dei „servi” / Pubblicazioni della Facolta di giurisprudenza delTuniversita di Camerino. Napoli: Jovene, 1976.
Canas B. A. La femme devant la justice provinciate de l’Egypte romaine // Revue historique de droit. 1984. P. 358.
Christes J. Bildung und Gesellschaft: die Einschatzung der Bildung und ihrer Vermittler in der griechisch–romischen Antike. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1975.
Cockle H. Pottery manufacture in Roman Egypt // Journal of Roman Studies. 1981. Vol. LXXI. P. 87.
Corbier M. Les families clarissimes dAfrique proconsulate // TITULI, V. Atti del Colloquio Internazionale su Epigrafia e Ordine senatorio. 1982. Vol. 2. Pp. 685–754.
Corbier M. Ideologic et pratique de Fheritage (Ier siecle av. J. — C. He siecle apr. J. — C.) // Index. 1984 (Actes du colloque 1983 du GIREA).
Cotton H. Documentary letters of recommendation in Latin from the Roman Empire // Beitrage zur klassischen Philologie. Hain, Konigstein, 1981.
Crawford M. Money and exchange in the Roman world // Journal of Roman studies. LX. 1970. P. 40.
D'Arms J. Commerce and Social Standing in Ancient Rome. Harvard, 1981.
David J. — M. Les orateurs des municipes a Rome: integration, licences et snobismes // Les Bourgeoisies municipals italiennes / Centre Jean Berard. Paris; Naples, 1983.
Deniaux Е. Clientele et pouvoir a lepoque de Ciceron. Rome 1993 (Collection de L'Eсоlе franchise de Rome, 182).
De Robertis F. Lavoro e Lavoratori nel mondo romano. Bari-Laterza, 1963.
Dunbabin K. The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and Patronage. Oxford, 1978.
Etienne R. La Vie quotidienne a Pompei. Paris: Hachette 1966.
Eyben E. Family planning in graeco–roman antiquity // Ancient Society. XI–XII. 1980–1981. P. 5.
Fabre G. Libertus, recherches sur les rapports patron–afFranchi a la fin de la Republique romaine. Rome, 1981 (Collection de L'Eсоlе francaise de Rome, 50).
Finley M. I. L’ficonomie antique: trad. fr. par Higgs. Paris: Ed. de Minuit, 1973.
Finley M. I. Esclavage antique et Ideologic moderne: trad. fr. par Fourgous. Paris: fid. de Minuit, 1979.
Flory M. B. Family and „familia”, a study of social relations in slavery: Ph. D. dissertation. Yale, 1975.
Foucault M. Histoire de la sexualite. Paris: Gallimard, 1984. T. II: LUsage des plaisirs; T. Ill: Le Souci de soi.
Frier B. W. Landlords and Tenants in Imperial Rome. Princeton University Press, 1980.
Gaazda E. (ed.). Roman Art in the private sphere. Ann Arbor, 1991.
Gabba E. Ricchezza e classe diligente romana // Rivista storica italiana. XCIII. 1981. P. 541.
Galbraith J. K. Theorie de la pauvrete de masse: trad. fr. Paris: Gallimard, 1980.
Gardner J. Family and „familia” in Roman law and Ше Oxford, 1980.
Gardner J. Women in Roman law and society. London, 1986. Garnsey P. Independent freedmen and the economy of Roman Italy under the principate // Klio. LXIII. 1981. P. 359.
Garnsey Р. Ideas of slavery from Aristotle to Augustine. Cambridge, 1996.
Garnsey P. (ed.). Non–slave labour in the graeco–roman world / Cambridge Philological Society. Supplement VI. 1980. Goldschmidt V. La Doctrine d’Epicure et le Droit. Paris; Vrin, 1977.
Goldschmidt V. Le Systeme stoi'cien et lTdee de temps. Paris; Vrin, 1953.
Gombrich E. L’ficologie des images: trad. fr. Paris: Flammarion, 1983. P. 291, cf. p. 94: Laction et son expression dans lart occidental.
Gourevitch D. Le Triangle hippocratique dans le monde greco–romain; le malade, sa maladie et son medecin. Rome: Eсоlе francaise de Rome, 1984.
Hadot I. Seneca und die griechisch–romische Tradition der Seelenleitung. Berlin: W. De Gruyter, 1969.
Hadot I. Tradition sto’icienne et idees politiques au temps des Gracques // Revue des etudes latines. 1970. Vol. XLVIII. Pp. 133–179.
Hadot P. Exercices spirituels et Philosophic antique. Paris: Etudes augustiniennes, 1981.
Hands A. R. Charities and Social Aid in Greece and Rome. London: Thames and Hudson, 1968.
Helen T. Organization of Roman Brick Production in the First and Second Centuries A. D. Helsinki, 1975.
Hengstl J. Private Arbeitsverhaltnisse freier Personen in den hellenistischen Papyri bis Diokletian. Bonn: Habelt, 1972.
Henig M. (ed.). A Handbook of Roman Art. Phaidon, 1983. Jerphagnon L. Vivre et Philosopher sous les Cesars. Toulouse: privat, 1980.
Kampen N. Image and Status, Roman Working Women in Ostia. Berlin: Mann Verlag, 1981.
Kelly J. M. Roman Litigation. Oxford University Press, 1966. Kleiner D. Roman Group Portraiture, the Funerary Reliefs оf the Late Republic and Early Empire. London; N. Y.: Garland,
Koch G., Sichtermann H. Romische Sarkophage. Miinchen- Beck, 1982 (Handbuch der Archaologie).
Krenkel W. Der Abortus in der Antike // Wissenschaftliche Zeitschrift der Universitat Rostock, XX. Rostock, 1971. R 443.
La Rocca E., de Vos M. A., Coarelli F. Guida archeologica di Pompei. Milano: Mondadori, 1976.
Laubscher H. P. Fischer und Landleute, Studien zur hellenistischen Genreplastik. Mainz: von Zabern, 1982.
Leveau Ph. Caesarea de Mauretanie, une ville romaine et ses campagnes. Rome, 1984 (Collection de L'Eсоlе franqaise de Rome, 70).
Lewis N. Life in Egypt under Roman Rule. Oxford, 1983.
Lilja S. Homosexuality in Republican and Augustan Rome // Commentationes humanarum litterarum, LXXIV. Societas scien- tiarum Fennica, 1982.
Lintott A. W. Violence in Republican Rome. Oxford University Press, 1968.
MacMullen R. The epigraphic habit in the Roman empire // American Journal of Philology. CIII. 1982. Pp. 233–246.
Mallwitz A. Olympia und seine Bauten. Miinchen: Prestel, 1972.
Marrou H. — I. Histoire de leducation dans lAntiquite. 6e ed. augmentee. Paris: Seuil, 1965. Другой — не функциональный — методологический подход к изучению истории образования, приводящий к совершенно иным выводам, используется в книге: Nilsson М. Die hellenistische Schule. Miinchen, 1955.
Marrou H. — I. „Mousikos Aner”, etude sur les scenes de la vie intellectuelle figurant sur les monuments funeraires romains. Reimpr. Rome: LErma, 1965.
Martin R. La vie sexuelle des esclaves dapres les „Dialogue5 rustiques” de Varron // Varron, grammaire antique et stylistique latine / Ed. Jean Collart. Paris: Les Belles Lettres, 1978. Pp. 113- 126/
Martin R. Pline le Jeune et les problemes economiques de son temps // Revue des etudes anciennes. 1967. Vol. LXlX Pp. 62–97.
Mocsy A. Die Unkenntnis des Lebensalter im romischen Reich // Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. 1966. VoL XIV. Pp. 387–421.
Moreau Ph. Structures de parente et d alliance d apres le Pro Cluentio // Les Bourgeoisies municipals italiennes. Paris; Naples: Centre Jean Berard, 1983. Pp. 99–123.
Nardi E. Procurato aborto nel mondo greco–romano. Milano: Giuffre, 1971.
Neraudau J. — R. fitre enfant a Rome. Paris: Les Belles Lettres, 1984.
Norr D. Zur sozialen und rechtlichen Bewertung der freien Arbeit in Rom // Zeitschrift der Savigny—Stiftung. Romanistische Abteilung. 1965. Vol. LXXXII. P. 67.
Picard G. — Ch. La Civilisation de lAfrique romaine. Paris: Plon, 1959.
Pleket H. W. Collegium juvenum Nemesiorum, a note on ancient youth organization // Mnemosyne. 1969. Vol. 22(3). Pp. 281–298.
Pleket H. W. Games, prizes, athletes and ideology: some aspects of the history of sport in the greco–roman world // Arena. 1976. Vol. I. Pp. 49–89.
Pleket H. W. Urban Elites and Business in the Greek Part of the Roman Empire // Trade in the Ancient Economy / Garnsey P> Hopkins K., Whittaker C. R. (eds). London, 1983. Pp. 131–144.
Pleket H. W. Zur Soziologie des antiken Sports // Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome. 1974. Vol. XXXVI. Pp. 57–87.
Pleket H. W., Vittinghoff F. Wirtschaft und Gesellschaft des Imperium Romanum // Handbuch der europaischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte / Fischer W., Houtte, J. van (Hrsg.). Klett- Cotta, 1990. Bd. 1.
Pohlenz M. Die Stoa, Geschichte einer geistigen Bewegung. 5 Aufl. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1978.
Pomeroy S. B. Goddesses, Whores, Wives and Slaves: women m Classical Antiquity. N. Y., 1975.
Prachner М. Die Sklaven und die Freigelassenen im arreti nischen Sigillatagewerbe. Wiesbaden: Steiner, 1980.
Quet M. — H. Remarques sur la place de la fete dans le discours des moralistes grecs et leloge des cites et des evergetes aux premiers siecles de TEmpire // La Fete, pratique et discours: d’Alexandrie hellenistique a la Mission de Besancon / Centre de recherches d’histoire ancienne. Vol. 42 / Annales litteraires de l’universite de Besancon. Vol. 262. Paris: Les Belles Lettres, 1981. Pp. 41–84.
Rabbow P. Seelenfuhrung, Methodik der Exerzitien in der Antike. Miinchen: Kosel, 1954.
Raepset—Charlier М. — Th. Ordre senatorial et divorce sous le Haut—Empire // Acta classica universitatis scientiarum Debrecenen- sis. 1981–1982. Vol. 17–18. P. 161.
Ramin J., Veyne P. Les hommes libres qui passent pour esclaves et lesclavage volontaire // Historia. 1981. Vol. 30. Pp. 472–497.
Rawson B. Family life among the lower classes at Rome in the first two centuries of the Empire // Classical Philology. 1966. Vol. 61(2). Pp. 71–83.
Rawson B. Roman concubinage and other de facto marriages // Transactions of the American philosophical Association. 1974. Vol. 104. Pp. 279–305.
Rawson B. The Family in Ancient Rome, new perspectives. London, 1986.
Rawson B., Weaver P. (ed.). The Roman Family in Italy, status, sentiment, space. Oxford, 1987.
Robert J. et L. Bulletin epigraphique // Revue des etudes grecques depuis 1938 (reunis en volumes et indexes, Paris, depuis 1971). Содержит массу фактов и интересных идей, большая часть которых относится к Греции времен Римской империи и к римскому владычеству.
Robert L. Opera minora selecta: in 4 vols. Amsterdam: Hak kert, 1974.
Robert L. Dans une maison d’Ephese, un serpent et un chiffre // Comptes–rendus des seances de TAcademie des Inscriptions et Belles- Lettres. 1982. Vol. 126(1). Pp. 126–132.
Sailer R. P. Personal patronage under the early Empire. Cambridge University Press, 1982.
Sailer R. P. Patriarchy, property and death in the Roman family. Cambridge, 1995.
San Nicolo M. Aegyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemaer und Romer. Munchen: Beck, 1972.
Schmitt—Pantel P. Le festin dans la fete de la cite hellenistique // La Fete […], op. cit. (cm.: Quet M. — H.). Pp. 85–100.
Schuller W. (ed.). Korruption im Altertum. Munchen; Oldenburg, 1982.
Syme R. Roman Papers. Oxford University Press, 1979.
Syme R. Greeks invading the Roman government // Brademas Lectures. Brookline, Mass.: Hellenic College Press, 1982.
Thomas Y. Paura dei padri e Violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto // Pellizer E., Zorzetti N. (ed.). La Paura dei padri nella societa antica e medievale. Bari: Laterza, 1983. Pp. 113–140.
Thomas Y. Remarques sur le pecule et les honores des fils de famille // Melanges d archeologie et d’histoire de L'Eсоlе franchise de Rome, Antiquite. 1982. Vol. 94. Pp. 527–580.
Thomas Y. Parricidium // Melanges d archeologie et d’histoire de L'Eсоlе franchise de Rome, Antiquite. 1981. Vol. 93. Pp. 643–715.
Toynbee J. M. C. Death and Burial in the Roman World. London: Thames and Hudson, 1971.
Turcan R. A. Mithra et le Mithriacisme. Paris: Presses Univer- sitaires de France, 1981.
Vallat J. — P. Architecture rurale en Campanie septentrionale du IVe siecle av. J. — C. Au Ier ap. J. — C. // Architecture et Societe de lArchaisme grec a la fin de la Republique Romaine. Rome: Eсоlе francaise de Rome, 1983. Pp. 247–263.
Veyne Р. L’filegie erotique romaine. Paris: Seuil, 1983.
Veyne P. Le folklore a Rome et les droits de la conscience publique sur la conduite individuelle // Latomus. 1983. Vol. 42 Pp. 3–30.
Veyne P. Suicide, Fisc, esclavage, capital et droit romain // Latomus. 1981. Vol. 40. Pp. 217–268.
Veyne P. Les saluts aux dieux et le voyage de cette vie // Revue archeologique. 1985. No. 1. Pp. 47–61.
Veyne P. Mythe et realite de lautarcie a Rome // Revue des etudes anciennes. 1979. Vol. 81. Pp. 261–280.
Ville G. La Gladiature en Occident, des origines a la mort de Domitien. Eсоlе franchise de Rome, 1981.
Weber W. Die Darstellung einer Wagenfahrt auf romischen Sarkophagdeckeln. Rome: Bretschneider, 1978.
Zanker P. Pompei: societa, immagini urbane e forme dellabi tare. Torino, 1993.
Zanker P. Die Barbaren, der Kaiser und die Arena // Sieferle R. P., Breuninger H. (Hrsg.) Kulturen der Gewalt. Frankfurt, 1996.
Zimmer G. Romische Berufsdarstellungen. Berlin: Mann, 1982.
2. ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ
Дабы читатель не питал иллюзий, поясним: за последние годы появилось множество серьезных трудов, посвященных политической, социальной и религиозной истории поздней Античности. Ряд работ касается периода Поздней Империи, однако ни в одной из них события не рассматриваются с той точки зрения, которая предложена в данном сборнике. Единственный короткий очерк ученого, ближе всего подошедшего к подобному методу обобщения материала, — это Marrou H. — I. Decadence romaine ou Antiquite tardive? Paris, 1977. Поэтому приведенная ниже библиография с неизбежностью фиксирует личный исследовательский опыт автора. Кроме того, она станет выражением признательности по отношению к книгам и статьям, которые открыли ему новые перспективы и позволили объединить документы, обычно рассеянные. В англоязычном мире важным итогом традиционного способа мышления стала «История европейской морали от Августа до Карла Великого» Уильяма Леки (Lecky W. History of European Morals from Augustus to Charlemagne. London, 1869). Во втором томе «Поздней Римской империи» А. Х.М. Джонса (Jones А. Н. М. The later Roman Empire. Oxford, 1964) на с. 873–1024 приведено множество источников, но крайне мало комментариев. Без работы Поля Вейна, о которой речь пойдет ниже, мне не хватило бы не только необходимой информации, чтобы отважиться пойти по этому новому пути, но и решимости, коей я во многом обязан его широкой эрудиции и легкости в оперировании теми сюжетами, которые специалисты редко трактуют таким образом.
О мире города: Veyne Р. Le Pain et le Cirque. Paris: Seuil, 1976, и MacMullen R. Paganism in the Roman Empire. Yale, 1981.
О воспитании и социализации в городе: особый интерес представляет работа: Marrou H. — I. Histoire de leducation dans L'Antiquite. Paris, 1948 (я цитирую ее по переизданию в сборнике Points Histoire. Paris: Seuil, 1981. 2 vol.), а также: Festugiere A. — j Antioche paienne et chretienne. Paris, 1959 (особенно c. 211–240), и статья Dionisotti A. C. From Ausonius’ Schooldays? A School–book and its Relatives // Journal of Roman Studies. 1982. Vol. 82. P. 83, которая знакомит с новым и весьма забавным документом.
О сексуальности, поведении и медицинских изображениях тела: работы Поля Вейна La famille et lamour sous le Haut-Empire romain, в Annales. 1978. Vol. 33. P. 35 и L’homosexualite a Rome // Communications. 1982. Vol. 35. P. 26, дающие новую точку отсчета для исследования этой темы. Rousselle A. Porneia: de la maitrise du corps a la privation sensorielle. Paris, 1983 исключительно интересно освещает вопросы, затронутые в этом эссе. Об устойчивости нормативных ценностей в эпиграфике см. также: Robert L. Hellenica. 1965. Vol. 13. Рр. 226–227, а равно и многие другие пассажи, посвященные этим вопросам знатоком греческого мира в эпоху Империи, которому нет равных.
О социальной дистанции: краток и убедителен MacMul- len R. Roman Social Relations. Yale, 1974.
О popularitas и моральной составляющей зрелищ: Robert L. Les Gladiateurs dans L'Orient grec. Paris, 1940: сей малопривлекательный предмет рассмотрен с безошибочной точностью. Сравнимого по качеству исследования, посвященного более позднему периоду, не существует, но можно обратиться также к: Ville G. Les jeux de gladiateurs dans L'Empire chretien // Melanges darcheologie et d’histoire. ficole franchise de Rome, 1960. P. 273.
О демократизации философских идеалов в христианских кругах: Chadwick Н. Е. The Sentences of Sextius. Cambridge, 1959, а также проникнутое глубоким гуманизмом и отмеченное не сомненной эрудицией введение и примечания: H. — I. Marrou (совместно с М. Harl) к книге Ctement d’Alexandrie: le Pedagogue. Paris: Ed. du Cerf, 1960 (Coll. „Sources chretiennes”, No. 70).
О «сердце» и «дурных наклонностях» в позднем иудаизме: Hadot J. Penchant mauvais et Volonte libre dans la Sagesse de Ben Sira. Bruxelles, 1972 — это введение к широкой теме; Moore G. F. Judaism. Harvard, 1950. Pp. 474–496 — перегруппирует раввинистические документы. Социология первой христианской общины была очень творчески исследована в работах G. Theissen, прежде всего в: Zeitschrift fur neutestamentliche Wissenschaft. 1974. Bd. 65. P. 232; Novum Testamentum. 1974. Vol. 16. Pp. 179–206, и Evangelische Theologie. 1975. Vol. 35. p. 155. Эти и другие статьи в английском переводе собраны в кн.: The Social Setting of Pauline Christianity. Philadelphie, 1982. Wayne Meeks. The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul. Yale, 1983 — представляет собой прорыв в усовершенствовании социологического метода. По поводу других столетий стоит обратиться к работе Harnack A. Altmeister: Mission und Ausbreitung des Christentums. Leipzig, 1902. Полезными могут быть также: Giilzow Н. Kallist von Rom // Zeitschrift fur neutestamentliche Wissenschaft. 1968. Bd. 58. P. 102 и Countryman L. W. The Rich Christian in the Church of the Early Empire. N. Y., 1980.
О милостыне и изменении общественной морали лучшими отправными точками являются: Veyne Р. Le Pain et le Cirque. Pp. 44–50, и примечания в: Suicide, Fisc, esclavage… 11 Latomus. 1981.
О целибате и ригоризме, проявлявшемся ранней церковью в отношении брака: Munier С. L'Eglise dans l'Empire romain. Paris, 1979. Pp. 7–16 — дает краткое и ясное изложение; Etica sessuale е Matrimonio nel cristianesimo delle origine / ed. R. Cantalamassa. Milano, 1976 — в этой книге содержится несколько прекрасных статей, прежде всего: Beatrice P. F. Continenza е matrimonio nel cristianesimo primitivo, 3; Les Actes apocryphes des Apotres: christianisme et monde paien / ed. F. Bovon. Geneve, 1981 также затрагивает вопросы, относящиеся к Данной теме.
В вопросе об истоках и причинах распространения практики отказа от сексуальности в период Поздней Античности мое мнение расходится с позицией, высказанной в небольщом но ярком исследовании: Dodds E. R. Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Cambridge, 1965.
О социальной структуре и жизни в сельской местности во времена поздней Империи: Brown Р. The Making of Late Antiquity. Harvard, 1978 (французский перевод: Genese de FAntiquite tardive. Paris: Gallimard, 1983), предлагает интерпретацию и привлекает много дополнительной литературы по данной теме, существенным дополнением к которой является работа: Lepelley С. Les Cites de l'Afrique romaine au Bas—Empire. Paris, 1979–1981.2 vol.; см. также: Krautheimer R. Three Christian Capitals: Topography and Politics. Berkeley, 1983.
О костюме: MacMullen R. Some Pictures in Ammanius Marcellinus // Art Bulletin (1964). P. 49, и Fabre G. Recherches sur lorigine des ornements vestimentaires du Bas—Empire // Karthago. 1973.16. P. 107; особенно проницательно и подробно важность перемен в этой сфере освещается в: Marrou H. — I. Decadence romaine? Рр. 15–20.
Городской этикет и мистика власти: фундаментальной остается работа: Stern Н. Le Calendrier de 354. Paris, 1953; существенные изменения языческого фольклора описаны в кн.: Meslin М. La Fete des Kalendes de janvier. Bruxelles, 1970; о продолжении существования мистики игр в христианских кругах рассказывается в работе: Salomonson J. W. Voluptatem spectandi non perdat sed mutet. Amsterdam, 1979.
Связь между дворцами potentes и идеологией их власти отражена в мозаиках, недавно изученных в кн.: Dunbabin K. M. D. The Mosaics of Roman North Africa. Oxford, 1978. Многочисленные дискуссии вызвали мозаики виллы Пьян ца Армерина на Сицилии; по этому поводу см.: Settis S. Per Finterpretazione di Piazza Armerina // Melanges darcheologie et d’histoire: Antiquite. 1975. 87. P. 873; открытие в Телларо и Патти вилл со столь же обширными по площади мозаиками многое добавило к нашим знаниям по этой проблеме; для получения более полного представления см.: La Sicilia tra Ronia e Bisanzio: Storia di Sicilia, de Lellia Cracco Ruggini. T. III. Napoli, 1982.
О городе и базилике см.: Krautheimer R. Rome: Profile of a City. Princeton, 1980, — важное топографическое и архитектурное приложение к монументальному труду Pietri С. Roma cristiana: 2 vol. Paris, 1977.
О некоторых значительных изменениях с церковной обрядностью и милостыней см.: Peter Brown. Dalla plebs romana alia plebs Dei. Aspetti delia cristianizzazione di Roma // Passatopresente. 1982. 2. P. 123, и The Cult of the Saints: its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981.
О социальных низах и новом понимании бедности и милостыни: Patlagean Е. Pauvrete economique et Pauvrete sociale a Byzance. Paris, 1977 — в книге предложена совершенно новая отправная точка в изучении позднего римского общества и христианского влияния на образ городского сообщества.
Своеобразие языческих надгробных надписей прекрасно отражено в работе: Lattimore R. Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana, 1962. Заботам об умерших в христианских общинах посвящены великолепные статьи: Fevrier Р. А.: Le culte des morts dans les communautes chretiennes durant le III siecle // Atti del IXе congresso di archeologia cristiana. T. I. Rome, 1977. P. 212, и A propos du culte funeraire: culte et sociabilite // Cahiers archeo- logiques. 1977. 26. P. 29, а также статья: Krautheimer R. Mensa, coemeterium, martyrium // Cahiers archeologiques. 1960. 11. P. 15. Эти статьи, в числе прочих, послужили основой для интерпретации, предложенной Питером Брауном в: The Cult of the Saints […], op. cit.
Значительным вкладом в изучение конкретного региона в эпоху поздней Римской империи и в начале Средневековья является статья: Young В. Paganisme, christianisme et rites faneraires merovingiens // Archeologie medievale. 1977. 7. P. 5; другому региону посвящен великолепный сборник: Duval Y. Loca sanctorum Africae. Rome: Eсоlе franchise de Rome, 1982. Работа: Saxer V. Morts, Martyrs, Reliques en Afrique chretienne. Paris 1980, дает представление о внутрицерковных отношениях.
О далеких предшественниках монашеской духовно сти: Guillaumont A. Monachisme et ethique judeo–chretienne // Judeo—Christianisme: volume offert au cardinal J. Danielou: Recherches de science religieuse. 1971. P. 199. Влияние монашеской парадигмы наилучшим образом рассмотрено в работах ее главных выразителей в городской среде: Jean Chrysostome: La Virginite / В. Grillet ed. Paris, 1966 (Coll. „Sources chretiennes” No. 125), и Gregoire de Nysse: traite sur la virginite / M. Aubineau ed. Paris, 1966 (Coll. „Sources chretiennes”, No. 119); особенно показательно последнее произведение. Нет ничего удиви тельного в том, что теоретический радикализм монашеской парадигмы, в том виде, в котором его проанализировали сторонники монашеского образа жизни, смог дать повод для серьезных преувеличений реальной суровости аскетических практик указанных монахов; от этого преувеличения не сво бодны даже лучшие работы, а именно: Festugiere, Antioche… Рр. 291–310, и Voobus A. A History of Asceticism in the Syrian Orient. T. I; II. Louvain, 1958 и 1960. Коррективы вносят неболь шая, но свидетельствующая о прекрасной эрудированности и о глубокой гуманитарной культере книжка: Chitty D. The Desert a City. Oxford, 1966, и статья: Judge Е. А. The Earliest Use of „Monachos” // Jahrbuch fur Antike und Christentum. 20. 1977. P. 72.
Монашеская бедность и ее отношение к саморепрезентации христианского общества, критически проанализиро ванные в работе: Patlagean Pauvrete …, изучены и на при мере пахомианских общин: Buchler В. Die Armut der Armen Munchen, 1980.
Документы из недавно опубликованных папирусов про ливают свет на историю монашества в Оксиринхе, которой посвящены статьи: Carrie J. — M. Les distributions alimentaires dans les cites de l'Empire romain tardif // Melanges d archeologie et J’histoire: Antiquite. 1975. 87. P. 995, и Remondon R. L’Eglise dans la societe egyptienne a lepoque byzantine // Chronique d’Egypte. 1972. 47. P. 254.
Монастырское воспитание и город: Festugiere // Antioche… Pp. 181–240, и Marrou H. — I. // Histoire de leducation. pp. 149–161 — ясно освещают эти вопросы. Jean Chrysostome: sur la vaine gloire / A. — M. Malingrey ed. No. 188. Paris, 1972 (Coll. „Sources chretiennes”) — является наиболее показательным источником.
О монашеском самоанализе сексуальности: Refoule F. Reves et vie spirituelle dapres Evagre le Pontique // La Vie spirituelle: supplement. 1961. 14. P. 470; Foucault M. Le combat de la chastete // Communications. 1982. 35. P. 15, и Rousselle A. Pomeia… Pp. 167–250 — новые плодотворные подходы к теме, которую в прежних научных трудах, посвященных первому монашеству, было принято трактовать, скорее, в манере этакой элегантной пошлости; Evagre le Pontique: traite pratique ou le moine: 2 vol. / A. et C. Guillaumont ed. Paris, 1971 (Coll. „Sources chretiennes”. No. 170,171) — издание снабжено весьма полезными комментариями.
О нормах супружеской морали и условиях жизни в городе: Ideale conjugale е familiare in san Giovanni Crisostomo // Etica sessuale… P. 273, а также комментарии Scaglioni С. к: Jean Chrysostome et Augustin / C. Kannengiesser (ed.). Paris, 1975, — начальный этап исследования, и не более того.
Barsanuphe et Jean de Gaza: Correspondance / trad. fr. de L. Regnault. Solesmes, 1971 — предоставляет великолепную картину моральных проблем, по поводу которых монахи и миряне обращались за советом к местному святому.
Самым значительным исследованием, посвященным сексуальности как пути к смерти в греческой христианской традиции, является: Ton Н. С. van Eijk. Marriage ajid virginity, death and immortality // Epektasis: Melanges J. Danielou. Paris, 1972. P. 209.
Образцовая статья, в которой поставлены важные в0^ просы относительно византийского средневекового общества V–VI веков, — Kazhdan A., Cutler A. Continuity and Discontinuity in Byzantine History // Byzantion. 1982. 52. P. 429.
В статье: Eastern and Western Christendom in Late Antiquity, a Parting of the Ways // Society and the Holy in Late Antiquity Berkeley, 1982. P. 166, Питер Браун разворачивает проблему возможных различий между Востоком и Западом в несколько другой перспективе и обращается к темам, отличающимся от принятых в данном эссе. Позиция Августина, напротив, была в нем изучена очень подробно, однако не всегда имелись в виду темы, затронутые в данной книге.
Сочинение Августина «О браке и вожделении», написанное в 418 году для одного мирянина, графа Валерия, — фундаментальный текст, как и XIV книга трактата «О граде Божием» 420 года: «О браке и вожделении» издано с прекрасным комментарием А. С. de Veer в: Premieres Polemiques contre Julien. Paris, 1974 (Coll. „Bibliotheque augustinienne”, No. 23). Недавно обнаруженное VI письмо Августина константинопольскому патриарху Аттику, датируемое, вероятно, 421 годом, исключительно ясно выражает его поздние представления о сексуальности Адама и Евы и о природе вожделения, принятые в его эпоху: Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 88 / J. Divjak (ed.). Vienne, 1981. Muller M. Die Lehre des heiligen Augustins von der Paradiesche und ihre Auswirkung in der Sexualethik des 12 und 13 Jahrhunderts. Regensburg, 1954 — этот труд, касающийся принятия августинианской доктрины канонистами и авторами средневековых руководств по исповеди, на мой взгляд, более всего заслуживает доверия.
3. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА РИМСКОЙ АФРИКИ
Здесь, в дополнение к исследованиям, упомянутым в тексте, мы указываем на некоторые работы, в которых читатель сможет найти важную информацию и более полную библиографию.
Градостроительство
Martin R. L’Urbanisme dans la Grece antique. 2e ed. Paris, 1974, с главой, посвященной жилому дому. Эта глава может служить введением в проблемы, которые ставит история греческого дома. Аналогичные материалы по поводу этрусско–римского Запада и Римской империи можно найти в: BoSthius A., Ward—Perkins J. B. Etruscan and Roman Architecture. Penguin Books, 1970; Clavel M., Leveque P. Villes et Structures urbaines dans l'Occident romain. Paris, 1971.
Histoire de la France urbaine / sous la dir. de G. Duby. T. I: La Ville antique des origines au IXe siecle. Paris: Seuil, 1980 — работа представляет собой очень полезное обобщение, касающееся проблематики, значение которой выходит далеко за пределы Галлии.
Наши сведения об Африке наилучшим образом обобщены в кн.: Romanelli Р. Topografia е archeologia dell’Africa romana (Enciclopedia classica, sezione III, volume X, tomo VII). Torino: Societa Editrice Internazionale, 1970.
Можно обратиться также к работе: Lassus J. Adaptation l’Afrique de lurbanisme romain // 8e Congres international darcheologie classique, Paris, 1963. Paris, 1965. Pp. 245–259.
В том, что касается средиземноморского региона в целом, следует обратить внимание на: Greco Е., Torelli М. Storia dellurbanistica. II mondo greco. Laterza; Roma—Bari, 1983, и Gros p Torelli M. Storia dellurbanistica. II mondo romano. Laterza; Roma Bari, 1988.
Жилищная архитектура
Существенное изменение греческих жилых домов, По крайней мере самых богатых, характеризуется трансформацией внутреннего двора в перистиль, открытое пространство, окруженное портиком. Вероятнее всего, значительный рост роскоши жилища начинается в IV веке до н. э. Подробную публикацию археологических источников с жилищами такого типа, датированными концом II века до н. э., можно найти в: Bruneau Ph. et al. L’ilot de la maison des comediens // Exploration Archeologique de Delos. Fasc. 27. Paris, 1970.
В западном греческом мире эту эволюцию архитектуры можно проследить, например, по работе: Martin R., Vallet G. L’architettura domestica // Gabba E., Vallet G. (eds). La Sicilia antiqua. Napoli, 1980. Vol. 1(2). Pp. 321–354.
Как показывают раскопки Керкуана, города на мысе Бон в Тунисе, а также раскопки, проведенные в Карфагене, перистиль очень быстро был адаптирован в пуническом мире: Picard G. C. et С. Vie et Mort de Carthage. Paris, 1970, en particulier p. 220 sq. (город Керкуан был разрушен в 256 году до н. э.); Lancel S. (sous la dir. de) Byrsa I et II. Rome, 1979,1982 (Collection de l'Eсоlе francaise de Rome, 41). Этим прошлым отчасти можно объяснить то, что римский дом в Африке непосредственно воспринял план с перистилем.
Традиционный италийский дом, напротив, игнорируй перистиль и использует атриум — просторный зал, цен- тральная часть которого не перекрыта крышей, что позволяет освещать и проветривать помещение и выходящие в него комнаты, а также собирать дождевую воду в бассейн (impluvium)’, расположенный под центральным проемом (compluvium). Между атриумом и перистилем есть некоторое сходство, поскольку последний, пусть несколько иным образом, но выполнял те функции, которые мы только что описали. Однако два эти помещения кардинально отличаются друг от друга — как тем, какие социальные функции они выполняли, так и по своей архитектурной концепции (двор перистиля гораздо более обширный по сравнению с compluvium атриума и вмещает просторные колоннады).
В эллинистическую эпоху римский жилой дом быстро меняется, к задней его части пристраивают настоящий перистиль, во дворе которого чаще всего устраивают сад, вместо того чтобы замостить его плиткой, как было принято в греческом мире. Об этом нам известно благодаря тем местам римской Кампании, которые были затронуты извержением Везувия 79 года. Много информации можно найти в кн.: La Rocca Е., de Vos М. et A. Guida archeologica di Pompei. Verona, 1976; De Vos A. et M. Pompei, Ercolano, Stabia. Roma, 1982.
Только после долгой эволюции, закончившейся в IV веке н. э., древний атриум окончательно исчезает из италийского жилого дома, отныне строящегося исключительно вокруг перистиля, что прекрасно прослеживается в Остии: Becatti G. Case ostiensi del tardo impero // Bollettino d’arte. 1948. Vol. 33. Pp. 102–128; 1949. Vol. 34. Pp. 197–224; Van Aken A. R. A. Late Roman domus architecture // Mnemosyne. 1949. Pp. 242–251; Pavolini C. Ostia. Roma, 1983.
Эта же местность позволяет нам изучить также и другой тип жилища, который мы намеренно исключили из своего исследования, а именно жилище представителей среднего класса и простого народа, которое представляет собой высокое многоэтажное здание (называемое insulae), обычно строившееся вокруг внутреннего двора: Pasini F. Ostia antica. Insule e classi sociali. Roma, 1978. Разумеется, зданиями такого типа Проблема народного жилища не исчерпывается.
Римская Африка
Важные замечания касательно африканских жилых домов, а также их социоэкономического контекста можно найти в кн.: Picard G. La Civilisation de l'Afrique romaine. 2e ed Paris, 1990.
В примечаниях и в подписях к иллюстрациям мы уже ссылались не некоторые исследования, посвященные прежде всего жилищной архитектуре правящих классов. Поэтому здесь будет достаточно обратить внимание на значимость таких работ, как: Rebuffat R. Thamusida II. Rome, 1970 (Collection de l'Eсоlе franchise de Rome, 2), где публикация сведений о не скольких жилых комплексах становится поводом для глубокого осмысления африканской жилищной архитектуры, которое во многом повлияло на наши собственные рассуждения. Отметим также подборку материалов того же автора, очень удобную для работы: Maisons a peristyle d'Afrique du Nord, repertoire de plans publies / Melanges de ГEсоlе franchise de Rome. 1969. Vol. 81. Pp. 659–724; 1974. Vol. 86. Pp. 445–499.
Недавние публикации, появившиеся уже после того, как был написан этот текст, все больше и больше принимают во внимание функционирование жилища, что мы и сами старались сделать. Из работ о греческом жилом доме можно отметить: Pesando F. Oikos et ktesis. La casa greca in eta classica. Roma: Edizioni Quasar, 1987.
По поводу римского жилища можно сослаться на: Wallace Hadrill A. The Social Structure of the roman house // Papers of the British School at Rome. 1988. Vol. 56. Pp. 43–97; De Albentiis K. La Casa dei Romani. Milano: Longanesi, 1990; Gazda E. (ed.) Roman Art in the private sphere. Ann Arbor: The University ot Michigan Press, 1994.
4. РАННЕЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Заявленная нами тема — частная жизнь в эпоху Раннего Средневековья — до сих пор не была по–настоящему исследована. Единственными посвященными ей трудами были: belong Ch. La Vie quotidienne en Gaule a lepoque mero- vingienne. Paris: Hachette, 1963, и Riche P. La Vie quotidienne dans TEmpire carolingien. Paris: Hachette, 1973; последний рассматривает частную жизнь в ее исключительно семейной ипостаси, связанной с домом и пищей. Verdon J. Les Loisirs au Moyen Age. Paris: Tallandier, 1980 посвящает предмету нашего интереса лишь несколько строк.
Поэтому имело смысл обратиться к источникам, опубликованным на латинском языке, — за исключением разве что французского перевода, часто весьма неточного, Gregoire de Tours Histoire ecclesiastique des Francs: trad. fr. par R. Latouche: 2 vol. Paris: Les Belles Lettres, 1963–1965. Единственными точными, сопоставимыми с латинскими текстами, переводами, которыми можно пользоваться, являются следующие:
Delage M. — J. Sermons au peuple de Cesaire d’Arles: 2 vol. Paris: Ed. du Cerf, 1972–1978.
Faral E. Poeme sur Louis le Pieux et Epitre au roi Pepin par Ermold le Noir. Paris: Champion, 1932.
Halphen L. Vie de Charlemagne par Eginhard. Paris: Champion, 1923.
Latouche R. Histoire de France par Richer: 2 vol. Paris: Champion, 1930.
Lauer Ph. Histoire des fils de Louis le Pieux, par Nithard. Paris: Champion, 1926.
Levfflain L. Correspondance (829–862) de Loup de Ferrieres. Paris: Champion, 1927.
Loyen A. Poemes et Lettres de Sidoine Apollinaire: 3 vol. Paris- Les Belles Lettres, 1960–1970.
Moussy С. Poeme daction de graces et Priere de Paulin de Pella. Paris: Ed. du Cerf, 1974.
Riche P. Manuel pour mon fils, par Dhuoda. Paris: Ed. du Cerf, 1975.
Vogue A. de La Regie de saint Benoit: 7 vol. Paris: Ed. du Cerf, 1972–1978.
Другие необходимые источники, доступные, однако, только на латинском языке, лежащие в основе нашего ис следования:
Code theodosien: 2 vol. / Т. Mommsen, Р. Meyer. 2 Aufl. Berlin, 1905.
Codigo de Eurico / E. Alvaro d’Ors (ed.). Madrid, 1960. Concilia aevi Karolini: 2 vol. / hrsg. v. A. Werminghoff. Han nover: MGH, 1904–1908.
Concilia Galliae: 2 vol. / C. Munier, C. de Clercq. 2e ed. Turnhout, 1963.
Corpus Consuetudinum Monasticarum / Siegburg: F. Schmitt, 1963.
Flodoard, Annales / Ph. Lauer ed. Paris: Picard, 1905. Formulae Merowingici et Karolini aevi / K. Zeumer (ed). Hannover: MGH, 1886.
Fortunat / F. Leo (ed.). Hannover: MGH, 1881.
Fredegaire / J. Wallace—Hadrill (ed.). London, 1960.
Leges Burgondionum / L. R. de Salis (ed). Hannover: MGH, 1892. Lex Ribuaria / F. Beyerle, R. Buchner (ed.). Hannover, 1954. Marculfe Formules / A. Uddholm (ed.). Upsala, 1962.
Pactus Legis Salicae: 2 vol. / K. A. Eckhardt (ed.). Hannover, 1962–1969.
Prosper dAquitaine / C. Hartel (ed.). Vienne, 1894.
Жития святых слишком многочисленны и рассеяны по разным изданиям, чтобы приводить здесь их полный список. Семь томов: Krusch В., Levison W. Passiones vitaeque sanctorum aevi jylerowingici. Hannover: MGH, 1920, могут дать начальное представление о такого рода литературе, трудной для восприятия, ло всегда содержащей массу интересных сведений — о частной ясизни главных патронов галльских церквей. Пенитенциалии как исследовательский материал вообще требуют особенно тонкого обращения. Они были изданы: Wasserchleben F. W. H. Die gussordnungen der Abendlandischen Kirche. Halle; Graz, 1958. Наконец, совсем недавно два пенитенциалия опубликовал R. Kottje: pie Bussbiicher Halitgars von Cambrai und des Hrabanus Maurus. Berlin; N. Y., 1980. Также был опубликован труд, интересный для понимания гигиенических и медицинских озабоченностей эпохи: Baehrens Е. Liber Medicinalis de Q. S. Sammonicus. Leipzig, 1881.
Данные археологических раскопок, касающиеся домашней и материальной сферы частной жизни, публиковались в ряде региональных журналов. Только журнал Archeologie medievale, издаваемый в Париже Центром средневековых археологических исследований Кана, регулярно, начиная с вышедшего в 1971 году первого тома, публикует хронику производимых во Франции раскопок средневековых памятников, а также многочисленные серьезные статьи. Этот журнал позволяет больше не считать завершенным фундаментальный труд: Salin Е. La Civilisation merovingienne: 4 vol. Paris, 1950–1959.
Несколько значительных работ позволяют по достоинству оценить вклад археологии в изучение частной жизни:
Bellanger G., Sellier С. Repertoire des cimetieres merovingiens du Pas–de–Calais. Arras, 1982.
Demolon P. Le Village merovingien de Brebieres. Arras, 1972.
James E. The Merovingian Archeology of South—West Gaul: 2vol. London, 1977.
Joffroy R. Le Cimetiere de Lavoye. Paris, 1974.
Thevenin A. Les Cimetieres merovingiens de la Haute—Saone. pvis, 1968.
Очень редки труды, касающиеся конкретных вопросов частной жизни. В 1976 году Центр исследований Раннего Сред, невековья в Сполето в ходе работы своей 24–й сессии (Spolete 1977) выпустил два тома, посвященных браку. Французская школа в Риме (Eсоlе francaise de Rome) в 1977 году организовала семинар Famille et Parente dans l'Occident medieval, в материалы которого включена, в частности, статья: Manselli R. Vie familiale et ethique sexuelle dans les penitentiels. Pp. 363–378. К сожалению, Манселли не классифицировал свои источники по хронологическому принципу. Поэтому невозможно понять, являлся ли идеал, предлагаемый кающимся грешникам, прогрессом или движением вспять. Проблемам христианского брака и его практике посвящена сотня страниц диссертации: Devisse J. Hincmar, archeveque de Reims (845–882): 3 vol. Geneve, 1976; ее дополняет статья: Fransen G. La lettre de Hincmar de Reims au sujet du mariage d’Etienne // Pascua mediaevalia. Louvain, 1983. Pp. 133–146.
В отношении проблем брака и положения женщины по–прежнему актуальным остается исследование: Simonnot Н. Le Mundium dans le droit de famille germanique. Paris, 1893. Интересный анализ текстов, касающихся разных женских статусов, представлен в статье: Ganshof F. L. Le statut de la femme dans la monarchic franque // Recueil de la Societe Jean Bodin. 1962. Pp. 5–58. Сюда же можно добавить работы: Kalifa S. Singularites matrimoniales chez les anciens Germains, le rapt et le droit de la femme a disposer delle–meme // Revue historique du droit francais et etranger. 1970. Pp. 199–225; Coleman E. R. L’infanticide durant le haut Moyen Age // Annales. 1974. Pp. 315–335; Wemple S. F. Women in Frankish society. Marriage and the Cloister, 500 to 900. Philadelphie, 1981.
Что касается специфики частной жизни общества, полезной остается старая работа: Dill S. Roman Society in Gaul in the Time of Merovingian Age. N. Y., 1926 (переиздана в 1966 году) Много интересных статей содержит коллективный труд: Women in Medieval Society / S. M. Stuard ed. Philadelphie, 1976. Также по–прежнему актуальна статья: Drew K. F. The Germanie family of the lex Burgondionum // Medievalia et Humanistica. 1963. Pp. 5–14). Как настаивало христианство на принятии обществом модели нуклеарной семьи, при том что реальное ее существование в меровингскую эпоху не находит подтверждений, прекрасно демонстрирует статья: Theiss L. Saints sans famille? Quelques remarques sur la famille dans le monde franc a travers les sources hagiographiques // Revue historique. 1976. Pp. 3–20. Две монографии о святых дадут читателю представление о христианском идеале женственности: Dubois J., Beaumont — Maillet L. Sainte Genevieve de Paris. Paris, 1982, и Dittrich O. Sainte Aldegonde, une sainte des Francs. Kevelaer, 1976 (билингва на немецком и французском языках).
Проблемы, связанные со сферой именно домашней, исследованы еще меньше. Археологами были оспорены предположения, выдвинутые в работе: Chapelot J., Fossier R. Le Village et la Maison au Moyen Age. Paris, 1980. Анализ, проведенный в статье: Zerner—Chardavoine М. Enfants et jeunes au IXe siecle, la demographie du polyptyque de Marseille, 813–814 // Provence historique. 1981. Pp. 355–384, получил подтверждение в статье: Buchet L. La necropole gallo–romaine et merovingienne de Frenou- ville (Calvados), etude anthropologique // Archeologie medievale. 1978. Pp. 5–53.
Я попытался заполнить некоторые лакуны в изучении частной жизни в следующих статьях: La matricide des pauvres // Etudes sur Thistoire de la pauvrete. Paris, 1974. T. I. Pp. 83–110; Francs et Gallo—Romains chez Gregoire de Tours // Congresso sulla spirituality medievale, Gregorio di Tours. Todi, 1977. Pp. 143–169; Miracles, maladies et psychologie de la foi en Francie // Congres sur Fhagiographie. Paris, Etudes augustiniennes, 1981. Pp. 319–337. Анализ, проведенный в моей статье, посвященной проблемам Рационов питания, La faim a lepoque carolingienne: essai sur quelques types de rations alimentaires // Revue historique. 1973. Рр. 295–320, я дополнил в еще одной статье: Les repas de fete a lepoque carolingienne // Congres de Nice: Boire et Manger ац Moyen Age. Nice, 1982; Les Belles Lettres, 1984. T. I. Pp. 265–296 Наконец, можно обратиться к результатам исследований проведенных под моим руководством в магистратуре университета Лилль III:
Broutin J. — L. La Femme dans le monde germanique paien. 1975.
Desmet S. Vengeance et Violence privee dapres les penitentiels. 1984.
Leduc R. L’Eglise et la Sexualite dapres les penitentiels. 1980. Oger—Leurent A. Conceptions du mariage en Gaule aux epo- ques merovingienne et caroligienne: pratiques franques et doctrine chretienne. 1984.
Piotrowski A. Le Paganisme germanique durant le haut Moyen Age. 1980.
Издания, появившиеся после 1982 года:
Angennendt A. Geschichte der religiositat im Mittelalter. Darmstadt, 1997.
Chelini J. LAube du Moyen Age. Paris, 1991.
Flandrin J. L. Un temps pour embrasser. Aux origines sexuelles de la morale occidentale. VIe-XIe siecle. Paris, 1983.
La vengeance. Etudes dethnologie, d’histoire et de philosophic / R. Verdier, J. — P. Poly (ed.). T. 3: Vengeance, pouvoirs et ideologies dans quelques civilisations de TAntiquite. Paris, 1984.
Histoire de la famille / sous la direction de Burguiere A., Klapisch C., Segalen M., Zonabend F. Paris, 1986. T. 1. Pp. 273–360.
Les relations de parente dans le monde medieval. Aix–en- Provence: CUERMA, 1984.
Corbet P. Les Saints ottoniens, saintete dynastique, saintete royale, et saintete feminine autour de Ian Mil. Sigmaringen, 1986.
Duval N., Picard J. C. L'Inhumation privilegiee du IVe au VIHe siecle en Occident. Paris, 1986.
Gaudemet J. Le Mariage en Occident. Paris, 1987.
Le Jan R. Famille et Pouvoir dans le monde franc. Paris, 1995. Mathon G. Le Mariage des chretiens. Paris, 1993. T. 1. Pp. 129–159.
Moines et moniales face a la mort. Actes du colloque de Lille. Histoire medievale et archeologie, 6. Creteil, 1993.
Rouche M. Le Mariage et le СёШ^ consacre de sainte Radegonde // La Riche Personnalite de sainte Radegonde. Poitiers, 1987. Pp. 79–98.
Rouche M. Des mariages paiens au mariage chretien, sacre et sacrement // Segni e riti della chiesa altomedievale occidentale (secoli V–XI). Spoleto, 1987. Pp. 835–880.
Rouche M. Le Haut Moyen Age // Histoire des populations de TEurope / J. P. Bardet, J. Dupaquier (eds). Paris, 1997. T. 1. Pp. 133–167.
Rouche M., Heuclin J. La Femme au Moyen Age. Maubeuge, 1990.
Werner K. F. Naissance de la noblesse. Paris, 1998.
5. ВИЗАНТИЯ
История и цивилизация
Beck H. G. Das byzantinische Jahrtausend. Munchen: Beck, 1978.
Brehier L. Le Monde byzantin: 3 vol. Paris: Albin Michel, 1946–1950 (reed, avec suppl. bibliographique par Gouillard}., 1969–1970. I: Vie et Mort de Byzance; II: Les Institutions de FEmpire byzantin; III: La Civilisation byzantine).
Guillou A. La Civilisation byzantine. Paris: Arthaud, 1975. Hunger H. Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der byzantinischen Kultur. Graz; Vienne; Cologne: Verl. Styria, 1965.
Kazhdan A., Constable G. People and Power in Byzantium. An Introduction to Modem Byzantine Studies. Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Center, 1982.
Kirsten E. Die byzantinische Stadt // Berichte zum XI. internationalen Byzantinisten—Kongress. Munchen, 1958. V 3.
Magdalino P. Constantinople medievale. Etudes sur revolution des structures urbaines. Paris: De Boccard, 1996.
ercati e mercanti nell’alto Medioevo: larea euroasiatica e l'аrгеа mediterranea, Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, Settimane di studio, 40, 1992 (Patlagean E. Byzance et les marches du grand commerce, vers 830 — vers 1030: entre Pirenne et Polanyi. Pp. 587–629; Oikonomides N. Le marchand byzantin des provinces [IXe-XIe siecle]. Pp. 633–660).
The Byzantine Aristocracy. IXth-XIIIth centuries / M. Angold (ed.). Oxford: BAR International series. 221, 1984.
Cambridge Medieval History. T. IV: The Byzantine Empire / J. — M. Hussey (ed.). 2e ed. Cambridge University Press, 1967- 1968. Part 1: Byzantium and its Neighbours; Part 2: Government, Church and Civilization.
Тексты, изображения, предметы, памятники
L'Art byzantin, art europeen. Athenes, 1964.
The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine era, 843–1261 A. D. / H. C. Evans, W. D. Wixom (eds). U. Y.: The Metropolitan Museum of Art, 1997.
Beck H. G. Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich. Miinchen: Beck, 1959.
Beck H. G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. Miinchen: Beck, 1971.
Byzantine Books and Bookmen. Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Center, 1975.
Grabar A. La Peinture byzantine. Geneve: Skira, 1953. Grabar A. LTconoclasme byzantin. 2e ed. Paris: Flammarion, 1984.
Hunger H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzan- tiner: 2 vol. Miinchen: Beck, 1978.
Mango C. The Art of the Byzantine Empire. Sources and Documents. Englewood
Cliffs N. J., 1972.
Исследования, посвященные X–XI векам
Centre de recherche d’histoire et civilisation byzantine. Travaux et Memoires. Paris: Ed. de Boccard, 1976. T. VI (Recherches sur le Xle siecle).
Harvey A. Economic expansion in the Byzantine Empire, 900–1200. Cambridge, 1989.
Hendy M. F. Byzantium, 1081–1204: an economic reappraisal // Transactions of the Royal Historical Society. 1970. Pp. 31–52.
Lemerle P. Cinq Etudes sur le Xle siecle byzantin. Paris: CNRS, 1977. cf. Kazhdan A. Remarques sur le Xle siecle byzantin. A propos dun livre recent de Paul Lemerle // Byzantion, 1979. T* XLIX. Pp. 491–503.
Patlagean Е. Structure sociale, Famille, Chretiente a Byzance IVe-XIe siecle. Londres: Variorum reprints, 1981.
Proceedings of the 13th International Congress of Byzantine Studies. Oxford University Press, 1967.
Общество
Beck H. G. Byzantinisches Gefolgschaftswesen // Sitzungsber. Bayer. Akad. d. Wissensch. Philos. — Histor. Kl. 1965. H. 5.
Kaplan M. Les Hommes et la terre a Byzance, du Vie au Xle siecle. Paris: Publications de la Sorbonne, 1992.
Morris R. The powerful and the poor in Xth century Byzan tium: law and reality // Past & Present. 1976. T. LXXIII. Pp. 3–27.
Ostrogorsky G. Observations on the aristocracy in Byzantium // Dumbarton Oaks Papers. 1971. T. XXV. Pp. 3–32.
Vryonis Sp. Byzantine Demokratia and the guilds // Dumbar ton Oaks Papers. 1963. T. XVII. Pp. 287–314.
Вера
Hackel S. (ed.). The Byzantine Saint. London: Fellowship of St. Alban and St. Sergius, 1981 (Morris R. The political saint of the Xlth century. Pp. 3–50; Patlagean E. Saintete et pouvoir. Pp. 88–105).
Morris R. Monks and Laymen in Byzantium, 843–1118. Cam bridge, 1995.
Obolensky D. The Bogomils. A study in Balkan Neo—Mani- chaeism. Cambridge, 1948.
Svoboda K. La Demonologie de Michel Psellos. Brno, 1927 (mais cf. Gautier P. Le De daemonibus du Pseudo—Psellos // Rev et. byz. 1980. T. XXXVIII. Pp. 105–194).
Patlagean E. Byzance et son autre monde. Observations sur quelques recits // Faire croire. Modalites de la diffusion et de la reception des messages religieux du XHe au XVe siecle. Eсоlе fran- ^aise de Rome, 1981. Pp. 201–221.
Histoire du christianisme / dir. J. — M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, д. Vauchez et M. Venard. T. 4: Eveques, moines et empereurs (610- 1054) / G. Dargon (ed.); T. 5: Apogee de la papaute et expansion de lachretiente (1054–1274) / E. Patlagean (ed.). Paris: Desclee, 1993.
Семья
Dauvillier J., de Clercq C. Le Mariage en droit canonique oriental. Paris: Sirey, 1936.
Laiou A. E. Mariage, amour et parente a Byzance, Xle-XIIIe siecle. Paris: De Boccard, 1992.
Культура
Kazhdan A. (in coll, with S. Franklin). Studies on Byzantine literature of the Xlth and XHth centuries. Cambridge University Press: Maison des Sciences de Thomme, 1984.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Поль Вейн — почетный профессор Коллеж де Франс
Питер Браун — профессор Принстонского университета (Нью—Джерси)
Ивон Тебер — профессор высшей нормальной школы Фонтене/Сен—Клу
Мишель Руш — профессор университета Лилль III
Эвелин Патлажан — заслуженный профессор университета Париж X—Нантер
УДК 94(100):316.728
ББК 63.3(0) — 7
И90
Редактор серии Л. Оборин
В оформлении обложки использована фреска из Дома Теренция Неона в Помпеях (Национальный археологический музей Неаполя)
И90 История частной жизни: под общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1: От Римской империи до начала второго тысячелетия; под ред. П. Вейна / Поль Вейн, Питер Браун, Ивон Тебер, Мишель Руш, Эвелин Патлажан; пер. с франц. Т. Пятницыной (предисловие, введение, гл. 1 и 2) и Г. Беляевой (гл. 3, 4 и 5, библиография) под ред. В. Михайлина. 2–е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 800 с.: ил. (Серия «Культура повседневности»)
ISBN 978–5-4448–0615–9 (т.1)
ISBN 978–5-4448–0149–9
УДК 94(100):316.728 ББК 63.3(0) — 7
© Éditions du Seuil, 1985 et 1999
© Переводчики, 2014
© ООО «Новое литературное обозрение», 2014; 2017

Примечания
1
Новая история (фр. La Nouvelle Histoire) — историческое направление, сформировавшееся во Франции в середине XX века и оказавшее значительное влияние на развитие всей мировой историографии. Отказавшись от сложившихся в XIX веке традиционных методов классической истории, «истории–повествования», то есть последовательного изложения фактов, «новые историки» рассматривали в качестве предмета исторической науки историю общества в целом, используя при этом данные и методы смежных наук — социологи, этнографии, лингвистики, географии и др. — Здесь и далее, если не указано иное, постраничные примечания принадлежат переводчикам.
(обратно)
2
Перевод В. Михайлина.
(обратно)
3
Вероятно, речь идет о маточном кольце.
(обратно)
4
Прерванный половой акт (лат.).
(обратно)
5
Старательность, трудолюбие, усердие (лат.).
(обратно)
6
Пользуясь случаем, отметим, что важное значение гимнастики и музыки в греческой системе воспитания, которая оставалась актуальной и во времена Римской империи (cf. Marcus Aurelius, 1,6), удалось доказать Луи Роберу в ходе международного конгресса по эпиграфике, проходившего в Афинах в 1982 году; вместе с тем основным трудом по эллинистическому и римскому воспитанию сейчас служит книга Ильзетрот Адо «Свободные искусства и философия античной мысли» (Ilsetraut Hadot. Arts libe–raux et Philosophic dans la pensee antique. Paris: Etudes augustiniennes, 1984). — Прим, автора.
(обратно)
7
По случаю, специально для конкретного случая (лат.).
(обратно)
8
Господин, хозяин (лат.).
(обратно)
9
Самый доподлинный (лат.).
(обратно)
10
Свод римского гражданского права.
(обратно)
11
Вдова, незамужняя или покинутая женщина (лат.).
(обратно)
12
Героиня комедии Ж. — Б. Мольера «Мизантроп».
(обратно)
13
Имеется в виду поэма Овидия «Наука любви».
(обратно)
14
Белая тога с пурпурной каймой, которую носили магистраты и жрецы, а также мальчики свободных сословий до 17–летнего возраста.
(обратно)
15
Evergetisme — термин, предложенный в XX веке французским историком Андре Буланжером и использующийся во франкоязычной среде. Происходит от греческого слова еоеруетесо, означающего буквально «я творю добро».
(обратно)
16
Французское элитарное учебное заведение для подготовки высших чиновников. — Прим. ред.
(обратно)
17
Сантим — разменная денежная единица во Франции, Бельгии. Швейцарии и некоторых других странах. Составляет 1/100 часть франка. Миллиард сантимов, то есть 10 000 000 франков, равен 1 524 390 евро по курсу на 17 февраля 2012 года (последний день перехода с национальной Французской валюты на общеевропейскую).
(обратно)
18
Ныне Фрежюс.
(обратно)
19
Речь Цицерона «В защиту Клуенция».
(обратно)
20
Может быть… Но Пьер Адо вполне убедил меня в том, что в случае с Марком Аврелием дело обстоит несколько сложнее, даже если тесная связь между троном и философией и не совсем такова, какой ее с легкостью рисует современная агиографическая историография Марка Аврелия.
(обратно)
21
Забота, попечение (лат.).
(обратно)
22
Популярные средиземноморские вина.
(обратно)
23
Pierre Chevalier. Les Dues sous l’Acacia. В книге опубликовано письмо кавалера Рамзая, «Великого оратора Ордена», кардиналу Флери. В письме Рамзаи просит Церковь благословить принципы масонства и одобрить масонские собрания.
(обратно)
24
В опубликованном стихотворном русском переводе четверостишие звучит несколько иначе:
О, пир достойный богов, когда вечеряю с друзьями
Я под кровом домашним моим, и трапезы остатки
Весело сносят рабы и потом меж собою пируют.
(Квинт Гораций Флакк. Сатиры. Книга II. Поэма 6. Пер. М. Дмитриева)
(обратно)
25
Латинское выражение, означающее «утомлять богов» или «обременять богов своими просьбами».
(обратно)
26
Экс–вото, вотивные предметы — предметы или изображения, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения желания.
(обратно)
27
Вакхическая система образов была скорее декоративной, чем религиозной в полном смысле слова. Ключ к решению проблемы кроется в идее Жан—Клода Пассерона, теоретическое значение которой нам представляется важным: язык вакхических образов не является ассерторическим; картина, представленная зрителю, не может утверждать, отрицать или говорить «немного», «может быть», «завтра» и т. д. Образ Вакха — это заманчивое предложение, которое не требует ответа и оставляет за скобками реальность самого его существования. И это даже не символизм, пусть и скрытый, как принято считать, предполагающий тысячи интерпретаций глядя на изображения, не нужно отвечать ни «да», ни «нет», потому что не существует самого вопроса о том, веришь ли ты в Вакха. Образ, ничего не утверждающий, не принимающий ничью сторону, и сам не нуждается в сторонниках. Но хотя он и не является ассерторическим, это вовсе не означает, что его функции только декоративные. — Прим, автора
(обратно)
28
(Универсальная) образованность
(обратно)
29
(Лат.) interior — глубокий, внутренний, секретный; civicus — гражданский, городской, римский.
(обратно)
30
Согласие, единомыслие, единодушие (лат. и др. — греч.). — Прим. ред.
(обратно)
31
Благомыслие, доброжелательность, снисходительность; общность чувств, взаимное тяготение, симпатия, сочувствие; кротость, сдержанность, ласковость, спокойствие (др. — греч.). — Прим. ред.
(обратно)
32
Тем более, особенно (лат.) — Прим. ред.
(обратно)
33
Слова улетают, написанное остается (лат.)
(обратно)
34
Великий отказ (ит.). — Прим. ред.
(обратно)
35
(Лат.) «мир», мирское состояние (в противоположность монашескому).
(обратно)
36
Поведение, нравы (лат.)
(обратно)
37
Погребения возле святых (лат.). — Прим. ред.
(обратно)
38
«В орехе», то есть в зачатке, в зародыше (лат.).
(обратно)
39
«Без чего нет», то есть необходимые условия (лат.).
(обратно)
40
«Однажды в общественном отхожем месте, испустив ветры с громким звуком, он произнес полустишие Нерона: Словно бы гром прогремел под землей… — чем вызвал великое смятение и бегство всех сидевших поблизости». Анекдот приведен у Светония в жизнеописании Лукана из книги «О поэтах» (Suet. Poet. 47. 16–20). Русский перевод нужного фрагмента см.: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Пер. М. Л. Гаспарова. М, Наука, 1993.
(обратно)
41
См., в частности, анализ Ирвинга Гоффмана в кн.: Gender Advertisements или в Relations in Public.
(обратно)
42
Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. Pp. 121–122.
(обратно)
43
Rebuffat R. Enceintes urbaines et insecurite en Mauretanie Tingitane // Melanges de l’Eсоlе francaise de Rome—Antiquite. 1974. T. 86. No. 1. Pp. 510–512.
(обратно)
44
Кардо (лат. cardo, cardus) — в Римской империи улица, ориентированная с севера юг. Основная Кардо в городе называлась Кардо Максимус (лат. Cardus Maximus) и являлась, как правило, главной улицей, центром экономической жизни.
(обратно)
45
Picard G. Deux senateurs romains inconnus // Karthago. 1953. No. 4. Pp. 123–125.
(обратно)
46
Duval N. Couronnes agonistiques sur des mosaiques africaines d’Althiburos (IVe siecle?) au Cap Bon (Ve siecle?) // Bulletin archeolo gique du comite des travaux historiques. 1976–1978. Pp. 195–216.
(обратно)
47
Раскопки «Инсулы Охоты» в Булла Регия, которые мы еще неоднократно будем упоминать, недавно были осуществлены Р. Хануном, А. Оливье и И. Тебером. — Прим. автора.
(обратно)
48
Ясный и квалифицированный обзор состояния этого вопроса см. в статье: Duval N. Les origines de la basilique chretienne // Information d’histoire de lart. 1962. No. 7. Pp. 1–19.
(обратно)
49
Angelis d’Ossat, G. de. Laula regia del distrutto palazzo imperiale di Ravenna // Corsi di cultura… 1976. No. 23. Pp. 345–356.
(обратно)
50
Lassus J. Une operation immobilize a Timgad // Melanges darcheologie et d'histoire offerts a Andre Piganiol / ed. par R. Chevallier. Paris: S. E.V. P.E. N., 1966. Pp. 1120–1129.
(обратно)
51
Thebert Y. Les maisons a etage souterrain de Bulla Regia // Cahiers de Tunisie. 1972. No. 20. Pp. 17–44.
(обратно)
52
Janvier Y. La Legislation du Bas—Empire romain sur les edifices publics. Aix–en–Provence, 1969.
(обратно)
53
Codex Theodosianus — Кодекс Феодосия.
(обратно)
54
Corpus inscriptionum Latinarum.
(обратно)
55
Dessau, Hermann. Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin 1892–1916,3 vols.
(обратно)
56
Boube—Picot Ch. Les bronzes antiques du Maroc, II, Le mobilier // Etudes et Travaux darcheologie marocaine. Rabat, 1975. No. 5.
(обратно)
57
Darmon J. — P. Nymfarum domus. Leiden, 1980.
(обратно)
58
Thebert Y. Lutilisation de leau dans la maison de la peche a Bulla Regia // Cahiers de Tunisie. 1971. No. 19. Pp. 11–17.
(обратно)
59
Рус. пер. М. Кузмина.
(обратно)
60
Рус. пер. Е. Рабинович.
(обратно)
61
Picard G. La maison de Venus // Recherches archeologiques franco–tunisiennes a Mactar. Rome, 1977. Vol. I. P. 23.
(обратно)
62
Рус. пер.Н. Щеглова.
(обратно)
63
Здесь и далее цитаты из «Исповеди» Августина в рус. пер. М. Е. Сергиенко.
(обратно)
64
Veyne P. Les cadeaux des colons a leur proprietaire: la neu vieme bucolique et le mausolee d’lgel // Revue archeologique. 1981. Pp. 245–252.
(обратно)
65
Corbin A. Le Miasme et la Jonquille. L’Odorat et Flmaginaire social, XVIIIe-XIXe siecles. Paris, 1982. P. 269. (На русском языке главы из книги опубликованы в: Ароматы и запахи в культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Кн. 1. С. 322–361. — Прим, пер.)
(обратно)
66
Carmen (лат. «Стих» или «Песня») — из сборника Сидония Аполлинария — «Carmina», включающего 24 поэмы.
(обратно)
67
Фригидарий, прохладная комната в бане.
(обратно)
68
Picard G. Ibid. Pp. 18, 20.
(обратно)
69
Beschaouch A. La mosaique de chasse decouverte a Smirat en Tunisie // Comptes rendus de FAcademie des inscriptions et belles lettres. 1966. Vol. 110. No. 1. Pp. 134–157.
(обратно)
70
Blanchard—Lemee M. Maisons a mosai’ques du quartier central de Djemila (Cuicul). Aix–en–Provence; Paris, 1975. P. 166 sq.
(обратно)
71
Солид (от лат. solidus — твердый, прочный, массивный) — римская золотая монета, чеканилась с начала IV века н. э. В средневековой Европе сохранился прежде всего как распространенная денежно–счетная единица.
(обратно)
72
Вьетнамский рыбный соус из ферментированной рыбной мелочи.
(обратно)
73
«Наставление о пище» или «О соблюдении правил питания».
(обратно)
74
Рус. пер. С. А. Ошерова.
(обратно)
75
Здесь и далее цитаты из «Истории франков» Григория Турского даны в пер. В. Д. Савуковой.
(обратно)
76
Антрустионы (позднелат. antrustiones, от древневерхненем. truht, латинизир. trustis — дружина, свита) — дружинники первых меровингских королей.
(обратно)
77
Логорея (др. — греч. λόγος — слово, речь и ροή — течение, истечение) болезненное ускорение темпа речи, речевое недержание.
(обратно)
78
Дети, готовящиеся к монастырской жизни.
(обратно)
79
Специальной линейкой, которой били ученика по пальцам.
(обратно)
80
Франкский вариант многозначного древнегерманского концепта, включавшего в себя то, что можно на древнеирландский манер назвать «ценой чести» человека. Сюда входят сумма ущерба, выплачиваемого за причинение того или иного вреда, сумма выкупа, сумма приданого, право на защиту и покровительство.
(обратно)
81
«О природе вещей».
(обратно)
82
«О поместьях».
(обратно)
83
Что–то вроде «сраный».
(обратно)
84
Скрамасакс (лат. ближнего боя. scramasax) — короткий древнегерманский меч для ближнего боя.
(обратно)
85
В Средние века «Собеседования» (лат. «Collationes») постоянно читали во время вечерних трапез в монастырях, что в конечном итоге, привело к появленнию у французского слова «collation» еще одного значения — «легкий ужин».
(обратно)
86
Клуазоне (от фр. cloison — перегородка) — древнейшая ювелирная техника, называемая также перегородчатой эмалью. На металлически ю основу по контуру заранее нанесенного узора напаивают тонкие медные, серебряные или золотые проволочки — перегородки. Получившиеся ячейки заполняют порошкообразной стеклянной массой разных цветов, которая в процессе обжига превращается в эмаль. После обжига изделия шлифуют и полируют.
(обратно)
87
Кабошон (от фр. caboche — голова) — гладко отполированный драгоценный или полудрагоценный камень.
(обратно)
88
Реликварий (лат. reliquarium, от reliquiae — реликвии, мощи) — в католической традиции — вместилище для хранения реликвий. В Русской православной церкви принято название «рака» или «мощевик».
(обратно)
89
«Большой исторический словарь, или Занимательная смесь священной и светской истории» — опубликованный в Лионе в 1674 году труд французского энциклопедиста Луи Морери.
(обратно)
90
То есть в уже упоминавшейся «Онейрокритике».
(обратно)
91
Bibliotheque nationale de France, Departement des manuscrits, Grec 223.
(обратно)
92
Влахи — этническая группа в балканских горных областях, по наиболее распространенной версии исходно латиноязычные потомки бывших римских легионеров.
(обратно)
93
Институт, во многом параллельный славянскому институту приймачества.
(обратно)
94
Пер. М. В. Левченко.
(обратно)
95
Здесь и далее фрагменты «Хронографии» Пселла даны в пер. Я. Н. Любарского.
(обратно)
96
Пер. В. Г. Васильевского.
(обратно)
97
Метродор (др -греч. Μητρόδωρος) — «дар матери». Перед нами женкая форма того же имени.
(обратно)
98
Пер. Я. Н. Любарского.
(обратно)
99
Пер. Л. А. Фрейберг.
(обратно)
100
Пер. Я. Н. Любарского.
(обратно)
Оглавление
Предисловие к «Истории частной жизни»
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
ОТ МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ ДО ЗАВЕЩАНИЯ
Быть принятым или брошенным
Рождаемость и контрацепция
Воспитание
Усыновление
Школа
Отрочество
Юность проходит
Убить отца
Завещание
БРАК
Как отличить женатых от холостых?
Моногамия и супружеские пары
Брак, каким он должен быть
Обманчивость понятия «супружеская чета»
Новая иллюзия
Целомудренные супруги
РАБЫ
Раб — тоже человек
Истинная природа рабства
Рабство неопровержимо
Очевидность рабства
Два образа господина
И мораль в придачу
ДОМОЧАДЦЫ И ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ
Миф о римской семье
Госпожа
Вдовы, девственницы и любовницы
Неизвестные бастарды
Семейный ад вольноотпущенников
Социальный ад вольноотпущенников
Клиентела
Авторитет
ГДЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ БЫЛА ЧАСТНОЙ
Кооптация
Империя бакшиша
«Честь»
Две клиентелы
Благородство должности
Эвергетизм
Гражданский долг знати
Эвергетизм ни на что не похож
«РАБОТА» И ДОСУГ
Похвальная праздность
Богатство и добродетель
Борьба классов
Что значит работать?
Классификация извне
Хвала труду
Эстеты и снобы
СОБСТВЕННОСТЬ
Хвала обогащению
Класс вне классификации
Предприниматели
Предприимчивость знати
Другие способы обогащения
Земля
Куда вкладывать капитал
Менталитет дельца
ЦЕНЗУРА И УТОПИЯ
Видимые проявления статуса
Индивидуализм права
Существовало ли римское право?
Реклама на надгробиях
Цензура общественного мнения
Нравственный авторитет
Народная мудрость
Изнеженность
Чрезмерность
УДОВОЛЬСТВИЯ И ИЗЛИШЕСТВА
Идеал свободы
Урбанистический идеал
Пиры
Товарищества
Вакхическая идеология
Праздник и вера
Бани
Зрелища
Наслаждение и страсть
УСПОКОЕНИЕ
Их категории и наши
Каким же был бог?
Отношение к богам
«Боги»
Вера ученых
Загробный мир
Философские школы
Воздействие философии
Забота о себе
Слишком красивые саркофаги
ГЛАВА 2 ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ
ЯЗЫЧЕСКАЯ ЭЛИТАРНОСТЬ
«Высшее общество»
Социальный разрыв
Боязнь удовольствий
Благо для народа
Женщины
Роль философа
Христианская философия
НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
От сплоченности…
… к личному пространству
Сложности общины
Герма
Изобретение строгого порядка
Мораль уязвимых
Новая мораль в сексуальных отношениях
Первая причина воздержания
Безбрачие как знак
ЦЕРКОВЬ
Новое публичное пространство
Церковь и власть
Служилая знать
Город или дворец
Церковь богатая и маргинальная
Грех
Бедность
Богатые женщины
Епископ
Смерть
Могила
МОНАШЕСТВО
Модель уединения
Слава Адама
За пределами античного города
Бедные реальные и церемониальные
Монашеское воспитание
Парадигма монашества и плоть
ВОСТОК И ЗАПАД: ПЛОТЬ
Жуткая боязнь плоти
Тело как знак
На Востоке: жизнь в браке
Византийская действительность
На Западе: обретенный рай
Открытие вожделения
Вторжение Церкви в интимную жизнь
Западная одержимость сексом
ГЛАВА 3 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА В РИМСКОЙ АФРИКЕ
ДОМ: ВОДА, ОГОНЬ, ЦВЕТ, СВЕТ, ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО
ХАРАКТЕР ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ
Интернациональность архитектуры
Теория архитектуры
Унитарность архитектуры
Архитектура в развитии
ПРОСТРАНСТВА «ЧАСТНЫЕ» И «ПУБЛИЧНЫЕ»: СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ DOMUS’A
Взаимосвязь внутреннего и внешнего
Перистиль
Залы для приемов
Другие части жилища
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ DOMUS’A
Общая планировка
Способы деления пространства в domus’e
Месседжи архитектуры
Заключение
ГЛАВА 4 РАННЕЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЗАВОЕВЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
Неразличимость «частного» и «публичного» у германцев
Увеличение числа малых групп
Слабость одиночки
Уют домашний и застольный
Жажда золота
ТЕЛО И СЕРДЦЕ
Тело одетое, тело обнаженное, тело обузданное, тело обожаемое
Тело больное, тело исцеленное
Идеал: сила, прокреация, здоровье
Одержимость ребенком: раб или принц
Семья — защита и кандалы
Любовь — порыв или чувство?
Женщина чистая и нечистая
Любовь — необузданная страсть
НАСИЛИЕ И СМЕРТЬ
Воспитание агрессивности
Смерть в результате поджога и грабежа
Убийство, пытки, месть
Страх перед мертвыми
Представления о загробном мире
САКРАЛЬНОЕ И ТАЙНА
Сохранение языческой сакральности
Рождение внутреннего сознания
Интериоризация через молитву
Открытие молчания
Заключение
ГЛАВА 5 ВИЗАНТИЯ В X–XI ВЕКАХ
Территория и история Византии в IX–XI веках
Источники
Слова
ЧАСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Дом мирянина
Жилища монахов
Человек и его близкие
Родственная группа и способы ее расширения
Супружеская пара, семья, чувства
Монастырское братство, духовное отцовство
«Друзья»
«Я» И САМОСОЗНАНИЕ
Отношение к телу
Воображаемое
Вне дома
ЧАСТНАЯ ВЕРА
Религиозная вера
Демоны и примитивное мышление
Иной религиозный опыт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
1. РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Реалии
Право и религия
Словари, сборники статей
Некоторые недавние работы
2. ПОЗДНЯЯ АНТИЧНОСТЬ
3. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА РИМСКОЙ АФРИКИ
Градостроительство
Жилищная архитектура
Римская Африка
4. РАННЕЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
5. ВИЗАНТИЯ
История и цивилизация
Тексты, изображения, предметы, памятники
Исследования, посвященные X–XI векам
Общество
Вера
Семья
Культура
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
*** Примечания ***

 Рис. 1. Для удобства читателей мы пожертвовали поэтичными древними географическими названиями в пользу более привычных современных. Масштаб этой карты отражает размеры Империи. Скорость путешествия по суше составляла от тридцати до шестидесяти километров в день, быстрее ездили только специальные, находящиеся на государственной службе гонцы; путешествие по морю из Рима в Сирию занимало пятнадцать дней при попутном ветре, а иногда даже больше, с ноября по март морских путешествий старались избегать. В то время вообще не слишком много путешествовали, дальние поездки предпринимались, скорее, в силу необходимости. После Рима наиболее значительными городами были Карфаген, Александрия, Антиохия в Сирии и Эфес, самыми процветающими регионами — Тунис, Сирия и Турция. Отличительной особенностью Империи было двуязычие: в западной части языком власти, торговли и культуры служила латынь; в восточной половине Империи — греческий. Население: 50 000 000 жителей, максимум вдвое больше. Самые большие города насчитывали 100 000, может быть, 200 000 жителей, плюс население окрестных деревень. В Риме было 500 000 жителей, возможно, вдвое больше. Уровень жизни различался в зависимости от провинции и должен был варьироваться подобно тому, как это происходит в современных странах Ближнего и Среднего Востока в зависимости от того, бедные это страны или богатые.
Рис. 1. Для удобства читателей мы пожертвовали поэтичными древними географическими названиями в пользу более привычных современных. Масштаб этой карты отражает размеры Империи. Скорость путешествия по суше составляла от тридцати до шестидесяти километров в день, быстрее ездили только специальные, находящиеся на государственной службе гонцы; путешествие по морю из Рима в Сирию занимало пятнадцать дней при попутном ветре, а иногда даже больше, с ноября по март морских путешествий старались избегать. В то время вообще не слишком много путешествовали, дальние поездки предпринимались, скорее, в силу необходимости. После Рима наиболее значительными городами были Карфаген, Александрия, Антиохия в Сирии и Эфес, самыми процветающими регионами — Тунис, Сирия и Турция. Отличительной особенностью Империи было двуязычие: в западной части языком власти, торговли и культуры служила латынь; в восточной половине Империи — греческий. Население: 50 000 000 жителей, максимум вдвое больше. Самые большие города насчитывали 100 000, может быть, 200 000 жителей, плюс население окрестных деревень. В Риме было 500 000 жителей, возможно, вдвое больше. Уровень жизни различался в зависимости от провинции и должен был варьироваться подобно тому, как это происходит в современных странах Ближнего и Среднего Востока в зависимости от того, бедные это страны или богатые.

 Рис. 2, 3. Карты к гл. 3 («Частная жизнь и жилищная архитектура в Римской Африке»)
Рис. 2, 3. Карты к гл. 3 («Частная жизнь и жилищная архитектура в Римской Африке»)
 Картина из Помпей, дом, называемый Домом Теренция Неона: портрет семейной пары, 79 год до н. э. Подобен знаменитым «Фаюмским портретам» в Римском Египте
(Национальный археологический музей Неаполя)
Они легко ломают льды веков: чтобы понять этих людей, достаточно просто взглянуть в их глаза; они смотрят на нас так же, как и мы на них. Искусство портрета не предполагает подобного обмена взглядами сквозь все эти эпохи.
Эти мужчина и женщина — не просто изображения, поскольку они нас видят; однако они не делают ничего, чтобы бросить нам вызов, нам понравиться, что–либо нам доказать или вселить в нас смутное ощущение чего–то недоступного, неподвластного нашему суждению. Они не слишком озабочены нашим присутствием и не выставляют себя напоказ: их присутствие настолько же естественно, насколько и наше; они — то же, что и мы; и взгляды, которыми мы обмениваемся, — равноценны.
Эта естественность, свойственная греко–римской культуре, на долгое время стала классической; она была настоящей, она не была привязана к какому–то определенному времени, она не вызывала в зрителе чувства смущения. Глава семьи и его жена не позируют, в выражениях лиц нет ничего демонстративного, их одежда никак не маркирована ни с социальной, ни с политической точки зрения и никак не влияет на индивидуальность моделей; украшения отсутствуют. Личность предстает такой, какая она есть, во всей своей бесстрастной сущности, и останется самой собой. вне зависимости от контекста. Искренность, простота, общечеловеческий гуманизм. Чтобы выглядеть элегантно, женщина укладывает волосы в красивую прическу и не надевает украшений.
Сегодня мы склонны верить скорее в диктат господствующих нравов, исторического момента, и в целесообразность. Одного–единственного, лежащего на самой поверхности аргумента будет вполне достаточно для того, чтобы очнуться от гуманистических мечтаний, в которые вовлекают нас люди с портрета: эти мужчина и женщина были достаточно богаты, чтобы позволить себе заказать портрет. К тому же реальными людьми они выглядят лишь на первый взгляд; будто бы случайно они были запечатлены в каноническом возрасте, то есть тогда, когда уже заканчивается взросление, но еще не начинается старость. Это не живые люди из плоти и крови, застигнутые в конкретный момент жизни, а скорее персонифицированный общественный тип, который претендует одновременно на подлинность и идеальность. Тем не менее запечатленный момент правдив, если не принимать во внимание возраст: через индивидуальность выражается сущность.
Символы, которые муж и жена держат в руках, неясностей в себе не содержат — они со всей очевидностью отражают высокий социальный статус моделей; и это вовсе не кошелек и меч, свидетельствующие о богатстве и власти, — это книга, табличка для письма и стилос. Эта культурная идиллия выглядит вполне естественной: книга и стилос для этих людей суть предметы вполне привычные, нет нужды намеренно выставлять их напоказ. Мужчина задумчиво подпирает подбородок книгой (в форме свитка), женщина отстраненно прижимает к губам стилос: она подбирает слог (в те времена поэзией могли заниматься и дамы) — достаточно редкий случай для античного искусства, в котором не слишком часто изображались простые человеческие жесты. Микеланджело будет большим любителем подобных «аутичных» движений, придающих образу оттенок сомнения или мечтательности (его Моисей рассеянно поглаживает бороду). Но люди на картине не мечтают: они размышляют, уверенные в себе, поскольку все в их образах — отстраненный взгляд, позы, предметы — свидетельствует о близости к культуре; и в этом будто бы нет никакого явного намека на их привилегированное положение: они держат книги просто потому, что любят читать. Тонкость и простота подобных изящных уловок придают величие греко–римскому миру, который мы собираемся посетить. Горожане они или аристократы? Да просто — изысканные люди.
Полагаю, что дружба и безграничная скорбь дают мне право посвятить эти страницы памяти Мишеля Фуко, человека настолько мощного, что, находясь рядом с ним, вы ощущали себя у подножия горы. Вот и еще одного источника энергии не стало.
Картина из Помпей, дом, называемый Домом Теренция Неона: портрет семейной пары, 79 год до н. э. Подобен знаменитым «Фаюмским портретам» в Римском Египте
(Национальный археологический музей Неаполя)
Они легко ломают льды веков: чтобы понять этих людей, достаточно просто взглянуть в их глаза; они смотрят на нас так же, как и мы на них. Искусство портрета не предполагает подобного обмена взглядами сквозь все эти эпохи.
Эти мужчина и женщина — не просто изображения, поскольку они нас видят; однако они не делают ничего, чтобы бросить нам вызов, нам понравиться, что–либо нам доказать или вселить в нас смутное ощущение чего–то недоступного, неподвластного нашему суждению. Они не слишком озабочены нашим присутствием и не выставляют себя напоказ: их присутствие настолько же естественно, насколько и наше; они — то же, что и мы; и взгляды, которыми мы обмениваемся, — равноценны.
Эта естественность, свойственная греко–римской культуре, на долгое время стала классической; она была настоящей, она не была привязана к какому–то определенному времени, она не вызывала в зрителе чувства смущения. Глава семьи и его жена не позируют, в выражениях лиц нет ничего демонстративного, их одежда никак не маркирована ни с социальной, ни с политической точки зрения и никак не влияет на индивидуальность моделей; украшения отсутствуют. Личность предстает такой, какая она есть, во всей своей бесстрастной сущности, и останется самой собой. вне зависимости от контекста. Искренность, простота, общечеловеческий гуманизм. Чтобы выглядеть элегантно, женщина укладывает волосы в красивую прическу и не надевает украшений.
Сегодня мы склонны верить скорее в диктат господствующих нравов, исторического момента, и в целесообразность. Одного–единственного, лежащего на самой поверхности аргумента будет вполне достаточно для того, чтобы очнуться от гуманистических мечтаний, в которые вовлекают нас люди с портрета: эти мужчина и женщина были достаточно богаты, чтобы позволить себе заказать портрет. К тому же реальными людьми они выглядят лишь на первый взгляд; будто бы случайно они были запечатлены в каноническом возрасте, то есть тогда, когда уже заканчивается взросление, но еще не начинается старость. Это не живые люди из плоти и крови, застигнутые в конкретный момент жизни, а скорее персонифицированный общественный тип, который претендует одновременно на подлинность и идеальность. Тем не менее запечатленный момент правдив, если не принимать во внимание возраст: через индивидуальность выражается сущность.
Символы, которые муж и жена держат в руках, неясностей в себе не содержат — они со всей очевидностью отражают высокий социальный статус моделей; и это вовсе не кошелек и меч, свидетельствующие о богатстве и власти, — это книга, табличка для письма и стилос. Эта культурная идиллия выглядит вполне естественной: книга и стилос для этих людей суть предметы вполне привычные, нет нужды намеренно выставлять их напоказ. Мужчина задумчиво подпирает подбородок книгой (в форме свитка), женщина отстраненно прижимает к губам стилос: она подбирает слог (в те времена поэзией могли заниматься и дамы) — достаточно редкий случай для античного искусства, в котором не слишком часто изображались простые человеческие жесты. Микеланджело будет большим любителем подобных «аутичных» движений, придающих образу оттенок сомнения или мечтательности (его Моисей рассеянно поглаживает бороду). Но люди на картине не мечтают: они размышляют, уверенные в себе, поскольку все в их образах — отстраненный взгляд, позы, предметы — свидетельствует о близости к культуре; и в этом будто бы нет никакого явного намека на их привилегированное положение: они держат книги просто потому, что любят читать. Тонкость и простота подобных изящных уловок придают величие греко–римскому миру, который мы собираемся посетить. Горожане они или аристократы? Да просто — изысканные люди.
Полагаю, что дружба и безграничная скорбь дают мне право посвятить эти страницы памяти Мишеля Фуко, человека настолько мощного, что, находясь рядом с ним, вы ощущали себя у подножия горы. Вот и еще одного источника энергии не стало.
 Рис. 4. Волюбилис, северо–восточный квартал (план Алье, Гольвена и Ленна. Rebuffat R. Le developpement urbain de Volubilis… // ВАС. 1965–1966)
Необходимо отметить и еще одно обстоятельство: всякая попытка вписать жилые здания в ткань города наталкивается на полное наше невежество: мы не знаем, как именно уличное пространство было связано с пространством жилым. Ни один фасад невозможно восстановить в его изначальном виде. Поэтому нам не известно ни количество проемов, выходивших на улицу, ни их размеры, ни принцип их расположения, ни, в большинстве случаев, те способы, которыми их принято было закрывать. Сведений о самых обычных повседневных практиках нам также катастрофически не хватает. Принято ли было окна закрывать или оставлять открытыми? Можно ли было посидеть у окна или на балконе? Украшались ли в праздничные дни фасады жилых зданий? И еще немалое количество не менее интересных вопросов относительно связей домашнего пространства с жизнью улицы по–прежнему остается без ответа, и тексты в данном случае красноречиво безмолвствуют.
Однако существует и такой момент, касающийся взаимосвязи публичных и частных пространств, который археологические источники все–таки могут прояснить. Речь идет о модусах взаимодействия этих пространств на уровне первого этажа, в тех случаях, когда их разделял не фасад, четко маркирующий границу, но портик как некая промежуточная зона. Эта архитектурная форма двойственна сама по себе: переходные пространства могут либо принадлежать сфере сугубо публичной, либо, напротив, совершенно определенным образом связываться со сферой приватной. Так, короткий портик перед главным входом в «Дом Сертия» в Тимгаде (рис. 19) составляет часть жилого здания, наружную часть которого он украшает. Напротив, когда пышные колоннады, возводимые в рамках масштабного градостроительного проекта, дублируют улицу, они, по сути, играют роль сугубо публичного пространства, что читается и в их архитектуре и в том, что они прежде всего предназначены для того, чтобы облегчать движение пешеходов по городу. Так подтверждается идея единства города, преодолевающего дробность частных пространств.
Рис. 4. Волюбилис, северо–восточный квартал (план Алье, Гольвена и Ленна. Rebuffat R. Le developpement urbain de Volubilis… // ВАС. 1965–1966)
Необходимо отметить и еще одно обстоятельство: всякая попытка вписать жилые здания в ткань города наталкивается на полное наше невежество: мы не знаем, как именно уличное пространство было связано с пространством жилым. Ни один фасад невозможно восстановить в его изначальном виде. Поэтому нам не известно ни количество проемов, выходивших на улицу, ни их размеры, ни принцип их расположения, ни, в большинстве случаев, те способы, которыми их принято было закрывать. Сведений о самых обычных повседневных практиках нам также катастрофически не хватает. Принято ли было окна закрывать или оставлять открытыми? Можно ли было посидеть у окна или на балконе? Украшались ли в праздничные дни фасады жилых зданий? И еще немалое количество не менее интересных вопросов относительно связей домашнего пространства с жизнью улицы по–прежнему остается без ответа, и тексты в данном случае красноречиво безмолвствуют.
Однако существует и такой момент, касающийся взаимосвязи публичных и частных пространств, который археологические источники все–таки могут прояснить. Речь идет о модусах взаимодействия этих пространств на уровне первого этажа, в тех случаях, когда их разделял не фасад, четко маркирующий границу, но портик как некая промежуточная зона. Эта архитектурная форма двойственна сама по себе: переходные пространства могут либо принадлежать сфере сугубо публичной, либо, напротив, совершенно определенным образом связываться со сферой приватной. Так, короткий портик перед главным входом в «Дом Сертия» в Тимгаде (рис. 19) составляет часть жилого здания, наружную часть которого он украшает. Напротив, когда пышные колоннады, возводимые в рамках масштабного градостроительного проекта, дублируют улицу, они, по сути, играют роль сугубо публичного пространства, что читается и в их архитектуре и в том, что они прежде всего предназначены для того, чтобы облегчать движение пешеходов по городу. Так подтверждается идея единства города, преодолевающего дробность частных пространств.
 Рис. 5. Фрагмент плана колонии в Тимгаде (Boeswillwald Е., Ballu А., Cagnat R. Timgad, une cite africaine sous L’Empire romain. Paris, 1905. P. 337. Fig. 166). Первоначальная площадь включает 132 инсулы — квадратных участка со стороной примерно 20 метров. Достаточно часто можно отчетливо различить стены последующего деления, разграничивающего участок на несколько частей. Инсулы 73 и 82 были объединены за счет присоединения общего пространства улицы. Инсула 100 увеличена за счет захвата части уличного пространства.
Однако при ближайшем рассмотрении архитектура широких портиков, строившихся вдоль улиц, делает очевидной двойственность этих пространств. Их однородность в действительности никогда не была абсолютной, в том числе и на такой важной артерии, как decumanus maximus в Волюбилисе (рис. 4), где можно констатировать, к примеру, что перед «Домом подвигов Геракла» (рис. 25) ритм междуколонных промежутков меняется. Большие арки покоятся на девяти опорах, причем общая композиция очевидным образом связана с жилым помещением: справа от стен, которые изначально ограждали это последнее, еще более мощные опоры развернуты таким образом, чтобы поддерживать арки, перпендикулярные линии улицы. Так, чисто эстетически данное пространство связано со зданием, которое оно ограничивает. С функциональной же точки зрения это нарушение ритма вторично: оно не нарушает единства ансамбля и нисколько не препятствует использованию портика как части уличного пространства. Тем не менее Подобный двусмысленный статус, придаваемый публичному пространству, может быть следствием вполне прагматического умысла: на параллельной улице подобное же пространство было аннексировано владельцами «Дома Свиты Венеры», которых ничуть не заботило уличное движение (рис. 22: первый входной вестибюль VI и комната 19, служившая раздевалкой при домашних термах). Похожая операция, по всей видимости, была проделана в Куикуле в пользу «Дома Европы» (рис. 15): расширение, очевидно, в результате перестройки, части его комнат вплоть до мостовой большой cardo[44] разрывает портик, дублирующий эту магистраль. Колоннада остается на своем месте и со стороны не кажется захваченной полностью. Однако дробление портика, публичная функциональность которого коренится в непрерывности ограниченного колоннадой пространства, фактически превращает его в пристройку здания, окончательно интегрируя его в общий облик фасада.
Рис. 5. Фрагмент плана колонии в Тимгаде (Boeswillwald Е., Ballu А., Cagnat R. Timgad, une cite africaine sous L’Empire romain. Paris, 1905. P. 337. Fig. 166). Первоначальная площадь включает 132 инсулы — квадратных участка со стороной примерно 20 метров. Достаточно часто можно отчетливо различить стены последующего деления, разграничивающего участок на несколько частей. Инсулы 73 и 82 были объединены за счет присоединения общего пространства улицы. Инсула 100 увеличена за счет захвата части уличного пространства.
Однако при ближайшем рассмотрении архитектура широких портиков, строившихся вдоль улиц, делает очевидной двойственность этих пространств. Их однородность в действительности никогда не была абсолютной, в том числе и на такой важной артерии, как decumanus maximus в Волюбилисе (рис. 4), где можно констатировать, к примеру, что перед «Домом подвигов Геракла» (рис. 25) ритм междуколонных промежутков меняется. Большие арки покоятся на девяти опорах, причем общая композиция очевидным образом связана с жилым помещением: справа от стен, которые изначально ограждали это последнее, еще более мощные опоры развернуты таким образом, чтобы поддерживать арки, перпендикулярные линии улицы. Так, чисто эстетически данное пространство связано со зданием, которое оно ограничивает. С функциональной же точки зрения это нарушение ритма вторично: оно не нарушает единства ансамбля и нисколько не препятствует использованию портика как части уличного пространства. Тем не менее Подобный двусмысленный статус, придаваемый публичному пространству, может быть следствием вполне прагматического умысла: на параллельной улице подобное же пространство было аннексировано владельцами «Дома Свиты Венеры», которых ничуть не заботило уличное движение (рис. 22: первый входной вестибюль VI и комната 19, служившая раздевалкой при домашних термах). Похожая операция, по всей видимости, была проделана в Куикуле в пользу «Дома Европы» (рис. 15): расширение, очевидно, в результате перестройки, части его комнат вплоть до мостовой большой cardo[44] разрывает портик, дублирующий эту магистраль. Колоннада остается на своем месте и со стороны не кажется захваченной полностью. Однако дробление портика, публичная функциональность которого коренится в непрерывности ограниченного колоннадой пространства, фактически превращает его в пристройку здания, окончательно интегрируя его в общий облик фасада.
 Рис. 6. Булла Регия (план А. Бруаза в кн.: Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Les Ruines de Bulla Regia. Rome, 1977. Fig. 3). 12: дом № 3 (см. рис. 27); 18–19: «Дом Охоты» (см. рис. 8: строго прямоугольный в плане участок резко отличается от других, имеющих менее правильную форму); 23: «Дом Рыбалки» (его западная граница расширена за счет улицы). Существование перистиля установлено в домах № 10, 11 (?), 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 36 и 37. Наличие частных купален зафиксировано в домах № 9, 18, 23, 25, 28 и 37 (?)
Это концептуальное единство не менее заметно и в самой архитектуре, во всех отраслях которой происходили подобные же эволюционные изменения. В поздней Римской империи и в жилых домах, и в общественно–значимых постройках зафиксирована тенденция к увеличению апсид, а также ко все более частому использованию арок, опирающихся на колонны вместо традиционного архитрава. Однородность архитектуры и декора зданий разного предназначения такова, что в отсутствие описаний бывает трудно установить принадлежность руин к тому или иному типу. Действительно, функциональные задачи публичных сооружений, будь то служебные помещения официальных лиц, здания, предназначенные для приема жителей города, либо резиденции коллегий и ассоциаций, игравших столь важную роль в общественной жизни, очень близки нуждам частного домовладения. Непрекращающиеся Дебаты исследователей по поводу частного или публичного характера некоторых построек весьма показательны для того сущностного единства, которое характеризует тогдашнюю архитектуру. в отдельных случаях эти споры позволили в конце концов найти правдоподобную интерпретацию. Так, например, предполагалось, что «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе был предназначен дляколлективного использования — просто в силу того размаха, с которым была возведена постройка. Присутствие в нем поздней мозаики, на которой фигурирует нечто вроде корзины с именем Асклепия, заставляло думать, что функции здания поменялись, и, вероятно, в связи с культом Эскулапа. Правильная интерпретация предмета, на котором написано имя (фактически, это агонистический венок, которым награждали победителя игр, проводившихся под покровительством Асклепия), опровергла эту гипотезу.[46] Дом никогда не переставал принадлежать частным владельцам, и именно один из них решил увековечить победу, одержанную в каком–то из многочисленных состязаний, проходивших по всему Средиземноморью (рис. 12).
Особого внимания заслуживает здание, которое прекрасно иллюстрирует общее единство архитектуры эпохи Империи. В самом деле, домашняя базилика в «Доме охоты» в Булла Регия позволяет понять, какое отношение жилищная архитектура имела к проблемам, возникавшим в других отраслях строительства, и к решению этих проблем[47]. Этот памятник, четко датируемый первой половиной IV века, был воздвигнут по проекту, включавшему апсиду, трансепт, пересечение которого с нефом подчеркнуто использованием опор, украшенных лепным орнаментом, и длинный неф, фланкированный подсобными помещениями там, где в базилике гражданской или религиозной находились бы боковые нефы. Большая часть этих расположенных анфиладами помещений также сообщается с центральным нефом, что позволяет пере двигаться внутри строения почти так же свободно, как в больших зданиях с тремя нефами. Несмотря на многочисленные поздние перестройки, можно легко представить стройность и гармоничное единство первоначального ансамбля (рис. 7 и 8).
Некоторые из рассмотренных архитектурных решений имеют прямые аналогии с конструктивными особенностями первых христианских храмов. Это позволяет соотнести их с одной из самых сложных проблем античной архитектуры — проблемой происхождения формы раннехристианской базилики, которая включает прямоугольный разделенный на нефы зал (самый высокий центральный неф освещается дневным светом из окон, расположенных выше уровня крыш боковых нефов), апсиду и второстепенные элементы, наиболее характерным из которых является трансепт.[48]
Сам по себе этот спор, породивший обширную литературу, в значительной степени базируется на ошибочной постановке проблемы. С одной стороны, мы видим желание обосновать оригинальность христианской архитектуры: в этом случае перед нами не более чем очередной извод старого представления о необходимости отстаивать автономность религиозных феноменов вместо того, чтобы вписывать их в процесс общей социальной эволюции. С другой — вполне логичный отказ от подобного образа мысли, уравновешенный, впрочем, воспроизведением одних и тех же, по сути, аргументов, основанных на теории влияний и на попытках любой ценой отыскать некие предшествующие формы. Ответ же следует искать в несколько иной области.
Рис. 6. Булла Регия (план А. Бруаза в кн.: Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Les Ruines de Bulla Regia. Rome, 1977. Fig. 3). 12: дом № 3 (см. рис. 27); 18–19: «Дом Охоты» (см. рис. 8: строго прямоугольный в плане участок резко отличается от других, имеющих менее правильную форму); 23: «Дом Рыбалки» (его западная граница расширена за счет улицы). Существование перистиля установлено в домах № 10, 11 (?), 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 36 и 37. Наличие частных купален зафиксировано в домах № 9, 18, 23, 25, 28 и 37 (?)
Это концептуальное единство не менее заметно и в самой архитектуре, во всех отраслях которой происходили подобные же эволюционные изменения. В поздней Римской империи и в жилых домах, и в общественно–значимых постройках зафиксирована тенденция к увеличению апсид, а также ко все более частому использованию арок, опирающихся на колонны вместо традиционного архитрава. Однородность архитектуры и декора зданий разного предназначения такова, что в отсутствие описаний бывает трудно установить принадлежность руин к тому или иному типу. Действительно, функциональные задачи публичных сооружений, будь то служебные помещения официальных лиц, здания, предназначенные для приема жителей города, либо резиденции коллегий и ассоциаций, игравших столь важную роль в общественной жизни, очень близки нуждам частного домовладения. Непрекращающиеся Дебаты исследователей по поводу частного или публичного характера некоторых построек весьма показательны для того сущностного единства, которое характеризует тогдашнюю архитектуру. в отдельных случаях эти споры позволили в конце концов найти правдоподобную интерпретацию. Так, например, предполагалось, что «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе был предназначен дляколлективного использования — просто в силу того размаха, с которым была возведена постройка. Присутствие в нем поздней мозаики, на которой фигурирует нечто вроде корзины с именем Асклепия, заставляло думать, что функции здания поменялись, и, вероятно, в связи с культом Эскулапа. Правильная интерпретация предмета, на котором написано имя (фактически, это агонистический венок, которым награждали победителя игр, проводившихся под покровительством Асклепия), опровергла эту гипотезу.[46] Дом никогда не переставал принадлежать частным владельцам, и именно один из них решил увековечить победу, одержанную в каком–то из многочисленных состязаний, проходивших по всему Средиземноморью (рис. 12).
Особого внимания заслуживает здание, которое прекрасно иллюстрирует общее единство архитектуры эпохи Империи. В самом деле, домашняя базилика в «Доме охоты» в Булла Регия позволяет понять, какое отношение жилищная архитектура имела к проблемам, возникавшим в других отраслях строительства, и к решению этих проблем[47]. Этот памятник, четко датируемый первой половиной IV века, был воздвигнут по проекту, включавшему апсиду, трансепт, пересечение которого с нефом подчеркнуто использованием опор, украшенных лепным орнаментом, и длинный неф, фланкированный подсобными помещениями там, где в базилике гражданской или религиозной находились бы боковые нефы. Большая часть этих расположенных анфиладами помещений также сообщается с центральным нефом, что позволяет пере двигаться внутри строения почти так же свободно, как в больших зданиях с тремя нефами. Несмотря на многочисленные поздние перестройки, можно легко представить стройность и гармоничное единство первоначального ансамбля (рис. 7 и 8).
Некоторые из рассмотренных архитектурных решений имеют прямые аналогии с конструктивными особенностями первых христианских храмов. Это позволяет соотнести их с одной из самых сложных проблем античной архитектуры — проблемой происхождения формы раннехристианской базилики, которая включает прямоугольный разделенный на нефы зал (самый высокий центральный неф освещается дневным светом из окон, расположенных выше уровня крыш боковых нефов), апсиду и второстепенные элементы, наиболее характерным из которых является трансепт.[48]
Сам по себе этот спор, породивший обширную литературу, в значительной степени базируется на ошибочной постановке проблемы. С одной стороны, мы видим желание обосновать оригинальность христианской архитектуры: в этом случае перед нами не более чем очередной извод старого представления о необходимости отстаивать автономность религиозных феноменов вместо того, чтобы вписывать их в процесс общей социальной эволюции. С другой — вполне логичный отказ от подобного образа мысли, уравновешенный, впрочем, воспроизведением одних и тех же, по сути, аргументов, основанных на теории влияний и на попытках любой ценой отыскать некие предшествующие формы. Ответ же следует искать в несколько иной области.

 Рис. 7, 8, 9. Булла Регия, «Дом Охоты» и южный подземный этаж (планы А. Оливье; Ibid. Fig. 44, 46. А: въездной двор; В: вестибюль; С: лестница на второй этаж; D: спальня; Е: триклиний (столовая); F: перистиль; G: экседра (приемная); Н: домашнее святилище; I: туалет; J: термы), с интерпретирующей участок схемой, где показаны базилика и большой перистиль в их исходном состоянии (длинным штрихом — эллинистическое деление участка; пунктиром — южная граница между «Домом Охоты» и «Новым Домом Охоты»)
Вполне очевидно, что, несмотря на все уверения в оригинальности христианских построек, последние по большей пасти наследуют решения, уже отработанные в рамках более ранних архитектурных традиций. Апсида как способ выделить сакральное пространство — один из стандартных приемов гражданской и религиозной архитектуры с начала эпохи Империи. К этой же традиции восходит принцип разделения обширного внутреннего пространства на иерархизированные Нефы. Не менее очевидным представляется и тот факт, что данный набор архитектурных форм жив и до сей поры и что период поздней Римской империи — это время весьма значимых перемен, движущей силой которых является отнюдь не христианство: речь идет о глобальной эволюции самой архитектуры, напрямую связанной с изменениями в сфере социальных отношений. В поздней Римской империи культовые сооружения возводили по тем же принципам, которыми руко водствовались при строительстве других зданий. Термин «христианская архитектура» может служить лишь для обозначения построек, предназначенных для отправления христианского культа, с тем чтобы отразить их специфику, а вовсе не для именования принципиально нового архитектурного направления, способного продуцировать оригинальные формы и проекты.
Домашняя базилика в Булла Регия служит тем более очевидной иллюстрацией этого факта, что ее крестообразный план соответствует тому типу архитектурных проектов, который христианство существенно обогатило символическими значениями. До этого, несмотря на существование текста Витрувия, описывающего «халкидики» — поперечные пристройки, используемые для уравновешивания некоторых архитектурных композиций, — ни одно археологическое свидетельство не подтверждало существования трансепта в языческой базилике. Первые известные примеры базилики с трансептом — это религиозные сооружения Константина в Риме и Константинополе. Что же касается проблемы происхождения формы христианской базилики, то имеет смысл предположить, что базилики с трансептом могли появиться как специфически христианский вариант архитектурного использования креста как символа — со всем подобающим размахом.
Таким образом, спор как таковой оказывается лишенным смысла. В 380 году Григорий Назианзин, описывая церковь Святых Апостолов, построенную в Константинополе, в первую очередь подчеркивает ее сходство с крестом. Именно в это время благодаря распространению культа креста такая архитектурная форма пользуется огромным успехом и на Западе, примером чего служат постройки епископа Амвросия Медиоланского. Однако пятьюдесятью годами ранее Евсевий, говоря о том же самом памятнике, вовсе не обращает внимания на это подобие. Хронология возникновения символики креста, столь популярной в будущем, — аргумент вполне достаточный, чтобы опровергнуть любую попытку найти специфически религиозную причину разработки плана такого типа. Дело обстоит как раз наоборот: христианская интерпретация накладывается на архитектурную форму, исходно лишенную какого бы то ни было религиозного смысла.
Датировка домашней базилики в Булла Регия наглядно подтверждает наши рассуждения. До сих пор не было известно ни одного сооружения подобного типа, относящегося к периоду между появлением памятников константиновского времени и крестообразными в плане христианскими базиликами V–VI веков. Особенно интересно, что лакуна отчасти заполняется именно зданием сугубо приватным, что свидетельствует о необходимости связать использование трансепта в раннехристианской архитектурной традиции с тем, что происходило в сфере гражданской архитектуры и в архитектуре в целом. По всей видимости, начиная с этого времени трансепт предлагает эффективное решение проблемы передвижения участников всевозможных церемоний в интерьерных пространствах — верующих вокруг реликвий, духовенства вокруг алтаря или сановников вокруг правителя. В Булла Регия стояла та же задача: организовать торжественное предстояние dominus’a людям, находящимся под его рукой. И решение, вплоть до пропорций — выступающие части трансепта образуют два квадрата, — идентично тому, к которому прибегала христианская архитектура и которое, вероятно, было применено в императорском дворце в Равенне.[49]
Фактически, главная особенность этих зданий — членение пространства с помощью продольных нефов и поперечной оси, при котором все объемы объединяются в центральной точке. Такая структура, задающая доминантное положение одной пространственной зоны по отношению к другим, где располагаются второстепенные участники церемонии и зрители, соответствует отношениям господства–подчинения, каковые по умолчанию предполагает статус императора, епископа или аристократа, — и противоположна структуре здания для совещаний, предполагающей не только центрированный план, но прежде всего однородность пространства. Из длинных нефов базилики пассивные участники ритуала могут лишь наблюдать за тем, что происходит перед ними в апсиде; трансепт способствует фокусировке их внимания и усиливает иерархическое противопоставление привилегированным участникам.
Таким образом, сходные задачи обусловливают параллельность архитектурных решений, использование набора приемов давно выработанных и просто–напросто адаптированных к потребностям не новым, но ставшим существенно важными. Пример здания в Булла Регия показывает, что такая характерная форма, как базилика с трансептом, не является исключительной принадлежностью религиозных построек и что в архитектуре того времени нет принципиальной разницы между частным и публичным.
Рис. 7, 8, 9. Булла Регия, «Дом Охоты» и южный подземный этаж (планы А. Оливье; Ibid. Fig. 44, 46. А: въездной двор; В: вестибюль; С: лестница на второй этаж; D: спальня; Е: триклиний (столовая); F: перистиль; G: экседра (приемная); Н: домашнее святилище; I: туалет; J: термы), с интерпретирующей участок схемой, где показаны базилика и большой перистиль в их исходном состоянии (длинным штрихом — эллинистическое деление участка; пунктиром — южная граница между «Домом Охоты» и «Новым Домом Охоты»)
Вполне очевидно, что, несмотря на все уверения в оригинальности христианских построек, последние по большей пасти наследуют решения, уже отработанные в рамках более ранних архитектурных традиций. Апсида как способ выделить сакральное пространство — один из стандартных приемов гражданской и религиозной архитектуры с начала эпохи Империи. К этой же традиции восходит принцип разделения обширного внутреннего пространства на иерархизированные Нефы. Не менее очевидным представляется и тот факт, что данный набор архитектурных форм жив и до сей поры и что период поздней Римской империи — это время весьма значимых перемен, движущей силой которых является отнюдь не христианство: речь идет о глобальной эволюции самой архитектуры, напрямую связанной с изменениями в сфере социальных отношений. В поздней Римской империи культовые сооружения возводили по тем же принципам, которыми руко водствовались при строительстве других зданий. Термин «христианская архитектура» может служить лишь для обозначения построек, предназначенных для отправления христианского культа, с тем чтобы отразить их специфику, а вовсе не для именования принципиально нового архитектурного направления, способного продуцировать оригинальные формы и проекты.
Домашняя базилика в Булла Регия служит тем более очевидной иллюстрацией этого факта, что ее крестообразный план соответствует тому типу архитектурных проектов, который христианство существенно обогатило символическими значениями. До этого, несмотря на существование текста Витрувия, описывающего «халкидики» — поперечные пристройки, используемые для уравновешивания некоторых архитектурных композиций, — ни одно археологическое свидетельство не подтверждало существования трансепта в языческой базилике. Первые известные примеры базилики с трансептом — это религиозные сооружения Константина в Риме и Константинополе. Что же касается проблемы происхождения формы христианской базилики, то имеет смысл предположить, что базилики с трансептом могли появиться как специфически христианский вариант архитектурного использования креста как символа — со всем подобающим размахом.
Таким образом, спор как таковой оказывается лишенным смысла. В 380 году Григорий Назианзин, описывая церковь Святых Апостолов, построенную в Константинополе, в первую очередь подчеркивает ее сходство с крестом. Именно в это время благодаря распространению культа креста такая архитектурная форма пользуется огромным успехом и на Западе, примером чего служат постройки епископа Амвросия Медиоланского. Однако пятьюдесятью годами ранее Евсевий, говоря о том же самом памятнике, вовсе не обращает внимания на это подобие. Хронология возникновения символики креста, столь популярной в будущем, — аргумент вполне достаточный, чтобы опровергнуть любую попытку найти специфически религиозную причину разработки плана такого типа. Дело обстоит как раз наоборот: христианская интерпретация накладывается на архитектурную форму, исходно лишенную какого бы то ни было религиозного смысла.
Датировка домашней базилики в Булла Регия наглядно подтверждает наши рассуждения. До сих пор не было известно ни одного сооружения подобного типа, относящегося к периоду между появлением памятников константиновского времени и крестообразными в плане христианскими базиликами V–VI веков. Особенно интересно, что лакуна отчасти заполняется именно зданием сугубо приватным, что свидетельствует о необходимости связать использование трансепта в раннехристианской архитектурной традиции с тем, что происходило в сфере гражданской архитектуры и в архитектуре в целом. По всей видимости, начиная с этого времени трансепт предлагает эффективное решение проблемы передвижения участников всевозможных церемоний в интерьерных пространствах — верующих вокруг реликвий, духовенства вокруг алтаря или сановников вокруг правителя. В Булла Регия стояла та же задача: организовать торжественное предстояние dominus’a людям, находящимся под его рукой. И решение, вплоть до пропорций — выступающие части трансепта образуют два квадрата, — идентично тому, к которому прибегала христианская архитектура и которое, вероятно, было применено в императорском дворце в Равенне.[49]
Фактически, главная особенность этих зданий — членение пространства с помощью продольных нефов и поперечной оси, при котором все объемы объединяются в центральной точке. Такая структура, задающая доминантное положение одной пространственной зоны по отношению к другим, где располагаются второстепенные участники церемонии и зрители, соответствует отношениям господства–подчинения, каковые по умолчанию предполагает статус императора, епископа или аристократа, — и противоположна структуре здания для совещаний, предполагающей не только центрированный план, но прежде всего однородность пространства. Из длинных нефов базилики пассивные участники ритуала могут лишь наблюдать за тем, что происходит перед ними в апсиде; трансепт способствует фокусировке их внимания и усиливает иерархическое противопоставление привилегированным участникам.
Таким образом, сходные задачи обусловливают параллельность архитектурных решений, использование набора приемов давно выработанных и просто–напросто адаптированных к потребностям не новым, но ставшим существенно важными. Пример здания в Булла Регия показывает, что такая характерная форма, как базилика с трансептом, не является исключительной принадлежностью религиозных построек и что в архитектуре того времени нет принципиальной разницы между частным и публичным.
 Рис. 10. Ачолла, «Дом Нептуна» (Gozlan S. Karthago, 16, 1971–1972, fig. 2). Перистиль с экусом на западе, триклинием на юге и спальнями с ведущими в них прихожими или коридорами на юго–западе. Я хотел бы выразить здесь благодарность М. Е. Васту, фотографу Университета аудиовизуальных технологий (UAV) Высшей нормальной школы (ENS) в Сен—Клу, который помог мне в работе над этими материалами
Это стратегическое место — предмет особой заботы проектировщиков. Во многих случаях портик, образуемый двумя колоннами, поддерживающими крышу, подчеркивает значимость этого двойственного пространства, которое, еще не будучи в полном смысле этого слова частью домашнего интерьера, зачастую вторгается в пределы улицы. Реальная граница маркирована створками двери, и переход устроен сложно: чаще всего это не одна дверь, а два или даже три прохода, отчетливо иерархизированных. Широкий дверной проем, закрываемый двумя створками, фланкирован одним или двумя более узкими входами. Вопреки тому что иногда пишут, речь идет вовсе не о въездных воротах и о двери, через которую люди ходят на своих двоих: тот способ, которым двери и пороги используются в контексте общей системы жилых помещений, не позволяет полагать, что даже самая маленькая Повозка могла бы проехать через этот проем. Фактически речь идет о том, что один вход делился на несколько частей, что давало возможность варьировать степень «открытости» дома в зависимости от ситуации: как правило, пользовались одним только малым входом, скромные размеры которого подчеркивают границу между пространством внешним и пространством домашним; иногда, наоборот, открывали главный вход: это, вне всякого сомнения, происходило в тех случаях, когда хозяин дома давал какой–нибудь важный прием, и, вероятнее всего, еще и по утрам, чтобы обозначить момент, когда он изъявляет согласие принимать знаки почтения от своих клиентов.
Вход в жилище является, таким образом, местом непростым и весьма значимым, поскольку по одному только его виду в разное время суток и в разные дни можно сделать вывод о том, на каких условиях дом в данный момент готов общаться с внешним миром. Стоит ли удивляться, что он получает и особое архитектурное оформление, отражающее амбиции владельца: многим согражданам никогда не суждено пересечь данную границу, и это прекрасный способ продемонстрировать им свое богатство. Архитектурные решения, ориентированные именно на подобного рода семантику, широко распространены в зажиточном северо–восточном квартале Волюбилиса, и прекрасный тому пример — «Дом Подвигов Геракла»: две небольшие полуколонны обрамляют малый вход, вся композиция которого украшена лепным орнаментом; главный вход с обеих сторон фланкирован сдвоенными полуколоннами. Таким образом, сам внешний облик входа позволяет прохожему составить представление о роскоши жилища, а клиенту дает понять, как, в зависимости от времени дня, следует себя вести.
Пройдя через главный вход, посетитель сразу попадает в вестибюль: пространство также переходное, но уже принадлежащее собственно к дому, где вошедший сразу оказывается под контролем. Стоя в вестибюле, сам он, чаще всего, имеет возможность оглядеть лишь крайне ограниченный объем внутреннего пространства. Как правило, это место находится под наблюдением привратника: ianitor нередко упоминается в текстах, и очень часто в руинах домов находят небольшое помещение, выходящее непосредственно в вестибюль; по всей видимости, оно служило комнатой для рабов, обязанностью которых была охрана входа. Вестибюль, как и другие переходные пространства, должен отражать пышность дома и демонстрировать ее всякому входящему. Описывая дворец Психеи (речь идет об утопии, однако в нашем случае это не умаляет ценности текста), Апулей подчеркивает, что божественная природа жилища бросается в глаза сразу же, как только попадаешь в него (Met., V, 1): богатство дома должно поражать своим великолепием от самых дверей. Витрувий помещает вестибюль между комнатами, которые в домах владельцев с высоким достатком должны быть просторны и роскошны, и торжество этого принципа прекрасно подтверждают руины зданий. Особенно примечательно, что в большинстве богатых domus’ов входной вестибюль является одним из самых больших помещений. Случается также — и подобными архитектурными решениями весьма богат северо–восточный квартал Волюбилиса (рис. 11), — что вестибюль ведет прямо в перистиль через тройной проем, масштабная композиция которого перекликается с композицией главного входа. Небольшая колоннада, сооруженная в самом вестибюле, также может усиливать впечатление о богатстве домовладения: именно так обстояло дело в «Доме Кастория» в Куикуле или в «Доме Сертия» в Тимгаде (рис. 14 и 19). Однако один из самых ярких примеров того, насколько важное значение придавали прилегающей ко входу части здания, нам дает «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе (рис. 12), городе во внутренней части Туниса. Позади длинной Двадцатиметровой галереи, соединяющей комнаты, которые образуют два выступа по фасаду здания, находятся расположенные фактически бок о бок три входных вестибюля; они соответствуют трем иерархизированным входам. Главный вход позволяет попасть в центральный зал, размещенный на оси симметрии здания: имея площадь около 70 квадратных метров, он является самым обширным помещением этого памятника. Внимание, уделенное декору, отвечает архитектурному размаху: стены облицованы мраморной плиткой, пол покрывает масштабная мозаичная композиция, изображающая морские сюжеты; сложность и качество исполнения мозаики свидетельствуют о том важном значении, которое придавали этому месту. Два боковых вестибюля фактически продолжают центральный зал. В каждом из них находится открытый бассейн, обращенный к центру, и, по сути, они играют роль проходов, позволяющих попасть в комнаты, расположенные по краям от них. Свойственная всей композиции идеальная симметричность последовательно выдерживается по всей площади здания.
Рис. 10. Ачолла, «Дом Нептуна» (Gozlan S. Karthago, 16, 1971–1972, fig. 2). Перистиль с экусом на западе, триклинием на юге и спальнями с ведущими в них прихожими или коридорами на юго–западе. Я хотел бы выразить здесь благодарность М. Е. Васту, фотографу Университета аудиовизуальных технологий (UAV) Высшей нормальной школы (ENS) в Сен—Клу, который помог мне в работе над этими материалами
Это стратегическое место — предмет особой заботы проектировщиков. Во многих случаях портик, образуемый двумя колоннами, поддерживающими крышу, подчеркивает значимость этого двойственного пространства, которое, еще не будучи в полном смысле этого слова частью домашнего интерьера, зачастую вторгается в пределы улицы. Реальная граница маркирована створками двери, и переход устроен сложно: чаще всего это не одна дверь, а два или даже три прохода, отчетливо иерархизированных. Широкий дверной проем, закрываемый двумя створками, фланкирован одним или двумя более узкими входами. Вопреки тому что иногда пишут, речь идет вовсе не о въездных воротах и о двери, через которую люди ходят на своих двоих: тот способ, которым двери и пороги используются в контексте общей системы жилых помещений, не позволяет полагать, что даже самая маленькая Повозка могла бы проехать через этот проем. Фактически речь идет о том, что один вход делился на несколько частей, что давало возможность варьировать степень «открытости» дома в зависимости от ситуации: как правило, пользовались одним только малым входом, скромные размеры которого подчеркивают границу между пространством внешним и пространством домашним; иногда, наоборот, открывали главный вход: это, вне всякого сомнения, происходило в тех случаях, когда хозяин дома давал какой–нибудь важный прием, и, вероятнее всего, еще и по утрам, чтобы обозначить момент, когда он изъявляет согласие принимать знаки почтения от своих клиентов.
Вход в жилище является, таким образом, местом непростым и весьма значимым, поскольку по одному только его виду в разное время суток и в разные дни можно сделать вывод о том, на каких условиях дом в данный момент готов общаться с внешним миром. Стоит ли удивляться, что он получает и особое архитектурное оформление, отражающее амбиции владельца: многим согражданам никогда не суждено пересечь данную границу, и это прекрасный способ продемонстрировать им свое богатство. Архитектурные решения, ориентированные именно на подобного рода семантику, широко распространены в зажиточном северо–восточном квартале Волюбилиса, и прекрасный тому пример — «Дом Подвигов Геракла»: две небольшие полуколонны обрамляют малый вход, вся композиция которого украшена лепным орнаментом; главный вход с обеих сторон фланкирован сдвоенными полуколоннами. Таким образом, сам внешний облик входа позволяет прохожему составить представление о роскоши жилища, а клиенту дает понять, как, в зависимости от времени дня, следует себя вести.
Пройдя через главный вход, посетитель сразу попадает в вестибюль: пространство также переходное, но уже принадлежащее собственно к дому, где вошедший сразу оказывается под контролем. Стоя в вестибюле, сам он, чаще всего, имеет возможность оглядеть лишь крайне ограниченный объем внутреннего пространства. Как правило, это место находится под наблюдением привратника: ianitor нередко упоминается в текстах, и очень часто в руинах домов находят небольшое помещение, выходящее непосредственно в вестибюль; по всей видимости, оно служило комнатой для рабов, обязанностью которых была охрана входа. Вестибюль, как и другие переходные пространства, должен отражать пышность дома и демонстрировать ее всякому входящему. Описывая дворец Психеи (речь идет об утопии, однако в нашем случае это не умаляет ценности текста), Апулей подчеркивает, что божественная природа жилища бросается в глаза сразу же, как только попадаешь в него (Met., V, 1): богатство дома должно поражать своим великолепием от самых дверей. Витрувий помещает вестибюль между комнатами, которые в домах владельцев с высоким достатком должны быть просторны и роскошны, и торжество этого принципа прекрасно подтверждают руины зданий. Особенно примечательно, что в большинстве богатых domus’ов входной вестибюль является одним из самых больших помещений. Случается также — и подобными архитектурными решениями весьма богат северо–восточный квартал Волюбилиса (рис. 11), — что вестибюль ведет прямо в перистиль через тройной проем, масштабная композиция которого перекликается с композицией главного входа. Небольшая колоннада, сооруженная в самом вестибюле, также может усиливать впечатление о богатстве домовладения: именно так обстояло дело в «Доме Кастория» в Куикуле или в «Доме Сертия» в Тимгаде (рис. 14 и 19). Однако один из самых ярких примеров того, насколько важное значение придавали прилегающей ко входу части здания, нам дает «Дом Асклепиэй» в Альтибуросе (рис. 12), городе во внутренней части Туниса. Позади длинной Двадцатиметровой галереи, соединяющей комнаты, которые образуют два выступа по фасаду здания, находятся расположенные фактически бок о бок три входных вестибюля; они соответствуют трем иерархизированным входам. Главный вход позволяет попасть в центральный зал, размещенный на оси симметрии здания: имея площадь около 70 квадратных метров, он является самым обширным помещением этого памятника. Внимание, уделенное декору, отвечает архитектурному размаху: стены облицованы мраморной плиткой, пол покрывает масштабная мозаичная композиция, изображающая морские сюжеты; сложность и качество исполнения мозаики свидетельствуют о том важном значении, которое придавали этому месту. Два боковых вестибюля фактически продолжают центральный зал. В каждом из них находится открытый бассейн, обращенный к центру, и, по сути, они играют роль проходов, позволяющих попасть в комнаты, расположенные по краям от них. Свойственная всей композиции идеальная симметричность последовательно выдерживается по всей площади здания.
 Рис. 11. Волюбилис, вход в «Дом Подвигов Геракла» (Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. PL XXXIII)
Рис. 11. Волюбилис, вход в «Дом Подвигов Геракла» (Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. PL XXXIII)
 Puc. 12. Альтибурос, «Дом Асклепиэй», первое описание (Ennaifer М La Cite dAlthiburos et I’Edifice des Asclepieia. Tunis, 1976. Plan V). Позади фасадной галереи три двери ведут в самый большой вести бюль и в два других, с портиками вокруг бассейнов. Во дворике пери стиля — сад: слева и справа — триклинии; приемная экседра, на мозаике которой изображен агонистический венок, — в глубине, то есть на севере
Забота собственника об оформлении места, где осуществляется переход из внешнего пространства во внутреннее, была практикой распространенной и устойчивой, однако это никоим образом не исчерпывает проблемы отношений между этими двумя зонами в римской жилищной архитектуре. Своеобразные анклавы публичности можно отыскать в огромном количестве domus’ов. Помещения, предназначенные для экономической деятельности владельца, доступ к которым чаще всего осуществляется через большой центральный вход, в этом качестве рассматривать нельзя. Специфика данного сектора не делает его чужеродным жилищу, поскольку именно через его посредство осуществляется, в частности, снабжение всего домохозяйства. Иначе дело обстоит с торговыми лавками, которые зачастую располагаются по фасаду домов (рис. 8, 21 и 24). Некоторые из них могли использоваться самими собственниками для сбыта части принадлежащих им товаров (что совершенно очевидно, когда лавка непосредственно сообщается с domus’ом (рис. 23 и 24)); впрочем, нередко их сдавали внаем. В этом случае лавка представляет собой сложное пространство, архитектурно интегрированное в жилое здание (особенно когда подобные помещения расположены симметрично по обеим сторонам от входного вестибюля), но функционирующее вполне автономно (рис. 24). Кроме того, такие лавки демонстрируют весьма прихотливое смешение частного и публичного измерений с коммерческой деятельностью: иногда арендатор живет там со всей своей семьей, и когда лавка закрыта, она превращается в жилище.
Существует, наконец, и еще один, последний анклав публичности в однородном, ориентированном на конкретную семью мире domus’a: речь идет о квартирах, сдававшихся внаем посторонним людям, — практика, о которой часто упоминается в текстах сугубо италийских, но засвидетельствованная и в Африке. Разве не был Апулей обвинен в совершении ночных жертвоприношений в domus’e некоего Аппия Квинтиана, у которого один из его друзей снимал жилье (Apol., LVII)? Однако распознать в процессе раскопок эти сдававшиеся внаем части не так–то просто. Тексты и надписи побуждают нас склониться к тому мнению, что съемные квартиры располагались не на цокольном этаже, а выше: наличие лестниц, попасть на которые с улицы не составляет никакого труда, наводит на мысль о том, что в данном конкретном доме могли существовать изолиро ванные комнаты, пригодные для сдачи. Однако верхние этажи зданий, как правило, бывают разрушены, что зачастую делает исследование такого рода помещений практически невозмож ным. Куда, к примеру, вела лестница, основание которой сохранилось в юго–восточном углу «Дома Охоты» (рис. 8) в Булла Регия? На террасы? В комнаты, связанные с domus’ом? Или и отдельные квартиры? Ее расположение в непосредственной близости и от вестибюля, и от главного входа свидетельствует о том, что арендаторы могли свободно пользоваться ею, не жертвуя при этом приватностью своего жилища, но одной только констатации такой возможности явно недостаточно И напротив, с большой долей вероятности мы можем считать предназначенной для сдачи в аренду квартиру в северо–восточном углу «Дома Золотой Монеты» в Волюбилисе (рис. 23). Этот крупный жилой комплекс занимает всю территорию инсульт и маловероятно, чтобы маленькая квартира от него не зависела. Однако она построена именно как автономная: сюда можно попасть с северной улицы через коридор 36, ведущий к комнатам 1 и 16; окно первой выходит на ту же улицу. Кроме того, в помещении 15, судя по всему, была лестница, которая выходила на восточную улицу. Таким образом, две комнаты на первом этаже и три на втором могли сдаваться в аренду. В том же Волюбилисе в доме, расположенном к западу от дворца наместника (рис. 24), вестибюль фланкирован лестницей, выходящей на улицу через одну из трех дверей: она вела, по всей видимости, в квартиры, сдававшиеся внаем, устроенные над торговыми лавками и входным вестибюлем, которые образуют фасад здания. Создается любопытное чередование помещений, имеющих разный статус. Дом был связан с улицей только посредством вестибюля, своеобразного форпоста, окруженного комнатами, предназначенными для сдачи в аренду. С полным основанием следует предположить, что коридор, ведущий к комнатам, расположенным на втором этаже над южным портиком, выходил во дворик перистиля одними только узкими и достаточно высоко расположенными окнами: приватность жилых помещений никак не страдала.
Puc. 12. Альтибурос, «Дом Асклепиэй», первое описание (Ennaifer М La Cite dAlthiburos et I’Edifice des Asclepieia. Tunis, 1976. Plan V). Позади фасадной галереи три двери ведут в самый большой вести бюль и в два других, с портиками вокруг бассейнов. Во дворике пери стиля — сад: слева и справа — триклинии; приемная экседра, на мозаике которой изображен агонистический венок, — в глубине, то есть на севере
Забота собственника об оформлении места, где осуществляется переход из внешнего пространства во внутреннее, была практикой распространенной и устойчивой, однако это никоим образом не исчерпывает проблемы отношений между этими двумя зонами в римской жилищной архитектуре. Своеобразные анклавы публичности можно отыскать в огромном количестве domus’ов. Помещения, предназначенные для экономической деятельности владельца, доступ к которым чаще всего осуществляется через большой центральный вход, в этом качестве рассматривать нельзя. Специфика данного сектора не делает его чужеродным жилищу, поскольку именно через его посредство осуществляется, в частности, снабжение всего домохозяйства. Иначе дело обстоит с торговыми лавками, которые зачастую располагаются по фасаду домов (рис. 8, 21 и 24). Некоторые из них могли использоваться самими собственниками для сбыта части принадлежащих им товаров (что совершенно очевидно, когда лавка непосредственно сообщается с domus’ом (рис. 23 и 24)); впрочем, нередко их сдавали внаем. В этом случае лавка представляет собой сложное пространство, архитектурно интегрированное в жилое здание (особенно когда подобные помещения расположены симметрично по обеим сторонам от входного вестибюля), но функционирующее вполне автономно (рис. 24). Кроме того, такие лавки демонстрируют весьма прихотливое смешение частного и публичного измерений с коммерческой деятельностью: иногда арендатор живет там со всей своей семьей, и когда лавка закрыта, она превращается в жилище.
Существует, наконец, и еще один, последний анклав публичности в однородном, ориентированном на конкретную семью мире domus’a: речь идет о квартирах, сдававшихся внаем посторонним людям, — практика, о которой часто упоминается в текстах сугубо италийских, но засвидетельствованная и в Африке. Разве не был Апулей обвинен в совершении ночных жертвоприношений в domus’e некоего Аппия Квинтиана, у которого один из его друзей снимал жилье (Apol., LVII)? Однако распознать в процессе раскопок эти сдававшиеся внаем части не так–то просто. Тексты и надписи побуждают нас склониться к тому мнению, что съемные квартиры располагались не на цокольном этаже, а выше: наличие лестниц, попасть на которые с улицы не составляет никакого труда, наводит на мысль о том, что в данном конкретном доме могли существовать изолиро ванные комнаты, пригодные для сдачи. Однако верхние этажи зданий, как правило, бывают разрушены, что зачастую делает исследование такого рода помещений практически невозмож ным. Куда, к примеру, вела лестница, основание которой сохранилось в юго–восточном углу «Дома Охоты» (рис. 8) в Булла Регия? На террасы? В комнаты, связанные с domus’ом? Или и отдельные квартиры? Ее расположение в непосредственной близости и от вестибюля, и от главного входа свидетельствует о том, что арендаторы могли свободно пользоваться ею, не жертвуя при этом приватностью своего жилища, но одной только констатации такой возможности явно недостаточно И напротив, с большой долей вероятности мы можем считать предназначенной для сдачи в аренду квартиру в северо–восточном углу «Дома Золотой Монеты» в Волюбилисе (рис. 23). Этот крупный жилой комплекс занимает всю территорию инсульт и маловероятно, чтобы маленькая квартира от него не зависела. Однако она построена именно как автономная: сюда можно попасть с северной улицы через коридор 36, ведущий к комнатам 1 и 16; окно первой выходит на ту же улицу. Кроме того, в помещении 15, судя по всему, была лестница, которая выходила на восточную улицу. Таким образом, две комнаты на первом этаже и три на втором могли сдаваться в аренду. В том же Волюбилисе в доме, расположенном к западу от дворца наместника (рис. 24), вестибюль фланкирован лестницей, выходящей на улицу через одну из трех дверей: она вела, по всей видимости, в квартиры, сдававшиеся внаем, устроенные над торговыми лавками и входным вестибюлем, которые образуют фасад здания. Создается любопытное чередование помещений, имеющих разный статус. Дом был связан с улицей только посредством вестибюля, своеобразного форпоста, окруженного комнатами, предназначенными для сдачи в аренду. С полным основанием следует предположить, что коридор, ведущий к комнатам, расположенным на втором этаже над южным портиком, выходил во дворик перистиля одними только узкими и достаточно высоко расположенными окнами: приватность жилых помещений никак не страдала.
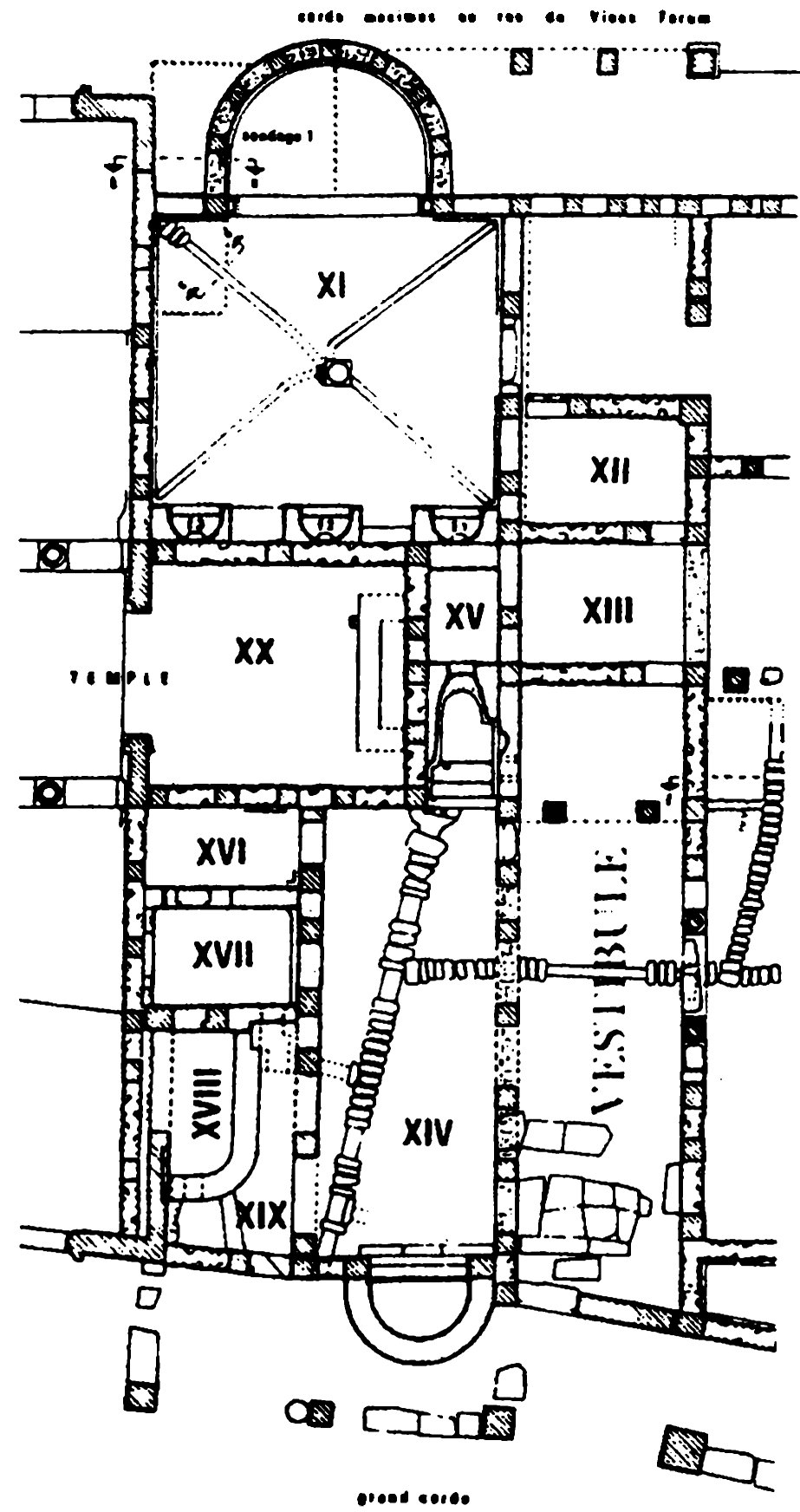 Puc. 13. Куикуль, «Дом Осла» (Blanchard—Lemee, Quartier central, fig. 4). XII–XIII: продолжения вестибюля; XIV–XIX: термы, построенные во время расширения территории жилого комплекса к северу, за счет храма, целла (cella) которого (XX) оказалась между ванными комната ми и залом XI, украшенным гротом, посвященным нимфам (нимфей) который расположен напротив алтарного подиума и апсиды, захватывающей часть улицы. Характерный пример разрастания частных зданий в ущерб публичным пространствам
Анализ этого элемента жилого комплекса представляет, таким образом, едва ли не главный интерес; ведь здесь затрагиваются материи куда более тонкие, чем может показаться на первый взгляд. В настоящее время принято считать, что перистиль является средоточием публичной жизни дома: это обширное архитектурное сооружение служит для приема гостей. Планы зданий подтверждают это мнение: очень часто в перистиль не только можно попасть непосредственно из входного вестибюля, но именно на его периферии располагается большая часть приемных залов. Поэтому его колоннады кажутся существенным дополнением для помещений, предназначенных для приема посетителей.
Должны ли мы исходя из этого противопоставить африканский дом, с его перистилем для приемов, жилому дому помпейского типа, с расположенным в передней его части традиционным атриумом, предназначенным для приема посетителей, — при том что перистиль чаще всего был расположен на Другом конце архитектурного комплекса и использовался главным образом для украшения внутренней части дома? Подобное противопоставление кажется чересчур резким. На самом деле нужно прежде всего провести различие между двумя типами посетителей: с одной стороны, простыми клиентами, приходящими поприветствовать патрона и получить свои спортулы, а с Другой — гостями, которых принимали в личных покоях хозяина дома. Атриум помпейского дома приспособлен для приема первой категории, и ни в коем случае не для второй: для этого пользовались столовыми или гостиными, которые чаще всего выходили в перистиль. Таким образом, противопоставление атриума и перистиля помпейского дома в рамках антитезы частного и публичного было бы явным преувеличением.
Puc. 13. Куикуль, «Дом Осла» (Blanchard—Lemee, Quartier central, fig. 4). XII–XIII: продолжения вестибюля; XIV–XIX: термы, построенные во время расширения территории жилого комплекса к северу, за счет храма, целла (cella) которого (XX) оказалась между ванными комната ми и залом XI, украшенным гротом, посвященным нимфам (нимфей) который расположен напротив алтарного подиума и апсиды, захватывающей часть улицы. Характерный пример разрастания частных зданий в ущерб публичным пространствам
Анализ этого элемента жилого комплекса представляет, таким образом, едва ли не главный интерес; ведь здесь затрагиваются материи куда более тонкие, чем может показаться на первый взгляд. В настоящее время принято считать, что перистиль является средоточием публичной жизни дома: это обширное архитектурное сооружение служит для приема гостей. Планы зданий подтверждают это мнение: очень часто в перистиль не только можно попасть непосредственно из входного вестибюля, но именно на его периферии располагается большая часть приемных залов. Поэтому его колоннады кажутся существенным дополнением для помещений, предназначенных для приема посетителей.
Должны ли мы исходя из этого противопоставить африканский дом, с его перистилем для приемов, жилому дому помпейского типа, с расположенным в передней его части традиционным атриумом, предназначенным для приема посетителей, — при том что перистиль чаще всего был расположен на Другом конце архитектурного комплекса и использовался главным образом для украшения внутренней части дома? Подобное противопоставление кажется чересчур резким. На самом деле нужно прежде всего провести различие между двумя типами посетителей: с одной стороны, простыми клиентами, приходящими поприветствовать патрона и получить свои спортулы, а с Другой — гостями, которых принимали в личных покоях хозяина дома. Атриум помпейского дома приспособлен для приема первой категории, и ни в коем случае не для второй: для этого пользовались столовыми или гостиными, которые чаще всего выходили в перистиль. Таким образом, противопоставление атриума и перистиля помпейского дома в рамках антитезы частного и публичного было бы явным преувеличением.
 Рис. 14. Куикуль, «Дом Кастория» (Blanchard—Lemee, ibid., fig. 62). Поскольку площадь дома составляет около 1500 квадратных метров, речь в данном случае идет о самом крупном жилом комплексе центрального квартала Куикуля: он является результатом слияния нескольких участков и разрушения первоначальной крепостной стены. Байонетный план. I: вестибюль (изначально — перистиль одного из предыдущих домов?); IX: вестибюль (с комнатой для привратника X?); XVI: перистиль; XVII: триклиний с трехчастным входом, закрывавшимся дверями; XXII–XXVIII: термы с туалетами; ХХХ-ХХХП: поздние купальни, устроенные на месте тротуара
Как же обстоит дело в богатом африканском доме? Действительно ли настолько очевидно, что исчезновение атриума способствовало увеличению публичной значимости перистиля? Если бы это было так, там должны были бы принимать клиентов, что не подтверждается ни текстами, ни расположением комнат, мало пригодных для подобного рода практик. Фактически, в африканских жилищах функции атриума берут на себя другие залы, расположенные в стороне от перистиля: прежде всего частные базилики, к которым мы еще вернемся, и входные вестибюли. Мы только что констатировали практически повсеместное распространение значительных по площади вестибюлей, и, несмотря на то что не существует какого–либо решающего доказательства в пользу нашего предположения, мы склонны считать, что эти последние, в сущности располагавшиеся почти в том же месте, что традиционный атриум, отчасти унаследовали его функции. Простой анализ планов жилищ зачастую подтверждает пригодность этих вестибюлей для приветственных церемоний. В «Доме Осла» в Куикуле длинный вестибюль завершается чем–то вроде экседры, ограниченной двумя колоннами, позади которой расположены помещения, наводящие на мысль о продуктовых лавках, которые в этом случае следовало бы связать с раздачей спортул. Специфическая значимость вестибюлей особенно ярко бросается в глаза, когда жилые комплексы оказываются результатом слияния нескольких участков. В этом случае, вместо того чтобы выиграть некоторое количество полезной площади, оставив только один вход, владельцы, наоборот, оставляют несколько, причем некоторые из этих промежуточных зон занимают явно несоразмерную площадь, если предположить, что им была отведена скромная роль прихожих. Как можно объяснить, к примеру, существование в «Доме Европы» в Куикуле (см. рис. 15, вестибюли 1 и 26) большого южного вестибюля (1), расположенного далеко от центральной части здания, а следовательно, в том месте, где по логике вещей должен был бы располагаться черный ход, не говоря уже о том, каким странным образом его пришлось соединять с перистилем? Несмотря на то что пол покрыт плиткой, нельзя сказать, что речь идет об открытом помещении: размер трехчастного входа, проемы которого украшены изысканной лепниной, в достаточной степени демонстрирует значимость этого места, и, хотя исследование здания не завершено, анализ его плана заставляет полагать, что это не первоначальный вход, сохраненный при объединении соседних домов, но вход, построенный специально, чтобы в результате этой операции выиграть место. То есть все указывает на то, что вестибюль действительно функционировал как зал для приема клиентов: к нему, как и положено, примыкают дополнительные комнаты, а напротив входа находится крыльцо, которое могло служить подиумом для хозяина дома или по крайней мере обеспечивать его выходу должную торжественность. Кроме того, было бы интересно получше разобраться в назначении помещения, расположенного севернее (26). Оно имеет двойной выход на улицу (портик, который его предваряет, позволяет исключить предположение, что более широкий проем играл роль въездных ворот), а мозаичный пол является доказательством того, что зал не был открытым. Зал сообщается с комнатой в глубине здания, от которой он отделен рядом каменных резервуаров. Эти сосуды, закрывавшиеся крышками, вполне соответствуют задачам этого помещения, предназначенного прежде всего для раздачи спортул. Согласно данной гипотезе, вся юго–западная часть здания, которая включает также торговые лавки, должна была выполнять «публичные» функции (см. рис. 15, залы 27, 28 и 46).
Рис. 14. Куикуль, «Дом Кастория» (Blanchard—Lemee, ibid., fig. 62). Поскольку площадь дома составляет около 1500 квадратных метров, речь в данном случае идет о самом крупном жилом комплексе центрального квартала Куикуля: он является результатом слияния нескольких участков и разрушения первоначальной крепостной стены. Байонетный план. I: вестибюль (изначально — перистиль одного из предыдущих домов?); IX: вестибюль (с комнатой для привратника X?); XVI: перистиль; XVII: триклиний с трехчастным входом, закрывавшимся дверями; XXII–XXVIII: термы с туалетами; ХХХ-ХХХП: поздние купальни, устроенные на месте тротуара
Как же обстоит дело в богатом африканском доме? Действительно ли настолько очевидно, что исчезновение атриума способствовало увеличению публичной значимости перистиля? Если бы это было так, там должны были бы принимать клиентов, что не подтверждается ни текстами, ни расположением комнат, мало пригодных для подобного рода практик. Фактически, в африканских жилищах функции атриума берут на себя другие залы, расположенные в стороне от перистиля: прежде всего частные базилики, к которым мы еще вернемся, и входные вестибюли. Мы только что констатировали практически повсеместное распространение значительных по площади вестибюлей, и, несмотря на то что не существует какого–либо решающего доказательства в пользу нашего предположения, мы склонны считать, что эти последние, в сущности располагавшиеся почти в том же месте, что традиционный атриум, отчасти унаследовали его функции. Простой анализ планов жилищ зачастую подтверждает пригодность этих вестибюлей для приветственных церемоний. В «Доме Осла» в Куикуле длинный вестибюль завершается чем–то вроде экседры, ограниченной двумя колоннами, позади которой расположены помещения, наводящие на мысль о продуктовых лавках, которые в этом случае следовало бы связать с раздачей спортул. Специфическая значимость вестибюлей особенно ярко бросается в глаза, когда жилые комплексы оказываются результатом слияния нескольких участков. В этом случае, вместо того чтобы выиграть некоторое количество полезной площади, оставив только один вход, владельцы, наоборот, оставляют несколько, причем некоторые из этих промежуточных зон занимают явно несоразмерную площадь, если предположить, что им была отведена скромная роль прихожих. Как можно объяснить, к примеру, существование в «Доме Европы» в Куикуле (см. рис. 15, вестибюли 1 и 26) большого южного вестибюля (1), расположенного далеко от центральной части здания, а следовательно, в том месте, где по логике вещей должен был бы располагаться черный ход, не говоря уже о том, каким странным образом его пришлось соединять с перистилем? Несмотря на то что пол покрыт плиткой, нельзя сказать, что речь идет об открытом помещении: размер трехчастного входа, проемы которого украшены изысканной лепниной, в достаточной степени демонстрирует значимость этого места, и, хотя исследование здания не завершено, анализ его плана заставляет полагать, что это не первоначальный вход, сохраненный при объединении соседних домов, но вход, построенный специально, чтобы в результате этой операции выиграть место. То есть все указывает на то, что вестибюль действительно функционировал как зал для приема клиентов: к нему, как и положено, примыкают дополнительные комнаты, а напротив входа находится крыльцо, которое могло служить подиумом для хозяина дома или по крайней мере обеспечивать его выходу должную торжественность. Кроме того, было бы интересно получше разобраться в назначении помещения, расположенного севернее (26). Оно имеет двойной выход на улицу (портик, который его предваряет, позволяет исключить предположение, что более широкий проем играл роль въездных ворот), а мозаичный пол является доказательством того, что зал не был открытым. Зал сообщается с комнатой в глубине здания, от которой он отделен рядом каменных резервуаров. Эти сосуды, закрывавшиеся крышками, вполне соответствуют задачам этого помещения, предназначенного прежде всего для раздачи спортул. Согласно данной гипотезе, вся юго–западная часть здания, которая включает также торговые лавки, должна была выполнять «публичные» функции (см. рис. 15, залы 27, 28 и 46).
 Рис. 15. Куикуль, «Дом Европы» (Blanchard—Lemee, ibid., fig. 49). Этот жилой комплекс площадью 1366 квадратных метров появился в результате объединения нескольких участков (стены, разделявшие участки, I-J и F-F’). 1: вестибюль с трехчастным входом; 12: перистиль, большую часть дворика которого занимают бассейны (а, Ь, с) и жардиньерки (d и d’); 13: триклиний; 18: триклиний или экседра; 26: вестибюль; 27–28: торговые лавки; 29–43. термы с туалетом (29)
Итак, оказывается, что в африканском доме были залы, расположенные в непосредственной близости к улице и, подобно атриуму, пригодные для приема посетителей, благодаря чему сохранялся приватный характер остальной части жилища. Проблема решается не менее логично, чем в традиционном италийском доме, хотя решение это достаточно радикально отличается от исходного образца. Помпейский перистиль не предназначен для одних только обитателей дома; с другой стороны, африканскому перистилю не приходится, несмотря на отсутствие атриума, брать на себя функцию приема всех посетителей. Это впечатление подтверждается анализом помещений, выходящих во дворик: залы для приемов соседствуют со множеством комнат совершенно другого назначения, что не позволяет приписывать перистилю только публичную функцию.
Особенно интересный случай — спальни: во–первых, по тому что они относятся к самому интимному сектору жилища, во–вторых, потому что речь идет о помещениях, которые легко идентифицировать благодаря часто встречающемуся в них помосту, немного возвышающемуся над уровнем пола (здесь было принято устанавливать ложе). Другая характерная особенность — использование двух видов напольного орнамента, причем то место, где расположена кровать, обозначено более простым мотивом (рис. 26). Так что спальню опознать довольно легко, а тот факт, что спальни и приемные залы оказываются поблизости, сам по себе весьма информативен. Подобное рас положение встречается часто: «Дом Соллертиана» в Гадрумете имеет две комнаты, занимающие все крыло перистиля (рис. 18, комнаты 4 и 6, в последней был помост); примерно таким же образом обстоит дело и в Ачолле, в «Доме Нептуна» (рис. 10), где все помещения занимают северо–западный угол перистиля между двумя столовыми: три из этих комнат, вероятно, являются спальнями, на что указывают двойственные мотивы напольных мозаик. Наконец, «Дом Охоты» в Булла Регия дает яркий пример такого чередования. В доме два триклиния: один на цокольном этаже, другой на подземном, и оба эти зала выходят на второй перистиль и фланкированы спальнями (рис. 8 и 9).
Такое соседство разнородных помещений по периферии перистиля выявляет сложную природу последнего: попытка определить, какие функции выполнял этот архитектурный элемент, не может сводиться к представлению о нем как о пространстве для приемов. Здесь имели место настолько разные виды деятельности, что возникает вопрос — каким образом они вообще могли сочетаться: мы вернемся к этому, когда будем рассматривать не только составляющие элементы жилого комплекса, но и то, как они были друг с другом связаны.
Двойственный характер перистиля проявляется и в самом его устройстве. Иногда это простой глинобитный двор с колодцем или цистернами для воды — в таких случаях его утилитарное значение вполне очевидно. Прекрасная иллюстрация подобного решения — «Новый Дом Охоты» в Булла Регия (рис. 8). Но чаще всего обширное пространство с колоннадой использовалось для декоративных инсталляций, главная цель которых — введение окультуренной природы в самое сердце жилого пространства. Разнообразие вариантов бесконечно. Иногда двор полностью покрыт мозаиками: в таком случае наибольшее значение придается архитектурным элементам в ущерб растительному компоненту, присутствие которого допускается лишь в виде горшечных растений. Однако две взаимодополняющие темы, вода и растительность, доминируют постоянно и порой настолько увлекают хозяев дома, что двор перистиля превращается в сад, украшенный фонтанами и бассейнами, или же, наоборот, в бассейн, декорированный растениями.
Фактически каждый сколько–нибудь значительный перистиль украшен фонтаном. Одна из самых простых и распространенных форм — полукруглый бассейн у края портика. Иногда в бортике бассейна проделаны отверстия, как правило, не связанные с работой фонтана: глубиной они в несколько Десятков сантиметров и закупорены снизу. Не возникает сомнения, что в них крепились деревянные опоры беседки из вьющихся растений: таким образом, пусть и в несколько редуцированной форме, мы имеем все ту же тесную связь растительных и водных элементов.
Этот тип декоративной программы получает иногда трактовку гораздо более широкую по размаху (рис. 15: бассейны а, b и с, жардиньерки d-d’). Существует множество примеров жилых домов, где большую часть площади перистиля занимают бассейны. Так, в «Доме Европы» в Куикуле три бассейна сложной конфигурации дополнены двумя жардиньерками. В «Доме Кастория» четыре полукруглых бассейна расположены у стен портиков, тогда как пространство в центре двора занимает прямоугольный бассейн. В подобных композициях свободного пространства, в котором могли бы перемещаться люди, остается, судя по всему, совсем немного. Еще более радикальный вариант предполагает сплошную водную поверхность во всей площади двора. Приведем только один пример: «Дом Рыбалки» в Булла Регия.[58] В этом огромном перистиле, площадь которого составляет около 350 квадратных метров, собственно двор занимает примерно 270 квадратных метров; и вся его площадь, за исключением отверстий, необходимых для того, чтобы на расположенный под перистилем подземный этаж поступали воздух и свет, целиком отведена под бассейны, разделенные низкими перегородками, в которых проделаны отверстия для циркуляции воды. Кроме того, поверху этих перегородок остались следы от врезных отверстий, которые служили для крепления деревянных столбов или небольших каменных колонн, часть из которых сохранилась. Легко пред ставить, что эти опоры поддерживали легкий каркас, украшенный подвесными растениями.
Таким образом, хозяин дома имел широкий спектр возможностей для внедрения в центр своего жилища двух при родных элементов — воды и растений. Иногда он предпочитал один бассейн и несколько растений в горшках; иногда, напротив, все пространство двора занимал сад, украшенный фонтанами, или огромные бассейны, что предельно затрудняло доступ в эту часть жилища. Часто сам декор подчеркивал истинное назначение перистиля: на остатках росписей в «Доме Рыбалки» видны изображения птиц и растений, тогда как небольшой многоступенчатый бассейн, служивший для слива избытка воды, украшен мозаикой, на которой представлены рыбы; на «Вилле Вольера» в Карфагене на мозаиках портиков изображены различные животные среди цветов и плодов. Впрочем, многочисленные перестройки свидетельствуют об изменении вкусов, но точных данных все еще слишком мало, чтобы утверждать, что существовала общая тенденция предоставлять этому кусочку одомашненной природы все больше и больше места. Как бы то ни было, не существует богатого африканского домовладения, где декор перистиля не содержал бы такого рода элементов — в тех или иных сочетаниях. Однако если мы стремимся определить функции этого пространства, подобной констатации недостаточно. Не вызывает сомнений, что изысканное убранство интерьеров в первую очередь было призвано доставлять удовольствие обитателям дома, однако очевидно и то, что это убранство, иногда весьма роскошное, равным образом было предназначено и для демонстрации гостям. Доказательством может служить само расположение декоративных элементов двора. В большинстве случаев существует тесная связь между расположением бассейнов и залов Для приемов; первые насколько возможно выровнены по одной оси со вторыми. Эта связь иногда бывает весьма изысканной с архитектурной точки зрения, как в «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14) у где три бассейна композиционно соответствуют трем входам большого приемного зала. Связь между архитектурой перистиля и архитектурой близлежащих больших залов иногда носит еще более строгий характер: в «Доме с Крестообразным Бассейном» в Волюбилисе (рис. 21, зал 9) ритм колоннады был полностью нарушен, чтобы выровнять ее относительно трех входных проемов большого зала. Этот крайний случай, когда весь перистиль был подчинен потребностям приемного церемониала, со всей очевидностью демонстрирует, насколько важную роль играло это пространство для утверждения престижа владельца дома в глазах гостей.
Пространство перистиля, таким образом, прекрасно передает всю сложность сферы частного: в этом помещении, привлекательность которого усиливалась сочетанием архитектурных эффектов и одомашненной природы, сосуществовали практики самого разного рода, здесь можно было как уединяться, так и проводить приемы, соответствующие статусу хозяина дома; не стоит забывать также и о деятельности слуг, для которых перистиль был прежде всего очередным объектом приложения сил, пространством, связывающим между собой разные части дома, и тем местом, где хранились запасы воды. И наконец, еще одна, последняя функция этого пространства, венчающая все предыдущие: когда в африканских домохозяйствах отправляли домашние культы, это почти всегда происходило в непосредственной близости от перистиля, а то и в нем самом. В «Доме Четырех Колонн» в Банасе алтарь расположен в комнате, выходящей в перистиль. В Ливии, в Кирене, в Инсуле Ясона Магна, как и в доме Птолемея с перистилем D-образной формы, небольшое культовое сооружение также расположено во дворе. Та же ситуация наблюдается и в «Доме Диких Животных» в Волюбилисе и в доме Флавия Германа, где алтарь, посвященный гению domus’a, расположен под одним из портиков. Эти факты, однако, вовсе не свидетельствуют о «приватизации» перистиля в ущерб его «публичной» роли: в доме Азиния Руфа в Ачолле надгробная колонна воздвигнута cultores domus — клиентами, участвовавшими в домашнем культе Азиниев, хозяев дома. Ясно, что эти частные культы никоим образом не были рассчитаны исключительно на семейный круг в узком смысле этого слова: они самым непо средственным образом касались всех зависящих от хозяина дома людей и являлись частью той сложной сети социальных отношений, которую он ткал вокруг себя. Поэтому и алтарям этим — самое место в перистиле, многообразные функции которого вполне отвечают не менее многообразным аспектам религиозных феноменов подобного рода.
Рис. 15. Куикуль, «Дом Европы» (Blanchard—Lemee, ibid., fig. 49). Этот жилой комплекс площадью 1366 квадратных метров появился в результате объединения нескольких участков (стены, разделявшие участки, I-J и F-F’). 1: вестибюль с трехчастным входом; 12: перистиль, большую часть дворика которого занимают бассейны (а, Ь, с) и жардиньерки (d и d’); 13: триклиний; 18: триклиний или экседра; 26: вестибюль; 27–28: торговые лавки; 29–43. термы с туалетом (29)
Итак, оказывается, что в африканском доме были залы, расположенные в непосредственной близости к улице и, подобно атриуму, пригодные для приема посетителей, благодаря чему сохранялся приватный характер остальной части жилища. Проблема решается не менее логично, чем в традиционном италийском доме, хотя решение это достаточно радикально отличается от исходного образца. Помпейский перистиль не предназначен для одних только обитателей дома; с другой стороны, африканскому перистилю не приходится, несмотря на отсутствие атриума, брать на себя функцию приема всех посетителей. Это впечатление подтверждается анализом помещений, выходящих во дворик: залы для приемов соседствуют со множеством комнат совершенно другого назначения, что не позволяет приписывать перистилю только публичную функцию.
Особенно интересный случай — спальни: во–первых, по тому что они относятся к самому интимному сектору жилища, во–вторых, потому что речь идет о помещениях, которые легко идентифицировать благодаря часто встречающемуся в них помосту, немного возвышающемуся над уровнем пола (здесь было принято устанавливать ложе). Другая характерная особенность — использование двух видов напольного орнамента, причем то место, где расположена кровать, обозначено более простым мотивом (рис. 26). Так что спальню опознать довольно легко, а тот факт, что спальни и приемные залы оказываются поблизости, сам по себе весьма информативен. Подобное рас положение встречается часто: «Дом Соллертиана» в Гадрумете имеет две комнаты, занимающие все крыло перистиля (рис. 18, комнаты 4 и 6, в последней был помост); примерно таким же образом обстоит дело и в Ачолле, в «Доме Нептуна» (рис. 10), где все помещения занимают северо–западный угол перистиля между двумя столовыми: три из этих комнат, вероятно, являются спальнями, на что указывают двойственные мотивы напольных мозаик. Наконец, «Дом Охоты» в Булла Регия дает яркий пример такого чередования. В доме два триклиния: один на цокольном этаже, другой на подземном, и оба эти зала выходят на второй перистиль и фланкированы спальнями (рис. 8 и 9).
Такое соседство разнородных помещений по периферии перистиля выявляет сложную природу последнего: попытка определить, какие функции выполнял этот архитектурный элемент, не может сводиться к представлению о нем как о пространстве для приемов. Здесь имели место настолько разные виды деятельности, что возникает вопрос — каким образом они вообще могли сочетаться: мы вернемся к этому, когда будем рассматривать не только составляющие элементы жилого комплекса, но и то, как они были друг с другом связаны.
Двойственный характер перистиля проявляется и в самом его устройстве. Иногда это простой глинобитный двор с колодцем или цистернами для воды — в таких случаях его утилитарное значение вполне очевидно. Прекрасная иллюстрация подобного решения — «Новый Дом Охоты» в Булла Регия (рис. 8). Но чаще всего обширное пространство с колоннадой использовалось для декоративных инсталляций, главная цель которых — введение окультуренной природы в самое сердце жилого пространства. Разнообразие вариантов бесконечно. Иногда двор полностью покрыт мозаиками: в таком случае наибольшее значение придается архитектурным элементам в ущерб растительному компоненту, присутствие которого допускается лишь в виде горшечных растений. Однако две взаимодополняющие темы, вода и растительность, доминируют постоянно и порой настолько увлекают хозяев дома, что двор перистиля превращается в сад, украшенный фонтанами и бассейнами, или же, наоборот, в бассейн, декорированный растениями.
Фактически каждый сколько–нибудь значительный перистиль украшен фонтаном. Одна из самых простых и распространенных форм — полукруглый бассейн у края портика. Иногда в бортике бассейна проделаны отверстия, как правило, не связанные с работой фонтана: глубиной они в несколько Десятков сантиметров и закупорены снизу. Не возникает сомнения, что в них крепились деревянные опоры беседки из вьющихся растений: таким образом, пусть и в несколько редуцированной форме, мы имеем все ту же тесную связь растительных и водных элементов.
Этот тип декоративной программы получает иногда трактовку гораздо более широкую по размаху (рис. 15: бассейны а, b и с, жардиньерки d-d’). Существует множество примеров жилых домов, где большую часть площади перистиля занимают бассейны. Так, в «Доме Европы» в Куикуле три бассейна сложной конфигурации дополнены двумя жардиньерками. В «Доме Кастория» четыре полукруглых бассейна расположены у стен портиков, тогда как пространство в центре двора занимает прямоугольный бассейн. В подобных композициях свободного пространства, в котором могли бы перемещаться люди, остается, судя по всему, совсем немного. Еще более радикальный вариант предполагает сплошную водную поверхность во всей площади двора. Приведем только один пример: «Дом Рыбалки» в Булла Регия.[58] В этом огромном перистиле, площадь которого составляет около 350 квадратных метров, собственно двор занимает примерно 270 квадратных метров; и вся его площадь, за исключением отверстий, необходимых для того, чтобы на расположенный под перистилем подземный этаж поступали воздух и свет, целиком отведена под бассейны, разделенные низкими перегородками, в которых проделаны отверстия для циркуляции воды. Кроме того, поверху этих перегородок остались следы от врезных отверстий, которые служили для крепления деревянных столбов или небольших каменных колонн, часть из которых сохранилась. Легко пред ставить, что эти опоры поддерживали легкий каркас, украшенный подвесными растениями.
Таким образом, хозяин дома имел широкий спектр возможностей для внедрения в центр своего жилища двух при родных элементов — воды и растений. Иногда он предпочитал один бассейн и несколько растений в горшках; иногда, напротив, все пространство двора занимал сад, украшенный фонтанами, или огромные бассейны, что предельно затрудняло доступ в эту часть жилища. Часто сам декор подчеркивал истинное назначение перистиля: на остатках росписей в «Доме Рыбалки» видны изображения птиц и растений, тогда как небольшой многоступенчатый бассейн, служивший для слива избытка воды, украшен мозаикой, на которой представлены рыбы; на «Вилле Вольера» в Карфагене на мозаиках портиков изображены различные животные среди цветов и плодов. Впрочем, многочисленные перестройки свидетельствуют об изменении вкусов, но точных данных все еще слишком мало, чтобы утверждать, что существовала общая тенденция предоставлять этому кусочку одомашненной природы все больше и больше места. Как бы то ни было, не существует богатого африканского домовладения, где декор перистиля не содержал бы такого рода элементов — в тех или иных сочетаниях. Однако если мы стремимся определить функции этого пространства, подобной констатации недостаточно. Не вызывает сомнений, что изысканное убранство интерьеров в первую очередь было призвано доставлять удовольствие обитателям дома, однако очевидно и то, что это убранство, иногда весьма роскошное, равным образом было предназначено и для демонстрации гостям. Доказательством может служить само расположение декоративных элементов двора. В большинстве случаев существует тесная связь между расположением бассейнов и залов Для приемов; первые насколько возможно выровнены по одной оси со вторыми. Эта связь иногда бывает весьма изысканной с архитектурной точки зрения, как в «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14) у где три бассейна композиционно соответствуют трем входам большого приемного зала. Связь между архитектурой перистиля и архитектурой близлежащих больших залов иногда носит еще более строгий характер: в «Доме с Крестообразным Бассейном» в Волюбилисе (рис. 21, зал 9) ритм колоннады был полностью нарушен, чтобы выровнять ее относительно трех входных проемов большого зала. Этот крайний случай, когда весь перистиль был подчинен потребностям приемного церемониала, со всей очевидностью демонстрирует, насколько важную роль играло это пространство для утверждения престижа владельца дома в глазах гостей.
Пространство перистиля, таким образом, прекрасно передает всю сложность сферы частного: в этом помещении, привлекательность которого усиливалась сочетанием архитектурных эффектов и одомашненной природы, сосуществовали практики самого разного рода, здесь можно было как уединяться, так и проводить приемы, соответствующие статусу хозяина дома; не стоит забывать также и о деятельности слуг, для которых перистиль был прежде всего очередным объектом приложения сил, пространством, связывающим между собой разные части дома, и тем местом, где хранились запасы воды. И наконец, еще одна, последняя функция этого пространства, венчающая все предыдущие: когда в африканских домохозяйствах отправляли домашние культы, это почти всегда происходило в непосредственной близости от перистиля, а то и в нем самом. В «Доме Четырех Колонн» в Банасе алтарь расположен в комнате, выходящей в перистиль. В Ливии, в Кирене, в Инсуле Ясона Магна, как и в доме Птолемея с перистилем D-образной формы, небольшое культовое сооружение также расположено во дворе. Та же ситуация наблюдается и в «Доме Диких Животных» в Волюбилисе и в доме Флавия Германа, где алтарь, посвященный гению domus’a, расположен под одним из портиков. Эти факты, однако, вовсе не свидетельствуют о «приватизации» перистиля в ущерб его «публичной» роли: в доме Азиния Руфа в Ачолле надгробная колонна воздвигнута cultores domus — клиентами, участвовавшими в домашнем культе Азиниев, хозяев дома. Ясно, что эти частные культы никоим образом не были рассчитаны исключительно на семейный круг в узком смысле этого слова: они самым непо средственным образом касались всех зависящих от хозяина дома людей и являлись частью той сложной сети социальных отношений, которую он ткал вокруг себя. Поэтому и алтарям этим — самое место в перистиле, многообразные функции которого вполне отвечают не менее многообразным аспектам религиозных феноменов подобного рода.
 Рис. 16, 17. Гадрумет, «Дом Масок» (Foucher L. La Maison des masques, a Sousse. Tunis, 1965. PL h. t.). Наверху: с западной стороны в перистиль выходит просторный триклиний, отделенный от сада галереей. На юге — приемная экседра с апсидой. Внизу: реконструкция: сечение южного крыла, проходящее через комнаты, расположенные восточнее экседры (3–5), и через южный портик (I)
Иногда пышность этих залов усиливалась за счет необычайно сложных и изысканных архитектурных решений. Витрувий описывает большие триклинии, украшенные внутренними колоннадами, и руины позволяют констатировать, что этот архитектурный прием, который римский архитектор назвал oecus’ом, иногда применялся в Африке. В «Доме Масок» в Гадрумете (рис. 16) триклиний, занимающий примерно 250 квадратных метров, отделен колоннами от галереи, шириной 2,4 метра, выходящей, в свою очередь, в сад через колоннаду. В Ачолле «Дом Нептуна» имеет триклиний площадью более 100 квадратных метров, где ложа отделены от внешней галереи колоннадой (рис. 10).
Роскошь этих комнат свидетельствует о той ключевой роли, которую они играли в жилом доме. Церемониал трапезы позволяет продемонстрировать высокое положение хозяина дома, утвердить его жизненные принципы; позволяет он также и отслеживать изменения, происходящие в социальных и семейных отношениях. Здесь нет необходимости перечислять сведения, которые мы можем почерпнуть из всем известных текстов, — сведения, касающиеся прежде всего Италии или восточной части Империи. Если сосредоточить внимание на источниках собственно африканских, можно без особого труда прийти к выводу, что в этих провинциях, как и в Риме, именно триклиний был тем местом, где хозяин дома отрабатывал свой имидж и демонстрировал его прилюдно.
Центральной темой этой демонстрации было богатство. Сочетание власти и богатства утверждалось со всей возможной откровенностью: собственно, пиры и задумывались именно с этой целью. Последуем за героем «Метаморфоз» Апулея: «Здесь застаю множество приглашенных, как и полагается для знатной Женщины, — цвет города. Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыты золотыми тканями, большие Чаши, Разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло, искусно граненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может, — все здесь было. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, проворно подносят полные до краев блюда, завитые мальчики в красивых туниках то и дело подают старые вина в бокалах, украшенных самоцветами» (Met., II, 19)[59]. По существу, все это должно восприниматься как само собой разумеющееся; здесь, не возвращаясь к роскоши чисто архитектурной, роскоши декора и обстановки, стоит обратить внимание на социальное значение того, что употреблялось в пищу. Для пира, достойного такого именования, необходимо качественное вино, признаками которого, как и в наши дни, являются его проис хождение и возраст. Неменьшее значение имеют подаваемые блюда. Тримальхион сервировку каждого блюда превращает в целый спектакль. В Африке рыба свидетельствовала о столе в высшей степени роскошном. Это была действительно дорого стоящая пища: эдикт Диоклетиана уточняет, что она в среднем стоит в три раза дороже мяса. В более ранний период то же самое констатировал Апулей, говоря о «чревоугодниках, за чей счет богатеют рыбаки» (Apol., 32)[60]. В прибрежных городах проблема снабжения практически не возникала. Напротив, в городах, расположенных далеко от побережья, доступность свежей рыбы — проблема отдельная. На редкость этого продукта ссылается Апулей, отвечая на обвинение в колдовстве: «Я… был в глубине горной Гетулии, где рыба могла бы найтись разве что после Девкалионова потопа» (мы бы сказали Ноева; Apol., 41). Так что отнюдь не случайно морские темы, где изображения рыб и других морских обитателей занимают важное место, часто украшают триклинии или прилегающие к ним помещения. В «Доме Венеры» в Мактаре триклиний украшен целым каталогом съедобных морских животных, который изначально включал более двух сотен сюжетов и представлял собой «самое крупное античное произведение, посвященное морской фауне».[61] Помимо декоративной значимости этих сюжетов, а также их апотропеической роли (считалось, что рыба предохраняет дом от пагубных воздействий), такие мозаики несомненно выполняли и еще одну функцию: они увековечивали роскошь стола. Впрочем, эта «пропаганда» не настолько прямолинейна, как то могло бы показаться на первый взгляд. В «Апологии» Апулей сообщает, что изучает рыб, следуя традиции крупнейших греческих философов. Он препарирует и описывает рыб, суммирует и дополняет сведения своих предшественников, создает латинские эквиваленты для перевода греческих терминов. Не эта ли забота о научной классификации и инвентаризации столь замечательно проиллюстрирована мозаиками Мактара, где животные изображены с такой точностью, что практически все они могут быть совершенно однозначно идентифицированы нынешними исследователями и соотнесены с современными научными именами? Очень может статься, что одним из источников для этих мозаичных панно следовало бы считать пассажи Плиния, посвященные рыбам. Однако стоит ли рассматривать выраженную кулинарную составляющую подобных изображений в роскошных банкетных залах Африки как уступку низменным материальным вкусам, приносящую научность в жертву необходимости лишний раз восславить хозяина дома? Подобная позиция привела бы к неправильному пониманию того, каким образом столь радикально отличающиеся друг от друга подходы могли сосуществовать в рамках самой что ни на есть благородной интеллектуальной традиции: Шпулей сообщает, что живший на юге Италии эллинистический Поэт Энний, несомненно имитируя греческие источники, сочинил поэму, в одной из частей которой воспел рыб и дары моря: «О каждой породе у него сказано, где она водится и как Повкуснее ее приготовить — сварить или зажарить» (Apol., 39).
Приведенные выше наблюдения заставляют нас обратиться к бассейнам во дворе перистиля. В самом деле, их часто украшали морскими сюжетами, искусственно напоминая таким образом в домашнем пространстве об удовольствиях, связанных с морем. Однако случалось и так, что одной только иллюзии владельцу оказывалось недостаточно. В некоторых африканских домах в бассейны запускали живую рыбу. В «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14) в каменную кладку центрального бассейна встроены небольшие амфоры — характерное приспособление, свидетельствующее о том, что там разводили рыб. То же мы видим и в «Доме Вакха» в Куикуле. В «Доме Сертия» в Тимгаде (рис. 19) конструкция бассейна сложнее. Вероятнее всего, зал, находящийся в глубине дома — относительно главного входа, расположенного вдоль Cardo Maximus, — и выходящий во второй перистиль через прихожую с двумя колоннами, следует считать триклинием. Двор перистиля украшен бассейном, фактически состоящим из двух размещенных один над другим резервуаров, сообщающихся посредством двух отверстий. В выложенные кирпичом стенки подземного резервуара встроены вазы, зафиксированные горизонтально. Такое приспособление должно было служить укрытием для рыб, где они могли откладывать икру. В подобных случаях, а они встречаются довольно часто, речь идет о самых настоящих рыбных садках, декоративная функция которых дополняется экономической ролью: в городах, расположенных далеко от моря, они позволяли обеспечить стол хозяина дома редкими и очень дорогими продуктами. Вероятно, такие садки представляли собой всего лишь скромные копии крупных рыбоводческих хозяйств, которыми владели многие римские аристократы, получившие за это от Цицерона прозвище piscinarii (любители живорыбных садков) и «живорыбные Тритоны». Тем не менее в случае с домашними садками мы имеем дело с явлением, по сути, аналогичным — с поправкой на уровень доходов и на местные условия.
Триклиний — не только место, где хозяин дома утверждает собственный статус с помощью демонстративных практик. Это место подходит также для выражения более тонких и ничуть не менее значимых для дома в целом семантических комплексов, таких, скажем, как участие в трапезах женщин, а иногда даже и детей (см., к примеру, в «Исповеди» у Августина - IX, 17 — где эти последниеедят за одним столом с родителями). Такие практики с давних пор были распространены в Африке, так же как и в других частях римского мира: эволюция семейных обычаев сказывалась и на том, как и с кем люди вкушали пищу — вплоть до трапез посмертных, как показывает одна похоронная мозаика, на которой пара пирует в потустороннем мире в соответствии с этикетом, идентичным земному. Древний порядок, требовавший, чтобы за едой возлежали только мужчины, а женщины сидели, соблюдался только откровенными консерваторами и ретроградами: когда Апулей впервые показывает ростовщика Милона, известного всему городу своей жадностью и гнусной подлостью, он изображает его за приготовлениями к ужину: Милон расположился на убогом ложе перед пустым столом, а жена сидит у его ног. Скудость стола и убожество обстановки можно трактовать по–разному, а вот взаимное положение супругов исключает всякую двусмысленность интерпретации (Met., I, 32).
Трапеза служит также и укреплению сплоченности familia, в широком смысле, включающем всех домочадцев. Рабы могли получать объедки со стола (Met., X, 14), а в некоторые праздничные дни имели право лежать за столом как хозяева: искусство трапезы, благодаря системе запретов и возможностей (пусть крайне редких) эти запреты не соблюдать, одновременно маркирует социальные дистанции и способствует сплочению гетерогенных групп. Не случайно застолья становятся крайне важной формой общественной жизни внутри христианских общин и, среди прочего, поводом для демонстрации на практике принципа милосердия. В Африке подобные трапезы приобрели такой размах — особенно в рамках погребальных ритуалов, когда принято было устраивать угощение в честь покойного в непосредственной близости от его могилы, — что церковные власти были вынуждены ограничить эту практику.
Итак, триклиний — одно из главных помещений жилого дома. Прежде всего это место для приемов, но также и сцена, на которой происходят значимые в жизни дома события: именно здесь благочестивый господин принимает странствующих жрецов сирийской богини для жертвенной трапезы (Met., IX, 1); именно сюда приводят чудесного осла, который ест те же блюда, что и человек, — дабы осел продемонстрировал свои невероятные способности, и первое, чему его учит раб, приставленный за ним ухаживать, — это лежать за столом, опираясь на «локоть» (Met., X, 16–17). Это место, где наиболее открыто являют себя отношения, которые, собственно, и создают сферу частного: на всех возможных уровнях, идет ли речь о семейной паре, семье в узком смысле слова, обо всех домочадцах или о круге гостей. Отношения эти не только считываются здесь на том уровне, на котором принято считывать социальные практики: хозяин дома вполне осознанно использует эту сцену для того, чтобы обнародовать свою жизненную позицию. Триклиний — пространство кодифицированное: место, которое человек занимает за столом, автоматически обозначает его статус, поскольку и ложа, и каждое конкретное место на каждом конкретном ложе — составные части строго иерархизированного порядка, вершина которого — место хозяина дома на центральном ложе справа; роль хозяина за столом — это роль magister convivio, человека, возглавляющего трапезу (Apul., Apol., 98). Гости занимают места под наблюдением специального слуги, nomenclator’a, а само пиршественное действо становится возможным только благодаря расторопности специальных рабов, servi triclinarii, каждый из которых имеет строго определенные обязанности: африканские художники не преминули запечатлеть их на мозаиках, изображающих сцены пиршеств.
В подобных условиях трапеза служит одним из способов демонстративного утверждения жизненных принципов. Читаем у Тертуллиана Африканского: «Вечеря (сена) наша свидетельствует о себе самым именем своим: она называется таким именем, каким греки называют любовь [agape]. <…> Если причина вечери почтенна, то об остальном судите по причине ее. Что же касается до обязанности религиозной, то она не допускает ничего низкого, ничего неумеренного. За стол садятся не прежде, чем выслушают молитву Божию. Едят столько, сколько нужно для утоления голода. Пьют столько, сколько требуется людям воздержным. <…> Говорят так, что знают, что их слышит сам Бог. <…> Молитвою также и заканчивается вечеря. С вечери расходятся… как такие люди, которые не столько ели, сколько учились» (Apol., XXXIX, 16–19)[62]. Та же забота о дидактической составляющей трапезы проявляется двумя столетиями позже у Августина: его друг Поссидий сообщает, что изречения, вырезанные над столом, имели целью давать пример и повод для застольных речей, и, хотя сотрапезники пользовались серебряными ложками, тарелки у них были глиняные, конечно, не из–за бедности, а из принципа.
Рис. 16, 17. Гадрумет, «Дом Масок» (Foucher L. La Maison des masques, a Sousse. Tunis, 1965. PL h. t.). Наверху: с западной стороны в перистиль выходит просторный триклиний, отделенный от сада галереей. На юге — приемная экседра с апсидой. Внизу: реконструкция: сечение южного крыла, проходящее через комнаты, расположенные восточнее экседры (3–5), и через южный портик (I)
Иногда пышность этих залов усиливалась за счет необычайно сложных и изысканных архитектурных решений. Витрувий описывает большие триклинии, украшенные внутренними колоннадами, и руины позволяют констатировать, что этот архитектурный прием, который римский архитектор назвал oecus’ом, иногда применялся в Африке. В «Доме Масок» в Гадрумете (рис. 16) триклиний, занимающий примерно 250 квадратных метров, отделен колоннами от галереи, шириной 2,4 метра, выходящей, в свою очередь, в сад через колоннаду. В Ачолле «Дом Нептуна» имеет триклиний площадью более 100 квадратных метров, где ложа отделены от внешней галереи колоннадой (рис. 10).
Роскошь этих комнат свидетельствует о той ключевой роли, которую они играли в жилом доме. Церемониал трапезы позволяет продемонстрировать высокое положение хозяина дома, утвердить его жизненные принципы; позволяет он также и отслеживать изменения, происходящие в социальных и семейных отношениях. Здесь нет необходимости перечислять сведения, которые мы можем почерпнуть из всем известных текстов, — сведения, касающиеся прежде всего Италии или восточной части Империи. Если сосредоточить внимание на источниках собственно африканских, можно без особого труда прийти к выводу, что в этих провинциях, как и в Риме, именно триклиний был тем местом, где хозяин дома отрабатывал свой имидж и демонстрировал его прилюдно.
Центральной темой этой демонстрации было богатство. Сочетание власти и богатства утверждалось со всей возможной откровенностью: собственно, пиры и задумывались именно с этой целью. Последуем за героем «Метаморфоз» Апулея: «Здесь застаю множество приглашенных, как и полагается для знатной Женщины, — цвет города. Великолепные столы блестят туей и слоновой костью, ложа покрыты золотыми тканями, большие Чаши, Разнообразные в своей красоте, но все одинаково драгоценные. Здесь стекло, искусно граненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, приспособленные для питья, и даже то, чего быть не может, — все здесь было. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, проворно подносят полные до краев блюда, завитые мальчики в красивых туниках то и дело подают старые вина в бокалах, украшенных самоцветами» (Met., II, 19)[59]. По существу, все это должно восприниматься как само собой разумеющееся; здесь, не возвращаясь к роскоши чисто архитектурной, роскоши декора и обстановки, стоит обратить внимание на социальное значение того, что употреблялось в пищу. Для пира, достойного такого именования, необходимо качественное вино, признаками которого, как и в наши дни, являются его проис хождение и возраст. Неменьшее значение имеют подаваемые блюда. Тримальхион сервировку каждого блюда превращает в целый спектакль. В Африке рыба свидетельствовала о столе в высшей степени роскошном. Это была действительно дорого стоящая пища: эдикт Диоклетиана уточняет, что она в среднем стоит в три раза дороже мяса. В более ранний период то же самое констатировал Апулей, говоря о «чревоугодниках, за чей счет богатеют рыбаки» (Apol., 32)[60]. В прибрежных городах проблема снабжения практически не возникала. Напротив, в городах, расположенных далеко от побережья, доступность свежей рыбы — проблема отдельная. На редкость этого продукта ссылается Апулей, отвечая на обвинение в колдовстве: «Я… был в глубине горной Гетулии, где рыба могла бы найтись разве что после Девкалионова потопа» (мы бы сказали Ноева; Apol., 41). Так что отнюдь не случайно морские темы, где изображения рыб и других морских обитателей занимают важное место, часто украшают триклинии или прилегающие к ним помещения. В «Доме Венеры» в Мактаре триклиний украшен целым каталогом съедобных морских животных, который изначально включал более двух сотен сюжетов и представлял собой «самое крупное античное произведение, посвященное морской фауне».[61] Помимо декоративной значимости этих сюжетов, а также их апотропеической роли (считалось, что рыба предохраняет дом от пагубных воздействий), такие мозаики несомненно выполняли и еще одну функцию: они увековечивали роскошь стола. Впрочем, эта «пропаганда» не настолько прямолинейна, как то могло бы показаться на первый взгляд. В «Апологии» Апулей сообщает, что изучает рыб, следуя традиции крупнейших греческих философов. Он препарирует и описывает рыб, суммирует и дополняет сведения своих предшественников, создает латинские эквиваленты для перевода греческих терминов. Не эта ли забота о научной классификации и инвентаризации столь замечательно проиллюстрирована мозаиками Мактара, где животные изображены с такой точностью, что практически все они могут быть совершенно однозначно идентифицированы нынешними исследователями и соотнесены с современными научными именами? Очень может статься, что одним из источников для этих мозаичных панно следовало бы считать пассажи Плиния, посвященные рыбам. Однако стоит ли рассматривать выраженную кулинарную составляющую подобных изображений в роскошных банкетных залах Африки как уступку низменным материальным вкусам, приносящую научность в жертву необходимости лишний раз восславить хозяина дома? Подобная позиция привела бы к неправильному пониманию того, каким образом столь радикально отличающиеся друг от друга подходы могли сосуществовать в рамках самой что ни на есть благородной интеллектуальной традиции: Шпулей сообщает, что живший на юге Италии эллинистический Поэт Энний, несомненно имитируя греческие источники, сочинил поэму, в одной из частей которой воспел рыб и дары моря: «О каждой породе у него сказано, где она водится и как Повкуснее ее приготовить — сварить или зажарить» (Apol., 39).
Приведенные выше наблюдения заставляют нас обратиться к бассейнам во дворе перистиля. В самом деле, их часто украшали морскими сюжетами, искусственно напоминая таким образом в домашнем пространстве об удовольствиях, связанных с морем. Однако случалось и так, что одной только иллюзии владельцу оказывалось недостаточно. В некоторых африканских домах в бассейны запускали живую рыбу. В «Доме Кастория» в Куикуле (рис. 14) в каменную кладку центрального бассейна встроены небольшие амфоры — характерное приспособление, свидетельствующее о том, что там разводили рыб. То же мы видим и в «Доме Вакха» в Куикуле. В «Доме Сертия» в Тимгаде (рис. 19) конструкция бассейна сложнее. Вероятнее всего, зал, находящийся в глубине дома — относительно главного входа, расположенного вдоль Cardo Maximus, — и выходящий во второй перистиль через прихожую с двумя колоннами, следует считать триклинием. Двор перистиля украшен бассейном, фактически состоящим из двух размещенных один над другим резервуаров, сообщающихся посредством двух отверстий. В выложенные кирпичом стенки подземного резервуара встроены вазы, зафиксированные горизонтально. Такое приспособление должно было служить укрытием для рыб, где они могли откладывать икру. В подобных случаях, а они встречаются довольно часто, речь идет о самых настоящих рыбных садках, декоративная функция которых дополняется экономической ролью: в городах, расположенных далеко от моря, они позволяли обеспечить стол хозяина дома редкими и очень дорогими продуктами. Вероятно, такие садки представляли собой всего лишь скромные копии крупных рыбоводческих хозяйств, которыми владели многие римские аристократы, получившие за это от Цицерона прозвище piscinarii (любители живорыбных садков) и «живорыбные Тритоны». Тем не менее в случае с домашними садками мы имеем дело с явлением, по сути, аналогичным — с поправкой на уровень доходов и на местные условия.
Триклиний — не только место, где хозяин дома утверждает собственный статус с помощью демонстративных практик. Это место подходит также для выражения более тонких и ничуть не менее значимых для дома в целом семантических комплексов, таких, скажем, как участие в трапезах женщин, а иногда даже и детей (см., к примеру, в «Исповеди» у Августина - IX, 17 — где эти последниеедят за одним столом с родителями). Такие практики с давних пор были распространены в Африке, так же как и в других частях римского мира: эволюция семейных обычаев сказывалась и на том, как и с кем люди вкушали пищу — вплоть до трапез посмертных, как показывает одна похоронная мозаика, на которой пара пирует в потустороннем мире в соответствии с этикетом, идентичным земному. Древний порядок, требовавший, чтобы за едой возлежали только мужчины, а женщины сидели, соблюдался только откровенными консерваторами и ретроградами: когда Апулей впервые показывает ростовщика Милона, известного всему городу своей жадностью и гнусной подлостью, он изображает его за приготовлениями к ужину: Милон расположился на убогом ложе перед пустым столом, а жена сидит у его ног. Скудость стола и убожество обстановки можно трактовать по–разному, а вот взаимное положение супругов исключает всякую двусмысленность интерпретации (Met., I, 32).
Трапеза служит также и укреплению сплоченности familia, в широком смысле, включающем всех домочадцев. Рабы могли получать объедки со стола (Met., X, 14), а в некоторые праздничные дни имели право лежать за столом как хозяева: искусство трапезы, благодаря системе запретов и возможностей (пусть крайне редких) эти запреты не соблюдать, одновременно маркирует социальные дистанции и способствует сплочению гетерогенных групп. Не случайно застолья становятся крайне важной формой общественной жизни внутри христианских общин и, среди прочего, поводом для демонстрации на практике принципа милосердия. В Африке подобные трапезы приобрели такой размах — особенно в рамках погребальных ритуалов, когда принято было устраивать угощение в честь покойного в непосредственной близости от его могилы, — что церковные власти были вынуждены ограничить эту практику.
Итак, триклиний — одно из главных помещений жилого дома. Прежде всего это место для приемов, но также и сцена, на которой происходят значимые в жизни дома события: именно здесь благочестивый господин принимает странствующих жрецов сирийской богини для жертвенной трапезы (Met., IX, 1); именно сюда приводят чудесного осла, который ест те же блюда, что и человек, — дабы осел продемонстрировал свои невероятные способности, и первое, чему его учит раб, приставленный за ним ухаживать, — это лежать за столом, опираясь на «локоть» (Met., X, 16–17). Это место, где наиболее открыто являют себя отношения, которые, собственно, и создают сферу частного: на всех возможных уровнях, идет ли речь о семейной паре, семье в узком смысле слова, обо всех домочадцах или о круге гостей. Отношения эти не только считываются здесь на том уровне, на котором принято считывать социальные практики: хозяин дома вполне осознанно использует эту сцену для того, чтобы обнародовать свою жизненную позицию. Триклиний — пространство кодифицированное: место, которое человек занимает за столом, автоматически обозначает его статус, поскольку и ложа, и каждое конкретное место на каждом конкретном ложе — составные части строго иерархизированного порядка, вершина которого — место хозяина дома на центральном ложе справа; роль хозяина за столом — это роль magister convivio, человека, возглавляющего трапезу (Apul., Apol., 98). Гости занимают места под наблюдением специального слуги, nomenclator’a, а само пиршественное действо становится возможным только благодаря расторопности специальных рабов, servi triclinarii, каждый из которых имеет строго определенные обязанности: африканские художники не преминули запечатлеть их на мозаиках, изображающих сцены пиршеств.
В подобных условиях трапеза служит одним из способов демонстративного утверждения жизненных принципов. Читаем у Тертуллиана Африканского: «Вечеря (сена) наша свидетельствует о себе самым именем своим: она называется таким именем, каким греки называют любовь [agape]. <…> Если причина вечери почтенна, то об остальном судите по причине ее. Что же касается до обязанности религиозной, то она не допускает ничего низкого, ничего неумеренного. За стол садятся не прежде, чем выслушают молитву Божию. Едят столько, сколько нужно для утоления голода. Пьют столько, сколько требуется людям воздержным. <…> Говорят так, что знают, что их слышит сам Бог. <…> Молитвою также и заканчивается вечеря. С вечери расходятся… как такие люди, которые не столько ели, сколько учились» (Apol., XXXIX, 16–19)[62]. Та же забота о дидактической составляющей трапезы проявляется двумя столетиями позже у Августина: его друг Поссидий сообщает, что изречения, вырезанные над столом, имели целью давать пример и повод для застольных речей, и, хотя сотрапезники пользовались серебряными ложками, тарелки у них были глиняные, конечно, не из–за бедности, а из принципа.
 Рис. 18. Фисдр, «Дом Павлина» (на севере) и дом, называемый domus’ом Соллертиана (Foucher L. Decouvertes archeologiques a Ihysdrus en 1961. Tunis, s.d. Plan I). «Дом Павлина» (примерно 1700 квадратных метров, байонетный план). А: перистиль с двором (12,35 х 10,20 м) с садом; 4: приемная экседра (10 х 8 м) со служебным выходом; 7 и 11: триклинии; 3 и 5: коридоры; С: дворик; D: дворик с фонтаном; Е: дворик с садом; 9: спальня (см. рис. 32); 18: домашняя церковь? «Domus Соллертиана». А: перистиль; 1: триклиний; В: второй двор; 3: приемная экседра; 4 и 6: спальни с ведущей в них прихожей 5
Фактически нет никакого противоречия между тем, как вели себя в указанных контекстах христиане, и искусством трапезы предшествующих веков. В языческой идеологии наряду с четкой связью, существовавшей между социальным статусом и роскошными, порой доходящими до откровенных излишеств пиршествами, всегда была в почете тема умеренности. Когда Эразм восхвалял «стол более богатый учеными беседами, чем удовольствиями уст», он всего лишь повторял одну из любимых формул древних римлян, по крайней мере тех, кто считал себя компетентным в искусстве речи и мысли. Плиний Младший, восхваляя пиры императора Траяна, настаивает на привлекательности бесед и подчеркивает, что единственными развлечениями на этих пирах были музыка и комедийные представления. На африканских банкетах, напротив, были весьма популярны танцовщицы и куртизанки, которые изображены на одной карфагенской мозаике, в серединной зоне триклиния, окруженной столами пирующих. Апулей, желая опозорить одного из своих противников, описывает его в обличии «некоего пропойцы и обжоры, этого бесстыжего» человека, которому «с утра невтерпеж напиться» (Apol., 57), и аргумент этот, судя по всему, весьма весомый: другой обвинитель «сожрал» три миллиона сестерциев, полученных в наследство, заботясь, как бы «прожрать, пропить и протранжирить на всяческие непотребные пиршества» эту сумму, так что «от изрядного состояния уцелели у него лишь жалкое тщеславие да ненасытная прожорливость» (Apol., 75). Доверимся проницательности Апулея в том, что такая аргументация была способна оказывать воздействие на судей.
Совершенно очевидно, что столовая играет первостепенную роль в социальном функционировании жилища, поскольку те практики, которые так или иначе с ней связаны, охватывают все уровни частной жизни, начиная от взаимоотношений между супругами и вплоть до того, каким образом домочадцы выстраивают отношения с внешним миром. Это место насыщено смыслами, поскольку это своего рода театр, в котором действуют строго определенные правила; более того, здесь существует целый ряд конвенций, которые позволяют хозяину дома и его гостям демонстрировать свой образ жизни, положение в обществе и отношение к его нравам. В соответствии с этими ориентирами значение придавалось мельчайшим нюансам поведения, любому блюду. Достаточно прочитать, как Ювенал или Марциал, интеллектуалы, скорые на анализ и критику, объявляют перед гостями изысканное и исполненное притворной скромности меню будущего пиршества, с обещанием бесед высокого морального и интеллектуального уровня, чтобы понять, что, по сути, нет никакой разницы между ними и Тримальхионом: в обоих случаях трапеза — это повод для публичной демонстрации и навязывания гостям некой этической нормы, движущей силой которой в конечном счете является личная история хозяина дома. Однако всякая открытость и раскованность чреваты неожиданными последствиями: удовольствие от трапезы может быть отравлено вызывающей и угрожающей самым основам социального бытия дерзостью, и примеров тому также множество. Следовательно, место, где сотрапезники раскрывают себя, одновременно является и местом, где царят запреты. Страх витает над головами пирующих: Марциал обещает гостям, что на следующий день они не будут сожалеть ни о чем из того, что они сказали или услышали (X, 48); помпейский горожанин велит написать на стенах своего триклиния максимы, внушающие гостям сдержанность и корректность речи под угрозой изгнания из–за стола; Августин лишает вина всякого, кто осмеливается сквернословить.
Рис. 18. Фисдр, «Дом Павлина» (на севере) и дом, называемый domus’ом Соллертиана (Foucher L. Decouvertes archeologiques a Ihysdrus en 1961. Tunis, s.d. Plan I). «Дом Павлина» (примерно 1700 квадратных метров, байонетный план). А: перистиль с двором (12,35 х 10,20 м) с садом; 4: приемная экседра (10 х 8 м) со служебным выходом; 7 и 11: триклинии; 3 и 5: коридоры; С: дворик; D: дворик с фонтаном; Е: дворик с садом; 9: спальня (см. рис. 32); 18: домашняя церковь? «Domus Соллертиана». А: перистиль; 1: триклиний; В: второй двор; 3: приемная экседра; 4 и 6: спальни с ведущей в них прихожей 5
Фактически нет никакого противоречия между тем, как вели себя в указанных контекстах христиане, и искусством трапезы предшествующих веков. В языческой идеологии наряду с четкой связью, существовавшей между социальным статусом и роскошными, порой доходящими до откровенных излишеств пиршествами, всегда была в почете тема умеренности. Когда Эразм восхвалял «стол более богатый учеными беседами, чем удовольствиями уст», он всего лишь повторял одну из любимых формул древних римлян, по крайней мере тех, кто считал себя компетентным в искусстве речи и мысли. Плиний Младший, восхваляя пиры императора Траяна, настаивает на привлекательности бесед и подчеркивает, что единственными развлечениями на этих пирах были музыка и комедийные представления. На африканских банкетах, напротив, были весьма популярны танцовщицы и куртизанки, которые изображены на одной карфагенской мозаике, в серединной зоне триклиния, окруженной столами пирующих. Апулей, желая опозорить одного из своих противников, описывает его в обличии «некоего пропойцы и обжоры, этого бесстыжего» человека, которому «с утра невтерпеж напиться» (Apol., 57), и аргумент этот, судя по всему, весьма весомый: другой обвинитель «сожрал» три миллиона сестерциев, полученных в наследство, заботясь, как бы «прожрать, пропить и протранжирить на всяческие непотребные пиршества» эту сумму, так что «от изрядного состояния уцелели у него лишь жалкое тщеславие да ненасытная прожорливость» (Apol., 75). Доверимся проницательности Апулея в том, что такая аргументация была способна оказывать воздействие на судей.
Совершенно очевидно, что столовая играет первостепенную роль в социальном функционировании жилища, поскольку те практики, которые так или иначе с ней связаны, охватывают все уровни частной жизни, начиная от взаимоотношений между супругами и вплоть до того, каким образом домочадцы выстраивают отношения с внешним миром. Это место насыщено смыслами, поскольку это своего рода театр, в котором действуют строго определенные правила; более того, здесь существует целый ряд конвенций, которые позволяют хозяину дома и его гостям демонстрировать свой образ жизни, положение в обществе и отношение к его нравам. В соответствии с этими ориентирами значение придавалось мельчайшим нюансам поведения, любому блюду. Достаточно прочитать, как Ювенал или Марциал, интеллектуалы, скорые на анализ и критику, объявляют перед гостями изысканное и исполненное притворной скромности меню будущего пиршества, с обещанием бесед высокого морального и интеллектуального уровня, чтобы понять, что, по сути, нет никакой разницы между ними и Тримальхионом: в обоих случаях трапеза — это повод для публичной демонстрации и навязывания гостям некой этической нормы, движущей силой которой в конечном счете является личная история хозяина дома. Однако всякая открытость и раскованность чреваты неожиданными последствиями: удовольствие от трапезы может быть отравлено вызывающей и угрожающей самым основам социального бытия дерзостью, и примеров тому также множество. Следовательно, место, где сотрапезники раскрывают себя, одновременно является и местом, где царят запреты. Страх витает над головами пирующих: Марциал обещает гостям, что на следующий день они не будут сожалеть ни о чем из того, что они сказали или услышали (X, 48); помпейский горожанин велит написать на стенах своего триклиния максимы, внушающие гостям сдержанность и корректность речи под угрозой изгнания из–за стола; Августин лишает вина всякого, кто осмеливается сквернословить.
 Рис. 19. Тимгад, «Дом Сертия». Главный вход (первоначально трехчастный?), выходящий на Cardo Maximus; мощеный вестибюль с колоннадой в центре; термы в верхнем правом углу: справа налево первый перистиль, в который выходит большой зал (триклиний?); второй перистиль с бассейном–аквариумом и второй триклиний(?), предваряемый прихожей. Как и следующий, этот жилой комплекс, занимающий более 2500 квадратных метров, был построен на месте разрушенных стен, след которых отмечен пунктиром (закругление рядом со вторым триклинием, соответствует юго–западному углу крепостной стены)
Рис. 19. Тимгад, «Дом Сертия». Главный вход (первоначально трехчастный?), выходящий на Cardo Maximus; мощеный вестибюль с колоннадой в центре; термы в верхнем правом углу: справа налево первый перистиль, в который выходит большой зал (триклиний?); второй перистиль с бассейном–аквариумом и второй триклиний(?), предваряемый прихожей. Как и следующий, этот жилой комплекс, занимающий более 2500 квадратных метров, был построен на месте разрушенных стен, след которых отмечен пунктиром (закругление рядом со вторым триклинием, соответствует юго–западному углу крепостной стены)
 Рис. 20. Тимгад, «Дом Гермафродита». Слева, под портиком, идущим вдоль Cardo Maximus, которая отделяет этот жилой комплекс от «Дома Сертия», были расположены торговые лавки; далее, слева направо, то есть на восток, входной вестибюль, выходящий в большой зал, соседствующий с просторной комнатой (11 х 7,6 м), в двух стенах которой по три дверных проема, что позволяет без сомнений считать ее триклинием. Широкая стена, которая ограничивает дом с севера, соответствует контуру первоначальной крепостной стены
Итак, застольные удовольствия занимают центральное место в человеческих отношениях, поскольку позволяют реализовать предельное разнообразие поведенческих сценариев: от самой бурной оргии до строжайшей аскезы, и принципиальной разницы здесь нет. Эти противоположности всего лишь демонстрируют два крайних предела дозволенного, объединенных общим пространством трапезы, и приверженцы этих двух экстремальных позиций охотно используют одно и то же место действия, чтобы достигнуть результатов, на первый взгляд столь разительно отличающихся. Рассмотрение тех вполне объективных причин, что делают трапезу столь богатым с семантической точки зрения событием, выходит за рамки нашей темы. Мы только позволим себе сослаться на то, как Августин Рассуждает об этом в «Исповеди», в главе, которую он назвал «Человек в борьбе с самим собой». В рубрике, посвященной чувствам, внимание автора дольше всего занимает проблема опасности вкуса к трапезе: «Мы восстанавливаем наше ежедневно разрушающееся тело едой и питьем. <…> Теперь же эта необходимость мне сладка, и я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен: я веду с ней ежедневную войну постом и частым «порабощением тела». <…> Ты научил меня принимать пищу, как лекарство. Но пока я перехожу от тягостного голода к благодушной сытости, тут мне как раз и поставлен силок чревоугодия. Самый этот переход есть наслаждение, а другого, чтобы перейти туда, куда переходить заставляет необходимость, нет. <…> Пребывая в этих искушениях, я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями: обрезать раз навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи. И найдется ли, Господи, тот, кого не увлечет за пределы необходимого?» (Conf., X, 43–47)[63]. Акт еды так заботит мудреца, языческого или христианского, потому что он одновременно необходим и достоин осуждения. Напомним, что единственный грех, который тот же Августин чувствовал себя вправе вменять в вину своей матери, — это несколько чрезмерная и быстро обузданная склонность к вину (Conf., IX, 18). Но социальная реальность неотменима: существует искусство трапезы или, скорее, разные традиции питания, и никто не безгрешен. Более того, сила этого акта абсолютно инверсивна по отношению к психоаналитическому подходу: в случае необходимости мы осознаем реальные причины своих действий никак не a posteriori; опасность совершения аморальных поступков во время застолья известна, и поступков этих либо избегают, либо на них решаются: осознание предшествует бессознательному характеру рискованных действий или слов, произносимых в пылу празднеств. Опасность еще больше, если мы знаем, что некоторые люди не могут себя контролировать; или, еще того хуже, для некоторых «безобразия» на банкетах становятся стилем жизни.
Итак, столовая играет решающую роль в контактах обитателей дома с внешним миром, однако только этим вопрос не исчерпывается. Современный уровень знаний позволяет утверждать, что существовали и другие помещения, специально предназначенные для приемов: речь идет об экседрах, или небольших парадных комнатах, размеров, как правило, меньших, чем столовые, но отличающихся от остальных комнат относительно большой площадью, широкими дверными проемами, которые связывают их с другими помещениями, и вниманием, которое уделяется их декору. Иногда эти салоны легко идентифицировать. В «Новом Доме Охоты» в Булла Регия (рис. 8) экседра расположена напротив столовой и первоначально выходила в один из портиков перистиля через три входных проема; аналогичное архитектурное решение использовано в «Доме Охоты», где особенно просторная экседра занимает площадь даже большую, чем триклинии. В «Доме павлина» в Фисдре (рис. 18, комната 4) помещение также весьма обширное, что свидетельствует о значимости, которую владелец придавал этой комнате. В том же городе в «Доме Масок» экседра выделена при помощи апсиды. В действительности практически ни один крупный африканский жилой комплекс не обходится без этого зала для приемов.
Рис. 20. Тимгад, «Дом Гермафродита». Слева, под портиком, идущим вдоль Cardo Maximus, которая отделяет этот жилой комплекс от «Дома Сертия», были расположены торговые лавки; далее, слева направо, то есть на восток, входной вестибюль, выходящий в большой зал, соседствующий с просторной комнатой (11 х 7,6 м), в двух стенах которой по три дверных проема, что позволяет без сомнений считать ее триклинием. Широкая стена, которая ограничивает дом с севера, соответствует контуру первоначальной крепостной стены
Итак, застольные удовольствия занимают центральное место в человеческих отношениях, поскольку позволяют реализовать предельное разнообразие поведенческих сценариев: от самой бурной оргии до строжайшей аскезы, и принципиальной разницы здесь нет. Эти противоположности всего лишь демонстрируют два крайних предела дозволенного, объединенных общим пространством трапезы, и приверженцы этих двух экстремальных позиций охотно используют одно и то же место действия, чтобы достигнуть результатов, на первый взгляд столь разительно отличающихся. Рассмотрение тех вполне объективных причин, что делают трапезу столь богатым с семантической точки зрения событием, выходит за рамки нашей темы. Мы только позволим себе сослаться на то, как Августин Рассуждает об этом в «Исповеди», в главе, которую он назвал «Человек в борьбе с самим собой». В рубрике, посвященной чувствам, внимание автора дольше всего занимает проблема опасности вкуса к трапезе: «Мы восстанавливаем наше ежедневно разрушающееся тело едой и питьем. <…> Теперь же эта необходимость мне сладка, и я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен: я веду с ней ежедневную войну постом и частым «порабощением тела». <…> Ты научил меня принимать пищу, как лекарство. Но пока я перехожу от тягостного голода к благодушной сытости, тут мне как раз и поставлен силок чревоугодия. Самый этот переход есть наслаждение, а другого, чтобы перейти туда, куда переходить заставляет необходимость, нет. <…> Пребывая в этих искушениях, я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями: обрезать раз навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи. И найдется ли, Господи, тот, кого не увлечет за пределы необходимого?» (Conf., X, 43–47)[63]. Акт еды так заботит мудреца, языческого или христианского, потому что он одновременно необходим и достоин осуждения. Напомним, что единственный грех, который тот же Августин чувствовал себя вправе вменять в вину своей матери, — это несколько чрезмерная и быстро обузданная склонность к вину (Conf., IX, 18). Но социальная реальность неотменима: существует искусство трапезы или, скорее, разные традиции питания, и никто не безгрешен. Более того, сила этого акта абсолютно инверсивна по отношению к психоаналитическому подходу: в случае необходимости мы осознаем реальные причины своих действий никак не a posteriori; опасность совершения аморальных поступков во время застолья известна, и поступков этих либо избегают, либо на них решаются: осознание предшествует бессознательному характеру рискованных действий или слов, произносимых в пылу празднеств. Опасность еще больше, если мы знаем, что некоторые люди не могут себя контролировать; или, еще того хуже, для некоторых «безобразия» на банкетах становятся стилем жизни.
Итак, столовая играет решающую роль в контактах обитателей дома с внешним миром, однако только этим вопрос не исчерпывается. Современный уровень знаний позволяет утверждать, что существовали и другие помещения, специально предназначенные для приемов: речь идет об экседрах, или небольших парадных комнатах, размеров, как правило, меньших, чем столовые, но отличающихся от остальных комнат относительно большой площадью, широкими дверными проемами, которые связывают их с другими помещениями, и вниманием, которое уделяется их декору. Иногда эти салоны легко идентифицировать. В «Новом Доме Охоты» в Булла Регия (рис. 8) экседра расположена напротив столовой и первоначально выходила в один из портиков перистиля через три входных проема; аналогичное архитектурное решение использовано в «Доме Охоты», где особенно просторная экседра занимает площадь даже большую, чем триклинии. В «Доме павлина» в Фисдре (рис. 18, комната 4) помещение также весьма обширное, что свидетельствует о значимости, которую владелец придавал этой комнате. В том же городе в «Доме Масок» экседра выделена при помощи апсиды. В действительности практически ни один крупный африканский жилой комплекс не обходится без этого зала для приемов.
 Рис. 21. Волюбилис, «Дом с Крестообразным Бассейном» (Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. Фрагмент плана XV). Аксиальный план: 7: перистиль с мощеным двором; 9: триклиний? (11 х 7,4 м); 16: второй перистиль (7,7 х 7 м), на который выходят комнаты 17–20
Фактически триклиний был предназначен главным образом для больших вечерних приемов, поэтому хозяину дома было необходимо другое помещение для исполнения иных социальных обязанностей. Парадный зал африканских домов в значительной мере наследует функции tablinum’a, характерного для традиционного итальянского жилища: так, например, в рабочем кабинете хозяина в «Доме Фонтея» в Банасе именно мозаичный рисунок дает нам возможность узнать имя владельца, S. FONTE(ius). Здесь хозяин дома может уединиться, удалившись от повседневной домашней суеты. Здесь же он занимается делами или принимает друзей. Таким образом, это помещение предназначено главным образом для культурных мероприятий, будь то обычные беседы или публичные чтения. То обстоятельство, что декор экседры часто отсылает к интеллектуальной деятельности, не случайно: доказательство тому — мозаики с Музами в домах в Альтибуросе или в Фисдре, комедийные маски и изображение трагического поэта и актера в экседре «Дома Масок» в Гадрумете (рис. 16). Действительно, культурные связи играют важнейшую роль в социальной жизни элит, одной из моделей которой является vir bonus dicendi peritus, «муж честный и в словесах изощренный», по формулировке Апулея (Apol., 94): умение вести беседу и писать письма выражает истинную суть личности автора, включая и присущие ему моральные качества. Впрочем, в текстах упоминаются и другие жилые помещения, связанные с чисто культурными практиками, хотя при раскопках распознать их довольно трудно: Апулей описывает, к примеру, библиотеку, комнату, которая запиралась на ключ и надзирать за которой был приставлен вольноотпущенник (Apol., 53, 55).
Существует, однако, другой тип социальных отношений, для поддержания которых экседры, часто располагавшейся глубоко внутри жилища и имевшей все–таки достаточно скромные размеры, могло оказаться недостаточно. Речь идет об отношениях клиентелы, которые фактически предполагают наиболее массовое вторжение в дом людей извне. В Италии важность клиентских связей, которые структурировали общество на основе взаимовыгодных отношений обмена и заставляли каждого человека зависеть от другого, более могущественного, подтверждается множеством источников. По аналогии имеет смысл предполагать, что подобные связи играли столь же значимую роль и в Африке. Апулей женился в деревне, чтобы избежать необходимости раздавать спортулы, еду или денежные подарки, которые патрон обязан раздавать зависящим от него людям (Apol., 87); Августин сообщает, что Алипий, один из его учеников в Карфагене, имел обыкновение регулярно отправляться по утрам в дом к одному сенатору, чтобы поприветствовать его, — то есть наносил церемониальные визиты, обязательные для клиента по отношению к патрону.
Эти церемонии, отражающие отношения зависимости, мы видим и на интерьерных изображениях. Наиболее показательна в этом отношении, бесспорно, мозаика, происходящая из карфагенского «Дома Господина Юлия». Новое толкование этого памятника было предложено П. Вейном[64] мы же остановимся лишь на тех моментах, которые связаны с нашей темой. В центре изображения мы видим виллу, во круг которой разворачивается сцена выезда на охоту. Два других фриза, напротив, фиксируют несколько иные смыслы: фактически здесь представлены образы, по сути своей сугубо символические. В соответствии с традиционной интерпретацией четыре угла занимают сцены, изображающие четыре времени года: зиму (сбор оливок и охота на уток), лето (жатва), весну (цветы) и осень (сбор винограда и водоплавающие птицы). Однако, как подчеркивает П. Вейн, весь верхний фриз образует единый ансамбль: три персонажа несут подарки даме, находящейся в центре композиции. Как согласовать такое пространственное единство с разницей времен года? Это очень легко сделать в рамках символического истолкования сцены: дары преподносятся всегда, вне зависимости от времени года, недостатка в них не бывает. То же символическое значение проявляется и в нижнем фризе, где владетельная пара изображена среди обильно плодоносящей растительности: муж сидит, поставив ноги на скамеечку, жена стоит, облокотившись о полуколонну рядом с креслом (cathedra), — детали, указывающие на то, что в действительности они находятся в домашнем интерьере. Таким образом, перед нами аллегорическая репрезентация тех церемоний, в ходе которых патрону воздают почести зависимые от него люди. В данном случае речь идет не столько об отношениях клиентелы, сколько о символическом изображении экономической зависимости: это хозяин и колоны — крестьяне, которым предоставлены в аренду участки земли и которые пришли не рассчитаться собственно за аренду, а для того — и мы опять следуем здесь за П. Вейном — чтобы преподнести хозяину начатки выращенного урожая или же плоды охоты и рыбалки. О том, что это именно начатки и, следовательно, сама церемония имеет культовый характер, свидетельствует Ряд деталей изображения: мозаика ясно дает понять, что сбор оливок только начался, что жатва еще не снята и виноград еще не собран.
Правомерность нашего анализа подтверждается изучением xenia — изображений фруктов, овощей и животных, хорошо известных по италийской живописи; тема эта регулярно встречается также и на африканских мозаиках. Согласно Витрувию, эти «натюрморты», которые, впрочем, могут включать и вполне живые элементы, воспроизводят подарки, которыми хозяин дома одаривает своих гостей. У нас нет причин отвергать такую интерпретацию, но нам представляется, что в Африке (и маловероятно, что этот феномен был исключительно локальным) с подобными мотивами связана целая система значений. Обширная иконография позволяет установить четкую связь этих даров природы с Дионисом, что совершенно логично превращает их в символы плодородия, находящегося в ведении этого бога. Более того, такого рода религиозные коннотации укоренены в совершенно определенном социальном контексте: помимо всего прочего — а возможно, и прежде всего — xenia являются изображениями тех начатков урожая, которые именно колоны преподносят своим хозяевам. Последнее значение, выявленное П. Бейном, видимо, подтверждается вымосткой одной из комнат «Дома Павлина» в Фисдре (рис. 26). Действительно, в четырех центральных квадратах мозаичного покрытия изображены корзины, наполненные продуктами земледелия, вполне сопоставимыми с традиционными xenia, но в данном случае эти натюрморты символизируют еще и времена года, поскольку каждая корзина наполнена продуктами, характерными для четырех времен года. Таким образом, более внятным становится и смысл мозаики из «Дома Господина Юлия»: здесь абстрагированной аллегории предпочли социально–конкретную форму, которая тем не менее содержит и репрезентацию акта приношения, пусть даже и в весьма обобщенном виде.
Рис. 21. Волюбилис, «Дом с Крестообразным Бассейном» (Etienne R. Le Quartier nord–est de Volubilis. Paris, 1960. Фрагмент плана XV). Аксиальный план: 7: перистиль с мощеным двором; 9: триклиний? (11 х 7,4 м); 16: второй перистиль (7,7 х 7 м), на который выходят комнаты 17–20
Фактически триклиний был предназначен главным образом для больших вечерних приемов, поэтому хозяину дома было необходимо другое помещение для исполнения иных социальных обязанностей. Парадный зал африканских домов в значительной мере наследует функции tablinum’a, характерного для традиционного итальянского жилища: так, например, в рабочем кабинете хозяина в «Доме Фонтея» в Банасе именно мозаичный рисунок дает нам возможность узнать имя владельца, S. FONTE(ius). Здесь хозяин дома может уединиться, удалившись от повседневной домашней суеты. Здесь же он занимается делами или принимает друзей. Таким образом, это помещение предназначено главным образом для культурных мероприятий, будь то обычные беседы или публичные чтения. То обстоятельство, что декор экседры часто отсылает к интеллектуальной деятельности, не случайно: доказательство тому — мозаики с Музами в домах в Альтибуросе или в Фисдре, комедийные маски и изображение трагического поэта и актера в экседре «Дома Масок» в Гадрумете (рис. 16). Действительно, культурные связи играют важнейшую роль в социальной жизни элит, одной из моделей которой является vir bonus dicendi peritus, «муж честный и в словесах изощренный», по формулировке Апулея (Apol., 94): умение вести беседу и писать письма выражает истинную суть личности автора, включая и присущие ему моральные качества. Впрочем, в текстах упоминаются и другие жилые помещения, связанные с чисто культурными практиками, хотя при раскопках распознать их довольно трудно: Апулей описывает, к примеру, библиотеку, комнату, которая запиралась на ключ и надзирать за которой был приставлен вольноотпущенник (Apol., 53, 55).
Существует, однако, другой тип социальных отношений, для поддержания которых экседры, часто располагавшейся глубоко внутри жилища и имевшей все–таки достаточно скромные размеры, могло оказаться недостаточно. Речь идет об отношениях клиентелы, которые фактически предполагают наиболее массовое вторжение в дом людей извне. В Италии важность клиентских связей, которые структурировали общество на основе взаимовыгодных отношений обмена и заставляли каждого человека зависеть от другого, более могущественного, подтверждается множеством источников. По аналогии имеет смысл предполагать, что подобные связи играли столь же значимую роль и в Африке. Апулей женился в деревне, чтобы избежать необходимости раздавать спортулы, еду или денежные подарки, которые патрон обязан раздавать зависящим от него людям (Apol., 87); Августин сообщает, что Алипий, один из его учеников в Карфагене, имел обыкновение регулярно отправляться по утрам в дом к одному сенатору, чтобы поприветствовать его, — то есть наносил церемониальные визиты, обязательные для клиента по отношению к патрону.
Эти церемонии, отражающие отношения зависимости, мы видим и на интерьерных изображениях. Наиболее показательна в этом отношении, бесспорно, мозаика, происходящая из карфагенского «Дома Господина Юлия». Новое толкование этого памятника было предложено П. Вейном[64] мы же остановимся лишь на тех моментах, которые связаны с нашей темой. В центре изображения мы видим виллу, во круг которой разворачивается сцена выезда на охоту. Два других фриза, напротив, фиксируют несколько иные смыслы: фактически здесь представлены образы, по сути своей сугубо символические. В соответствии с традиционной интерпретацией четыре угла занимают сцены, изображающие четыре времени года: зиму (сбор оливок и охота на уток), лето (жатва), весну (цветы) и осень (сбор винограда и водоплавающие птицы). Однако, как подчеркивает П. Вейн, весь верхний фриз образует единый ансамбль: три персонажа несут подарки даме, находящейся в центре композиции. Как согласовать такое пространственное единство с разницей времен года? Это очень легко сделать в рамках символического истолкования сцены: дары преподносятся всегда, вне зависимости от времени года, недостатка в них не бывает. То же символическое значение проявляется и в нижнем фризе, где владетельная пара изображена среди обильно плодоносящей растительности: муж сидит, поставив ноги на скамеечку, жена стоит, облокотившись о полуколонну рядом с креслом (cathedra), — детали, указывающие на то, что в действительности они находятся в домашнем интерьере. Таким образом, перед нами аллегорическая репрезентация тех церемоний, в ходе которых патрону воздают почести зависимые от него люди. В данном случае речь идет не столько об отношениях клиентелы, сколько о символическом изображении экономической зависимости: это хозяин и колоны — крестьяне, которым предоставлены в аренду участки земли и которые пришли не рассчитаться собственно за аренду, а для того — и мы опять следуем здесь за П. Вейном — чтобы преподнести хозяину начатки выращенного урожая или же плоды охоты и рыбалки. О том, что это именно начатки и, следовательно, сама церемония имеет культовый характер, свидетельствует Ряд деталей изображения: мозаика ясно дает понять, что сбор оливок только начался, что жатва еще не снята и виноград еще не собран.
Правомерность нашего анализа подтверждается изучением xenia — изображений фруктов, овощей и животных, хорошо известных по италийской живописи; тема эта регулярно встречается также и на африканских мозаиках. Согласно Витрувию, эти «натюрморты», которые, впрочем, могут включать и вполне живые элементы, воспроизводят подарки, которыми хозяин дома одаривает своих гостей. У нас нет причин отвергать такую интерпретацию, но нам представляется, что в Африке (и маловероятно, что этот феномен был исключительно локальным) с подобными мотивами связана целая система значений. Обширная иконография позволяет установить четкую связь этих даров природы с Дионисом, что совершенно логично превращает их в символы плодородия, находящегося в ведении этого бога. Более того, такого рода религиозные коннотации укоренены в совершенно определенном социальном контексте: помимо всего прочего — а возможно, и прежде всего — xenia являются изображениями тех начатков урожая, которые именно колоны преподносят своим хозяевам. Последнее значение, выявленное П. Бейном, видимо, подтверждается вымосткой одной из комнат «Дома Павлина» в Фисдре (рис. 26). Действительно, в четырех центральных квадратах мозаичного покрытия изображены корзины, наполненные продуктами земледелия, вполне сопоставимыми с традиционными xenia, но в данном случае эти натюрморты символизируют еще и времена года, поскольку каждая корзина наполнена продуктами, характерными для четырех времен года. Таким образом, более внятным становится и смысл мозаики из «Дома Господина Юлия»: здесь абстрагированной аллегории предпочли социально–конкретную форму, которая тем не менее содержит и репрезентацию акта приношения, пусть даже и в весьма обобщенном виде.
 Рис. 22. Волюбилис, «Дом Свиты Венеры» (Etienne, ibid., pi. XVII). Аксиальный план. V. 1 и V. 2: двухчастный входной вестибюль (15 х 3,8 м и 6 х 5,4 м), первый, так же как комната 19, пристроен за счет уличного портика, располагавшегося вдоль фасада; 1: перистиль (14 х 13 м); 9: приемная экседра; 10: спальня, связанная с перистилем коридором; 11: триклиний; 12: второй дворик с бассейном; 18–26: термы, появившиеся в результате перестройки, произошедшей одно временно с присоединением уличного портика
Рис. 22. Волюбилис, «Дом Свиты Венеры» (Etienne, ibid., pi. XVII). Аксиальный план. V. 1 и V. 2: двухчастный входной вестибюль (15 х 3,8 м и 6 х 5,4 м), первый, так же как комната 19, пристроен за счет уличного портика, располагавшегося вдоль фасада; 1: перистиль (14 х 13 м); 9: приемная экседра; 10: спальня, связанная с перистилем коридором; 11: триклиний; 12: второй дворик с бассейном; 18–26: термы, появившиеся в результате перестройки, произошедшей одно временно с присоединением уличного портика
 Рис. 23. Волюбилис, «Дом Золотой Монеты» (Etienne, ibid., pi. X). Этот жилой комплекс, один из самых крупных в Волюбилисе, занимает более 1700 квадратных метров. План почти аксиальный. 1, 15, 16 и 36: изолированный блок; 4: вестибюль (6x5 м); 2, 3, и 5: торговые лавки, сообщающиеся с домом; 6 и 11: изолированные лавки; 35: квадратный перистиль (12,5 м); 34: триклиний (?) (7,4 х 6,5 м) с двумя небольшими служебными входами; 30: второй дворик с бассейном, ведущий, в частности, в комнату 21 (5,6 х 4,3 м), вымощенную мраморными плитами. На юге, за пределами плана, расположен обширный хозяйственный сектор, включающий маслодавильню и хлебопекарню
Подобного рода ритуальные действия, которые размеряют части годового цикла, призваны прославлять власть хозяина, уполномоченного преподносить богам первые плоды труда всей общины, а также периодически напоминать о его правах: система колоната часто предоставляет крестьянам столь широкую автономию, что культовые формы зависимости служат поддержанию легитимности тех прав господина, которые сам принцип организации хозяйственной деятельности может затушевать и поставить под сомнение. Отводя dominusy центральную роль, римская религия ставит его власть выше человеческой компетенции. И наконец, отметим последний момент, непосредственно касающийся нашей темы: на мозаике из «Дома Господина Юлия» сам он изображен дважды — во время аудиенции и отправляющимся на охоту; его супруга также появляется два раза, причем в центральной роли, поскольку именно она принимает подношения. Следовательно, если не вызывает сомнений, что именно хозяину крестьянин протягивает свиток, который, судя по всему, следует рассматривать либо как прошение, либо как отчет по арендной плате, то не менее очевидно, что хозяйка дома вовсе не отодвинута на второй план. Не следует ли интерпретировать ее присутствие, скорее, в символическом ключе, как знак, дающий зрителю понять, что она здесь тоже полноправная хозяйка? Или, напротив, нужно видеть в этом вполне реалистическую иллюстрацию ее домашних функций и предполагать, что римская матрона действительно принимала участие во властных ритуалах, главной целью которых была демонстрация высокого социального статуса крупных собственников? Ответ на этот вопрос был бы весьма ценен для нашего понимания жизни аристократической четы во времена поздней Империи, однако никакого определенного заключения на сей счет дать по–прежнему нельзя. Впрочем, вне зависимости от степени соотнесенности с жизненными реалиями, мозаика все–таки дает представление о той роли, которую женщина играла в управлении домом. На данный момент нам придется довольствоваться сопоставлением этих фактов с фразой Апулея, в которой он описывает свою будущую жену как женщину, которая «вполне осмысленно и со знанием дела подписывала счета, поступавшие от управителей мызами, от смотрителей стад и конюшен» (Apol., 87).
Идет ли речь об утренних визитах клиентов или о не столь регулярно повторявшихся церемониях, крупным собственникам для них требовались помещения, причем располагаться они могли в разных частях жилого комплекса. Мы уже подчеркнули роль, которую в таких случаях играли приемные экседры и особенно некоторые входные вестибюли. Р. Ребюффа также отметил, что в Тингитании часто встречаются обширные ком наты с узкой дверью, выходящие в перистиль и расположенные недалеко от входного вестибюля, — например, зал № 3 в «Доме Свиты Венеры» (рис. 22). Он предложил видеть в них продуктовые лавки, связанные с раздачей спортул, — гипотеза, которая могла бы подтвердить ту особую роль, которую выполняли в этих церемониях входные вестибюли.
Из текстов нам известно, что в некоторых домах были помещения, специально предназначенные для церемониальных практик, связанных с отношениями зависимости: Витрувий называет их частными базиликами. Мы уже были вынуждены проанализировать один из самых ярких примеров такого рода сооружений: частную базилику «Дома Охоты» в Булла Регия, которая, будучи снабжена апсидой и трансептом, представляет весьма удачную рамку для выхода dominus’a (рис. 7–8). В данном случае, как нам кажется, подобная интерпретация помещения не вызывает сомнений. Кроме уже рассмотренной выше планировки, отметим, что базилика имеет автономный вход, что само по себе вполне логично, и занимает значительную часть площади присоединенного участка: никакое другое расположение просто не позволило бы соорудить помещение настолько обширное. Несмотря на то что идентифицировать частную базилику не всегда бывает настолько же легко, предположения, судя по всему, подтверждаются достаточно часто. Подобное предположение можно безо всяких колебаний высказать по поводу длинного зала, расположенного рядом со вторым входом «Дома № 3» (рис. 27, зал В), также в Булла Регия: здесь наличие апсиды подтверждает эту идентификацию, поскольку ее обрядовая архитектура прекрасно соответствует репрезентативной функции, столь значимой для хозяина дома. Есть искушение выдвинуть такое же предположение и относительно огромного прямоугольного зала в «Доме Гермафродита» в Тимгаде (рис. 20): расположенный недалеко от входа, он связан с перистилем посредством просторного триклиния, который имеет трехчастные выходы в оба эти помещения. В подобном случае перед нами была бы не лишенная величия архитектурная форма, искусно соединяющая перистиль и два помещения (предназначенные для приемов и предполагавшие две разные степени приватности) с остальными домашними пространствами: множеству зависимых от домохозяина людей, коим доступ к сердцу дома был закрыт, пришлось бы воспринимать эту святая святых исключительно через игру проемов и колоннад, которые вроде бы и позволяли видеть дом насквозь, и оставляли его недосягаемым. Вместо того чтобы множить такого рода примеры (мы не всегда можем быть уверены в правомерности конкретной интерпретации), достаточно обратить внимание на мозаику из Карфагена, которая ясно свидетельствует о существовании частных базилик в крупных жилых комплексах. На мозаике изображена приморская вилла, разные части которой обозначены надписями, среди которых можно прочесть и слово «базилика».
Рис. 23. Волюбилис, «Дом Золотой Монеты» (Etienne, ibid., pi. X). Этот жилой комплекс, один из самых крупных в Волюбилисе, занимает более 1700 квадратных метров. План почти аксиальный. 1, 15, 16 и 36: изолированный блок; 4: вестибюль (6x5 м); 2, 3, и 5: торговые лавки, сообщающиеся с домом; 6 и 11: изолированные лавки; 35: квадратный перистиль (12,5 м); 34: триклиний (?) (7,4 х 6,5 м) с двумя небольшими служебными входами; 30: второй дворик с бассейном, ведущий, в частности, в комнату 21 (5,6 х 4,3 м), вымощенную мраморными плитами. На юге, за пределами плана, расположен обширный хозяйственный сектор, включающий маслодавильню и хлебопекарню
Подобного рода ритуальные действия, которые размеряют части годового цикла, призваны прославлять власть хозяина, уполномоченного преподносить богам первые плоды труда всей общины, а также периодически напоминать о его правах: система колоната часто предоставляет крестьянам столь широкую автономию, что культовые формы зависимости служат поддержанию легитимности тех прав господина, которые сам принцип организации хозяйственной деятельности может затушевать и поставить под сомнение. Отводя dominusy центральную роль, римская религия ставит его власть выше человеческой компетенции. И наконец, отметим последний момент, непосредственно касающийся нашей темы: на мозаике из «Дома Господина Юлия» сам он изображен дважды — во время аудиенции и отправляющимся на охоту; его супруга также появляется два раза, причем в центральной роли, поскольку именно она принимает подношения. Следовательно, если не вызывает сомнений, что именно хозяину крестьянин протягивает свиток, который, судя по всему, следует рассматривать либо как прошение, либо как отчет по арендной плате, то не менее очевидно, что хозяйка дома вовсе не отодвинута на второй план. Не следует ли интерпретировать ее присутствие, скорее, в символическом ключе, как знак, дающий зрителю понять, что она здесь тоже полноправная хозяйка? Или, напротив, нужно видеть в этом вполне реалистическую иллюстрацию ее домашних функций и предполагать, что римская матрона действительно принимала участие во властных ритуалах, главной целью которых была демонстрация высокого социального статуса крупных собственников? Ответ на этот вопрос был бы весьма ценен для нашего понимания жизни аристократической четы во времена поздней Империи, однако никакого определенного заключения на сей счет дать по–прежнему нельзя. Впрочем, вне зависимости от степени соотнесенности с жизненными реалиями, мозаика все–таки дает представление о той роли, которую женщина играла в управлении домом. На данный момент нам придется довольствоваться сопоставлением этих фактов с фразой Апулея, в которой он описывает свою будущую жену как женщину, которая «вполне осмысленно и со знанием дела подписывала счета, поступавшие от управителей мызами, от смотрителей стад и конюшен» (Apol., 87).
Идет ли речь об утренних визитах клиентов или о не столь регулярно повторявшихся церемониях, крупным собственникам для них требовались помещения, причем располагаться они могли в разных частях жилого комплекса. Мы уже подчеркнули роль, которую в таких случаях играли приемные экседры и особенно некоторые входные вестибюли. Р. Ребюффа также отметил, что в Тингитании часто встречаются обширные ком наты с узкой дверью, выходящие в перистиль и расположенные недалеко от входного вестибюля, — например, зал № 3 в «Доме Свиты Венеры» (рис. 22). Он предложил видеть в них продуктовые лавки, связанные с раздачей спортул, — гипотеза, которая могла бы подтвердить ту особую роль, которую выполняли в этих церемониях входные вестибюли.
Из текстов нам известно, что в некоторых домах были помещения, специально предназначенные для церемониальных практик, связанных с отношениями зависимости: Витрувий называет их частными базиликами. Мы уже были вынуждены проанализировать один из самых ярких примеров такого рода сооружений: частную базилику «Дома Охоты» в Булла Регия, которая, будучи снабжена апсидой и трансептом, представляет весьма удачную рамку для выхода dominus’a (рис. 7–8). В данном случае, как нам кажется, подобная интерпретация помещения не вызывает сомнений. Кроме уже рассмотренной выше планировки, отметим, что базилика имеет автономный вход, что само по себе вполне логично, и занимает значительную часть площади присоединенного участка: никакое другое расположение просто не позволило бы соорудить помещение настолько обширное. Несмотря на то что идентифицировать частную базилику не всегда бывает настолько же легко, предположения, судя по всему, подтверждаются достаточно часто. Подобное предположение можно безо всяких колебаний высказать по поводу длинного зала, расположенного рядом со вторым входом «Дома № 3» (рис. 27, зал В), также в Булла Регия: здесь наличие апсиды подтверждает эту идентификацию, поскольку ее обрядовая архитектура прекрасно соответствует репрезентативной функции, столь значимой для хозяина дома. Есть искушение выдвинуть такое же предположение и относительно огромного прямоугольного зала в «Доме Гермафродита» в Тимгаде (рис. 20): расположенный недалеко от входа, он связан с перистилем посредством просторного триклиния, который имеет трехчастные выходы в оба эти помещения. В подобном случае перед нами была бы не лишенная величия архитектурная форма, искусно соединяющая перистиль и два помещения (предназначенные для приемов и предполагавшие две разные степени приватности) с остальными домашними пространствами: множеству зависимых от домохозяина людей, коим доступ к сердцу дома был закрыт, пришлось бы воспринимать эту святая святых исключительно через игру проемов и колоннад, которые вроде бы и позволяли видеть дом насквозь, и оставляли его недосягаемым. Вместо того чтобы множить такого рода примеры (мы не всегда можем быть уверены в правомерности конкретной интерпретации), достаточно обратить внимание на мозаику из Карфагена, которая ясно свидетельствует о существовании частных базилик в крупных жилых комплексах. На мозаике изображена приморская вилла, разные части которой обозначены надписями, среди которых можно прочесть и слово «базилика».
 Pиc. 24. Волюбилис, дом, расположенный к западу от губернаторского дворца (fitienne, ibid., pi. VIII). План почти аксиальный. 1, 2, 4 и 5: торговые лавки (1 и 4 первоначально сообщались с жилой частью дома); 3: вестибюль (7,35 х 6 м) с трехчастным выходом на улицу и перистиль (лестница, вероятно, вела в съемные помещения); 11: приемная экседра; 13: зал очень похож на просторный триклинии (11,6 х 8 м) со служебной дверью в глубине; 22: въездной двор; 23: второй перистиль, предназначенный прежде всего для парадного зала 27, вход в который украшен двумя полуколоннами; 24: уборная(?) 26 и 29: термы(?)
Между тем богатство и сложность жилищной архитектуры проявляются и на этом уровне: из персонажей сторонних только влюбленный незаконно «проникает» в спальню, «полный надежд» (Apul., Met., VIII, 11). Обычай гостеприимства — в отношении людей знакомых или имеющих рекомендации — прочно укоренен, поэтому в богатом жилище должны были быть комнаты для гостей. Конечно, их очень сложно идентифицировать при раскопках, но тексты свидетельствуют о том, что они существовали (например, Apul., Met., I, 23).
Наконец, пора обратиться к последней проблеме — частных бань. Во всех африканских городах существовали общественные бани игравшие важную роль в повседневной жизни граждан. Они не только предлагали широкий выбор водных процедур, но были также местом упражнений — как физических, так и интеллектуальных. Как правило, баня была одним из тех мест, где горожане получали великолепную возможность поддерживать самые разнообразные формы социальных связей. Основывалась эта их функция на том, что строились они, как правило, с размахом, а потому обладали большим набором разных по характеру пространств, каждое из которых было в состоянии принять значительное количество посетителей. Однако со временем ситуация меняется: наряду с этими огромными зданиями термы появляются практически в каждом квартале — более доступные и, по всей вероятности, не предназначенные для того, чтобы задерживаться в них надолго. Причиной могла быть эволюция нравов, по крайней мере если верить позднему галльскому автору Сидонию Аполлинарию, чье замечание вполне применимо и к Африке. В частности, он сообщает, что после дружеских собраний то в одном, то в другом доме все отправлялись в бани, причем не в большие общественные термы, а в заведения, задуманные таким образом, чтобы оберегать стыдливость каждого (Carmen[66] XXIII, 495–499). В таком образе действий, как нам кажется, сочетаются аристократическая потребность держаться на расстоянии от толпы и новое отношение к телу, одной из характерных черт которого становится стыдливость.
Pиc. 24. Волюбилис, дом, расположенный к западу от губернаторского дворца (fitienne, ibid., pi. VIII). План почти аксиальный. 1, 2, 4 и 5: торговые лавки (1 и 4 первоначально сообщались с жилой частью дома); 3: вестибюль (7,35 х 6 м) с трехчастным выходом на улицу и перистиль (лестница, вероятно, вела в съемные помещения); 11: приемная экседра; 13: зал очень похож на просторный триклинии (11,6 х 8 м) со служебной дверью в глубине; 22: въездной двор; 23: второй перистиль, предназначенный прежде всего для парадного зала 27, вход в который украшен двумя полуколоннами; 24: уборная(?) 26 и 29: термы(?)
Между тем богатство и сложность жилищной архитектуры проявляются и на этом уровне: из персонажей сторонних только влюбленный незаконно «проникает» в спальню, «полный надежд» (Apul., Met., VIII, 11). Обычай гостеприимства — в отношении людей знакомых или имеющих рекомендации — прочно укоренен, поэтому в богатом жилище должны были быть комнаты для гостей. Конечно, их очень сложно идентифицировать при раскопках, но тексты свидетельствуют о том, что они существовали (например, Apul., Met., I, 23).
Наконец, пора обратиться к последней проблеме — частных бань. Во всех африканских городах существовали общественные бани игравшие важную роль в повседневной жизни граждан. Они не только предлагали широкий выбор водных процедур, но были также местом упражнений — как физических, так и интеллектуальных. Как правило, баня была одним из тех мест, где горожане получали великолепную возможность поддерживать самые разнообразные формы социальных связей. Основывалась эта их функция на том, что строились они, как правило, с размахом, а потому обладали большим набором разных по характеру пространств, каждое из которых было в состоянии принять значительное количество посетителей. Однако со временем ситуация меняется: наряду с этими огромными зданиями термы появляются практически в каждом квартале — более доступные и, по всей вероятности, не предназначенные для того, чтобы задерживаться в них надолго. Причиной могла быть эволюция нравов, по крайней мере если верить позднему галльскому автору Сидонию Аполлинарию, чье замечание вполне применимо и к Африке. В частности, он сообщает, что после дружеских собраний то в одном, то в другом доме все отправлялись в бани, причем не в большие общественные термы, а в заведения, задуманные таким образом, чтобы оберегать стыдливость каждого (Carmen[66] XXIII, 495–499). В таком образе действий, как нам кажется, сочетаются аристократическая потребность держаться на расстоянии от толпы и новое отношение к телу, одной из характерных черт которого становится стыдливость.
 Рис. 25. Волюбилис, «Дом Подвигов Геракла» (Etienne, ibid., pi. IV). 1: вестибюль (8 х 6 м) с двухчастным выходом на улицу (см. рис. 11) и трехчастным в перистиль (на севере — комната привратника?); 2: просторный зал для приемов (10,45 х 8,40 м) — триклиний или экседра с четырьмя служебными входами; 5: триклиний (7,2 х 5 м), украшенный мозаикой, изображающей подвиги Геракла; 6 и 8— 11: комнаты, в которые ведет коридор–прихожая (в помещении 10 — круглый бассейн); 12 и 14: дополнительные входы в дом; 17–24: торговые лавки, не связанные с жилым пространством; 26–33: термы, появившиеся в результате перестройки дома
В этот же эволюционный процесс, несомненно, следует вписать и распространение частных терм в домах привилегированных африканцев. Частные термы, безусловно, известные с давних пор, судя по всему, получают все большую популярность во времена поздней Империи: изучение жилых комплексов показывает, что во многих случаях речь идет об участках, присоединенных к первоначальной площади дома: на этих участках либо возводятся новые постройки, либо расширяются помещения, прежде имевшие скромные размеры. К концу позднеимперского периода частная баня становится обычным явлением. Приведем пример: в городе Булла Регия из восьми домов с перистилем, полностью или почти полностью раскопанных, четыре имеют небольшие термы, и, как нам известно, в «Доме Охоты» (рис. 8) баня была построена в IV веке, одновременно с домашней базиликой.
Таким образом, феномен приватизации терм свидетельствует о значительной эволюции: богатые домовладельцы стремятся увеличить степень автаркии собственных жилищ по отношению к коллективистским комфортным практикам. Следует отметить, что эти изменения вписываются в рамки процесса, связанного с установлением все более и более код и фицированной социальной иерархии: прилично ли тому, кто утром, восседая в апсиде, принимает своих подопечных, после полудня общаться с ними, сидя рядом в общественном бассейне, да к тому же в обнаженном виде, мало приличествующем высокому статусу? Все возрастающая потребность в частном комфорте позволяет сохранять необходимую дистанцию.
К тому же эволюционному процессу относится появление в частных домовладениях уборных, которые мы находим в некоторых африканских жилых комплексах. В «Доме Охоты» в Булла Регия они появились позже первых терм: их строительство заставило пожертвовать изначально существовавшим там frigidariurn’ом[67] и перенести его южнее. В данном случае речь идет о двухместной уборной, причем возможность коллектив ного пользования отмечается и в других домах, оборудованных сходным образом. Итак, мы снова обнаруживаем в доме пространство, имеющее двойственное назначение: с одной стороны, это место уединения, с другой — здесь сохраняется форма социальности, характерная для общественных уборных: впрочем, отныне круг допускаемых сюда персон сводится к минимуму. Таким образом, эволюция затрагивает как практики, касающиеся всех обитателей города, так и практики, связанные с наиболее приватными частями жилища. Появление специальных отхожих мест (в былые времена, если выходить за стены дома было почему–либо неудобно, довольствовались горшками) несомненно свидетельствует об утверждении нового отношения к телесным звукам и запахам. Уборные «Дома Охоты» оборудованы системой труб, отводящих воду прямо в канализационный канал соседней улицы. Однако, изучая архитектурные трансформации, мы схватываем лишь небольшую часть изменений жизненных практик привилегированных классов, которая, как нам кажется, напоминает о явлении, которое А. Корбен мог называть, применительно к XIX столетию, «буржуазной дезодорацией», «тяжелой битвой с экскрементами». Обстоятельства, связанные с процессом эволюции элит, ставших с какого–то времени более чувствительными к запахам и грязи, требуют специального подробного исследования, которое позволило бы выстроить логику этого процесса и, что особенно важно, лучше датировать его этапы. В текстах, где говорится о нечистоплотности общественных терм или о стыдливости и о появлении в домах удобств, бывших когда-то исключительно общественными, прослеживается одна и та же логика, отражающая новое отношение к телу. Эта логика, объединяющая разные поведенческие комплексы, прямо отсылает нас к тому, каким образом элиты утверждают теперь свое могущество, осуществляют свои властные функции; к образу действий, который характеризуется усиливающимся Дистанцированием, растущей иерархизацией социальных отношений. Строгая кодификация церемоний, которые разворачиваются в сакрализованном пространстве частных базилик, Распространение домашних бань и уборных имеют одну и ту причину. Они стали результатом приватизации некоторых практик, увеличения роли домашнего пространства (прежде всего его внутренней части), а также выраженной тенденции к специализации различных помещений.
В завершение — о неопознанных частях жилых комплексов. В африканском доме мы можем лишь догадываться о предназначении множества раскопанных комнат. Сложно даже с небольшой долей вероятности идентифицировать служебные помещения, в частности кухни, что доказывает, что они были сравнительно просто оборудованы и их производительность зависела исключительно от количества рабочих рук. Кстати, тексты на сей счет весьма красноречивы. Так, у Апулея одна из главных задач хозяина дома — руководить семьей (familia) (Apol., 98); хозяйка не выходит из дома без свиты из многочисленных слуг (Met., II, 2); обилие прислуги необходимо для того, чтобы к дому относились с должным уважением: «много там челяди в просторных покоях» (Met., IV, 9 и IV, 29: numerosa familia; IV, 24: tanta familia); часто этот персонал выполнял вполне конкретные задачи: мы уже упоминали тех, кто занимался обслуживанием столовой, но Апулей показывает нам и других, таких как погонщик мулов, повар, лекарь и спальник (cubicularius) — в романе их перекусала ворвавшаяся во двор бешеная собака (Met., IX, 2); нескольких прислужниц (cubicularii) знатной дамы (X, 28); нескольких поваров у одного хозяина (X, 13); добавим, наконец, педагога (X, 5) и получим примерное представление о том, сколько прислуги обреталось в каждом богатом доме. Итак, мы практически не представляем себе, каким образом эти люди размещались в доме. Наиболее привилегированные из них, по всей вероятности, располагались в комнатах на верхних этажах, в настоящее время разрушенных. Два брата, рабы хозяина, для которою они готовили пищу, жили в каморке (cellula), достаточно просторной, чтобы там кроме них поместился еще и осел (Apul., Met., X, 13–16). Чаще всего эти слуги имели лишь узелок с пожитками и должны были довольствоваться для сна убогим ложем, которое перемещалось по воле обстоятельств и необходимости: когда у Луция, героя «Метаморфоз», живущего в гостях, возникает потребность уединиться в своей комнате, постель раба, сопровождающего его в путешествии, выносят за порог и стелют на полу в дальнем закоулке дома (Met., II, 15).
С точки зрения архитектуры пространство жилого комплекса, организованное вокруг одного или нескольких перистилей, кажется очень однородным, фактически — единым целым. В действительности же в нем реализовывались сложные, разнообразные практики, относящиеся к разным формам и уровням частной жизни. Два полюса этого разнообразия можно показать на примере мест для уединенного отдыха и помещений, где хозяин принимал буквально толпы зависящих от него лиц. Поэтому стоит задаться вопросом: каким образом внутри жилого комплекса могли сосуществовать практики, столь радикально различающиеся между собой? Следует, не довольствуясь простой инвентаризацией основных составных частей дома, попытаться понять, как они друг с другом сочетались.
Рис. 25. Волюбилис, «Дом Подвигов Геракла» (Etienne, ibid., pi. IV). 1: вестибюль (8 х 6 м) с двухчастным выходом на улицу (см. рис. 11) и трехчастным в перистиль (на севере — комната привратника?); 2: просторный зал для приемов (10,45 х 8,40 м) — триклиний или экседра с четырьмя служебными входами; 5: триклиний (7,2 х 5 м), украшенный мозаикой, изображающей подвиги Геракла; 6 и 8— 11: комнаты, в которые ведет коридор–прихожая (в помещении 10 — круглый бассейн); 12 и 14: дополнительные входы в дом; 17–24: торговые лавки, не связанные с жилым пространством; 26–33: термы, появившиеся в результате перестройки дома
В этот же эволюционный процесс, несомненно, следует вписать и распространение частных терм в домах привилегированных африканцев. Частные термы, безусловно, известные с давних пор, судя по всему, получают все большую популярность во времена поздней Империи: изучение жилых комплексов показывает, что во многих случаях речь идет об участках, присоединенных к первоначальной площади дома: на этих участках либо возводятся новые постройки, либо расширяются помещения, прежде имевшие скромные размеры. К концу позднеимперского периода частная баня становится обычным явлением. Приведем пример: в городе Булла Регия из восьми домов с перистилем, полностью или почти полностью раскопанных, четыре имеют небольшие термы, и, как нам известно, в «Доме Охоты» (рис. 8) баня была построена в IV веке, одновременно с домашней базиликой.
Таким образом, феномен приватизации терм свидетельствует о значительной эволюции: богатые домовладельцы стремятся увеличить степень автаркии собственных жилищ по отношению к коллективистским комфортным практикам. Следует отметить, что эти изменения вписываются в рамки процесса, связанного с установлением все более и более код и фицированной социальной иерархии: прилично ли тому, кто утром, восседая в апсиде, принимает своих подопечных, после полудня общаться с ними, сидя рядом в общественном бассейне, да к тому же в обнаженном виде, мало приличествующем высокому статусу? Все возрастающая потребность в частном комфорте позволяет сохранять необходимую дистанцию.
К тому же эволюционному процессу относится появление в частных домовладениях уборных, которые мы находим в некоторых африканских жилых комплексах. В «Доме Охоты» в Булла Регия они появились позже первых терм: их строительство заставило пожертвовать изначально существовавшим там frigidariurn’ом[67] и перенести его южнее. В данном случае речь идет о двухместной уборной, причем возможность коллектив ного пользования отмечается и в других домах, оборудованных сходным образом. Итак, мы снова обнаруживаем в доме пространство, имеющее двойственное назначение: с одной стороны, это место уединения, с другой — здесь сохраняется форма социальности, характерная для общественных уборных: впрочем, отныне круг допускаемых сюда персон сводится к минимуму. Таким образом, эволюция затрагивает как практики, касающиеся всех обитателей города, так и практики, связанные с наиболее приватными частями жилища. Появление специальных отхожих мест (в былые времена, если выходить за стены дома было почему–либо неудобно, довольствовались горшками) несомненно свидетельствует об утверждении нового отношения к телесным звукам и запахам. Уборные «Дома Охоты» оборудованы системой труб, отводящих воду прямо в канализационный канал соседней улицы. Однако, изучая архитектурные трансформации, мы схватываем лишь небольшую часть изменений жизненных практик привилегированных классов, которая, как нам кажется, напоминает о явлении, которое А. Корбен мог называть, применительно к XIX столетию, «буржуазной дезодорацией», «тяжелой битвой с экскрементами». Обстоятельства, связанные с процессом эволюции элит, ставших с какого–то времени более чувствительными к запахам и грязи, требуют специального подробного исследования, которое позволило бы выстроить логику этого процесса и, что особенно важно, лучше датировать его этапы. В текстах, где говорится о нечистоплотности общественных терм или о стыдливости и о появлении в домах удобств, бывших когда-то исключительно общественными, прослеживается одна и та же логика, отражающая новое отношение к телу. Эта логика, объединяющая разные поведенческие комплексы, прямо отсылает нас к тому, каким образом элиты утверждают теперь свое могущество, осуществляют свои властные функции; к образу действий, который характеризуется усиливающимся Дистанцированием, растущей иерархизацией социальных отношений. Строгая кодификация церемоний, которые разворачиваются в сакрализованном пространстве частных базилик, Распространение домашних бань и уборных имеют одну и ту причину. Они стали результатом приватизации некоторых практик, увеличения роли домашнего пространства (прежде всего его внутренней части), а также выраженной тенденции к специализации различных помещений.
В завершение — о неопознанных частях жилых комплексов. В африканском доме мы можем лишь догадываться о предназначении множества раскопанных комнат. Сложно даже с небольшой долей вероятности идентифицировать служебные помещения, в частности кухни, что доказывает, что они были сравнительно просто оборудованы и их производительность зависела исключительно от количества рабочих рук. Кстати, тексты на сей счет весьма красноречивы. Так, у Апулея одна из главных задач хозяина дома — руководить семьей (familia) (Apol., 98); хозяйка не выходит из дома без свиты из многочисленных слуг (Met., II, 2); обилие прислуги необходимо для того, чтобы к дому относились с должным уважением: «много там челяди в просторных покоях» (Met., IV, 9 и IV, 29: numerosa familia; IV, 24: tanta familia); часто этот персонал выполнял вполне конкретные задачи: мы уже упоминали тех, кто занимался обслуживанием столовой, но Апулей показывает нам и других, таких как погонщик мулов, повар, лекарь и спальник (cubicularius) — в романе их перекусала ворвавшаяся во двор бешеная собака (Met., IX, 2); нескольких прислужниц (cubicularii) знатной дамы (X, 28); нескольких поваров у одного хозяина (X, 13); добавим, наконец, педагога (X, 5) и получим примерное представление о том, сколько прислуги обреталось в каждом богатом доме. Итак, мы практически не представляем себе, каким образом эти люди размещались в доме. Наиболее привилегированные из них, по всей вероятности, располагались в комнатах на верхних этажах, в настоящее время разрушенных. Два брата, рабы хозяина, для которою они готовили пищу, жили в каморке (cellula), достаточно просторной, чтобы там кроме них поместился еще и осел (Apul., Met., X, 13–16). Чаще всего эти слуги имели лишь узелок с пожитками и должны были довольствоваться для сна убогим ложем, которое перемещалось по воле обстоятельств и необходимости: когда у Луция, героя «Метаморфоз», живущего в гостях, возникает потребность уединиться в своей комнате, постель раба, сопровождающего его в путешествии, выносят за порог и стелют на полу в дальнем закоулке дома (Met., II, 15).
С точки зрения архитектуры пространство жилого комплекса, организованное вокруг одного или нескольких перистилей, кажется очень однородным, фактически — единым целым. В действительности же в нем реализовывались сложные, разнообразные практики, относящиеся к разным формам и уровням частной жизни. Два полюса этого разнообразия можно показать на примере мест для уединенного отдыха и помещений, где хозяин принимал буквально толпы зависящих от него лиц. Поэтому стоит задаться вопросом: каким образом внутри жилого комплекса могли сосуществовать практики, столь радикально различающиеся между собой? Следует, не довольствуясь простой инвентаризацией основных составных частей дома, попытаться понять, как они друг с другом сочетались.
 Рис. 26. Фисдр, «Дом Павлина»: мозаика из спальни (см. рис. 18, Etienne, ibid., pi. X). Расположение ложа обозначено более простым геометрическим мотивом, чем в основной части комнаты: последний узор, воспроизведенный здесь
Эти примеры, как и многие другие, показывают, что использование перистилей, дворов и коридоров позволяло обеспечивать независимость доступа во все помещения. Следует ли делать из этого столь часто встречающийся в литературе вывод, что крупные жилые комплексы включают в себя публичную зону (залы для приемов, сосредоточенные вокруг главного перистиля) и зону приватную (уединенные покои, расположенные вокруг второго центра здания)? Эта концепция требует серьезных уточнений. Мы уже подчеркивали разнородность помещений, которые окружают главный перистиль: то же самое можно сказать и о комнатах, выходящих во второстепенные перистили или во дворы. В этом отношении показателен пример «Дома охоты» в Булла Регия (рис. 8): в большой перистиль выходит лишь один зал для приемов, тогда как две просторные столовые выходят на два уровня малого перистиля. В данном случае удивляет то, что вокруг обоих центров жилища располагаются и приватные, и публичные пространства. В том же Волюбилисе, в только что рассмотренных жилых комплексах, размеры и декор некоторых комнат, размещенных вокруг вторичных центров, наводят на мысль, что они не были предназначены исключительно для членов семьи. Ту же ситуацию видим и в «Доме Павлина» и domus’e Соллертиана в Фисдре (рис. 18, залы 7 и 3): триклиний и приемная экседра выходят в малые дворы.
Таким образом, нам представляется, что коридоры и перистили не служат для того, чтобы отделять «публичные» зоны дома от «приватных», но, напротив, дают возможность размещать рядом комнаты совершенно разного назначения, позволяя при этом сохранять их независимость друг от друга. Функционирование domusa основывается не на соединении разных зон, а на других формах противопоставления разноприродных пространств, сама изолированность которых и делает подобные контрасты особенно эффективными.
Рис. 26. Фисдр, «Дом Павлина»: мозаика из спальни (см. рис. 18, Etienne, ibid., pi. X). Расположение ложа обозначено более простым геометрическим мотивом, чем в основной части комнаты: последний узор, воспроизведенный здесь
Эти примеры, как и многие другие, показывают, что использование перистилей, дворов и коридоров позволяло обеспечивать независимость доступа во все помещения. Следует ли делать из этого столь часто встречающийся в литературе вывод, что крупные жилые комплексы включают в себя публичную зону (залы для приемов, сосредоточенные вокруг главного перистиля) и зону приватную (уединенные покои, расположенные вокруг второго центра здания)? Эта концепция требует серьезных уточнений. Мы уже подчеркивали разнородность помещений, которые окружают главный перистиль: то же самое можно сказать и о комнатах, выходящих во второстепенные перистили или во дворы. В этом отношении показателен пример «Дома охоты» в Булла Регия (рис. 8): в большой перистиль выходит лишь один зал для приемов, тогда как две просторные столовые выходят на два уровня малого перистиля. В данном случае удивляет то, что вокруг обоих центров жилища располагаются и приватные, и публичные пространства. В том же Волюбилисе, в только что рассмотренных жилых комплексах, размеры и декор некоторых комнат, размещенных вокруг вторичных центров, наводят на мысль, что они не были предназначены исключительно для членов семьи. Ту же ситуацию видим и в «Доме Павлина» и domus’e Соллертиана в Фисдре (рис. 18, залы 7 и 3): триклиний и приемная экседра выходят в малые дворы.
Таким образом, нам представляется, что коридоры и перистили не служат для того, чтобы отделять «публичные» зоны дома от «приватных», но, напротив, дают возможность размещать рядом комнаты совершенно разного назначения, позволяя при этом сохранять их независимость друг от друга. Функционирование domusa основывается не на соединении разных зон, а на других формах противопоставления разноприродных пространств, сама изолированность которых и делает подобные контрасты особенно эффективными.
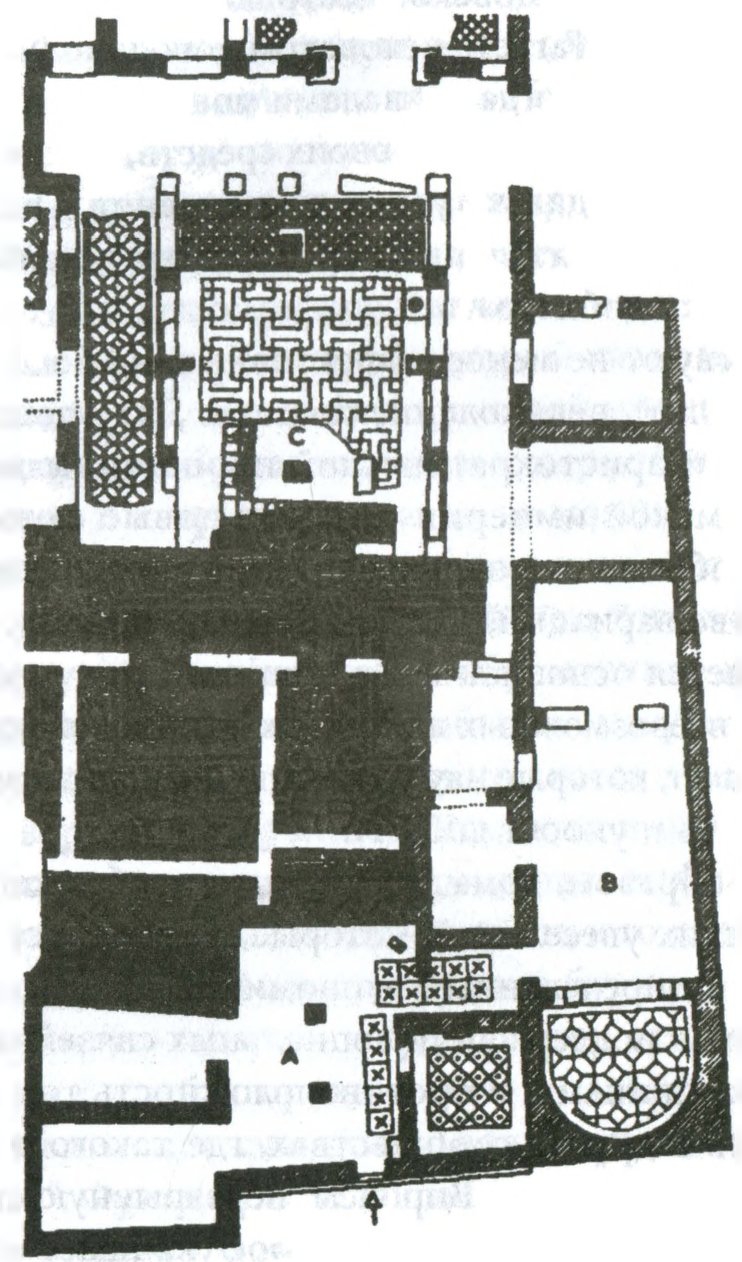 Рис. 27. Булла Регия, «Дом № 3» (см. рис. 6; часть плана А. Бруаза в кн. Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Ibid. Fig. 23). Еще один пример дома с подземным этажом, частично раскопанным. А: служебный вход; В: домашняя базилика; С: перистиль
Значимость этого социального манифеста усиливается благодаря мифологическому значению охоты. Иногда встречаются прямые аллюзии. На мозаике из города Утина, располагавшегося недалеко от современного Туниса, художник изобразил поместье, в котором разворачиваются сцены крестьянского труда, а также охоты. Один из охотников, рогатиной убивающий кабана, представлен обнаженным, то есть в образе мифического героя: персонаж уподоблен Мелеагру, победителю чудовищного вепря, который опустошал поля его родного города.
Вне рамок погребального искусства такая процедура уподобления не получила широкого распространения, скорее всего потому, что лишала господина внешних признаков влиятельности, ставших существенными для новой концепции власти; поэтому престижная значимость охоты реализовывалась другим путем — тиражированием императорской модели. В самом деле, с давних пор одним из способов проявления Доблести для императора была охотничья искусность — важнейшее качество, которое воспринималось как знак божественного покровительства и гарантировало процветание народа. Способность преодолеть животную силу, победить дикость благодаря своей собственной мощи, уму, ловкости, стала одним из признаков властного статуса. Речь прежде всего идет о риторике, предназначенной для изобразительного искусства, но не исключены и более конкретные способы воплощения этой идеологии: Коммод без колебаний выходил на арену, чтобы пронзать стрелами разъяренных львов.
Воспроизводя у себя в доме сцены собственных охотничьих подвигов и опасности, с ними связанные (изображения несчастных случаев встречаются очень часто), аристократ извлекает пользу из подражания этой императорской идеологической модели. Именно подражания, поскольку охота на льва стала монополией императора — и аристократ часто должен был довольствоваться схваткой с вепрем или преследованием зайца или шакала. Однако не все так просто: иногда вельможа изображается вступающим в поединки, вполне достойные императора. Так, на мозаике триклиния в «Новом Доме Охоты» в Булла Регия среди поражаемых животных появляются не только кабан, но и крупные хищники — гепард и даже лев, изображенный дважды.
Таким образом, изучение декора жилищ африканской аристократии выводит на проблему общеполитического характера, касающуюся организации власти на разных уровнях. Глава государства являет собой модель, которая транслируется на все остальные ступени власти. Но о чем именно идет в данном случае речь: о почтительной имитации или о потенциальной конкуренции? Вполне очевидно, что владелец (в сущности, относительно небогатый) «Нового Дома Охоты» никоим образом не пытался изобразить из себя кандидата на престол: львы в его триклинии свидетельствуют не о претензиях на узурпацию сюжетов верховной власти, но, вне всякого сомнения, отражают следствия (мнимые или реальные) одного из многочисленных пожалований императора африканскому нобилитету: некоторым подданным разрешалось охотиться на императорского хищника (С. Th., XV, 11, 1). Может статься, что именно за неимением этой привилегии владелец «Дома Шествия Диониса» в Фисдре вынужден был довольствоваться изображением также в триклинии — хищников, нападающих на других животных, вместо того чтобы делать их жертвами собственных охотничьих талантов. Однако затронутая нами здесь проблема гораздо глубже, и ее невозможно решить, пытаясь разобраться только в том, законными или нет были такие изображения. С одной стороны, императорская власть, мистический характер которой на протяжении веков только усиливается, может быть лишь моделью всякой сколько–нибудь значимой власти. С другой стороны — все более и более мистический, иррациональный характер власти ослабляет ее и дает возможность ее оспаривать: не становится ли в конечном счете победа в том или ином ее обличии единственным средством доказать законность власти? В принципе, эти сцены охоты на льва, украшающие частные жилища, выражают амбивалентность, которая касается проблемы в высшей степени публичной — проблемы власти. Не следует забывать, что африканская аристократия неоднократно проявляла готовность не только оказывать мощную поддержку тому или иному претенденту на престол, но и выдвигать претендентов собственных. Дискуссии, которые вот уже несколько десятилетий ведутся по поводу богатой виллы Пьяцца Армерина на Сицилии, весьма характерны для нынешней весьма запутанной ситуации с попытками выделить типологию того нового типа социума, который появился на свет в позднеримский период. В данном случае размах строительных работ, использование привозного порфира, а также сцен охоты на льва, составлявших привилегию императорских дворцов, породили долгие споры относительно личности владельца: представителя высшей имперской аристократии или — императорской семьи. Сам факт, что подобная проблема вообще возникла, весьма подателей для уровня амбиций, которыми руководствовались позднеримские элиты в организации своего частного пространства. Знать задает себе такую рамку, которая не только позволяет ей жить в любой точке Империи на чисто римский манер, но и жить на манер этаких маленьких подобий императора. В подавляющем большинстве случаев речь идет всего лишь о почтительной имитации базовой модели, но в такого рода имитациях всегда остается толика двусмысленности, и то обстоятельство, что на протяжении достаточно долгого времени нобилитет мыслил местную власть как реплику власти центральной, вплоть до образа мышления и ритуальных церемоний, не могло не иметь последствий.
Рис. 27. Булла Регия, «Дом № 3» (см. рис. 6; часть плана А. Бруаза в кн. Beschaouch A., Hanoune R., Thebert Y. Ibid. Fig. 23). Еще один пример дома с подземным этажом, частично раскопанным. А: служебный вход; В: домашняя базилика; С: перистиль
Значимость этого социального манифеста усиливается благодаря мифологическому значению охоты. Иногда встречаются прямые аллюзии. На мозаике из города Утина, располагавшегося недалеко от современного Туниса, художник изобразил поместье, в котором разворачиваются сцены крестьянского труда, а также охоты. Один из охотников, рогатиной убивающий кабана, представлен обнаженным, то есть в образе мифического героя: персонаж уподоблен Мелеагру, победителю чудовищного вепря, который опустошал поля его родного города.
Вне рамок погребального искусства такая процедура уподобления не получила широкого распространения, скорее всего потому, что лишала господина внешних признаков влиятельности, ставших существенными для новой концепции власти; поэтому престижная значимость охоты реализовывалась другим путем — тиражированием императорской модели. В самом деле, с давних пор одним из способов проявления Доблести для императора была охотничья искусность — важнейшее качество, которое воспринималось как знак божественного покровительства и гарантировало процветание народа. Способность преодолеть животную силу, победить дикость благодаря своей собственной мощи, уму, ловкости, стала одним из признаков властного статуса. Речь прежде всего идет о риторике, предназначенной для изобразительного искусства, но не исключены и более конкретные способы воплощения этой идеологии: Коммод без колебаний выходил на арену, чтобы пронзать стрелами разъяренных львов.
Воспроизводя у себя в доме сцены собственных охотничьих подвигов и опасности, с ними связанные (изображения несчастных случаев встречаются очень часто), аристократ извлекает пользу из подражания этой императорской идеологической модели. Именно подражания, поскольку охота на льва стала монополией императора — и аристократ часто должен был довольствоваться схваткой с вепрем или преследованием зайца или шакала. Однако не все так просто: иногда вельможа изображается вступающим в поединки, вполне достойные императора. Так, на мозаике триклиния в «Новом Доме Охоты» в Булла Регия среди поражаемых животных появляются не только кабан, но и крупные хищники — гепард и даже лев, изображенный дважды.
Таким образом, изучение декора жилищ африканской аристократии выводит на проблему общеполитического характера, касающуюся организации власти на разных уровнях. Глава государства являет собой модель, которая транслируется на все остальные ступени власти. Но о чем именно идет в данном случае речь: о почтительной имитации или о потенциальной конкуренции? Вполне очевидно, что владелец (в сущности, относительно небогатый) «Нового Дома Охоты» никоим образом не пытался изобразить из себя кандидата на престол: львы в его триклинии свидетельствуют не о претензиях на узурпацию сюжетов верховной власти, но, вне всякого сомнения, отражают следствия (мнимые или реальные) одного из многочисленных пожалований императора африканскому нобилитету: некоторым подданным разрешалось охотиться на императорского хищника (С. Th., XV, 11, 1). Может статься, что именно за неимением этой привилегии владелец «Дома Шествия Диониса» в Фисдре вынужден был довольствоваться изображением также в триклинии — хищников, нападающих на других животных, вместо того чтобы делать их жертвами собственных охотничьих талантов. Однако затронутая нами здесь проблема гораздо глубже, и ее невозможно решить, пытаясь разобраться только в том, законными или нет были такие изображения. С одной стороны, императорская власть, мистический характер которой на протяжении веков только усиливается, может быть лишь моделью всякой сколько–нибудь значимой власти. С другой стороны — все более и более мистический, иррациональный характер власти ослабляет ее и дает возможность ее оспаривать: не становится ли в конечном счете победа в том или ином ее обличии единственным средством доказать законность власти? В принципе, эти сцены охоты на льва, украшающие частные жилища, выражают амбивалентность, которая касается проблемы в высшей степени публичной — проблемы власти. Не следует забывать, что африканская аристократия неоднократно проявляла готовность не только оказывать мощную поддержку тому или иному претенденту на престол, но и выдвигать претендентов собственных. Дискуссии, которые вот уже несколько десятилетий ведутся по поводу богатой виллы Пьяцца Армерина на Сицилии, весьма характерны для нынешней весьма запутанной ситуации с попытками выделить типологию того нового типа социума, который появился на свет в позднеримский период. В данном случае размах строительных работ, использование привозного порфира, а также сцен охоты на льва, составлявших привилегию императорских дворцов, породили долгие споры относительно личности владельца: представителя высшей имперской аристократии или — императорской семьи. Сам факт, что подобная проблема вообще возникла, весьма подателей для уровня амбиций, которыми руководствовались позднеримские элиты в организации своего частного пространства. Знать задает себе такую рамку, которая не только позволяет ей жить в любой точке Империи на чисто римский манер, но и жить на манер этаких маленьких подобий императора. В подавляющем большинстве случаев речь идет всего лишь о почтительной имитации базовой модели, но в такого рода имитациях всегда остается толика двусмысленности, и то обстоятельство, что на протяжении достаточно долгого времени нобилитет мыслил местную власть как реплику власти центральной, вплоть до образа мышления и ритуальных церемоний, не могло не иметь последствий.
 Рис. 28. План монастыря Санкт—Галлен. Как показали археологические раскопки, этот план, нарисованный Хейтоном для аббата монастыря Санкт—Галлен, был действительно осуществлен. Номером 11 обозначен гостевой дом для знатных посетителей, 31 — гостиница для паломников и бедняков, каждая со служебными помещениями (Exposition Charlemagne, Aix–la–Chapelle, 1965, рр. 400–401)
Однако самым дорогим огороженным пространством, без сомнения, был сад. Иногда франки выращивали в саду только какую–нибудь одну культуру — репу, турецкий горох, бобы или чечевицу. Но чаще всего в садах выращивали все. Фортунат, епископ Пуатье, в стихотворении так описывает сад одного из своих друзей: «Здесь пурпурноликая весна заставляет расти зеленые газоны, а воздух наполнен райским благоуханием роз. Там молодые виноградные лозы дают тень, защищая от летней жары и служа укрытием лозам, отягченным гроздьями. Весь этот участок усыпан тысячами разнообразных цветов. Одни плоды белого цвета, другие — красного. Лето здесь мягче, чем в других местах, и ветерок с тихим шелестом беспрестанно колышет висящие на ветках яблоки. Хильдеберт прививал их с любовью». Это место интимного отдыха и индивидуального труда, сад был маленьким миром, где каждый вкушал удовольствия жизни и готовился отведать овощей и фруктов, выращенных своими руками, которые, как известно, куда слаще тех, что растили руки чужие. Интимная связь, создаваемая садовником между возделанной землей и плодами, которые укрепят ею здоровье, имеет природу одновременно физическую (благодаря пролитому поту) и духовную (благодаря заботе об их росте). Сады монастырские и сады крестьянские, сад монастыря Санкт-Галлен, как и любой из тех садов, что существовали в каждом крупном каролингском поместье, — все требовали множества подсобных работ: рыхления почвы мотыгой, посева, пикировки, прополки и ремонта изгородей. Также очень часто встречались фруктовые сады, где могли выращивать по одному дереву от разных плодоносящих видов. Монахам рекомендовалось отводить несколько грядок под лекарственные растения — кустарниковую полынь, которая исцеляет подагру, укроп, помогающий при запорах, кашле и болезнях глаз, кервель, останавливающий кровотечения, и полынь для снижения температуры. Одним словом, в садах заботливо выращивали и деликатесы на десерт, и лекарства, способные вернуть страждущему радость жизни.
Кроме того, зачастую они были предназначены для приема гостей. Усталость и опасности, которые угрожали путешественнику, разбойники и овраги, заставлявшие аббата Лупа из Ферьера советовать своему другу брать с собой нескольких сильных спутников для защиты от нападений и грабежей, скоро забывались в атмосфере теплого общения в монастырской гостинице или в доме знатного франка. На самом деле гостеприимность была обязательной. «Тот, кто откажет прибывшем гостю в крове или очаге, заплатит 3 солида штрафа», — уточняет закон бургундов. Зимой нельзя отказывать им в сене или ячмене, которые необходимы их верховым животным. Впрочем, по предписанию аквитанского капитулярия 768 года, любой свободный человек, призванный в войско и направлявшийся в пункт общего сбора, бесплатно получал необходимые ему воду и траву. ® 789 году Карл Великий настаивал на необходимости организовать гостиницы «для путешественников, приюты для бедных при монастырях и церковных общинах, потому что в великий день воздаяния Господь скажет: „странником был, и вы приняли меня”». Это аллюзия одновременно и на Евангелие, и на устав святого Бенедикта. Таким образом, гостеприимство являлось священным долгом, по сути своей религиозным, и для язычников, и для христиан. Действительно, на плане монастыря в Санкт—Галлене справа от входа мы видим дом для паломников и бедняков, квадратную комнату со скамьями, два дортуара, служебные помещения с квашнями, печью и пивоварней, слева же расположен дом для гостей с двумя отапливаемыми комнатами, помещениями для слуг и конюшнями для верховых животных. Все это было весьма обременительно с финансовой точки зрения, как для больниц в прямом смысле этого слова, называвшихся xenodochia, так и для приютов для странствующих монахов, особенно ирландцев, hospicia Scottorum, которые направлялись через Галлию в Рим и на Восток. Предугадать возможное количество гостей было сложно. Скажем, в Корби планировали принимать на ночь по Двенадцать бедняков и запасали для них по полторы ковриги хлеба на ужин и в дорогу, оставляя еще двадцать семь ковриг на случай, если народу вдруг придет больше. А в Сен—Жермен—де—Пре в 829 году насчитывалось до сто сорока гостей в день! Фактически каждый епископ и каждый аббат, в конце концов, встраивал у себя одну гостиницу для бедных, другую для богатых, графов, епископов и других сановников, путешествующих по делам. И все же странноприимство не было деятельностью само собой разумеющейся. Так, святой Бонифаций сообщает что в 730 году его англосаксонские соотечественницы, отправившиеся в паломничество в Рим, чтобы добраться до цели были вынуждены по дороге в каждом городе заниматься проституцией. Из–за вероятности отказа в милостыне, порождавшего такой своеобразный способ умерщвления плоти, Церкви пришлось запретить паломничества женщинам. Салическая правда очень строго карала (300 солидов) убийцу королевского гостя, то есть близкого друга властителя, поскольку король делил с ним хлеб, и обязывала выплатить цену убийства гостя всем тем, кто принимал участие в одной с ним трапезе. Таким образом, общность трапезы, несмотря на обремененность смыслами, не всегда приводила к «перевариванию» чужака, который всегда в большей или меньшей степени воспринимался как враг. Тем более важно, что на будущее устав святого Бенедикта устанавливал, что «аббат и вся община омоют ноги каждого гостя». Это было началом кардинальной трансформации менталитета.
Рис. 28. План монастыря Санкт—Галлен. Как показали археологические раскопки, этот план, нарисованный Хейтоном для аббата монастыря Санкт—Галлен, был действительно осуществлен. Номером 11 обозначен гостевой дом для знатных посетителей, 31 — гостиница для паломников и бедняков, каждая со служебными помещениями (Exposition Charlemagne, Aix–la–Chapelle, 1965, рр. 400–401)
Однако самым дорогим огороженным пространством, без сомнения, был сад. Иногда франки выращивали в саду только какую–нибудь одну культуру — репу, турецкий горох, бобы или чечевицу. Но чаще всего в садах выращивали все. Фортунат, епископ Пуатье, в стихотворении так описывает сад одного из своих друзей: «Здесь пурпурноликая весна заставляет расти зеленые газоны, а воздух наполнен райским благоуханием роз. Там молодые виноградные лозы дают тень, защищая от летней жары и служа укрытием лозам, отягченным гроздьями. Весь этот участок усыпан тысячами разнообразных цветов. Одни плоды белого цвета, другие — красного. Лето здесь мягче, чем в других местах, и ветерок с тихим шелестом беспрестанно колышет висящие на ветках яблоки. Хильдеберт прививал их с любовью». Это место интимного отдыха и индивидуального труда, сад был маленьким миром, где каждый вкушал удовольствия жизни и готовился отведать овощей и фруктов, выращенных своими руками, которые, как известно, куда слаще тех, что растили руки чужие. Интимная связь, создаваемая садовником между возделанной землей и плодами, которые укрепят ею здоровье, имеет природу одновременно физическую (благодаря пролитому поту) и духовную (благодаря заботе об их росте). Сады монастырские и сады крестьянские, сад монастыря Санкт-Галлен, как и любой из тех садов, что существовали в каждом крупном каролингском поместье, — все требовали множества подсобных работ: рыхления почвы мотыгой, посева, пикировки, прополки и ремонта изгородей. Также очень часто встречались фруктовые сады, где могли выращивать по одному дереву от разных плодоносящих видов. Монахам рекомендовалось отводить несколько грядок под лекарственные растения — кустарниковую полынь, которая исцеляет подагру, укроп, помогающий при запорах, кашле и болезнях глаз, кервель, останавливающий кровотечения, и полынь для снижения температуры. Одним словом, в садах заботливо выращивали и деликатесы на десерт, и лекарства, способные вернуть страждущему радость жизни.
Кроме того, зачастую они были предназначены для приема гостей. Усталость и опасности, которые угрожали путешественнику, разбойники и овраги, заставлявшие аббата Лупа из Ферьера советовать своему другу брать с собой нескольких сильных спутников для защиты от нападений и грабежей, скоро забывались в атмосфере теплого общения в монастырской гостинице или в доме знатного франка. На самом деле гостеприимность была обязательной. «Тот, кто откажет прибывшем гостю в крове или очаге, заплатит 3 солида штрафа», — уточняет закон бургундов. Зимой нельзя отказывать им в сене или ячмене, которые необходимы их верховым животным. Впрочем, по предписанию аквитанского капитулярия 768 года, любой свободный человек, призванный в войско и направлявшийся в пункт общего сбора, бесплатно получал необходимые ему воду и траву. ® 789 году Карл Великий настаивал на необходимости организовать гостиницы «для путешественников, приюты для бедных при монастырях и церковных общинах, потому что в великий день воздаяния Господь скажет: „странником был, и вы приняли меня”». Это аллюзия одновременно и на Евангелие, и на устав святого Бенедикта. Таким образом, гостеприимство являлось священным долгом, по сути своей религиозным, и для язычников, и для христиан. Действительно, на плане монастыря в Санкт—Галлене справа от входа мы видим дом для паломников и бедняков, квадратную комнату со скамьями, два дортуара, служебные помещения с квашнями, печью и пивоварней, слева же расположен дом для гостей с двумя отапливаемыми комнатами, помещениями для слуг и конюшнями для верховых животных. Все это было весьма обременительно с финансовой точки зрения, как для больниц в прямом смысле этого слова, называвшихся xenodochia, так и для приютов для странствующих монахов, особенно ирландцев, hospicia Scottorum, которые направлялись через Галлию в Рим и на Восток. Предугадать возможное количество гостей было сложно. Скажем, в Корби планировали принимать на ночь по Двенадцать бедняков и запасали для них по полторы ковриги хлеба на ужин и в дорогу, оставляя еще двадцать семь ковриг на случай, если народу вдруг придет больше. А в Сен—Жермен—де—Пре в 829 году насчитывалось до сто сорока гостей в день! Фактически каждый епископ и каждый аббат, в конце концов, встраивал у себя одну гостиницу для бедных, другую для богатых, графов, епископов и других сановников, путешествующих по делам. И все же странноприимство не было деятельностью само собой разумеющейся. Так, святой Бонифаций сообщает что в 730 году его англосаксонские соотечественницы, отправившиеся в паломничество в Рим, чтобы добраться до цели были вынуждены по дороге в каждом городе заниматься проституцией. Из–за вероятности отказа в милостыне, порождавшего такой своеобразный способ умерщвления плоти, Церкви пришлось запретить паломничества женщинам. Салическая правда очень строго карала (300 солидов) убийцу королевского гостя, то есть близкого друга властителя, поскольку король делил с ним хлеб, и обязывала выплатить цену убийства гостя всем тем, кто принимал участие в одной с ним трапезе. Таким образом, общность трапезы, несмотря на обремененность смыслами, не всегда приводила к «перевариванию» чужака, который всегда в большей или меньшей степени воспринимался как враг. Тем более важно, что на будущее устав святого Бенедикта устанавливал, что «аббат и вся община омоют ноги каждого гостя». Это было началом кардинальной трансформации менталитета.
 Рис. 29. Средний возраст смертности галло–римлян
Рис. 29. Средний возраст смертности галло–римлян
 Рис. 30. Средний возраст смертности в эпоху Меровингов
Рис. 30. Средний возраст смертности в эпоху Меровингов
 Рис. 31. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (предполагаемый возраст)
Рис. 31. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (предполагаемый возраст)
 Рис. 32. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (реальный возраст)
И здесь мы переходим к болезням психосоматическим и психическим. Большим количеством неврозов можно объяснить некоторые случаи параличей, вроде скрюченных пальцев, загнутых настолько, что ногти впиваются в ладонь, а также множество различного рода сенсорных нарушений. К этому добавлялись истерические неврозы с раздвоением личности, маниакальны ми состояниями, сопровождавшимися логореей[77], — зачастую видимо, вследствие алкоголизма. Монахи–врачи очень точно описывают даже состояния буйного помешательства или депрессии, связанные с эпилепсией, которые наводили верующих на мысль об одержимости дьяволом. В этих случаях авторы протоколов о явлении чудес, твердо веря в подобные феномены, рассматривали больных как полностью — психически и физи чески — одержимых Сатаной. Они подчеркивают, что изгнание демона сопровождается выделением ядовитых кровавых или гнойных жидкостей, источающих зловоние. Таким образом, тела больных были измучены страданиями, а души тяготило глухое чувство виновности — неизбежная плата за колебания между поклонением плоти и отвращением к ней. Итак, изучение тела и чувств, которые оно провоцирует, — роли одежды и прически, табуированной наготы, патологической склонности к кастрации и пыткам, органических заболеваний и маниакально депрессивных состояний, — показывает, что для человека этой эпохи главными ценностями были сила, продолжение рода, физическое и духовное здоровье — вероятно, потому, что они были необходимы для выживания в нестабильном, угрожающем и непонятном мире.
Рис. 32. Смертность в эпоху Меровингов. Диаграммы смертности взрослых (реальный возраст)
И здесь мы переходим к болезням психосоматическим и психическим. Большим количеством неврозов можно объяснить некоторые случаи параличей, вроде скрюченных пальцев, загнутых настолько, что ногти впиваются в ладонь, а также множество различного рода сенсорных нарушений. К этому добавлялись истерические неврозы с раздвоением личности, маниакальны ми состояниями, сопровождавшимися логореей[77], — зачастую видимо, вследствие алкоголизма. Монахи–врачи очень точно описывают даже состояния буйного помешательства или депрессии, связанные с эпилепсией, которые наводили верующих на мысль об одержимости дьяволом. В этих случаях авторы протоколов о явлении чудес, твердо веря в подобные феномены, рассматривали больных как полностью — психически и физи чески — одержимых Сатаной. Они подчеркивают, что изгнание демона сопровождается выделением ядовитых кровавых или гнойных жидкостей, источающих зловоние. Таким образом, тела больных были измучены страданиями, а души тяготило глухое чувство виновности — неизбежная плата за колебания между поклонением плоти и отвращением к ней. Итак, изучение тела и чувств, которые оно провоцирует, — роли одежды и прически, табуированной наготы, патологической склонности к кастрации и пыткам, органических заболеваний и маниакально депрессивных состояний, — показывает, что для человека этой эпохи главными ценностями были сила, продолжение рода, физическое и духовное здоровье — вероятно, потому, что они были необходимы для выживания в нестабильном, угрожающем и непонятном мире.
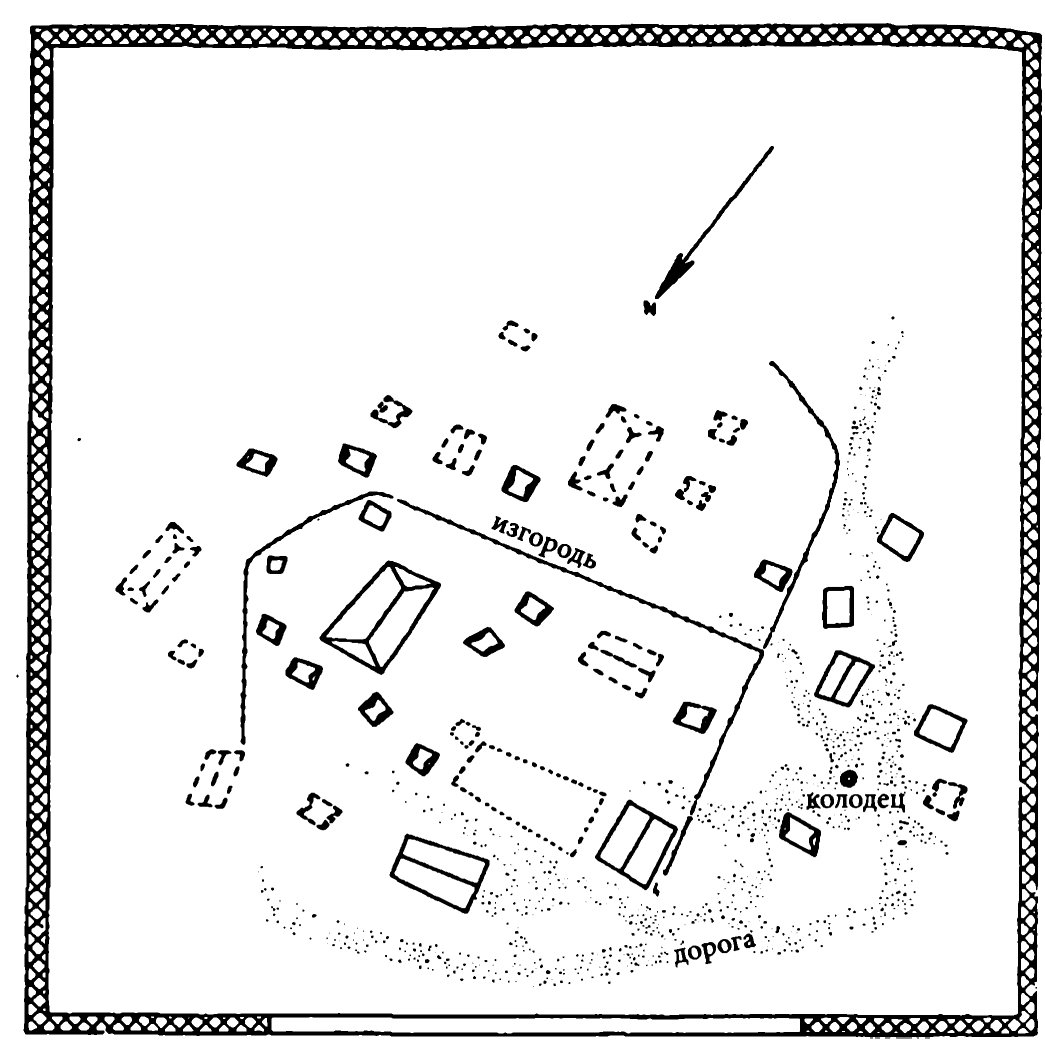 Рис. 33. План поселения Гладбах, VII–VIII века. Вокруг большого дома «зального» типа располагаются хижины, хлебные амбары, силосные ямы. Все большие дома обнесены изгородями (Бонн, Ландсмузеум)
Однако у такой системы были и свои, вполне реальные преимущества. Помимо постоянного присутствия товарищей по оружию, готовых встать на защиту сотоварища, у какого-нибудь бедняка, не способного заплатить большой штраф, появлялась возможность привлечь к участию в оплате долга всю свою родню или других близких людей. Солидарная ответственность в финансовых вопросах была обязательной. Строгие правила наследования регулировали переход имущества от одного человека к другому. Каждая семья имела общую вотчинную землю, которая считалась местом ее происхождения. Женщинам было запрещено наследовать эту землю, называемую салической, в противном случае семья, клан или племя должны были объединиться с семьей ее мужа, утрачивая отныне самостоятельный статус. Эта статья Салической правды, неправильно понятая королевскими юристами, в 1316 году, когда, как и на протяжении всей эпохи Капетингов, действовало правило прямого престолонаследования, была интерпретирована как запрет женщинам быть наследницами и, следовательно, всходить на трон. В действительности они обладали правом наследования, исключение составляла эта прародительская земля, без которой рушилась франкская система частной защиты.
Так объясняется существование больших деревянных Домов, похожих на ангары, в которых жили по нескольку десятков человек или же скромных жилищ, где в общую постель Угадывались родители, дядья и тетки, кузены и кузины, их Дети, рабы и слуги, часто более десятка человек, обнаженных, объединенных между собой совокупной роскошью тепла. В каролиннгскую эпоху их число, естественно, пошло на убыль из–за того, что Церковь настаивала на развитии института брака, но переписчики, которые составляли подворные описи, дают хорные цифры, которые показывают, что число членов семьи от одного–двух человек скачкообразно увеличивается до восьми, десяти и двенадцати, создавая тем самым обманчивое впечатление средней численности, близкой к четырем. Раб определялся как familiaris — член семьи, которая, таким образом, представляла собой широкое социальное сообщество, базировавшееся на множестве внутренних связей. Впрочем, монастырская община обозначается тем же термином «семья/фамилия», чтобы охватить всех тех — монахов и мирян, — которые жили как внутри монастырской ограды, так и за ее пределами.
Рис. 33. План поселения Гладбах, VII–VIII века. Вокруг большого дома «зального» типа располагаются хижины, хлебные амбары, силосные ямы. Все большие дома обнесены изгородями (Бонн, Ландсмузеум)
Однако у такой системы были и свои, вполне реальные преимущества. Помимо постоянного присутствия товарищей по оружию, готовых встать на защиту сотоварища, у какого-нибудь бедняка, не способного заплатить большой штраф, появлялась возможность привлечь к участию в оплате долга всю свою родню или других близких людей. Солидарная ответственность в финансовых вопросах была обязательной. Строгие правила наследования регулировали переход имущества от одного человека к другому. Каждая семья имела общую вотчинную землю, которая считалась местом ее происхождения. Женщинам было запрещено наследовать эту землю, называемую салической, в противном случае семья, клан или племя должны были объединиться с семьей ее мужа, утрачивая отныне самостоятельный статус. Эта статья Салической правды, неправильно понятая королевскими юристами, в 1316 году, когда, как и на протяжении всей эпохи Капетингов, действовало правило прямого престолонаследования, была интерпретирована как запрет женщинам быть наследницами и, следовательно, всходить на трон. В действительности они обладали правом наследования, исключение составляла эта прародительская земля, без которой рушилась франкская система частной защиты.
Так объясняется существование больших деревянных Домов, похожих на ангары, в которых жили по нескольку десятков человек или же скромных жилищ, где в общую постель Угадывались родители, дядья и тетки, кузены и кузины, их Дети, рабы и слуги, часто более десятка человек, обнаженных, объединенных между собой совокупной роскошью тепла. В каролиннгскую эпоху их число, естественно, пошло на убыль из–за того, что Церковь настаивала на развитии института брака, но переписчики, которые составляли подворные описи, дают хорные цифры, которые показывают, что число членов семьи от одного–двух человек скачкообразно увеличивается до восьми, десяти и двенадцати, создавая тем самым обманчивое впечатление средней численности, близкой к четырем. Раб определялся как familiaris — член семьи, которая, таким образом, представляла собой широкое социальное сообщество, базировавшееся на множестве внутренних связей. Впрочем, монастырская община обозначается тем же термином «семья/фамилия», чтобы охватить всех тех — монахов и мирян, — которые жили как внутри монастырской ограды, так и за ее пределами.
 Рис. 34. Реконструкция дома «зального» типа двенадцати метров длиной, целиком построенного из дерева и перекрытого соломой, по материалам археологических раскопок (Бонн, Ландсмузеум)
Итак, семья была большой и так исполняла свою защитную функцию, но для непрерывного воспроизводства ей нужны были женщины. Как мы уже имели возможность убедиться, мужчина, глава семьи или рода, являлся собственником mund[80] своих детей, поскольку был защитником чистоты крови и аутентичности потомства. Эта охранительная функция переходила к мужу во время бракосочетания, а точнее, в момент помолвки, которая содержала в себе отголоски древнего обряда покупки жены будущим мужем, гарантирующего безопасность от насилия и удостоверяющего чистоту невесты. Во время церемонии помолвки родители получают положенную сумму за символическую продажу отеческой власти над девушкой. У франков эта сумма составляла 1 солид и 1 денарий при первом браке и 3 солида и 1 денарий при повторном браке. Церемония была публичной; выкуп — обязательным и не подлежащим возврату. Тот, кто женился на другой женщине, а не на своей уже просватанной невесте, должен был заплатить 62,5 солида штрафа. У бургундов выкуп за покупку mund, называвшийся wittimon, также был обязательным, а разрыв заключенного таким образом союза влек за собой выплату суммы вчетверо большей. Собственно, Кодекс Феодосия и римские законы вообще придавали задатку, внесенному во время помолвки, то же значение. Тем более что помолвка, по сути, была эквивалентом свадьбы, несмотря на то что до заключения брачного союза мог пройти целый год, а то и два, и на то что все решения здесь принимали только родители, не спрашивая согласия ни у девушки, ни даже у молодого человека. Стоило бы привести здесь ряд цитат из жизнеописаний святых, например из жития святой Женевьевы или святой Макселанды, чтобы понять, какой скандал мог вызвать отказ девушки от вступления в брак. Официально меровингские церковные соборы и указ Хлотаря II, выпущенный в 614 году, запрещали выдавать женщин замуж против их воли. Но на практике — за редким исключением, когда неуступчивая невеста оказывалась христианкой с сильным характером, — предполагалось, что все девушки, так же как и юноши, заранее давали свое согласие. «Когда он достиг брачного возраста, родители Леобарда, следуя мирскому обычаю [выражение, показывающее, что практика эта не христианская], стали убеждать его обручиться с молодой девушкой, чтобы потом жениться на ней. Отец легко убедил совсем еще юного сына сделать то, чего тот не желал». Этот любопытный случай, рассказанный Григорием Турским, перекликается с предусмотренными у бургундов мерами наказания, например, для женщины «народа варваров, которая решит без благословения тайно сочетаться браком с мужчиной» — Она считалась виновной в совершении прелюбодеяния, то есть женщиной, окончательно утратившей моральный облик, а виновник должен был заплатить ее родителям удвоенный «свадебный выкуп», то есть сумму mund, но мог жениться на другой! Кроме того, каждый из бургундов, принадлежал ли он к знатному роду или был простого происхождения, если женился на девушке без благословения ее отца, «должен был заплатить тестю mund в тройном размере, чтобы не спрашивать его согласия, 150 солидов своему отцу и 36 солидов штрафа в казну». Зато в этом случае брак не мог быть отменен, поскольку физическая близость имела место по инициативе мужчины и две крови уже смешались воедино.
Все это, напомним, касалось только помолвки. Церемония была более пышной, чем свадебная, — роскошное пиршество сопровождалось обильными возлияниями, пением и откровенно непристойными шутками, намекающими на плодовитость будущих супругов. После этого происходило одаривание невесты. В местностях, где действовало римское право, составлялся письменный перечень подарков, у германцев дарение совершалось в присутствии трех свидетелей, но в любом случае, как правило, дарили домашних животных, одежду, украшения, драгоценности, монеты, сундук, кровать с постельным бельем, хозяйственные принадлежности и т. д. — то есть главным образом движимое имущество. Кроме того, по древнему галльскому обычаю жених дарил невесте пару домашних туфель как залог семейного согласия и, конечно, — уже в соответствии с римской традицией — золотое кольцо как символ верности, поскольку круг без начала и конца означает бесконечность. Римляне носили его на среднем пальце правой руки или на безымянном пальце левой, откуда, согласно древнеегипетской медицинской теории, нерв идет прямо к сердцу. Также на большом пальце правой руки знатные женщины носили печатки, часто обнаруживаемые в захоронениях, — свидетельства административной власти, которой эти дамы владели как личной собственностью. Наконец, помолвленные обменивались поцелуем в губы, символизировавшим соединение тел. В результате все необходимое могло быть оговорено задолго до свадьбы. Это справедливо и в отношении галло–римлян, у которых празднование свадьбы продолжалось в соответствии с римскими обычаями и завершалось препровождением молодоженов в их собственный дом на брачное ложе, поскольку «согласно обычаю, супругов укладывают в одну постель».
Представляется, что у франков, и вообще у германцев, сущность самой свадьбы состояла в фактическом подтверждении уже заключенного союза: проходила она без особой пышности, и дальнейшая совместная жизнь как таковая и считалась браком. И последний важный момент: наутро после брачной ночи муж дарил новоиспеченной жене еще один, дополнительный подарок (morgengabe). О нем сохранились свидетельства как у франков, так и бургундов. Дар этот — знак благодарности мужа, удостоверившегося в девственности супруги и получившего таким образом гарантию, что дети, которых она родит, точно будут от него. Это знак чистоты крови невесты. Следовательно, такая практика не имела смысла в случае второго или третьего брака, которые имели меньшую ценность как раз по этой причине, хотя и были явлением весьма распространенным. Между тем женщина, ставшая вдовой, оставляла себе лишь треть приданого, остальное же возвращала семье покойного. Таким образом, женщина могла чувствовать себя защищенной только при условии сохранения невинности до самой свадьбы, так как, в конечном счете, потомство и наследование были гораздо важнее, чем сам по себе брак. Поэтому чистота женщины была ее главным достоинством по причинам одновременно религиозным и социальным. В коллективном бессознательном укореняется глубокая убежденность в том, что невинность идентична моральной чистоте и что нужно делать все, чтобы женщины были чисты. От этого зависит равновесие всего общества. И здесь мы обнаруживаем старинное римское языческое верование — в то, что несмываемое пятно развращенности делает брак невозможным.
Рис. 34. Реконструкция дома «зального» типа двенадцати метров длиной, целиком построенного из дерева и перекрытого соломой, по материалам археологических раскопок (Бонн, Ландсмузеум)
Итак, семья была большой и так исполняла свою защитную функцию, но для непрерывного воспроизводства ей нужны были женщины. Как мы уже имели возможность убедиться, мужчина, глава семьи или рода, являлся собственником mund[80] своих детей, поскольку был защитником чистоты крови и аутентичности потомства. Эта охранительная функция переходила к мужу во время бракосочетания, а точнее, в момент помолвки, которая содержала в себе отголоски древнего обряда покупки жены будущим мужем, гарантирующего безопасность от насилия и удостоверяющего чистоту невесты. Во время церемонии помолвки родители получают положенную сумму за символическую продажу отеческой власти над девушкой. У франков эта сумма составляла 1 солид и 1 денарий при первом браке и 3 солида и 1 денарий при повторном браке. Церемония была публичной; выкуп — обязательным и не подлежащим возврату. Тот, кто женился на другой женщине, а не на своей уже просватанной невесте, должен был заплатить 62,5 солида штрафа. У бургундов выкуп за покупку mund, называвшийся wittimon, также был обязательным, а разрыв заключенного таким образом союза влек за собой выплату суммы вчетверо большей. Собственно, Кодекс Феодосия и римские законы вообще придавали задатку, внесенному во время помолвки, то же значение. Тем более что помолвка, по сути, была эквивалентом свадьбы, несмотря на то что до заключения брачного союза мог пройти целый год, а то и два, и на то что все решения здесь принимали только родители, не спрашивая согласия ни у девушки, ни даже у молодого человека. Стоило бы привести здесь ряд цитат из жизнеописаний святых, например из жития святой Женевьевы или святой Макселанды, чтобы понять, какой скандал мог вызвать отказ девушки от вступления в брак. Официально меровингские церковные соборы и указ Хлотаря II, выпущенный в 614 году, запрещали выдавать женщин замуж против их воли. Но на практике — за редким исключением, когда неуступчивая невеста оказывалась христианкой с сильным характером, — предполагалось, что все девушки, так же как и юноши, заранее давали свое согласие. «Когда он достиг брачного возраста, родители Леобарда, следуя мирскому обычаю [выражение, показывающее, что практика эта не христианская], стали убеждать его обручиться с молодой девушкой, чтобы потом жениться на ней. Отец легко убедил совсем еще юного сына сделать то, чего тот не желал». Этот любопытный случай, рассказанный Григорием Турским, перекликается с предусмотренными у бургундов мерами наказания, например, для женщины «народа варваров, которая решит без благословения тайно сочетаться браком с мужчиной» — Она считалась виновной в совершении прелюбодеяния, то есть женщиной, окончательно утратившей моральный облик, а виновник должен был заплатить ее родителям удвоенный «свадебный выкуп», то есть сумму mund, но мог жениться на другой! Кроме того, каждый из бургундов, принадлежал ли он к знатному роду или был простого происхождения, если женился на девушке без благословения ее отца, «должен был заплатить тестю mund в тройном размере, чтобы не спрашивать его согласия, 150 солидов своему отцу и 36 солидов штрафа в казну». Зато в этом случае брак не мог быть отменен, поскольку физическая близость имела место по инициативе мужчины и две крови уже смешались воедино.
Все это, напомним, касалось только помолвки. Церемония была более пышной, чем свадебная, — роскошное пиршество сопровождалось обильными возлияниями, пением и откровенно непристойными шутками, намекающими на плодовитость будущих супругов. После этого происходило одаривание невесты. В местностях, где действовало римское право, составлялся письменный перечень подарков, у германцев дарение совершалось в присутствии трех свидетелей, но в любом случае, как правило, дарили домашних животных, одежду, украшения, драгоценности, монеты, сундук, кровать с постельным бельем, хозяйственные принадлежности и т. д. — то есть главным образом движимое имущество. Кроме того, по древнему галльскому обычаю жених дарил невесте пару домашних туфель как залог семейного согласия и, конечно, — уже в соответствии с римской традицией — золотое кольцо как символ верности, поскольку круг без начала и конца означает бесконечность. Римляне носили его на среднем пальце правой руки или на безымянном пальце левой, откуда, согласно древнеегипетской медицинской теории, нерв идет прямо к сердцу. Также на большом пальце правой руки знатные женщины носили печатки, часто обнаруживаемые в захоронениях, — свидетельства административной власти, которой эти дамы владели как личной собственностью. Наконец, помолвленные обменивались поцелуем в губы, символизировавшим соединение тел. В результате все необходимое могло быть оговорено задолго до свадьбы. Это справедливо и в отношении галло–римлян, у которых празднование свадьбы продолжалось в соответствии с римскими обычаями и завершалось препровождением молодоженов в их собственный дом на брачное ложе, поскольку «согласно обычаю, супругов укладывают в одну постель».
Представляется, что у франков, и вообще у германцев, сущность самой свадьбы состояла в фактическом подтверждении уже заключенного союза: проходила она без особой пышности, и дальнейшая совместная жизнь как таковая и считалась браком. И последний важный момент: наутро после брачной ночи муж дарил новоиспеченной жене еще один, дополнительный подарок (morgengabe). О нем сохранились свидетельства как у франков, так и бургундов. Дар этот — знак благодарности мужа, удостоверившегося в девственности супруги и получившего таким образом гарантию, что дети, которых она родит, точно будут от него. Это знак чистоты крови невесты. Следовательно, такая практика не имела смысла в случае второго или третьего брака, которые имели меньшую ценность как раз по этой причине, хотя и были явлением весьма распространенным. Между тем женщина, ставшая вдовой, оставляла себе лишь треть приданого, остальное же возвращала семье покойного. Таким образом, женщина могла чувствовать себя защищенной только при условии сохранения невинности до самой свадьбы, так как, в конечном счете, потомство и наследование были гораздо важнее, чем сам по себе брак. Поэтому чистота женщины была ее главным достоинством по причинам одновременно религиозным и социальным. В коллективном бессознательном укореняется глубокая убежденность в том, что невинность идентична моральной чистоте и что нужно делать все, чтобы женщины были чисты. От этого зависит равновесие всего общества. И здесь мы обнаруживаем старинное римское языческое верование — в то, что несмываемое пятно развращенности делает брак невозможным.
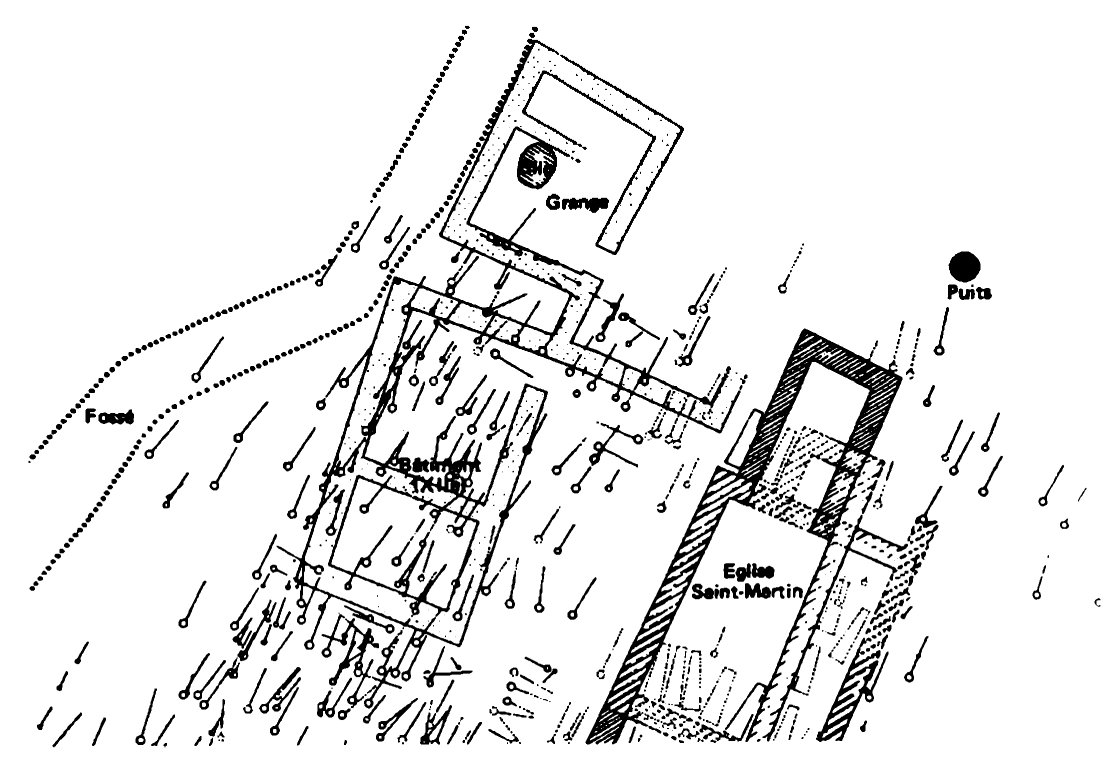 Рис. 35. План кладбища в Мондвиле (Кальвадос). Это самый ранний известный пример кладбища, построенного вокруг сельской церкви (Сен—Мартен–де–Мондвиль, вторая половина VII века). Смерть, таким образом, приручена, смешана с живыми (Кан, CRAM, с любезного разрешения Клода Лоррена)
Первый был обращенным в христианство знатным франком, который во время путешествия в загробный мир увидел, как демоны обвиняют его «в сожительстве с тремя женами, что было непозволительно, и, вдобавок, в совершении других супружеских измен». То есть этот бывший чиновник практиковал полигамию и конкубинат, и эти провинности отягчали его совесть. В своем монашеском уединении в Меобеке, в Берри, до 678–679 годов, он имел видение вечной жизни, совершив путешествие в ад и в рай. Ад теперь располагался не под землей, как у язычников. Он находился в каком–то пространстве вне нашего мира. Следовательно, мертвецы больше не могли возвращаться и беспокоить живых! Кроме того, проклятые не могли оттуда сбежать: «Тысячи людей, стонущих в тоске, связанных по рукам и ногам и истязаемых демонами, которые кружат вокруг них как пчелы вокруг улья… сокрушенных пытками, испускали протяжные вопли». Демоны черны. Они терзают своих жертв когтями и зубами, усугубляя их мучения. Очевидно, что страх перемещен за пределы настоящего. Наводящими ужас описаниями участи, которая ожидает грешников, и душевным потрясением, порожденным этими образами, Баронт надеется вызвать внутреннюю трансформацию, подобную той, что произошла в нем самом. Затем в сопровождении архангела Рафаила он проходит через трое врат и достигает четвертых — врат рая, охраняемых святым Петром. Но тот преграждает ему путь. Время еще не пришло. То есть путешествие в воображаемое завершается у порога несказанного блаженства, которое нужно еще заслужить. Следовательно, страх ада имеет целью использовать ожидание для того, чтобы преобразить настоящее и тем самым отворить двери таинственного будущего. Воображение, захваченное видениями потустороннего мира, предоставляет свободу реализму повседневности, принятию истории, которую язычество отвергало. В самом деле, напомним, что языческий космос, не имевший начала и конца, пребывал во власти сил постоянно возрождавшихся. Угрозой страха быть проклятым когда–то потом, а не сейчас, визионер расширял границы каждого индивидуального воображения за пределы кошмара непрерывного возобновления — весна, лето, осень, зима, рождение, рост, жатва или набег, смерть — и видением необратимого линеарного времени внезапно разрушал языческий миф о вечном возвращении.
Пессимистическое видение, порожденное воображением мужчины, было обращено прежде всего к тем взрослым Детям, тем молодым до самой смерти людям, которые составляли меровингское общество. Людьми они были весьма Жестокими, а потому и воспринять могли только педагогику телесного наказания. Видение оптимистическое — плод воображения женщины, — адресовано другой публике и внушает Другие представления. Альдегунда, знатная молодая женщина, неоднократно отклонявшая предложения о браке, убедила родителей принять ее волю и основала в Мобёже монастырь где скончалась в 684 году. В монастыре у нее было двенадцать видений, о которых она поведала своим монахиням с целью их духовного воспитания. В то время как Баронт использовал страх языческого мышления перед космосом, Альдегунда задействовала сексуальное языческое воображение, чтобы разрешить его дилемму «деструкция — прокреация». А сделала она это, уподобив путь любящей души к Богу любовным отношениям между мужчиной и женщиной. В собственном стиле, несколько напоминающем «Песнь Песней», она очень точными выражениями в нескольких картинах описывает свои поиски возлюбленного Существа. Затем, в шестом видении, — пьянящий восторг встречи, и — после несказанного счастья — внезапную потерю Другого. Далее следует сцена мрачной ночи, в которой Альдегунда напрямую предвосхищает Терезу Авильскую, сцена, дающая ей повод описать невозможность любви и свое неизбежное поражение перед необычностью Другого. Сияющие миры, освещавшие ее монастырь, сменяют жажда, серость, печаль, неутолимый, как в раскаленной печи, жар и искушение отказаться от дальнейшего поиска. Потом, вдруг — встреча и окончательное воссоединение с небесным супругом, свободное приятие после страданий; первоначальный импульс трансформировался в приятие любимого: совсем не похожего на того, кто появлялся вначале. Этот оптимизм, на сей раз проецирующий земное на небесное, есть оптимизм довольно специфической педагогики, которая помещает внутрь брака то, что и было причиной его разрушения: любовную страсть. То, что вызывало страх, становится созидательным, при условии возвращения через смерть к самому себе, к своим же собственным стремлениям. Таким образом, это представление о браке самым радикальным образом отличается от прежнего. Баронту было достаточно использовать страх проклятия, чтобы заставить человека действовать и достичь спасения. Альдегонда обращает любовь–страсть в любовь к свободе, р ответ на другую любовь, которая спасает. Очевидно, нет необходимости уточнять, что подобная любовь была достоянием очень небольшой группы людей, если не сказать нескольких человек, но то, что их индивидуальные представления смогли расширить общее поле духовного опыта до таких пределов, доказывает, что восприятие христианства совершилось. Частная жизнь приобрела новое измерение — «мое», «личное» отношение к загробной жизни, «мои» окончательные спасение, гибель или расцвет.
Эпоха Каролингов изобилует визионерской литературой. Сверхъестественное принято замечать повсюду. Вещие сны, описания адских мук или славных вступлений в рай умножаются и распространяются за пределы монастыря. Многие, подавляющее большинство, продолжают пессимистическую линию Баронта. Почти все эти видения так или иначе включают тему наказания сильных мира сего. Например, после смерти Карла Великого нам известны по крайней мере три видения, касающихся возможного проклятия императора, если только христиане не станут молиться о прощении его греховных прелюбодеяний — вероятно, имелось в виду его сожительство с многочисленными наложницами, которое приравнивалось к инцесту. Каролингский загробный мир столь же реалистичен, как и загробный мир предыдущей эпохи: кровожадные животные, терзающие проклятых за те части тела, которыми они согрешили, огнедышащие драконы, котлы с кипящей смолой, серой, расплавленным свинцом и воском. Одним словом, к услугам визионеров был целый арсенал средств очищения, раскрывающий в то же время навязчивые страхи каждого смертного человека. Они происходили главным образом, как Это было после 675 года, от осознания бедствий, вызванных гражданскими войнами, и поражений, нанесенных христианам викингами, и число их еще множилось в 830–840 годах. Отныне каждый был убежден, что поражение вызвано не незнанием законов реального мира, а косвенным сигналом мира потустороннего. Земное и небесное связаны между собой. При этом секс и смерть предстают в новом свете: не являются ли они препятствиями для будущего счастья человека?
Теперь у нас есть ответ на вопрос, поставленный в предыдущей главе. Подчиненный статус женщины и ребенка обусловлен вездесущим характером насилия в приватной сфере. Оно было необходимо в мире, где непостижимая при рода постоянно угрожала человеку. Человек считал, что в той ожесточенной борьбе за жизнь, которая была единственным способом существования для животных, разгадал намек на настоятельную необходимость культивировать агрессивность в мужчине и защищать фертильность женщины. Поэтому охота была наиболее удобной практикой для усвоения законов выживания и, более того, — закона главного и единственного — закона сильнейшего. Воровство (утверждение себя) и поджигательство (компенсация себя) являются побочными продуктами этой постоянной агрессивности, сексуальное происхождение которой ранее не было выявлено. Действительно, закон выживания вменял в обязанность месть как религиозный долг — ради того, чтобы собственный род мстителя не пресекся. Хочешь жить — умей проливать кровь. Смерть была устрашающей необходимостью, поскольку отправляла индивида в подземный мир, мир со своими частными законами, которых погребальные практики ни в коем случае не должны были нарушать. Таким образом, глубинная связь соединяла в единый комплекс насилие, секс и смерть. Насилие считалось нормальным, даже обязательным. Секс и смерть, напротив, были настолько страшны, что их пришлось окружить запретами. Языческое воображение своими фобиями по отношению к оскорблениям подтверждает, что только сексуальность, сохраняющая чистоту крови, и физическая храбрость, основанная на честности, могут оградить от «неправильной» смерти. Кровь нельзя ни загрязнять, ни высасывать — можно только проливать. Напротив, перемещение кладбищ, которые с кого–то момента начали разрастаться вокруг церквей, придавая смерти измерение публичности, стремится освободить ее от табу. Христианское воображение может избавить от страха, окружающего секс и смерть, перенося его на загробный мир. Видения задействуют с этой целью либо пессимистическую морализирующую педагогику, либо мистическую оптимистическую перспективу. И внезапно насилие, секс и смерть принимают в частной жизни каждого человека совершенно иную окраску. От внешних проявлений частной жизни нам нужно перейти теперь к внутренним убеждениям. Что же становится сакральным?
Рис. 35. План кладбища в Мондвиле (Кальвадос). Это самый ранний известный пример кладбища, построенного вокруг сельской церкви (Сен—Мартен–де–Мондвиль, вторая половина VII века). Смерть, таким образом, приручена, смешана с живыми (Кан, CRAM, с любезного разрешения Клода Лоррена)
Первый был обращенным в христианство знатным франком, который во время путешествия в загробный мир увидел, как демоны обвиняют его «в сожительстве с тремя женами, что было непозволительно, и, вдобавок, в совершении других супружеских измен». То есть этот бывший чиновник практиковал полигамию и конкубинат, и эти провинности отягчали его совесть. В своем монашеском уединении в Меобеке, в Берри, до 678–679 годов, он имел видение вечной жизни, совершив путешествие в ад и в рай. Ад теперь располагался не под землей, как у язычников. Он находился в каком–то пространстве вне нашего мира. Следовательно, мертвецы больше не могли возвращаться и беспокоить живых! Кроме того, проклятые не могли оттуда сбежать: «Тысячи людей, стонущих в тоске, связанных по рукам и ногам и истязаемых демонами, которые кружат вокруг них как пчелы вокруг улья… сокрушенных пытками, испускали протяжные вопли». Демоны черны. Они терзают своих жертв когтями и зубами, усугубляя их мучения. Очевидно, что страх перемещен за пределы настоящего. Наводящими ужас описаниями участи, которая ожидает грешников, и душевным потрясением, порожденным этими образами, Баронт надеется вызвать внутреннюю трансформацию, подобную той, что произошла в нем самом. Затем в сопровождении архангела Рафаила он проходит через трое врат и достигает четвертых — врат рая, охраняемых святым Петром. Но тот преграждает ему путь. Время еще не пришло. То есть путешествие в воображаемое завершается у порога несказанного блаженства, которое нужно еще заслужить. Следовательно, страх ада имеет целью использовать ожидание для того, чтобы преобразить настоящее и тем самым отворить двери таинственного будущего. Воображение, захваченное видениями потустороннего мира, предоставляет свободу реализму повседневности, принятию истории, которую язычество отвергало. В самом деле, напомним, что языческий космос, не имевший начала и конца, пребывал во власти сил постоянно возрождавшихся. Угрозой страха быть проклятым когда–то потом, а не сейчас, визионер расширял границы каждого индивидуального воображения за пределы кошмара непрерывного возобновления — весна, лето, осень, зима, рождение, рост, жатва или набег, смерть — и видением необратимого линеарного времени внезапно разрушал языческий миф о вечном возвращении.
Пессимистическое видение, порожденное воображением мужчины, было обращено прежде всего к тем взрослым Детям, тем молодым до самой смерти людям, которые составляли меровингское общество. Людьми они были весьма Жестокими, а потому и воспринять могли только педагогику телесного наказания. Видение оптимистическое — плод воображения женщины, — адресовано другой публике и внушает Другие представления. Альдегунда, знатная молодая женщина, неоднократно отклонявшая предложения о браке, убедила родителей принять ее волю и основала в Мобёже монастырь где скончалась в 684 году. В монастыре у нее было двенадцать видений, о которых она поведала своим монахиням с целью их духовного воспитания. В то время как Баронт использовал страх языческого мышления перед космосом, Альдегунда задействовала сексуальное языческое воображение, чтобы разрешить его дилемму «деструкция — прокреация». А сделала она это, уподобив путь любящей души к Богу любовным отношениям между мужчиной и женщиной. В собственном стиле, несколько напоминающем «Песнь Песней», она очень точными выражениями в нескольких картинах описывает свои поиски возлюбленного Существа. Затем, в шестом видении, — пьянящий восторг встречи, и — после несказанного счастья — внезапную потерю Другого. Далее следует сцена мрачной ночи, в которой Альдегунда напрямую предвосхищает Терезу Авильскую, сцена, дающая ей повод описать невозможность любви и свое неизбежное поражение перед необычностью Другого. Сияющие миры, освещавшие ее монастырь, сменяют жажда, серость, печаль, неутолимый, как в раскаленной печи, жар и искушение отказаться от дальнейшего поиска. Потом, вдруг — встреча и окончательное воссоединение с небесным супругом, свободное приятие после страданий; первоначальный импульс трансформировался в приятие любимого: совсем не похожего на того, кто появлялся вначале. Этот оптимизм, на сей раз проецирующий земное на небесное, есть оптимизм довольно специфической педагогики, которая помещает внутрь брака то, что и было причиной его разрушения: любовную страсть. То, что вызывало страх, становится созидательным, при условии возвращения через смерть к самому себе, к своим же собственным стремлениям. Таким образом, это представление о браке самым радикальным образом отличается от прежнего. Баронту было достаточно использовать страх проклятия, чтобы заставить человека действовать и достичь спасения. Альдегонда обращает любовь–страсть в любовь к свободе, р ответ на другую любовь, которая спасает. Очевидно, нет необходимости уточнять, что подобная любовь была достоянием очень небольшой группы людей, если не сказать нескольких человек, но то, что их индивидуальные представления смогли расширить общее поле духовного опыта до таких пределов, доказывает, что восприятие христианства совершилось. Частная жизнь приобрела новое измерение — «мое», «личное» отношение к загробной жизни, «мои» окончательные спасение, гибель или расцвет.
Эпоха Каролингов изобилует визионерской литературой. Сверхъестественное принято замечать повсюду. Вещие сны, описания адских мук или славных вступлений в рай умножаются и распространяются за пределы монастыря. Многие, подавляющее большинство, продолжают пессимистическую линию Баронта. Почти все эти видения так или иначе включают тему наказания сильных мира сего. Например, после смерти Карла Великого нам известны по крайней мере три видения, касающихся возможного проклятия императора, если только христиане не станут молиться о прощении его греховных прелюбодеяний — вероятно, имелось в виду его сожительство с многочисленными наложницами, которое приравнивалось к инцесту. Каролингский загробный мир столь же реалистичен, как и загробный мир предыдущей эпохи: кровожадные животные, терзающие проклятых за те части тела, которыми они согрешили, огнедышащие драконы, котлы с кипящей смолой, серой, расплавленным свинцом и воском. Одним словом, к услугам визионеров был целый арсенал средств очищения, раскрывающий в то же время навязчивые страхи каждого смертного человека. Они происходили главным образом, как Это было после 675 года, от осознания бедствий, вызванных гражданскими войнами, и поражений, нанесенных христианам викингами, и число их еще множилось в 830–840 годах. Отныне каждый был убежден, что поражение вызвано не незнанием законов реального мира, а косвенным сигналом мира потустороннего. Земное и небесное связаны между собой. При этом секс и смерть предстают в новом свете: не являются ли они препятствиями для будущего счастья человека?
Теперь у нас есть ответ на вопрос, поставленный в предыдущей главе. Подчиненный статус женщины и ребенка обусловлен вездесущим характером насилия в приватной сфере. Оно было необходимо в мире, где непостижимая при рода постоянно угрожала человеку. Человек считал, что в той ожесточенной борьбе за жизнь, которая была единственным способом существования для животных, разгадал намек на настоятельную необходимость культивировать агрессивность в мужчине и защищать фертильность женщины. Поэтому охота была наиболее удобной практикой для усвоения законов выживания и, более того, — закона главного и единственного — закона сильнейшего. Воровство (утверждение себя) и поджигательство (компенсация себя) являются побочными продуктами этой постоянной агрессивности, сексуальное происхождение которой ранее не было выявлено. Действительно, закон выживания вменял в обязанность месть как религиозный долг — ради того, чтобы собственный род мстителя не пресекся. Хочешь жить — умей проливать кровь. Смерть была устрашающей необходимостью, поскольку отправляла индивида в подземный мир, мир со своими частными законами, которых погребальные практики ни в коем случае не должны были нарушать. Таким образом, глубинная связь соединяла в единый комплекс насилие, секс и смерть. Насилие считалось нормальным, даже обязательным. Секс и смерть, напротив, были настолько страшны, что их пришлось окружить запретами. Языческое воображение своими фобиями по отношению к оскорблениям подтверждает, что только сексуальность, сохраняющая чистоту крови, и физическая храбрость, основанная на честности, могут оградить от «неправильной» смерти. Кровь нельзя ни загрязнять, ни высасывать — можно только проливать. Напротив, перемещение кладбищ, которые с кого–то момента начали разрастаться вокруг церквей, придавая смерти измерение публичности, стремится освободить ее от табу. Христианское воображение может избавить от страха, окружающего секс и смерть, перенося его на загробный мир. Видения задействуют с этой целью либо пессимистическую морализирующую педагогику, либо мистическую оптимистическую перспективу. И внезапно насилие, секс и смерть принимают в частной жизни каждого человека совершенно иную окраску. От внешних проявлений частной жизни нам нужно перейти теперь к внутренним убеждениям. Что же становится сакральным?
