
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
(ДНЕВНИК МАЛЬЧИКА)
РИСУНКИ А. ГОНЧАРОВА

Отпечатано в типографии Госиздата «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ", Москва, Пименовская, ул., д. 16, в количестве 7000 экз.
Главлит № А — 30143 Гиз Д — 31 № 29287 Зак. № 7689.
8 печ. л.
ТАК БЫСТРО и незаметно пробежало лето, и вот уже опять учение. Я не могу сказать, что неохотно пошел в школу. Ведь лето кончилось, и кончились летние занятия, и одному дома скучно было бы сидеть.
Там опять встретился с ребятами, всякие новости рассказывают, интересно.
В школе тоже новости. Во первых — у нас новый сторож Степан. У него длинные, длинные, до самой синей рубахи, светлые усы, как у Тараса Бульбы, и он все время смеется. Стоит посреди двора, звонит в колокольчик и смеется, смеется.
Герасимов подлетел к нему и дернул его за ус. Да порядочно так дернул. Мы все столпились в это время у двери, чтобы итти в классы. Мы думали — Степан пойдет жаловаться Петрону, нашему заведующему, — и новый школьный год начнется с истории. Ничего подобного. Степан только головой покачал на Герасимова и засмеялся.
Я переглянулся кое с кем из ребят — дескать, странный человек этот Степан, и мы пошли в классы.
В классе у нас тоже новости, — несколько ребят новых поступило. Какой-то Кротов, потом Хаим Рейзин и Бранд.
Хаим Рейзин — маленький, худенький, как облезший, щуплый цыпленок. Ему можно бы дать лет семь, не больше, но он говорит, что ему одиннадцать… У него все лицо густо усыпано веснушками, так что если бы захотеть прислонить к чистому местечку на лице Хаима Рейзина неочиненную сторону карандаша, то такого кусочка не нашлось бы. Глаза у него маленькие, как у мышки, а голова покрыта светлыми завитками, такими густыми, что едва ли найдется баран с такой густой шерстью. Но вообще Хаим — мальчик, как мальчик, даже очень тихий и кажется не вредный. Но вот зато другой наш новичек, — вот здорово вредный пацан. Этот самый Бранд. Он пионер, хотя галстука красного не носит. Он высокий, крепкий, и лицо у него красное, красное, как у мясников.
Мы только вошли в класс и расселись, как он толкнул кого-то из девчонок, кажется Ливскую, так что она заревела во все горло.
Марья Петровна, наша учительница, стала спрашивать в чем дело, а Бранд, как ни в чем не бывало, суетится тут же, возле нее, и тоже спрашивает — в чем дело, в чем дело.
— Да ведь ты же сам и виноват — сказала Марья Петровна, когда разобрала в чем дело. Тогда Бранд скосил рожу, сделал какую-то гримасу и пошел на место.
Марья Петровна пожала плечами, покачала головой и начала урок.
За лето мы порядочно все перезабыли. Даже лучшие наши ученики болтали всякие глупости на вопросы Марьи Петровны. Она сказала нам, что нас надо бы в первую группу перевести. Но это она видно только нарочно. Сказала и засмеялась. К концу урока оказалось, что мы уже кое-что вспомнили.
25 сентября.
Уже несколько дней учимся мы в школе, и так они быстро летят, что я и заметить не успеваю.
В прошлом году у нас была обыкновенная, ничем не замечательная группа, а теперь мы кажется "прославимся" на всю школу. Это видно уже за одну неделю. Все началось с Бранда. Он устраивает драки с третьей группой. Прежде мы не дрались. А теперь на больших переменках на дворе настоящая война.
Бранд подговорил мальчишек из нашей группы. Пошли Герасимов, Пирогов, Шульц и другие.
Была очень хорошая погода, и мы, без пальто, бегали в перемену по двору.
Смотрим — стоят трое из третьей группы, разговаривают, никого не трогают. Вдруг налетают Бранд и Шульц, опрокидывают одного, Орлов и Пирогов налетели на другого, и пошла история.
Те вскочили, к ним подбежали на помощь еще другие из третьей группы, к нашим тоже подоспела помощь, и пошла драка. Я даже и сам не заметил, как тоже очутился в драке. Кого-то колотил, не знаю — своих или чужих, кто-то меня колотил. Словом, свалка.

Вдруг — соображаю. Смотрю — тузит меня изо всех сил мой приятель, Сашка Чевич. Я отбежал в сторону, чтобы получше обдумать. Сашка подбегает ко мне и кричит. — Это ты, Ленька? Чего же я тебя тузил?
Тут мы оба стали хохотать, чуть по земле не катались. Потом успокоились. Я спрашиваю:
— Так чего же ты меня бил?
— А я, говорит, не знаю. Я даже и не видал, что тебя бью. Луплю, куда попало. Да и мне от тебя попало.
Тут мы опять стали хохотать. Вот глупость. Деремся, и не знаем, кто и за что.
Потом мы стали смотреть на ребят. Они дрались с большим удовольствием. Из учителей никто конечно этой свалки не видал, иначе сейчас бы это прекратили. Ведь что было! Они навалились целой кучей друг на друга, и уже никто не соображал, кто кого бьет. И никто, кроме ребят, этого не видал… Вышел, правда, Степан с большой метлой в руках, протолкался в самую середину ребят, толкнет то одного, то другого в плечо, смеется и говорит: — Ну, хватит, хватит вам, расходитесь. Вот сейчас пойду пожалуюсь. Будет вам. — Но ребята почему-то совсем не боятся его угроз. Да и правда, он грозится, грозится, что пожалуется, а сам все смеется. Машет метлой и смеется. Ну, никто его конечно и не слушает… Разбежались, и сейчас же сцепились в другой части двора. Мы с Сашкой смотрели на них, смотрели, и вдруг Сашка говорит: — А правда, Ленька, они похожи на молодых щенят. Щенята вот так же, если выпустить их, без толку и без причины наскакивают друг на дружку и нарочно кусаются. Так и ребята нарочно дерутся.
В это время Степан вытащил из кармана колокольчик и позвонил.
Ребята перестали драться и пошли в классы. Они были красные, встрепанные. У многих были исцарапаны лица. А у Петрова из третьей группы на лбу громадный синяк. Они одергивали блузы и разговаривали друг с другом как ни в чем не бывало. Только что дрались, а сейчас разговаривают совсем дружелюбно. Пожалуй, прав Сашка — похожи на щенят.
30 сентября.
Сегодня случилась неприятная история. Я уже упоминал о нашем новичке Хаиме Рейзине. Он такой тихий и робкий, ни с кем почти не разговаривает. Когда его спрашивает Марья Петровна, он встает, улыбается, треплет свой поясок и говорит что-то так тихо, что даже ближайший его сосед, Левка Бронов, ничего не слышит.
— Что такое? Скажи громче! — говорит Марья Петровна. Хаим еще тише бормочет что-то себе под нос.
— Громче, громче, — раздражается Марья Петровна.
И чем больше она кричит — громче, громче, — тем он бормочет тише. Он видно пугается громкого голоса Марьи Петровны.
Сегодня была вот такая же история. Мы все стали смеяться. Сначала мы смеялись тихо. Но Марья Петровна стала сердиться и Рейзин совсем скис. Мы стали смеяться громче.
Вдруг встает Бранд, протягивает кому-то из ребят булавку и громко говорит: — Уколите его в зад, тогда он проснется. Он спит.
Тут мы все не выдержали и так и прыснули. Марья Петровна рассердилась и выгнала Бранда из класса. Нам было порядком неловко.
Рейзин стал красный, как кумач, и сел.
На маленькой переменке ребята пошумели об этом. К Хаиму подошел Витя, один из наших ребят, и говорит: — Ну чего ты, дурак, стесняешься? Вот все над тобой и смеются. Спрашивают, ты и отвечай… мм… мямля…
Рейзин ничего не ответил, только улыбнулся, и на глазах его показались слезы.
На большой перемене все высыпали во двор. Ребята затеяли игру.
Я стоял под деревом и показывал своих солдатиков Саше и Вите. Недалеко от нас стоял Рейзин со своим приятелем Зархи.
Зархи — единственный, кто подружился с Рейзиным… Зархи — крымчак. О крымчаках мы учили, когда изучали наш край. Крымчаки — это остатки тех евреев, которые жили в Крыму еще до покорения его Россией, когда Крым был еще под властью турок. Крымчаки сохранили в своем языке что-то полутатарское, так что теперь это как будто наполовину татары, наполовину евреи. Они не очень хорошо говорят по-русски… Зархи тоже говорит нехорошо.
Он, так же как и Хаим, очень тихий, и они все время вместе.
Вдруг от группы ребят отделился Бранд, быстро подошел к Рейзину и говорит:
— Эй ты, жиденок, баран закрученный, идем со мною драться.
А сам стал в такую позу, выставил вперед одну ногу и дергает Рейзина за курточку.
— Чего я пойду с тобой драться? — тихим голосом проговорил Рейзин.
Мы услыхали в это время их разговор и стали прислушиваться.
— А так, — приставал Бранд.
Рейзин засунул руки в карманы и отвернулся с таким видом, что дескать — отстань, не лезь ко мне.
— Пойдем, — повторил Бранд, — иначе дам под сопатку… — Рейзин молчал и не смотрел на Бранда.
— Э… э… э… трус, жиденок… Все вы жиды — трусы, — громко крикнул Бранд. Он стал смеяться.
Тогда Витя, который стоял с нами, побледнел и сразу же покраснел, как рак, быстро, как ящерица, бросился к Бранду, схватил его за рубаху и зло крикнул:
— Все мы трусы? Повтори, что ты сказал. Жиды, жидами назвал?!
Он со всей силы ударил Бранда в скулу раз и другой. Бранд крякнул и ухватился за щеку. Даже позабыл видно от боли ответить Витьке.
Мы никогда не видали Витю таким. Он у нас один из лучших учеников, все всегда знает, в общем он славный парень, веселый всегда и не злой. С ребятами он не дерется. И потом он очень сильный и крепкий, пожалуй сильнее Бранда. Может потому Бранд и не полез с ним в драку.
Но теперь Витьку узнать было нельзя. Он прямо зубами лязгал от злости.
— Ты полезь ко мне, узнаешь, какие мы трусы, — крикнул он Бранду и стал натирать слюною кулак.
— А ты, Рейзин, рохля, баба, — зло прокричал он. — Научись не быть такой тряпкой, иначе и Бранд и всякая сволочь будет к тебе цепляться.
Рейзин ничего не ответил. В глазах его стояли слезы.
Бранд приложил к щеке холодную мокрую тряпку и пошел в класс. По дороге он подошел к Рейзину и прошептал: — Погоди, будет тебе сладко.
На уроке Марья Петровна обратила внимание на громадный кровоподтек на щеке Бранда.
— Кто это тебя? Опять дрался с кем-нибудь? — спросила она.
— Ударился, — буркнул Бранд.
Мы с Витей и Сашей посмотрели друг на друга и улыбнулись.
4 октября.
Бранд все еще ходит с синим пятном на щеке.
Сегодня я узнал одну новость. Она здорово меня взволновала. После истории с Витей Бранд говорил одному из наших ребят, Иванову, что он "изведет" Рейзина, добьется того, чтобы Рейзин ушел из школы. Мне передавал этот разговор сам Иванов. Он рассказывал об этом с возмущением. Он сам тоже пионер, в одном отряде с Брандом.
— Мы шли, — говорит Иванов, — из отряда, и вдруг Бранд говорит: — Сволочь этот Витька, ну, да я Рейзину покажу.
— Почему же Рейзину, — спрашиваю я — если "сволочь Витька"?
— А, чорт с ним, с ним не охота вязаться, — ответил Бранд. А на меня не смотрит.
— Я подумал при этом, что Витьку он боится трогать, так как Витька сильный и смелый, ну а Рейзин такое тесто, что не велика честь и извести его. Он такой несчастный, хилый.
Иванов рассказывал мне об этом и прибавил:
— Я твердо решил узнать о родителях Бранда. Неужели его учат в семье не любить евреев. У нас в отряде это строго запрещается. Ты ведь знаешь, что при царском правительстве преследовались слабые нации, армяне, евреи и другие. А советское правительство строго это запрещает. Ну, да находятся такие, как Бранд.
Иванов еще долго говорил про Бранда, потом мы разошлись с тем, что он узнает о его родителях" и тогда в отряде придумают, что с ним делать.
Я хотел кстати спросить у Иванова, что такое "слабые нации", так как мне о них не приходилось слышать, но постеснялся, что он надо мной посмеется. Мы оба пионеры и оба хорошие ученики, и вот он знает, а я нет…
Вечером я спросил у папы, и папа мне объяснил, что слабыми эти нации назывались потому, что их было меньше, чем тех, кто их преследовал, и они не могли на преследования отвечать. Они жили в русском государстве, и русское царское правительство научало и рабочих и крестьян относиться к ним плохо и всячески их обижать. И чиновники царские их обижали. Их лишали всех тех прав, которыми пользовались другие люди нашей страны.
— А советское правительство, — сказал папа, — уравняло в правах все нации.
Я рассказал ему историю с Рейзиным и Брандом.
— Этот Бранд — несознательный мальчик, — сказал папа, — и пионер-отряд должен оказать на него влияние. Слово "жид" — обидное, и его надо забыть.
С папой я охотно обо всем этом поговорил… У него не стыдно было и спросить, чего не знаешь. И потом папа все знает. Он рабочий-металлист и секретарь заводской ячейки. И все умеет объяснить.
Но интересно, что задумал сделать Бранд с Рейзиным.
6 октября.
Сегодня у меня вышла маленькая неприятность с мамой и теперь у меня в голове прямо каша. Тут все школьные дела (а у нас их куча), а тут разберись в этой домашней истории. Я решил было оставить ее как есть, но мне жалко маму.

Дело было вот как: Я ушел утром без калош, а потом пошел сильный дождь. У меня на башмаках дыры, и я подумывал — как же это я пойду домой. Вдруг, смотрю — пред четвертым уроком приходит мама и приносит мне калоши.
Она была вся мокрая и такая смешная. Платье облепило ее (а она очень худая), и получилась будто палка, на которую навернуто что-то мокрое. В самом деле было смешно, и кто-то из ребят стал хохотать и что-то о ней говорить. А в это время она подходит ко мне и говорит:
— Вот, Ленечка, тебе калоши, ножки чтоб не промочил.
Я взял калоши, буркнул "хорошо", и ушел к мальчикам, а она повернулась и пошла домой. Мне было чего-то стыдно и досадно.
Только она ушла, Герасимов и другие мальчишки обернулись в свое пальто, взяли у девчонок платки, обмотали ими головы и подошли ко мне. "Вот, Ленечка, калошки, ножки чтоб свои золотые не промочил", — нараспев говорили они пискливыми голосами, передразнивая маму.
Я дал в зубы Герасимову и еще кому-то, но в то же время мне стало еще больше досадно на маму и такая злоба на нее появилась. И зачем она так ласково говорила: "Ленечка и ножки". У нас над такими нежностями смеются.
Я пришел домой злой-презлой и наговорил маме кучу дерзостей. Я сказал, что это их бабская привычка говорить нежности, а мы — мальчики и пионеры, и нам эти нежности не нужны, и чтобы она с ними Ко мне другой раз не лезла. Так и сказал, "чтобы не лезла". Тогда у мамы в глазах появилась такая обида (красные они стали, и вот-вот заплачет, но не заплакала), и она сказала: — "Ну что ж, не буду лезть". — И потом молча дала мне ужинать и со мной не разговаривала.
Я тоже делал вид, что сержусь на нее, но я уже и не сердился. Мне даже стало немножко стыдно и жалко ее. Здесь можно об этом написать — ведь никто не прочтет. Вообще же у нас это считается "глупыми нежностями", когда стыдно, или жалко кого. Ведь правда, она хотела мне сделать хорошо, когда принесла калоши, и еще сама промокла, а она такая слабая, а я вот ворчу и злюсь на нее.
Нет, у нас иногда странные правила, в нашей школе, т. е. у ребят. Ну почему нельзя сказать Ваничка или Ленечка? Что от этого станет? Будто Ванька или Ленька лучше? А вот они (ребята) считают, что лучше.
Теперь мне досадно и жалко маму, и в голове — буза. А тут мне надо подумать о том, что у нас сегодня случилось.
Мы приготовили дома письменную работу по русскому языку. Марья Петровна собирала тетради. Мы все вытаскиваем свои и отдаем ей. Вдруг Хаим Рейзин начинает тихонько плакать, и Марья Петровна подошла к нему, берет его тетрадку. Смотрит, и вдруг стала красная, красная от злости.
— Кто это сделал? Сейчас же скажите! — сердито закричала она и показала нам тетрадку.
Листки, на которых была написана работа, изрезаны полосками; часть полосок совсем вырвана, а на других густо нарисованы кукиши.
Хаим Рейзин, когда Марья Петровна взяла в руки его тетрадку, стал плакать еще сильнее.
— Скажите, кто это сделал? — спросила еще раз Марья Петровна, и смотрела так сердито.
Я стал смотреть на Бранда, потому что у меня мелькнула мысль, что это сделал он. Он сидел и с таким видом, что, дескать, его это совсем не касается, чертил что-то на своей тетрадке.
Рейзин поплакал, Марья Петровна его успокоила, и тем дело кончилось. Но и я да и другие ребята думают, что это сделал Бранд.
На переменке мы стали говорить об этом. Я отозвал Иванова и тихонько спросил его:
— Что ты об этом думаешь?
Иванов внимательно посмотрел на меня своими смеющимися глазами (у него глаза всегда будто смеются) и сказал: "То же, что и ты". В это время к нам подошли Саша и Витя и мы вчетвером решили следить за Брандом. Вот пацан. Какую он гадость сделал. Теперь, когда я написал все это, я чувствую, как трудно мне разобраться во всех этих делах. Как быть с мамой и как быть дальше с Рейзиным?
8 октября.
Сегодня мы шли из школы втроем — я, Саша и Иванов. В последнее время мы только и говорим о Рейзине и Бранде. Да и все ребята интересуются этой историей. У нас еще не бывало, чтобы еврея или там армянина или кого изводить. Потому все так и интересуются.
— Как ты думаешь, почему взялся Бранд извести Рейзина? — спросил Саша.
— Ну конечно потому, что он еврей, — ответил я. — Он бы хотел извести, например, Витю, но Витя даст ему сто очков вперед, поэтому он взялся за Рейзина.
— Да, кстати, — сказал Иванов. — Я узнавал о его родителях. Если хотите я вам расскажу.
— Валяй, — сказал Саша.
— Только на это уйдет с полчаса, а нам скоро расставаться. Давайте, посидим здесь.
Мы проходили в это время через городской сад. С деревьев осыпались листья, и было очень красиво. Мы охотно согласились.
Мы присели на скамеечке, и вот что рассказал нам Иванов о жизни Бранда.
— У нас в отряде, — начал Иванов, — есть один, Фокин. Он учится в другой школе. Он живет в одном дворе с Брандом. Я у него расспросил, и он даже повел меня к себе, и я видел одну сцену.
— Так вот, отец Бранда — рабочий-печатник. Он работает в типографии. Он не партийный, но сознательный, и ни за что не позволил бы Бранду быть таким хулиганом. Но он много занят и редко бывает дома. А дома Бранд с матерью. Мать у него злющая-презлющая. Она толстая, здоровенная и страшно громко кричит. Я сам слышал. А Фокин говорит, что она целые дни ругается то с соседками, то с сыном. Когда я сидел у Фокина, она ругалась с соседкой еврейкой и кричала: "Вас, жидов, надо было давно уничтожить". И каждую минуту — жиды, жиды…
А наш Бранд тоже выскочил и давай на помощь матери тоже ругать соседку всякими словами.
Вообще Фокин рассказывает, что у Брандов целый день визг и шум. Мать кричит ему и его сестре: — "чтоб вас холера задушила, чтоб вас чорт забрал". И Бранд ей говорит дерзости. И только, когда приходит отец, у них тихо.
— Вот как у них, — добавил Иванов, когда кончил свой разсказ. — Если он не угомонится, придется исключить его из отряда.
— Подумаешь, — горе ему большое, — сказал Витя. — Если он такой хулиган, ему все равно, в отряде он или нет.
— А я думаю, что с ним надо поговорить. Ведь если у него такая мать, значит он не так виноват, — вступился Саша.
— Хе… говорить, — воскликнул Витя. — Очень он вас послушает.
Мы еще долго говорили об этом, потом я простился с ребятами и пошел домой. Когда я вспоминал рассказ Иванова о Бранде и его матери, мне делалось стыдно и еще больше жалко маму.
Дело в том, что после той истории, хотя мама со мной и разговаривает, но обида у нее не прошла. Я это хорошо замечаю, хотя делаю вид, что уже забыл обо всем. Со мной заговорил об этом отец.
— Видишь ли, — сказал он, — у вас, ребят, неправильный взгляд на это. Ну неужели по-твоему лучше, когда мать называет своего сына Колька, Ленька? Груба с ним, кричит на него?
Отец всегда спросит так и таким голосом, что уже и не знаешь, что ему отвечать. Я почувствовал, что он припер меня к стенке, и сказал:
— Но не при мальчиках.
— Ну что же при мальчиках!.. Значит мать, когда шла к тебе и промокала вся под дождем, должна была, как школьница урок, повторять всю дорогу: "Не Ленечка, а Ленька"… Ведь она могла и забыть. Как ты думаешь? — уже сердитым голосом закончил отец.
Я рассмеялся при этих его словах, так смешно было представить маму школьницей, и как она зубрит эти слова. А на школьницу она и совсем не похожа, и занята все домашней работой.
— Это у нее привычка такая, нежничать, — сказал я, чтоб вывернуться.
— Не плохая привычка, хотя к таким мальчишкам, как ты, ее не стоит применять. Но сознайся, что ты не прав, и извинись пред матерью.
Но сознаться в неправоте ужасно, ужасно трудно. Кажется легче до крови укусить себе палец, чем подойти и сказать эти слова: — "Я не прав, прости".
Я ничего не ответил отцу. Он сидел в своей серой рубашке, без пиджака, и читал газету. Я знал, что он бывает особенно хорошо настроен в эти минуты, и решил воспользоваться этим его настроением и улизнуть от ответа.
Однако не тут-то было.
Отец помолчал немного и сказал:
— Я жду..
— Я… после… другой раз… — пробормотал я и почувствовал, что стал красный, как кумач.
— Ну смотри, — засмеялся отец и продолжал читать газету.
Я выбежал из комнаты.

С тех пор отец со мной об этом не заговаривал, а я делал вид, что забыл.
Сегодня, когда я шел из сада, я раздумался обо всем этом, и когда пришел домой и положил книги, то совсем неожиданно для себя подошел к маме, обнял ее и сказал:
— Ну прости… Больше не буду…
— Что не будешь? — спросила мама.
— Ну насчет "Ленечки", — ответил я и спрятал лицо в мамином фартуке, потому что было почему-то неловко на нее смотреть.
— Ну ладно, ладно, — пробормотала растроганная мама и поцеловала меня. Тогда я так стал целовать и тормошить ее, что сбил с головы ее платочек, которым она повязывается во время работы.
Потом, когда я отходил, я видел, как она смахнула с глаза слезу и улыбнулась… Чорт знает что… Извинился, но ни за что не соглашусь, чтобы опять при ребятах называла меня "Ленечкой" или говорила "ножки"…
Кажется, надо будет и в самую жаркую погоду брать с собою калоши…
15 октября.
Прошла уже целая неделя с тех пор, как Бранд уничтожил работу Рейзина. Теперь я говорю об этом так уверенно, потому что это ясно всем.
Рейзин стал еще тише, улыбается все так же странно, а этот Бранд, кажется, не на шутку взялся его извести. Он буквально преследует Хаима.
Третьего дня вышли все в раздевальную. Дуня, раздевальщица, стала выдавать ребятам пальто. Рейзин только взял в руки свое пальто, как из двери как будто нечаянно вылетел Бранд и толкнул Рейзина так сильно, что пальто вывалилось из его рук. А так как в раздевальной очень тесно, Бранд воспользовался случаем и вытоптал пальто ногами.
Хаим с трудом вырвал пальто из-под ног Бранда. На его лице была такая жалобная гримаса. — Пусти, пусти! — кричал он. Он толкнул Бранда и ударил его кулаком в плечо.
— Ну… ты… Чего цепляешься? Сейчас смажу! Хочешь? — грубо крикнул Бранд.
— А чего ты сам лезешь? — защищался Рейзин. Он глотал слезы, чтобы не расплакаться.
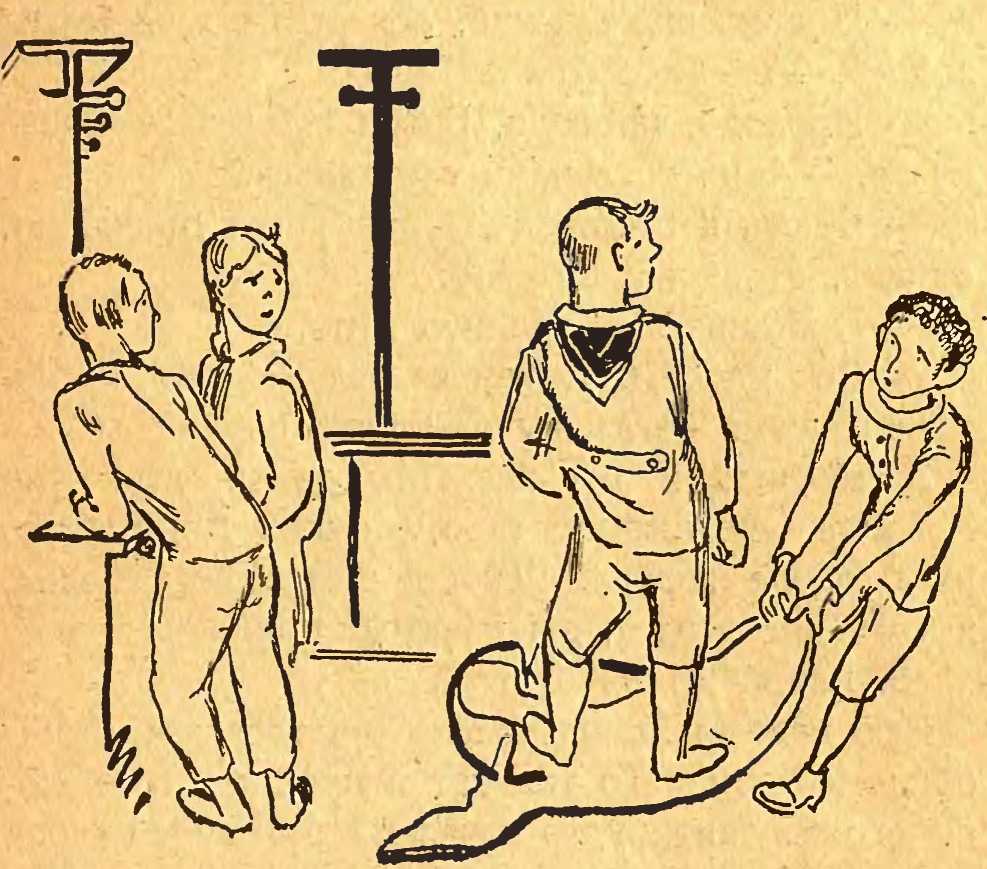
— Смотри, отколочу. Зубы посчитаешь, — пробормотал Бранд.
— Ну ты, проваливай, Бранд. Ведь это чорт знает что! — закричал Иванов, услыхавший уже конец этой сцены. В это время вошли еще Витя, я, Саша и другие. Мы увидали, как Рейзин напрасно старался очистить свое пальто. Оно было, видно, когда-то синее, потом порыжело от времени, а теперь, когда Бранд измазал его ногами, оно стало грязно-серым. Бедный Рейзин изо всех сил тер его рукавом курточки.
— Подумаешь, буржуй, обязательно чистюлей ходить, — вцепился опять Бранд.
— Проходи, проходи, Бранд. Не лезь! — крикнул я. — А не то с нами свяжешься.
— Боюсь я вас очень, — пробурчал Бранд, но, ‘ однако, отошел в сторону.
— Побоишься! — крикнул Витя.
— Вот идиот, буржуем назвал Рейзина, — смеялся Иванов, когда мы выходили из школы.
Засмеялись и мы все. Мы знали, что отец Рейзина — бедный портной, что живут они где-то на окраине города. Рейзин был всегда бедно, хотя и чисто одет; а на завтрак приносил только хлеб. Какой же он буржуй?
Всю неделю Бранд только ищет случая, чтобы обидеть Хаима. То толкнет в проходе, то волосы его зацепит, будто нечаянно, пуговицей своей куртки. Кто-то из девчонок видел собственными глазами, как Бранд нарочно зацепил их своей пуговицей, когда мы гурьбой выходили из класса.
Рейзину было очень больно, пока отцепляли. У него курчавые, как у негра, волосы, и распутать их было трудно. Марья Петровна сделала Бранду строгое замечание и сказала, что его проделки сделают то, что его исключат из школы…
Бранд слушал, опустив глаза, а когда она отвернулась, высунул вслед ей язык.
Ябедничать никто из нас, конечно, не станет, но мы возмущенно посмотрели друг на друга. У нас не принято грубо обращаться с Марьей Петровной. Она добрая и хорошая…
18 октября.
Мы очень подружились — Витя, Саша, Гриша Иванов и я. Теперь мы часто из школы ходим вместе домой.
В последнее время у нас только и разговору о Бранде и Рейзине. Ведь мы учимся все вместе уже четвертый год, и никогда у нас этого не было, чтобы преследовать евреев или дразнить крымчаков или татар. У нас в классе два крымчака — Зархи и Хондо и один татарин — Реуф. На днях я сам слышал, как Бранд подошел к Реуфу и негромким таким голосом, чтобы никто не услышал, проговорил:
— Видишь, стихи для тебя сочинил! — крикнул он и сам расхохотался над своим фокусом.
— Пошел вон, задам тебе! — крикнул Реуф и покраснел от досады.
Бранд вообще каждый день выдумывает что-нибудь новенькое, чтобы досадить Рейзину или Реуфу.
— Давайте, ребята, вот что сделаем, — сказал как-то Иванов, когда мы шли из школы.
— Что? что? — крикнул Витя. Он всегда охотно присоединяется ко всякой выдумке.
— Мы должны пойти к отцу Бранда и поговорить с ним…
— Правильно, — сказал Саша. — Мы только все говорим, возмущаемся, возмущаемся, а Бранд продолжает хулиганить. Мы должны стоять за правду. (Это Сашин конек. Саша ужасно честный. Он всегда говорит, что надо, не боясь, стоять за правду.)
— Однако после этого Бранд будет колотить нас и вообще не даст проходу, — сказал я.
— Ну что ж, пускай! — крикнул Витя. — Пускай! Мы не боимся его.
— Что, мы все с ним не справимся, что ли? — вскрикнул Иванов.
— Итти, итти, — повторял Саша.
Была пятница, мы назначили, что пойдем к Бранду в воскресенье, чтобы застать дома его отца. Сегодня утром мы туда ходили.
Чудно, что стоят хорошие погоды. В школьные дни мы мало успеваем гулять, так как надо спешить домой делать уроки, потом в клуб пионерский или в отряд. Поэтому мы были особенно рады, что в воскресенье случилась такая чудная погода. Мы собрались очень рано, как в школу, и пошли… Решили сначала погулять, чтобы не приходить к ним слишком рано. Обошли весь наш огромный городской сад, потом доехали на трамвае до Ленинского парка и с удовольствием в нем погуляли…
Ленинский парк еще молодой, его насадили всего три или четыре года назад, а вот уж он как хорошо вырос. Когда я бываю в нем, я всегда ищу те два молодых тополя, которые посадили мы с папой.
На месте парка был огромный пустырь, и я его еще даже помню. И вот однажды, к Первому мая, объявили день общественного насаждения парка. К этому дню пустырь очистили и приготовили для посадки. Кто хотел, мог притти и посадить дерево. Мы тогда с папой тоже пошли и посадили два молоденьких, молоденьких тополька.
Я помню, что работала тогда масса, масса людей, а руководили посадкой садовники.
В один день насадили весь парк. Люди со всего города ходили смотреть на него, как на чудо, — ведь еще вчера здесь было голое место…
И он так чудно растет, и наши тополи уже стали большие.
Мы их так и называем "наши", и когда ходим с папой весною или летом гулять, всегда их отыскиваем и смотрим на них. И так приятно, что мы их посадили.
Мы гуляли в Ленинском парке часа полтора. Сидели на скамейках; то в одной части посидим, то в другой. То ходим и смотрим. Еще на грядках левкои, а ведь какая поздняя уже осень.
Нагулялись вволю.
Бранды живут недалеко от парка. К нашему огорчению мы не застали дома отца Бранда.
Гриша Иванов тихонько постучал в дверь. Она была не заперта, и мы сразу же и вошли. Не было дома и нашего Бранда. Нас встретила его мать.
— Гм… — пробормотала она, когда мы сказали, что мы школьники. — А Ваньки-то дома нету.
— А отец его дома? — решительно спросил Иванов.
— Нету… И его нету… А вам зачем, по какому делу?
Мы посмотрели друг на друга и решили не говорить.
— Нам к нему. Мы подождем, можно?
— Ждите, — не очень ласково сказала она.
Мы сели тут же в первой комнате… Мы молчали. Мать Ваньки Бранда варила на печке обед.
Так сидели мы тихо, и она тихо работала. Так прошло некоторое время. Вдруг мать Бранда выглянула в окно и злым голосом закричала:
— Ах, жидовка, опять выбивает веник возле моего белья, Не успела вчера досушить и вот тебе. — Она распахнула дверь на лестницу и закричала.

Из другой двери, на той же лестнице, выскочила маленькая женщина и тоже закричала.
Ну и ссорились они!
У нас, в нашем жакте ссоры редки. Мама даже всегда говорит, что наш жакт самый тихий во всем городе, что всюду женщины страшно ссорятся.
Ну и ссорились они!
Мы только переглядывались.

— Здорово, — бормотал Витя. — Вот бабы!
— Несознательные они, — сердито проговорил Иванов. А Саша так и впился в них своими блестящими глазами.
Брандова мать действительно здорово орет. У нее глотка, как у здорового солдата. Ну и кричит. Она называла соседку — жидовкой (мы посмотрели друг на друга, — так вот откуда такой Бранд), кричала — "чтоб тебя холера задушила".
— Это любимое ругательство у несознательных баб, — проговорил Иванов.
Соседка тоже ругалась и кричала.
— Вы же хулиганы, черносотенка ты. Если бы не твой муж, тебя бы давно выкинули из жакта. Теперь не то время, нечего мне тебя бояться…
Я удивлялся, как не стыдно матери Бранда браниться при нас. Но она не обращала на нас никакого внимания. Вдруг встает Иванов, нас даже не предупредил, и говорит:
— Мы пионеры, и просим вас так не ругаться и не называть жидами…
— Мм… тоже выискался, — сердито буркнула Брандиха, однако, к моему удивлению, вмиг перестала ругаться и замолчала.
Мы сидели и ждали. Нам стало скучно. Вдруг открывается дверь и входит какой-то человек.
Мы подумали, что это и есть отец Бранда. Иванов даже встал, говорить хотел.
Но мы сейчас же поняли, кто этот человек…
— А-а-а… Иван, здравствуй! — сказала Брандиха.
— Здравствуй, — пробурчал брат. Он отхаркался и сплюнул прямо на пол. Потом уселся и стал ворчать и жаловаться.
— Совсем налоги придушили… Чайную закрывать придется… Русский бы человек был фининспектор, не душил бы так, а с жидом что сделаешь… Придушили нас жиды… — Витька услыхал слова Ивана и тихонько прошептал.
— В башку ему дам сейчас за "жидов". — Он сжал кулаки и стал красный и злой, будто заревет сейчас.
— Сиди, сиди… Ну их… — дернул его Иванов. Он сердито посмотрел на Брандиху.
— Еще бы. Жить при их, проклятых, тесно стало…
Она вдруг посмотрела на Иванова или Вить-кино злое лицо увидала, только она сразу замолчала, дернула брата своего за рукав и головой указала в нашу сторону.
— Чего сидят, а? — спросил Иван.
— Из школы. Степана дожидаются чтой-то.
Они замолчали.
— Воды в рот набрала, — шутя сказал топотом Саша.
Чтобы не было скучно ждать, мы тихонько условились, что скажем "тише, дети"…
— Брандиха не знает наверно и съест, — прошептал Саша. После этого Витя, тоже шопотом, проговорил:
Мы замолчали. Я сжал губы и, чтобы не рассмеяться и не сказать чего-нибудь, смотрел в пол.
Ребята жестикулировали и дергали друг друга за куртки. Брандиха стояла к нам спиной, и спиной же сидел Иван, и ребятам страшно хотелось, видно, что-то о них сказать… Но никто не хотел "съесть кошку". Они указывали им в спину пальцами, зажимали рты и улыбались до ушей. Я успел это заметить, когда мельком взглянул на них. Потом я поспешил опять опустить голову вниз, так как молчать было трудно.
В передней громко звякнуло ведро.
— Кто там? — крикнула Брандиха.
— Съела! — прошептали мы все сразу, прыснули и прижали ко рту ладони.
В это время вошел отец Бранда. Он удивленно посмотрел на нас.
— Школьники из школы ванькиной, тебя дожидаются.
Пока Брандиха это говорила и отец-Бранд снимал пальто, мы облегченно вздохнули и громко засмеялись.
Все мы спешили сказать хоть по одному слову — так трудно насильно молчать.
— Что, ребятки, скажете? — спросил он и уселся против нас. Голос у него был спокойный, даже ласковый. Мне показалось странным, что у Бранда такой отец.
Мы переглянулись. Не знали, как начать. А потом заговорили все сразу. Правда, совсем не было порядка в том, как мы говорили. А еще условились по дороге о порядке.
Мы говорили, перебивали друг друга, говорили по-двое, по-трое сразу. Бранд-отец, я успел это заметить, сначала улыбался, смотрел на нас ласковыми глазами, потом стал смотреть в пол, и лицо его сделалось хмурым.
— Он — плохой мальчик, злой и задира, — сказал Саша.
— О нем говорят в отряде, он плохой пионер, — вставил Иванов.
— Ведь при советском правительстве нельзя смеяться над другими нациями, а он у нас мучает одного мальчика еврея, Рейзина, — возмущался Витя.
— Слышала, мать? — сердито спросил он Брандиху. Она только передернула плечами. Пожал плечами и брат ее.
— Ладно, ребята, будет с ним разговор. Жалко, дома его нет. При вас бы высек, даром что знаю — злая штука — порка… А будет… Занят я очень, вот и распустился он совсем, — говорил он, провожая нас до двери.
Мы ушли, уверенные, что все штуки Бранда кончились.
— А отец совсем не такой, как сын, заметили? — спросил Витя, когда мы вышли.
— По-советски смотрит на вещи, — важно заметил Иванов. (Иванов у нас всегда сейчас же решает, по-советски или не по-советски все делается. Недаром он в отряде — лучший пионер.)
— Просто, он увидал, что мы правы. Ведь не для своей пользы мы приходили, — сказал Саша.
— Будет Бранду порка. Пускай не называет жидами, — проговорил Витька. Глаза у него горели, он как будто радовался, что Бранда высекут.
Было уже поздно, солнце не сияло так. Чувствовалось, что уже осень…
Мы разошлись по домам…
25 октября.
Прошла всего неделя, как мы ходили к отцу Бранда, а уже Ванька организовал целую шайку и натравливает ее на Рейзина, на Витю, Шипянского, Зархи и других. У нас в классе пронесся слух, что отец его высек, и он обозлился и решил отомстить ребятам. Даже девчонок втянул он в это дело.
Обычно мы с девчонками не имеем ничего общего. Они на переменках гуляют, обнявшись, по двое-трое. Мы шалим, устраиваем игры. С нами девчонки не играют, да мы их и не взяли бы в свои игры, так как они — бабы, чуть что, сейчас же пищат, визжат и жалуются Марье Петровне. Да и вообще мы терпеть не можем девчонок. Они совсем другие, чем мы. Мы, мальчики, храбрые, мы ничего не боимся, готовы драться с кем угодно, хоть с шестой группой. А они всего боятся. Скользко на улице — боятся, пищат, падают и цепляются друг за дружку; крыса у нас в углу двора пробежала, они такой визг подняли, будто их режут. Толкнешь в шутку кого, потом сам не рад будешь.
Есть у них три-четыре пионерки. Они не такие, как все, и сами могут в зубы мальчишкам дать, но мы не играем и с ними.
По правде сказать, девчонкам здорово от нас достается. Мы их постоянно, будто нечаянно, то за косы дернем, то толкнем. Если мальчик сидит рядом с девчонкой, то нередко толкает ее, так что Лосева опрокинула из-за Петрова чернильницу себе на тетрадку и на платье. Вымазала все и потом плакала.
А мы только смеемся. У нас не считается плохим обижать девчонок. На то они и девчонки, нам не пара.
Бранд тоже терпеть не может девчонок и, пожалуй, больше других цепляет их.
И вдруг смотрим, Бранд самым мирным образом разговаривает с рыжей Падиной. Потом Падина шепталась с Груздевой и с другими девчонками… Мы не понимали в чем дело.
А через день-два все и выяснилось.
На переменках Бранд стал приставать к Вите, Шипянскому и другим евреям, предлагая им бороться.
Витя отвернулся, важно засунул руки в карманы и сказал:
— Я не борюсь с такими негодяями…
— Негодяй, негодяй! — Бранд стал совсем багровый и кричал диким голосом. — Я поколочу тебя сейчас…
Он со всей силой толкнул Витю в грудь, так что тот отлетел на другой конец класса. Тогда Витька сцепился с ним. На помощь Бранду пришли его приятели — Герасимов, Пирогов, Шульц и еще ребята. К Витьке тоже подоспели Зархи, Иванов, Саша и я. В результате у меня синяк на лбу, у Вити ногтем расцарапана вся щека, у Бранда из десен шла кровь…
В конце драки вошла в класс Марья Петровна.
— Разойдитесь, разойдитесь сию минуту! — закричала она гневно. — И конечно, как всегда, Бранд… Ты наша заноза.
Мы все сконфуженнее, встрепанные и красные поплелись на свои места, а Марья Петровна сердито говорила:
— А ты туда же, Виктор, с Брандом связался…
— Пускай он оставит в покое Рейзина, а то не то еще будет! — закричал Саша, а Витя прибавил. — И чтоб не смел дразнить жидами.
— Попробуйте… Неизвестно, кто больше получит! — на весь класс заорал Бранд.
Тогда Марья Петровна сердито что-то проговорила и вышла из класса, а через несколько минут вошел Петрон…
Петрона мы все порядочно боимся, чуть что, он грозит исключением из школы, и вообще он как посмотрит своими маленькими черными глазами сквозь большие очки в роговой оправе, — делается как-то не по себе.
Петрон не кричит на нас, а говорит даже как будто совсем тихо, но от его тихого голоса и пристальных глаз так бы и залез в погреб куда-нибудь. Он меня раз вызывал в канцелярию (это у нас вызывают, когда надо отчитать кого-нибудь), так я вышел оттуда совсем распаренный.
Петрон вошел расстроенный. Ну, и задал он Бранду. Он говорил, что еще одна крупная шалость, и Бранда исключат из школы.
— И вообще, завтра без отца в школу не приходи, — сказал Петрон. — У твоего отца мы узнаем, кто тебя научает твоих товарищей евреев называть жидами и так хулиганить.
Потом Петрон строго сказал Вите, что такому славному парню и хорошему ученику, как он, не следует связываться с Брандом.
— Пускай не лезет, — пробормотал Витя.
Мы все молчали. Вообще при Петроне мы не большие мастера разговаривать.
Пред уходом Петрон сказал об отвратительной привычке, которую неизвестно где усвоили некоторые ученики, о привычке ссориться со своими товарищами из других наций.
— Это печальное явление, — сказал Петрон, — имело место в царской школе. В советской этого быть не должно… Помните это.
Он решительными шагами вышел из класса, а у нас на несколько минут наступило молчание. Потом все мы загудели, стали делиться друг с другом впечатлениями.
Мы думали, что на Бранда подействует взбучка, полученная от Петрона, но оказалось, что ничуть не бывало. Рейзина-то он некоторое время действительно не трогал, но зато сдружился с Падиной и Груздевой, а потом — смотрим — Падина нечаянно опрокинула свою чернильницу на тетрадку своей соседки Ривы, а Груздева порвала платье Иде Малкиной. Девчонки конечно ревели, опять разбиралось дело, вообще буза была страшная.
Нет, право, у нас в школе творится что-то безобразное. Я думаю, что нам вместо того, чтобы возмущаться, следовало бы принять какие-нибудь меры против этой шайки. Ведь такая постоянная буза даже мешает нам заниматься. Это сказала как-то и Мария Петровна:
— Ну, посмотрите, на кого вы похожи — красные, встрепанные, головы заняты всеми этими глупостями. И от всего этого страдает конечно ваше учение.
Надо будет поговорить с Ивановым. Пускай в отряде примутся за Бранда и сделают с ним что-нибудь…
12 ноября.
Уже очень давно я ничего незаписывал. Мешала масса всяких дел. За это время произошло столько событий, что мне придется несколько дней писать о них.
После взбучки, заданной Бранду Петроном, приходил отец Бранда. Он обещал Петрону, что примет против сына строгие меры, и просил его не исключать. Потом он зашел в класс, к Марье Петровне, и просил и ее. У него было такое грустное лицо.
— Что ж, так никуда мой мальчишка и не годится? — спросил он.
— Да нет же. Почему никуда не годится?! Он мальчик не тупой, даже понятливый, и учится не плохо, — сказала Марья Петровна, — но ведет себя ужасно.
Мы столпились в это время около Марьи Петровны и слышали весь разговор.
— Эх… Сына мечтал иметь хорошего, — проговорил он и махнул как-то шапкой.
— А вы за него возьмитесь, — посоветовала Марья Петровна. — Без присмотру он у вас.
— Да, это верно, — сказал Бранд-отец и вздохнул.
Несколько дней Бранд был как будто тише, а потом начал свое прежнее. Дергал и толкал Рейзина, задирал Витьку и передразнивал евреев и татар. Или подзуживал девчонок против евреев.
Иванов мне сказал, что в отряде уже хотели исключить Бранда, но потом решили не исключать его, так как этим мало поможешь делу.
Нужно не отделаться от него, а постараться сделать так, чтобы он исправился.
Тут, среди всех этих каждодневных историй, у нас ввели занятия звеньями, и мы на некоторое время забыли всякую бузу. Даже Бранд затих и стал больше заниматься.
Звеньями мы учимся так: Марья Петровна разделила нас на пятерки — один ученик очень хороший, два средних, и два совсем плохих. Дается нам работа — задание. Ну, например, написать сочинение. Нужно впятером его проработать и написать. Мы заинтересовались, что из этого выйдет.
Пришло ко мне мое звено — Зархи и Шипянский (они — средние ученики) и Лабзин и Малкина (они из самых плохих наших учеников). Ну, сели мы у стола, раскрыли тетрадки.
— Как же мы будем все вместе прорабатывать? — спросил Зархи.
Я сказал первую фразу сочинения.
— Нет, не так, а вот так! — поправил Зархи.
— Пускай так, — говорю я, и мы записали… Лабзин ничего не говорил, просто записал, как мы сказали. Ида Малкина тоже записала. Говорю я вторую фразу.
— Отчего все ты и ты говоришь! — закричал Зархи. — Я тоже хочу сказать… А то вся польза от такой работы будет только тебе.
— Где же все? Я только одну фразу сказал, да и ту ты поправил… Да как хочешь… Говори ты, — сказал я, чтобы не ссориться.
Он сказал фразу, но получалась такая чушь, что я расхохотался. Смеюсь, и вдруг вижу сквозь смех — Лабзин уже пишет. Я стал хохотать еще сильнее.
— Да погоди, погоди, — говорю я Лабзину сквозь смех. — Что же ты, дурак, пишешь? Ведь это никуда не годится.
— А, чорт, — пробормотал Лабзин. — Ну, я зачеркну. — И стал зачеркивать.
А Зархи рассердился ужасно. Он очень самолюбивый и никогда не хочет согласиться, что он сказал неудачно или плохо. Если ему указывают, он начинает спорить и сердиться. Папа говорит, что так поступают глупые люди.
Так было и тут. Он покраснел и стал сердиться.
— Это потому ты находишь плохо, что я первый сказал. Если бы ты так сказал, тебе не было бы это плохо.
— Ну, дурак, подумай, — говорю я спокойно. — Разве так можно сказать?
— А чорт с тобой… Я не хочу быть с тобой в звене! — закричал он. — Я скажу Марье Петровне, пусть она меня в другое звено назначит…
— Как хочешь! — закричал уже и я. — Только всюду будет то же самое. Раз ты скажешь неверно, другой с тобой не согласится.
Он надулся, замолчал и стал собирать свои тетрадки.
— Ну, Зархи, брось дурака валять, — проговорил Шипянский.
— Пошел… Хочешь работай, а я уйду… — сердито пробурчал Зархи, нахлобучил шапку и собрался уходить.
— Да брось, Зархи, как не стыдно, всю работу нам портишь, — воскликнул Лабзин.
— Нечего обижаться! Ты сначала сам поработай, тогда и видно будет, кто прав, кто виноват.
Я попробовал было писать с остальными, но Шипянский как-то раскис, а Лабзин и Малкина ничего не умеют ни сказать, ни изменить сказанное мною. Они сидят, раскрыв рот, ждут, пока я скажу, и записывают.
Мне стало неинтересно и скучно. Я сказал, что не буду так работать, и они все ушли.
Так неудачна была первая работав звене. Когда мы собрались в класс и поговорили, оказалось, что так было у многих. Но потом все устроилось. Марья Петровна объяснила нам, что это у нас так вышло потому, что мы не привыкли. И действительно, через несколько дней мы работали дружней, и даже Лабзин вставлял иногда свое слово. А Зархи успокоился и перестал обижаться и нюнить.
Вообще же работа звеньями порядочно заняла весь класс, так что стали меньше бузить. Бранд уже не мозолил так всем глаза. Он сам был первым в своем звене. После мы увидели, что это было временно.
Третьего ноября выпал первый снег. Обычно у нас, на юге, снег выпадает гораздо позже. Снег выпал глубокий, рыхлый и пушистый. На переменках мы одевались и бегали во двор. Вот тут-то всем доставалось. Мы лепили снежки и бросали в кого попало. Матери некоторые приходили в школу, и им попало. А о ребятах и говорить не приходится. Тут мы позабыли, кто в какой группе, кто кому друг и враг. Лепили почем зря. Больше всего досталось девчонкам. Они визжали, кричали.
Четвертого и пятого ноября снег растаял, а шестого стали заморозки.
Седьмого ноября нас должны были повести в процессиях на торжества.
Накануне нам сказала Марья Петровна, что нас не возьмут, так как мы еще малы. Пойдет в процессиях только вторая ступень.
Мы стали просить Марью Петровну, чтобы взяли и нас. Мы обступили ее тесным кольцом и нежным голосами (и откуда только они у нас взялись!) стали пищать:
— Марья Петровна, Марья Петровна, возьмите нас… Мы будем хорошо себя вести… Марья Петровна, мы не будем шалить, ни драться, ни ссориться… Возьмите… Нам так хочется…
Особенно умильно просили девчонки, гладили Марье Петровне руки и платье. Мы, мальчики, держали себя спокойнее, потому что уже чувствовалось, что она как будто соглашается.
Уж не знаю, что подействовало на Марью Петровну — наши просьбы или то, что мы ее так стиснули, что ей и выбраться нельзя было, но только под конец она сказала, что хотя решили нас не брать, но так и быть — мы пойдем не надолго.
— Но только помните, никаких историй. Соберитесь к девяти в школе и ведите себя хорошо.
— Идем, идем! — раздались голоса.
Ребята радовались и шумели. Тут же на радостях Бранд да и еще кое-кто угостили своих товарищей пинками и толчками, Рейзина Бранд дернул за волосы. Орлов сорвал у какой-то девчонки ленточку. Но теперь никто не обращал на это внимания. Пошумели и разошлись.
Седьмого ноября утром, к девяти, мы пришли в школу. Погода была не плохая. Солнца, правда, не было, но от легкого морозца было весело. На лужах лежал тонкий ледок.
По улицам ходило множество народа, двигались процессии, гремела музыка.
Вскоре пришла Марья Петровна, и мы пошли. Все было очень хорошо. Но ведь этот Бранд должен испортить всем удовольствие.
Когда мы выходили со двора, он нагнулся, сгреб с замерзшей лужи ледок, сжал в руке полную горсть его и быстро засунул Рейзину за воротник.
— Что ты делаешь, Бранд? — зашипел Саша, увидав эту проделку. После, когда он рассказал мне, что сделал Бранд, он добавил, что боялся кричать об этом громко, так как Марья Петровна услышала бы и отправила бы нас по домам.
Я стоял в паре с Сашей, услышал его шопот и посмотрел на Рейзина. Он был весь синий и дрожал. В глазах его стояли слезы. Потом оказалось, что он тоже боялся кричать, боялся, чтобы не услышала Марья Петровна. Уж очень всем хотелось пойти на торжества.
Хаим оттолкнул Бранда и своей слабой рукой ударил его по руке.
Бранд, конечно, так этого не оставил. Он тоже толкнул и ударил Хаима.
Потом мы пошли.
Хаим и Зархи шли через пару впереди нас, и я все время вытягивал голову и смотрел на Рейзина. Ему было, видно, очень неприятно, так как он все время ежился и жался. Я подумал, как, должно быть, нехорошо ему стало, когда ледок растаял и вода холодными струйками потекла по его спине.
Мы шли по всем главным улицам. Было очень интересно и весело. Из деревень понаехало множество крестьянских подвод. Несмотря на позднюю осень, они были украшены снопами, а крестьяне разодеты в праздничные костюмы. На автомобилях ехали всякие маски: Чемберлен и разные генералы и буржуи. Музыка гремела не переставая.
Мы дошли до небольшой площади и остановились на углу. Отсюда было хорошо все видно. Ребята становились на цыпочки, тянулись кверху, толкали друг друга, чтобы лучше увидеть. Все раскраснелись, развеселились. Когда все кричали "ура", мы тоже орали громкими голосами "ура".
Некоторые из ребят снимали шапки и бросали кверху.
— Ура! — орали мы, — ура!
— Наденьте шапки и не смейте их снимать: простудитесь, — сказала Марья Петровна.
Я стоял в передних рядах, потому что я небольшого роста. При этих же словах я обернулся и посмотрел на ребят. И тут мне опять бросился в глаза Хаим Рейзин.
Его губы стали синие-синие и как-то прыгали. Он все засовывал руки в рукава своего пальто и ежился. Видно, ему было очень холодно. Когда мы посмотрели друг на друга, он печально улыбнулся, а мне стало вдруг жалко его. Я даже подумал, что надо сказать Марье Петровне, чтобы она посмотрела на Рейзина, но в это время проезжали ребята из детдома на трех автомобилях, потом опять маски, я засмотрелся и забыл.
Мы были на параде не очень долго.
— Вы замерзнете, пойдем домой, — сказала Марья Петровна.
— Марья Петровна, еще, еще немножко, — стали просить мы. Но она не согласилась, и мы пошли домой.
На другой день Рейзин не пришел в школу. А еще через два дня мы узнали, что он заболел воспалением легких.
Простудился еще кое-кто из ребят, но не серьезно.
Оказывается, — это рассказал Зархи со слов матери Хаима, — он в то утро уже чувствовал себя нездоровым. Мать уговаривала его остаться дома, но он во что бы то ни стало хотел пойти. Зархи говорит, что когда Хаим рассказал доктору историю со льдом, доктор был очень возмущен и сказал, что болезнь не была бы так серьезна, если бы не этот несчастный случай.
Вчера мать Рейзина приходила к Петрону. Она маленькая, худенькая, и, так же как и Рейзин, вся покрыта веснушками.
Кто-то из ребят говорил, что у Петрона она плакала.
После ее ухода Петрон влетел к нам в класс страшно злой.
— Бранд! — закричал он еще с порога: — сию минуту собирай свои книжки и убирайся домой. Твои выходки перешли все возможное. Что сделал ты с Рейзиным?
Бранд встал и пробормотал:
— Я ничего не делал. — На Петрона он при этом не смотрел.
Мы все обернулись и смотрели на Бранда.
— Как не делал?! — закричал Петрон. Обычно он говорит тихо, даже когда сердится. Но на этот раз он кричал.

— Кто стоял возле Рейзина? — спросил он у Марьи Петровны.
Марья Петровна указала на Сашу, меня и еще кого то из ребят.
— Чевич, видел ты, как Бранд сыпал Рейзину лед за воротник? — строго спросил Петрон у Саши.
Саша поднялся; он был бледный, глаза у него горели. У меня захватило дыхание от волнения. — Что скажет Саша? Ведь у нас нельзя выдавать. Но ведь Бранд такой негодяй.
Саша все стоял и молчал. Я только мельком взглянул на него и опустил голову. Саша стал желтый, как воск. Мне страшно было смотреть на него. И потом я подумал, что сейчас вслед за ним спросят и меня.
Прошла, может, одна минута, а мне казалось, что уже много времени прошло. В классе стояла тишина, как будто он был пустой. И вдруг Саша тихим, каким-то особенным голосом, проговорил:
— Видел…
В классе как будто пчелы загудели. Потом опять стало тихо. Я мельком взглянул на Сашу. Он покраснел и сел на свое место.
— Так, — проговорил Петрон. — Уходи, Бранд. О тебе будет разговор на совете. Пусть придет твой отец, а ты не приходи.
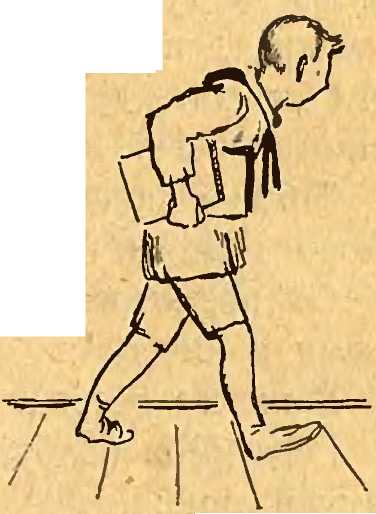
Бранд медленно собирал книжки. Потом встал и, ни на кого не глядя, вышел из класса. Вслед за ним вышел и Петрон.
Марья Петровна начала урок, но учились мы очень плохо.
Только прозвенел звонок, в классе у нас началось что-то невообразимое.
— Ябеда, доносчик, ябеда! — орали приятели Бранда, Пирогов и Герасимов, — доносчик! Исключить его из нашей группы! — кричали они дикими голосами.
В это время в класс вбежал Шульц.
— Ребята! — закричал Шульц. — Чевичу объявить бойкот. Бойкот! Никто из нас не будет с ним здороваться и разговаривать. Я думаю, что все, даже кто не любит Бранда, согласятся с тем, что доносчик не может быть нашим товарищем! — громким голосом кричал Шульц. Я заметил в это время, что многие из ребят, даже не любивших Бранда, были против Саши. Они не кричали, но стояли группами в два-три человека и возмущенно о чем-то говорили. Они были красны и поворачивались к Саше спинами.
А Саша стоял, белый, как бумага, глаза у него горели, будто кто-то держал там два зажженных фонарика, и вызывающе смотрел на ребят. Голова его была откинута назад… Мне он показался в ту минуту героем. Я обернулся и посмотрел, не подойдет-ли кто-нибудь к Саше, чтобы стать на его сторону, но ребята все были против него.
Тогда я подошел к Саше, тронул его за локоть и сказал: — Плюнь, Саша, пойдем в коридор.
Он посмотрел на меня своими горящими глазами и ничего не сказал.
В классе все еще стоял дикий гул. Пирогов и Герасимов подошли близко к Сашей кричали ему в лицо:
— Доносчик, предатель! Товарища своего выдал. Сволочь, мы тебе бойкот объявляем.
Я думал, что Саша заплачет, и у самого у меня в носу щипало. Но Саша и не думал плакать. Он не спускал глаз с ребят… Тогда я бросился к Герасимову и закричал:
— Пошел вон… Вы дураки…
В это время на пороге показался Иванов.
— Гриша, Гриша, — закричал я — где ты был?
— Да в чем дело? — спросил он спокойно.
Он минутку как будто вглядывался во все своими смеющимися глазами, потом стал у стола Марьи Петровны и громко стукнул ладонью по столу.
Все обернулись в его сторону и затихли.
— Вы идиоты! — сказал он громко.
Ребята зашумели опять…
Но недаром Иванов был помощником вожатого в их отряде. Он умел как-то так сделать, чтобы ребята его слушали.
— Каких-то два идиота предлагают объявить Чевичу бойкот, называют его доносчиком, и вы уже все повернули к нему спины, — продолжал Иванов. — Ну не идиоты ли вы?! Вы даже не разобрали, что сделал Чевич, хорошо или плохо.
— Но он наябедничал! — раздался голос.
— Он выдал Бранда! — крикнул кто-то еще.
— Бранд негодяй, это вы все знаете. Бранд преследует Рейзина. С тех пор, как Бранд поступил, наша группа стала самой скандальной во всей школе. Вообще, я предлагаю завтра после школы остаться и обсудить — прав или неправ Чевич.
— Обсудить! — Правильно! — Надо обсудить! — раздались голоса.
Видно было, что многие уже склоняются на сторону Саши.
Когда расходились, шумели и горячо говорили о том, что случилось.
Я подождал Сашу, и пошел с ним.
— Мне наплевать, если они мне бойкот объявят, — сказал Саша дрожащим голосом, — но они в самом деле идиоты. Надо же понимать. Ведь если скрыть эту историю, Бранд и совсем изведет Рейзина. Если бы дело шло не о Бранде, я не сказал бы никогда.
Когда мы прощались, Саша сказал:
— А впрочем, я не знаю, может и я плохо поступил. Сам не разберу.
Я успел уже отойти довольно далеко, когда услышал голос Саши:
— Леня, Леня!
Он догонял меня. Я повернулся и пошел ему навстречу.
— А как ты думаешь? — спросил он, не глядя на меня.
— Я… я… Бранд ведь негодяй, — пробормотал я… — Помоему ты хорошо поступил, Саша.
Саша посмотрел на меня, усмехнулся и пошел обратно.
— Ладно, — сказал он.
Я пошел домой, и мне было досадно, что я не сказал Саше сразу, что он поступил хорошо, а стал как-то мямлить. Он мог подумать, что я хитрю.
У нас в классе страшная буза. История с Рейзиным так всех взволновала, что мы только приходим теперь в школу, так собираемся кучками и все об этом говорим.
Иванов предложил подать заявление в отряд.
— Что с ним еще церемониться? — сказал он. — И отцу жаловались, и из школы чуть его не выкинули. Останемся на пятый урок и напишем заявление.
Мы согласились. Мы все страшно злы на Бранда. Что там с ним еще делать. Пусть разберет отряд.
Во время переменок мы рассказали о нашем плане ребятам. Приятели Бранда сейчас же отшились в отдельную группу. Отшились и некоторые девчонки. Но многие согласились подписаться под заявлением.
Витя написал такое заявление:
"Мы, группа ребят (большинство), просим отряд вмешаться и разобрать хулиганские поступки одного нашего парня — Бранда. Хулиганство его такое: он преследует ребят из других наций, больше всего евреев. Одному — Рейзину насыпал за воротник лед, и Рейзин очень болен, мог умереть. Это все — гадость. Просим отряд принять меры".
Мы стали бегать по классу и предлагать ребятам подписаться под заявлением. И порядочно подписалось.
Два дня назад был у нас настоящий суд над Сашей. Я пришел в тот день в школу очень рано, так так мне хотелось поговорить с Сашей. Я почему-то подумал, что он придет рано.
И действительно, как пришел в класс, я увидел его… Он стоял за доской: грудью он оперся о подоконник и близко прислонил лицо к стеклу. Я подумал, что он плачет, но он не плакал. На мои шаги он не оглянулся. Я подошел к нему.
— Саша, почему ты тут стоишь? — спросил я и тронул его рукой.
Он встал с подоконника и посмотрел на меня.
У него был какой-то странный вид.
— Ты больной? — вскричал я.
— Нет, я не болен. Послушай, — заговорил он быстро, — я просто все об этом думаю. Я хотел поступить очень, очень честно. А вышло вот что. Помоему, нельзя выдавать шалость. А это совсем другое… Мы скрыли бы Бранда, и как будто выдали бы Рейзина. То-есть не выдали, — Саша сильно волновался и каждую минуту облизывал губы, — а я знаю — после этого Бранд его совсем бы извел. — Он замолчал, потом посмотрел мне прямо в глаза и спросил — Леня, а ты сказал бы, если бы Петрон спросил тебя?
Я смешался на минутку, так как я немножко думал об этом, но до конца не додумал, вернее я решил, что не знаю, как бы поступил.
Я не мог смотреть на Сашу.
— Я… я… — стал бормотать я, — я, может, не смог бы сказать… Мне тогда показалось, что ты как герой… Ведь ты же знал, как у нас на это смотрят.
— Да, я знал… И я сам боялся, что скажу — не видел… Я изнутри пребольно укусил себе губу… И все заставлял себя, заставлял…
— Ну, ты на это плюнь. Мы тебя все защищать будем, — сказал я.
— Да ребята ведь почти все против меня. Я ведь видел, — сказал Саша и усмехнулся.
В это время в класс стали входить ребята. Мы замолчали.
Среди ребят весь этот день был шум и суета. Говорили, перебегали от одной группы к другой. С ними Саша не разговаривал, хотел показать, что ему наплевать. Но я знал уже, что ему очень неприятно и он даже боится, что его осудят.
Учились мы в этот день плохо. В перемену мы рассказали Марье Петровне, что будет суд.
— А я могу быть? — спросила она и даже не улыбнулась. Обычно взрослые улыбаются так неприятно, если ребята затевают что-нибудь похожее на то, как бывает у них… А она ни капельки.
Мы посмотрели друг на друга и сказали:
— Да, можно, пожалуй.
После уроков мы все остались. Осталась и Марья Петровна.
Для того чтобы не говорили все сразу и не шумели, мы решили, что будут говорить двое за Сашу и двое против. А потом будем голосовать.
Такой порядок предложила Марья Петровна, и мы согласились.
Против Саши говорили Герасимов и Шульц.

Они кричали, что Саша поступил отвратительно, как доносчик, и что в наказание ему надо объявить бойкот, и не разговаривать с ним и не здороваться до тех пор, пока он пред Брандом не извинится.
— Не извинюсь ни за что, — прошептал мне тихонько Саша. — Хоть из школы уйду.
После Герасимова говорил Витя.
Витя вылез красный. По дороге Пирогов подставил ему ногу, так что он чуть не упал.
Он стал у стола Марьи Петровны, засунул руки в карманы и… молчал.
— Ну, говори. — сказала Марья Петровна.
Он смущался, потеребил свои волосы, одернул куртку.
— Ребята! — крикнул он звонко (у него очень громкий голос, его даже за это всегда выбирают у нас делать доклады и читать вслух) — Чевич не виноват!
— Решил! — крикнул Пирогов. В классе раздался смех.
— Вы… вы… ребята, будете глупые, если будете там осуждение Чевичу выносить… Он… он…. он честно хотел поступить… Я это знаю. (Это я успел Вите сказать.)
Он опять замолчал.
Кто-то засмеялся, кто-то крикнул:
— Ну, жарь, чего остыл… — Шульц заорал:
— Эге, сплоховал!
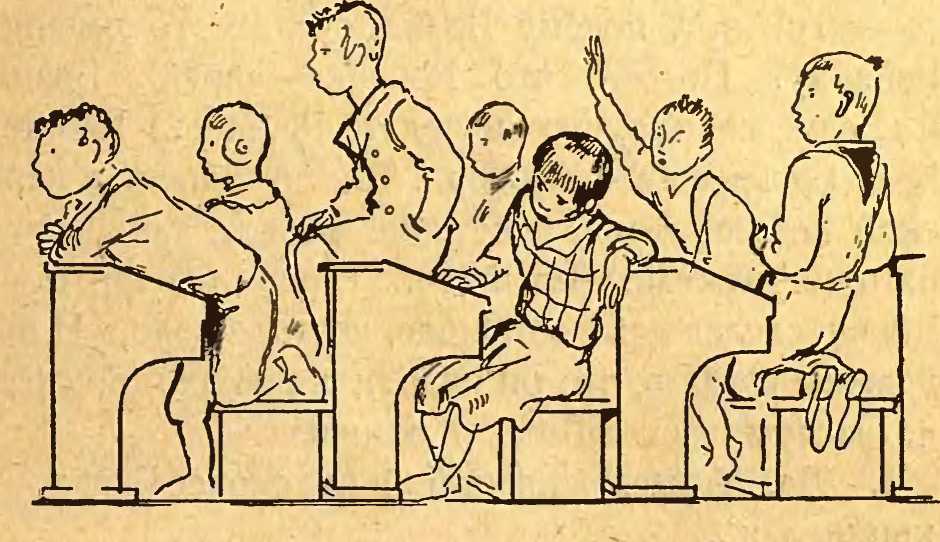
— Я не сплоховал… Вот что… Бранд самый у нас плохой… Когда его не было, у нас не было таких историй… Да… И вы не придирайтесь к случаю…
После Вити говорил Иванов.
— Вы должны решить, ребята, прав или виноват Чевич, — заговорил Иванов. — Конечно, у нас такое правило, что выдавать нельзя. Это правило было и в старой школе… Не в этом дело. А то важно, что Чевич выступил на защиту того, кто слабее. Вы знаете, что Рейзин заболел очень опасно, он даже может умереть. И это сделал именно Бранд.
Иванов остановился, перевел дух, помолчал немножко.
— Постойте, я еще не кончил, — начал он опять, хотя никто и не думал его прерывать. Наоборот, ребята слушали очень внимательно.
— Так вот, почему Бранд сделал это именно Рейзину? Потому что Рейзин — еврей… Бранд мне сам говорил, что "изведет" Рейзина… Ребята! Ведь Бранд еще и пионер… Так поступали в царской школе, а мы, советские ребята, так поступать не должны… Вот и все… Теперь посудите, — Чевич сделал даже хорошее, честное дело… И вы должны сказать, что он прав и никаких бойкотов не заслуживает… Вот… Я кончил…
— Да… А заслуживает бойкота скорее Бранд, — крикнул я…
— Браво, Иванов!
— Оратор!
— Защитник! — закричали ребята с мест.
— Мажет, знаем! Он за Чевича! Приятели! — закричал Герасимов с места…
— И вы приятели Бранда! — крикнул кто-то.
— Тише, тише! — кричала Марья Петровна. — В соседних классах урок… Тише…
Шум поднялся отчаянный. Говорили и кричали все сразу. Марья Петровна кричала — "тише, тише", но никто ее не слушал.
— Бойкот, бойкот! — кричал Шульц.
— Самим вам бойкот! — орал Зархи.
— Ребята, Чевич прав… Молодец он…
— Не всякий бы решился так поступить!
В это время открылась дверь, и вошла какая-то девчонка из 3-й группы.
— Ольга Ивановна просила, чтобы вы так не шумели, мы не можем заниматься, — тихим голосом, вся красная, проговорила она.
Мы сразу затихли.
— Ладно, проваливай, — крикнул кто-то.
— Вот видите, — упрекнула нас Марья Петровна, — во всей школе будут о нас говорить.
В классе стало совсем тихо.
Вдруг встает одна девчонка, Гринева ее фамилия, и говорит:
— Марья Петровна, можно мне сказать от девочек?
Опять раздались смех и замечания:
— Вылезла!
— Девчонки решили себя показать.
— Второй оратор!
Ребята у нас без этого не могут.
Гринева вышла и смело проговорила:
— Мы, почти все девочки, за Чевича… Потому что он поступил хорошо.
Она стала красная и побежала на место.
Я уж и не слышал, что кричали ребята. Марья Петровна предложила голосовать.
— Кто за то, что Чевич не заслуживает осужденья, поднимите руку.
Почти весь класс, за исключением небольшой группы самых близких приятелей Бранда и двухтрех девчонок, поднял руку.
— Зархи, двух не поднимай!
— Марья Петровна, Костин обе руки поднял!
Марья Петровна посчитала тех и других — Сашу оправдали.
Я был очень рад. Да, видно, был рад и он. Его глаза опять заблестели, и с лица его исчезло то странное выражение, какое было на нем утром.
Мы стали уже вставать, когда Марья Петровна спросила, не хотим ли мы выслушать ее мнение.
— Хотим, хотим, — закричали мы.
И Марья Петровна сказала, что, конечно, Чевич поступил благородно, тем более, что он знал, как на это смотрят, и не побоялся осуждения своих товарищей.
Все разошлись, громко говоря о происшедшем.
Мы с Сашей шли домой молча.
— А они порядочные идиоты — эта брандовская компания, — проговорил Саша. — Ну, прощай…
20 ноября.
Уже давно не ходит Бранд в школу. За это время мы три раза видели отца Бранда. Он приходил к Петрону просить его. Марья Петровна рассказала нам об этом и прибавила:
— Ну, как же вы думаете — надо исключить Бранда или оставить?
Мы все стали громко высказывать свое мнение. Одни говорили — исключить, другие кричали, что все шалят, и Бранда жалко и не надо исключать. Вчера о нем говорили на совете.
Его решено послать на испытание — узнать, не дефективный ли он мальчик.
Марья Петровна рассказала нам, что это значит. Врач определит, здоров ли он умственно. Потому что, если он нездоров, то он не виноват в своих шалостях, и его надо лечить.
Мы с нетерпением ждали, что скажет доктор.
Ребята уже все забыли историю с Сашей и отлично с ним разговаривают.
22 ноября.
Доктор нашел, что Бранд совершенно здоров. Все происходит от страшной его распущенности. Опять приходил отец его и просил Петра Ивановича. Он обещает, что сын его больше не будет трогать Рейзина. Однако еще неизвестно, оставят ли его.
25 ноября.
Вчера Витя, я, Иванов и Саша ходили навещать Рейзина, Рейзин живет на самой окраине города, в татарской слободке. У нас в городе много татар, но они учатся в отдельных школах. Школы от них близко, но ни евреев, ни русских туда не принимают и все ученье ведется на татарском языке. Поэтому Рейзин и ходит в школу так далеко в центр города.

Нас встретили на пороге кухни отец и мать Хаима. Отец его высокий и худой — будто скелет один. На нем поверх рубашки надет жилет.
— Вы пришли навестить Хаимку? — радостно проговорил он. — Что же, пожалуйте, молодые люди, пожалуйте. Хаимка совсем не заразный. Ой, он же будет так рад. Рива, скажи там Хаимке, — молодые люди, его товарищи, пришли его навестить, — сказал он матери Хаима.
Пока мы раздевались в кухне и стояли немного, чтобы не входить к Хаиму сразу, с холода, мы слышали, как мать что-то шептала Хаиму.
На пороге, между кухней и комнатой, появилось двое маленьких ребят — мальчик и девочка. У них были большие глаза и смотрели они на нас, как на диковинное что-то. Девочка сосала палец.
Витя нарочно высунул ей язык и она сейчас же убежала.
— Ну, входите, молодые люди, входите, — засуетился отец Хаима и стал отодвигать с дороги стулья, чтобы пропустить нас в комнату.
— Какие славные дети, здоровенькие, просто смотреть на них прелесть, — сказала жена.
Я сейчас же понял, что родители Хаима плохо говорят по-русски.
Мы вошли к Хаиму. Он лежал на широкой, нечистой какой-то кровати. Тут же в комнатке шьет его отец. Стоит машина, валяется работа! По полу всюду разбросаны клочки материи, ваты, нитки.
Брат и сестра Хаима стояли у стола и смотрели на нас. Они оба такие же, как Хаим, в веснушках и на голове мелкие кудряшки, только глаза у них большие.
В кухне горит небольшая чугунная печка, и там жарко, как в бане, а в комнате даже прохладно.
— Вы пришли? — слабо пробормотал Хаим.
Мы все стали у кровати Хаима.
— Ну, здравствуй, — проговорил Витя и Иванов, я и Саша молчали.
— Здрасте, — тихим голосом отвечал Хаим.
Я разговаривал с ним мало. Я больше люблю слушать и смотреть.
Пока ребята разговаривали с Хаимом, я еще раз оглядел жилище Рейзиных. Все оно бедное, бедное. На стенах — зеленые пятна, и воздух очень спертый. На гвоздике, возле швейной машины, на которой шьет отец Хаима, висит керосиновая лампа. Хаим как-то говорил, что у них лампа называется "молния". "Это, верно, она и есть", — подумал я…
Под лампой, прямо на столе, сидел отец Хаима и шил что-то темное. Он низко склонился над работой. Когда я все рассмотрел, я опять повернулся к ребятам и стал слушать.
— Когда в школу придешь? — спросил Витя. ("Вот дурак, мелькнуло у меня, — видит, что больной, и спрашивает, когда в школу придет".) Но это он просто так — чтобы сказать что-нибудь.
— Не знаю, я еще больной.
Все помолчали.
— Да, ты знаешь, Бранда кажется исключают. Его отец ходит теперь каждый день и просит Петрона, — горячо сказал Витя.
— Да, да, — подтвердил Иванов.
Хаим слабо так, как больной, улыбнулся.
В это время отец Хаима оставил работу и подошел к нам.
— Скажите мне, пожалуйста, молодые люди, — спросил он, — что за ребенок этот Бранд? И чего он хочет от нашего Хаимки? Хаимка, слава богу, не хулиган, тихий себе мальчик, никого не трогает… Ведь теперь же не царское время.
— Ого, хорош ребенок! — закричал Иванов, и мы все громко рассмеялись… — Хорош ребенок, Бранд.
— Он здоровый хулиган, а не ребенок, — сказал Витя.
— А… Где это вы видели, чтобы так мучили мальчика, — возмущенно говорил Рейзин отец, — ведь он же каждый день через него плачет…
— Папа, — тихонько сказал Хаим.
— А… Ничего, ничего… Твоя честь не очень пострадает от того, что молодые люди узнают, что ты плачешь, — с улыбкой говорил отец. — Живой человек — так он плачет, когда его обижают. Не так ли, молодые люди?! — Когда он говорил это, он улыбался и смотрел на нас.
Нам было неловко, что он нас так часто называет "молодые люди". Я видел, что ребята смущаются, и мне тоже было странно.
Мы совсем замолчали.
— Ну, ну, я не буду вам мешать; поговорите себе по душам, — проговорил Рейзин и опять отошел к своему столу. — Идем, Рива, — сказал он.
Мы в самом деле стеснялись.
Мы принесли Хаиму подарок — лист переводных картинок. Мы сложились по дороге по две копейки каждый и купили. Саша сказал, что этим мы очень Хаима обрадуем, что он увидит, что мы — его друзья. Теперь мы стыдились отдать. Наконец, когда родители его отошли, Витя толкнул Сашу.
— Ну, Сашка…
Саша вытащил из кармана штанов лист картинок (он немного смялся) и протянул Хаиму.
— Это от нас всех… Мы все тебе подарок сделали, — заговорили мы все сразу.
— Чтоб тебе скучно не было, — сказал Иванов.
В глазах Хаима появилось радостное выражение… Он взял картинку и прижимал ее к себе. Я заметил при этом, что у него худые, худые руки и пальцы, как палочки.
— Что же ты не скажешь мальчикам спасибо, Хаимка? — закричала из кухни мать.
— Спасибо… — Он опять улыбнулся.
Он был, видно, страшно рад нашему приходу. У него, в маленьких его глазках, засветились огоньки, и он все время улыбался. Но не мог же он от радости прыгнуть нам на шею.
Мы постояли и посидели около Хаима еще немного, рассказали ему о школе и пошли домой.
— Так если этот Бранд не перестанет Хаимку преследовать, мы должны будем забрать его из школы… Нельзя же так мучить дите.
— Хаим, ты дите — не стерпел Витя — лежи смирно…
Я засмеялся, а Иванов дернул нас обоих за куртки.
— Ничего, ничего, у нас он — дите… А вы у вашей мамы — тоже дите, — засмеялся Рейзин.
Мы стали уходить.
— Приходи, выздоравливай! — кричали мы уже с порога.
— Спасибо, спасибо, — оба сразу говорили отец и мать Рейзина.
Мы вышли очень довольные.
По дороге делились впечатлениями.
— А смешной отец Рейзина, — сказал Витя, — все "молодые люди, молодые люди". — Мы рассмеялись.
— А бедно у них, — заметил Саша. — И Хаим какой худющий стал…
— А картинкам как обрадовался.
Мы расстались.
1 декабря.
Только сегодня пришел опять в школу Бранд. Его не исключили. Нам сказала Марья Петровна, что на совете решили дать ему время исправиться и что не хорошо так сразу исключить, что мальчишка совсем пропадет. И потом пожалели его отца, — он хороший человек и рабочий.
Ну, что же, не исключили, так не исключили. Что нам, жалко, что ли? Пускай учится.
Однако все это время было заметно, что нет Бранда. У нас стало гораздо тише. Правда, мы порядочно балуемся. Но в общем, за исключением двух-трех, у нас славные ребята.
Хаим все еще не приходит. Мы ходили к нему опять, ему уже лучше, но он говорит, что боится ходить в школу, если будет Бранд. Но, может, Бранд и исправится. Его отец ведь обещал следить за ним.
Наше заявление в отряде будут скоро разбирать и нас тогда, сказали, позовут в отряд. А вчера в нашей стенгазете появилась заметка:
"У нас в четвертой группе завелся любопытный тип — некто Б.: он воображает, что живет в царское время. Преследует ребят из других наций, хулиганит. Придется ему напомнить, что теперь власть советская.
Наблюдающий".
Мы сразу догадались, что речь идет о Бранде. Написал эту заметку Иванов. Бранд теперь страшно злится. На переменке кто-то сказал ему:
— Иди, там тебя уже в стенгазете продернули… Бранд сейчас же побежал. Я пошел за ним, чтобы посмотреть, что будет.
— Вот сорву газету, — крикнул Бранд и сделал вид, что в самом деле хочет сорвать газету. Но сделать он этого не посмел. Позлился, позлился и отшился куда-то.
Ребята говорили об этом. Как неприятно в самом деле попасть в стенгазету. За хорошее туда не втиснут.
3 декабря.
Звеновая работа у нас совсем наладилась. Мы занимаемся пятерками, и никто почти не ссорится. Марья Петровна говорит, что мы сами не замечаем, как в нас вырабатывается хорошая привычка работать коллективом, и потом наши худшие ученики, работая вместе с хорошими, исправляются. Наверно это так и есть, потому что Лабзин, который в нашем звене, уже не пишет, как дурак, что попало, а интересуется, переспрашивает и иногда говорит, как он хочет. Значит, и правда — так хорошо.
5 декабря.
У нас вечная буза со всякими выборами и перевыборами. У нас ведь самоуправление, то есть мы сами должны следить за работой ребят и порядком в классе. В прошлом году весь наш класс разделялся на три секции, нынче ввели новое. Весь класс, кроме учебных звеньев-пятерок, разделяется еще на звенья-шестерки. Это для управления. Звеновые всех шестерок со всех групп соединяются в учком. Учком собирается раз в месяц и обсуждает всякие школьные дела. Вообще у нас все это очень сложно. Когда я рассказываю маме о нашем управлении, она смеется и говорит:
— Ох, — не рассказывай… Я все равно ничего не понимаю.
— Ну чего тут не понять — звенья и звенья и учком, — сержусь я.
— А почему же звенья и звенья? — переспрашивает мама.
— Ах, мама, ну как ты не понимаешь? — все больше возмущаюсь я и начинаю объяснять сначала: — Разделились на звенья, потом еще на звенья для управления. Для занятий и для управления.
— Довольно, довольно, — кричит мама. — Понимай уж все ты сам… Я не пойму этого никогда.
— Вот вы, все женщины, ничего понять не хотите, — уже совсем злой, кричу я…
Мама смеется.
— Оставь ее, Ленька, — говорит отец. — Пускай с горшками возится.
Так вот у нас в звеньях тоже целая буза.
Как-то выбрали звеновым шестерки Витю. Он — хороший ученик, но страшный мазила и вообще Марья Петровна говорит, что он — безалаберный: например начнет что-нибудь — не кончит, или горячится, где не надо. Или в серьезную минуту вдруг зашалит и захохочет. На последнем учкоме он все время смеялся и разговаривал со своим соседом, и вчера Марья Петровна сказала ему, что он не может быть звеновым.
Витька заплакал.
— Ну, хватит реветь, тоже. Не стыдно. А еще пионер! — крикнул Иванов.
— Не плачь, Витя, — уговаривал его Саша. Но он все не унимался и ушел из школы с красными глазами и красным носом.
Ну, еще бы, конечно неприятно слушать такие вещи. Но и вести себя уж так хорошо тоже не легко.
10 декабря.
У меня опять неприятность с мамой. Даже папа вмешался в это дело. Вдруг мне захотелось иметь деньги. У некоторых наших мальчиков есть монета — 20, 30 и даже 50 копеек. А у одного так целый рубль. Мама мне дает иногда на завтрак 5 коп. Я решил, что не буду покупать булку, а деньги буду копить. На третьей перемене, когда у нас все завтракают, у меня живот сводило от голода. Так хотелось купить булку, так хотелось, но я удержался и не купил. Домой пришел злой-злой. Когда поел, стал сразу добрее.
И так три дня подряд. На переменке ничего не ем, а как приду домой, швыряю книги и с мамой воюю.
Мама мне сказала:
— Не говори таким раздраженным тоном. Садись скорее есть.
— Сяду, — буркнул я.
Вообще, пока не поем, все мне не так Потом поем и одумаюсь — почему я злой. Вчера мама меня порасспросила, я не мог скрыть и сказал. Потом я ругал себя, что не соврал, но соврать я не умею. Мама услышала о деньгах и рассмеялась и рассердилась одновременно.
— Так вот в чем дело! — вскричала она. — Вот почему ты такой злющий приходишь из школы. Ты голоден, а когда человек голоден, он никогда не бывает добр. И зачем тебе деньги? — вскричала она с негодованием. — Какие-то глупые мальчишки придумали копить деньги, ты из-за этого голодаешь.
— Они не глупые, — говорю я.
— Ну скажи, скажи, зачем тебе деньги? — решительно подступила ко мне мама.
— Ну, так… Многие мальчики копят…
— Да зачем, скажи? Что будешь ты с ними делать?
— Куплю что-нибудь.
— Ты глупый, — рассердилась мама. — А я скажу об этом отцу.
Она все рассказала папе. Он рассмеялся, добрым таким голосом сказал:
— Вот дурак — и позвал меня — иди-ка сюда, в работу тебя.
Он с полчаса мучил меня, все доказывал, что глупо отказывать себе в завтраке, голодать, быть злым, — все для того, чтобы впоследствии что-нибудь опять-таки купить. Уж лучше спокойно тратить эти деньги на завтрак и забыть о сбережениях.
Я с ним вмиг во всем согласился, но согласился про себя, внутри.
Вслух же сказал:
— А я все-таки буду копить.
Бывает так, — знаешь, что отец или мать решают правильно и согласен с ними, а вот что-то мешает согласиться вслух, признать свою ошибку. Мне потом, после, когда я уже сознаюсь маме, бывает стыдно, а в тот момент ни за что не соглашусь. Будто крючками внутри зацепило и не дает сказать. Так и теперь было.
Они оба меня уговаривали, а я все твердил:
— А я буду, я так хочу.
Тогда папа строго сказал:
— После, когда ты согласишься, тебе будет стыдно. Я думал, что ты умнее и не так упрям.
Я ушел спать. Раздевался медленно, все хотел пойти сказать. Но не сознался, что неправ.
Сегодня, на зло будто, опять не купил булку, и опять пришел домой злой. Мама ничего не сказала.
Сегодня купил булку. Пришел домой тихий. Так бы и сказал маме, что неправ, а все что-то мешает. Это ужасно странная и плохая черта в человеке — хочешь сознаться и не можешь. Мама меня ни о чем не спросила.
А правда, на чорта я буду копить деньги?! Копят другие, ну и делают глупость. Гораздо лучше быть сытым.
15 декабря.
Уже скоро нас отпустят на зимние каникулы, и вдруг у нас опять новичок. Фамилия его Гонский. Мальчишки тут же прозвали его "Конский" — и стали дразнить "хвост и грива", — "Конский — хвост и грива"…
Он оказался совсем не застенчивым, дал сразу тумака одному-другому и, смеясь, кричал:
— Проваливайте, влеплю в зубы…
Марья Петровна посадила его на предпоследней скамейке, так как все места в классе заняты, а там случайно было свободно. А на последней сидит Бранд.
На второй день я случайно обернулся во время урока, смотрю, Гонский что-то высовывает из-под парты и показывает Бранду, а Бранд перегнулся через свою парту и тянется изо всех сил, вот-вот выскочит.
Я заинтересовался и стал смотреть.
Заметил Саша, что я куда-то гляжу, тоже обернулся. Потом еще кто-то из ребят. Так всегда бывает, отвлечется один, а за ним и ближайшие соседи перестают слушать.
Мы так тянулись, тянулись головами к Гонскому,вдруг Марья Петровна заметила это и громко сказала:

— Новичок, что там у тебя? Спрячь и не мути класс.
Гонский быстро засунул таинственный предмет в парту, и мы все обернулись к Марье Петровне и стали слушать.
— Что бы у него могло быть, как ты думаешь? — написал я на краю тетрадки и осторожно, будто нечаянно, подвинул ее к Саше, а сам толкнул его локтем, чтобы он заметил тетрадку.
Он прочитал, улыбнулся, минутку поглядывал на Марью Петровну, не замечает ли она нашей переписки, и написал:
— Понятия не имею… Но, вероятно, ничего особенного… На переменке узнаем.
Я всегда сижу на уроках хорошо и слушаю внимательно, но на этот раз нет-нет, а что-то словно потянет меня посмотреть назад.
Один раз я обернулся и заметил, как Гонский опять приподнял крышку парты. Но он увидал, что я смотрю, и быстро ее опустил. Марья Петровна ничего не замечала.
На переменке смотрим — Гонский шепчется с Брандом.
— Этот Гонский наверно хороший тип, если он сразу снюхался с Брандом, — сказал мне Саша.
— Что-то там у них. А, впрочем, я уверен, что какая-нибудь дрянь, а они нарочно фасонят, чтобы мы завидовали. Чорт с ними, не обращай на них внимания.
Ребята пронюхали, что у Гонского что-то интересное, и вертелись вокруг него и Бранда, но так ничего и не узнали.
Все были сильно заинтересованы, а Гонский нарочно прятал свой предмет, чтобы раздразнить ребят.
Девчонки, хоть они обычно к нам не лезут и не интересуются нашими делами, тоже совали носы к Бранду и спрашивали:
— Что там у вас такое? Ну, покажи, покажи.
Но Бранд только высунул язык и повернулся к ним спиной.
Домой я шел по обыкновению с Сашей и все никак не мог успокоиться.
— Ну что бы это было, что бы это было?! Ну как ты думаешь, Саша?
— Да и думать не хочу, — вскричал Саша, — очень мне надо знать.
Мы пошли молча. Потом Саша вдруг сказал:
— А правда, что бы это могло быть?
— Лягушка, — выпалил я, — вот увидишь, — лягушка.
— Дурак; лягушки как будто в декабре не бывают. Забыл.
Саша расхохотался и повторял:
— Лягушка в декабре…
— Ах да…
Мне стало неприятно, что я при Саше так запарился. Хотя мы и приятели, но Саша любит иногда посмеяться, если я скажу что-нибудь не так.
— Наверно мышь в клетке, — проговорил я тихонько.
— Вот это может быть… Но нет… Я думаю, что у них что-нибудь другое… А, впрочем, это меня совсем не интересует.
Вот врет, ведь знаю, что интересует…
Два дня ходили Гонский и Бранд с таинственным видом, а вчера мы все узнали… У него нож. Обыкновенный финский нож с отломанным краем. Сначала он держал его на уроках в парте, а теперь засунул за пояс штанов под рубашку и так носит.
Бранд не отходит от Гонского ни на минуту. Они стали страшными приятелями.
Как только кто-то из ребят пронюхал, что у Гонского нож, об этом разнеслось по всему классу.
— Нож, настоящий нож, я сам видел, — говорил Витя и делал страшные глаза.
Один передавал другому и скоро все об этом узнали. Узнала и Марья Петровна.
Девчонки пищали, говорили, что они боятся, и смотрели на Гонского и Бранда так, как будто они были атаманы разбойников.
Мы с Сашей подошли к Гонскому и попросили показать нож. Он с важным видом поднял рубаху. За поясом у него действительно торчала финка.
— Теперь этому жиденку достанется, пускай придет только, — сказал Бранд, вертевшийся тут же. — Да и Витьке вашему не сдобровать.
— Ты не лезь, Бранд, — громко крикнул Саша, — не забудь, что тебя чуть не исключили из школы.
— Наплевать, — фыркнул Бранд.
— Брось, — крикнул ему Гонский, и они отошли.
А у нас разговоров об этом было, разговоров…
— Как бы этот идиот в самом деле не выкинул чего с Рейзиным, когда он придет в школу, — сказал Иванов, когда узнал о ноже.
— Да он до каникул уже не придет, — сказал я.
20 декабря.
Два дня у нас только и разговоров было — о ноже.
— А зачем тебе нож? — спросил Иванов у Гонского.
— Буду защищаться… Никто ко мне лезть не посмеет… А захочу — сам нападу… Вот Бранд говорит, что тут у вас Рейзин есть; его стоит пощупать…
Иванов сказал нам на большой перемене, что сегодня он хорошенько обдумает, а завтра скажет Марье Петровне, чтобы Гонского заставили отдать нож или оставить его дома.
— Пускай называют ябедой, чорт с ними, — сказал он.
На четвертом уроке вдруг входит в класс Петрон. У нас было объяснительное чтение.
— Пришел к вам послушать чтение, — сказал он Марье Петровне.
Марья Петровна предложила ему стул.
— Нет, спасибо, я тут себе среди учеников местечко поищу, — проговорил Петрон и пошел по классу.
Мы подтянулись, сели ровнее (так уж невольно при нем подтянешься как-то). А он идет по классу, ищет куда бы сесть…
Дошел до парты Гонского и говорит:
— А ну-ка подвинься… Вот с новичком и сяду.
Марья Петровна продолжала урок. Мы читали. Петрон сидит себе.
Обычно он посидит с четверть часа и уходит, а тут сидит и сидит.
Прозвенел звонок. Все вскочили.
— Стой, стой, не беги-ка минутку, — говорит вдруг Петрон Гонскому, который тоже сорвался было с места и хотел бежать.
— Ты у нас новенький?
— Да, — отвечает Гонский.
— Так… так… Ну, как же тебе у нас нравится?
— Нравится…
А мы стоим все вокруг толпой и слушаем.
— Так, так, — повторил опять Петрон. А что это, послушай, у тебя живот такой большой? — засмеялся он и схватил его спереди за рубаху.
Гонский хотел вывернуться.
— Ну, стой, не беги, — говорил Петрон и все смеялся. — Ишь живот, как у буржуя. — Он смеялся и шарил рукой по Гонскому. — Э… э… э… постой… Да что это у тебя такое… Стой, стой… Острое что-то… Руки мне чуть не порезало… А ну, подними-ка рубашку…
Гонский красный, как бурак, поднял рубашку. Петрон держал в руке нож.
— Нож! — восклицал он удивленно. — Нож! Ты что же, в шайке разбойников состоишь? Атаман, быть может, а? Так пожалуйте! — он указал рукою на дверь. — Иди… Мы не держим… У нас здесь дети учатся, а тут вдруг атаман разбойников… Да я сам тебя боюсь. — Он закрыл лицо руками, будто и в самом деле боялся Гонского, но я думаю, что он это нарочно, разыгрывал его.
Мы все так и замерли. У Гонского был такой смешной, трусливый вид. Он опустил голову и на Петрона не смотрел.
— Замечательно! — продолжал язвить Петрон, — ученик ходит в школу, а под рубашкой, как у разбойника, нож… Недаром и с Брандом подружился…
— И откуда только знает все?! — шепнул мне Саша.
— Бранд! Где он? — позвал Петрон.
Мы оглянулись. Бранда не было.
— Ну так… Удрал конечно… А ты вообразил, что он половину твоей беды на себя примет. Ну, ладно… Твой отец кто?
— Доктор… — пролепетал Гонский.
— Ну вот, доктор… Людей лечит, а сын нож носит, ранить кого-нибудь может… Пускай отец придет завтра.
Петрон встал и ушел и нож унес с собой.
Среди ребят поднялся шум.
— Ну вот и хорошо… Так ему и надо! — кричали девчонки. — Пускай не носит нож в школу.
— Э… э… запарился конский хвост и грива… — орали мальчишки. — Свистнула финка, Только и видали… Хвост и грива…
— А мне наплевать… Он отдаст… — говорил Гонский.
Ножа Петрон Гонскому так и не отдал.
Приходил его отец, толстый доктор, и извинялся.
Так кончилась эта история с ножом. А Иванову не пришлось жаловаться Марье Петровне.
23 декабря.
Нас отпустили на зимние каникулы.
Папа мне сказал, что прежде учеников в школах отпускали в это самое время на рождественские каникулы, но теперь религиозные праздники не празднуются советской властью, а просто ученикам дается зимний отдых.
Мы были довольны, так как порядочно устали от школы. Что касается меня, то я очень люблю чтение, и рад был, что можно посидеть дома и почитать.
Во время каникул у нас в отряде будут доклады о вреде религиозных праздников.
Вчера мы опять ходили к Рейзину. Он уже совсем здоров и после каникул придет в школу. Он стал еще худее, и еще больше похож на цыпленка.
Он очень боится Бранда, а когда мы ему рассказали об истории с ножом Гонского, он переглянулся с отцом и сказал:
— Это будет Бранду хорошая подмога.
— Ша, ты не волнуйся заранее, Хаимка… — успокоил его отец. — Ведь молодые люди говорят, что нож уже отняли у этого новичка…
— Я не волнуюсь вовсе, — сказал Хаим.
Но я отлично видел, что он волнуется.
Когда станет теплее, Хаим хочет поступить в отряд. Теперь ему нельзя, так как он легко заболевает, и ему надо больше сидеть дома.
Но дом у них, у Рейзиных, ужасный. Окошечки маленькие, как у нас в уборной. А мы ведь знаем, что окна дают свет и воздух. И вот, бедный Хаим, как у него всего этого мало.
От железной печки жара и духота, воздух спертый. А от окошек и от двери страшно дует. Отец Рейзина не член союза, и потому они не могут получить квартиру в рабочем доме. Вот папа член союза, и у нас хорошая новая квартира.
Однако таким бедным людям должны бы дать квартиры получше.
Я обратил внимание, что у них всего два стола. На одном работает отец, на другом едят и тут же Хаим готовит свои уроки. Недаром у него часто на тетрадках жирные пятна. Марья Петровна сердится на Рейзина, но если бы она посмотрела, как он живет.
25 декабря.
Несмотря на то, что религиозные праздники не празднуются, мама испекла к сегодняшнему дню пирог и сделала еще что-то сладкое. За обедом, когда мы отлично все это ели, я спросил:
— Значит мы все-таки празднуем рождество?
Мама улыбнулась и сказала:
— Очень трудно отвыкнуть от старых привычек… У нас еще не то… Вон Макаровы партийные, а у них кутья.
— Обывательщина… — сказал папа (я не понял, что это за слово и даже чуть не перепутал его), — я только не хочу с матерью спорить, — прибавил он.
Я решил, что мне все равно… Пирог был очень вкусен, и я, да и все ели его с удовольствием. Во многом трудно разобраться и решить, хорошо это или плохо.
27 декабря.
Я встретил на улице Иванова. Он предложил мне притти от нашего отряда к ним в отряд и привести еще кого-нибудь из ребят. Будут говорить о Бранде и разбирать наше заявление.
Я решил пойти и позвать Сашу. Хотя он и не пионер, и вероятно им не будет никогда, но мы все его очень любим, потому что он славный, честный и ничего не боится. Это собрание должно быть завтра.
29 декабря.
Вчера я и Саша были на собрании чужого отряда. Оказывается, Бранд не только в школе заметная птица. Он и там ведет себя так, что несколько раз ставился вопрос об его исключении. Не исключают его потому, что ребята все надеются на его совесть и хотят, чтобы он исправился.
Собрание отряда было в 5 часов.
Я зашел за Сашей. Его мать стала говорить, что поздно, что уже почти темно.
— Но ведь мы мальчики и ничего не боимся, — сказал я.
— Ты не боишься, а он боится, — возразила мать Саши.
— Я тоже ничего не боюсь, мама, — твердо сказал Саша.
Мы пошли. На улицах было уже почти темно. Саша шел очень близко ко мне и, я чувствовал это, немножко трусил.
— Леня, — проговорил Он вдруг тихим, взволнованным голосом, — а кто это стоит там у ворот? Как будто кто-то стоит…
Я вгляделся.
— Это тень от столба… Глупый… — засмеялся я.
— Тень, — сконфуженно пробормотал Саша.
— Ну да… А ты что думал?
Саша не отвечал… Я понял в ту минуту, что и очень хорошие и честные мальчики, одним из которых был Саша, могут быть трусливыми. Мы шли молча и мне даже стало казаться, что в том, что мальчик боится темноты, нет ничего позорного, и напрасно у нас над этим смеются. Когда я вот так обо всем этом раздумался, мне стало тоже не по себе. Я пошел ближе к Саше.
В отряде было шумно, светло.
Мы сразу увидали Иванова. Он раскладывал книги на читальном столе. Вожатого отряда еще не было.
Бранд засунул руки в карманы штанов и разгуливал среди ребят. По обыкновению он был веселый, красный и беспечно насвистывал.
— Пойдем в ашики играть. Один пацан продает ашики, — приставал он к Федорову, одному из ребят отряда.
— Отстань…
— Пойдем…
— Да отстань… Я читать буду.
— Ри-ива, — копируя сильно картавящих евреев, — подошел Бранд к рыжей в веснушках девочке, — пойдем ты, Ривеля, в ашики играть.
Девочка повернулась к нему спиной.
Бранд сам расхохотался над своей остротой, еще покривлялся и ушел в другую комнату.
— Ну, право, удивительный все-таки этот Бранд… Ко всем лезет, кривляется, нахальничает… И как ему все это не надоест.
Я задумался о Бранде и забыл, что сижу в отряде и что со мною Саша. Саша тоже сидел совсем тихо. Он взял с читального стола книжку, но не читал ее.
— Знаешь что, Леня? — сказал он вдруг.
— Что?
— Я вот смотрю на пионеров… Они такие, точка в точку, как все наши ребята. Никакого нет отличия. И так же бузят.
— Да нет… Ты не знаешь… Они другие, — заспорил я. — Они совсем другие.
— Ну, какие? — тоже загорячился Саша. — Только что красные галстуки носят.
Ах, дело совсем не в красных галстуках, — также горячо сказал я. — Хотя и в галстуках тоже… Но это только наш знак… Мы будем коммунисты…
— Ах да, — протянул Саша.
Он сразу замолчал. Я посмотрел на него внимательно и вдруг подумал: "Да, конечно, он не будет коммунистом". Почему мелькнула у меня такая мысль, я и сам не мог бы сказать. Саша весь какой-то нежный, тихий и красивенький. Мама, когда увидала его в первый раз, сказала, что такие дети бывали прежде у бар, у буржуев. В Саше все какое-то особенное. Когда он поступил в школу, ребята долго дразнили его, даже били иногда. Потом привыкли и перестали. Я сдружился с Сашей еще во второй группе. Он очень, очень хороший. Он, например, всегда защищает слабых и всегда стоит за правду. И совсем не жадный, что у него ни попроси — нож, резинку, карандаш — все даст и очень охотно.
Но почему-то ни я, ни Витя не можем сказать — почему, мы оба понимаем, что Саша не будет коммунистом.
Я подумал обо всем этом еще раз. Но вдруг мне стало стыдно и жалко его.
— Да, это все глупости, — чтобы сгладить с ним отношения, сказал я. — Ты еще может тоже будешь пионером.
Я тут же понял, что сказал это только для примирения и мне стало досадно на себя.
Пришел вожатый Миша. Он уже такой большой, вроде комсомольца. С ребятами он говорит строго, как учитель. На нашего вожатого, товарища Соню, он совсем не похож. Соня добрая, хотя и умеет заставить ребят работать. А этот и кричит даже на ребят. Ну и каша, ну и буза была из-за этого Бранда. Шумели так, что Миша колотил по столу деревянным молоточком, чтобы навести порядок, но это ему не удавалось.
— Исключить! Исключить!

— Нет, не смейте, вы не смеете так делать! — неслись крики.
— Он хулиган!
— Он дразнит евреев!
— Выгнать его к чорту, что церемониться с ним! — раздался чей-то голос.
Мы с Сашей сидели и внимательно слушали. Мы должны были после высказаться, когда нас спросят о Бранде.
Когда вожатый навел порядок, выступил Иванов. Он говорил от нашей группы.
— У нас, ребята, нельзя дразнить ребят из других наций, — говорил он и волновался. — А Бранд дразнит, Рейзина в нашей группе изводит… Он из-за него болен сейчас воспалением легких.
— Сам простудился! — крикнул Бранд.
— Не сам… Лед кто ему за воротник насыпал?
— Ого! — крикнул кто-то.
— Да… вот что делает Бранд… Татарину одному, мальчику, я сам видел, сделал из куртки штуку такую и закричал: Эй, ты, свиное рыло. А евреям проходу не дает.
Поднялся опять страшный шум.
И все-таки Бранда не исключили. Говорил за него вожатый Миша. То есть Миша не защищал его, он только сказал, что надо быть осторожным с исключением, что отряд должен исправлять ребят, действовать на них хорошим примером, тем более, что в отряде Бранд иногда ведет работу; помогал устраивать библиотеку, любит книжки.
Миша спросил нас с Сашей. Мы оба рассказали про Рейзина.
— Да, это очень плохо, — сказал Миша, — но тем не менее, вот так, ребята… Согласитесь со мною.
Девочки говорили против Бранда.
Возмущалась им рыжая Рива.
Но в конце концов оставили.
Бранд все это время вертелся на своем месте, поворачивался то к тому, то к другому, толкал ребят и что-то шептал.
— Буза, — проговорил Иванов, когда мы выходили из отряда, — Миша всегда слишком добрый… Следовало выкинуть.
Однако после мы узнали от Иванова, что думает об этом по-настоящему Миша. Миша говорит, что когда судят человека, надо помнить и о его хороших сторонах. А Бранд — способный парень и, когда хочет, умеет вести себя хорошо.
Мы с этим не согласны.
3 января.
Сегодня у нас началось ученье. Пришел после болезни Рейзин, худой, худой. Марья Петровна подозвала его к себе, спросила, как его здоровье.
Рейзин, по обыкновению, смутился, улыбался и не отвечал.
— Ну что, все такой же застенчивый остался?! — сказала Марья Петровна. — Иди. Думаю, что ты, Бранд, не будешь трогать больше Рейзина?
Бранд ничего не ответил.
Бранд и Гонский уселись было рядом, но Марья Петровна их рассадила.
Мы начали учиться. После перерыва всегда кажется, что все, все забыл. Вот если бы у меня спросили утром таблицу умножения, я бы все перепутал. А сейчас уже вспомнил. И вообще в первый урок кажется, что голова пустая.
Марья Петровна просмотрела наши тетради и сказала, что видно, мы все-таки занимались.
— Не только гуляли, — засмеялась она. — Ну, Рейзин, поди-ка к доске. Посмотрим, не забыл ли ты все за болезнь.
Рейзин у нас слабый ученик. Он бы может учился лучше, если бы так не мямлил во время ответов. Марья Петровна, когда отпускает его на место, всегда говорит:
— Ну, иди, намучилась я с тобой.
Так было и теперь. Он очень плохо отвечал по арифметике. Я видел, что Гонский все время смеялся.
Рейзин сел на место красный и смущенный.
10 января.
Вчера опять произошло одно событие, которое показало нам, что Бранд не успокоился. Он всю неделю был тихий, это для него чудо. На переменках он все время с Гонским, шепчутся, прячутся.
Несколько раз они ходили вокруг Рейзина, но так как с Хаимом был Зархи, они его не трогали.
Теперь они стали задирать Витьку… На днях Витя дал Гонскому в зубы, за то что он при нем сказал о Рейзине:
— Этот жиденок труслив, как зайчишка, я с ним вмиг справлюсь.
— Ах, ты сволочь, — крикнул Гонский. — Ты не фасонь, не думай, что если приятель с Ивановым и Чевичем, так не получишь.
— Я и сам с вами справлюсь, — крикнул Витя.
— А вот поглядим, как справишься, — угрожающе пробормотал Гонский.
Несколько дней назад, я проходил после обеда мимо школы и вдруг увидал Бранда. Он стоял и разговаривал с группой беспризорных.
"В чем дело? — подумал я. — Интересно бы выследить"… Бранд стоял ко мне спиною и меня не видел. Я решил узнать в чем дело и вошел в здание почты. Высунул слегка голову и смотрю. Бранд что-то им говорит, говорит, а они кивают головами, дескать поняли. Потом Бранд вынул из кармана коробку и роздал им все папиросы.
"Вот так штука! Что бы это могло быть?" — думал я. Назавтра я рассказал об этом остальной тройке наших ребят.
— Ясно, что-то они замышляют, — вскричал Саша.
— Надо будет за ними следить, — сказал Иванов.
Витя и не думал, да и мы не догадывались, что затеяли Бранд и Гонский все дело против него.
А вчера все объяснилось.
Витя спешил домой, и после четвертого урока не стал нас дожидаться и ушел. Мы провозились еще немного, потом пошли. С нами шли еще Бронов и Шипянский.
Выходим на улицу, слышим крик. Мы побежали.
Смотрим, стоит Витька, беспомощный такой, а беспризорные, их было четверо, бросают в него камешки. У Вити ничего нет, он вертится во все стороны, а камешки попадают ему то в спину, то в грудь, то в лицо.

Пока мы добежали, беспризорные (у них наверно вышли все камешки) обступили Витю и стали дергать его за пальто, толкать его, трепать.
В это время мы и подбежали. Хорошо, что во-время, иначе Витьке пришлось бы плохо.
Нас было теперь шесть человек, их только четверо.
— Ребята, — закричал Витя, когда увидел нас, — на помощь!
Мы наскочили на беспризорных, стали их отталкивать. Начали останавливаться прохожие, собралась толпа… Кто-то хотел звать милиционера, и мы поспешили убежать. Мы порядочно потрепали беспризорных; но и нам досталось. Почти у всех у нас были расцарапаны руки, а у Вити кроме того вырван рукав пальто.
Мы бежали до следующей улицы. Потом мы остановились. Витя заплакал и сказал, что за пальто ему достанется от матери. Иванов решил пойти с ним и объяснить в чем дело.

11 января.
Сегодня мы все пришли в школу раньше обычного. Мы еще волновались из-за вчерашнего.
— Это, конечно, подстроил Бранд, — сказал я. — Тогда возле почты он их подговаривал.
Ребята со мной согласились… Мы решили, чтобы не поднимать бузы на всю школу, самим расправиться с Брандом.
Мы очень боялись, что в школе станет известно об нашей уличной истории и нам попадет от Петрона… Петрон стал в последнее время страшно строгий. Он говорит, что мы распустились, и нас надо подтянуть. Теперь чуть-что, тянут к нему в канцелярию, и он отчитывает. К концу уроков мы поняли, что Петрон ничего не узнал, иначе уже была бы трепка.
На большой переменке мы сговорились о Бранде.
— Раз ему не помогают слова, давайте его отколотим! — сказал я.
— Отколотим! Дадим ему сами! — крикнул Витя.
— Но ведь мы против драк. И потом это нехорошо. И нам самим достанется, — возразил Саша.
— Ну ты не трусь, Сашка.
— Я не трушу, а не хочу попадать в историю, а вы пионеры, а будете драться…
— Так что, что пионеры! С ним не сладишь так, — проговорил Иванов.
Не соглашался один Саша.
Мы долго его уговаривали.
Потом мы решили отказаться от этой затеи.
Уж слишком много у нас драк…
20 января.
Вон сколько не писал… Мы по горло заняты подготовкой к Ленинскому дню (21 января) и выпуском газеты. Вся буза прекратилась. Рейзин ходит в школу, и ни Бранд, ни Гонский его не трогают.
Несчастный мальчик этот Рейзин. Подумаешь, как он свободно вздохнуть не может. Я вижу, как он проходит мимо Бранда. Будто мышонок проскользнет мимо большого злого кота. Гонского Рейзин не так боится, так как Гонский все-таки тише Бранда, и потом его он не трогает. И еще я думаю это потому, что история с ножом была не при нем. Одним словом, все затихло.
Наш драмкружок работает во всю, готовит к 21 января пьесу.
Меня выбрали в редколлегию для проверки и распределения статей в нашу стенгазету. В редколлегию вошел еще Витя, — он очень складно пишет, — Иванов и Бронов.
Самые наши хорошие ученики сочинили статьи и мы должны были распределить материал и составить газету.
И тут у нас не обошлось без ссор. Собрались мы у Вити. У него квартира форменная. Его отец инженер. Иванов предлагал распределить материал в одном порядке, мы — в другом. Поссорились, шумели. Иванов кричал, что не будет с нами работать, что мы не серьезные ребята.
— Ну и убирайся к чорту, — закричал Витя…
Марья Петровна постоянно говорит о Вите, что он невыдержанный… И правда, чуть что — он расшумится, раскричится, а через минуту жалеет, лезет мириться. Так и тут.
— Ты дурак, — спокойно сказал Иванов.
— Сам ты дурак, — весь красный, закричал Витька.
— Хватит, ребята, опять набузили, — попробовал я их успокоить. Но куда там. Витя чуть не с кулаками лез на Иванова.
— Ну, чорт с вами, справляйтесь сами, — рассердился Иванов и взялся за фуражку.
— А почему он все хочет по-своему? — обратился к нам Витя; видно было, что он уже спасовал…
— Я не по-своему, а так лучше… А ты из упрямства, — тоже уже кричал Иванов.
— Не уходи, — пробормотал Витя.
— Вот чорт, ведь и действительно Витька не плохой пацан, а вот какой он бывает…
Мы опять засели за работу. Еще несколько раз Иванов и Витька начинали ссориться, но уже не так сильно… Наконец мы распределили материал для газеты.
21 января, вечером.
Сегодня в школе было утро, посвященное Ленину. Марья Петровна почему-то решила, что лучше всех говорит один из наших ребят, Орлов, и выбрала его, чтобы он делал доклад о Ленине. Он очень хорошо учится, это верно, и страшная тихоня. Но сегодня он здорово запарился. Доклад он промямлил, все время забывал, что дальше, и останавливался.
Мы стали смеяться.
Раздались голоса:
— Э… э… запарился.
— Он стесняется, — шопотом сказала Марья Петровна, стоявшая как раз около нас. — И вы не смейтесь, вы смущаете его еще больше.
Но нам трудно было удержаться. Уж очень он был смешной и страшно мямлил.
В самой середине его доклада опять случилась история. Бранд, он сидел за нами, вдруг стал бросать на эстраду засохшие хлебные шарики. Один из шариков попал Орлову в лоб и, он рассказывал после, пребольно его ударил.
Орлов перестал говорить, ухватился рукой за лоб и стал тереть. Мы фыркнули.
Сейчас же подошла Марья Петровна и выгнала Бранда.
— И чтобы не смел заходить на концерт, — сердито сказала она. — Мешаешь всем слушать!
Бранд засунул руки в карманы и вышел.
Орлов стал говорить дальше. Если бы он хорошо говорил, не забывал, то это происшествие так бы и прошло. Ну, а так мы уж зевать стали от скуки.
Наконец он кончил.
Зато форменно говорила стихи о Ленине Наташка. Мы ее зовем "актриса". Она, когда говорит, в зале тихо делается, как в театре, когда актеры играют.
Ее слушать и правда не скучно.
Стихи были длинные, но когда она кончила, ребята стали хлопать и кричать: "Еще, Наташа, еще"… — "Партбилет!"
А Наташка стоит на эстраде и фасонисто так улыбается и кланяется.
Ребята стучали ногами об пол и что было сил хлопали в ладоши.
"Партбилет, Партбилет! — орали все.
Наконец она прочла "Партбилет".
Потом была музыка, и мы пошли домой.
В коридоре мы увидали Бранда. Он стоял и писал на стенке карандашом.
Я дернул Сашу за рукав, мы подошли к Бранду и прочли, что он написал.

На стенке была нарисована рожа, а внизу надпись — Рейзин. А рядом было написано.
— Как тебе не стыдно, Бранд, — сердито закричал Саша. — Опять ты принимаешься за Рейзина. — Сотри, скорей сотри, — Саша протянул руку к стенке, чтобы рукой затереть эти мерзкие стихи…
— Я тоже тебе помогу, — закричал я и протянул руку. — Ты все хулиганишь, Бранд!
— Стой, куда лезете?! — и Бранд со всей силы ударил меня по руке у локтя. Он встал спиною к стене, раскинул руки и не подпускал нас близко.
— Вот сволочь… — пробормотал я. Руке было больно.
Я отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые появились у меня от боли.
Погоди, Бранд, ты у нас опять получишь, сердито сказал Саша.
В это время в толпе ребят, выходивших из зала, показался Рейзин. Он держал за руку Зархи и тянул его к раздевальной.
Увидал Рейзина и Бранд.
— Рейзин, Рейзин, поди сюда, посмотри, какую я штуку устроил, — закричал Бранд.
Он бросился навстречу Рейзину и схватил его за рукав.
Я воспользовался этим моментом и затер ладонью стихи на стенке.
— Пойди, пойди сюда, — кричал Бранд и тянул Рейзина за рукав.
— Пусти, пусти меня, — кричал Рейзин и чуть не плакал.
Пока Бранд тянул Рейзина, я успел стереть со стенки все.
— Пусти его, — закричал, подскочив к Бранду, Витя.
— Смотри, Рейзин, уже ничего нет, можешь подойти, — крикнул я.
Тогда Бранд оставил Рейзина и подбежал к стенке.
— Ах, пацан, стер таки! — закричал он и замахнулся на меня рукой.
— Ну, ты, тише, — схватил его за руку Саша.
— Ну, ничего… Я про тебя стихи написал.
Я тебе их на память подарю, — издевался Бранд и опять ухватил Рейзина за рукав.
— Чего ты лезешь ко мне? — заплакал и закричал Рейзин. — Что тебе надо? — Он вдруг вырвал у Бранда свою руку и пошел на Бранда как бы в наступление. Он был какой-то страшный в эту минуту. Из глаз его текли слезы, уши пылали. Его крохотные глазки стали как будто больше. Он лез прямо на Бранда, тыкал в него своими костлявыми пальцами, плакал, кашлял, хлюпал носом и кричал: — Чего ты лезешь, чего тебе надо?.. Я тебя не трогаю… Я никого не трогаю.
Мы все стояли вокруг, будто онемели от его крика. Даже Бранд почему-то не пускал в ход своих кулаков. Он молчал, удивленно смотрел на Рейзина и отступал все дальше к стенке.
— У-ля, Бранд, у-ля! Рейзина испугался, что ли? — крикнул в это время Пирогов, появившийся неизвестно откуда.
— Ну, ты — Бранд толкнул Рейзина в грудь. — Пошел к чертям, пока еще не получил.
Заливаясь слезами, Рейзин пошел в раздевальную.
— А ты тоже не бог знает, какая птица… Напрасно так важничаешь… При случае и Рейзин тебя напугает, — проговорил Витя и вызывающе посмотрел на Бранда.
— Ну ты тоже, лезь… И с тобой справлюсь, не то с Рейзиным.
В это время у двери в зал появился Петрон…
Он увидал нашу группу и быстро подошел к нам…
— По домам, по домам… Чего вы тут столпились… Опять Бранд, опять что-нибудь случилось?
Мы спешили уйти от его строгих глаз.
Когда шли домой, мы говорили с Сашей о Бранде и Рейзине.
— Это не кончится добром, вот увидишь, — сказал Саша. — Подумай, уже вторая половина учебного года, а Бранд все еще не оставляет Рейзина в покое.
— Да, и главное, ничего не помогает.
— И ничего на него не действует. Уж было бы лучше, если бы его исключили, — сказал Саша.
Уже расставшись с Сашей, я все думал, когда шел домой, об этом. Подумать только. Ничего, ничего не помогло. Отцу жаловались, отца в школу без конца вызывают. Говорили, что отец его высек. И все ничего.
1 февраля.
Сегодня Бранд положил Рейзину на парту листок с теми стихами.
Я пришел в школу, когда Рейзина еще не было. У двери столкнулся с Витей, поговорили и вошли в класс. Потом Витя стал гулять по классу.
— Гляди, Леня… Вот негодяй.
Я подошел и увидал на парте Рейзина на листке стихи.
— Порви, — сказал я.
Витя схватил листок, разорвал и смял. В это время в класс вошел Бранд.
— На, получай свою гадость, — крикнул Витя и угодил ему туго смятым бумажным клубком в глаз.
— Я Марье Петровне пожалуюсь, — заревел Бранд.
— Можешь жаловаться хоть Петрону, — крикнул Витя.
Действительно, пожаловался. Марья Петровна разобрала в чем дело и сказала:
— Мне это все надоело. Ты сам виноват, Бранд… Тебя надо убрать из нашей школы.
Бранд потом ходил с мокрым платком у глаза.
8 февраля.
Уже две недели лежит у нас снег, и лед на лужах стал совсем крепкий. Это у нас редкость — такая долгая зима. Мы скользим на калошах по льду, играем в снежки.
Сегодня мама посердилась на меня, что я так быстро порвал новые калоши…
— А я виноват? — сказал я. А потом подумал, что, пожалуй, и виноват. Не скользил бы на калошах. Но так хочется покататься на льду…
Сегодня Орлов принес в школу один конек…
Ему подарила его тетка. На большой переменке мы вышли во двор. Он привязал конек веревочками и стал кататься. Все ему завидовали. Стали просить, чтобы он дал покататься. Но он ужасный жадина. Никому не дал. Тогда Гонский подставил ему ногу, он упал и пребольно ушиб колено. Марья Петровна сердилась на Гонского. Мы нашли, что ничего особенного в этом нет. Мы всегда подставляем друг другу ножки. Марья Петровна за него заступилась потому, что он такой хороший ученик, и она его любит…
15 февраля.

У нас в классе стало совсем тихо. Бранд и Гонский никого не трогают, Рейзин не плачет, никто не жалуется. Это прямо что-то необычайное.
Марья Петровна сегодня сказала, что и не нарадуется на нас.
20 февраля.
Все тихо… Хожу в школу, готовлю уроки и посещаю пионерский клуб… Меня выбрали там старостой в читальном зале. Надо следить за порядком, чтобы ребята не шумели, не рвали книг и журналов и не мешали друг другу читать. С мамой не ссорюсь.
27 февраля.
Сегодня Гонский и Бранд пустили в коридоре "шутиху"… Она делается так: в мундштук от папиросы насыпают порох; завязывают мундштук с одной стороны, а с другой зажигают. Он летит. Это называется "шутиха". Мы все и ребята из других групп с удовольствием смотрели, как летела по коридору эта горящая штука. Многие визжали от радости. В это время в коридоре показался Степан. "Шутиха" хлоп его по лбу. Он ее сейчас и потушил. Мы думали — он рассердится, а он только смеется. Все ребята очень его любят за то, что он такой добрый. Он ребятам все спускает и никогда не жалуется.
Это было интересно. Мы решили как-нибудь собраться у кого-нибудь из товарищей и пустить "шутиху".
5 марта.
Вот и кончилась наша зима. И быстро наступила весна. У нас всегда так бывает — зима короткая, весна ранняя, ранняя. А то вдруг зимой совсем весенние выпадают дни. Сегодня Марья Петровна объявила, что скоро начнутся у нас весенние экскурсии. Мы обрадовались, мы очень их любим.
11 марта.
Вчера мы ходили осматривать единственный в нашем городе большой завод "Кость": На нем делают костяные пуговицы. Когда мы вышли с завода, у меня голова кружилась. Там все такое большое, большое. Громадные чаны, в которых кипит вода. Туда бросают кости, чтобы от них отстало мясо. Всюду ремни, машины для распиливания костей. Так и кажется, что все вокруг вертится, гудит, шумит. Но интересно страшно.
И тут у нас не обошлось без истории с Брандом. Ну просто, не знаю, когда он оставит в в покое Рейзина. Вот сколько с ним историй и ничего не помогает.
Там, на заводе, устроены эти чаны. Они такие громадные и в них кипит вода. И смотреть туда страшно. Вокруг, правда, решетка, но она не очень высокая, потому что иначе рабочим неудобно было бы бросать в котел полные мешки костей. Если нагнуться, можно упасть в этот страшный чан. Марья Петровна очень волновалась, пока мы проходили мимо чанов.
— Проходите, проходите, — говорила она… — Не задерживайтесь.
Мы шли гуськом, так как дорожка мимо чанов неширокая. С другой стороны деревянная стенка. Между Рейзиным и Брандом было человека четыре. Вдруг Бранд пролез вперед, протиснулся к Рейзину и сказал:
— Вот я тебя сброшу в котел, сваришься вместе с костями. — А сам при этом смеется.
Я сам всего этого не видал, но ребята говорили, что Рейзин ничего Бранду не ответил. Он только вышел из ряда, стал возле стенки и прислонился к ней, как будто приклеился. И стал бледный, бледный.
Ребята все остановились, ряд задержался.
— Ну проходите, чего вы задержались, — громко прокричала Марья Петровна. Она была позади всех.
Тогда Бранд как ни в чем не бывало пошел вперед. Рейзин все стоял возле стенки. Я был среди последних. Когда я поровнялся с Рейзиным, я увидал, какой он был бледный. Потом все вышли во двор.
— Вот дурак, ты испугался, что ли? — спросил у Рейзина Зархи.
А Рейзин вдруг как расплачется: — Он хотел меня в котел сбросить, — повторял он сквозь плач.
Марья Петровна очень рассердилась на Бранда.
— Если еще что-нибудь такое скажешь, ни в одну экскурсию не пойдешь с нами, — сердито сказала она. — И как не надоест тебе языком трепать.
Потом мы пошли домой. Завод всем ребятам очень понравился.
— Однако, этот Бранд! А только на днях отца Хаима встретили и он думал, что уже Бранд Хаима не трогает, помнишь? — тихо сказал Саша, когда мы выходили из ворот.
— Д-да, — пробурчал я… Мне было досадно, досадно. Вот тебе и не трогает…
Марья Петровна задала нам на дом работу: "О производстве пуговиц"…
9 марта.
Сегодня я, Витя, Саша, и Иванов шли вместе из школы и вдруг встретили отца Хаима Рейзина.
Он нас не узнал даже. Саша вдруг громко сказал:
— Здрасте.
— А, молодые люди, славные молодые люди из Хаимкиной школы… — проговорил отец Хаима и улыбнулся во весь рот. Он поздоровался с нами со всеми за руку.
— Как поживаете?
— Так… Ничего… — пробормотал Иванов.
— Ну как вы находите, как будто этот Бранд оставил Хаимку в покое?!. Совсем уже мальчик не жалуется, — сказал он.
Он глядел на нас, ждал, что мы скажем.
— Как будто не трогает, — сказал Иванов.
— Мы поколотили его несколько раз, вот и перестал трогать, — воскликнул Витя.
— Так… так… спасибо вам, что вы не обижаете мое дите. Он таки мальчик слабый, что говорить, но, как говорится, каким бог создал.
— Бога нет, — вылез опять Витька.
— Пускай нет. Пускай по-вашему нет. Да и я не очень верующий, а так, по привычке. Ну, до свиданья, славные вы дети.
Он пошел в другую сторону, и по дороге раза два оборачивался, смотрел на нас и ласково кивал нам головою…
— Чего он назвал нас — детьми?.. Мы не дети уже, — придирчиво сказал Витя.
— А ты дурак. Он просто так. И не думал нас обидеть, — возразил Иванов. Я тоже так думал. Просто у него такая привычка — говорить — дети, дите.
— Он хороший, видно, человек, этот Рейзин — сказал Саша, — и улыбается, как наш Хаим.
— Да, да, я это тоже заметил.
15 марта.
Какое ужасное несчастье случилось у нас сегодня с Хаимом. Теперь уже Бранда обязательно исключат из школы. Даже не знаю, с чего начать рассказывать. Бедный, бедный Хаим! Ведь он только недавно выздоровел и вот опять.
И во всем, во всем виноват один Бранд.
Сегодня мы в первый раз пошли на экскурсию. Мы все страшно волновались, радовались. Погода была такая чудная, солнышко яркое и так хорошо грело. Мы все были уже в весенних куртках и пальто. Ах, мы даже и думать не могли, как печально кончится наша прогулка.
Марья Петровна повела нас к остаткам древней скифской крепости, недалеко от нашего города. По дороге Марья Петровна рассказала нам о скифах. Это был кочевой народ; пришли скифы из Азии и осели на юге России. Потом их вытеснили греки.
Мы отлично слушали, так как очень любим всякие рассказы о том, что было прежде.
Дорога к остаткам крепости ведет по скалистой окраине нашего города. Нам пришлось перепрыгивать через канавы, подниматься на горки.
Ребята здорово бузили, толкали друг друга, стараясь столкнуть в канаву.
Девчонки рвали какие-то ранние желтенькие цветочки, которые встречались по пути, и засовывали их себе в волосы.
Марья Петровна заставляла нас итти парами только пока мы шли по городу… Как только подошли к окраине, она разрешила нам итти, как хотим. Мы бегали — вообще все было славно.
На месте крепости теперь груда скал и плоскогорье, поросшее травой. И подумать только, что здесь были дома, жили люди.
Мы уселись на камнях, а Марья Петровна рассказывала нам о древних поселениях, городищах. Так тепло грело весеннее солнышко и так интересно было слушать. Марья Петровна очень хорошо рассказывает, так что все слушал бы ее и слушал.
Обратно мы шли сильно усталые. Всем хотелось пить, воды не было. Ребята молчали.
Когда мы уже подходили к городу, и случилось это несчастье. Я ничего не заметил, Хаима увидал уже после этого и все узнал из рассказов девочек, которые тоже отстали и видели все с начала до конца.
Я уже говорил, что нам пришлось перепрыгивать через несколько канав. Некоторые из них неглубокие, но одна порядочная — около метра в глубину.
Дело, оказывается, было так. Когда Марья Петровна и часть ребятуже перепрыгнули через канаву и исчезли за поворотом, что ведет в город, Бранд подошел к Рейзину, который сильно отставал, и сказал:
— Вот ты через канаву не перепрыгнешь.
— Не твое дело. Перепрыгну, когда надо будет, — сказал Хаим.
— Нет, не перепрыгнешь… Потому что ты — трус… Смотри, как я — взад — вперед, взад — вперед — и Бранд несколько раз перепрыгнул через канаву. Еще бы… Канава ведь неширокая, и что ему стоит? Он такой здоровый.
— Вот видишь! Ну, прыгай! — приставал Бранд.
— Захочу и прыгну, — сказал Хаим.
Девочки говорили, что у него был страшно усталый вид, и лицо будто пылью покрыто.
— Даже не знаю, как он мог прыгнуть, — волнуясь, говорила Наташа.
— Э-э… захочешь. А ты захоти.
— Ну, чорт с тобой… Думает, только сам все может, — негромко сказал Хаим, подошел к канаве и перепрыгнул на другую сторону.
— Э-э… ты один раз. А ты несколько, так, как я, — настаивал Бранд.
— На, смотри, на, — крикнул Хаим и опять перепрыгнул на нашу сторону.
— Ну, чорт с тобой. Иди, — сказал Бранд.
— Мы уже думали, что ничего не будет, — рассказывала Наташа, — перепрыгнули через канаву и пошли. На той стороне оставались только Оля и Паша Алексеева. И вдруг страшный крик раздался за нами… Мы обернулись и увидали, что Рейзина нет.
— Он толкнул его, он подставил ему ножку… Рейзин в канаву упал, — кричали Оля и Паша…
Мы подбежали к канаве и крикнули — "Рейзин, вставай!" — Вдруг смотрим, Рейзин не движется. Скрючился так, будто мертвый… Мне стало страшно, страшно, — докончила Наташа, — и я, да и все девочки бросились догонять вас (т. е. нас). А мы себе уходили с Марьей Петровной вперед. Мы успели уже дойти до другого угла, когда вдруг услыхали страшные крики.
Мы обернулись, — смотрим бегут наши девчонки, как сумасшедшие, и что-то кричат. Мы даже вначале не разобрали.
— Рейзин, там Рейзин. — кричала Наташа, и из глаз ее текли слезы. У всех девочек был испуганный вид.
— Что, что такое? — крикнула Марья Петровна и бросилась бежать обратно. За ней побежали и мы все. Марья Петровна спустилась сама в канаву, за ней спрыгнули туда самые наши крепкие ребята, и все вместе онивытащили Хаима наверх.

Он был желтый, желтый. Я никогда не видал мертвых, но девчонки уверяли после, будто мертвецы именно такогоцвета. Глаза его были закрыты, а губы синие и крепко сжаты.
— Он в обмороке, — крикнула Марья Петровна, — скорее постучите в первый же дом и попросите воды и нашатырного спирту.
Кто-то из девочек бросился бежать, а Марья Петровна стала вызывать у Хаима дыхание гимнастикой. Через несколько минут Хаиму дали нюхать спирт, брызгали ему в лицо водой, — Марья Петровна все поднимала и опускала его руки… Иванов, Саша и Наташа ей помогали.
Мы все стояли вокруг и следили за всем, что делалось. Мы прямо дыхание затаили от страха. Многие девчонки плакали. Мне было жаль Хаима. Когда я случайно прикоснулся к своим глазам, я увидал, что они были мокры.
Ну, да ни черта, в этой суматохе никто и не заметил.
Наконец Хаим вздохнул и открыл глаза. Он посмотрел вокруг, сейчас же закрыл их и страшно застонал.
— Что у тебя болит? — спросила Марья Петровна.
Он указал своей худой и бледной рукой на ногу.
Когда Хаим окончательно пришел в себя, выяснилось, что он не может встать на ногу.
Марья Петровна послала нас позвать извозчика.
Хаима уложили, села Марья, Петровна и Иванов и поехали в школу, чтобы показать Хаима школьному врачу.
Мы поспешили в школу.
Оказалось — у Хаима сломана нога. Канава хоть и неглубокая, но он очень неловко упал и потому сломал ногу.
Послали за его родителями.
Я видел, как отец и мать Хаима, бледные и встрепанные, бежали в лекарскую, где лежал Хаим.
Они спешили и толкали друг друга. Мать всхлипывала и ломала руки.
Среди ребят было страшное волнение.
— Сволочь Бранд, и только, — говорили ребята.
Я побежал к лекарской и через стеклянную дверь стал смотреть внутрь. Хаим лежал на диване страшно бледный и стонал. Над ним стояли отец и мать. У обоих из глаз капали слезы. Что-то горячо говорил Петрон, как будто уверял их в чем-то. Тут же была Марья Петровна и докторша. Они что-то делали с Хаимом. Через несколько минут Хаима увезли в больницу накладывать гипс.
18 марта.
Вот уже три дня прошло с того случая, а мы все еще не успокоились.
После того как Хаима увезли, нас отпустили по домам. Как мы узнали потом, Петрон нашел, что мы слишком устали и взволнованы, чтобы могли толком понять, что будет он нам говорить.
На другое утро, еще до уроков, Петрон пришел в класс торжественный и важный.
— Я должен серьезно с вами поговорить, — сказал он. — Второй раз из-за хулиганской выходки одного из вас страдает жизнь ни в чем невиновного мальчика…
Я уже плохо помню, что и как говорил Петрон, но все о том же, о нациях, о том, что все при советском правительстве равны и всякое другое… Мне кажется, весь класс был против Бранда.
— Бранд учиться у нас конечно больше не будет, — сказал он, — а вы все должны принять это, как урок. — Он говорил долго, полурока прошло. Потом мы обступили Марью Петровну и стали спрашивать о Рейзине.
— Он в больнице и пролежит долго, — сказала она.
21 марта.
Вчера было созвано в отряде Бранда собрание по поводу его выходки. Пришел и Бранд. Вообще с того момента, как все это случилось, его и след простыл. Тогда, у канавы, он обошел горку и скрылся. Не пришел больше и в классы. Говорили, что на другой же день, на совете, решено было его исключить. Вызвали отца, отец даже и не просил больше за Бранда. Так его и исключили. А когда после всей этой истории мы с ним повстречались, мне показалось, что он какой-то бледный, будто больной. Совсем какой-то непохожий на прежнего Бранда.
Ребята шумели и гудели. Вожатый их, Миша, никак не мог навести порядок. Он стучал и ладонями и молоточком о стол, а ребята все не усаживались по местам.
Наконец, все затихло.
Теперь, когда все это кончилось, мне даже кажется, что с Брандом еще хорошо поступили. Тогда мы все были против него. Нас, нескольких ребят, вызвали от нашей группы, так как у нас все это случилось. Иванов рассказал, как все было.
— Можешь высказаться, Бранд, — сказал Миша.
— Я… я… я не хотел его толкать. Он сам упал, — проговорил Бранд.
— Врет, — крикнул Витя.
Ужасно трудно по порядку записать, как все было. Там как будто и порядка никакого не было. Все орали, кричали. Кричал и Бранд. Он все напирал на то, что Хаим смешной.
Из отряда Бранда исключили на три месяца.
— Дадим ему время исправиться, — сказал Миша.
— Вон его совсем, — крикнул Иванов.
— К чертям его, — раздался еще голос.
— Ладно… Там видно будет, — махнул Миша Иванову.
Вообще, мы все хотели, чтобы его совсем исключили. Так странно это бывает: когда зол на кого-нибудь, в ту минуту только и хочешь, чтобы хуже и хуже ему сделать. А потом пройдет злоба, и уже все равно и даже жаль мальчишку. Так было и тут.
Я, когда рассказал обо всем, как было с Брандом, папе, он сказал, что это так бывает в детстве. А после из Бранда может и недурной парень выйти.
У Бранда в этот день был такой вид, какого я никогда у него не видал.
25 марта.
Сегодня мы узнали о Бранде. После истории с Рейзиным, Бранда послали к какому-то доктору, который посоветовал его отцу отдать его в сельскохозяйственную колонию… Он говорит, что Бранду лучше больше заниматься физическим трудом, тогда он забудет обо всех глупостях, и исправится его дурной характер. Бранда увезли далеко от нашего города, чтобы отдать в колонию.
— Что ж, в колонию, — это хорошо. Там он исправится скорее — сказал Иванов, когда узнал об этом.
Я тоже согласен, что в колонию недурно поехать. Я бы, пожалуй, и сам охотно поехал в колонию. У нас тут все говорят, говорят, все надоело. В школе учат, учат. В отряде тоже все учат — правила там пионерские или доклады читают.
Уже это все нам скучно. Вот пилить бы что-нибудь или строгать. Или вот в колониях, там интересно. Сами ребята огороды разводят, в саду и в поле работают. Говорят, в некоторых колониях мастерские есть.
Я бы с удовольствием, с удовольствием поехал и сам в колонию.
Сегодня я говорил об этом с ребятами.
— Что ж, начинай хулиганить, тоже отправят, — смеясь, сказал Витя. — Вот мне ногу сломай…
Мы все посмеялись.
— А что, ребята, и в самом деле работы нам не хватает, — сказал Иванов. — У меня мускулы вон какие, посмотрите.
Он засучил рукав и показал свои мускулы.
— А у меня!
— А у меня, гляньте!
— Да, мускулы у нас у всех здоровые, да работать негде.
1 апреля.
Выздоровление Рейзина идет хорошо. Мы навестили его в больнице. Он улыбнулся нам и радостно закивал головой. В больнице он лежит в чистоте и порядке, не то, что дома.
— Ну, Хаим, нету Бранда, будто и не было его, — рассказывал Иванов и смеялся.
— Рад? — спросил Саша.
Хаим только пробормотал что-то в ответ и улыбнулся. О нем всегда только догадаться нужно, прямо ведь он не скажет.
5 апреля.
Иванов и Витя сочинили вдвоем стихи и написали их в классе на доске.
Вот они:

Марья Петровна нашла, что стихи недурны, но нужно слово "пацанята", заменить другим. Ну, а мы так уж привыкли — пацан, пацанята — для нас обыкновенное слово. Нам всем стихи очень понравились. Пришел Петрон и тоже похвалил. Он нашел, что если заменить слово "пацанята" другим, стихи можно будет поместить в стенной газете.
Ребята теперь все время поют и орут эти стихи.
10 апреля.
Чудесные стоят дни, и мы часто ходим с Марией Петровной на экскурсии. Несколько дней назад от нас неожиданно уехал Гонский. Он проучился у нас всего несколько месяцев и уехал к бабушке.
— Ну вот, наконец-то, — сказала Марья Петровна… — Наконец-то избавились мы от наших скандалистов.
— Теперь мы опять станем обыкновенной, ничем не замечательной группой, и вы все должны радоваться, что избавились от такой дурной славы, — улыбаясь, прибавила она.
Скоро придет Рейзин и как он будет доволен, что никто не станет его больше трепать.
Я долго думал вчера, когда лег в постель, обо всех неприятных событиях этого года. Все уснуть не мог… Бранд очень и очень нехороший мальчик, и будет отлично, если он исправится в колонии. Мне вспомнился вдруг Хаим, какой он был несчастный и жалкий тогда, 7 ноября, когда Бранд засунул ему лед за воротник, и как он, совсем желтый, лежал в обмороке у края канавы. И таким ужасным показался мне в ту минуту Бранд и все его поступки, что я дал себе слово никогда, никогда в жизни не относиться плохо к людям других наций. Мне стало так жалко Хаима, что я готов был зареветь. Но в эту минуту, к счастью, вошла мама и заговорила со мной о чем-то.
Это ни черта, что я могу иногда заплакать, как девчонка, тем более, что если бы заплакал, никто и не увидал бы. Но я дал слово и сумею его сдержать.
15 апреля.
Ура! Ура! Я надолго прячу свои записки в ящик моего стола. Мне некогда больше заниматься ими. Я едва успею теперь справляться с уроками.
Ярко, ярко светит весеннее солнце, и теперь я буду бегать и гулять все свободное время. Я с удовольствием перестал бы уже и вовсе учиться — не люблю учиться весной, — да нельзя. Но записывать в эту тетрадку больше не буду.
Через две недели придет в школу Хаим; нет Бранда, нет Гонского, не будет в школе никаких историй. А все, что случилось этою зимою, запомнится мне хорошо. Да и в тетрадке моей сохранится запись об этом. А пока прячу ее надолго, надолго.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
Л. ТЕЙН
ДОМ НА РАВНИНЕ
Рисунки Г. Бершадского
Стр. 118. Ц. 60 к.
Л. ТЕЙН.
ВАСИНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПОВЕСТЬ
Рисунки С. Герасимова
Стр. 70. Ц. 40 к.
"Васино преступление" — деревенский мальчик Вася стремится к знанию. Он самоучкой выучился читать и мечтает поступить в школу. Этому всячески противится мать его— вдова крестьянка; она боится, что Вася, ее единственный помощник, забросит хозяйство, а главное, не будет ухаживать за коровой. Ни учительница, ни сельский совет не могут сломать упрямства матери.
Вася решается на преступление. В пойло корове он замешивает черепки разбитой чашки, а сам в ужасе от своего поступка убегает из дома.
В поле его подбирает крестьянин. Вася в горячке. Корове не суждено погибнуть — имать случайно обнаруживает отраву. Поступок сына открывает глаза матери. Она видит свою неправоту и разрешает Васе поступить в школу.
Книга рассчитана на средний возраст.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
БЕРНТ-ЛИ
ШКОЛЬНИК СВЕН
Перевод с норвежского Торнёус
Предисловие С. Ауслендера
Издание 3-е
Стр. 107.,
Ц. 45 к., в пер. 65 к.
А. ИРКУТОВ
В КЛАССЕ БЫЛ ШУМ
ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ АМЕРИКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ШКОЛЫ
Рисунки В. Доброклонского
Издание 2-е
Стр. 180.
Ц. 80 к.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
ЧИТАЙТЕ КНИГИ
А. КАРОТИ
НИНИ И ЧИККА ' ПРОТИВ ФАШИСТОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ФЛОРЕНТИЙСКИХ МАЛЬЧИКОВ
Перевод с итальянского М. А. Гершензона
Рисунки Н. Вышеславцева Стр. 160. Ц. 70 к.
ЧИККА В РОССИИ
НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ФЛОРЕНТИЙСКОГО МАЛЬЧИКА
Перевод с итальянского М. А. Гершензона
Рисунки Н. Вышеславцева Стр. 136. Ц. 75 к..
Связанная личностью героя с книгой "Нини и Чикка против фашистов" эта повесть имеет, однако, совершенно самостоятельное значение. Комсомолец Чикка путем громадных трудностей пробирается из Италии в Москву и оказывает здесь важные услуги партии и советской власти. Книга читается с большим интересом.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Коллектор Детской Книги
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ РСФСР
СОВМЕСТНО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
ОТКРЫТ В МОСКВЕ при магазине ГОСИЗДАТА № 1 Тверская, 28, уг. Советской пл. Телеграф, адрес: Москва ГИЗ КАДЕКА
КДК — крупнейшее в СССР собрание всех книг, издаваемых всеми издательствами СССР для детей различных возрастов.
Лучшие специалисты по ДЕТСКОЙ КНИГЕ, библиотекари, педагоги, авторы, культурные книготорговцы, объединились для работы в КДК
КДК комплектует, организовывает, пополняет, снабжает ДЕТСКОЙ КНИГОЙ библиотеки, школы, детские дома, шефские общества и др.
Бесплатную авторитетную консультац и ю о ДЕТСКОЙ КНИГЕ по почте и лично Вы получите в КДК
КДК срочно выполняет заказы, подбирая по программам ГУС'а, по темам, по возрастам, типам библиотек, школ и т. д.
КДК имеет при себе почтов. отделение.
ПЕДАГОГИ, БИБЛИОТЕКАРИ, ИЗБАЧИ, РОДИТЕЛИ, немедленно свяжитесь с КОЛЛЕКТОРОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ
КДК помещается в г. Москве, Тверская, 28, против Моссовета. Телефон 3-63-17.
