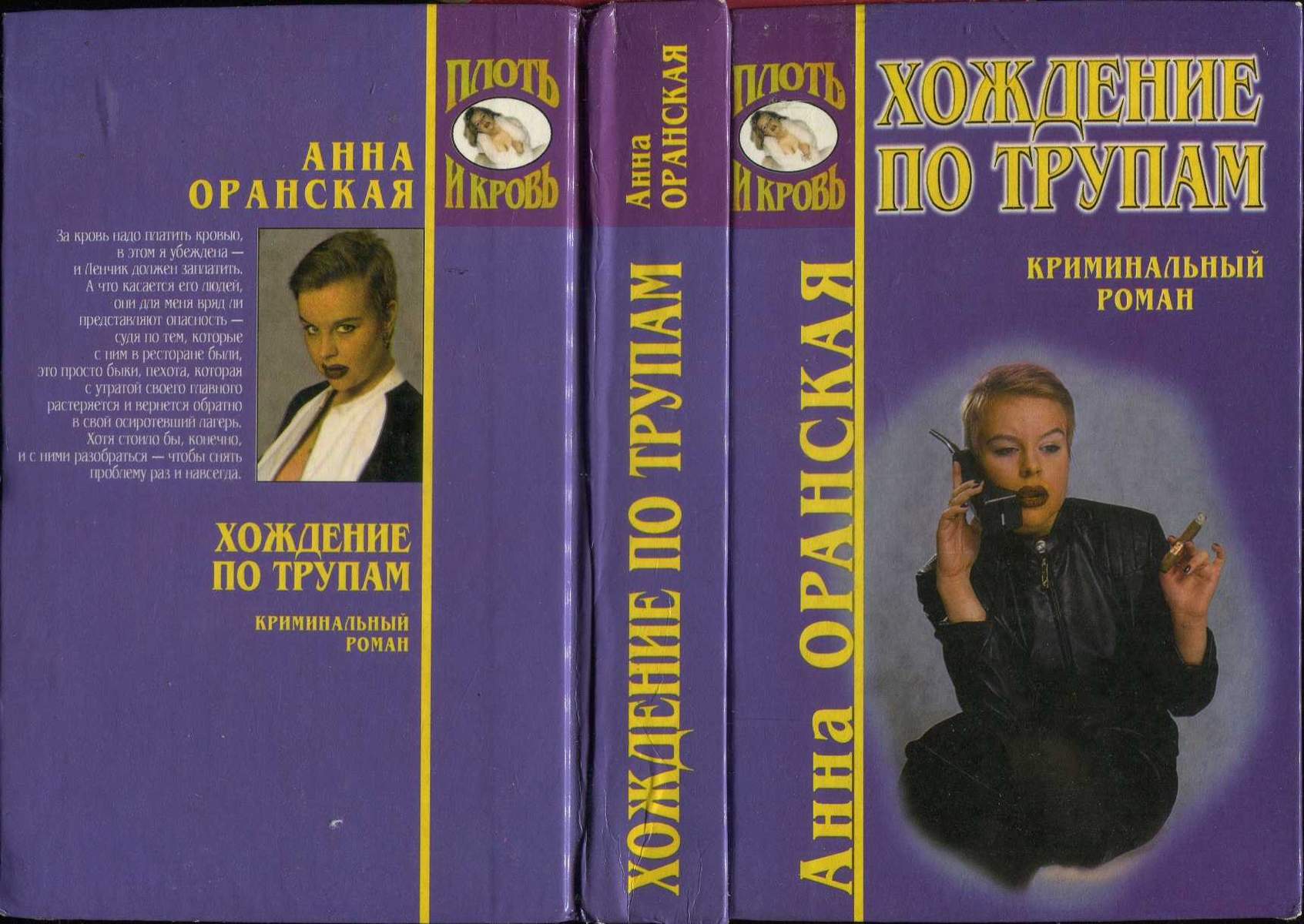Анна Оранская
Хождение по трупам
…И снова ночь — и я снова в гостиной: сижу в кресле у окна и смотрю в темноту. И такое ощущение, словно я все сижу и сижу в одной позе и в одном месте. И говорю с тобой, а за окном сменяют друг друга времена года, пейзажи, города и страны. Вот и сейчас за ним уже не Лос-Анджелес, не высоченные заборы, отделяющие роскошные особняки миллионеров в Бель Эйр друг от друга, а большое пустое поле и силуэты домиков где-то вдали. Я в Канаде — провинция Квебек, город Монреаль, непрестижный район Репентиньи.
И учти — два с половиной месяца прошло с момента нашего последнего разговора. Тогда было 31 января и сидела я в камере лос-анджелесской тюрьмы предварительного заключения, а сейчас середина апреля, и столько всего произошло за это время! Жизнь моя, как всегда, была бурной и полной всяческих событий. Сам знаешь, что бывшая твоя жена живет весело. Взлеты и падения, смерти близких и чужих, покушения на нее и ее покушения на других, секс с мужчинами и женщинами, скандалы и аресты — не соскучишься.
А теперь, надеюсь, все это кончилось. Устала я от такой жизни, хотя мне всего 23 года, уже устала смертельно. Устала прятаться, хитрить, и строить планы, и ходить по трупам потом. Да, тот, последний этап моей американской жизни — с последнего нашего разговора до бегства оттуда менее чем через два месяца, — это и было самое настоящее хождение по трупам. И я устала ходить по трупам не потому, что боюсь, что кто-нибудь когда-нибудь так же равнодушно пройдет по моему, — просто устала.
И надеюсь остаток своих дней провести тихо и мирно в этом тихом пригороде — и есть, и спать, и выпивать, и курить сигары, и заниматься любовью, и читать. Не надо мне никаких Голливудов, вечеринок, славы и знаменитостей вокруг: у каждой медали две стороны, и там, где есть взлет, обязательно будет и падение. И неважно, что за этим падением должен опять последовать взлет, что на смену несчастью придет счастье, что так всё и будет чередоваться.
Хватит, не хочу. Хочу тишины и покоя, и сидения у окна или у камина, и прогулок, и редких вылазок в центр города. Хочу жить так, как живу сейчас — внешне неброско и относительно скромно, не козыряя богатством, имея небольшой хороший домик в непрестижном пригороде, разъезжая на смешном японском джипе “Тойота Рав 4”, изредка покупая дорогие вещи в бутиках, в небольшом количестве и в разных магазинах. И престижные драгоценности мои лежат дома в сейфе, а ношу я самые на первый взгляд обычные и простые. Только ювелир поймет, что скрывается за этой простотой. И никаких элитных ресторанов и ночных клубов, никакого бизнеса и тусовок — и я уже не голливудский продюсер Оливия Лански, но обычная гражданка Канады Линда Хоун, живущая обеспеченно, но тихо и не желающая обращать на себя внимания. Не из опасений — не хочется. Хватит!
Еще несколько месяцев назад я была убеждена, что нельзя выйти из игры, в которую попала случайно, сама того не желая, и что навечно обречена крутиться на взбесившейся карусели, в которой лошади периодически сбрасывают и топчут седоков, которая никогда не останавливается, потому что на места выбывших все равно приходят новые, на ходу запрыгивая в опустевшие седла. Слишком ярко раскрашена эта карусель, слишком высоки ставки, слишком заманчивы выигрыш и успех. Только вот достаются они немногим, и немногие из счастливчиков проживают достаточно долго, чтобы успеть своим успехом насладиться, — но каждый вновь прибывший верит в то, что уж он-то и выиграет все, и проживет сто лет, и умрет от старости, а то и обретет неуязвимость и бессмертие.
Неплохо бы, да только так не бывает. И могилы очень везучих игроков на Ваганьковском, Донском и прочих московских и немосковских кладбищах — тому подтверждением. Но вновь прибывшие и большинство из старых участников стараются не думать, не видеть и не слышать.
А я чужая была на этой карусели, человек со стороны, потому и видела, и слышала, и думала. И когда она притормозила на мгновение, тут же слезла с нее. Вот уже два месяца карусель крутится без меня, и я надеюсь, что она не замечает моего отсутствия, и очень верю в то, что она за мной не придет. И не заржут под окном деревянные лошади, нетерпеливо постукивая копытами, напоминая, что мне пора обратно, что мое место там, что мне предназначено сделать еще какое-то количество кругов и только тогда я смогу обрести свободу. Вместе со смертью, разумеется.
Она, эта карусель, как казино. Привыкло всех затягивать и никогда не проигрывает, разве только на миг, пока выигравший не спустил выигрыш, а с ним — все что у него есть и не влез по уши в долги: он ведь верит, что фортуна снова повернется к нему лицом, и не слышит язвительного смеха. А если находится редкий счастливчик, выигравший крупную сумму и достаточно умный, чтобы решить уйти со своим выигрышем и никогда не возвращаться, оно, подобно отелю “Калифорния” из одноименной песни “Иглз”, захлопывает перед уходящим все окна и двери. И поет ему издевательски последнюю строчку: but you can never leave… — что означает по-русски:
“Ты никогда не сможешь уйти”…
Глава 1
— Приношу вам свои извинения, мисс Лански…
— Ну что я говорил, Олли?! Что я тебе говорил?!
Перевожу взгляд со своего адвоката на директора лос-анджелесского отделения ФБР и, признаться, ничего не понимаю. Неудивительно: всю ночь не спала, только под утро задремала, а ровно в девять выдернули из камеры, еле успела накраситься, благо пока, в тюрьме предварительного заключения, все, что мне надо, было при мне.
— Ты свободна, Олли! Они признали, что не имели права прослушивать разговоры, что твой арест был ошибкой. Ты свободна!
Я свободна? Я, которой грозило минимум восемь лет, а в худшем случае восемьдесят восемь?
Недоуменно смотрю на Крайтона — в его жирную самоуверенную рожу, кислую, недовольную и якобы извиняющуюся. Но в маленьких глазках, запутавшихся в складках жира — он вообще похож на шарпея, толстый и кожи у него в два раза больше, чем нужно, — вижу другое. Я вижу в них, что он меня ненавидит за то, что я выскользнула, на время сочтена невиновной, и он постарается меня засадить. Очень постарается — нет у него выбора. Теперь или шумный процесс, и повышение, и слава — или весьма неприятные проблемы, связанные с незаконным задержанием голливудского продюсера, прослушиванием телефонных разговоров и прочими очень серьезными ошибками. А значит, для меня это временная передышка, которую даровало чудо, но никак не спасение и не конец неприятностям.
— Мне было очень хорошо у вас, мистер Крайтон, — не удерживаюсь от укола, хотя пусть радуется, что не хамлю. — Искренне желаю вам самому испытать на себе гостеприимство ФБР. Я, по крайней мере, сделаю для этого все возможное…
Адвокат дергает меня за рукав, а я смотрю со всем презрением, на которое способна, в эти жирные глазки, показывая ему, какое же он ничтожество. И кажется, что он съеживается вдруг, становится ниже ростом, превращается в того поганого пигмея, которым и должен быть. Или это я вырастаю?
— Надеюсь никогда вас не увидеть, мистер Крайтон, — поворачиваюсь к нему спиной, чтобы не прочитать в его глазах сказанную про себя фразу: “Не надейтесь…”
— Все прекрасно! Тебя выпустили под залог — всего двести тысяч долларов, совсем немного. Они боятся признать, что ты невиновна — я же разорву их на части, этого Крайтона у меня на Аляску переведут до конца дней. Ты знаешь, кстати, что ФБР может отправить провинившегося сотрудника в любую дыру — и он там будет торчать до конца дней? Они как рабы в этом ФБР, никаких прав. Ужас! Неудивительно, что там работают такие типы!
— Подожди, Эд, — перебиваю его, устав от болтовни, в которую можно вклиниться только грубо и зримо. — Под залог? Так выходит, я все еще подозреваемая?
— Ну, это мелочь — вопрос нескольких дней! Я и мой коллега — тот специалист по уголовным делам, Дэн, — я тебе говорил, надо будет, кстати, заплатить ему за работу, он представит мне счет, — так вот, мы с Дэном не оставим от их подозрений камня на камне. А потом начнем процесс — Оливия Лански против Соединенных Штатов Америки. Как тебе?
Я знаю, здесь все процессы против государства и его структур называются вот так вот громко. Только мне это на хрен не надо. На самом деле тут все по-другому: тут Соединенные Штаты против меня, и все шансы на победу — у них. Достаточно сделать запрос в Москву относительно моей личности, и у них подозрений будет куда больше. Москва ответит, что никакой Оливии Лански не существует и не существовало, и начнутся выяснения, а в конце концов всплывет, что Оливия Лански есть убитая 1 января 1995 года Ольга Сергеева, гражданская жена погибшего годом раньше криминального авторитета Вадима Ланского, ну и, естественно, деньги, переведенные в Штаты Вадимом Ланским, будут объявлены мафиозными, а значит, мафиозна и его жена, и ее деятельность в Голливуде, и все такое. И еще всплывет, что проживавший с ней Юджин Кан не кто иной, как еще один криминальный авторитет, Гена Кореец, отсидевший приличный срок за убийство.
И все начнется сначала, только тогда уже никакое чудо не поможет. Потому что с этими фактами им будет легче меня обвинить в том, что именно мы с Корейцем организовали убийство Яши Цейтлина, давнего и очень близкого друга моего покойного мужа, вложившего деньги в наш фильм и перед смертью завещавшего нам с Корейцем все свое немалое состояние. Они ведь в этом меня и обвиняли, а между тем ни мне, ни Корейцу Яша ничего о своих планах не сообщал и завещание, как оказалось, написал за три дня до смерти, почувствовав в визите незнакомца смертельную опасность. И не ошибся: вслед за появлением незнакомца, потребовавшего вернуть пятьдесят миллионов долларов, на которые мы втроем кинули покойного московского банкира Кронина, пришли киллеры, уже зная, что деньги не у Яши, а у меня.
Так что обвинение, с самого начала бывшее бредом, теперь в глазах ФБР обретет почву. А если они еще узнают всю историю с мистером Крониным — тогда все…
Мы стоим в пробке, напоминающей компьютерную игру “Тетрис”, суть которой заключается в том, чтобы максимально компактно уложить беспорядочно падающие сверху фигурки. Эд, сосредоточившись на дороге, перекрыл свою словесную реку временной плотиной, и я наслаждаюсь минутами тишины, зная о том, что когда пробка рассосется, плотину прорвет вновь и потоку красноречия не будет конца — и спасения от него тоже не будет.
Поглядываю искоса на него. Дерганые движения, как будто он развлекается с игральным автоматом: газ, тормоз, опять газ, переключает на руле скорости, открывает окно, высовывая локоть, а потом и голову, пытаясь посмотреть вперед, словно ему так не видно. Как он водит машину — кошмар! С тех пор как сама начала водить, не очень хорошо себя чувствую, если в бездействии сижу рядом с водителем, потому что расслабиться полностью все равно сложно.
— У тебя нет сегодняшней газеты, Эд?
— Тебя что-то интересует, Олли?
— Да нет, просто не видела газет десять дней, отстала от жизни, — отвечаю осторожно.
— Вот уж не знал, что ты читаешь газеты, — удивляется он. — Сейчас съедем с трассы, я приторможу и дам тебе ее. Я сам не успел прочитать, потому и прихватил с собой. Вчера уже все было ясно с твоим освобождением, и деньги внесены, но все решилось уже поздно вечером, а мне еще надо было убедиться, что этот факинг Крайтон выполнил то, на чем я настаивал, и извинился перед тобой. За такие вещи его точно надо загнать на Аляску! Тупица! Безответственный кретин!
Вот я и сама спровоцировала прорыв плотины и теперь вынуждена слушать его обличительные монологи о Крайтоне и хвалебные отзывы о себе самом.
Хоть он и радуется — пытается меня убедить в собственном могуществе, и, как всегда, создает себе рекламу, расписывая свои подвиги, — но будь у ФБР в распоряжении только один из тех фактов, о которых я говорила, — и все, ни хрена он бы не стал делать, стух бы сразу. Внешне сохранял бы уверенность — подключал бы именитые адвокатские конторы, которые бы тянули с меня по двести долларов за час работы, — но заранее знал бы, что дело проиграно. Русская, да еще и связанная каким-то образом с мафией и мафиозными деньгами, да к тому же русская, внедрившаяся в Голливуд, — тут шансов никаких.
Какое счастье, что эти идиоты не догадались сделать обыск у меня в доме. Конечно, я очень рассчитывала на то, что самый секретный сейф они сразу и не найдут, но им бы хватило не слишком далеко спрятанных десяти порций кокаина, которого купила по моей просьбе Стэйси, моя любовница. И что бы я объяснила по этому поводу — что была тогда в депрессии, потому что моей жизни угрожал вымогавший из меня пятьдесят миллионов русский вор в законе из Нью-Йорка?
— Может быть, я сама достану газету, Эд?
— Ну конечно, Олли, она в кейсе, на заднем сиденье.
“Не торопись, — говорю себе. — Не проявляй нетерпение, не наталкивай его на ненужные мысли”. Здесь как-то не принято открывать чужой кейс, дабы извлечь из него газету, даже если жутко хочется найти в ней нечто очень важное. Даже если владелец кейса рядом и как бы не возражает против того, чтобы ты это сделала. Кейс — его частная собственность, и, если я к нему притронусь, он это запомнит — и потом может кое-что сопоставить.
— Да ладно, это может подождать. В конце концов, я и вправду не такой уж любитель газет, — произношу с деланным безразличием. — Просто боялась, что может появиться в прессе информация о моем аресте. Моей работе это очень повредило бы.
— Что ты, Олли! Если бы они передали что-то газетам, им бы точно пришел конец. Я их с самого начала предупредил — и они испугались. Ты же понимаешь: если они объявляют всей Америке о твоем аресте и в итоге сами же тебя отпускают, это для них серьезный удар. А ты легко подаешь на них в суд за моральный ущерб, который можешь оценить, скажем, в десять миллионов, — и выигрываешь.
Да, здесь такое практикуется. Не знаю, конечно, можно ли отсудить такую бешеную сумму у государства, а вот у частной компании — запросто. Например, курил ты “Мальборо”, а потом у тебя обнаруживают рак легких — и хлопаешь “Рейнольдс Тобакко” на приличные бабки, которых хватит и на лечение, и на остаток жизни безутешным родственникам. Или едешь, скажем, на “Форде”, а у тебя отваливается колесо и ты врезаешься куда-нибудь и становишься инвалидом — мало того что страховку получишь, еще и “Форд” платить устанет. И это физический ущерб, осязаемый так сказать, а вот моральный неосязаем, но за него можно куда больше получить.
Поэтому адвокат здесь — самая престижная профессия, и самая презираемая одновременно. Говорят, что низшее звено этой касты ошивается по больницам, поджидая поступающих жертв автокатастроф и всяких производственных аварий, и предлагают свои услуги за двадцать-тридцать процентов и умудряются на этом сколотить приличные деньги. А уж про высший эшелон и говорить не приходится: там в хорошей адвокатской фирме новобранец после университета получает тысяч сто в год, а фирма хлопает клиента на двести — четыреста долларов за час работы — и насчитывает такое количество часов, что только успевай чеки выписывать. Джон Гришэм, американский бестселлерист, об этом классно написал — зачитаешься.
— Ты передал Мартену мою просьбу найти Дика и сообщить ему, что произошло?
— Разумеется. А кто такой этот Дик?
Многоуважаемый конгрессмен от штата Калифорния, чьей поддержкой я заручилась, почувствовав опасность и специально переспав с ним месяца полтора назад — и записав все это на камеру, перед которой сыграла так, что вялый любовник Дик выглядит похотливым, грязным извращенцем. Но стоит ли об этом говорить Эду?
— Так, один влиятельный человек…
— Олли, ты мне сказала, что собиралась уехать в Европу на пару месяцев — этот идиот потому и решился на твой арест, что боялся, что ты пропадешь навсегда. Так что, пожалуйста, не уезжай никуда в ближайшее время — ты сегодня подписала бумагу, в которой обязуешься до окончания следствия не пересекать границы штата…
Подписка о невыезде, короче. А я и не поняла — Эд мне сунул бумаги, я поставила свою подпись не глядя, думала-то уже о другом. Хреновенькую свободу обеспечил мне Эд — ограниченную и, возможно, временную, — а ликует так, словно мне принес извинения сам директор ФБР, а Крайтон уже служит на Аляске и трахает эскимосок. Хотя, скорее всего, ему бы больше понравилось, что эскимосы его трахают, — не похоже по его виду, чтобы он пользовался успехом у женщин, даже у тех, что живут в чумах и моются два раза в жизни, в день рождения и в день смерти. Ладно, эскимосы тут ни при чем, а вот Крайтон — пидор, и, к сожалению, мстительный.
— И, Олли, постарайся узнать, когда вернется Юджин. Знаешь, он так сразу уехал после смерти Цейтлина и до сих пор не появляется, а это наводит ФБР на мысли…
Это и меня наводит на мысли. На очень печальные мысли. Признаться, я его уже и не жду. Он двадцатого ноября улетел, чтобы разобраться в Москве с теми, кто заказал убийство Яши: уверен был, что пули прилетели оттуда, — и обещал вернуться через две-три недели, максимум к Рождеству, но пропал бесследно. Говорил, что звонить не будет, мол, опасно — и прав оказался хитрый Кореец, прослушивало-таки ФБР мой телефон, хотя и неизвестно, с какого именно дня, — а свяжется по факсу. И канул — боюсь, что в Лету. Настолько давно боюсь и настолько сильно, что даже не хочу об этом думать. И ничего от него не жду — домашний телефон давно сменила, мобильный тоже, так что хрен меня разыщешь.
— Я попробую его найти, но не думаю, что ему стоит спешить сюда, Эд. Опасаюсь, что его тут же арестуют…
А что, запросто: был бы здесь, приняли бы нас вместе. Слишком неправдоподобно выглядит все, что произошло в Нью-Йорке. Кореец ехал в тот вечер вслед за Яшей, чуть поодаль, следил для собственного спокойствия, чувствовал, видно, что-то звериным своим чутьем — и “магнум” у него был при себе, взятый у Яши и на Яшу же зарегистрированный. Он услышал выстрелы неподалеку от дома Цейтлинов и нажал на газ и увидел, как трое поливают из автоматов замерший “Линкольн” и вмял одного киллера своим джипом в Яшину машину, а двоих расстрелял. Трудно поверить, что мирный бизнесмен, совладелец голливудской киностудии, мог задавить одного убийцу, вытащить у мертвого охранника пистолет, пока двое оставшихся киллеров расстреливали машину, и завалить их обоих.
И вправду сложно и неправдоподобно — для тех, кто не знает Корейца. Конечно, версия случившегося в реальности другая — ни у какого охранника ствол он не вытаскивал, “магнум” у него был при себе, но все равно все это в глазах полиции и ФБР похоже на фантастику. Или на заранее подстроенное мной и Юджином убийство, который подослал к Яше незнакомца, узнал, что тот завещал нам все свои деньги, потом направил киллеров. И порешил их лично, только потому, что они его знали как заказчика и не ждали, что он начнет их мочить, — завалил их, чтобы убрать неумных и опасных свидетелей…
Просто сцена из “Моцарта и Сальери”, заказ реквиема. Не новый весьма способ — подослать незнакомца, подталкивая таким образом человека к тому, чтобы он сделал последнее и важное для будущих убийц дело. Но Крайтон с классикой вряд ли знаком: американцы, в принципе, жутко невежественные.
— Ну что ты, Юджину ничего не грозит…
— Не знаю, Эд, сомневаюсь. Этот Крайтон — мстительный сукин сын, и ему нужно, чтобы я села, ты же понимаешь…
— Это ему не удастся, это Америка, в конце концов!
Вот именно, Америка, где если ты русский, значит, мафиози — и посадить тебя можно безо всяких доказательств. Не показателен разве пример Япончика — он, конечно, большая фигура, но сел-то ни за что, а тех, кто на него показал, аферистов, укравших из России миллионы, взяло под защиту ФБР. И даже по их показаниям, он им ничего не сделал, он просто сказал, что надо вернуть фактически украденные у банка “Чара” деньги — не угрожал, не бил, не совал пистолет под нос, и вот итог. Какая на хрен демократия и справедливость — шумный процесс, внушительный срок, награды фэбээровцам, повышения по службе, появление новых должностей и отделов и куча показушных статей в прессе — о том, что Япончик продавал в Африку оружие, торговал наркотиками, планировал убить агентов ФБР. Туфта, пустой базар, но связанного льва пинать приятно и легко: он же не ответит.
И если уж такую фигуру на таком громком процессе осудили ни за что, то стремившуюся захватить весь Голливуд русскую мафиози Оливию Лански посадить совсем просто…
…Господи, я дома. Я в доме, увидеть который ожидала лет через несколько. Нет, не было здесь никого за время моего отсутствия — и все в порядке, все на месте, по крайней мере, мой пятисотый “Мерседес” в гараже, хотя джип Юджина отсутствует. Ну конечно, он остался на стоянке у офиса ФБР, в котором меня и арестовали. Завтра заберу.
Пыльно кругом, прислугу я давно отпустила, и за время моего отсутствия она, естественно, не появлялась — неровный бледный свет пробивается сквозь жалюзи, разрезая черную мебель на узкие полоски, стеклянный столик в старых потеках, похожих на капли виски, раскиданные по полу вещи в спальне, чулок, траурным бантом висящий на спинке кресла, засохшая роза в длинной вазе. Трогаю затвердевший бутон, издающий интимное шуршание, оставляющий на ладони невесомый налет. Так хорошо здесь, и мне кажется, что я как летучая мышь, вернувшаяся в свою темную пещеру, и хочу тихонько повиснуть вниз головой в затянутом паутиной углу и заснуть.
Такое ощущение, что не была здесь вечность, — и медленно прохожу по дому, рассматривая все пристально, ища следы, оставленные присутствием чужих, вспоминая, как счастлива я здесь была, сначала одна, потом с Корейцем. Ладно, что об этом сейчас? Вот что мне надо: ванная, порция виски и толстая сигара — в тюрьме курила тоненькие, чтобы не раздражать никого. И может быть, сеанс любви с самой собой в мыльной пене — я же десять дней была без секса, такого в моей жизни не случалось, начиная с тринадцати лет, и в двадцать три начать проповедовать воздержание я не собираюсь. Наверное, никогда не соберусь — даже если случай даст мне возможность дожить до глубокой старости.
Черт, о главном-то я и забыла! Вот чувствительная стала после десяти дней в тюрьме — так растрогалась, увидев собственный дом, что забыла о деле. Хороша, ничего не скажешь! Не долго думая выскакиваю из воды, накидываю халат и бегу туда, в гостиную, оставляя за собой на черном ковре тающие сугробики пены, делающие его похожим на рыхлую влажную землю. Потому что в гостиной в сумке лежит свежая газета, которую Эд мне дал в последний момент, уже подвезя меня к дому и тут же умчавшись по делам. Может, потому, что войти я его не приглашала?
В тюрьме я “Лос-Анджелес таймс” каждый день прочитывала от корки до корки — сначала всматривалась в первую страницу, веря, что именно на ней должно быть напечатано то, чего я жду, потом судорожно пролистывала остальные и, не найдя ничего, начинала внимательно читать все подряд — думая, что информация эта, в принципе, может быть на любой полосе, и самым мелким шрифтом, потому что я не знаю, как произойдет то, что должно произойти, и насколько это важно для других.
Пусто на первой полосе сегодняшней газеты, и это меня, признаться, напрягает: по договору вчера был последний день. Я понимаю, конечно, что работа непростая и требует подготовки, но ведь не настолько социально значимы и важны те люди, фамилии которых я так хочу увидеть на газетной странице, чтобы подготовка растянулась на месяц. И отсутствие ожидаемого гигантского заголовка и натуралистичных снимков немного омрачает радость.
“Не все сразу, — говорю себе. — Не все сразу. Ты сегодня из тюрьмы вышла, на что вообще не рассчитывала, а завтра или послезавтра прочитаешь долгожданную статью”.
Ладно, почитаю на всякий случай. Привыкла уже за десять-то дней. Щелкаю обрезалкой, и маленькая гильотина от Картье безжалостно, но бескровно обезглавливает толстенную “Корону”. Вспыхивает специальная длинная спичка — дома всегда от них прикуриваю, так традиционней и приятней, а зажигалка хороша для внедомашнего курения, — и медленно-медленно втягиваю густой вкусный дым, и смакую, впитываю всеми рецепторами, и так же медленно выпускаю его обратно на волю. По такому случаю и порция виски не помешает — в ближайшие полтора часа из ванной вылезать я не собираюсь и в город сегодня не поеду уже точно.
В тюрьме душ каждый день — это не советская зона, о которой Кореец рассказывал, девять лет там оттрубив, — но все равно сейчас такое ощущение, что я не мылась месяц. Вскальзываю обратно в любимую круглую ванную, ставя пепельницу на бортик и стакан рядом с ней, — и когда кажется, что пар раскрыл меня всю, поселился во всех порах, потяжелевшей рукой дотягиваюсь до газеты. Чем порадуют меня сегодня славные журналисты города Лос-Анджелеса?
Есть! Есть, твою мать! Есть! Не на первой полосе — ближе к концу, где всякие хроники происшествий печатают. Что ж, то неприятности одна к одной, то приятные сюрпризы. Даже не верится, что все случилось. Я так этого ждала — смешно сказать, но сидя в тюрьме, я больше всего на свете ждала именно этого. Не освобождения под залог, не оправдания на суде, не мягкого приговора, а вот этой статьи. Увы, она не такая броская и большая, как я рассчитывала, и фото никаких, но так для меня, наверное, даже лучше, потому что это означает, что особого значения случившемуся никто не придает.
“Автоматные очереди переполошили вчера обитателей мотеля у лос-анджелесского аэропорта. В 11.30 вечера “Шевроле Каприс” и “Форд Торус”, арендованные постояльцами мотеля, уже въезжали одна за другой на территорию мотеля, когда началась стрельба. Двое неизвестных вели огонь из припаркованных напротив въезда в мотель автомобилей. По свидетельству ночного администратора, видевшего происходящее, в момент начала стрельбы водитель “Шевроле” молниеносно сориентировался, резко нажал на газ и в буквальном смысле влетел на территорию мотеля, максимально сократив сектор обстрела. “Торус” принял на себя основной удар — полицейские насчитали на корпусе машины сорок входных отверстий. Водитель “Торуса”, 22-летний Сергей Лопатин, и один из сидевших сзади пассажиров, 25-летний Андрей Ляско, скончались, остальные двое пассажиров получили ранения. От огнестрельного ранения в голову скончался и один из пассажиров “Шевроле”, 39-летний Олег Мальцев, еще один человек тяжело ранен.
Жертвами обстрела стали эмигранты из России и один гражданин России, прибывший в США по туристической визе. По сообщению полиции, пострадавшие не были вооружены. Таким образом, как считает полиция, речь вряд ли идет о войне мафий или о разборках внутри русской мафии.
Тем не менее, по неподтвержденным данным, все семь жертв обстрела прибыли в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, и не исключено, что, вопреки заявлению полиции, речь идет именно о внутриклановых разборках. Возможно, пострадавшие вторглись на чужую территорию, а возможно, не поделили что-то с местными мафиози. Как сообщил прибывший на место преступления лейтенант полиции О’Доннел, опрос потерпевших показал, что они прибыли в Лос-Анджелес с целью показать Эл-Эй своему другу из России, и планировали через несколько дней улетать обратно в Нью-Йорк. Однако киллеры внесли коррективы в их планы.
Личности стрелявших не установлены — оба скрылись с места происшествия. Розыск затруднен тем, что ночной администратор мотеля не запомнил номеров и даже марок машин, так как, по его признанию, был напуган происходящим. Других свидетелей поблизости не оказалось.
Так что же это — война мафий или внутриклановые разборки между русскими? Или может быть, случайность, по которой люди, называющие себя туристами, попали под шквальный огонь, предназначавшийся другим?”
Не знаю, радоваться мне или грустить? Не слишком удачно выполнил киллер Джо мой заказ. Я ему сказала, что первоочередная цель — трое: Ленчик, тюменец и Виктор. Остальные пятеро — Ленчикова банда — тоже входят в заказ, но уже во вторую очередь. А вышло все наоборот — три трупа неизвестных мне людей и один тяжелораненый, возможно покойник. Может, речь о Ленчике идет? Неплохо было бы, ох как неплохо. А кстати, точно, тюменца звали Олегом, Ленчик так к нему обращался.
Что ж, тюменца нет. Нет человека, несколько раз видевшего меня рядом с Крониным в качестве банкирской любовницы. Где-то в России есть его приятель, с которым они тогда прилетали в Москву, — но там также есть и другие люди, которые хоть мельком, но видели нас вместе. Например, охранники, водитель — они же знали, что я у него жила несколько последних дней перед убийством их шефа. Но бог с ними — важно, что нет того, кто опознал меня здесь.
Так, тюменец и двое Ленчиковых пацанов, плюс кто-то еще в тяжелом состоянии, трое в строю. А Виктор улетел, видимо, коль скоро речь идет о семерых — в принципе, вся его роль сводилась к тому, чтобы прилететь сюда и показать мне, что я раскрыта полностью, что не стоит прикидываться ничего не понимающей американкой, которую приняли не за ту.
Не слишком хорошо, не слишком — первый удар оказался не таким точным и не стал последним для всех. Видать, не столь профессионален великий киллер Джо — и вдобавок скуповат, коль скоро взял с собой всего одного человека. Четыреста тысяч попросил за восьмерых — мог бы и еще кого-то подключить, чтобы наверняка. А может, его самого там и не было, может, двое его подручных все это и сделали?
А я ведь так и не знаю, кто такой этот Джо, которого мое напичканное образами сознание ради смеха облекло в романтический ореол. Палач из ниоткуда, из вечности, осовремененный, конечно, в крокодиловых сапогах и кожаной куртке, а не в красном плаще с капюшоном — но все равно человек без прошлого, инкогнито, мистер Никто, молодой на вид, с потухшим взглядом, неулыбчивый и холодный. И фантазия, как всегда, превосходила реальность, потому что оказался он всего-навсего не слишком профессиональным наемным работником.
И что мне делать теперь? Ленчик и так был для меня опасен, а сейчас и вовсе. И не потому, что угрожал смертью мне, а заодно и моим родителям и якобы находящемуся у его людей Корейцу, во что я не поверила, а потому что у него компромат на меня есть убойной силы. И попади сейчас в руки ФБР информация о том, кто я на самом деле и о моей причастности к делу Кронина — что легко можно подтвердить, обратившись к швейцарским властям и узнав, нет ли в одном из цюрихских банков счета на имя Оливии Лански, швейцарцы сразу расколются, тем более что им скажут, что речь идет о международной мафии, — кончится это для меня плачевно.
Короче, если Ленчик поймет, что то, что случилось, моих рук дело, — взбесится непременно. Он и так бесился, потому что на всех трех встречах, что у нас с ним были, вела я себя крайне непочтительно: первые два раза просто утверждала, что американка, что не понимаю по-русски и что в любую секунду могу обратиться в ФБР, а в третий раз, когда увидела Виктора и поняла, что теперь уже врать глупо, разговор вела исключительно жесткий, резкий, плюя на громкий его титул вора в законе. И потому, что я не блатная и по понятиям не живу, и потому, что он сам понятий не признает, а значит, вор он только по званию. Какой Ленчик на хрен вор, если грозил меня сдать ФБР — “в падлу” это по воровским законам, а ему — не в падлу.
Но как бы он ни бесился, сдавать он меня не будет: он в разговорах со мной дважды заявлял, что убрал Яшу, а я ему еще сказала, что две последние беседы записала на диктофон, и даже его продемонстрировала, а он просто лежал в сумочке в невключенном состоянии, хрен бы он чего оттуда записал. Но Ленчик поверил, так что бешенство его на такой шаг толкнет вряд ли, — хоть и бычина он тупой, должен понимать, что сядет надолго, если вообще не пойдет под вышку. Надо ему это? Нет, конечно, ему бабки нужны, ему надо с меня вырвать пятьдесят миллионов и получить обещанную за возврат долю, и думаю, что потом он с меня и дальше попробует бабки тянуть — если отдам то, что должна, решит, что я сломалась, а значит, можно рвать из меня сколько угодно.
А еще проще ему меня убрать — чтобы никому ничего не рассказала. И в свете того, что погиб тюменец, представитель тех, кто и разыскивал больше года эти бабки, убьет он меня наверняка. Получит деньги, никакой Тюмени об этом не сообщая, а потом убьет, чтобы и узнать-то не у кого было, отдала я или нет. И Тюмень оповестит, что должна была тварь деньги отдать, но покончила жизнь самоубийством от страха, или там в автокатастрофе погибла, или еще чего. Те же вообще наверняка не знают точно, кого их человек вместе с нанятым им Ленчиком ищет — не верю, что тюменец по телефону сообщал своим, как идут дела, а если и сообщал, то не называл ни имени моего, ни каких-либо фактов. Стремно такое огласке придавать.
И что, интересно, будет теперь делать Ленчик? Он знает, что за мной нет никого, что единственная моя опора, Кореец, канул где-то в Москве, и даже я не верю, что он жив. Неужели подумает, что удар пришел от меня? А от кого еще, с другой стороны? Он неместный, никому, я думаю, дорогу здесь не переходил, на поклон к лос-анджелесскому русскому мафиозному боссу, мистеру Берлину, являлся — это мне Ханли сообщал, следивший за Ленчиком. И не верю, что Ленчик этому Берлину сказал, зачем здесь: уж больно сладкий кусок эти пятьдесят миллионов, чтобы делить его на много человек. Так что он наверняка соврал что-нибудь — не случайно ведь только своих людей задействовал, привез из Нью-Йорка.
Интересно, кстати, как отреагировал бы этот Берлин, узнай он, зачем здесь Ленчик? Пусть Ленчик и вор в законе — этот неизвестный мне Берлин тоже может такое же звание иметь, но мне Кореец говорил, что в Нью-Йорке особого веса у него нет, занимается грязной работой с группой отморозков и ни на что серьезное не способен. Думаю, что Берлин мог бы Ленчика и потеснить, а то и вообще убрать: пятьдесят лимонов лучше получить самому, тем более взять их у молодой женщины, не имеющей никакой защиты, а тут какой-то мелкий Ленчик, да еще и на чужой территории. Может, имеет смысл связаться с этим Берлином? Но что я ему скажу? Да и опасная это игра — вдруг они с Ленчиком лучшие кореша, вдруг договорятся? Да и в любом случае отдавать я ничего не собиралась — такие вот принципы у меня.
Итак, что будет делать Ленчик — если это не он тот самый тяжелораненый, о чем можно только мечтать? Сейчас его полиция прижмет — они же должны выяснить причину стрельбы, а если запросят Нью-Йорк, им оттуда сообщат, кто такой Ленчик и его банда. Они в нью-йоркской полицейской картотеке есть — Ханли оттуда добыл сведения. Конечно, он ни в чем не виноват, но если в полиции служат не дураки, они его попрессуют немного, а потом за ним начнут наблюдать, так что идеальный для Ленчика выход — это уехать обратно в Нью-Йорк, отсидеться там, зализать раны, повыяснять, откуда удар пришел. А потом он все равно вернется обратно с остатками своей банды. А может, и здесь забьется в угол, посидит тихо недельку-две и снова примется за меня. Он ведь должен опасаться, что я могу скрыться, не с руки ему уезжать — отправит одного домой вместе с трупами, вызовет подкрепление, отлежится и начнет сначала. А с другой стороны, он уверен, что не убегу, слишком много денег у меня здесь, включая и неоформленное Яшино наследство в Нью-Йорке, и несколько миллионов, вложенных в Яшину корпорацию, о которых Виктор наверняка давно донес.
Господи, какое тяжелое дело — гадать! По любому поводу можно задать себе тысячу вопросов, выдвинуть сотню версий, и никогда не будешь знать, какая из них верная.
Обнаруживаю, что сижу абсолютно неподвижно в ванной, глядя прямо перед собой, с зажатой в руке газетой, гофрированной паром, — сижу, как манекен, застывший в одной позе. А в голове по огромной извилистой железной дороге летят поезда моих мыслей, поднимаясь в гору, слетая вниз, поворачивая, устремляясь в обратную сторону, чудом избегая крушений и столкновений.
Ладно, о Ленчике пока забудем — мне нужно как-то найти Джо, который должен работу выполнить до конца и добить оставшихся, а потом в Нью-Йорке Виктора отыскать, за это я готова заплатить отдельно, потому что человек, предавший Яшу, не говоря уже о нас с Корейцем, жить не должен. Когда передавала Джо деньги, договорились через десять дней встретиться в той же дискотеке. Но это при условии, что уже все будет сделано. Десятый день был вчера, и вчера же он предпринял попытку — так, может, появится там сегодня? Мы тогда условились, что в случае его отсутствия я еще два дня буду приезжать в то же время. И хотя у Ленчика сейчас проблемы, не очень-то умно выбираться одной по ночам — где моя охрана, интересно? Надо позвонить, узнать, — за ними еще десять дней работы, контракт-то был до первого февраля, а десять дней они отдыхали из-за моего отсутствия, которое поставить мне в вину нельзя никак.
Так что не все так уж хорошо, мисс Лански, опять передышка у вас, временная передышка, и ничего не решено, все по-прежнему в непредсказуемом состоянии, и опасность грозит с нескольких сторон. Но что поделаешь — это игра такая, здесь ничего никогда до конца не ясно, тут каждый шаг грозит опасностью, и не знаешь, что будет завтра. Поэтому сегодня все классно: свобода и частично удавшаяся попытка киллера, а завтра…
— Мистер Джонсон, это Олли Лански.
— О, Олли! У вас все в порядке?
— Разумеется, мистер Джонсон, разве можно было ожидать чего-то другого? — Надо блефовать, демонстрировать полную уверенность. В этой игре только так и надо: покажешь слабость — сожрут. — Хотела узнать, где там моя охрана? По нашему договору они должны со мной отработать еще десять дней, а потом мы, скорее всего, продлим договор еще на месяц, до конца февраля, как минимум.
— Да, я помню наш договор, Олли. Я очень рад вас слышать..
Да уж рад ты, как же! Но, с другой стороны, почему бы и нет: так бы выиграл на мне в случае моей посадки только за десять дней, — деньги я, кстати, могла бы потребовать назад через адвоката, — а теперь еще месяц работы, пойди плохо.
— …Но… есть одна проблема, мисс Лански. Дело в том, что я не ждал, что вы так быстро и благополучно решите свои проблемы — согласитесь, что это просто…
— Чудо?
— Да, примерно так. Но дело в том, что я уже распределил на ближайшие дни всех своих людей — у меня огромный штат, но и работы очень много, вы же понимаете, у меня самое крупное и самое известное охранное агентство в городе и спрос на моих людей очень велик Короче… короче в ближайшие пять — семь дней я, при всем желании, не смогу вам помочь. Разумеется, если вы не в состоянии ждать, мы сегодня же вернем вам то, что вы заплатили за десять дней, даже одиннадцать, включая сегодняшний, а я могу порекомендовать вам другое агентство, мисс Лански. Запишете номер?
— Да нет, спасибо. Жду от вас чек. — И резко опускаю трубку на рычаг, остановив ее быстрое падение в самый последний момент.
К чему нервы, мисс Лански? Спокойней надо, спокойней!
Понятно, что надо, но я ведь прекрасно понимаю, что именно он мне сказал. Узнал мистер Джонсон каким-то образом — а впрочем, он же не со стороны пришел на такую работу, значит, бывший полицейский или фэбээровец или цээрушник, — в чем меня обвиняют, и знает, что меня должны засадить все равно, и решил, что такой клиент его агентству не нужен. Дурная реклама — тоже реклама, но я ведь в глазах ФБР являюсь русской мафиози, а охранять русскую мафию — это уже антиреклама. Вот он меня и отшил вежливо — ведь не может же он мне сказать, что все знает. За это ФБР придется отвечать, за разглашение информации. Вот он и придумал повод и сейчас безмерно счастлив, наверное, что избавился от мафиозной девицы. А иначе возможности заработать денег он бы не упустил — с голливудского-то продюсера, наличие коего в числе клиентов почетно и может привести и других клиентов.
Что ж, это плохой знак. Конечно, дальше слухи обо мне пока не пойдут — надеюсь, что не пойдут, — но знак тревожный. Может ведь дойти до того, что обо мне статьи в газетах начнут появляться, из Голливуда придется уходить, и отвернутся от меня те, с кем общалась и работала. Их немного, конечно — Мартен и еще несколько человек с нашей студии и люди, с которыми знакомилась на разных вечеринках. Дальше пары реплик дело не шло — но вполне достаточно.
Только сейчас поняла, что жила здесь, в принципе, достаточно замкнутой жизнью. Я, правда, и раньше не особо любила людей, и в юности не было у меня, за ненадобностью, ни друзей, ни подруг — были любовницы и любовники, как правило быстро сменявшиеся или вообще одноразовые. И все. Больше мне никто не был нужен. Когда с тобой жила, вообще круг сузился до одного человека — не считая редких встреч с твоими пацанами и деловыми знакомыми. После тебя общалась с Корейцем, в основном, да с Хохлом — и то потому, что сами заезжали проведать. А потом было несколько знакомых по лесби-клубу, в который начала ходить, не желая заниматься сексом с мужчинами. А здесь вообще был со мной один Кореец, а из деловых партнеров — Мартен, который и приглашал нас на тусовки голливудские, на всевозможные вечеринки, презентации и пати, где я заводила поверхностные знакомства. А отвернись от меня Мартен, и вообще никого не будет — и ни к чему.
Но похоже, что голливудское мое будущее все равно не состоится, и если признаться, то никаким продюсером я и не была — продюсер кучу работы выполняет, не только деньги на фильм находит, но и продает его потом, а я только вложила средства, и предоставила сценарий, и поучаствовала чисто символически в отборе актеров. Выходит, я только совладелец студии — не больше. И Мартен это давал понять вежливо, боясь меня потерять, но и не подпуская к процессу, хотя в качестве сопродюсера я в титрах фигурировала. Ленчик за это и зацепился, просмотрев кассету и увидев, что сосценаристом является Вадим Лански, а сопродюсером — Оливия Лански. Он, конечно, и без этой зацепки бы обошелся — но так вскрыл, чья я жена была.
Это, конечно, было только начало, но все равно все было классно — фильм прошел на ура и прибыль принес немалую. И на второй картине я намеревалась работать по-настоящему, глубже влезая в процесс и не давая себя оттеснить. Но второй фильм, сценарий которого я написала давно, под вопросом. Я уже столько раз обещала Мартену дать окончательный ответ по поводу фильма — в смысле, готова ли я вложиться, когда к нему приступаем, — но то одно, то другое сроки отодвигало. То Яшу убили, то Юджин пропал с концами, то у меня начались неприятности. В последний раз ответ ему пообещала дать тридцать первого. Сегодня, кстати.
Ни к чему мне сейчас этот фильм. На мне еще проблемы с Ленчиком висят, которые, надеюсь, решатся благодаря киллерам, и с ФБР, а эти могут решиться совсем не в мою пользу.
…Ну когда же он кончит наконец? Господи, кто бы знал, как мне скучно
сейчас! И я даже не удивляюсь тому, что мне, отдававшейся огромному количеству мужчин, с большинством которых, в общем, тоже не было интересно — но так приятно было, что меня хотят, лучший комплимент, на мой тогдашний, да и сегодняшний взгляд, — так хочется в данную минуту, чтобы поскорее все завершилось.
Но он не торопится — и водяная кровать булькает размеренно в такт его движениям. Зачем ему торопиться? Он удовольствие получает — это мне тоска. А он, конечно, об этом не догадывается: я и в 16 лет так имитировала, что мужчины вдвое и даже вчетверо старше об обмане не подозревали. Да и неудивительно — и потому, что я хорошая актриса, и потому, что мужчины в подавляющем большинстве своем совершенно не задумываются, каково с ними женщине, они, кажется, полностью убеждены в том, что и так ее облагодетельствовали, подергавшись пять минут или просто попросив сделать им минет. И спроси их, не нужен ли женщине оргазм, они удивятся — скажут, что с ними женщины и так его получают, даже оскорбятся, что их подозревают в слабовыраженном мужском начале. Они же все самцы, истинные мачо, все, даже самые убогие. Они уверены, что в женской психологии и физиологии разбираются замечательно, считая себя Казановами.
И, не зная истории, не предполагают, что подлинный Казанова прославился не только количеством побед, но и их качеством — и давал каждой женщине возможность почувствовать себя счастливой, любимой, желанной хоть на миг, на час, на день. Он был тем, кто возвышал ее, служил ей и боготворил, влюбляясь страстно в каждую, — и страдал, и заставлял страдать или проливать слезы восторга и радости. Но в современном представлении истинный мужчина есть этакая секс-машина, беспринципная и неэмоциональная и, к сожалению, как правило, плохо работающая. И, как я вижу теперь, это не только для России характерно, но и для Америки.
Тьфу, твою мать! Вот угораздило меня так провести раннюю молодость — чтобы после общения с большим количеством мужчин начать их презирать. Но, с другой стороны, будь я другая в детстве, никогда бы не стала такой, какой стала, — да и жалеть не о чем, лучше знать, чем не знать, — хотя дуракам, естественно, живется легче.
Женщины, правда, тоже не подарок — я в лесби-клубе в Москве в этом полностью убедилась. Вроде все похотливые, особенно когда выпьют, хватают, лезут целоваться, телефон просят, а когда трезвые, тише воды, всего стесняются, не решаются даже познакомиться, и, судя по разговорам, к сексу, в принципе, равнодушны. И даже, кажется, его боятся — по крайней мере, многие из тех, кто со мной знакомился, в шоке были от моего заявления, что мне не подруга нужна, а любовница, и начинали говорить о том, что сначала бы лучше узнать друг друга поближе, погулять, в Третьяковскую галерею сходить — может быть, потом… В галерею вместо постели — как тебе? Я там была этакой развратной вольнодумкой, несколько подрывающей устои лесбийского общества — хотя, бесспорно, находились и такие, кто хотел от меня секса, и сразу. Вот только мало их было, и не слишком-то они были хороши.
Так что, могу только сделать вывод, что и у мужчин, и у женщин минусов масса и только считанные представители обоих полов могут быть хорошими партнерами в постели. Двух мужчин могу вспомнить в своей жизни — тебя и Корейца и столько же женщин, наверное. А остальные…
— Тебе хорошо, Олли? Я вижу что тебе нравится. Поцелуй же меня, бэби…
Да ни хрена мне не нравится, и не бэби я ему — но ничего не поделаешь, у меня с детства принцип был такой — раз уж оказалась в постели с мужчиной, должна быть на высоте и сделать так, чтобы у него остались максимально яркие впечатления. Именно поэтому, когда час-полтора назад оказались в моей сексуальной комнате, устроила для него показательные выступления с вибратором, коронный мой номер, исполнению которого отдаюсь настолько полно, что кончаю всякий раз бурно, а потом попросила его приковать меня к хитроумному приспособлению, напоминающему пыточный инструмент из средневековья, и отхлестать хорошенько, и брать грубо. Мужчин это всегда возбуждает, такое вот изнасилование, особенно если хорошо им подыграть. И я подыграла — извиваясь под совсем не больно бьющей плеткой, максимально оттопыривая попку и виляя ей под собственные крики и стоны, демонстрируя гладко выбритые складки между ног, и завопила, когда он вошел быстро и резко — подзадоривая и еще больше его возбуждая.
А теперь вот лежим в постели — я на спине с закинутыми на него ногами и стянутыми наручниками руками, а он между моих ног, заводясь от моего бессилия, подбадриваемый создаваемым мной звуковым фоном. И моя любимая водяная кровать сейчас напоминает мне утлое суденышко, тыкающееся в берега маленького искусственного пруда. Никакого удовольствия от такого плавания. И в этом не моя вина, но неудачного штурмана, которому я намеренно предоставила управление кораблем, потому что та же кровать, при наличии на ней Юджина, представлялась мне роскошным океанским лайнером, бороздящим волны наслаждений, никогда не пристающим к берегу, не бросающим якорь, не заходящим ни в какие порты для передышек — если только по просьбам утомившихся пассажиров. Или подводной лодкой, успешно ведущей боевые действия, то ускользающей фаллически в бездну и блуждающей по глубоководным фарватерам, то выныривающей на поверхность для ракетного залпа.
Аккуратно стаскиваю с него презерватив, второй за нынешний сеанс, и медленно-медленно провожу языком по всей длине не слишком длинного члена. Секс с ним — только в презервативе, без него он мне противен, хотя, в принципе, мое отношение к презервативам резко отрицательное. Но в любом случае делать в нем минет — это слишком, такое ощущение, словно резину жуешь. Он дергается, словно ток через него пропустили, и пальцы мои оказываются внизу, покалывая его ногтями, а губы обхватывают мужское его достоинство. Думаю, такого орального секса у вас еще не было, мистер, такого творческого и долгого. Для меня же это призвание, я же бывшая жрица любви, как никак, ушедшая в отставку и вот вынужденная снова явиться людям, точнее, этому человеку, очень и очень мне нужному, и потому не чувствую, как немеет постепенно язык и ноги затекают, и очень нескоро перевожу его через границу, за которую так долго не пускала, и принимаю в ротик вялый его выстрел.
— Это божественно, Олли, это просто божественно. Позволь, я сделаю то же тебе…
Пытаюсь отнекиваться, расточая комплименты по поводу того, как он утомил меня своим напором и мощью, мягко убеждая, что ему следует отдохнуть, — но ничего не получается. Ладно, десять минут, и сымитирую мощнейший оргазм — натурального ждать не приходится. И вообще, на мой взгляд, мужчинам заниматься оральным сексом не стоит — у них при этом такой вид, словно они тебя облагодетельствовали, совершили ради тебя нечто из ряда вон выходящее, хотя сами с легким сердцем суют женщине в рот немытый член, полагая, что доставляют ей массу удовольствия. Я, правда, умудрялась кончать, делая минет, — но только с тобой, с первым мужчиной, открывшим мне, что такое оргазм, и с Корейцем изредка, поначалу реже, чем с тобой, потому что ты любовью занимался нежно и мягко, а он, как правило, зверствует, и только бы не задохнуться с его гигантским членом во рту, не до оргазмов уже, но я быстро привыкла.
Вот лежу опять на спине, тихо постанывая и дергаясь изредка, и чувствуя прикосновения его языка — готовая поставить большую сумму на то, что он устанет минут через пять и начнет тыкать меня пальцами. Да и большинство женщин так же делает. Может, сказать ему, чтобы взял вибратор — все поприятней? Но лучше не отрывать — пусть упивается своим постельным мастерством. Для этой цели Стэйси мне бы больше пригодилась, но я ей так и не звонила с тех пор, как вышла, и она, наверное, решила, что я пропала куда-то или не желаю с ней общаться. Позвоню, завтра же и позвоню, прямо с утра, как проснусь. Потому что есть такое ощущение, что тот, кто не слишком умело меня там вылизывает сейчас, скоро упрется — он же конгрессмен, он на свою репутацию пятно бросить не может. А так все солидно: заехал к кинопродюсеру поговорить о деле, проконтролировать, как там себя чувствует отечественное кино, может, предложить патриотичную тему для фильма, дабы прославить великую Америку. Проверил — и бай-бай, великих конгрессменов ждут великие дела.
И вдруг бульканье кровати рождает воспоминание. Я маленькая жирненькая белокурая девочка в надувном бассейне, невинная тогда еще физически, бесстыдно смотрю в глаза взрослого незнакомого мужчины, который, присев на корточки, гладит пальцем мою загорелую щечку, проводит по пухлым губам, тут же с готовностью раскрывающимся, берет из воды мою мокрую руку и неожиданно кладет ее себе между ног, накрывая сверху своей, тихонько поглаживая бугорок в джинсах. И безвольно вырывающееся из меня острейшее желание, из прошлого вдруг силой фантазии перетекающее в настоящее, вызывает сладострастный стон Это не твоя заслуга, Дик, — и не стоит так самодовольно улыбаться.
— Ты фантастичная, Олли, — шепчет наконец, когда я разыгрываю вулканический оргазм, с громкими криками, конвульсиями и страшной дрожью.
— Ты тоже, милый, — выдыхаю, думая, что на самом деле он-то вполне реален — и очередная запись тому подтверждением. Не могу объяснить себе, зачем мне нужна еще одна запись — одна у меня есть уже, — но говорю, что разница в том, что на первой видно мое лицо, а на второй, сегодняшней, я в маске-домино. Наряд как бы специально для него — маска, пояс с чулками и перчатки чуть ли не по локоть, которые потом сняла, — но на самом деле специально для видеокамер. Если человек интимно со мной не знаком — не Стэйси и не сам конгрессмен Дик, других интимных знакомых в этом городе у меня нет, не считая нескольких прежних любовниц, — хрен скажешь, что это я. Не представляю, как буду его шантажировать, но вдруг пригодится.
И лежу на постели, размышляя, и смотрю, как он выходит из душа — у меня, естественно, отдельная ванная при сексуальной комнате, необходимое дополнение — и опускается в кресло, жадно разглядывая меня. Смотри, милый — и чуть шире раздвигаю ножки и чуть приподнимаюсь на локтях, глядя ему в лицо. Нравится ему это зрелище — и готова поспорить, что хочется еще, и были бы у него силы, он бы сейчас задвинул свою осторожность и остался бы еще на час, но сил у него нет. Это я поняла, еще когда минет ему делала, чувствуя под губами обмякший орган и с трудом не давая ему упасть. Хреновенький он любовник, Дик — и в первый раз был не очень-то хорош. И ничего бы между нами больше не было, если бы не мои злоключения.
— Мне пора, Олли, — ты же понимаешь, дела…
Киваю — хотя какие к черту дела, когда уже полночь. Но, с другой стороны, мне же лучше, чтобы он убрался поскорее — мне есть над чем подумать, да и тоскливо с ним все равно, как и со всеми другими — если не считать исчезнувшего Корейца.
— Мне так жаль, Дик. Надеюсь, мы увидимся в ближайшее время?
— Ну конечно, Олли, непременно.
О, великодушнейший из великодушнейших! Когда я выхожу из душа, он уже одет полностью и сидит с моей сигарой и порцией моего же виски.
— Извини, Олли, — я должен переключиться с такой приятной темы на более сухую и прозаичную. Я лично поговорю с этим Крайтоном, и уверяю, что больше у тебя не будет с ними проблем. Это безобразие, то что он позволил себе такое! Если он еще раз осмелится побеспокоить тебя, его карьере конец! Если что, сразу же звони мне.
— Спасибо, Дик.
Целуемся на прощание, и я спускаюсь с ним вниз, накинув халат, но не выходя из дома — не сомневаюсь, что за воротами его ждет машина с телохранителями, и ни к чему его компрометировать таким образом. А в случае нужды у меня есть компромат посильнее…
“Если что, сразу же звони мне…” Ну да, конечно, Мартен уверяет, что пытался до него дозвониться все десять дней, пока я была в тюрьме, — безрезультатно. Он сам объявился, как раз сегодня, когда я уже второй день на свободе, — встретились втроем в ресторане, на ланче, и, кажется, он напрягся, услышав о моих делах. На какое-то мгновение — но я увидела, и еще показалось, что остаток ланча он думал судорожно, как ему быть со мной дальше: и хочется, и колется. Потому что начнись мои проблемы заново, и он скомпрометирован общением со мной — особенно если кто-то просто заподозрит, что мы не только за ресторанным столиком проводили время. Конечно, обещал полную поддержку и деланно порывался позвонить в ФБР прямо из ресторана — но легко дал себя уговорить этого не делать, а разобраться со всем при личной встрече с Крайтоном. А когда Мартен вышел незадолго до нашего ухода в туалет — по-моему, специально, чтобы оставить нас одних, — еще раз мне посочувствовал, только намного мягче, и спросил, не приглашу ли я его вечером, чтобы мы еще раз обсудили этот вопрос.
Я, естественно, поняла все так, как надо — хочет поиметь меня еще разок под предлогом помощи, — но согласилась. Ситуация такая, что он мне может очень и очень понадобиться — и ни к чему из себя строить девственницу. Все равно Юджина нет — и некому хранить верность.
Вот, кстати, идиотское понятие — хранить верность. Я и тебе предлагала приводить кого-то домой, если понравилась тебе девица, и Корейца никогда не ограничивала, он сам себя сдерживал, уверяя, что лучше меня никого быть не может. Но я же видела, как он косился на одну актрису, которая в нашем фильме роль второго плана играла, и как на Шэрон Стоун смотрел, когда встретились с ней на одной вечеринке. Не знаю, как там у него все сложилось после отъезда в Москву — жив ли он, и если нет, то сколько прожил после возвращения, — но не сомневаюсь, что если провел он там больше месяца, то кого-то трахнул наверняка, ну не онанизмом же заниматься ему ради этой условной верности, которой лично я никогда не требовала.
Что ж, мистер Дик Стэнтон, вы сами предложили к вам обращаться — за этим я вам и отдалась, собственно, во второй раз, чтобы не шантажировать, если что, а именно обратиться за помощью. Шантажом я все-таки не занималась никогда — хотя и мистера Бейли из ФБР засняла в бывшем моем, а ныне отнятом у меня Ленчиком стрип-клубе, который по совместительству являлся публичным домом, и дважды Дика — в собственной комнате для утех. Вдруг понадобится — не дай бог, конечно, потому что новым делом в такой ситуации заниматься опасно, а надо наверняка действовать. Но кто знает, что будет завтра — я, по крайней мере, точно не знаю.
И самое хреновое, что и не дернешься. Так все классно было перед арестом — сделала заказ на Ленчика и его людей, и собралась в Европу якобы на пару месяцев, а на самом деле навсегда, и часть денег туда перекинула. Отличное было решение всех проблем — отомстить за Яшу и, возможно, Корейца, и скрыться, потому что и так ясно, что голливудской моей карьере подошел конец. А теперь что? Сидеть и ждать, когда ФБР арестует меня повторно? Только и надежда, что Дик сдержит ФБР, объяснит им, что не к тому человеку они лезут, а Джо разберется с Ленчиком и остатками его банды.
Черт, не слишком хорошо получилось — по идее я вчера еще должна была приехать к одиннадцати вечера в ту дискотеку, в которой мы с ним и встретились, но не поехала, потому что осталась без охраны, а одной рискованно выбираться в такое время, черт знает этого Ленчика, что он надумает, да и ФБР вполне может сидеть у меня на хвосте — и уж можно быть уверенным, что если это так, то их человек обязательно зайдет за мной в зал, и не исключено, что личность Джо им известна. А тогда уж мне точно конец — за заказ убийства и убийства нескольких человек влепят столько, что на десятерых хватит. Это ж Америка — тут и на сто лет могут осудить, как бы смешно это ни звучало.
Не поехала, короче, — и, хотя надумала ехать сегодня, тоже все сорвалось из-за визита Дика. Значит, завтра — обязательно завтра. Вопрос, конечно, объявится ли Джо — работу-то он выполнил только частично, должен доделать, если хочет вдобавок к уже заплаченным мной двумстам тысячам получить еще двести. Но проверить надо.
А в газете сегодняшней пусто — если не считать статьи, посвященной вчерашнему событию, расстрелу двух машин с Ленчиковыми людьми, все то же самое, никаких новостей — разве что сообщили, что названный в первой статье тяжелораненым Андрей Михнев из Нью-Йорка на самом деле просто порезан сильно осколками разлетевшегося стекла, но жить будет, и остальные двое раненых получили именно такие ранения, не пулевые, и после оказания первой помощи покинули больницу. И всего было три трупа, о которых писали уже, и больше ничего нового. И даже полицейская версия случившегося отсутствует, да и статья-то небольшая — словно никто не придал этому особого значения.
Трое из семи сидевших в машине — не слишком хороший результат для киллера и его напарника: они должны были убрать всех. Я-то рассчитывала, что Джо сначала Ленчиком займется, которого я пометила цифрой один — частный детектив Ханли мне рассказывал, что Ленчик пару раз уезжал из мотеля в сопровождении одного из своих людей за рулем. Это остальные все вместе держатся — тут уж надо всех класть, — а Ленчика можно было прихватить вместе с его водилой. Но видно, не вышло. И дай бог, чтобы вышло со второй попытки: ведь я не верю, что Ленчик оставит меня в покое, даже если скроется на время в Нью-Йорке, обязательно вернется и еще людей привезет для поддержки. Слишком сладкая я для него, чтобы он меня забыл.
Надо бы Ханли найти: Джо — его знакомый и может позвонить завтра ему в офис. Не из дома — хотя Крайтон уверял Эда, что мой телефон больше не прослушивается, да и слушали они его недолго, — а из автомата, с улицы. Может, он заодно попробует установить, где теперь обретается мой друг Ленчик? Но боюсь, что Ханли дел со мной иметь больше не захочет — ведь он из газет должен был понять, что это Джо сработал по моему заказу, и, значит, он соучастник теперь, а это стремно. Но, с другой стороны, не будет же он от меня скрываться: я ему обещала сто тысяч за посредничество. Может, заодно нанять его для моей охраны — пусть и не от кого пока охранять, но кто знает, что будет, когда Ленчик отлежится, придет в себя и решится снова заняться мной?
Ладно, это тоже уже завтра. А на сегодня дел больше нет. И думать ни о чем не надо — меньше думаешь, лучше спишь, известная истина. Игра в оргазм меня порядком измотала: мне неинтересно было в нее играть.
Так что отдыхай, Олли, как говорили в Москве — некогда твоей родной, — утро вечера мудренее. Ведь за те два дня, что я на свободе, дел сделала немало — и встреча с Диком, даже две встречи за один день, есть лучшее тому подтверждение. Заодно и с Мартеном поговорила — помня о том, что обещала тридцать первого января сообщить ему мое окончательное решение по поводу нашего второго фильма. Но не успела раскрыть рот, как он меня тут же уверил, что об этом мне пока беспокоиться не надо, что он все понимает, что еще две-три недели ничего не изменят, а к концу февраля и решим все. Заботливый, внимательный, понимающий — и хочется верить, что циничная Оливия Лански ошибается, что это вовсе не маска хитрая, а искреннее участие…
А дальше тишина наступила, и было такое ощущение, словно вакуум образовался вокруг меня. В газетах о новых убийствах русских ни слова, Джо в дискотеке так и не появился — я ездила туда несколько раз, и ФБР молчит, и Эд уверяет, что все кончено. Но я-то знаю, что ничего не кончено: то ли они ждут ответа на свой запрос по поводу меня из Москвы, то ли следят за мной, накапливают компромат и используют его, как только им покажется, что можно брать меня еще раз, уже наверняка.
Бейли мне позвонил на третий день, голос у него такой странный был, словно стеснялся немного. Я только проснулась и привстала на постели, зажав трубку между ухом и плечом, переползла, прислонившись спиной к стене, поглаживая собственную грудь, бедра, как бы заряжая саму себя приятными ощущениями. Так в сказке Андересена молодая женщина облизывала с утра волшебную конфету — не фаллоимитатор ли он имел в виду? — которая обеспечивала ей хорошее настроение на целый день.
— Мы можем встретиться сегодня в городе, Олли? — поинтересовался этак застенчиво, позвонив часов в одиннадцать утра. Я даже не стала любопытствовать, откуда у него мой новый номер — ему был известен только старый, значит этот он у Крайтона узнал. И можно было бы зацепиться и сказать, что этот телефон я ему не давала и потому просьба сюда не звонить, — но не хотелось.
— Если у вас есть ордер на мой арест, — ответила сухо, подпустив в голос обиды, на всякий случай — я ведь помню, что вообще-то он в первый день моего ареста уверял меня, что с Крайтоном не согласен и сообщит свое мнение в штаб-квартиру ФБР, в Вашингтон, но особо оптимизма в его голосе не было. Понятно, что своя рубашка ближе к телу — и даже если не верит в мою невиновность, вряд ли карьера для него дороже справедливости. Карьера — это нечто весьма конкретное: повышение, деньги, престиж, — а справедливость есть что-то весьма относительное и туманное.
— Нет, Олли, я хотел с вами встретиться частным образом. — И, судя по голосу, не обиделся даже на мою реплику.
— Не боишься, что ФБР прослушивает мой телефон, Джек? — брякнула в лоб, думая, что по его реакции сразу пойму, как обстоят дела с моим телефоном. Он-то должен быть в курсе.
— Твой телефон чист, Олли, можешь мне поверить…
Я верю — иначе бы он не позвонил и вряд ли бы перешел на “ты”.
Подъехала в ресторан в Даун-Таун к шести — в надежде выяснить, как обстоят дела, — но ничего, увы, не узнала. Было впечатление, что он встретился со мной затем, чтобы окончательно составить свое мнение о моей виновности либо невиновности — порасспрашивал о Яше, о Корейце, а на мои достаточно прямые и настойчивые вопросы так ничего и не ответил. Не исключаю, что он встретился со мной сугубо по делу — может, даже у него диктофон был с собой: вдруг чего ляпну, смягчившись в теплой дружеской обстановке.
Даже про запрос в Москву ничего не узнала, про то, что так меня пугает, — напрямую не спросила, а он ни слова по этому поводу не сказал — равно как и по поводу недавнего расстрела русских из Нью-Йорка у лос-анджелесского мотеля. Ну не могла же я сама на эту тему вопросы задавать. И уже сказала себе, что съездила впустую, как вдруг услышала такое, что еле удержала на лице приветливое выражение, хотя чувствовала физически, что искусно сделанный театральный грим пошел трещинами, улыбка нарисованная расплывается, чудовищным образом меняя облик, и надо срочно поправить грим, закрепить, пока процесс не стал необратимым.
— Знаешь, Олли, я выдвинул версию, что убийство Цейтлина — дело рук русской мафии, которая убила его за отказ платить им деньги или сотрудничать. Он ведь вел бизнес в международном масштабе — так что русские могли попробовать использовать его для торговли оружием или наркотиками и, когда он отклонил их предложение…
Замолчал, и я чуть напряглась, улавливая какие-то плохие для меня нотки.
— А может, и не отклонил…
— Что ты хочешь сказать, Джек, — что Джейкоб торговал оружием или наркотиками и я тоже к этому причастна?
— Да нет, ты тут ни при чем, Олли, у тебя другой бизнес. Но… Это между нами, о’кей? Так вот, нам удалось выяснить, что Джейкоб, возможно, был не слишком порядочным бизнесменом. Выяснилось, что он вел дела с Ближним Востоком, с арабами, и есть информация, что он имел отношение к Ираку. Я не говорю, что он напрямую торговал с Хусейном, нет — но, возможно, он имел дело с иракскими товарами или иракской валютой. В то время, когда весь мир объявил Ираку бойкот и любая компания, уличенная в торговле с Ираком или в операции с иракскими товарами, вносилась в черные списки и навсегда прекращала свое существование… Ты ничего об этом не слышала?
— Знаешь, Джек, мы с Джейкобом не были близкими друзьями, — ответила спокойно, хотя в голове уже плясали танец одержимых короткие пугающие мыслишки.
Если ФБР и вправду выяснит, что Яша имел дело с динарами, то заодно выяснит, кому он их продал — это, наверное, не слишком сложно, — чтобы выявить покупателя и применить против него санкции. Достаточно выяснить, что покупателем был покойный банкир Кронин — хрен его знает, как и через кого он оформлял покупку, но это же ФБР, и российские власти могут содействие оказать — то тут уже и до меня рукой подать.
… — И я, честно говоря, сомневаюсь в твоих словах, потому что знала его как честного человека. Ты уверен в том, что он занимался противозаконными операциями? Лично я — нет: он был достаточно богат, чтобы подрабатывать нелегальным бизнесом…
— В Америке нельзя быть слишком богатым, Олли. Нет, я пока точно не уверен в правильности этой версии, но ее будут проверять.
— Объясни мне, Джек, почему ФБР так суетится вокруг убийства бизнесмена-иммигранта?
Вот это я зря спросила, потому что он округлил глаза, посмотрев на меня внимательно. Я, правда, поправилась сразу — начала говорить, что для меня это, конечно, важно, поскольку Яша был мой партнер и вложил деньги в кино, — но оплошность была грубая.
— Странный вопрос, Олли, но я отвечу. Джейкоб был не простой бизнесмен, а большой бизнесмен, его финансовая корпорация имела годовой оборот в десятки миллионов долларов, и его партнерами были не русские, а американцы, и им очень интересно узнать, почему погиб их партнер, и не грозит ли подобное им…
А я-то думала, что те американцы, которые работали с Яшей, в курсе его дел. Он ведь благодаря тебе поднялся — это ты убеждал московских бизнесменов вкладывать деньги в Штаты или переводить их туда и оказывал в этом помощь, а Яша эти деньги крутил и рос. Ты и свои доходы туда вкладывал и те деньги, которые заработал благодаря вложениям Кронина, — так что, если откровенно, то основывалась Яшина корпорация на деньгах российской мафии и тех средствах, которые российский бизнес прятал в Штатах от российских же налоговых служб и прочих органов. Потом, наверное, уже все было легально — не считая злополучной операции “Кронин”, — но началось-то именно с этого. Я, правда, здесь не раз слышала, что в основе любого большого богатства лежит преступление, и тем не менее выходит, что Яшины компаньоны не подозревали ни о чем. Или не хотели подозревать — что скорее всего, — а теперь могут смело спихнуть на мертвого все грехи, все не слишком законные операции их совместного детища. Наверное, подняли сразу после убийства шум — куда, мол, власти смотрят, — а потом испугались, что может вскрыться что-то ненужное, но решили, что даже если вскроется, мертвый и будет за все в ответе. Вполне логично — это Америка, это в местном стиле и духе.
— Надеюсь, завтра меня не арестуют за связь с Хусейном, Джек, — вот и все, что могла сказать, осознавая, что шутка не слишком умная, и на том и расстались — и хотя он и уверил меня еще раз, что телефон мой никто не слушает, и никто за мной не следит, и ничего мне не грозит, настроение было хуже некуда.
И дома, выпив немного, уже не удержалась и опустошила бутылку виски граммов этак на пятьсот, пьяно твердя себе, что круг сужается и мне срочно надо что-то делать. Но так и не придя к выводу — что именно. И говорила при этом шепотом, потому что показалось вдруг, что в доме могут быть жучки. И могу поклясться, что они представлялись мне тогда не электронными устройствами, а настоящими жуками, шуршащими лапками по стенам, подбирающимся все ближе, влезающими в мои мысли. Вполне соответствующее пьяному состоянию представление.
Вот с этого и началось — вроде на таком подъеме была, когда вышла из тюрьмы, а услышав от Бейли о том, что то ли вскрылась, то ли почти вскрылась Яшина сделка с динарами, сорвалась. Были бы дела, можно бы было отвлечься как-то — но тишина стояла вокруг. Пару раз съездила в дискотеку — на третий и на четвертый день, — к половине десятого приезжала и уезжала в полдвенадцатого, и всякий раз добиралась туда разными путями и никогда не возвращалась домой той же дорогой, которой туда приехала, опасаясь и Ленчика, и ФБР одновременно. А так и податься некуда было — на студию не хотелось, да и нечего мне там было делать, интерес к магазинам потеряла полностью, в салон красоты еще один раз выбралась, все в тот же третий день, и номер мобильного поменяла. И пропьянствовала две недели — утром выпивала “драй мартини”, чтобы избавиться от похмельного синдрома, за ланчем еще пару коктейлей и попозже несколько. И сидела бездумно в гостиной на первом этаже, глядя на бассейн и чувствуя себя этаким обреченным на заклание агнцем.
Обреченным, потому что сужался круг, и сделать я ничего не могла. Один только был вариант — пуститься в бега. Сесть на “Мерседес” — или лучше в джип Корейцев, а еще лучше взять в аренду или купить неприметную машинку — и рвануть в Мексику, куда традиционно скрываются, если верить кино и книгам, американские гангстеры и прочие нарушители закона. Но если я скроюсь, значит, я признала свою вину — и тут уж меня начнут искать всерьез. И еще вопрос: успею ли я доехать до Мексики до того момента, когда меня объявят в розыск? То, что я здесь все потеряю, — это полбеды, в конце концов, есть у меня счет в греческом банке, который мне братва открыла после твоей смерти и на котором у меня вполне приличные деньги, да и в Швейцарии у меня многомиллионное состояние. Но главное, что не знаю я никого в этой чертовой Мексике и не знаю, что мне делать там. И где гарантия, что не буду я там бросаться в глаза и что меня и там ФБР не найдет — и тогда уже даже не стоит пытаться доказывать свою невиновность. Найти не так уж сложно — достаточно разослать по отелям Мехико и других крупных городов мое описание.
И вот я напивалась так не спеша и молола самой себе всякую чушь — что, может быть, удастся сделать там пластическую операцию, потому что я смогу с собой драгоценности все свои взять и наличных у меня дома и в нескольких банковских сейфах минимум пара миллионов. Может, удастся поддельный паспорт купить на чужое имя, может, удастся вылететь оттуда по этому паспорту в ту же Европу. И так мне легко становилось от собственных бредней и с таким удовольствием я листала эти свои веселые картинки, что выпивала еще коктейль — только коктейли и пила, говоря себе, что это же не виски, это легкий такой напиток, в то же время прекрасно зная, что в нем джин и вермут и крепости дай бог, — и продолжала фантазировать. А потом еще коктейль — чтобы думалось полегче, хотя голова вместе с мыслями уплывала куда-то в заоблачные дали, в которых все происходящее вокруг меня казалось элементарно разрешимым.
А вечером Стэйси приезжала — каждый вечер, хотя должна была уже понять, что, по крайней мере в ближайшем будущем, никакого фильма у меня не будет. Значит, приезжала просто потому, что нравилась я ей, по-настоящему нравилась, а может, и влюбилась в меня, и не напоминала про фильм, и ни слова не говорила по поводу того, что я под градусом — нет, я не шаталась, конечно, и не падала, но видно же было, что нетрезва, — и даже не показывала никак, что видит мое состояние. И нюхали кокаин, и секс начинался наркотический, в котором творили друг с другом что-то невероятное, постоянно меняясь ролями, подвергая друг друга по очереди сладким мучениям, используя все мои приспособления. Не могу сказать, что помню, как все происходило, — но по утрам находила разбросанные плетки, хлыстики, вибраторы, пристегивающиеся члены и обнаруживала на своем теле следы укусов и истязаний, и ее помадой была вымазана чуть ли не с головы до ног, а простыня вечно влажная была. Каждое утро приходилось менять: прислугу я в эту комнату никогда не впускала.
А с утра — все сначала. Коктейль, обрывочные воспоминания о прошедшей ночи — всякий раз хотелось спросить Стэйси, как это было, но она ровно в девять уезжала, у нее съемки ежедневные шли на телевидении, — а потом снова размышления по поводу всей ситуации и выхода из нее, и фантазия все больше вытесняла реальность. Не знаю, как я удержалась от того, чтобы в таком вот состоянии не сесть за руль и не отправиться в Мексику, — далеко я вряд ли бы уехала и оказалась бы в полиции, быстро бы выяснили, что я не только пьяная, но еще и наркотики принимаю, это же несложно, наверное, определить. Но что-то удержало от этого шага. Хотя от пьянства ничто удержать не могло.
Не буду оправдываться — но мне так легче было. Уж слишком угнетал вакуум, который казался с каждым днем все более зловещим. И еще казалось, что живу в доме, наполненном невидимым газом, и газа этого становится все больше, он просачивается откуда-то, и не уходит, и душит меня все сильнее, отравляя сознание.
Позвонила Мартену как-то раз — и не знаю, понял ли он, что я выпила, но помню, что сказал, что прекрасно понимает, что мне нужен отдых после такого потрясения и что ждет меня, когда я отдохну как следует. Даже Бейли позвонила — вот уж идиотский поступок, много бы я у него выяснила в своем состоянии, и по телефону, — но его не оказалось, к счастью, молчал мобильный, а перезвонить я забыла. А так только Эд позванивал — и то нечасто — и уверял всякий раз, что все прекрасно, и если я хочу возбудить дело против ФБР, то он готов заняться этим хоть завтра. Но я не хотела — и даже не потому, что знала, что дело это обернется против меня, а потому, что мне на каком-то этапе уже было все равно. Апатия наступила, полнейшая апатия, и нечего было от жизни ждать, и только в забытьи было хорошо и легко.
Я даже не отреагировала, когда Стэйси пропала — как раз семнадцатого отключилась часов в пять, а когда проснулась, было уже двенадцать, начало первого. Не сразу сообразила который час — ну темно и темно — и, только посмотрев на часы, подумала, что странно, что ее нет. Но очередной “драй мартини” и об этом заставил забыть — пьяно заявила себе, что это я ей нужна, а не она мне, и раз не заявилась, то и х…й с ней. Я себя лучше удовлетворю, да и от кокаина надо отдохнуть, хотя не удержалась-таки: втянула в себя две дорожки и, яростно позанимавшись любовью с собой, снова провалилась в сон. А когда и на следующий вечер она не приехала, и на тот, который следовал за этим, повела понимающе плечом: и ты, мол, Брут, Брутиха точнее. И громко рассуждала о том, что удивляться нечему — она же видела, в каком я состоянии каждый день, и, наверное, окончательно убедилась, что у меня какие-то неприятности, и предпочла исчезнуть. Здесь не любят тех, у кого неприятности — их избегают как прокаженных, будто веря, что неприятности есть заразная болезнь, которая может перекинуться на того, кто близок к неудачнику.
Да я вообще обо всем забыла — и последние дней пять даже газет не читала, уверяя себя, что все случилось давно, просто об этом не написали, потому что неинтересно никому, и Ханли сам на меня выйдет, чтобы напомнить, что я должна деньги и ему, и Джо. Даже не сообразила, что звонить ему некуда, потому что мобильный у меня опять новый. И бог знает, сколько бы я пребывала в этой прострации, полностью оторванная от жизни, никуда не выходящая, бродящая целый день по дому в распахнутом шелковом халате на голое тело и босиком, похожая на манекен, одетый с небрежным шиком, — если бы двадцатого утром, спустившись вниз, не заинтересовалась вдруг свежей “Лос-Анджелес пост”. Странен был этот интерес — девица с редким для женщины полумужским именем Роберта, Бобби сокращенно, которая у меня убиралась четыре раза в неделю, в каждый свой приход опустошала почтовый ящик, к которому мне ходить было лень, и выкладывала прессу на стол, а я ее уносила в кабинет, говоря себе, что через час прочитаю непременно, но так и забывала там.
А тут — решила вдруг почитать, видно, почувствовала что-то, хотя инстинкты и приглушены были здорово алкоголем и кокаином. Не сразу, конечно, за нее взялась — зачем торопиться, когда есть более важные дела? Сначала коктейль себе приготовила, и только осушив высокий бокал в три глотка, и сделав второй, и закурив — что такое завтрак и здоровый образ жизни, я уже не помнила и, честно говоря, не знаю, ела ли вообще в эти две с лишним недели, а если и ела, то не помню, что именно, — начала наконец листать. Дошла до единственного интересного мне раздела — криминальной хроники, — проползла по ней, спотыкаясь слабо фиксирующими буквы глазами. Да нет, ничего, что касается Ленчика, — видно, все уже было. Сказала себе, что надо будет прочитать всю стопку, накопившуюся за время моего умственного, так сказать, отпуска, и уже закрыла газету, но что-то вцепилось в слабую память и не отпускало — и раскрыла ее снова, злясь немного на то, что вынуждена теперь все перечитывать, вместо того чтобы спокойно отдыхать, тянуть коктейль и думать о своем.
С третьей попытки только нашла — то слово, которое зацепило. Имя, точнее — Стэйси… И уже увидев его, напрягаясь, прочла крошечную заметку о том, что полиция так ничего и не сообщила корреспонденту газеты по поводу странного убийства актрисы мисс Хэнсон, которая позавчера вечером была найдена мертвой в собственной квартире. 25-летняя мисс Хэнсон жила одна, и труп ее был обнаружен спустя примерно сутки после смерти, и только потому, что пропажей мисс Хэнсон заинтересовалось телевидение, удивленное ее неявкой на работу, ибо мисс Хэнсон ежедневно принимала участие в съемках телесериала. Поскольку съемка оказалась под угрозой срыва, а телефон в квартире Хэнсон не отвечал, одна из снимавшихся в сериале актрис вечером того же дня заехала домой к пропавшей коллеге. Дверь была не заперта, и она обнаружила труп и вызвала полицию.
“…Руководство телеканала, на котором работала Стэйси Хэнсон, сообщило нам, что ему неизвестны мотивы, по которым могла быть убита актриса, — так что остается только гадать, кто расправился с красивой девушкой, сыгравшей две роли в кино и успешно дебютировавшей на телевидении. История и вправду загадочная, особенно если вспомнить, что, как уже сообщалось во вчерашнем номере нашей газеты, на трупе был обнаружен листок бумаги, на котором было отпечатано: 50 000 000 $. Таким образом, можно прийти к выводу, что убийца заранее приготовил листок, который и должен был объяснить причину убийства. Хотя и неясно, кому предназначался этот листок и что должна означать написанная на нем сумма. По мнению полиции, мисс Хэнсон пала жертвой ошибки, убийца принял ее за кого-то другого — хотя Стэйси Хэнсон была задушена в своей квартире, а следовательно, убийца знал, к кому он пришел. Возможно, убийство мисс Хэнсон совершено с целью запутать того человека, кому адресована эта записка, кого-то из очень близких знакомых покойной Стэйси — поскольку сама Стэйси такими денежными средствами не располагала”.
Не поверишь — я даже не поняла ничего сначала. Имя Стэйси не самое редкое, хотя мне лично знакомое, и фамилия показалась знакомой — но я, наверное, только после пятого прочтения поняла, о чем идет речь. И то благодаря тому, что сумма в пятьдесят миллионов тоже была мне очень знакома. Я читала и трезвела постепенно и могу сказать, что была абсолютно трезвой, когда наконец все осознала — что это о моей Стэйси речь, и убил ее Ленчик своими либо чужими руками, чтобы показать мне, что про меня не забыл и недоволен тем, что я исчезла, и что он готов пойти на все. И тут же сказала себе, что этого не может быть, это совпадение просто — даже если предположить, что Ленчик не прятался никуда, не уезжал, следил за моим домом и вычислил Стэйси как наиболее частого визитера, а значит, и наиболее близкого человека, — ну зачем ему ее убивать? Он же не вступал со мной в контакт — да, телефона он моего не знает, но мог бы почтовый ящик использовать, мог бы перехватить меня в городе, коль следит и в курсе того, что я без охраны. И ничего, что я не выходила последние две с небольшим недели — мог бы, в конце концов, письмо мне прислать, это уж совсем просто. Так что все случайно, нелепое совпадение, я тут ни при чем.
И судорожно проглотила остатки коктейля, намереваясь сделать себе еще один, третий уже за утро, когда с удивительной отчетливостью поняла, что он таким образом показать мне пытался, что знает, кто послал к нему киллеров, — и это его ответный шаг, свидетельство, что он мстит кровью за кровь, что он не шутит и что деньги я должна отдать, как только он на меня выйдет. Потому что пустые встречи и разговоры закончились. Или я отдаю деньги — или…
Не знаю, сколько я выпила в тот день — думаю, что очень много, и не пьянела толком, и Стэйси стояла перед глазами, молодая, красивая, начинающая свою карьеру, возможно очень перспективную — и убитая из-за меня. Именно из-за меня — и я не пыталась даже оправдываться тем, что она сама со мной познакомилась, что сама ко мне приезжала и что я ее не зазывала совсем. Наверное, потому так остро все воспринималось, что в первый раз из-за меня кто-то пострадал, причем так пострадал, — я страдала из-за других, это было, в меня стреляли из-за тебя, и чуть не убили, и изменили тем самым навсегда мою внешность и мою жизнь.
Я в тот момент даже не вспомнила про ту милиционершу, свою любовницу, которую застрелил пришедший по мою душу киллер, — она ведь первая его увидела, я на него внимание обратила именно потому, что она вдруг остановилась, не дойдя несколько шагов до моей машины, и пристально смотрела куда-то, и только тогда я его заметила в пелене беспрерывно планирующих с неба снежинок. И я застыла, оцепенела, и она закричала, давая мне шанс выйти из оцепенения и скрыться. Я этим шансом воспользовалась — и, когда увидела, что она упала, нажала на газ, рванувшись вперед, на него. Не будь ее, скорей всего, и меня бы не было.
Но я не вспомнила — и сидела тупо, перечитывая заметки, сегодняшнюю и вчерашнюю, в которой просто сообщалось о факте убийства, и представляла себе, как Стэйси заехала после работы домой, чтобы принять душ, переодеться и поехать ко мне — она же, кажется, обитала где-то недалеко от телецентра, — а Ленчик или его человек уже ждал ее около квартиры. Может, все было и не так — я ведь не была у нее и не знаю, где она жила и что за дом это был, — но представляла все именно таким образом. Мое воображение не щадило меня, рисуя отчетливые и страшные картины: как она идет домой, предвкушая поездку ко мне и безудержный секс, и как убийца вталкивает ее в квартиру и душит там, и лицо безобразно синеет, и выкатываются некогда красивые глаза, вываливается еще недавно ласкавший меня язык, и она обмякает, тряпичной куклой оседая на пол. И жизнь ее оборвана просто для того, чтобы кое-что сказать мне.
Я даже не подумала о том, что полиция может выйти на меня — мало ли, может, Стэйси рассказывала кому-то о наших отношениях, какой-нибудь подруге, скажем, хотя в Америке друзья и подруги и откровенные беседы не в чести. Если даже полиция установит, что мы были знакомы и что Стэйси часто бывала у меня в последние полтора месяца, а последние две недели так каждый день — то может сообразить, кому адресовано оставленное на трупе послание. И обо всем этом узнает ФБР и мой большой поклонник Крайтон, и его подозрения в моей причастности к мафии
только усилятся, потому что не вымогают просто так у человека такую сумму, тем более у порядочного человека, который рэкетиров сдает сразу.
Нет, и об этом я не думала — на следующий день только эта мысль ко мне пришла. А так сидела и обвиняла во всем себя и свою глупость, и ненужный алкогольно-кокаиновый запой, из-за которого утратила контроль над собой и ситуацией, и даже не убедилась в том, что Джо собирается завершить согласно нашей договоренности свою работу. И, пытаясь себе доказать, что тут я ничего не могла поделать, что Джо в недосягаемости, а Ханли мне в этом вопросе помогать больше не будет — и так жалеет наверняка, что связался со мной, — позвонила Ханли в офис. Посмотрев на часы, только когда услышала автоответчик — семь уже было, целый день пролетел — и бросила трубку, и тут же набрала еще раз, уже не думая о конспирации, и сообщила автоответчику, что это Олли и что мне срочно нужно с ним поговорить, и оставила новый номер мобильного. И заодно сообщила, что принимаю его предложение — он сразу должен был вспомнить какое, и обрадоваться, и точно перезвонить, — и у меня есть для него работа, и я очень-очень жду его звонка.
Не помню, во сколько легла — просто отключилась, потому что весь день накапливавшийся в организме джин с вермутом вдруг навалился на меня разом и послал в нокаут. А проснувшись от звонка — в гостиной заснула, напротив окна, положив на столик рядом с диваном мобильный, — судорожно вцепилась в трубку, не думая, кто звонит, не помня пока о вчерашнем и даже не задавшись вопросом, стоит ли подходить.
— Могу я поговорить с Олли?
Незнакомый голос, но я решила, что просто не узнаю его сейчас, что неудивительно. Задумалась, выходя из сна, откуда незнакомец может узнать мой телефон — исключено. Значит, “драй мартини” виноват — или это полиция, или ФБР, или…
— Слушаю, — сказала после долгой паузы, разом вспомнив все и напрягаясь, ощущая, что я в глубочайшей депрессии, из которой только один путь — коктейль.
— Это Рэй Мэттьюз, партнер Джима Ханли. Вы звонили вчера в офис и оставили свой телефон, вот я и звоню вам.
— Но я хотела поговорить с Джимом, а не с вами, мистер Мэттьюз, — ответила сухо, злясь на него, что он задерживает меня, отвлекает от подхода к бару и заливания в миксер, специальный бокал для смешивания, двух с половиной унций джина и полунции сухого вермута, и переливания получившегося продукта в стакан, и бросания в стакан оливки и пары кубиков льда, и такого нужного сейчас глотка. — Мне нужен Джим, и я жду его звонка. А сейчас до свидания, мистер…
— Мэттьюз, Рэй Мэттьюз, — повторяет он невозмутимо, еще больше меня раздражая. — Нам нужно встретиться, Олли, — желательно сегодня, желательно через час или два.
— Это исключено, мистер Мэттьюз. — Я уже не скрываю раздражения, которое явно сквозит в моем голосе. — Повторяю вам — мне нужен Джим. Вы ведь в курсе того, что мы с вами не имеем чести быть знакомыми? Так что я жду звонка Джима — желательно сегодня, желательно через час или два. До свидания!
— Джим вам не позвонит, Олли.
Я слышу эту фразу уже оторвав от уха трубку, собираясь нажатием кнопки отстраниться от него — и то ли с похмелья слух обострился, то ли недалеко я отвела от себя трубку, но я услышала и поднесла ее обратно.
— Что вы имеете в виду?
— Олли, нам надо встретиться, обязательно. Вы меня слышите?
— А где Джим? Он что, уехал?
— В какой-то степени. Где и во сколько, Олли? Назовите время и место — и я там буду. Поверьте, это важно и для меня, и для вас!
Для тебя-то точно — ты же на этом настаиваешь. А вот что эта встреча значит для меня? Нет, тут нужен коктейль, и поэтому я заявляю категорично, что у меня появился гость, так что пусть он перезвонит мне через пару часов, и мы поговорим. Поспешно прощаюсь и иду к бару, и выполняю те операции, о которых мечтала, сидя у телефона, и настолько погружаюсь в них, что каждое движение совершаю прочувствованно и вдумчиво, устраивая маленький шторм в шейкере и любуясь бьющими о пластмассовые стенки желтоватыми маслянистыми волнами. И бросаю в классически долгий бокал сначала квадратный айсберг, потрескивающий на волнах, а потом позволяю утонуть оливке, легшей на дне, как позеленевшая от времени бочка с золотом. И так же прочувствованно и вдумчиво поглощаю первую порцию, и готовлю вторую, и на второй, уже под сигару, возвращаюсь к недавнему разговору.
Что он от меня хотел, этот Мэттьюз, почему позвонил он, а не Джим? Ханли в отъезде — возможно, у них работа такая, что сегодня здесь, а завтра там, летал же он по моему заданию в Нью-Йорк. Частный детектив — это вообще, на мой взгляд, этакое автономное плавание, когда человек мотается где-то целыми днями и нечасто появляется на базе, особенно если дело серьезное. И все же — что нужно тому типу?
Я давно уже поняла, что спиртное из депрессии не выводит, разве что на короткое время, а так только усиливает ее, втягивает в нее все глубже — как какой-нибудь океанический монстр из фильма ужасов, присасывающийся к кораблю и утягивающий его на глубину, чтобы утопить судно и сожрать его пассажиров и экипаж. Была у меня как-то жуткая депрессия, когда училась в десятом классе, — дня на три, наверное. Это у меня был год разврата, когда любовников было несколько постоянных и чуть ли не каждую неделю появлялись одноразовые. И в один прекрасный день, весной, как сейчас помню, в воскресенье — я в тот день одела короткую юбку, под которой только чулки с поясом, и кофточку с американской проймой, туго обтягивающую не знающую лифчика грудь, — позвонил мне утром парень, назвавшийся приятелем одного совсем не интимного, что удивительно для того периода, знакомого, и сказал, что видел меня как-то со своим другом на каком-то концерте, и я ему жутко понравилась, и вот он узнал у друга телефон, и хочет пригласить в гости.
И я поехала — хотя совершенно не представляла, что это за человек, но зато прекрасно знала, что там будет. Не помню уже, что сказала родителям, но запомнила, что это утром было, и я, ничего не боящаяся авантюристка, приехала к нему домой, благо от меня совсем недалеко, часов в двенадцать. Открыл такой нормальный парень, высокий, симпатичный — имя, конечно, давно вылетело из головы, — и мы с ним выпили, поболтали о музыке, я тогда обожала “Алису” и прочие наши рок-группы, а дальше комплименты начались. Я видела, что он хочет, и была, как всегда, польщена, и мы, естественно, оказались в постели. Он долго это делал и достаточно умело — хотя для меня особой роли это не играло, все равно не кончала ведь, — и, когда все закончилось через пару часов, продолжал расточать комплименты и позвал вместе поехать в гости к его знакомым, опять же, неподалеку.
А там толпа, человек пятнадцать, наверное, все пьют и отдыхают, и вскоре этот утащил меня с собой в пустую комнату и поставил на колени, и в процессе вдруг дверь открылась, и еще двое вошли. Я давно уже ничего не стеснялась, тем более выпила — и даже ничего не сказала, когда один из вошедших встал передо мной и член к моему ротику поднес, и взяла его, и только отстранилась в последний момент. Не любила я это принимать в себя, даже не сразу заметила, что тот, кто сзади был, уже отошел, вместо него второй из вновь прибывших пристроился, и кончили-то они по разу, и вели себя очень вежливо и корректно, и, в общем, ничего в этом страшного, постыдного для меня тогдашней не было. Поэтому, когда через какое-то время еще один из компании стал меня отзывать в ту комнату, пошла и с ним. Ведь тот, с кем приехала, был увлечен беседой с кем-то и ко мне, кажется, интерес утратил.
И в тот момент, когда мы с ним занимались, вдруг целая толпа туда ввалилась, вся компания, включая девиц, видимо, посмотреть захотелось. Я им только улыбнулась развратной своей улыбочкой, и, когда длительный показательный акт завершился, больше никто ко мне не приставал. Я вышла из душа и вернулась в комнату, где все сидели, и, хотя выпила немало, вдруг отчетливо поняла, что больше я здесь никому неинтересна — что все, кто хотел что-то получить, уже это получили, и на этом моя роль заканчивается. А тот, кто меня позвал, просто использовал меня, как шлюху, — сам попользовался и приятелям привез. Как потом оказалось, он и позвонил-то мне тем утром, поспорив со своим другом, моим знакомым, что переспит со мной, что я шлюха и трахаться хочу, а тот этого не видит и встречается со мной впустую. И, хотя я этого не знала тогда, но почувствовала — и почему-то это все меня задело.
А именно потому, что я себя жрицей считала, и каждый раз, отдаваясь кому-то, совершала таинство. По этой же причине и делала это чаще всего с каждым только единожды. А тут я чувствовала себя как священник, причащающий прихожан, дающий им святые дары, плоть и кровь Господню и с ужасом видящий, как они вдруг вырывают у него из рук поднос с сухим пресным хлебом и чашу с вином и пожирают жадно, облизывая пальцы, вытирая стекающие по подбородкам капли. И вера в себя поколеблена, и кажется, что плохо прочитана проповедь, что не донесено слово Божье до паствы — и хочется сорвать с себя церковное облачение и удалиться прочь.
Странное ощущение, потому что я всегда считала, что если мужчина тебя хочет — это высший и лучший комплимент и что мужчины только для секса и нужны. Но, видимо, спиртное сыграло свою роль, потому что я посидела еще немного, добавив приличную дозу, и никто уже не обращал на меня внимания — что тоже было естественно, но тогда задело, — и я уехала оттуда вскоре, и очень рано вернулась домой, и у меня внезапно самая настоящая истерика началась.
Внезапно жалко стало саму себя, и одновременно жуткая злоба на себя появилась — и я шептала себе, что я поганая шлюха, которая спит со всеми, которой пользуются как хотят, и рыдала. И, что уж совсем удивительно, сквозь слезы прошептала собственной маме, что ненавижу себя за то, что переспала с незнакомым человеком. Для нее это был шок — она не так давно узнала, что я не девственница, и в нокауте была, хотя и не догадывалась, что девственности я лишилась в тринадцать лет и что партнеров у меня к тому времени было больше пятидесяти. И, естественно, никакого понимания она не проявила, еще и ругать меня начала, сравнивая с проституткой, добавляя отрицательных эмоций, вынуждая просить у нее прощения за собственное поведение, — и в итоге я стащила тихонько из бара пару маленьких бутылочек коньяка и потушила свет у себя в комнате, сделав вид, что ложусь спать, а сама выпила еще и не спала всю ночь, ненавидя себя, и презирая, и всерьез подумывая о том, чтобы шагнуть вниз с подоконника.
И после твоей смерти так же было — стоило выпить больше ста-двухсот граммов, и депрессия хватала меня, тащила вниз, становясь все сильнее в то время как я становилась все слабее. И только воля помогала мне не поддаться ей в конце концов, выстоять — и я могла после поездки к тебе на кладбище расслабиться дома и выпить немного джина с тоником или виски и ограничиться этой небольшой дозой, которая, как уверяют врачи, в том числе американские, гораздо безвреднее курения. Но стоило выпить лишнего — и уже начиналось пьянство до потери сознания, и пусть было это считанное количество раз, но я запомнила и сделала тогда для себя вывод, что сто-двести граммов и вправду отвлекают, расслабляют, чуть поднимают настроение, но стоит переступить черту, и эйфория сменяется прямо противоположными ощущениями.
Я вспомнила об этом после второй порции утреннего коктейля и, хотя в тот момент мне было на все наплевать, почему-то остановилась. На какое-то время — которое оказалось достаточно продолжительным. Потому что через час или два я бы точно выпила еще один, и еще, и еще — но, к счастью, утром тормознулась на втором.
И приводила себя в порядок — самодовольно отмечая, что даже такое длительное пьянство, которое я сама в тот момент пьянством, разумеется, не считала, просто безобидным расслаблением, на внешность мою не влияет. Может, только вид немного бледный и усталый — словно спиртное истончило кожу, сделав ее почти прозрачной, — так это ж просто значит, что я работаю много. И мыслями о собственной внешности старалась забить воспоминания о Стэйси и ее судьбе, и бесконечные и бессмысленные рассуждения по поводу того, почему так быстро объявился Ленчик, которому сейчас следовало бы прятаться, и как он догадался, что именно я прислала киллеров, и где же этот чертов Джо, и когда объявится улетевший куда-то Ханли. И телефон звонил, но я не слышала — вернее, слышала, но не обращала на него внимания, потому что думала, что это тот самый тип, Мэттьюз, разговаривать с которым никакого желания у меня не было.
Мне в моей ситуации казалось, что ничего хорошего беседа с ним мне не сулит, что он узнал каким-то образом от Ханли, что я через него наняла киллера, и теперь хочет меня шантажировать. Или сам узнал, зачем я нанимала Ханли, обдумал ситуацию, и пришел к своим выводам, и опять же хочет от меня денег, чтобы выводы эти остались только в его голове. И как себя вести в этой ситуации — я не знала: как известно, платить шантажисту бессмысленно, ибо он придет еще и еще раз, а не платить опасно.
Мне даже бредовая идея в голову пришла: если и вправду Мэттьюз этот хочет с меня деньги тянуть — убрать его руками Ленчика, который рано или поздно объявится, и в этом случае уж лучше пораньше. И пусть он убирает Мэттьюза — я скажу, что это он за Ленчиком и его людьми следил по моему поручению, и все выяснил, и стрелять по ним начал по собственной инициативе, чтобы связать меня по рукам и ногам и вытянуть пару миллионов. А с Ленчиком потом буду разбираться отдельно и придумаю как — хотя и осознавала прекрасно, балансируя на зыбкой стене, отделяющей опьянение от трезвости, что Ленчик теперь, чтобы сохранить лицо и авторитет, обязан не только с меня получить пятьдесят миллионов, но и убрать меня потом, поскольку из-за меня погибли его люди. Но я придумаю, что с этим сделать, и буду решать проблемы по степени их важности.
Хороша идейка, да? Выпила бы с утра на коктейль или два больше, пребывала бы в подавленном состоянии, требующем добавки ради забвения, — выпила бы меньше или вообще бы воздержалась, сочла бы собственные измышления бредом. А так легко воздвигала воздушные замки, на мой взгляд изящные, и элегантные, и продуманные до мелочей. И потому, завершив творческий процесс и заулыбавшись даже собственному хитроумию — прямо-таки Мария Медичи какая-нибудь, — ответила на очередной звонок.
— Олли, это Боб! Ты читала газеты?
— Да нет, в общем, — я тут как раз над сценарием думала, просидела всю ночь, только встала…
Специально сказала — потому что, хотя на мнение других о моей персоне мне еще в молодости было наплевать, здесь, в Америке, волей-неволей чувствовала себя неловко, стесняясь собственного безделья. Здесь не принято сидеть сложа руки, даже если у тебя миллионы, а если уж не хочешь работать, то прожигай их так, чтобы во всех светских хрониках светиться. А я в данный момент — а в целом месяца три уже — вообще ничего не делала, и на студии бог знает сколько не была, и потому захотелось ему показать, что я хоть чем-то занимаюсь. Хотя прекрасно понимала, о чем он хочет сказать.
— О, сценарии? — спросил с некоторым оттенком недоверия, тут же переключившись обратно на тревожный тон. — Та девушка, Стэйси Хэнсон, — помнишь, ты ее хотела взять на роль в наш новый фильм?
— Мы хотели, Боб, — разве нет?
— Ну да, ну да, — заюлил сразу. Вот тебе пример типичного законопослушного американца — вроде и так ни в чем не виноват, но, коль скоро тень случившегося упала на него, всего лишь на носок его туфли в данном случае, лучше отодвинуться подальше и втолкнуть в эту тень другого. — Так вот — она же приезжала к тебе, верно? Кассеты привозила, и ты говорила, что она еще пару раз у тебя была — помнишь?
Вот тварь — надеюсь только, что не слушает никто мой телефон.
— Да, помню — она еще приезжала к тебе на студию на пробы, без меня. Ты помнишь, Боб?
— Да, да. Так вот — ее убили, представляешь?! Задушили в собственной квартире и бросили на тело записку, а в ней восемь цифр, пятьдесят миллионов долларов…
— Господи, какой ужас! Что за факинг город! — восклицаю искренне, прося прощения у Стэйси за то, что как бы отказываюсь от нее в данный момент. Наверное, это нехорошо — но рассчитаюсь я за нее потом, должна рассчитаться, а для этого мне сейчас надо вылезти, чтобы меня еще и сюда не впутали бы. — Разумеется, убийца не найден? И что означает эта записка, кстати? Не поверю, что она задолжала кому-то такую сумму денег, бедная девочка…
— Да, это ужасно, Олли. Мне звонили из полиции — они там всех опрашивали на телестудии, где она снималась в сериале, и узнали, что она собиралась сниматься у нас, и вот..
— И что — вот?
— И я сказал, что я ее толком не знаю, видел два раза, а ты, мой партнер, предложила ей роль и общалась с ней потом, и она к тебе заезжала домой. Ну, то есть я имел в виду, что ты ее лучше знаешь и если кто-то из нас и может помочь полиции, так это ты…
Вот педераст! Ведь знает, сука, что у меня и так море проблем, что меня арестовывало ФБР, что я десять дней провела в тюрьме и вышла оттуда с трудом, — так он и здесь меня плавит. Понятно, что из трусости и нежелания заниматься посторонними делами, тем более общаться с полицией. А может, специально это сделал? Надо бы встретиться с Бейли и узнать, что говорил обо мне Мартен, потому что его наверняка расспрашивали обо мне и Юджине, и надо как-то завуалировать свой интерес, сказать, к примеру, что не слишком довольна партнерством или что обдумываю, стоит ли работать вместе дальше и вкладывать деньги в новый проект, и тут спросить как бы невзначай. Он не обязан рассказывать, но вдруг? Только тогда уже надо будет быть с ним намного мягче — не то последние три встречи я была холодна, отталкивая его от себя, и в последний раз, уже после выхода из тюрьмы, не приняла его скрытых, но таких видимых извинений.
— Ты слышишь меня, Олли?
— Да, Боб, конечно. Просто задумалась — все же страшное известие.
— Да, да. Так вот — я дал детективу, который мне звонил, твой телефон, так что будь готова к тому, что он скоро перезвонит…
Слушаю его скрипучий голос в трубке, и мне представляется мерзкий злой гном, засевший в ней и пугающий меня плохими новостями. Так и хочется с размаху швырнуть трубку в стену, чтобы он вывалился оттуда наконец — и топтать его, топтать, топтать. Потому что, кто бы ни звонил мне, все новости оказываются плохими, словно гном этот трансформирует каким-то образом слова моих абонентов, которые, быть может, и произносят что-то хорошее, но я слышу только плохое.
— Спасибо, Боб, — и с трудом сдерживаюсь, чтобы не добавить что-нибудь колкое и едкое. И благодарю себя за то, что не пила больше с утра — хороша бы я была, если бы Мартен понял все по моему голосу, а потом и этот чертов полицейский. Хотя известие о том, что теперь мной еще и полиция интересуется, заслуживает того, чтобы смешать себе порцию…
“Вечером, — сказала себе жестко. — Вечером”. Хотя и уверена была, что спиртное обостряет мыслительный процесс и снимает нервное напряжение, к счастью напомнила себе, что оно и контроль ослабляет — и так дискутировала с собой, и только телефон меня оторвал.
— Мисс Лански, это детектив Майк Браун. Я звоню по поводу…
— Я знаю, — прерываю его, может, и не слишком вежливо, но деловито. — Я только что разговаривала с Бобом Мартеном, моим партнером. Ужасное известие.
— Да, мисс. Мне надо поговорить с вами — мистер Мартен сказал, что вы несколько раз встречались с покойной, и я рассчитываю, что вы можете несколько дополнить ту картину, которая существует на настоящий момент.
— Не уверена, детектив, но рада буду вам помочь. Может, вы заедете ко мне: я работала всю ночь и боюсь, что не слишком долго спала для того, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем. Вас это устроит?
Устроило — он уже через час был у меня, дав мне время поразмышлять над тем, стоит ли позвонить Эду. Соблазн был — надежней, когда рядом адвокат, — но, с другой стороны, может показаться, что я боюсь чего-то, и потому позвала его. А объяснять полиции, что у меня были проблемы с ФБР — точнее, есть, хотя официально все по-другому, — ни к чему. А так ФБР, может, и не узнает ничего — что для меня очень и очень выгодно. Крайтону сейчас любая зацепка подойдет, и если он вцепится в мою, пусть очень сомнительную, причастность к делу Стэйси, я снова могу оказаться за решеткой, чего мне, понятно, не хочется.
Заодно и имидж свой продумала — отклонив идею прикинуться убитой горем и показать тем самым, что Стэйси мне была близка. Нет, надо серьезной и деловитой выглядеть и на словах и внешне сожалеть о случившемся, но всем видом показывать, что, как бы ни было жаль Стэйси, жизнь идет дальше и остановить ее нельзя. Мертвые уходят вниз, к мертвым, живые идут вверх — вполне по-американски.
Может, одежда немного имиджу не соответствовала — выбрала в конце концов кожаное платье, осознав, что некожаной одежды у меня нет, не считая трех черных платьев, чисто вечерних, для пати и официальных дел. Приготовила все к беседе в гостиной первого этажа — и даже джин с вермутом и виски поставила на виду, чтобы предложить ему выпить и получить повод выпить самой. И кое-какие бумаги выложила на стол — чтобы создать видимость кипучей деятельности, от которой меня отрывает этот бесспорно важный, но все же мешающий мне визит.
— Итак, чем я могу вам помочь, детектив?
Я ему не нравлюсь — вижу это настолько отчетливо, словно он сам пытается мне это показать всем своим видом. Я ему не нравлюсь, он не любит таких, как я, — богатых, живущих в роскошных особняках. Ему, наверное, нравятся только такие, как он сам, — не слишком обеспеченные, имеющие массу проблем, вынужденные всю жизнь копаться в дерьме. А дерьмо — оно, по его мнению, от богатых, от меня и мне подобных, и из-за меня он и вынужден выполнять роль ассенизатора, и уставать, и вонять.
Видимо, поэтому он и от спиртного отказывается — сидит и смотрит на меня с таким видом, словно я ему сейчас сообщу что-то жутко сенсационное, что поможет найти убийцу, а я смотрю на него — и вижу перед собой высокого, худого белого мужчину лет сорока, может чуть старше, с бесцветными глазами, светловолосого, в дешевеньком сером костюме, синей рубашке и коричневом галстуке в белых крапинках. И ботинки, естественно, тоже коричневые. Безвкусно, дешево, убого — а тут я в кожаном платье, накрашенная и надушенная.
— Своим рассказом, мисс, — со всеми подробностями.
И я начинаю — предложив ему сигару, получив отказ, и закурив сама, и так и не дождавшись, что он чиркнет для меня между нами лежащей зажигалкой, рассказываю все как есть, пока по крайней мере. Как Стэйси сама подошла ко мне на вечеринке — не помню чьей и точную дату не помню, слишком много этих пати, и это можно у мистера Мартена уточнить, он меня туда пригласил. Как она завела речь о нашем первом фильме и о том, что слышала, что мы собираемся снимать второй, — и как я сразу поняла, что ее интересует возможное приглашение на роль. И что я решила дать ей шанс, потому что она показалась мне подходящей кандидатурой, — и как подошел к нам минут через десять мистер Мартен, и я их представила друг другу, и он согласился попробовать Стэйси на роль, и как я уехала раньше, а она мне перезвонила буквально через час, все с той же вечеринки, сообщив, что мистер Мартен посоветовал ей дать мне кассеты с теми фильмами, в которых она сыграла, и она готова приехать хоть сейчас. И так как я люблю работать по ночам, а к тому же чувствовала ее рвение и знала, что эти фильмы посмотреть все равно придется, то пригласила ее.
И, естественно, опускаю, чем именно мы занимались, сообщая, что всю ночь смотрели фильмы, которые мне и вправду понравились, и я сказала Стэйси, что лично меня она устраивает и если мистер Мартен скажет то же самое, то вопрос решен.
— И это все, мисс?
Подношу к губам сигару, давая себе тайм-аут, судорожно думая, не может ли он знать о наших отношениях больше, чем он знает. Стэйси ведь мне после первого визита и нашего бурного акта названивала чуть ли не каждый день и заезжала часто до моего ареста, как раз в тот период, когда ФБР слушало мой телефон, но не могу вспомнить, звонила она мне на мобильный или на домашний и какой именно телефон они слушали — как раз в тот период у меня была охрана, которая, порасспроси ее, выложит все, так что опасно врать. И так как я трезва абсолютно, то не считаю себя самой умной и потому отвечаю честно: Стэйси с тех пор звонила мне несколько раз и говорила, что хотела бы приехать, и заезжала ко мне, и мне, с одной стороны, было неудобно ей отказать, потому что я понимала, как важна для нее эта роль, как ей хочется пробиться в жестоком и безжалостном мире кино. А с другой стороны, она мне нравилась, и я все равно одна, а Стэйси, будучи приятным собеседником, скрашивала это одиночество.
— Какие у вас были отношения со Стэйси Хэнсон, мисс? — вдруг спрашивает он, и вопрос настолько неожиданный — не приходило мне в голову, что он может об этом спросить, — что лицо выдает мое удивление.
— Что вы имеете в виду, детектив?
Хорошо, что я не сдержала эмоций — и для него, видно, вопрос нелегкий, потому что он смущен.
— Ну, нам известно, что Стэйси Хэнсон… Ну, что она занималась сексом с женщинами. У нее не было близкой подруги, которой бы она рассказывала об этом — и она не афишировала этого на телевидении, однако не скрывала, что женщины ей нравятся не меньше, чем мужчины, а может, и больше…
— Это часто встречается, детектив. А причем здесь, собственно, я? Вы хотите спросить, не были ли мы любовницами?!
Завершаю фразу восклицательным знаком — хотя ничего такого в этом вопросе на первый взгляд нет, это же не стыдно, а естественно, и ориентация у каждого своя, но, с другой стороны, это мое личное дело, с кем заниматься сексом — я же не спрашиваю детектива, возбуждают ли его самки гиппопотама. А ему неловко под моим пристальным и чуть непонимающим взглядом, он отводит глаза — впервые с начала беседы, — но тут же их поднимает, хотя нет в них прежней непоколебимой уверенности в себе, и кивает, чтобы ничего не говорить.
— Нет, детектив, этого между нами не было. Стэйси как-то обмолвилась, что бисексуальна, но мне ничего такого не предлагала — ей от меня нужно было совсем другое. Хотя, скажу вам честно, я не считаю однополую любовь извращением — но можете мне поверить, что вокруг меня слишком много уделяющих мне внимание представителей противоположного пола. Я знаю, что в Голливуде есть женщины, которые сделали карьеру благодаря собственному телу, но я не мужчина, чтобы оказывать кому-то протекцию в обмен на секс.
На лице у Брауна глубокомысленное выражение, хотя, кажется, я ничего лишнего не сказала.
— Вы не в курсе, мисс, принимала ли Стэйси Хэнсон наркотики?
— Она как-то говорила, что пробовала кокаин, что опять же для Голливуда неново, как вы, наверное, знаете из газет.
Надеюсь, он не спросит, нюхали ли мы кокаин вместе? В этом тоже нет ничего, но я не хочу, чтобы в моем досье появился еще один минус. Не уверена в близкой дружбе между ФБР и полицией, но не дай бог каким-то боком станет это известно Крайтону и его людям — и мне вполне могут приписать торговлю кокаином в международном масштабе.
— Чем еще я могу вам помочь, детектив?
Он задумывается — я ведь и так выложила уже все, что знаю о ней, все, что она говорила о себе, а знала я, оказывается, совсем немного, и о себе она, оказывается, молчала, как это в Америке и принято. А может, все же говорила — в последние две недели ежевечерних визитов, — только вот я не запомнила и никогда уже не вспомню.
Так что я воспользовалась паузой и сама начала задавать вопросы — и про то, кому нужно было ее убивать, и откуда взялась записка, и что она должна означать, и не оставил ли убийца каких-либо следов. И он, понятное дело, отвечал уклончиво — и, как я поняла, по его мнению, следовательно, по полицейской версии, записка оставлена чтобы запутать расследование, увести полицию по ложному следу, показав ей, что небогатая Стэйси Хэнсон имела отношение к огромным деньгам. А убийца, на их взгляд, скорее всего, связан с сексуальной ориентацией Стэйси: убила ее приревновавшая к кому-то партнерша-лесбиянка, наняв для этого киллера, или наркоделец, которому она задолжала деньги, но не пятьдесят миллионов, конечно. А так в квартире ничего не пропало, и машина на месте, и на банковском счету лежит порядка тридцати тысяч.
“Партнерша-лесбиянка” — это неплохо. Я оцениваю его полицейское чутье по достоинству. Вроде, казалось бы, живем в самой демократической стране мира — которая, по моему мнению, является самой косной, — а получается что нетрадиционная ориентация связана с чем-то криминальным. Ведь знает, что она была бисексуальна, но подозревает именно партнершу-лесбиянку, а вовсе не потенциального мужчину-любовника, у которого тоже могли быть поводы для ревности.
Конечно, версия не напрямую была высказана — и вопрос, насколько честно он говорил вообще, — но, по крайней мере, именно так я все поняла.
— Когда в последний раз Стэйси Хэнсон была у вас, мисс?
— Шестнадцатого числа, кажется. — Черт, как не хочется об этом говорить, но вдруг кто-то что-то видел, вдруг до сих пор слушается мой телефон, вопреки уверениям Бейли и Эда, вдруг следят за мной по-прежнему? Как будто внезапно оказалась вместо надежного покрытия хайвэя на занесенной снегом дороге, и каждое неверное движение может унести в кювет, и неизвестно, отделаешься ли вмятиной на корпусе машины — или останешься в нем навсегда. — Кажется, так — приехала ко мне часов в семь, а во сколько уехала, не помню, я ведь вам говорила, что веду ночной образ жизни — вот работаю над сценарием…
Слава Богу, что догадалась листки принести, а то мои слова насчет ночного образа жизни в связи с антипатией ко мне мистер Браун мог бы истолковать по-иному, вернее, по сути, истолковать их так, как все и было на самом деле, — но это было бы лишним.
— Она ничего не говорила вам — ну, необычного? Может, она была в плохом настроении или вы заметили, что с ней что-то происходит?
— Да нет, — отвечаю осторожно, чувствуя себя так, словно сижу в несущейся по льду машине, когда необходима максимальная концентрация, чтобы уцелеть. И руль надо поворачивать максимально осторожно, едва к нему притрагиваясь, и так же аккуратно касаться педалей, словно они из тончайшего стекла — потому что любое нерезкое даже, но просто слишком конкретное прикосновение может завершиться грозящей смертью аварией. — Она приехала, выпила немного, один коктейль, а может, два, я не считала. Я ей рассказала про изменения в сценарии, мои дополнения к нему — дело в том, что ей предстояло сыграть большую роль, и она очень ответственно подходила к предстоящей работе. Конечно, я не очень люблю визитеров и рабочие вопросы предпочитаю решать на работе — но я все равно сидела последнее время дома из-за проблем со здоровьем…
Замолкаю, ища верный ход и, кажется, его нахожу.
— Такие чисто женские проблемы — понимаете, детектив?
Откидываюсь на спинку дивана, чуть разводя ноги в чулках — делаю это чисто по привычке, и спохватываюсь, но замечаю с облегчением, что он на меня даже не смотрит. Но мои слова его все же смущают — и я представляю себе его бесцветную фригидную жену в ночной рубашке в цветочек и бигуди, с которой они занимаются сексом раз в неделю по пять — десять минут за сеанс. И он ложится на нее, и входит, и быстро кончает — при этом наверняка в презервативе, словно он может ее заразить, словно он с кем-то еще это делает, — и отправляется в душ. Для таких, как он, секс — это обязанность — если я, конечно, не ошибаюсь в нем, потому что человек с такой внешностью может быть и верным семьянином, и пламенным онанистом с мозолистыми руками и отполированным членом, и извращенцем, любящим смотреть на качающихся на качелях маленьких девочек, на их белые трусики, вспыхивающие под взлетающими коротенькими юбочками.
— Поэтому я последние две недели сидела дома — и не возражала против визитов Стэйси. Я знала, что она работает целый день на тиви, и для меня был очень важен тот фильм, в котором ей предстояло сыграть — это мой второй фильм, и я хотела, чтобы он получился лучше, чем первый, чтобы он прогремел на всю Америку. И потому я готова была заниматься работой и во внерабочее время — вам ведь, наверное, тоже приходится работать сверхурочно, когда у вас важное расследование, или заниматься рабочими делами в домашней обстановке, а, мистер Браун?
— Конечно, конечно. Скажите, а мисс Хэнсон не принимала у вас дома кокаин? Видите ли, вскрытие обнаружило в ее организме следы наркотика…
Дела… Если скажу “нет”, значит, мне надо стоять на том, что Стэйси уехала от меня не в девять утра, а ночью — хотя не исключено, что кто-то из соседей заметил, что ее машина отсутствовала, и готов показать, что дома она в ту ночь не появлялась. А если скажу “да”…
— При мне — нет. Я примерно представляю, что такое процесс употребления кокаина — и не могу исключить, что она принимала его в моей ванной или туалете. Хотя сомневаюсь, что она осмелилась бы это сделать — стоило бы мне заметить, и ее роль оказалась бы под угрозой, так что она не стала бы так рисковать… Дело не в моих высоких моральных принципах, — добавляю, поймав его чуть скептический взгляд, словно говорящий, что он знает киношные нравы, — а в том, что наркоман ненадежен и нестабилен, и даже звездам, уличенным в частом применении наркотиков, советуют пройти курс лечения, дабы не губить карьеру. А Стэйси звездой не была. И в общем, я ничего такого не заметила — и в нашу последнюю встречу она была обычной, такой, как всегда…
Казалось, что говорим мы минут пять — а когда взглянула на часы, оказалось, что уже час он здесь сидит, ну почти час, минут пятьдесят. А Браун, к счастью, замечает, как я гляжу на часы, и, видно, делает вывод, что я ему намекаю, что пора бы и честь знать — и антипатия его от этого только усиливается.
— Почему вы не хватились мисс Хэнсон, когда она вам не перезвонила на следующий день после последнего визита? Ее убили семнадцатого февраля, а сегодня двадцать первое, и вы ни разу не позвонили ей за эти дни и, по вашим словам, узнали об убийстве только от мистера Мартена….
Логичный вопрос — но не отвечать же правду?
— Она всегда звонила сама — может, я и звонила ей пару раз вскоре после нашего знакомства, но в последнее время инициатива всегда принадлежала ей.
— Но вы же говорите, что она заезжала к вам в последнее время очень часто — и вы не удивились тому, что она не звонит? Кстати, как часто она заезжала?
— Не могу ответить точно, детектив — два-три раза в неделю, может реже, вряд ли чаще. Да, обычно она звонила ежедневно, но я не удивилась, потому что решила, что у нее дела. В конце концов, мы не были подругами — я ее интересовала как работодатель, а она меня — как потенциальный исполнитель неглавной роли в моем фильме…
И он убрался наконец, и я была так счастлива, что смешала себе наконец “драй мартини” — и пила не спеша, смакуя, думая, как мне все это не нравится, и выражая надежду, что в причастности к ее убийству меня не подозревают. Но стоит полиции узнать, что Стэйси последние две недели не ночевала дома, стоит узнать, что все эти две недели она ежедневно звонила мне и приезжала, — будет беда. Не исключено к тому же, что Стэйси все же кому-то рассказала о нашей связи — я же не знаю, с кем она общалась, с кем о чем беседовала. Вспомнилось смутно, что она говорила об одиночестве, что Лос-Анджелес — город жесткий и в борьбе за выживание не до теплых отношений с другими людьми, и, осознавая, что она дает мне понять, что я единственный близкий ее человек, я как-то ушла от разговора, опасаясь душевных излияний и возможного признания в любви. Черт их знает, этих лесбиянок и бисексуалок, — я еще в период посещения московского лесби-клуба признаний в любви и предложений жить вместе наслушалась вдоволь, причем зачастую от людей, которых видела в первый раз или максимум в третий, но с которыми у меня не было даже ни одного сексуального контакта.
Но если полиция узнает о том, что она две недели ночевала у меня, я могу в этом случае признать, что между нами действительно были сексуальные отношения — и вполне объяснимо, что в первый раз я об этом не сказала. Может, я стесняюсь говорить на такие темы, стесняюсь того, что между нами было. Конечно, вранье против меня обернется, но то, что мы провели вместе четырнадцать ночей, не означает, что именно я ее убила по какой-то причине. Но узнай об этом ФБР — и помимо убийства Яши мне запросто припишут еще и убийство Стэйси. По крайней мере, у Крайтона будет еще больше оснований меня подозревать во всех смертных грехах.
Господи, вот ведь как складывается все — все не так: беда одна не приходит, это факт — и я сейчас получаю удар за ударом, и пусть не слишком чувствительны они, каждый из них является компонентом сложной комбинации, которая в итоге отправит меня в нокаут. Тот самый нокаут, который отнимет у меня чемпионский титул, и богатство, и славу — и после которого я уже никогда не поднимусь.
Вот так сравненьице — сразу чувствуется влияние Юджина и совместное посещение боксерских матчей. Был бы на свете Бог, он бы сейчас прислал мне человека, который бы мог помочь мне решить все эти проблемы, который отодвинул бы меня в сторону, за себя, прикрыл бы сильным телом и решил бы все сам. Но нет такого человека — потому что тебя нет, и Корейца, скорей всего, тоже…
Проснулась в десять — удивившись тому, как часто стала в последнее время отключаться. Разумеется, сказала себе, что это не признак алкоголизма, что это просто организм сам себя выключает, чтобы отдохнуть от нервных перегрузок, — и предпочла в это поверить. И смутно вспоминала сон — редко посещающие меня сновидения всегда оказываются интересными, и я пытаюсь дать им философское объяснение.
Мне снилось, что я в толстостенном стеклянном стакане, наполненном прохладной жидкостью, и я смотрю на пустой белый мир за стеклом и чувствую себя хорошо и уютно. И вот показывается вдали точка, стремительно увеличивающаяся в размерах, вырастающая в колесо, в гигантский ломтик лимона, катящийся на меня, неотвратимо приближающийся. И я кричу, понимая, что он разобьет мой дом, и вода, окружающая меня, начинает волноваться, и я пытаюсь выпрыгнуть из нее, и соскальзываю с отвесных стен, и ухожу вниз, и выныриваю, судорожно пытаясь отдышаться. И в последние свои секунды вижу лишь огромный желтый диск, закрывающий свет, разбивающий мою вселенную на миллиарды блестящих осколков.
Вот хотела дать сну толкование, а сейчас не хочу, ибо и так понимаю, что он означает.
Полежала в ванной немного, прошлась по дому, безмолвному, абсолютно пустому, и, когда вышла к бассейну, вокруг тоже было тихо. И пусто, словно я одна в гигантском мире, который враждебен мне и который сильнее меня — для него я ничтожная песчинка, уничтожить которую он может в любую секунду. Просто сожмется вокруг меня, лишая воздуха, и разожмется, принимая прежние размеры и уже позабыв о бездыханном теле.
Вернулась обратно, зашла в комнату, где стоял автоответчик, — я ведь и мобильный на него переключила после ухода детектива, чтобы не разговаривать ни с кем. Ну вот, опять этот Мэттьюз, партнер Ханли: четыре звонка с просьбой срочно перезвонить, просто неутомим. Ну ничего, если он и вправду звонит с дурными намерениями, с ним я справлюсь. Мартен, естественно, звонил — после того как заложил меня полиции, прекрасно зная о моих проблемах, и теперь осведомляется заботливо, как прошла встреча с правоохранительными органами. И почему-то от Эда два звонка — для него это много, и тот факт, что я ему была нужна, вряд ли означает что-то хорошее, хотя голос, как всегда, оптимистичный, веселый. Перезвонить — или подождет до завтра?
И тут представляю, что сейчас он мне скажет что-нибудь не слишком приятное, и тут же вспоминается, сколько у меня незаконченных, повисших в воздухе дел, опутывающих меня бахромой, и настолько хреново становится, что единственный выход — очередной коктейль, а потом обед, который заодно станет завтраком и ужином, потому что живот вдруг постыдно заурчал и я даже вспомнить не могу, когда ела в последний раз. Именно так — коктейль, обед, а потом еще коктейль и, возможно, пара дорожек кокаина, выведенных на хрупком полотне зеркала, начинающихся ниоткуда, и заканчивающихся нигде, и ведущих в никуда. И осязаемые, красочные, вкусно пахнущие мечты о побеге в Мексику и оттуда в Европу, о том, что все будет хорошо, хорошо, хорошо…
— Олли, у меня такое ощущение, что ты специально делаешь так, чтобы оказаться замешанной во все плохое, происходящее в Америке…
Эд улыбается, но я вижу, что на самом деле ситуация не смешная совсем. Когда перезвонила ему в десять утра, он так радостно заорал, словно разыскивал меня уже год — словно я сообщила ему известие о том, что его ждет многомиллионное наследство. И тут же примчался — когда я изложила уже отточенную версию, что всю ночь работала. Но после первой фразы несколько посуровел.
— Ты должна была мне обо всем рассказать, Олли. О том, что убили твою знакомую — по мнению полиции и ФБР, очень близкую знакомую. Вчера вечером я беседовал с Крайтоном, главой местного ФБР, — он сам мне позвонил, точнее, его помощник. Хорошо хоть, что они не решаются звонить напрямую тебе — с этим арестом и подслушиванием твоих разговоров они оказались по уши в дерьме и теперь вынуждены быть очень вежливыми. Так вот, оказывается, ФБР стало известно о том, что ты близко знала убитую — и они пришли к выводу, что ее убили из-за тебя. Что кто-то — таинственный кто-то — заключил, что вы с Юджином убрали Цейтлина ради наследства, и решил выманить у тебя эти деньги. И потому убил твою близкую подругу — по мнению ФБР, любовницу, потому что якобы она несколько раз ночевала у тебя, у них имеются такие данные, или это просто их версия — и оставил записку, чтобы показать тебе, что если ты не отдашь деньги, то же будет с тобой. Ты представляешь?
— Какой бред, — бормочу вяло, что неудивительно после вчерашнего. — Значит, я еще и лесбиянка?
— Да — и плюс ко всему жертва вымогательства. Но почему пятьдесят миллионов — ведь Джейкоб оставил вам с Юджином порядка тридцати с учетом его доли в вашем предприятии и его недвижимости?
Ни хрена себе наследство! А я за все это время и не поинтересовалась даже суммой — потому что мне оно абсолютно не нужно.
— Все это было высказано в, так сказать, неофициальной беседе — он позвонил мне и сообщил, что они хотели бы побеседовать с тобой, а я ответил, что это исключено, поскольку они действовали предвзято по отношению к тебе и нарушили закон, что только благодаря тебе мы не подали на них в суд. Так что я подъехал сам и выслушал все то, что передал сейчас тебе — и открыто
посмеялся над тем, что ты стала лесбиянкой, сказав им, что знаю твоего бойфренда, который не оставляет никаких шансов другим твоим поклонникам, к какому бы полу они ни принадлежали. Извини, что я обсуждал твою личную жизнь — но я вынужден был это сделать.
— Все в порядке, Эд, ты молодец.
— Но это, к сожалению, еще не все. ФБР предполагает, что ты дала полиции, мягко говоря, не совсем точные показания, исказив суть ваших отношений с покойной мисс Хэнсон, — хотя это только их предположения. Но оставленная на трупе записка кажется им еще одним доказательством того, что ты причастна к убийству Джейкоба, а это — хуже. Никаких доказательств у них, разумеется, нет, одни идеи, не самые, на мой взгляд, умные, но что есть — то есть. Естественно, я был с ними резок и сказал, что они могут вызвать тебя для дачи показаний, только если у них есть реальные доказательства — поскольку ты получила сильнейшую моральную травму в результате несправедливого ареста и до сих пор не можешь отойти от этой травмы. На всякий случай у меня есть знакомый психоаналитик — я знаю, что ты не пользуешься их услугами, хотя почти вся Америка так делает, — так что, в случае необходимости, он составит нужные бумаги, свое заключение о твоем состоянии. Я также предупредил их, что в случае попадания твоего имени в прессу немедленно появятся ответные статьи о том, какими методами работает ФБР.
Пока они успокоились, Олли. Но скажу тебе честно — я вижу, что Крайтон не оставил своей затеи обвинить тебя в убийстве Цейтлина. Он даже проговорился, что ему кажется очень странным недавний инцидент с какими-то русскими из Нью-Йорка, которых кто-то расстрелял, — намекнул, что, может быть, ты тоже к этому причастна. Что, дескать, они приехали сюда, чтобы отомстить тебе за смерть Джейкоба или получить с тебя его наследство, и ты расправилась с ними каким-то непонятным мне образом.
Я искренне рассмеялся — спросил, не ты ли лично, взяв в руки автомат, расстреливала каких-то русских. И вдобавок рассказал, что ты была настолько потрясена смертью Джейкоба, что ни разу не поинтересовалась суммой наследства, — но оказалось, что он это знает, и еще знает, какова эта сумма. Он мне сказал, что это неподтвержденные данные, — но не исключено, что они склонили к сотрудничеству того адвоката, который работал на Джейкоба.
Я все это говорю тебе, Олли, чтобы ты поняла — Крайтон совершил ошибку с твоим арестом и попытается исправить ее любой ценой. Не принести тебе окончательные извинения, а вернуть тебя туда, откуда я тебя вытащил. Это мое мнение.
— Мое тоже, Эд.
— Тем лучше. Так вот, мы просто обязаны подать на ФБР в суд: лучшая оборона — это нападение. Мы наймем специалиста по уголовным делам, который будет работать в тандеме со мной, — и разнесем их в пух и прах. Надеюсь, тебе удастся привлечь на свою сторону влиятельных кинобизнесменов — все-таки ты из Голливуда. В крайнем случае Мартен нам должен помочь, верно? Мы будем бить на то, что ФБР видит мафиози в каждом русском, даже если этот русский — очаровательная молодая женщина, которая занимается кинобизнесом и легально зарабатывает миллионы. И что, даже если нет доказательств, ФБР придумывает их. А это — дискриминация и расизм, непростительный для любого американского института, и уж особенно для ФБР. Не говоря уже о нарушении законности путем незаконного ареста и прослушивания телефона. Именно так мы и должны поступить, Олли, иначе вскоре они начнут приписывать тебе каждое убийство, совершающееся в Лос-Анджелесе. Ты согласна?
Ну как объяснить ему, что я не могу судиться с ФБР? Если мы подадим в суд, Крайтон, стремясь оправдаться и одновременно прославиться, пойдет на все — и, коли еще не послал запрос в Москву, пошлет его обязательно, а коли послал, будет требовать скорейшего ответа. К тому же ФБР уже каким-то образом вышло на Яшин след в операции с динарами, незаконной по американским меркам, и шьет мне убийство Ленчиковых людей и убийство Стэйси. Сделай я выпад, покажи, что хочу их крови, — они еще больше захотят моей и, оказавшись в безвыходной ситуации, найдут из нее выход, который станет очень плачевным для меня. А я окажусь человеком, который, забравшись в горы, пытается выстрелом из пистолета вызвать сход лавины и тем самым победить стихию — забыв о том, что лавина погребет его самого.
— Мне надо подумать, Эд, ты не против? Пойми, я все же не американка, у меня вид на жительство, и здесь я недавно — и я прекрасно осознаю, что, если начну бороться с ними, они пустят в ход все средства, в том числе самые грязные. И еще я сознаю, что, несмотря на все разговоры о местной демократии, я всего лишь один маленький и бесправный человек, к тому же иммигрантка, к тому же русская, — а ФБР — огромная машина. И ко всему я боюсь, что этот процесс может похоронить мою карьеру, ты понимаешь?
— Это серьезный аргумент, Олли. Но мы должны это сделать — а как сделать это так, чтобы твоя репутация не пострадала, а только выиграла, — это моя задача. И мы выиграем, обязательно выиграем!
— Дай мне время, Эд, неделю, скажем.
Он пожимает плечами с видом непризнанного гения, явно недовольный моей нерешительностью, а ведь, казалось бы, изобрела я самые веские доводы.
— Хорошо, мы вернемся к этому вопросу через неделю. Сегодня двадцать второе февраля, и первого марта я жду твоего ответа. Но пока я посоветовал бы тебе побеседовать с Мартеном и заручиться поддержкой Голливуда — я понимаю, что вы все там конкуренты, но ведь ты виновата только в том, что родилась в России.
Если бы, Эд, если бы. Знал бы ты, в чем я виновата, — ты бежал бы сейчас отсюда до Нью-Йорка и ни разу не остановился бы. Но ты, к счастью, не знаешь — и потому толкаешь меня на процесс, который и меня похоронит, и на тебе поставит клеймо адвоката русской мафии, если ты, конечно, не откажешься меня защищать, когда все вскроется. Но, может, тебе и не страшно это клеймо — плохая реклама тоже реклама. К тому же денег ты на процессе заработаешь уйму — с меня, разумеется. И еще и книжку потом напишешь — что-нибудь вроде “Как я защищал русскую мафиози”.
Но сегодня ты ни о чем не догадываешься, хотя есть у меня опасения, что незнание твое может скоро завершиться. А пока — блажен в неведении…
“Дик, мне срочно нужен факинг Дик”, — говорю себе после ухода Эда и второго за день коктейля, потому что первый был перед его приходом. Тучи сгущаются все сильнее, и вот-вот грянет гром и обрушится на меня карающая молния американского правосудия, и, что самое обидное, этот пидор Крайтон сыграет роль Зевса — и пока этого не случилось, мне нужен чертов Дик, великий конгрессмен от штата Калифорния и, можно сказать, мой любовник.
Но его нет. Ни в калифорнийском офисе — где записали мои координаты, имя и кто я, и обещали вежливо, что он свяжется со мной, как только у него появится такая возможность, — ни по мобильному, который якобы у него всегда с собой и который он дал мне с таким видом, словно раскрывает важнейшую государственную тайну. И любезный Мартен не знает, где он, — и я, разумеется, не говорю все, что узнала сегодня утром, но прошу попробовать разыскать его и попросить перезвонить мне домой в любое время, хоть посреди ночи.
И тут вспоминаю, что он еще и номер пейджера мне дал, опять же строго засекреченного, — и оставляю оператору текст с просьбой передавать его каждый час в течение сегодняшнего дня. Текст простой и безобидный: “Мистер Стэнтон, прошу вас срочно связаться со студией Нью Уэй Синема. Оливия Лански”. И свои номера. Поймет — должен понять.
Сажусь и начинаю ждать его звонка, и периодически брожу по дому, прихватив с собой и мобильный, и радиотелефон — сама уже запуталась, у кого какой номер, так что пусть оба будут при мне, — и почему-то замирает сердце, когда звонок вдруг раздается.
— Да! — кричу счастливо — и потухаю, услышав на том конце провода, хотя между прочим мой телефон безо всяких проводов:
— Это Рэй Мэттьюз, Олли. Мы разговаривали позавчера, и я звонил вам раз десять в течение вчерашнего дня и несколько раз оставлял сообщение на автоответчике. Нам надо срочно встретиться, Олли!
— Я так не думаю, мистер Мэттьюз, — говорю холодно и твердо. — В любом случае, в ближайшие дни я не смогу уделить вам время — я очень занята. Но с удовольствием побеседую с Джимом Ханли, когда он изволит появиться, — и скажите ему, пожалуйста, чтобы сразу же мне позвонил.
— Я ведь уже сказал — Джим не сможет вам позвонить, Олли.
— Да, я поняла, что он уехал, — но он же вернется, верно? Вы же наверняка связываетесь с ним — так передайте ему, что я приняла его предложение и он останется доволен моим решением. И пусть отменит все текущие дела, если это возможно — я все компенсирую.
— Поговорите об этом со мной, Олли — я готов отложить все дела и не требую компенсации. Мне есть что вам сказать.
Он еще и заигрывает! Или делает это от отчаяния, понимая, что я его видеть не хочу. Вообще, он мне не нравится, уже заочно — голос у него наглый и самоуверенный, и очное знакомство мне не нужно. И ему лучше не пытаться меня шантажировать — если он, конечно, звонит за этим. Может, он просто узнал от Джима о том, что я выгодный клиент и что мистеру Ханли не удалось убедить меня его нанять на более долгий срок, — и вот теперь этот старается, считая себя лучшим психологом, чем его партнер, и надеясь навязать мне свои услуги.
— Всего хорошего, мистер Мэттьюз. Убедительная просьба больше мне не звонить.
И жутко возмущаюсь про себя тем, что он меня беспокоит, — в тот момент, когда вот-вот перезвонит Дик, а он, мать его так, все не звонит и не звонит.
А потом письмо привозят — я как раз у бассейна сижу с сигарой, в пижаме, с накинутым на нее полушубком, без парика, но в черном шелковом тюрбанчике, подчеркивающем белизну кожи и яркость накрашенных губ. И вижу, как тормозит у ворот машина с сине-оранжевыми буквами “ФедЭкс” на борту, аббревиатурой срочной международной и внутриамериканской почты. Судя по всему, ко мне, — хотя кому пришло бы в голову послать мне таким образом письмо? А впрочем, есть кому — Эд мне сегодня сказал что-то по поводу адвоката Яши, с которым он связывался несколько дней назад и просил прислать копию завещания, чтобы я с ней ознакомилась, потому что важные дела не дают мне возможности вылететь в Нью-Йорк и Яшин адвокат сказал, что отправит документы немедленно.
Эх, Яша, если бы ты знал, что произойдет после такой успешной операции “Кронин”! Если бы знал, сколько всего начнется после твоей смерти! И что принесет мне твое завещание. Получилось, что ты своим завещанием мне оказал медвежью услугу — и своими благими намерениями вымостил мне дорогу в ад.
Да ладно, что упрекать хорошего человека…
Уже подойдя к воротам, думаю вдруг, что, может, это хитрый Ленчиков маневр, направленный на то, чтобы выманить меня из дома, из которого я давным-давно не выхожу. Но слишком глупый ход — да и невыгодный. Убивать меня рано, я пока денег не отдала — да и камеры пасут все вокруг, засветиться ничего не стоит, хотя, бесспорно, можно угнать машину “Федерал экспресс”, стреляя из нее. Да нет, даже для такого быка, как Ленчик, это глупость.
Извлекаю письмо — ящик так устроен, что опущенная с улицы корреспонденция оказывается на моей территории, — и так же медленно иду обратно, вертя в руках конверт с обратным нью-йоркским адресом, точнее, с адресом нью-йоркского аэропорта “Кеннеди”, откуда письмо и было отправлено. “Может, это Юджин? — спрашиваю вдруг себя. — Юджин, прилетевший в Нью-Йорк и извещающий меня, что через несколько часов будет здесь?” И надежда вспыхивает внутри, и уже готова надорвать конверт при помощи ногтей. Но тут говорю себе, что это, во-первых, несолидно, для вскрывания писем у меня есть в кабинете изящный ножик, а во-вторых, если я разорву его сейчас поспешно и окажется, что письмо вовсе не от Корейца, а от Яшиного адвоката, слишком велико будет разочарование, а у меня и так отрицательных эмоций выше крыши. К тому же такое явное проявление эмоций не в моем стиле: эмоции скрывать надо даже от себя самой, контролировать и не давать им волю. А то слишком далеко можно зайти — туда, откуда обратной дороги уже не будет.
И удерживаю себя, и так же неспешно дохожу до кабинета, и красивый ножик от Картье без труда вспарывает плотный картон. И убеждаюсь, что торопиться и в самом деле не стоило. Потому что на выпавшем листке уже знакомые, вновь на принтере отпечатанные слова:
“Завтра. 15.00. Там же”.
И не менее знакомая приписка:
“50 000 000 $”…
А потом опять пьяное забытье и ощущение того, что капкан захлопывается, что сжимаются вокруг стены. Вспомнился аттракцион в Диснейленде, сделанный по мотивам приключений Индианы Джонса. Мы как раз вместе с Корейцем там были, отстояв огромную очередь, вроде тех, что, по преданию, отстаивала за туалетной бумагой в советское время моя мама, — и, хотя много было разных неожиданных и даже пугающих сюрпризов, один запомнился особенно ярко, тот самый, который сейчас напоминал мне нынешнее мое положение.
Ехали мы по узкому тоннелю, и вдруг выкатился нам навстречу огромный каменный шар, набирающий скорость, и сворачивать некуда, и протиснуться мимо него нереально. И было такое ощущение — вполне реальное, хоть я и знала, что это аттракцион, — что он вот-вот раздавит нас. Но в последний момент перед столкновением мы вдруг провалились под землю, скользнули в дыру по незаметно проложенным рельсам, и шар прокатился прямо над нами, едва не задев; я специально смотрела, подняв голову, не в силах оторвать от него глаза и не веря в счастливое избавление. Вынырнули мы уже на другом уровне, и мне показалось, что оборвалось все внутри, и в себя пришла не сразу — только после того, как по твоей методике сделала несколько глубоких вдохов, хотя воздух в легкие проходил с трудом.
И сейчас все было так же. Вернее, почти так же: я, как и в аттракционе, ехала вперед, и навстречу мне шар выкатился, приближаясь и увеличиваясь в размерах, и поздно и бессмысленно было давать задний ход, и некуда было сворачивать. А он все рос и рос на глазах, заслоняя все вокруг, пряча небо, — вот только не было спасительного люка, в который можно было нырнуть в самый последний момент, счастливо избежав опасности. Не было его, и шар катился на меня, обещая в ближайшее время — через секунду, минуту, полчаса — раздавить. Проехаться по мне, вмяв меня навсегда в землю или размазав по ней — и продолжать катиться дальше. А шары здесь и сзади и спереди — с одной стороны Ленчик, с другой — ФБР.
Вспомнились вдруг наши с тобой разговоры — выражаясь высокопарно, о возможности отдельной личности влиять на собственную судьбу. Я всегда была уверена, что быть тому, что будет, — и только от тебя узнала, что это буддистский постулат. Ты же, этот самый постулат признавая, считал все же, что от судьбы уйти можно — и знал, что противоречишь сам себе, но продолжал противоречить, и я понимала, что нелегко гордому и сильному человеку признать, что все в руках случая.
Уже после твоей смерти, когда проводила в Москве операцию “Кронин”, я осознала, что, как и ты, и разделяю это постулат, и отрицаю его, и тоже противоречу сама себе: зная, что все решит случай, одновременно прилагаю максимум усилий к тому, чтобы случай этот был для меня счастливым. И пришла к выводу, что это не противоречие, а гармония — Бог, считай судьба и случай, помогает тому, кто помогает себе сам.
А сейчас с каждым днем боролась я все менее и менее ожесточенно. Начала классно, наняв Ханли, и выяснив все про Ленчика, и дергая и напрягая Ленчика в ходе переговоров, и заманив в бордель и засняв там на пленку спецагента ФБР, и решив переспать с конгрессменом, дабы получить компромат на него. И продолжила классно, убедив Ханли найти киллера и с ним договорившись.
Но потом словно треснуло во мне что-то — и после выхода из тюрьмы вела себя уже пассивней, и пила, и нюхала кокаин, ничего не пытаясь предпринять, выжидая, каким будет следующий удар, не пытаясь вычислить его, определить и опередить. Может, потому, что с каждым моим шагом опасностей становилось все больше? Не потому ли, что каждый новый человек, притянутый мной на мою орбиту, — охранники, Ханли, Джо — одновременно и помогал мне, и представлял собой угрозу, потенциального разоблачителя, свидетеля против меня, шантажиста?
Не могу сказать, что я в тот момент думала, что все за меня решит случай — не верила я в удачу, но и в неудачу тоже не верила. Просто затихла, трепыхаясь, лишь когда меня начинали дергать полиция и ФБР — словно работая на старых, подсевших батарейках, — а так предпочитала уходить из реального мира, зная при этом, что по возвращении в него проблем меньше не станет.
И перед тем, как окончательно отключиться после получения Ленчикова письма, сказала себе, что целиком и полностью вверяю себя судьбе — что больше не считаю себя ни выше нее, ни даже равноценной ей. И коль скоро я признаю, что она сильнее и нет рядом героя, который мог бы меня спасти — так пусть она решает все: либо вытаскивает меня, либо топит к чертовой матери, бесповоротно и навсегда..
Глава 2
…Сон алкоголика короток и тревожен. И в подтверждение этой истины снится мне в коротком дневном забытьи все та же самая карусель, которую часто себе представляю, — безумная карусель, на которую не слишком сложно купить билет и встать в очередь желающих прокатиться с ветерком. А очередь двигается быстро — потому что то один, то другой наездник выбывает из игры.
А лошади — простые и некрашеные для начинающих, золоченые и расписные для более проворных игроков — то тащатся медленно, то несутся вскачь, каждая в своем темпе. Седоку ведь только кажется, что это он ею управляет — на самом деле все наоборот. И даже покорная изначально лошадка может вдруг ожить и выкинуть какой-нибудь трюк — встать на дыбы, к примеру, сбросив седока себе под ноги, или упасть на колени, кинув его через голову под свои копыта и копыта бегущих следом. И все, что может седок, — это быть максимально готовым к неожиданным поворотам и не расслабляться, даже когда лошадь медленно тащится по прямой.
Здесь даже рассчитывать нельзя ни на кого. Вернее, можешь по желанию начинать игру вместе с командой сподвижников, но чья-то лошадь едет быстрее, а чья-то — медленнее, кто-то получает больше очков и призов за победы на промежуточных этапах, а кто-то — меньше, и карусель пробуждает даже в дружественных седоках зависть, и в итоге каждый оказывается сам за себя. И когда погибает один, остальные точно так же движутся дальше — смерть товарища не говорит им, что надо бы спешиться и сойти с дистанции, — просто ему не повезло, вот и все. Да и сойти с дистанции уже нельзя: карусель тебя не отпустит, ты принадлежишь ей, и, даже если продержишься очень долго и соберешь максимальное количество очков и призов, отказаться от продолжения игры все равно не удастся. И будешь скакать дальше, и рано или поздно…
И прогнозы, и теоретические выкладки в этой игре — дело неблагодарное. Можно сколько угодно рассуждать о том, что вот с тем наездником надо бороться так, а этого можно обойти на крутом повороте, а тот должен испугаться борьбы и отстать, а с этим следует потягаться в самом конце — но на деле любой из них может сыграть не по правилам, может подкупить остальных, или просто вытолкнуть тебя из седла, когда поравняешься с ним, или покалечить неожиданным и резким движением твою лошадь. И бесполезно взывать к честности, к английскому джентльменскому понятию “фэйр плэй” — здесь игра идет на деньги и на выживание, и ждать благородства и честного соперничества, рассчитывать на то, что твои коллеги-конкуренты будут вести себя по-джентльменски, как минимум, глупо. С такими мыслями тут долго не протянешь.
А мне снится, что лошадь подо мной — красивая, изящная, вырезанная мастером, как и подобает игроку со стажем, выигравшим не один заезд у опасных соперников, — шла еле-еле и вдруг понесла, и я вцепляюсь судорожно в деревянную гриву, и трещат ломающиеся ногти, и пальцы, побелевшие от напряжения, начинают уставать. И хватка слабеет, и я уже не контролируя ее совсем — я просто жду почти равнодушно, устав от страха, когда же она кончится для меня, эта гонка. И думаю про себя с горечью, что я так рассчитывала все, обдумывала тактику, пыталась проникнуть в психологию соперников, столько боролась, но вот все кончается и для меня. И держусь уже машинально, просто потому, что не могу позволить себе разжать пальцы, проявляя безволие, — но знаю, что хватит меня ненадолго, и вот-вот…
И лошадь моя то сигает через бог знает откуда взявшуюся яму, то перемахивает через секунду назад отсутствовавший на моем пути забор, и вдобавок сама пытается от меня избавиться, и стараются ей помочь мои конкуренты. И эта безумная помесь скачек с родео близка к завершению — и мне почти все равно, когда именно она закончится…
— Доброе утро, Олли…
Медленно открываю глаза, не понимая, откуда этот голос и где я вообще. И обнаруживаю, что лежу в нашей с Корейцем спальне на огромной королевской кровати, и в комнате темно от задернутых плотных штор, за которыми то ли ночь, то ли утро, а в углу сидит, светясь сигарным огоньком, кто-то незнакомый мне, чужой, неизвестно как оказавшийся тут.
Галлюцинация? Может, зеленые черти появились, пришли побеседовать со мной, посоветовать пить побольше, чтобы они почаще составляли мне компанию? Но сигары курить галлюцинациям не идет — слишком материально это для них.
“А может, Кореец? — мелькает спасительная мысль. — Кому еще?” А голос я не разобрала спросонья. Хочу спросить: “Это ты, Юджин?” — но в горле сухо, и ком стоит. А этот молчит, и, видимо, это совсем не тот, о ком я думаю.
А значит, сон был в руку — значит, это откуда-то взявшийся Ленчик, решивший не дожидаться нашей встречи или расслабивший меня специально, намереваясь появиться неожиданно и завершить наше знакомство. Даже не приходит в голову, что ему сначала от меня нужны деньги, а потом уже моя жизнь, — и почему-то уверена, согласно своему сну, видимо, что у него пистолет в кармане, а может, и в руке уже, и сейчас все кончится.
И отмечаю только, что этого я совсем не боюсь. Это странно, и я копаюсь в себе под его молчание, вяло рыщу дрожащими руками в том хламе, который свален сейчас в моей не очень хорошо соображающей голове, в заржавевших от пьянства и кокаина винтиках и колесиках, и пытаюсь понять, что там заело. Но все они в порядке вроде, функционируют исправно, с поправкой на состояние, — по крайней мере знаю, кто я, и где я, и что происходит в моей жизни. Так почему же я не боюсь хоть чуть-чуть? Потому что не протрезвела? Нет ни малейшего сомнения в том, что заснула я, прилично накачавшись, и, хотя сейчас вроде не пьяна, поразительной трезвостью мысли тоже не отличаюсь. Но дело не в этом. В чем же тогда — нечего терять разве? Молодость, красоту, богатство, будущее — не жалко?
Странен такой внутренний монолог, когда в комнате сидит чужой человек-полуневидимка, лица которого не разглядеть в этом мраке, как ни старайся. Но я тем не менее продолжаю, словно его и нет здесь, — представляя, что это как бы мое право на последнее желание перед смертью, на последнее слово, и он мне его дарует и потому молчит. И говорю себе немного удивленно, что нет, и вправду ничего не жалко — жалко только, что не успела все же разобраться с Ленчиком, хотя и пыталась, жалко, что этот пидор добрался до меня раньше, чем я до него, жалко, что не успела расплатиться за Яшу и Корейца, да и вообще жалко проигрывать после стольких усилий. Но я ведь знала, что рано или поздно все кончится — забыла об этом на год с лишним и снова вспомнила, когда убили Яшу. Так что..
Шарю рукой по столику у постели — и, обнаружив какую-то емкость, запускаю в нее пальцы, нащупывая полурастаявшие кусочки льда. И когда один из них оказывается в моем рту, смачивая горло, растапливая ком и возвращая дар речи, сразу становится легче и осознанней, и той же рукой нажимаю на кнопку, находящуюся в стене в пределах досягаемости. Шторы разъезжаются, впуская в комнату свет, и постепенно проявляется все, как на опущенной в раствор фотографии, — и проявляется совершенно незнакомое лицо метрах в десяти от меня. На первый, беглый взгляд ничем вроде не примечательное — и, видимо, последнее лицо, которое я вижу в свей жизни. Не могу сказать, что хотела бы в такой момент увидеть какого-нибудь голливудского красавчика или, не дай бог, глуповатую Мону Лизу, — да и какая разница, какое лицо у этого человека, важно, зачем он пришел.
А он все молчит. Было бы это кино, он бы сейчас пытался своим молчанием вселить в меня ужас и готовился бы, уничтожив меня морально, произнести заученный наизусть обвинительный монолог. А у меня под подушкой оказался бы пистолет, и я выхватила бы его в тот момент, когда он заканчивает речь, — в кино всегда в решающий момент говорят слишком долго, вместо того чтобы сразу стрелять, — а он бы выхватил свой. И один из нас выстрелил бы чуть быстрее — кто именно, это уже сценарий бы определил, по которому один из нас был бы плохим, а другой — хорошим. Но в кино все проще, а в жизни все непонятней, ну а в этой игре, из которой я выйду сейчас, хэппи-энды случаются редко, если вообще бывают. Добро побеждает зло на каком-то этапе, но в итоге само оказывается побежденным — хотя, с другой стороны, такие категории, как добро и зло, здесь отсутствуют в ярко выраженном виде, уж слишком они перемешаны.
— Какого черта вы здесь делаете и кто вы, черт возьми, такой? — спрашиваю так же киношно и почему-то, как это ни смешно, жду в ответ такой же голливудской реплики: “Я твой самый страшный кошмар”. Но этот то ли кино не смотрит, то ли актер хреновый, потому что говорит в ответ:
— Пришел, чтобы побеседовать с вами, Олли. Вы же не отвечаете на звонки. Что мне, по-вашему, оставалось делать?
— И о чем ж вы хотели побеседовать? — спрашиваю с меньшей уверенностью в голосе, потому что наконец понимаю, что это не Ленчик и не его человек, это вообще американец, говорящий на чистом, без акцентов и примесей, языке.
— О Джиме Ханли — моем партнере…
— О ком? — переспросила, думая, что ослышалась.
— О Джиме Ханли. Я Рэй Мэттьюз, партнер Джима, — вспомнили, мисс?
Не поверишь — со мной чуть истерика не приключилась, приступ нервного смеха. Я-то решила, что это киллер пожаловал и сейчас нажмет на спусковой крючок — и готова была к тому, чтобы достойно принять смерть. А это частный детектив оказался — наглый, надоедливый тип, утомивший мой автоответчик, и теперь вот пробравшийся каким-то образом в охраняемый забором, решеткой и камерами дом, и спрашивающий с сарказмом, помню ли я его.
— Вы нарушили закон о частной собственности, мистер Мэттьюз, так что убирайтесь, пока я не вызвала полицию. И вообще, каким образом вы здесь оказались — вы что, сквозь стены проходить умеете?
— Что-то вроде того, мисс. — Вот непробиваемый тип, мало того что наглый, еще и жутко самоуверенный вдобавок и хамоватый. — А насчет полиции… Поверьте, что то, зачем я пришел, очень важно и для меня, и для вас…
Он смотрит на меня внимательно и изучающе — никуда не торопясь, явно зная, что никого я не вызову сейчас, — тут он может и ошибиться — и наконец обнаруживаю, что лежу абсолютно голая поверх одеяла, чуть раздвинув ноги. Видно, перед тем, как отключиться занималась любовью сама с собой — и в той позе и заснула.
Ну что ж, увидел — так увидел, меня от этого не убудет, и нет в этом ничего такого, что бы меня смущало. Но все же чуть меняю положение, подсознательно переворачиваясь на бок, и чуть сгибаю в колене одну ногу, принимая позу менее стыдную и дерзкую, но более красивую и изящную.
— Хватит пялиться на меня, мистер. Или вы все же пришли, чтобы полюбоваться мной? Не видели до этого голых женщин?
— Видел, Олли, и в достаточном количестве, для того чтобы признать, что вы лучше большинства. И потому, возможно, стоите того, чтобы ради этого забраться в ваш дом. Но я пришел по другому делу.
Вот скотина: “возможно”! Но не могу не признать, что ответ хороший. Медленно встаю, понимая, что никуда он не упрется пока, а мне надо привести себя в порядок, потому что разговаривать с мужчиной спросонья я не привыкла, кто бы ни был этот мужчина. Одежда рядом, но какой смысл прикрываться, когда он уже все видел?
— Мне надо в душ, мистер Мэттьюз, так что, каким бы срочным ни было ваше дело, минут сорок минимум вам придется подождать. Сварите пока кофе — отплатите мне за сеанс подсматривания.
Он все еще не отводит глаз от меня и моего тела и только замечает, когда я прохожу мимо него, направляясь в ванную:
— Нет, я ошибся — вы лучше подавляющего большинства, мисс.
— А с чего вы взяли, что я мисс, а не миссис? Разве оттуда, где вы сидели, можно было это разглядеть? Или вы провели гинекологический осмотр, пока я спала?
В душе хорошо — такое ощущение, что вода вымывает все плохие мысли и алкоголь. Вид у меня, кстати, вполне нормальный — косметика не смыта, я заснула не умывшись, нанося вред своей коже, но сегодня это оказалось даже кстати. Не хотела бы чтобы кто-то видел меня без нее, и не потому что это некрасиво, а потому что слишком интимно: обнаженное лицо более стыдно, чем раздвинутые ноги. И более беззащитно, и более открыто. А сейчас мне надо только губы подкрасить, а так все на уровне, вот разве голова болит.
Черт, часов нет поблизости — без них и не вспомню даже, во сколько примерно я заснула. Знаю, что сегодня двадцать второе февраля, утром у меня был разговор с Эдом, в десять, а где-то в двенадцать получила послание от Ленчика — и выпила потом, и, полагаю, просидела часа три, ожидая звонка Дика, который так и не позвонил, сволочь, и полагаю, что потом часа два проспала. Выходит, сейчас около шести вечера, не больше.
Как, интересно, этот тип пробрался в дом? Ну можно что-то нахимичить с фотоэлементом и открыть ворота, но там же камеры кругом и сигнализация, которую я включила? Не через забор же он перелез — высоковато, да и датчики там должны быть, и все те же камеры выслеживают окружающее пространство. Но если он смог, то и Ленчик сможет — с которым у меня завтра в 15.00 должна быть встреча, а к ней мне еще надо бы подготовиться и вечером пить особо не стоит, потому что завтра надо быть в прекрасной форме.
Старательно растираюсь — не люблю вытираться после душа, но иначе халат будет прилипать к мокрому телу, демонстрируя его, а для делового разговора это лишнее. А впрочем, какое у него ко мне дело, мать его фак?! И с чего он взял, что оно и для меня важно?!
— Вы в порядке, Олли? — слышу из спальни.
— А вы хотели предложить свои услуги? Может быть, сделать массаж? — интересуюсь язвительно, выходя.
— Кофе готов, — сообщает он мне в ответ, показывая, что не караулил меня тут, а занимался делом. Доверяет, значит, — хотя в его положении я бы не была такой уверенной: вызови я полицию, ему бы долго пришлось объяснять, что он тут делает. Но он знает, что вызывать я никого не буду, — неужели и в самом деле пришел меня шантажировать, как я и предполагала? Ведь была мысль, что боком мне выйдут услуги Ханли, — но я в них нуждалась, верно?
Сажусь на большой кожаный диван в гостиной второго этажа, наполнившейся запахом кофе. Молодец Мэттьюз — сахарница на столе, и молочник, и коробка с сигарами рядом со мной, и обрезалка с зажигалкой, и даже пепельница. Делаю глоток, в последний момент вспоминая об американской привычке пить либо безкофеиновый кофе, либо варить предельно слабый, так что кажется, что воду пьешь. Для здоровья полезно, конечно, и я сама пила кофе без кофеина, когда все было нормально, но последние два месяца варю себе только жутко крепкий — и только колумбийский, потому что в разных ароматизированных сортах крепость не так чувствуется. Однако он, оказывается, сварил так, как мне нравится, — чувствуется, что не стал экономить мои запасы, и во рту привычная для колумбийского кофе кислинка и ощущение крепости.
Выпиваю не спеша чашку, выжидаю минуту, не соблаговолит ли он протянуть руку к кофейнику и налить мне еще — но он не двигается, развалился в кресле напротив, и смотрит на меня, и продолжает курить мою сигару. Что ж, придется самой себя обслужить — но как только чуть наклоняюсь вперед, он тут же поднимает кофейник, наполняя мою чашку.
— Вы очень заботливы, мистер Мэттьюз, — замечаю все в том же язвительном тоне. — Может, заодно смешаете мне “драй мартини” — и можете и за собой поухаживать.
Он вдруг качает отрицательно головой, говоря мне, что пить с утра не очень полезная привычка, и хотя в другой ситуации он бы не отказался, но сейчас не будет и мне не советует — а к тому же разговор у нас долгий, и, когда он закончится, мы вполне можем пропустить по стаканчику-другому.
С “утра”? Рехнулся он, что ли? В первый раз с момента пробуждения смотрю на большие часы у стены, сделанные в современной манере, но со старомодным маятником, на которые люблю смотреть, размышляя на всякие философские темы — о быстром и одновременно медленном течении времени, об относительности и бренности всего сущего. И с удивлением отмечаю, что стрелки застыли на десяти. Но десять вечера быть никак не может, слишком уж светло за окном, — неужели встали? Не забыть бы батарейки сменить, а то так и буду удивляться. И вдруг вижу, что маленькие настольные часы ровно столько же показывают, и даже в моем безумном состоянии понимаю, что двое часов одновременно встать не могут — если только инопланетяне не объявили Земле войну и не остановили каким-то образом все работающие от батареек приборы.
Значит, сейчас десять утра двадцать третьего февраля — это при том что последнее событие, которое я четко помню, а именно получение письма от Ленчика, имело место в полдень двадцать второго. Ничего себе — почти сутки выпали из жизни, а я даже не зафиксировала ничего. Неприятная новость — показывающая, что я не просто постепенно теряю контроль над собой и ситуацией, но уже потеряла его почти совсем.
Неудивительно, что я сейчас трезва — столько проспать! Хотя кто его знает, чем я вчера занималась — может, просидела полночи со стаканом и легла пару часов назад. Черт, у меня же встреча с Ленчиком через пять часов!
— Итак, мистер Мэттьюз, — поднимаю на него глаза, отвлекаясь от своих мыслей и зная, что должна выпроводить его как можно скорее и наедине с собой определиться с дальнейшим поведением в отношении Ленчика. — Что же вы от меня хотите? Я имела дело с вашим партнером, Джимом Ханли, но не имела дел с вами и не собираюсь. Я сказала вам по телефону, что мне нужен Джим — и я жду его звонка, как только он появится. Так что, в принципе, вы можете уйти — на меня голую посмотрели, сигарой я вас угостила, кофе вы выпили. А когда приедет Джим, мы с ним обсудим то, что мне надо с ним обсудить.
— Джим не приедет, Олли, — и наглые глаза его серьезнеют, и лицо застывает в гипсовой маске. — Он не приедет и вам не позвонит. Его убили…
— Как убили?! Кто, когда?! — выпаливаю, не в силах больше сдерживать эмоции, пораженная этими словами не меньше, чем известием о смерти Стэйси. И перед глазами появляется гигантская чугунная копилка, в которой лежат связанные со мной смерти и в которую весомой монетой падает еще одна.
— Ночью первого февраля, как я полагаю. Труп нашли в багажнике его собственной машины около центрального госпиталя — прямо на стоянке. Обнаружили только пятого утром — с пулевым ранением в голову. Стреляли в упор. Видимо, заставили лечь в багажник, приставили пистолет к виску и…
Первое февраля, Лос-Анджелес, Сентрал Хоспитал. Та самая больница, в которую, по газетным сообщениям, привезли раненых Ленчиковых людей — их привезли тридцать первого: двоим оказали помощь и они уехали, а один остался. Что, черт возьми, делал там Ханли?! Неписаный наш с ним контракт давно истек, киллера он нашел — так что он делал там? Вертится какая-то мысль, но нельзя сейчас размышлять — иначе этот Мэттьюз поймет, что я что-то знаю.
— Это ужасно, мистер Мэттьюз. Это и вправду ужасно. Мне очень жаль — Джим был приятным человеком. Но чем я могу вам помочь? Он действительно выполнил одно мое задание в начале января — но восемнадцатого или девятнадцатого числа мы произвели окончательный расчет и расстались…
Кажется, он не верит мне. Да, я же и в самом деле встречалась с ним еще один раз после того, как рассчиталась, — звонила ему в офис, он мне перезвонил, и я попросила о встрече, веря в то, что он поможет мне найти киллера. И мы встретились на следующий день после встречи с Ленчиком, двадцать первого, — и все, больше никаких контактов.
— Я вспомнила, мистер Мэттьюз, — в последний раз я видела Джима двадцать первого. Мы посидели днем в ресторане, я получила консультацию, которую хотела от него получить, и уехала. Больше я ему не звонила, и он мне тоже. Наше дело закончилось. Джим предлагал еще поработать на меня, но мне это не требовалось, о чем я ему и сообщила. Больше я ничего вам сказать не могу.
— А чем занимался Джим по вашей просьбе, Олли? Кстати, зовите меня Рэй — а то я зову вас по имени, а вы меня так официально. Чем именно он занимался?
— Ну, во-первых, вы, наверное, уже об этом знаете — коль были партнерами. А если нет — я не могу ответить на ваш вопрос, потому что это мое личное дело и я не собираюсь о нем рассказывать. К тому же Джима убили через две недели после того, как он выполнил ту работу, которую я ему поручила, — какое это убийство может иметь к ней отношение?
— Самое прямое, Олли, — после той работы, которую он делал для вас, Джим ничем серьезным не занимался. Так, копался в бумажках, помогая мне в одном расследовании. И до вас ничего такого не было — обычная мелкая работа, да и та весьма нечастая. Он не сказал мне ничего конкретного — только то, что обратилась молодая красивая и очень богатая женщина с просьбой проследить за какими-то ее знакомыми и кое-что о них узнать. И в Нью-Йорк, по его словам, он летал за этим же — потому что эти ваши знакомые, к которым вы проявили столь пристальный интерес, были из Нью-Йорка. Восемнадцатого января он сказал, что вы с ним рассчитались — и отказались от дальнейшего сотрудничества, но Джим полагал, что с вашей проблемой работы хватило бы для нас двоих.
А двадцатого вы позвонили в наш офис, оставили сообщение на автоответчике — я прослушал его потом, голос у вас был такой странный, не слишком трезвый и, мне показалось, взволнованный. Вы очень хотели, чтобы он вам перезвонил. После встречи с вами он мне ничего не сказал — он умел хранить секреты, Джим, хотя я бы все вытянул из него, если бы знал, чем это может кончиться. Но у меня хватало своих дел, как раз подвернулась непыльная, но хлопотливая работенка: одна женщина просила проследить за ее мужем, справедливо подозревая, что у того есть постоянная любовница, и собрать достаточно доказательств, чтобы их хватило для подачи на развод с отсуживанием солидной суммы…
— Это очень познавательно, Рэй, но ко мне не имеет никакого отношения…
Но он непробиваем — и так же размеренно и методично излагает дальше.
— …и Джим мне помогал. После вашего звонка в наш офис — и после вашей встречи с ним — он вел себя непонятно, нервно, суетливо. А тридцать первого позвонил мне на мобильный — я не приехал в контору, был занят в городе — и, кажется, был взволнован, но мне было некогда, и я не обратил внимания. Он сказал только, что, кажется, подвернулась работа с прежним клиентом — имея в виду вас — и завтра нам надо поговорить, как убедить вас в том, что вам необходимо, чтобы мы на вас работали. Джиму очень нужны были деньги: у него сын в этом году собирается поступать в университет, а значит, надо иметь деньги для взноса минимум за пару семестров — и он был счастлив, что можно заработать. Но мне было не до него. Если бы я знал, я бы бросил все дела и примчался в офис… А потом уже было поздно…
— Чем я могу вам помочь, Рэй? — повторяю тупо. — Я все вам рассказала. Почему вы пришли ко мне — разве его убийство не может быть связано с прежними делами? А может, это тот самый уличенный в измене муж — или любой из уличенных с вашей помощью мужей и жен, компромат на которых вы находили? Я же так понимаю, что ваша работа состоит в основном в том, чтобы копаться в грязном белье, а это мало кому нравится. И что вы хотите мне сказать, что муж, потерявший на разводе большие деньги, не может нанять киллера, чтобы отомстить — не сразу, а через какое-то время? Поверьте, Рэй, мне жаль Джима и я сочувствую вам — и если хотите, я могу дать вам какую-то сумму для передачи его семье, ну… тысяч пять, к примеру, потому что Джим попросил за работу меньше, чем я готова была заплатить. Но это все…
— А что, вы думаете, я делал все это время? Я проверил все наши дела за два года, все продумал и изучил — смерть Джима никому не была нужна. К тому же грязную и рисковую работу обычно брал на себя я — Джим был тихим парнем. И я понял, что это связано с вами, но у меня не было вашего телефона — и я бы вас не нашел, если бы вы сами не перезвонили в наш офис.
Видите ли, Олли, — Джим оказался у этого госпиталя потому, что решил снова заняться вашим делом, в надежде, что вы потом заплатите за проделанную работу, хотя вы и не нанимали его заново. Я достал списки тех, кто лежал в госпитале, но не нашел ничего подозрительного, кроме одного факта. Накануне в госпиталь поступили раненые русские из Нью-Йорка, которых кто-то хотел превратить в решето, — а Джим как раз летал по вашим делам в Нью-Йорк, откуда, по его словам, были те люди, за которыми вы просили проследить. Сами люди были в Лос-Анджелесе, а он летал в Нью-Йорк — улавливаете? И еще: он был слегка напуган, когда улетал туда и когда прилетел оттуда, словно он уже кое-что знал о тех, кем вы интересовались, а в Нью-Йорке узнал еще больше, и ему совсем не нравилось то, что он узнал. Мне так показалось, и его жене — она мне рассказала, что он был сам не свой с середины января. Вы видели Джима, он был мирный парень, совсем не крутой, но и не трус — несколько лет назад он отделал полицейским фонарем двух здоровенных негров, которые обкололись настолько, что им захотелось поколотить копа, — так что состояние растерянности было для него непривычным. Сейчас поздно говорить о том, что я виноват, что не спросил его, в чем дело, не хотел показывать ему, что вижу его волнение…
— Ну и? — спрашиваю, наконец прерывая его затянувшееся молчание, связанное, видимо, с самобичеванием и внутренними укорами.
— А это значит, что вы просили его последить за очень и очень серьезными людьми, и именно эти серьезные люди, угрожавшие вам, с ним и расправились. Они могли заметить его еще раньше, когда он за ними следил, а когда увидели в госпитале, узнали и пристрелили как собаку.
— Но мне никто не угрожал, Рэй, — отвечаю устало, показывая, что ничего не скажу. — Вы извините, но у меня сегодня важное дело.
— Я знаю, что у вас важное дело и уже заканчиваю…
— Что вы хотите
сказать?!
— Я хочу сказать, что вы оказались в паршивой ситуации, Олли, — и когда нанимали Джима, еще не знали, насколько она паршивая, потому что не знали, с кем имеете дело. Ситуация паршивая, поэтому вы очень много пьете и нюхаете кокаин — я ведь пришел сюда еще в семь утра, просто не хотел вас будить и осмотрелся слегка. У вас зеркало со следами кокаина на столике в спальне, и стаканы с запахом джина по всему дому, и ведерко для льда, бутылки и стакан у кровати. Вы не похожи ни на алкоголичку, ни на наркоманку — значит, проблемы у вас недавно, примерно с того времени, как вы наняли Джима…
— Вы слишком много себе позволяете, Рэй! — произношу с искренним возмущением, потому что этот факинг Шерлок Холмс бьет в самую точку. — Мы поговорили — а теперь сделайте одолжение и покиньте мой дом…
— Помогите мне, Олли. Просто скажите мне, кто эти люди, и я уйду. В таком бизнесе, как наш, нельзя прощать убийство партнера. Когда убивают партнера, надо послать к черту все дела и заниматься только этим делом — до тех пор, пока не найдешь убийцу. Иначе ты просто не можешь себя уважать…
— Я все понимаю, но я устала слушать ваши оскорбительные предположения по поводу меня и моих проблем, придуманных вами…
— И еще одно, — заявляет он, словно не слышал меня. — Вот этот листок, который лежал на столике в спальне. Конверт от “Федерал экспресс” с нью-йоркским адресом — адресом аэропорта, замечу, — и листок, из которого следует, что кто-то хочет получить с вас пятьдесят миллионов…
Ну разве я могла после этих слов его отпустить? Я просто замолчала, и не возмущалась больше, и не оскорблялась — и, если честно, вообще не знала в тот момент, как себя вести, курила и думала про себя, что глупо уже отпираться. Пошли я его сейчас подальше — и он продолжит копать сам и наверняка обратится в полицию, пусть лишь ради того, чтобы кое-что уточнить, и, если полиция узнает, что убили работавшего на меня Ханли и что мне кто-то угрожал, это уже будет плохо. А если еще и узнает, что кто-то требует с меня пятьдесят миллионов — сколько бы я ни отпиралась и ни твердила, что мистер Мэттьюз все придумал, только дурак не сопоставит этот факт с убийством Стэйси, и найденной на ее теле запиской с теми же сами цифрами, и самим фактом нашего близкого знакомства. И тут притянут меня, и мне придется выдать Ленчика, а если я выдам Ленчика, то он выдаст меня — и насчет того, кто я на самом деле, и кто мой муж, и откуда у меня деньги, и про Кронина тоже. И сразу станет ясно, кто послал к Ленчику киллера, — да даже и без этого я снова сяду, и уже не на десять дней, а, в лучшем случае, на десять лет.
Так что же мне делать-то? Рассказать ему все? И взять при этом слово, что он не будет обращаться в полицию за помощью? Но, с другой стороны, что он может сам-то сделать? Один против Ленчика и его банды, с которой он прилетит сюда сегодня, — что он сделает? Тем более что Ленчик после обстрела и смерти троих его людей вести себя будет по-другому — он должен понимать, что нанятый мной киллер заказ до конца не выполнил и ходит где-то рядом, а значит, Ленчик будет предельно осторожен. И особенно опасен — потому что бык, может, вычисляет плохо и мыслит не лучше, но уж пострелять-то способен, особенно если человек кажется подозрительным.
А смерть Ханли, конечно, на них. Вдруг вспомнила, что когда во время последней беседы с Ленчиком сказала ему, что знаю, кто есть кто, то есть кто он и кто его люди, и где они живут в Эл-Эй, и даже снимки их показала — у него в полиэтиленовых глазах мелькнуло что-то. И только сейчас понимаю, что он догадался, кто сделал эти снимки и кто их пас — наверное, пару-тройку раз Ханли попадался им на глаза, просто они не знали, кто он, а тогда, в ресторане, Ленчик вспомнил и допер. И он или кто-то из его людей увидел Джима, когда тот появился в госпитале, а дальше все было просто.
Что он хотел там узнать, интересно, и почему был уверен, что проделанная им работа так мне понравится, что я его снова найму? Хорошо хоть, не пытался меня шантажировать, понимая, что это Джо выполнил мой заказ, что результат заказа в морге и в одной из палат этого госпиталя. И все же — что ему там было надо? Пытался узнать, куда поедут Ленчик и его люди после больницы? Проследить, что они будут делать? Хотел мне передать их новый адрес?
Все равно этого я уже не узнаю. И не узнаю теперь, куда делся Джо: я же через Ханли его нашла и со смертью Джима отыскать уже не смогу. Так что выходит, что зря я его только нанимала и с таким нетерпением ждала, что он вот-вот выполнит мой заказ, — даже в тюрьме думала только об этом, говоря себе, что бог с ним, что я здесь, главное что я отомщу. А теперь выходит, что лучше было бы его не нанимать — потому что бессмысленная его стрельба привела к тому, что погибли три человека, смерть которых ничего не меняла. Кроме того, Ленчик в отместку убил Стэйси — и наверняка хочет и моей смерти, а с убийством тюменца у него вообще руки развязаны: кто теперь проконтролирует его и узнает, забрал он у меня деньги или нет? Никто, особенно если учесть, что он теперь обязательно должен меня убрать — и ради мести, и ради бешеного дохода в пятьдесят миллионов.
Так что же мне делать с этим Мэттьюзом?
Я посмотрела на него внимательно — до этого момента, должна признать, и не видела его толком, точнее, видела, но не пыталась всмотреться. Чуть помоложе покойного Ханли, лет тридцать семь — тридцать восемь, среднего роста, сто семьдесят — сто семьдесят три максимум, достаточно крепкий на вид. Коротко стриженные светлые волосы, серые глаза, лицо приятное, хотя, конечно, голливудским не назовешь. В отличие от чистенького и ухоженного Ханли партнер его небрит или намеренно носит на лице такую щетину и солидным выглядеть не старается, никакого пиджака с галстуком — этакий герой вестернов в достаточно поношенных джинсах, остроносых сапогах, мешковатый синий свитер, а потертая кожаная куртка небрежно брошена в угол. Впрочем, вряд ли бы он стал выряжаться перед тем, как вторгаться ко мне в дом, хотя, с другой стороны, мог бы постараться произвести благоприятное впечатление, прикинуться преуспевающим частным детективом.
Может, он, конечно, и частный детектив — я-то, в общем, не сомневаюсь, — но не выглядит он как человек, способный справиться с Ленчиком и его командой. Внешность, конечно, обманчива, но мне почему-то кажется, что передо мной подававший большие надежды, но немногого добившийся в жизни человек, усталый, и разочарованный, и циничный, наверняка неженатый, любитель выпить и снять в баре девицу на ночь, не слишком богатый. Единственное, что показывает, что он не так убог и прост, — его жуткая самоуверенность и наглость. Качества, может, и не лучшие и зачастую не свидетельствующие об уме, но он ими пользуется умело, по крайней мере, со мной повел себя так, что я даже не особо долго возмущалась по поводу его незаконного проникновения в мой дом, а сейчас вот сижу тут с ним. С другой стороны, я — это особый случай. У меня, как говорят в Москве, рыльце в пушку — и, возможно, в другой ситуации наглость бы его не спасла от праведного моего гнева.
Невидяще тянусь за зажигалкой, потому что сигара потухла — и прямо перед глазами вспыхивает огонек, заставляющий вздрогнуть и дернуться назад. Дал мне прикурить, молодец, — и киваю ему машинально, снова уходя в свои мысли, а он опять застывает, делаясь почти невидимым, не отвлекая меня ни единым движением.
Он ведет себя как… как Брюс Уиллис в “Последнем бойскауте” — и, кстати, похож на него немного внешне. Вот что значит работать в кино — сравниваю живого человека с экранными персонажами. Нет, правда, Уиллис в том фильме был примерно такой же в меру нагловатый, в меру развязный и ничего из себя не представляющий внешне, но жестокий и смертельно опасный в ходе конфликта. Только вот боюсь, что этот совсем не такой. И что не сможет он действовать так, как последний бойскаут, для которого расправиться с Ленчиком и его людьми было бы так же легко, как почистить зубы утром.
А мне сейчас нужен именно такой человек. Нечто вроде Кевина Костнера в “Телохранителе”, или Уиллиса в “Бойскауте” и в “Герое-одиночке” — классный фильм, жалко, Кореец его не видел, ему бы понравился Уиллис, проезжающий через городок на мексиканской границе и мимоходом истребляющий местную мафию, и все смотрится естественно и жизненно. А Мэттьюз мне, боюсь, не нужен — не подойдет, несмотря на внешнее сходство с мужем Деми Мур, и тем, что у того в “Бойскауте” тоже убили напарника, и тем, что Уиллис в том фильме был неудачником, когда-то знавшим лучшую жизнь, опускающимся неудачником, которого не любят его собственные жена с ребенком и который ненавидит сам себя.
Да, внешнего сходства мне маловато, и хотя не скрою, мелькала мысль, что это и есть посланный мне судьбой и случаем герой — посланный именно в тот момент, когда я так просила об этом судьбу, будучи в безвыходном положении и не в состоянии сопротивляться дальше, — я усмехнулась только, внимательно его изучив и все обдумав, и напомнила себе слова из “Интернационала”: ни Бог, ни царь и не герой избавления не дадут, и добиваться всего придется собственной рукой.
А он сидел напротив, видя что я рассматриваю его, и молчал, может быть давая мне шанс все оценить и обдумать — и принять решение. Понятно, что заставить меня что-то ему сообщить он не мог, — но и не знал, что решение мое могло быть только одно, а именно: рассказать ему то, что ему надо, и рассказать так, как это надо мне, и взять с него слово, что мой рассказ останется между нами. Потому что, если он захочет обратиться в полицию, я от своих слов тут же откажусь — к тому же никаких документов о том, что я нанимала Ханли, не существует. А тот листок с посланием Ленчика, который он увидел, — это дело поправимое.
Протягиваю руку, беру выложенный им на стол листок и щелкаю зажигалкой, гадая, попробует ли он меня остановить — все же это какое-никакое, а вещественное доказательство, которое можно предъявить полиции. Но он не двигается, и бумага горит, чернеет, легко рассыпаясь, превращаясь в нечто отжившее, в то, что выносят из крематория в урне, и жаль, что нельзя тем же образом отправить в небытие связанную с этой бумагой проблему.
— Это для начала, мистер Мэттьюз. А теперь — допустим, я вам все расскажу. И что вы собираетесь делать с полученной информацией?
— Это мое дело, Олли.
— И мое тоже — ситуация такова, что вмешательство полиции может мне повредить.
— Вот как? — Несмотря на вопросительную интонацию, выражение лица его не меняется. — Я, в общем, и не собирался ее подключать, какой смысл — даже если мне удастся собрать доказательства, что Джима убил конкретный человек или люди, нет гарантии, что их не отпустят под залог или вообще не отмажут. У них ведь, наверно, есть деньги, а значит, суд им не страшен. У нас тут, знаете ли, демократия — так что я обойдусь без полиции, тем более что отношения со здешними копами у меня сложные. У Джима были друзья в полиции — у меня нет.
Ну вот, герой-одиночка. Но не исключено, что он изменит свои взгляды, когда кое-что от меня узнает, хотя я, естественно, постараюсь рассказать как можно меньше.
— Хорошо, мистер Мэттьюз…
— Рэй.
— Хорошо, Рэй, и еще одно: мне нужны гарантии, что то, что я вам расскажу, останется между нами.
Глупое заявление — какие тут могут быть гарантии? Ханли, правда, оказался честен — никому ни слова и даже с партнером не поделился, точнее, не успел поделиться. И тут вспоминаю, что он же выяснял через свои полицейские завязки про Ленчика, и в Нью-Йорк когда летал, тоже ведь явно через полицию выведал все имена людей из Ленчиковой банды. А значит, те, к кому он обращался, знают, за кем он следил? Господи, вот еще сюрприз!
— Да, Рэй, а что говорит полиция по поводу смерти Джима?
— Ничего она не говорит — и ничем заниматься не будет. Он же частный детектив, конкурент, в общем. Человек, ушедший из полиции из-за низкой зарплаты и организовавший свое дело. Таких копы не любят. А насчет гарантий — вам ведь не нужна моя расписка, правда? И если вас устроит мое слово…
Немного. Но другого варианта все равно нет, и я начинаю рассказывать ему, как в Нью-Йорке погиб мой бизнес-партнер — не близкий знакомый, но хороший знакомый, крупный бизнесмен, вкладывавший деньги в мой бизнес здесь. Как потом со мной связались люди, назначившие мне встречу, — послали сообщение по факсу, в котором дали понять, что если я не приду, могут быть серьезные последствия для других, очень близких мне людей. Как я наняла охрану и поехала на встречу и услышала, что эти люди требуют от меня фантастически огромную сумму денег, угрожая в случае моего отказа убить моих родителей, и я не сказала ни “да” ни “нет” — потому что мои родители живут в другой стране, где американская полиция их защищать не сможет. И я позвонила Джиму, просто отыскав телефон агентства в “Желтых страницах”, — и он заснял этих людей на пленку, и следил за ними, и узнал, где они живут. А потом, пользуясь своими связями в полиции и вдобавок съездив в Нью-Йорк, узнал, кто они такие — русские мафиози.
— Как вы думаете, Рэй, почему полиция заявляет, что у нее нет версий смерти Ханли, в то время как он пользовался полицейскими каналами, а значит, они должны быть в курсе? — задаю беспокоящий меня вопрос.
— Он же не бесплатно ими пользовался, Олли, — и кому захочется признать, что помогал частному детективу, предоставляя ему служебную информацию, и попасть под подозрение во взяточничестве? Кстати, деньги вы им так и не отдали, насколько я понимаю, — тем, за кем следил Джим?
— Нет, пока нет.
— И ни в полицию, ни в ФБР обращаться не собираетесь?
Черт, слишком много приходится рассказывать. Но делать нечего и выкладываю ему про то, как меня арестовало ФБР по обвинению в убийстве моего партнера в Нью-Йорке, и продержало десять дней в тюрьме, и выпустило с извинениями, но, кажется, мечтает тем не менее упрятать меня обратно.
— Я знаю Крайтона — жирная, вонючая свинья. Доводилось иметь с ним дело, и впечатление не из лучших. Но все же я не могу понять, Олли, — вы не отдали им деньги, хотя знали и знаете, что они могут убить ваших родителей, которыми, судя по вашим словам, вы очень дорожите…
Он протягивает руку и опять запускает ее в ящик для сигар и невозмутимо извлекает еще одну, не спрашивая меня.
— К вам это уже не имеет отношения, верно, Рэй? Если вы так любопытны, могу лишь сказать, что я затянула переговоры, потому что ждала помощи…
— Та самая помощь, после которой несколько русских из Нью-Йорка оказались в больнице? Кстати, а почему эта ваша помощь сработала так некачественно?
“Да потому что это твой партнер мне нашел такого человека!” — захотелось вдруг крикнуть ему в ответ.
— С чего вы взяли, собственно?
— Да просто предположил, равно как и то, что некачественно оказанная помощь вашего положения не исправила — вы опять получили от них послание, вы пьете и нюхаете порошок.
— У вас слишком богатая фантазия, Рэй. А моя личная жизнь — это не ваша проблема, — отрезаю, показывая, что хватит на эту тему. Может, он хочет предложить мне свои услуги? Боюсь, что мне они ничего не дадут.
— Это точно, — легко соглашается он. — Но, как я понимаю, у вас проблем много — охраны у вас больше нет. Я полагаю, что вы ее наняли в элитном агентстве, которое, естественно, испугалось вашего ареста и от вас отказалось. Угадал? Так вот — охраны у вас нет, и помощи нет, и эти люди от вас не отстали, и тут еще проблема с ФБР.
Умен и догадлив — ничего не скажешь.
— Я уже сказала, что это не ваше дело, если вы хотите предложить мне свою помощь, как предлагал ее Джим, то она мне не нужна.
— Я и не предлагаю, Олли. Я действительно влезаю в ваши дела — извините. Просто профессия такая — пытаешься разобраться во всем и волей-неволей…
— Короче, Рэй, — я уже сказала вам, что занята сегодня.
— Ну да, у вас в пятнадцать часов встреча…
Вот сволочь! Холодно и внимательно смотрю на него, пропуская ожидаемую им реплику.
— Олли, вы мне сказали, что Джим сделал снимки этих людей и установил их имена? Не могли бы вы мне это отдать, и я уйду…
Задумываюсь, понимая, что снимки отдала Джо. Не все, но почти все — а на тех нескольких, что остались, Ленчика, кажется, нет. Список остался, это точно. Прошу его посидеть немного и удаляюсь, а оказавшись в том помещении, где находится мой суперсекретный сейф, и запершись предварительно, извлекаю список и оставшиеся фото. А на обратном пути смотрюсь в зеркало, чуть припудриваюсь и иду к нему.
— К сожалению, у меня сохранились только несколько фото — часть я уничтожила…
Господи, что же я несу: подтверждаю его верную гипотезу относительно того, что я пользовалась услугами киллера, и ему, с его мозгами, этих моих слов хватит, чтобы убедиться в своем предположении.
— Фото, пожалуйста, посмотрите здесь, Рэй, — я не могу их вам отдать, равно как и список этих людей. Мне это нужно на тот случай, если со мной что-нибудь случится — ну, вы понимаете. В принципе, я могу дать вам адрес ресторана, где у меня с ними встреча, и вы можете подъехать туда к 15.00. Только большая просьба — не приглашать ни ФБР, ни полицию. Я вам помогла, так не подведите меня.
Он кивает задумчиво и вдруг смотрит мне в глаза, прямо-таки вцепляется, словно пытается влезть в мою голову и что-то увидеть там, понять, вытащить нужную ему информацию.
— А вы собираетесь ехать на эту встречу, Олли? И собираетесь отдать им пятьдесят миллионов? Кстати, я тут читал на днях, что убили молодую актрису и кто-то оставил на ее теле листок бумаги, на котором была эта же цифра — пятьдесят миллионов. Мир полон совпадений, верно?
Вот чертов Пинкертон! Может, он теперь, все узнав и о многом догадавшись, решил еще и шантажом заняться?
— Я устала, мистер Мэттьюз. Я сообщила вам то, что вам было надо, — а теперь уходите, у меня хватает проблем и без вас. И запомните — я не нанимала вашего партнера, я вам ничего не говорила, а ваши предположения оставьте при себе. У меня болит голова, я хочу пить и голодна вдобавок.
Он так и смотрит мне в глаза и не встает, и тогда встаю я, отхожу к бару в углу и делаю себе “драй мартини”, который мне очень нужен после этой беседы. И говорю себе, что только один — чтобы снять напряжение, чтобы чуть расслабиться и спокойно обдумать, как быть с Ленчиком. Возвращаюсь на место, ставлю перед собой стакан, к которому еще не притронулась — хотя жутко хочется, давно хочется, весь час, что сидим с ним здесь, — и любуюсь спрятанным в бокале произведением искусства, и краем глаза наблюдаю за Мэттьюзом, изучающим снимки, а потом переписывающим фамилии себе в блокнот.
Может, рискнуть? Сказать ему, что у меня нет тех денег, которые с меня требуют, — и попросить о помощи, пообещать за избавление от проблем миллион, скажем, черт с ними, с деньгами. Как я понимаю, он же все равно собирался лично разобраться с Ленчиком, а тут и отомстит, и поправит свои явно не блестящие дела, и сможет вообще уйти на пенсию. Нет, опасно — черт его знает, кто он такой. Можно, конечно, сменить резкий тон на мягкий, пококетничать с ним или расплакаться — кажется, я ему понравилась, так что может подействовать. В конце концов, я же ничего не теряю: если он с ними разберется, то и заработает еще, если не разберется — ни хрена не получит.
Я делаю глоток — небольшой, чтобы он не подумал, что прав относительно моего пьянства, а такой сдержанный, хотя и недостаточный для утоления жажды. Смотрю на него и делаю еще глоток, и тут меня осеняет мысль, такая очевидная, лежавшая на поверхности — просто для того, чтобы вытащить ее, перевести в сказанные самой себе слова, понадобился коктейль. Может, сразу сделать второй — и вообще родится что-нибудь гениальное? Ладно, пока и этого хватит, того, что родилось.
А мысль моя вот в чем: он мне нужен, этот Рэй Мэттьюз, он мне нужен потому, что больше никого нет, и никто не придет ко мне, и кругом враги и опасности, и я просто не знаю, что мне делать. Не знаю, о чем разговаривать с Ленчиком и как себя вести, не знаю, где найти киллера, чтобы доделать то, что не доделал Джо, не знаю, что говорить полиции, если они опять пожелают со мной побеседовать. Я ничего не знаю, я от всего устала, я действительно много пью, и постоянно нюхаю кокаин, и медленно распадаюсь на части. Не исключено, что он не сможет мне помочь решить все мои проблемы. Но, может, хоть часть решит, и я выиграю хоть какое-то время — а там, возможно, что-то изменится, я найду другой выход, придут новые мысли.
Насколько я понимаю, все проанализировав, именно так жил ты, и Кореец, и твои люди, именно такова бандитская жизнь: ничего никогда не решается до конца, только на данный момент, на сегодняшний день, а завтра новые проблемы плюс те же самые старые, и придется снова их решать, отодвигая ненадолго или надолго, обрастая ими, как боевой корабль ракушками, которые некогда счистить, так как возможно появление противника в любую секунду, но которые замедляют ход и тянут на дно. Приходится играть, и хитрить, и строить планы — именно так должен делать умный человек. Хотя в любую секунду может появится не умеющий и не желающий играть бык, который любит решать все сразу, одним выстрелом, но в конечном итоге этим он тоже ничего не решает.
Так, может?..
Делаю себе второй коктейль, увлекшись мыслью и забыв даже о том, что скоро встреча с Ленчиком, возвращаюсь к столу.
— Что ж, спасибо, Олли, вы мне помогли. Я вам благодарен и желаю вам избавиться от ваших проблем. Возможно, я как-нибудь помогу вам — косвенно, разумеется. А сейчас — чао.
Он уходит! Узнал от меня все, что ему было надо, а теперь уходит! И даже не предлагает мне помочь, не просится ко мне на работу, словно не понимает, что может получить приличные деньги, словно не видит, что я в безвыходной ситуации.
— Подождите, Рэй. Вы задали мне очень много вопросов, и я на них ответила. А теперь ответьте на мой — что вы собираетесь делать?
— Пока не знаю, Олли. Честно говоря, пока не знаю.
Знает, гад, знает, но не хочет говорить, и я сижу, даже не притронувшись ко второй порции, под его внимательным взглядом, и он отводит глаза наконец, и встает, и поворачивается ко мне спиной, и идет к лестнице, и я вижу, что уходит моя последняя надежда, и мне почему-то очень грустно, почему-то я вдруг поверила, что он действительно моя последняя надежда.
“Ну что за чушь?! — вяло говорю себе. — На хрен он тебе нужен? Пусть идет. А вдруг он не сможет убрать Ленчика? Твоя последняя надежда — это ты сама. Поняла, а?”
И кричу, заглушая свой внутренний голос:
— Постойте, Рэй!
И произношу, когда он оборачивается:
— Я предлагаю вам работу, Рэй. Хорошо оплачиваемую работу — я заплачу вам за то, чем вы все равно собираетесь заниматься. Я хорошо заплачу — понимаете? Очень хорошо! Миллион долларов — как вам?
И я улыбаюсь, испытующе глядя на него, но он качает головой, и отворачивается, и уходит. И я сдираю с лица улыбку и комкаю яростно, кидая ему в спину вместе с прощальным “фак ю” — но, видимо, не попадаю, потому что он все равно уходит…
И снова забытье. И все легко и просто, и я сижу все на том же диване в гостиной, улыбаясь своим мыслям и приканчивая то ли пятый, то ли шестой за этот день коктейль. Я так и не поехала никуда — пусть тот думает, что я не получила его письмо. Мало ли что — разве “Федерал экспресс” дает стопроцентную гарантию? Может, меня не было, может, я так и не выходила к ящику, а прислуга почту не приносит? Так что пусть Ленчик мне звонит или факс присылает, пусть удостоверится, что я жива и здорова и лично получила предназначенную мне информацию, а потом ждет.
Правильно, что не поехала: когда Мэттьюз ушел, я тут же выпила еще, и тяжело стало на душе. Мне непонятно было, почему он отказался, и грустно от идиотской мысли о том, что он мог бы мне помочь. А потом спиртное начало действовать всерьез, основательно утвердившись в моей голове и фильтруя все мои мысли, хорошие и плохие, и оставляя более или менее хорошие, но даже их пропуская через свою призму, делая их легче, мягче и окрашивая в оптимистичные розовые цвета.
Я решила, что правильно я отпустила этого Мэттьюза. Пусть сам с ними разбирается, я от этого только выиграю. К лучшему, что не стала его уговаривать, разыгрывать несчастную, напуганную и нуждающуюся в его защите — хрен знает, что он за защитник и к чему бы привела в конечном итоге его опека. Пусть работает сам, а я посижу пока дома, попробую дозвониться-таки до Дика — опять сегодня раз десять набирала его мобильный безрезультатно, и в офисе его не оказалось, но опять обещали передать, и на пейджер ему должны сбрасывать сообщение мое ежечасно. Пусть Дик решит вопрос с ФБР, и тогда я смогу смотаться в Лондон — почему-то выбрала я для себя именно Лондон. Тем временем Мэттьюз должен решить вопрос с Ленчиком — он ведь знает, что Ленчик главный, и если он такой крутой, то пусть его и завалит. Он же сам мне сказал, что хочет все сделать без полиции — и что это значит? Это значит, что он хочет их убить, верно? То есть сделать то, что мне надо, — и с меня за это даже не требует денег.
Так что все прекрасно: Мэттьюз с одной стороны, а Дик — с другой снимут с меня напряжение, и я наконец смогу уехать. Ведь все, что мне нужно, — чтобы Крайтон получил указание отстать от меня и чтобы не стало Ленчика. А я, как только переговорю с Диком, свяжусь с новым охранным агентством, найму людей, чтобы в их сопровождении объехать те банки, где в сейфах лежат у меня и у Корейца наличные, и съезжу в тот банк, где у меня счет, а потом выгребу содержимое моего домашнего сейфа, все деньги и драгоценности, и все с той же охраной налегке рвану в аэропорт. Там куплю билет на ближайший рейс, куда угодно, а из этого “куда угодно" улечу в Европу, благо визы у меня есть, пока я сидела, в турагентстве мне все сделали. В крайнем случае могу и обновить через другое агентство — прямо на дом вызову человека, отдам паспорт и все получу вскоре. За деньги здесь можно все — меньше, чем в России, наверное, но все же.
Слышу несколько раз, что звонит телефон — но это домашний, а Дику на пейджер я сбросила свой мобильный, который тут рядом с мной, по домашнему отвечать не хочу: кому надо, оставит сообщение на автоответчике. К тому же мне кажется, что это Ленчик или кто-то от него — на хрена мне с ними разговаривать?
Улыбаюсь, думая что визит Мэттьюза, хоть он и отказался работать на меня, все же поднял мне настроение — по крайней мере, никакой депрессии незаметно. Хвалю себя за то, что все ему рассказала — ну не все, а столько, сколько ему было нужно, — и решаю, что можно немного поспать. Пошатываясь, добираюсь до своей спальни, сбрасываю халат, и в тот момент, когда голова касается подушки, начинаю уплывать в другое измерение, продолжая при этом довольно улыбаться…
Свет ударяет в лицо, и я просыпаюсь, не сразу соображая, где я и почему раздвинуты задернутые мной шторы.
Все повторяется — я снова лежу голая на спине, чуть раздвинув ноги, и снова Мэттьюз в комнате, только на этот раз не сидит в углу, а стоит у окна и смотрит на меня.
— С добрым утром, Олли!
Протягиваю руку к столику, нащупываю стакан с выдохшейся минералкой, который специально поставила там перед тем, как заснуть, и делаю жадный глоток.
— Что вам здесь надо, черт возьми, Мэттьюз? — спрашиваю спустя некоторое время, когда все встает на свои места, и чувствую, как язык чуть заплетается. — Решили переквалифицироваться из частного детектива в художника и ищете подходящую натурщицу?
— Да вы пьяны, Олли, — констатирует он, словно рассчитывает поразить меня таким сообщением. — Вы опять пьяны. А ваши друзья, кстати, ждали полтора часа и очень нервничали, и вид у них был хмурый, и говорили они злые слова, хотя я, конечно, не понимаю по-русски. А вы, значит, напились и остались дома….
— Какое вам дело? — спрашиваю хмуро, недовольная тем, что кто-то посторонний видит меня в таком состоянии — неважно, что голой, важно, что пьяной. — Убирайтесь отсюда, ладно? Дважды пробираться в мой дом за один день — это уже слишком. А если вы такой сострадательный, лучше сделайте мне коктейль — где бар, вы знаете…
Он по-прежнему стоит и смотрит на меня и взгляд его меня немного смущает — не думаю, что выгляжу ужасно, но неприятно, когда тебя видят пьяной, а я уже бог знает сколько лет никого не стеснялась и ни от чего не смущалась. И потому ощущаю, как растет во мне ненависть к нему — за то, что заставляет меня чувствовать то, что я чувствую.
— Я вам сказала — убирайтесь. Вы что, не поняли меня? Я предложила вам работу, вы отказались — так теперь идите ко всем чертям. А предварительно сделайте мне коктейль…
И он вдруг хватает меня и волочит куда-то — и я не успеваю даже сообразить, что это он делает, реакция-то замедленная. Успеваю только спросить:
— Собираетесь меня изнасиловать?
И услышать в ответ:
— Может быть, потом…
Затаскивает меня в ванную и запихивает под душ, этакую телефонную будку без крыши, и открывает холодную воду на полную катушку, и будку заливает дождем. Удар такой, что я застываю, словно заледенела в одну секунду и руки и ноги сковало льдом так, что не пошевелиться, и даже в голову не приходит, что можно протянуть руку и завернуть кран. И я так и стою молча, уже не чувствуя холода, ни о чем не думая, — и обретаю дар речи, только когда он через какое-то время вытаскивает меня обратно и начинает сильно растирать полотенцем. И, растерев быстро и насухо, накидывает на меня халат.
— Вы что, рехнулись? — произношу наконец. — В чем дело? Вы что себе позволяете?
Но он меня не слушает. Подводит обратно к постели, чуть подталкивая, и я падаю — и наблюдаю за тем, как он за пару минут отыскивает мои запасы кокаина и удаляется с ними в туалет и возвращается с пустыми руками. Выходит и снова появляется с бутылками в руках — и они булькают печально и униженно, выливаясь в канализацию. Я сижу онемев и только смотрю, как он дефилирует туда-обратно — деловито и не глядя на меня, — и наконец протягивает мне руку и ведет за собой. Мы спускаемся вниз и оказываемся на кухне. И он протягивает мне уже обрезанную сигару, дает прикурить и ставит передо мной огромную чашку кофе — судя по запаху, крепчайшего, без молока.
— Выпейте, и поговорим.
Не знаю почему, но я замолкаю и не спеша пью кофе, покуривая, не глядя на него, сидящего с сигарой напротив. И физически чувствую, как трезвею — как уходит с каждым глотком уцелевшие после ледяного душа остатки алкоголя. И, допив все, смотрю ему в лицо, и слов почему-то не находится.
— Не ели, видимо, давно — ни одной грязной тарелки не видно. Значит, сейчас горячий завтрак, потом еще кофе, потом разговор.
И начинает рыскать в холодильнике, в который я не заглядывала бог знает сколько — вправду не помнила, когда ела в последний раз, хотя как-то делала сэндвичи с тунцом и открывала оливки, маслины и чипсы. И он отыскивает там что-то и орудует, как заправский повар — не ресторанный, но работающий в каком-нибудь “Макдональдсе”, где все надо делать очень быстро и каждое движение должно быть отточенным и занимать минимум времени. Как на конвейерной сборке машин, где каждый за считанные секунды выполняет свою конкретную операцию, пристраивается к ползущему по конвейеру механизму, ввинчивает свою пару гаек, выскакивает и бежит обратно, навстречу следующему остову, медленно превращающемуся в автомобиль.
Я не удивляюсь, когда через каких-нибудь десять минут он ставит передо мной огромную тарелку, в которой красуется яичница с беконом и консервированными помидорами и пара тостов, протягивает стакан апельсинового сока и удаляется к кофеварке.
Аппетит, разумеется, на нуле — с похмелья вообще есть не хочется, а когда не ела давно — тем более. Первый кусок застревает в горле, производя впечатление чего-то инородного, очень точно и прекрасно сделанного муляжа, и кажется, что если я его проглочу, то организм его отторгнет, вывернув себя и меня наизнанку. Но я почему-то верю ему, Мэттьюзу, — может, потому, что больше некому верить, и, может, именно поэтому не протестую уже давно против его возмутительных действий? И апельсиновый сок смачивает пищевод, и первый кусок плавно соскальзывает вниз, а за ним второй, и третий, и последующие — которые кончаются достаточно быстро, потому что тарелка пустеет.
А он ставит передо мной очередную чашку кофе — я даже не знала, что у меня в доме есть такая гигантская чашка, сама-то пью из маленьких, из которых и положено пить такой крепкий напиток, это американский водянистый кофе следует пить из средних, — а откуда эта? Может, Юджин из нее пил? Кажется, он после тренировок уничтожал огромное количество сока, хотя вроде не брезгал и питьем из горлышка. Странно — вот так, совсем того не ожидая, увидеть что-то оставшееся от Корейца. Корейца нет, а чашка осталась — и может, имеет смысл грохнуть ее сейчас об пол, чтобы она ушла вместе с ним? Не намеренно грохнуть — не то Мэттьюз подумает, что я свихнулась, — а как бы выронить: помню читала, что в древности многие народы вместе с умершим сжигали его вещи и порой даже его лошадь. Кстати, порой и жену заодно… Может, Ленчик и хочет меня уничтожить, следуя этой традиции, — сначала избавился от Корейца, а теперь, чтобы не нарушить обычаев, хочет отправить за ним и меня? Что ж, я готова — только вместе с Ленчиком.
— Итак, Олли… — встревает Мэттьюз в мои мысли. Видно решил, что пора, что я готова — что ж, мысли все равно были дурацкие. — Итак, я решил принять ваше предложение.
— Да? — вопрошаю иронично, хотя тут же спохватываюсь. Понимаю, с одной стороны, что ни к чему сейчас мой сарказм, а с другой — хочу ему показать, что могу обойтись и без него — что-то во мне не дает вот так вот раскрыться перед человеком, показать свою растерянность и беспомощность. В конце концов, я после твоей смерти действовала сама — а уж это был такой удар, от которого, как я думала, вообще оправиться невозможно. Однако я и с киллером разобралась, и позже с Крониным, и с Ленчиком решала вопрос, пусть и не до конца, — так что без помощи вполне могу обойтись. — И что же заставило вас изменить решение?
— То, что я сначала увидел вас, а потом посмотрел на этих людей, Олли. Я поехал туда и посмотрел на них — вот и все.
— И что — пожалели меня? Мне не нужна ваша жалость, и я достаточно сильный человек, чтобы справляться со своими проблемами — можете мне поверить…
— Не сомневаюсь. Однако пока вы с ними не справились — хотя даже киллера где-то разыскали. И боюсь, что без меня не справитесь…
— А с вами — справлюсь?
Он, кажется, даже не обижается на мой тон — хотя он достаточно оскорбителен.
— Со мной — может быть. Не уверен стопроцентно — но, может быть.
Смотрю на оставшуюся на дне чашки влажную коричневую глину, и строю из нее кончиком ложки маленькие холмики, и тут же безжалостно разрушаю их.
— А что же вы отказались, когда я вам сразу предложила работу, Рэй? Вы уже тогда меня видели, и тогда уже видели снимки этих людей, и знали, кто они такие. Так почему вы отказались?
— Хотите правду? — спрашивает он неожиданно серьезно.
Я задумываюсь и все никак не могу понять, что же им руководит на самом деле? Понял наконец, что может заработать? Больше никакого стимула у него быть не должно. Без меня ему проще с ними разобраться, чем со мной: они его не знают и не в курсе, что он работает на меня, и он на какое-то время имеет статус человека-невидимки. А рядом со мной он засвечен — потому что Ленчик снова попробует установить за мной слежку, и, если я буду с ним встречаться, то поеду не одна, и Мэттьюза он будет знать в лицо, а значит, тому уже не удастся подобраться к Ленчику близко.
В общем, мне же легче, если речь идет о деньгах, — мне не слишком понравились его слова относительно того, что он передумал, когда увидел сначала меня, а потом Ленчика. Мне не нужны его доброта и жалость — и скажи он сейчас, что не может оставить хрупкую, беззащитную девушку наедине с головорезами, я ему не поверю. И еще больше не поверю, если он скажет, что я ему жутко понравилась. Ни симпатии, ни секс — желание со мной переспать — в таком деле не могут быть стимулом, глупо умирать за симпатию и пару ночей даже с самой привлекательной женщиной. Вот за деньги можно, в это я верю. Это же Америка, в конце концов, страна Желтого Дьявола.
— Только правду и ничего, кроме правды, — отвечаю словами свидетеля на суде и от собственного юмора чуть кривлюсь, черноват он получился.
— Видите ли, Олли, я же понимаю, что вы рассказали мне совсем не все. Я понимаю, что, наверное, у этих людей есть основания вас преследовать, и раз они хотят с вас получить такую сумму, значит, знают, что она у вас есть, или, по крайней мере, они верят в то, что она у вас есть. Я также понимаю, что не знаю вас, что вы можете быть кем угодно — может, вы сами связаны с мафией, может, вы украли у них эти деньги, может, обманули их, мафию ведь тоже обкрадывают и обманывают. И я не верю, что вы боитесь за жизнь своих родителей — иначе бы вы давно отдали бы им требуемое или хотя бы часть, чтобы их умилостивить и заставить отказаться от поспешных жестких шагов. И не по этой причине вы не хотите обращаться ни в ФБР, ни в полицию — иначе, сдай вы ФБР настоящих убийц вашего партнера, вам было бы намного легче жить, — а потому что вы боитесь, что эти люди, которых вы сдадите, сами могут кое-что про вас рассказать.
И я отказался сначала, потому что нет ничего глупее и опаснее, чем влезать в драку между двумя приятелями или компаньонами — они в итоге спохватятся, забудут перед лицом общего врага про свои распри и вдвоем изобьют тебя. У меня был случай, когда я вмешался в перестрелку между двумя молодежными бандами в Даун-Тауне. В результате по мне стреляли и те, и другие. И не зная вас, я не могу сказать, что ваше дело правое — и что вы не расправитесь со мной руками ваших знакомых. Зато я могу сказать, что вы сами боитесь закона и действуете противозаконными средствами — пользуетесь услугами киллера…
— Ну и что заставило вас передумать? Решили, что миллион долларов стоит риска? Между прочим, так как вы отказались сразу, я снижаю ставку вдвое…
— Ну куда мне ваш миллион, Олли? Это же Америка — и уж вам прекрасно известно, что здесь ты должен отчитаться даже если на твоем счету появляются десять тысяч, а тут миллион, к тому же, как вы сказали, наличными. Во-первых, у меня нет гарантии, что вы потом меня не сдадите, что у меня не найдут миллион и не посадят за связь с мафией. Кто еще столько платит? И за неуплату налогов с этого миллиона. А во-вторых, в Америке, как вы отлично знаете, фиксируются все ваши крупные покупки — купи я, скажем, БМВ, при том что мои официальные заработки показывают, что у меня нет денег на такую машину, я могу оказаться за решеткой. Да и продавцы побаиваются тех, кто платит наличными, особенно, если сумма велика, — ну, допустим, БМВ я еще могу купить за наличные, а вот дом уже никак.
Вы миллионерша, вам все эти проблемы, возможно, неизвестны. А вот мне вовсе не улыбается оглядываться на протяжении всего остатка жизни — это при условии, что я выживу и заработаю эти деньги. Так что ваш миллион тут ни при чем — хотя какие-то деньги, бесспорно, не помешают…
У меня такое ощущение, что ответа на мой вопрос у него нет. Он сам еще не нашел его, все еще думает, зачем ему это надо.
— Слушайте, Рэй, говорите начистоту — почему?
— Потому что эти люди убили моего партнера. И мне нужно с ними разобраться. И вы мне можете в этом помочь — я не знаю русских, не знаю их языка, не знаю этих конкретных людей. А вы их знаете, и язык, я полагаю, тоже, а к тому же они все равно рано или поздно выйдут на вас. Считайте, что они — это тигр, а я охотник. А вы…
— А я приманка?
— Точно.
— Спасибо, Рэй, — это настоящий комплимент. Только вот дело в том, что я сама и приманка, и охотник одновременно — и эти люди уже об этом знают.
— Возможно. Вы все равно не справитесь одна, Олли. И я готов вам помочь. И первый шаг я уже сделал — мне не нужен клиент, который спивается и нанюхивается порошком так, что не в состоянии ничего понять и решить. Второй шаг — ваше обещание рассказать мне обо всем, что происходит. Пусть и не абсолютно все, но как можно больше, потому что я должен знать, за кого я воюю, и с кем, и за что. А третий шаг — ваше обещание меня слушаться, а в критической ситуации — подчиняться моим приказам. Потому что, судя по вашей привычке командовать, вы считаете себя терминатором — а я не хочу, чтобы вас убили или я получил пулю из-за того, что вы несколько переоцениваете свои возможности. И после того как я сделаю эти три шага — вместе с вами, — мы продумаем нашу тактику. Идет?
Я задумываюсь — не привыкла, чтобы со мной вели себя так повелительно и бесцеремонно, хотя не могу не признать, что он проявляет какой-то минимум такта, смягчая свои слова. Оля Сергеева, возможно бы, не раздумывала, но Оливия Лански, самоуверенная, сильная, жесткая и даже жестокая, проливавшая кровь своими и чужими руками, не может не задуматься.
И Оля Сергеева сейчас сказала бы себе, что Рэй Мэттьюз — положительный персонаж и искренне готов помочь, и искренность его подтверждается тем, что он даже не говорит о вознаграждении, — и это прекрасно, что он есть, потому что больше помочь некому. А Оливии Лански важно понять, насколько ей нужна эта помощь, и признать вынужденную необходимость, и сказать себе, что она для Мэттьюза в самом деле приманка, что не он нужен ей, а они нужны друг другу — и что он делает это не из душевной доброты, не ради плотского желания, но по своим собственным причинам. Оливия Лански в душевные порывы чужих людей, тем более американцев, не верит, но верит в практичность и расчетливость.
— Хорошо, Рэй, — произношу после долгого раздумья — достаточно долгого для того, чтобы он сварил нам еще кофе, только мне на этот раз маленькую чашку. — Хорошо. Но я тоже должна поставить условия. Первое — все, что я вам говорю, остается между нами. И второе — вы называете свою цену. Если вы боитесь брать здесь наличные, я могу выписать вам чек, в конце концов, или рассчитаться с вами наличными или чеком, чтобы вы получили эти деньги в Европе, а в Америке об этом никто не узнает. Пятьсот тысяч долларов — половину вперед и половину после, — если вы избавите меня от этих людей навсегда. Миллион — если вы поможете мне убраться в Европу после того, как все завершится, но не завершатся мои проблемы с ФБР, которое, естественно, будет возражать против моего официального отъезда из Америки. Полтора миллиона — если вы сделаете все вышеперечисленное плюс на один год задержитесь в Европе и будете моим телохранителем, хотя, возможно, это и не понадобится. Идет?
Кажется, я все сказала правильно. Я ведь готова была и больше заплатить за то, что он уберет Ленчика со товарищи, но если он сам заявляет, что миллион в Америке ему ни к чему, зачем навязываться? Тем более что я ему показала главное — перспективу и
надеюсь, что именно наличие перспективы заставит его работать лучше и сделать даже невозможное. А еще надеюсь, что мне не понадобится его помощь с выездом отсюда, — здесь я рассчитываю на временно запропастившегося Дика, у которого, кстати, действительно могут быть дела, так что глупо волноваться, — но если понадобится, не дай бог, то я рассчитываю на помощь Мэттьюза по полной программе, в которую, кроме всего прочего, включаю мою доставку в Мексику или Канаду, приобретение фальшивых документов и так далее, и тому подобное.
И потому мне жутко не нравится, когда в ответ на мое, кажется, весьма заманчивое предложение он отвечает только:
— Посмотрим…
Ужасно неуютно чувствую себя без спиртного — без стакана на столике передо мной такое ощущение, словно нечем руки занять, словно не хватает чего-то жизненно важного, привычного, без чего существование немыслимо. Гад, вылил все мои бутылки — впрочем, не так много их было, штук десять, потому что запасы я основательно истощила за последнее время, — и высыпал весь мой кокаин. Не могу не признать, что он правильно сделал — и улыбаюсь про себя, когда он словно читает мои мысли и приносит стакан сока.
И еще не могу не признать, что с ним мне легче, намного легче. Для Оливии Лански мысль и ощущение немного оскорбительные, принижающие собственное достоинство, и потому пытаюсь саркастично интересоваться у самой себя, с чего это мне с ним легче, когда я не знаю даже, на что он способен. Но тем не менее все это правда — и внутренняя дискуссия заканчивается тем, что напоминаю саркастичной себе, что без него тихонько разваливалась на части и бездействовала, что и через месяц такой жизни, если бы дал Ленчик прожить этот месяц, стала бы конченой алкоголичкой и наркоманкой. И сейчас-то хочется выпить и спрятаться в другой мир, куда более приветливый и теплый, — это я тебе говорю, о язвительнейшая Оливия, вся такая из себя крутая, но медленно и верно пропивавшая и пронюхивавшая крутость! А что было бы потом?
А с ним мне легче и уверенней — хотя и не знаю ни его способностей, ни его самого. И потому очень осторожно обдумываю каждую фразу — периодически возникают мысли о том, что, может, он вернулся, чтобы все вызнать и в итоге заложить и Ленчика, и меня, отомстив за партнера. Хотя и понимаю, что, заметь он, что я скрываю многое, наши отношения сложатся не так, как им следовало бы сложиться. И аккуратно и неспешно рассказываю ему про то, что Яша, по мнению ФБР, совершил не очень законную сделку и вложил эти деньги в наш фильм, и через год после этой сделки его нашли и потребовали вернуть деньги, а потом убили, выведав у Яшиного помощника, что все те деньги ушли в Лос-Анджелес. Рассказываю про Юджина — все равно это известно ФБР, никого этим не удивишь, — который убил Яшиных убийц и уехал в Москву искать заказчика и пропал. Про Ленчика — то, что знаю от Корейца, про то, как общалась с ним, с подробным описанием его поведения и реакции. Про то, что Ленчик знаком с местным авторитетом — и, возможно, не просто знаком, но в дружбе, хотя в дело его явно не посвятил. Про то, как наняла киллера через Ханли — киллера, так и не выполнившего до конца работу и пропавшего с концами.
Говорю о киллере — не самое легкое признание ввиду неполного моего доверия к собеседнику — и жду реакции. Может, он знает этого Джо и мы найдем его вдвоем, и тот все доделает? Но он молчит, не произнося ни слова, и я рассказываю дальше — о том, как меня арестовало ФБР, как вел себя Крайтон, до сих пор наверняка мечтающий меня засадить, как мне помогли специальный агент из Нью-Йорка и мой адвокат. Как меня выпустили наконец, после девяти дней в тюрьме предварительного заключения, как я узнала из газеты о том, что Джо выполнил заказ лишь частично, и ждала продолжения, про то, как убили Стэйси и я беседовала по этому поводу с полицией, тоже меня подозревающей, и как убийство Стэйси и расстрел русских сработали против меня, добавив разного рода идей Крайтону и его помощникам.
И Рэй соглашается, что, раз они убили Стэйси только для того, чтобы показать мне, что обо мне не забыли, чтобы напугать и напомнить про сумму, — то ситуация очень серьезная. Такое убийство — большой риск, после него остаются следы, и записка к тому же, и кто-то мог что-то увидеть, и раз убивают ни в чем не повинного человека ради того, чтобы попугать другого, это значит, что жизнь для них ничего не значит, чужая, разумеется. Это значит, что они легко убьют еще раз и еще — и как только я отдам деньги, вынесут смертный приговор и мне. Отдавать их не следует хотя бы поэтому, даже если они у меня есть и я собиралась их отдать.
— А почему она? — вдруг спрашивает он. — Вы что, были подругами?
— Я ей нравилась, — отвечаю почему-то искренне. — Я ей была нужна, но я еще и нравилась ей. И даже когда стало понятно, что я не предложу ей роль и она нашла другую работу, она все равно постоянно ко мне приезжала. Она меня хотела, понимаете? Ну что непонятного — я бисексуальна, и она тоже, и мы с ней занимались сексом, и ей это очень нравилось. Поняли, мистер Мэттьюз?
Я специально про это сказала — все равно может узнать, потому что об этом знает полиция. Главное, что я хочу ему показать на всякий случай, что на секс со мной ему рассчитывать не стоит.
— А ты роковая женщина, Олли, — наконец-то перешел на “ты”, и при этом говорит полушутя-полусерьезно. — С тобой лучше не связываться. Джиму ты понравилась — и его нет, понравилась этой Хэнсон — и она погибла. Мне следует быть поосторожней, а?
Потом он уезжает — уже днем, часа в три, после того, как задал мне кучу вопросов по поводу Ленчика и своего покойного партнера и по разным другим поводам. А я отвечала — на какие-то вопросы честно и открыто, на какие-то неполно, какие-то опускала вообще. Чтобы понять, что представляет собой слон, совсем ведь необязательно промерять ему хобот с точностью до миллиметра, и заглядывать в рот, и дергать за хвост. Ему и так хватит рассказанного, чтобы составить представление о предстоящей работе и “оппонентах”.
И он уехал — сказал, что попробует навести справки по поводу мистера Берлина и нынешнего места обитания Ленчика и его людей, и их количество установить, и сделать какие-то другие дела, а я сидела и думала над его планом. Точнее, над нашим совместным планом: он говорил, а я дополняла и вставляла свои мысли. Может, потому, что не могла допустить, чтобы кто-то диктовал мне свою волю — даже если этот кто-то в данный момент является моим единственным шансом на спасение, и речь ведь шла о моей жизни и судьбе, и русских бандитов я знаю лучше, чем он.
Но все решили вроде, и я после его ухода позвонила на телефонную станцию — телефон отключила еще вчера, чтобы Ленчик меня не нашел, — и попросила заменить номер, заметив шутливо, что достали мол бездарные сценаристы и мечтающие об актерской карьере девицы. Тут это решается просто — заплати, и все дела, тем более что в справочнике меня все равно нет, а часа через три перезвоню и узнаю свой новый номер. После разговора со станцией побродила бессмысленно по дому — потом поняла, что подсознательно ищу бар, чтобы коктейль себе сделать или виски со льдом, — и налила себе минералки, сознавая, что, видно, въелась в кровь привычка что-то отхлебывать и пригублять, держа в руках. И уселась в комнате для переговоров — гостиной второго этажа — прямо у окна. И еще раз, с самого начала и очень придирчиво, обсуждала сама с собой нашу стратегию и тактику.
План вроде прост и гениален одновременно, безопасен, но и рискован до безумия, реален, но и утопичен. Я помню пословицу, согласно которой гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить — и понимаю, что, когда мысли эти начнут воплощаться в реальность, изменения неизбежны. Главное, чтобы они не сработали против нас, эти изменения, потому что мельчайшего отступления от продуманного достаточно для того, чтобы вместо Лондона я оказалась на ближайшем кладбище. Может, это и не так страшно, если окажусь там в компании с Ленчиком и его людьми, но будет обидно, если одна.
Итак, начнем с начала. Во-первых, я сегодня же звоню Эду — и прошу его в срочном порядке связаться с Яшиным адвокатом, получить от него по почте оригинал завещания, который я подпишу, и перевести все деньги, за вычетом полагающихся налогов, на счет, который я открыла в нью-йоркском филиале моего банка, или это здесь, в Эл-Эй, филиал, а в Нью-Йорке головная контора — неважно. Далее, завтра я еду в свой банк и узнаю, как идут дела по переводу денег в Европу — я им поручила этим заняться еще до того, как села в тюрьму и после выхода там не была, считай месяц уже прошел. Потом банк по моему поручению превращает мои нью-йоркские деньги — а у меня семь миллионов вложены в Яшину корпорацию плюс набежавшие на них проценты, а также наследство за вычетом налогов — в акции какой-нибудь супердоходной компании типа компьютерного “Майкрософта”. Это они мне сами подсказали, когда я к ним приезжала на консультацию, — вот пусть и занимаются, им же главное свой процент получить, который, с учетом размера общей суммы, набегает немалый. А то, что деньги могут утечь из страны, им абсолютно по фигу. Я получаю бумагу, что владею таким-то пакетом таких-то акций и могу их в любой стране мира продать — кроме России, наверное, и Африки, но туда я и не собиралась — и хрен проследишь.
Таким образом, остается вывезти из Штатов те деньги, которые находятся на счету студии — сорок вложенных нами миллионов плюс прибыль, итого, пятьдесят пять с небольшим, точно не помню, все документы у Эда. И это мне представляется самым сложным вопросом, поскольку Мартен может догадаться о моих планах и оповестить то же ФБР — не должен, но то, что когда ему позвонили из полиции по поводу Стэйси, он тут же перевел стрелки на меня, показывает, что человек он не слишком надежный. После этой истории с полицией я ему не верю уже и сильно в нем сомневаюсь, но прекрасно понимаю, что, в принципе, он не заинтересован в том, чтобы меня посадили, потому что могут заодно арестовать счет студии, а саму студию обвинить в связях с мафией.
Но если дойдет до худшего — до моего повторного ареста и посадки — он с помощью друга Дика студию постарается уберечь, и, естественно, вложит наши пятьдесят пять миллионов в новый фильм, не обязательно по моему сценарию, и, при желании, их “потеряет” каким-то образом, заявив, к примеру, что фильм прибыли не принес, — да и кому заявлять? Мне? Ну так это только при условии, что срок у меня будет маленький, и я вообще выйду из тюрьмы. А за те годы, что я буду сидеть, он вообще может пропасть с нашими, теперь уже моими, деньгами — и ищи его. И приди я к нему через пять — десять лет требовать обратно свои деньги — если меня не вышлют отсюда, конечно, после отсидки — он меня пошлет подальше, и ничего я не докажу.
Может, и зря я так о нем — он ведь до истории с полицией вел себя достойно и всячески старался вывести меня вместе с Корейцем в высший голливудский свет. Никто, кроме него, не знал, что мы русские, и он никому не рассказывал, что у меня был муж, который и подписал с ним, Мартеном, контракт, и потом его убили. И сам порекомендовал мне обратиться к Дику, чтобы тот решил мои проблемы. И наверное, если что случится со мной, он тоже будет скомпрометирован — в его же интересах, чтобы я удержалась на плаву. Хотя… ладно. Встречусь с ним на днях, поговорю и определюсь. Пока хватит о нем.
Итак, вот они, мои дела — убедиться в том, что часть моих денег переведена в Европу, а часть переведена в акции, причем не в именные, по которым меня потом можно вычислить, а в обычные. Черт, ничего в этом не понимаю, не знаю, что как называется, и толком даже себе не могу объяснить весь процесс, а ведь в банке мне все растолковали, да голова у меня математику не воспринимает, потому что, когда в школе изучали алгебру и складывали икс и игрек, я про себя складывала виденные и покоренные мной мужские члены. Накануне дня
Д мне предстоит объехать те банки, в которых у меня и у Корейца есть наличные, изъять их и быть готовой к отъезду, точнее, к побегу.
Впрочем, Эд мне сказал, что подписку о невыезде я дала сроком на месяц — а он вот-вот кончится, этот месяц, — и я хотела бы досидеть здесь до третьего марта, дабы вышел ровно тридцать один день, чтобы официально я никаких законов не нарушала и не искали меня потом. Но не исключено, что сегодня или завтра раздастся звонок от Эда, и он проинформирует меня, что срок невыезда мне продлили и что он заедет, чтобы я подписала бумагу. Но пока звонка нет, и они наверняка могут обо мне забыть — ну не обо мне, конечно, а о продлении подписки, — потому что, во-первых, это же бюрократическая машина, ФБР, а, во-вторых, вряд ли они думают, что я куда-то убегу, бросив дом, студию, наследство и все прочее.
Вот мои дела, а Рэй тем временем должен решить вопрос с документами и заодно связаться со своим приятелем в Техасе, который делает бизнес с мексиканцами, и, таким образом, пути отхода будут подготовлены. Целых два пути: первый — это канадский паспорт для меня, который, как он сказал, мне сделает один человек без проблем, а второй — гарантированное содействие в Мексике на случай, если оно понадобится. Ведь в любом случае сразу из Лос-Анджелеса в Канаду я не полечу: его знакомый, занимающийся документами, живет на полпути между Эл-Эй и мексиканской границей — все равно надо через Мексику выбираться, а до нее совсем недалеко.
И это класс — но вот вопрос: понадобятся ли они, пути отхода? Прежде чем воспользоваться этими путями, надо разобраться с Ленчиком и его людьми. Как только начали все обсуждать, Мэттьюз сказал, что самым безопасным вариантом было бы собрать на Ленчика весь компромат — он бы, до окончания срока моей подписки и налаживания путей отхода, поискал бы улики. Хотя, может, хватило бы вполне очередного Ленчикова письма мне, которое он вынужден будет написать, поскольку по телефону связаться со мной не может. А после того, как компромат будет собран, записать на видеокассету мою речь, в которой я обвиняю Ленчика в убийстве Яши, Стэйси и Ханли, и завершаю речь тем, что говорю, что, опасаясь за свою жизнь и не доверяя американскому правосудию, предпочитаю скрыться. И кассета эта попадет в руки ФБР, когда мы уже будем далеко, в Европе, — и было бы идеально приложить к кассете аудиозапись разговора с Ленчиком. Пойти еще на одну встречу с ним. Рэй меня обеспечит чувствительной звукозаписывающей аппаратурой, а так как Ленчик и прежде был неосторожен, я ему буду задавать вопросы по поводу Яши, Стэйси, Ханли и мистера Кана, а он, естественно, будет отвечать. И двух кассет — видео и аудио — и одной записки должно хватить для того, чтобы с Ленчиком покончить.
И я послушала, и покивала, и усмехнулась горько, сказав, что лично меня такой вариант не устраивает: Ленчик выложит ФБР компромат на меня, а значит, как свидетель, я буду скомпрометирована и показаниям моим вера будет несильная, а к тому же гарантий, что Ленчику дадут пожизненное, нет. А лично я хочу ему отомстить — по-настоящему отомстить. Затем, он виноват в смерти близких моих людей, да и просто грязь под ногами, не имеющая права на жизнь. Ко всему, я не хочу озираться остаток жизни, ибо от ФБР он может скрыться, и легко, и начнет меня искать по всему миру русская братва, спонсируемая тюменцами…
— Так что слабоват ваш план, мистер Мэттьюз, — так я заключила. — К тому же вы, кажется, горели желанием отплатить за смерть партнера и ради этого даже в мой дом забрались, не зная, кто я, и не выстрелю ли в вас, и не вызову ли полицию — это и есть ваша плата? Лично меня месть руками ФБР не устраивает, Рэй, — лучше уж помогите мне найти киллера, потому что для меня месть — это когда за отнятую жизнь платят жизнью. Разве это сложно? Не хотите марать руки сами, скажите, где мне найти этого Джо, которого дал мне Ханли, — вы ведь знаете его, не можете не знать, и знаете, где его искать.
— Видите ли, Олли, — начинает он неохотно, — я знаю, о ком вы говорите — только лично я никогда бы не доверил этому человеку убить даже муху, и уж слово “киллер” к нему неприменимо. И я, честно говоря, удивлен, что он вообще что-то сделал, а не смотался сразу вместе с вашими деньгами. Двести тысяч в качестве задатка — немыслимая сумма, ведь вы ему не президента США заказывали. Так что боюсь, Олли, и мне неприятно это говорить, но Джим вас подвел — у него не было никаких нужных вам связей и он дал вам бывшего копа, выгнанного из полиции и посаженного на три года за то, что обложил данью проституток в районе, который патрулировал, и подозревался в убийстве сутенера. Он был близким приятелем Джима, они в полицейской академии учились вместе — и родственником тоже, он был женат на сестре Джима, пока та с ним не развелась и не вышла замуж за другого. Я могу, конечно, проверить, не в Эл-Эй ли он — но не сомневаюсь, что Джо Флэггерти давно уже в Мексике, и одновременно трясется от страха и гордится собой. И уж точно возвращаться в ближайшее время и доводить начатое до конца не собирается. И вам же лучше — этот тип может и проболтаться спьяну, а если его прижмут, выложит все, что знает…
И дальше он мне сообщил, что никакого другого киллера искать не собирается — потому что нет ничего хуже, чем впутывать в личное дело кого-то со стороны. Кого-то, кто может ничего не сделать, или сделать плохо, и даже если сделает хорошо, может расклеиться потом, попавшись на чем-либо другом. И что тот, план, который он мне нарисовал, это лишь самый безопасный и безобидный вариант, который он обязан был мне предложить, — потому что есть и другой вариант, при котором я должна буду рискнуть своей жизнью, так что он обязан был изложить мне оба.
— Ну так и приступайте ко второму, мистер Мэттьюз, — говорю ему с улыбкой, чуть горьковатой оттого, что зря рассчитывала на Джо, впустую возлагала на него столько надежд, утешавших меня даже в тюрьме. — Считайте, что первый вариант мы с вами дружно отклонили — и будьте уверены, что второй мне понравится куда больше.
И он смотрел на меня внимательно, пока говорил — молодец, Мэттьюз, великий стратег. Когда только успел все обдумать — и не возражал, когда я встревала с поправками на Ленчиково поведение и психологию. Когда он закончил, скептицизм во мне был уже другого рода: я уже не считала, что месть получится слабой, вот только не была уверена, что нам удастся все это осуществить. Я знала, что для того, чтобы принять этот план, мне надо безоговорочно поверить в Мэттьюза и в его способность осуществить все, о чем он говорил. И долго молчала, и потом спросила себя: а разве есть другой выход?
Короче, вот на чем мы сошлись. Что завтра я на своей машине — на джипе или на кабриолете — выезжаю одна в город, а Рэй едет следом. И независимо от того, есть слежка или нет, я паркуюсь где-нибудь в Западном Голливуде и иду по своим делам — в салон красоты, по магазинам, куда угодно — и гуляю долго, а потом еду в тот ресторан, в котором накануне должна была встретиться с Ленчиком. И то же самое делаю завтра и послезавтра — они просто обязаны за мной следить, у них другого выхода нет, так что вряд ли придется ждать долго — и где-нибудь они ко мне подойдут, в ресторане, скорей всего, и будут уверены, что я одна. И напомнят мне про должок — это я сказала, что именно так и будет, потому что убивать меня им рановато, — а я скажу, что из-за них попала под подозрение ФБР и полиции, и десять дней отсидела в тюрьме, и до сих пор под подозрением, причем подозревают меня и в причастности к убийству Яши и в том, что имею косвенное отношение к убийству Стэйси. И сейчас сделать я все равно ничего не могу — и со мной пока лучше не встречаться: не исключено, что меня пасут, и уж деньги куда-то перевести я, в любом случае, не в состоянии.
И я должна повозмущаться убийством Стэйси и одновременно выглядеть напуганной — чтобы они поверили, что меня этот их поступок испугал жутко. Разумеется, я должна отрицать, что причастна к тому, что кто-то стрелял по ним — частный детектив у меня был, которого Ленчиковы люди и убили потом, вот он и нашел киллеров и потом мне счет предъявил, но погиб.
Это их расслабит — мысль о том, что не надо больше никого бояться, — и они дадут мне неделю или десять дней, которых хватит на то, чтобы мы подготовили пути отхода. А дальше я должна их спровоцировать на конфликт — сказать, что ничего я им не отдам, что передумала и что, если что-то со мной случится, весь компромат на Ленчика, его записки и якобы записанные мной на диктофон разговоры окажутся в ФБР. Должна сказать это на встрече, прямо и резко — а когда они попробуют применить ко мне силу, в дело вступит Рэй.
— Понимаешь, они ведь не будут прямо в ресторане приставлять пистолет тебе к голове, они попробуют это сделать в другой обстановке, более спокойной, и чтобы минимум народа это видел. Им надо будет тебя захватить — чтобы ты потом привезла их туда, где у тебя компромат, и при них отдала распоряжение перевести деньги по указанным ими счетам, захватить целой и невредимой, чтобы ни один волос с твоей головы не упал. Но при этом они не будут знать, что рядом буду я, и я могу начать стрелять в любой момент и сказать потом, что меня пытались убить какие-то громилы. Я буду действовать в соответствии с законом и мне ничего не будет — ну подержат день-другой в полиции и все равно ведь отпустят, потому что это не убийство, а самооборона, потому что у них наверняка будет с собой оружие, пусть не пистолеты, но хоть удавка, хоть нож.
— Думаешь, что справишься со всеми? — спросила без издевки, не желая оскорблять его имеющимися у меня сомнениями.
— Их ведь не так много, Олли. В ресторан вошли двое, и еще двое были в одной машине, и трое в другой…
Значит, Ленчик привез-таки еще людей из Нью-Йорка — было их семеро, включая его и не считая Виктора, трое погибло и один ранен, значит, он привез еще четверых. Кореец, помнится, говорил, что у него вся банда человек десять — пятнадцать — не исключено, что те, кого видел Рэй, это и есть Ленчикова группа в полном составе. Но ведь не исключено и то, что в каком-нибудь мотеле ждут задания еще трое-четверо — и в крайнем случае, он может попросить людей у Берлина, и еще Виктор мне нужен, его оставлять никак нельзя, поганую крысу.
— …Их семеро, но я уверен, что они не будут действовать все вместе, а значит, мы уничтожим их по частям, и я буду говорить полиции, что в последние дни кто-то угрожал мне по телефону, и вот теперь покушается на мою жизнь. Думаю, что в два или максимум три захода я их уничтожу…
А я про себя думаю, что стольких убивать, возможно, даже не надо — надо убрать Ленчика и Виктора и того, с кем Ленчик заходил в ресторан, самого близкого его приспешника. Потому что Ленчиковы быки вряд ли знают, чье задание выполняют, в чем точно оно заключается и кто я такая, — и связи с заказчиком у них наверняка нет, и нового представителя тюменцы вряд ли прислали. Но на всякий случай лучше, конечно, убрать всех — береженого Бог бережет — и сменить место жительства, будучи в полной уверенности, что теперь меня никто не ищет. Как там Кореец говорил: “Мы люди не местные, всех попишем и уедем”, — так, кажется. Вот и я здесь, в Штатах, уже не местная — да я нигде не местная, если разобраться.
— Как тебе план, Олли?
Что могу сказать? Что роль приманки мне не нравится? Что кто-то сдуру может меня застрелить вместо того, чтобы захватывать? Что я могу погибнуть в перестрелке между Рэем и людьми Ленчика прежде, чем завершится месть? Но ничего лучшего придумать ведь нельзя — чтобы убивать своими руками, надо рисковать. Кстати, насчет своих рук…
— Если мы будем знать, что дело идет к стрельбе, у тебя найдется для меня оружие, Рэй? — спрашиваю вдруг, решив, что выступать в качестве наживки, смотреть, как идет бой, и не участвовать, и чувствовать себя пешкой — это не для меня. — Я училась стрелять — давно, года три назад, но у меня был хороший инструктор…
— А ты представляешь себе, что такое выстрелить в человека? — спрашивает он меня в ответ, и мне не нравится его тон, в нем чувствуется оттенок превосходства, и явное неверие в меня, хотя совсем недавно он посмотрел на меня с плохо скрытым уважением, когда я сказала, что наняла киллера. — Ты уверена, что сможешь это сделать?
Я опять закуриваю и скрываюсь на время от Мэттьюза в дымовой завесе, а сама на облаке дыма переношусь в прошлое. А там сигара, выхваченная из моих рук, вылетает горящим копьем в окно, и в лицо мне с ненавистью втыкаются занозами глаза кронинского Павла, с которым едем ко мне домой по мокрой от недавно прошедшего дождя московской дороге.
— Полтора года назад я ножом убила человека, у которого в руках был пистолет, Рэй, — отвечаю не задумываясь, и не спохватываюсь, осознав, что сказала, не пытаюсь взять свои слова обратно. — Убила даже не потому, что он изнасиловал меня и угрожал мне смертью, а потому что он был готов убить очень близкого мне человека. И я не рыдала потом и никогда об этом не жалела, и, повторись ситуация, сделала бы это еще раз. Не бойся, это было не здесь, в другой стране, и никто меня за это не ищет…
Он посмотрел на меня очень внимательно и очень серьезно, как бы оценивающе, и я добавила, разряжая обстановку:
— Надеюсь, у вас нет на телезвукозаписывающей аппаратуры, мистер Мэттьюз?
— Могу раздеться догола, чтобы вы убедились, Олли, — отвечает он тоже с улыбкой.
— Я же говорила, что предпочитаю женщин, мистер Мэттьюз, а вы к таковым, насколько я понимаю, не относитесь. Вот если мы с вами осуществим план и вы на заработанные деньги сделаете операцию по перемене пола — может быть, тогда…
И сама рассмеялась, и он вслед за мной — хорошо хоть, не подумал, что я ему всерьез предлагаю такое…
Вот так вот. И теперь, в его отсутствие, я сижу, и думаю, и понимаю, что другого плана нам не изобрести. Конечно, было бы идеально, чтобы он взял все на себя, нашел бы киллера, к примеру. Или просто выследил бы Ленчика со товарищи и заминировал, к примеру, их машину — прямо так по-детективному, по-киношному, и не хочу задумываться над тем, где он возьмет взрывчатку и как все это осуществит, — и взорвал бы их, когда они отъезжали от своего мотеля или где они там живут. Вот это был бы класс — убрать всех одним действием и ничем не рисковать — но, как я поняла, он так не может. И несмотря на то, что хочет отомстить, не обращаясь к помощи правоохранительных органов, хочет, чтобы все было по закону, чтобы все выглядело не как убийство, а как самооборона.
И еще я поняла, что для него это сильный шаг — встать на сторону такой девицы, как я, с сомнительным прошлым, находящейся под подозрением ФБР и полиции, девицы, которую он не знает и которой, вообще-то, не может верить. Девицы, которая еще вдобавок ко всему призналась в том, что собственноручно зарезала человека. Но он-таки делает этот шаг — или, по крайней мере, готов сделать.
С другой стороны, и я ведь ему верю и готова идти вместе с ним — хотя он вполне может оказаться аферистом, который меня подставит, вроде проклятого Джо. Или трусом, который сбежит в решающий миг, или слишком самонадеянным дураком, который ничего не сможет сделать, погубив и себя, и меня, или, может, просто увидев, что ничего у него не выходит, сдать меня полиции или выманить из меня путем шантажа приличную сумму. Но почему-то я ему верю — наверное, потому, что другого выхода все равно нет, и если бы не он, я бы и сегодня напилась, и завтра, и сидела взаперти, и теряла разум, силу и волю, и проиграла бы все. А теперь благодаря ему у меня есть шанс сыграть и выиграть — пусть шанс на победу невелик, но он есть, а значит, стоит попробовать…
Красиво-то как вокруг, Господи! Я ведь в город не выбиралась почти три недели, сидела дома, не выходя никуда, — и сейчас еду не спеша, и смотрю по сторонам, и любуюсь тем, что вижу. Но одновременно чувствую, что Лос-Анджелес мне уже чужой — потому что знаю, что так или иначе его покину, отправившись либо в тюрьму, либо в Европу.
Когда пришел момент выезжать, я вдруг почувствовала себя дискомфортно — вот что значит пьянствовать и нюхать столько времени в своей берлоге. Мне показалось вдруг, что мой дом — самое безопасное место во всем мире, а покинув его, я сразу стану уязвимой и слабой, как крот, вылезший случайно из темных подземных коридоров на солнечный свет. Я так думаю, что это остатки депрессии во мне сработали — и я, естественно, сделала вид, что ничего не происходит, что все классно, и улыбалась неискренне, и Рэй, сидевший напротив меня за чашкой кофе, кажется, ничего и не понял. Я быстренько скомкала завтрак — чтобы не затягивать с выездом — и сказала ему, что кофе можно и в городе попить.
Даже в своем “Мерседесе” я почувствовала себя неуверенно — словно в первый раз сажусь за руль незнакомой и опасной машины. Потому и поторопилась выехать за ворота — и оказаться в опасной зоне, зная, что обратного пути нет. И вправду, когда выехала, самочувствие поменялось — вместо желания спрятаться в свою раковину и оставаться в ней ощутила движение адреналина, впрыскивающегося небольшой дозой в мою кровь. И возбуждение пришло, и я громко и несколько патетично сказала себе:
— Игра началась, мисс Оливия Лански! Ваша последняя игра!
Прозвучало не слишком оптимистично — вроде последней охоты волка Акелы из мультфильма “Маугли”, который я обожала в детстве. Может, куда лучше выглядела бы бендеровская фраза из “Двенадцати стульев”: “Лед тронулся, командовать парадом буду я!” Но я же себе говорила, и всегда верила и верю до сих пор, что первая реакция самая правильная — она, с одной стороны, импровизация, а с другой — организм ее выдает, основываясь на накопленном опыте, знаниях, умениях. Это как удар в фехтовании — где проигрывает тот, кто думает, и выигрывает тот, кто действует на инстинктах и подсознании.
Так что все правильно я сказала — и вот оно, начало последней моей игры.
Поехала не спеша до банка — утром по телефону договорилась о встрече, причем позвонила по мобильному, который Рэй для меня арендовал на свое имя, а свой прежний мобильный везла в сумочке: просто на всякий случай, вдруг кому вздумается позвонить, из тех, кто знает этот номер. С Эдом я переговорила еще вчера, Мартену вчера же сказала, что хочу встретиться с ним на днях, так что везу с собой старый мобильный только на тот случай, если позвонит запропастившийся куда-то и такой нужный мне сейчас Дик.
Куда же он делся, сволочь? Мартен уверяет, что сам не может его найти, а в офисе мне секретарша вежливо отвечает, что мистер Стэнтон отсутствует и перезвонит мне, как только вернется, и, естественно, никаких справок относительно дня возвращения не дает. Я пока не тревожусь — он ведь и за границей может быть по своим конгрессменским делам, и в другом штате, где угодно, но лучше бы он появился поскорее.
Ехала не оглядываясь, и обернулась, уже только когда припарковалась у банка в Даун-Тауне, — и машины Рэя не увидела, да и не рассчитывала, впрочем, хотя его красный “Мустанг” достаточно броский. Настолько, что он мне сказал, что через пару дней возьмет в прокате что-нибудь менее яркое, как обычно это делал, когда следил за кем-то долго. Он выехал первым, минут на тридцать раньше, и ждал меня у выезда из Бель Эйр — я и не заметила, как проехала мимо него: в зеркало заднего вида его не наблюдала по дороге, но, согласно нашей договоренности, раз мой телефон молчит, значит, все в порядке. Он, кажется, понял, что подбадривать и успокаивать меня не надо — все же произвела на него должное впечатление, хотя, когда мы познакомились, я предстала не в самом выгодном свете — так что сам сказал, что телефоном будет пользоваться только в случае самой крайней необходимости. Тем более что маршрут мы наметили заранее — и отклоняться от него я не собиралась.
Немного непривычно было ехать самой — вспомнила по дороге, что до ареста две с лишним недели ездила с охраной, за руль вообще не садилась, а потом еще и девять дней тюрьмы и трехнедельное добровольное заключение на дому, — но мастерство не пропьешь, хотя я и старалась опровергнуть эту истину. В итоге добралась достаточно быстро, даже привычных для Эл-Эй пробок избежала.
А из банка — где в течение часа мне излагали, что сделали с моими деньгами применительно к описанной мной ситуации, а ситуация, по моим словам, заключается в том, что у меня есть планы начать кинобизнес в Европе, так что в случае необходимости я должна иметь возможность моментально продемонстрировать наличие у меня денег именно там, а не в Штатах, — отправилась в Западный Голливуд, предвкушая поход в салон красоты, где меня ждали в полдень и где я не была уже бог знает сколько времени. Конечно, и в период пьянства я делала себе маникюр и педикюр и за собой следила — но лучше, если меня приведет в порядок кто-либо другой.
И, расслабившись под ласковыми руками косметички, подумала о том, что если ФБР каким-то образом узнает о моих банковских планах, — дело плохо, но, с другой стороны, распоряжения эти я отдала еще до ареста, собираясь официально на пару месяцев в турне по Старому Свету, так что, даже если представить, что банк вдруг расколется, тревожиться мистеру Крайтону нечего. Да и банк не расколется — пока не будет официального доказательства, что деньги мои полностью преступны, криминального происхождения. Поэтому я себя поздравила с тем, что уже фактически увезла из Штатов огромную сумму, те тридцать миллионов, которые лежали на нашем общем с Корейцем счету, а значит, первый шаг сделан — и успешно.
На улице конец февраля, а тепло, плюс двадцать примерно, но полушубок, надетый поверх кожаного платья, показавшегося мне более пристойным для похода в банк, чем брюки, снимать не стала, достаточно того, что у машины верх откинут. Доехала, согласно договоренности, до мексиканского ресторана, в котором позавчера ждал меня Ленчик — как раз в это время, в три. Здесь перерыва с трех до пяти-шести, привычного для многих американских ресторанов, нет, зато закрывается он рано, в девять, и когда приближалась к месту, когда оставалось минут пятнадцать дороги, снова испытала дискомфорт — не совсем приятно ехать в открытой машине, зная, что, может быть, кто-то следит за тобой сейчас, шепча про себя адресованное тебе слово “сука” или что-то погрубее. Или сжимает в кармане ствол, не желая слушать своего вождя Ленчика, но желая отомстить за смерть близкого друга, не сомневаясь, что виновата в ней именно я.
Но я всем видом изображала спокойствие, радость и довольство жизнью — как и положено преуспевающей молодой женщине, разъезжающей по городу на большом красивом “Мерседесе”. А внутренне напрягалась — кто знает, не надумал ли Ленчик приходить сюда ежедневно, и не столкнусь ли я с ним сейчас. Просто показалось на мгновение, что сейчас я к встрече не совсем готова — и предпочла бы заранее знать, что встречусь с ним, к примеру, завтра в час дня, — но напомнила себе, что игра уже началась и чем быстрее я соберу в кулак все свои ослабшие силы, тем лучше будет для меня, потому что в этой игре делать нерешительные ходы просто нельзя.
Внутри не было никого. Я сделала солидный заказ и набросилась на еду с неизвестно откуда взявшимся аппетитом, по привычке заливая пожароопасные блюда пивом, спасающим желудок от воспламенения, и так хорошо стало, и сыто, и сонно, и я курила, потягивая "Корону”, и даже задумалась, не заказать ли рюмочку текилы — все равно домой ехать, и шансов на то, что полиция вдруг меня тормознет и начнет проверять на наличие в организме алкоголя ничтожно мало, тем более что день, да и что будет от одной рюмки? Но вдруг спохватилась, вспомнив, чем занималась две с лишним недели вплоть до вчерашнего дня, и выругала себя за пиво, и даже чуть встревожилась, не является ли мысль насчет текилы следствием этих двух с лишним недель. И резко отставила от себя недопитую бутылку с пивом, они там именно в бутылках подают и обязательно лимон всовывают в горлышко, и я отодвинула ее так резко, что она чуть не упала со стола, — и огляделась в поисках Рэя, ожидая встретить на себе его укоризненный взгляд.
И так вдруг противно стало оттого, что я не хочу, чтобы он счел меня безнадежной алкоголичкой — он же не знает, как долго длится мое пьянство, а оно, кстати, и вправду затяжное, потому что после отъезда Корейца я выпивать стала частенько, а как познакомилась со Стэйси, чуть ли не ежедневно, вдобавок к алкоголю еще и кокаин нюхала, — что настроение испортилось сразу. И еда показалась невкусной, и день неприятным, и все вокруг надоевшим и безрадостным — хотя внешне я все так же сидела, покуривая тоненькую сигарку, довольная всем и, может, даже счастливая. И я, естественно, озлобилась на него, спросив себя, почему, собственно, должна кого-то стесняться и перед кем-то отчитываться, и где, собственно, мой герой-спаситель, которого я не видела ни по дороге, а в машине провела пару часов, ни здесь сейчас не вижу.
Рассчиталась быстро — заодно озлобившись на официанта, слишком долго возившегося с моей кредиткой, словно сложно было считать с нее нужную сумму, словно выяснилось, что никаких денег на ней нет, — и вышла, и, когда заметила, что красного “Мустанга” у ресторана нет, чуть похолодело внутри. До “Мерседеса” добралась чуть ли не бегом, ожидая, что в любую секунду кто-то окликнет меня по-русски или встанет у меня на пути, появившись из воздуха, и уселась в него быстро и стартовала рывком, показалось даже, что шины дыру выели в асфальте.
— Да! — резко бросила в телефонную трубку, зазвонившую у меня в руке, что есть силы вжимая педаль газа, стремясь любым путем как можно быстрее оказаться дома.
— Куда торопишься, Олли? Что за пробежки после вкусного обеда?
— А ты где, Рэй? — произнесла через минуту чуть мягче, поняв, что он все-таки где-то рядом, хотя и непонятно где.
— Позади тебя, недалеко. Пожалуйста, не гони так — ни попадание в аварию, ни беседа с полицией нам сейчас ни к чему, верно?
“Нам” — это неплохо звучит. И пока я пробовала это “нам” на вкус, он дал отбой, и я даже не успела его спросить, не едет ли кто за мной, и сбросила скорость, но облегченно вздохнула, только когда нажала на кнопку пульта, и разъехались передо мной ворота, и я оказалась на своей территории. Подумав тут же, что облегченно вздыхать, наверное, не стоит: Рэй же сумел за нее пробраться, и кто знает, не смогут ли и другие, куда менее приятные люди. И чуть напряглась, когда минут через двадцать-тридцать услышала сигнал у ворот и, выглянув в окно, увидела белый “Форд Торус”, так хорошо смотрящуюся в Москве и такую обыденную и банальную здесь машину.
— Олли, открой побыстрее, — донеслось по интеркому, и я открыла, и только тогда поняла, почему не видела его целый день — потому что пока я была в банке или в салоне красоты, он успел где-то оставить свою машину и взять напрокат новую, а значит, он все это время был рядом, может быть прямо за мной, и контролировал ситуацию. Я даже забыла о недавнем всплеске злобы, подумав с благодарностью, что положиться на него можно — и даже забыв себе напомнить, что пока говорить об этом еще очень и очень преждевременно, потому что надежность может показать только настоящее дело…
— Почему тебе так хочется отомстить за Ханли? — спрашиваю сидя на кухне, пока он разогревает в микроволновке пиццу, одну из великого запаса пицц, закупленных мной в тот период, когда у меня были охранники — для их же кормежки — и которыми они гордо не воспользовались, предпочитая питаться за свой счет. Кстати, я же тогда и пива закупила море, пару ящиков столь популярного здесь “Будвайзера”, попросту “Бада”. — Кстати, можешь выпить пива, если хочешь — у меня его много…
— Ну если тебя это не смутит, — отвечает он через минуту, и я взрываюсь вдруг, выплескивая на него те эмоции, которые одолели меня в ресторане, объясняя на чуть повышенных тонах, что я не алкоголичка, собственно, и если кто-то пьет рядом, меня это не трогает, и дело от безделья я отличаю не хуже него.
— Господи, Олли, я и не думал тебя обидеть. Я, например, уже догадался, что ты выпила “Короны” — какая мексиканская еда без мексиканского пива? И разве я сказал тебе хоть слово?
И в самом деле, чего это я? Нервы, мисс Лански, нервы шалят, расшатанные вами разгульным образом жизни — и показывающие, что сегодняшний день, вполне мирный и спокойный, был для вас напряженным. “Завтра будет лучше”, — жестко говорю себе и успокаиваюсь, чувствую физически, как вспышка исчезает, как оседает во мне взметнувшаяся из глубин злость, стекает по стенкам обратно вниз.
— Ты мне не ответил насчет Джима, Рэй, — говорю как ни в чем не бывало. Мне действительно интересно — интересно понять, почему он не взял с меня деньги, целых сто тысяч, которые я предлагала заплатить только за знакомство с киллером, интересно понять, что он делал там, у госпиталя. Мне это важно — потому что я хочу знать, погиб он из-за меня или из-за денег, на моей совести его смерть или на его собственной жадности. Потому что фраза про роковую женщину, брошенная Рэем с улыбкой, попала на благодатную почву.
— Но у нас же чисто деловые отношения, мистер Мэттьюз, — парировала я, когда он заметил после слов о том, что я роковая, что, может, и ему следует меня опасаться, но я еще тогда задумалась, вроде улыбнулась в ответ на его шутку, что в ней есть большая доля правды, может быть, очень большая. Потому что и в самом деле я приношу тем, кто неравнодушен ко мне, только несчастья — нет, не так. Я приношу им счастье, но кончается это для них плохо — ты погиб, видно, погиб и Юджин, получила пулю любившая меня милиционерша, задушили Стэйси. Может, такая судьба выпадает только тем, кто действительно очень меня любит, а тем, кому я почти безразлична или для кого отношения со мной не слишком важны, тот выживает. Остался же жить и здравствовать мой первый муж и многочисленные мои одноразовые и малочисленные двух- и трехразовые любовники — я не знаю, что было с ними после того, как мы расстались, но почему-то мне не кажется, что короткий контакт со мной принес им беды.
Роковая женщина? Раньше бы мне это понравилось — но в том контексте, в котором я увидела вдруг эти слова, не самый лестный комплимент.
И он, кажется, понял тогда, что я пока не хочу больше говорить, что задумалась о своем, — надо сказать, что, если только мне это не кажется, он неплохой психолог, Рэй. Или я слишком открыта и легко читаема в нынешнем совсем уязвимом состоянии, ослабленная спиртным и наркотиками, — но верю, что с каждым прошедшим днем ему будет все труднее понимать, что у меня происходит внутри.
— Я же сказал — он был мой партнер, и как я могу уважать себя, если не отплачу за него? В полиции так принято — хотя полицейские, как правило, слишком законопослушны и просто арестовывают убийц своих друзей, если их находят, но мы, конечно, не в полиции — и потому…
— Вы были друзьями? — пытаюсь разговорить его, чтобы получить-таки ответ на свой вопрос, за что именно погиб Ханли, а заодно узнать, движут Мэттьюзом только принципы
или все же деньги для него главнее. Мне надо это знать — в конце концов, я в какой-то степени вверяю в его руки свою жизнь и должна иметь представление о том, что для него основное: месть из принципа и заодно спасение меня, или спасение меня ради получения денег и заодно месть. Если он руководствуется местью, то, начнись перестрелка, он будет думать в первую очередь о том, как бы уложить побольше людей, а не о том, как вытащить меня.
— Как тебе сказать? Он мне помог когда-то, Джим Ханли. У меня были проблемы, большие проблемы, и я вел примерно такую же жизнь, которую ты вела до моего появления: я пил, мало работал, ничего от жизни не хотел и ничего не ждал. И вдруг появился он — и предложил мне стать его партнером и вместе создать новое детективное агентство. Мы с ним не были особо знакомы — так, встречались раз пять, — но он знал, какой образ жизни я веду, и все же пригласил меня. Конечно, я был ему нужен: он знал, кто я, какая у меня репутация, и ему необходим был такой человек. Работа частного детектива бывает рискованной. Обычно это рутина, обыденное дерьмо — за кем-то последить, кого-то поохранять, уличить в измене мужа или жену, — но иногда случается такое, что ты подвергаешься риску. А Джим — Джим не очень хотел рисковать, ему это не нравилось. Он и из полиции из-за этого ушел, а еще из-за того, что его постоянно пилила жена, называла неудачником, требовала, чтобы он нашел более высокооплачиваемую работу…
Я жду — я в первый раз услышала, что он говорит что-то про себя, и, судя по его словам, он был в свое время крутым парнем, с соответствующей репутацией, пока не случилось что-то и он не начал пить. Я ведь, кстати, так его и не спросила, кто он такой, — правда, и о себе особо ничего не рассказала, но хотела сейчас узнать, что представляет собой Рэй Мэттьюз, и откуда он взялся в моей жизни, и кем был до того, как стать частным детективом. Но он молчит.
— Но ведь ты сам говорил, что Ханли трусом не был. И если даже просто не был смельчаком — зачем же он так предлагал мне свои услуги, хотя уже знал, что за люди мне противостоят? Зачем нашел мне киллера — он ведь рисковал, правда, он же не знал точно, кто я?
— Деньги, — пожимает он плечами. — Он мне рассказывал недавно, что его жена вечно указывает ему на то, как живут другие, упрекает, что он не может купить дом в хорошем районе, что он обязан обеспечить сыну образование в хорошем университете и все такое. Он выпил тогда много, вот и рассказал, а утром смотрел на меня пристально, но я сделал вид, что сам был пьян и ничего не помню. Вот, наверное, и решил рискнуть — и страх поборол, и отказался от своей привычки ни во что опасное не вмешиваться, и потому и киллера тебе нашел. Знаешь, мне бы хотелось верить, что он считал, что Джо и вправду все сделает как надо — в противном случае выходит, что он намеренно тебя обманывал, рассчитывая прилично заработать, и сообщил Джо, что с тебя можно попросить любые деньги, ты все равно заплатишь, и был в доле. Мне бы не хотелось о нем плохо думать — и потому я полагаю, что он был у госпиталя, намереваясь проследить за твоими друзьями, узнать, не сменили ли они место жительства, и сообщить их новый адрес Джо. А то, что он не взял с тебя деньги вперед: он же в первый раз такое делал, опыта не было, даже с клиентов он всегда просил немного, чтобы выходило, что мы берем дешевле, чем конкуренты.
И он опять замолкает.
— Деньги — странная штука, Олли. За те два года, что мы с Джимом работали вместе, он ни одного рискованного шага не сделал — и меня всегда сдерживал, и если бы не я, отказывался бы от половины предлагаемых дел. Поэтому и дела у нас шли чем дальше, тем хуже — начали неплохо, но потом из-за вечной осторожности Ханли стали проигрывать конкурентам. Сначала отказались от двух помощников, тоже бывших копов, которых привлекали время от времени, а полгода назад — и от секретарши. Не поверишь — я даже порой от него скрывать стал то, чем занимаюсь, чтобы он не вмешался и не спугнул клиента.
И что еще интереснее, Олли, так это то, что Джим всегда был жутко законопослушным — не дай бог, казалось ему, что выполнение просьбы клиента может как-то противоречить закону, — сразу отказывался. А тут, видимо, почувствовал сильный запах денег — и не только на риск пошел, но и нашел киллера для клиента, которого не знал почти, да еще для женщины. Думаю, что ты ему очень понравилась, но еще больше он хотел на тебе заработать. И вот тебе результат — деньги ему уже не понадобятся…
— Ты так сильно не любишь деньги, Рэй? — спрашиваю с улыбкой, решив, что пора заканчивать невеселую тему.
— Я не люблю семью, в которой главное — деньги, — слышу неожиданный ответ. — Он же ради семьи на это пошел. А деньги… Это же Америка, здесь стыдно быть бедным, и неудачником, и нельзя быть слишком богатым. Впрочем, глупо говорить это человеку, который живет в Бель Эйр и у которого вымогают пятьдесят миллионов, которые у него точно есть…
— Можешь мне поверить, что я не мечтала стать богатой, Рэй, — отвечаю ему серьезно, потому что и он серьезен, и мне совсем не хочется ему исповедоваться, но мне нужен с ним личный контакт, а не только деловой. — Из-за денег я потеряла человека, которого любила, потом еще одного, самого близкого человека, и меня чуть не убили, да и сейчас могут убить опять же из-за них. Выходит, я знаю, что такое деньги — и сколько они стоят, и сколько надо заплатить за то, чтобы их иметь…
Потом он уезжает снова — обещая рассказать по приезде, что за дела у него, и успокоив меня насчет того, что, кроме него, никто в дом не проникнет, просто у него был большой опыт. Намекает на то, что вором был, что ли? И уезжает. А я анализирую наш разговор — и единственным его результатом является то, что, по крайней мере, я могу сказать себе, что Ханли погиб из-за собственной глупости, пошел на риск, не умея рисковать, ради денег. Может глупо терзаться такими вопросами, пытаться определить, кто погиб из-за меня, а кто из-за себя, — я знаю, что покойники не будут приходить ко мне по ночам и смотреть на меня с упреком. Но я, выясняя этот вопрос, хотела заодно понять истинную причину того, что Мэттьюз сначала отказал мне, а потом согласился — он объяснил, конечно, но я не очень-то поверила.
И еще я теперь знаю, что он был когда-то крутой парень, а это внушает оптимизм, когда вспоминаю наш рисковый план действий. И еще я знаю, что у него были нелады в личной жизни — то ли развод в тот момент, когда у него были неприятности, то ли несостоявшийся брак, непонятно. Но вопросов на личную тему не задаю, рано еще для интимных вопросов, не слишком хорошо мы еще знакомы.
Немного удивляюсь самой себе: было время, когда мне были интересны люди и их судьбы. Я любила подумать на эту тему и послушать чужие рассказы о себе и других. Но время это прошло, и люди, в целом, меня давно уже не интересуют, людей я не люблю. Мне интересен был ты, абсолютно все связанное с тобой — но ты немного рассказывал, а я не спрашивала, понимая, что раз ты молчишь, значит, так надо, и мыслила, строила предположения. Потом Кореец — мне с тех пор, как мы оказались вместе в Штатах, любопытно было за ним наблюдать, пытаться его понять, определить, как говорят ученые, его поведенческую структуру. Но после него, пожалуй, ни к кому я особого интереса не проявляла — разумеется, мне любопытно было, что за типы Мартен, и Эд, и другие люди, с кем сталкивалась по делу, но так, как Мэттьюз, меня давно никто не интересовал. Может, потому, что ни от кого не зависело так много, как от него сейчас, — никто, ни Мартен, ни Джо, не мог сыграть в моей жизни такую роль, которую сейчас может сыграть он?
“Не Бог, не царь и не герой” — не забывай, — говорю себе. Это верно — опасно на кого-либо полагаться целиком и полностью, потому что, если этот человек вдруг подведет случайно или намеренно, тогда беда, сама уже не справлюсь: буду не готова. Но другого плана у меня нет — и как бы мне ни хотелось на кого-то полагаться, как бы ни пыталась я себе сейчас объяснить, что рискую, ни с того ни с сего уверовав в незнакомого, никогда не виденного в деле человека, — все, что мне остается, это ждать.
Но уверенность уверенностью, однако думать я не перестаю — вспоминаю, как проходили встречи с Ленчиком, и с Ханли, и что говорил Кореец, и все прочее. И вдруг торможу, увидев вдруг явную несостыковку, не замеченную Мэттьюзом: Стэйси убили семнадцатого февраля, а двадцать второго февраля я получила послание от Ленчика из Нью-Йорка. Что же получается — что он убил ее и улетел, а потом опять вернулся? Я, вообще, полагала, что он спрячется с остатками своей банды после их расстрела — и, скорее всего, улетит в Нью-Йорк, и будет выяснять через Берлина, кто мог его тронуть в Лос-Анджелесе. Да и полиция на него волей-неволей обратила внимание — и если уж Ханли моментом выяснил, кто такой Ленчик и его люди, то полиция, пытающаяся понять, кому понадобилось расстреливать якобы мирных туристов, которые к тому же эмигранты из России, установила это еще быстрее. А значит, Ленчику надо было уезжать отсюда, чтобы иметь возможность появиться здесь через какое-то время и не привлекать к себе внимания. К тому же он, как я понимаю, трупы должен был увезти с собой, похоронить их в Нью-Йорке — у них же, наверное, семьи какие-то были, жены там, хотя, впрочем, необязательно. А вот тюменца точно надо было отправить домой, он же гражданин России, а значит, это надо было через консульство делать.
В общем, я не специалист в похоронных процедурах — хотя с учетом того, что творится вокруг меня, скоро смогу открыть собственное бюро и прилично заработаю на этом, — но все же думаю, что Ленчик должен был уехать отсюда на время. Кто же тогда убил Стэйси, интересно? Ведь этот кто-то должен был с момента моего выхода из тюрьмы наблюдать за моим домом, должен был убедиться в том, что Стэйси в течение двух недель каждый день ко мне приезжала и оставалась на ночь, — должен был понять, что Стэйси действительно достаточно близкий мне человек, иначе почему, собственно, меня должно было напугать или огорчить ее убийство? Конечно, она еще до посадки ко мне приезжала, несколько раз была у меня, начиная с нашего знакомства после Рождества — и уж даже не помню точно, сколько раз это было, десять, как минимум. И в городе мы с ней встречались пару раз, если не больше, — наверное, заметили они ее еще до того, как я села, а потом отметили, что она ко мне ездит часто, больше ведь никто ко мне не приезжал, вот и…
Но все же — чьих рук это дело? Не верится мне, что Ленчик сам улетел, а здесь оставил своих людей, и поручил им за мной следить, и отдал из Нью-Йорка приказ убить Стэйси — сложновато это для них, Ленчик сам бычина, а эти еще тупее: я же видела того, который вместе с ним садился за мой стол в ресторане — безмозглый отморозок, одно слово.
Кто же тогда? Неужели люди этого самого Берлина, местного русского авторитета? Сомнительно: только идиот может взяться за убийство ни в чем не виноватой американки, стремно это, русские обычно русскими занимаются, и если трогать иностранцев, то только тех, которые ведут с ними заведомо мафиозный бизнес. И не дай бог, если это действительно местные сделали — это означает, что Ленчик рассказал Берлину всю ситуацию и против меня сейчас не только семь Ленчиковых людей, включая его самого, но и наверняка очень многочисленная и куда более опасная банда Берлина, с которой мне не справиться даже вместе с десятком Мэттьюзов. Если Берлин в курсе всего, тогда даже расправа над Ленчиком оправданна только отчасти: останется кто-то, кто будет знать, что вытянутые у тюменцев деньги у меня, будет помнить мое имя и искать меня в обмен на долю.
Но лучше надеяться на то, что это не так все же. Что Ленчик и его люди не уехали никуда после того, как проредил их команду Джо, а просто поменяли мотель. Или улетели, оставив человека для того, чтобы наблюдать за мной, затем вернулись и снова улетели — или улетели и прислали сюда еще незасвеченных своих бойцов, а потом и сами возвратились.
Черт, так устаю от этого гадания — и главное, что все равно ведь одни предположения, никакой конкретики, тыканье пальцем в небо — неблагодарное занятие. Вот и говорю себе, что надо думать о лучшем, но быть готовой к худшему: к тому, что ФБР продлит мне срок действия подписки о невыезде, и что Ленчик пользуется полной поддержкой Берлина и его людей, и что Мэттьюз окажется не настолько хорош, чтобы осуществить наш план. Кстати, неплохо было бы узнать, кто же он все-таки такой, этот Рэй Мэттьюз…
Но вечером речь об этом не заходит — он заявился уже поздно, в двенадцать где-то, сказав, что слишком много было дел. А плюс сделал пару кругов по Бель Эйр, прежде чем заехать в мои ворота — чтобы раньше времени не вычислил никто, что он со мной. Уверяет, что поблизости не было никого — райончик и в самом деле такой, что тут особенно ни за кем не проследишь. Узкие улочки, и высокие заборы вокруг, и особняки за ними, с улицы практически невидимые — и если заехал сюда кто-то чужой, он даже припарковаться не имеет права у тротуара, потому что нечего ему здесь делать, да и частная собственность кругом. Проехать можно, а больше ни-ни, потому что камеры машину сразу отметят и ее номер, и если она задержится вдруг минут на двадцать, то более чем вероятно появление полицейского патруля, который поинтересуется в резкой форме, что тут делает эта машина, и в лучшем случае просто выпроводит чужака восвояси, а в худшем — доставит в участок для выяснения личности.
Сколько ни думала на эту тему, так и не могу понять, как же они вычислили Стэйси: то ли и вправду увидели нас вместе в городе, то ли случайно заметили ее черный спортивный “Ниссан”, въезжающий в мои ворота, когда кружили по кварталу, и потом пару раз встречали его на выезде из Бель Эйр, и заключили, что если и убивать кого в назидание мне, так только ее. Это мне еще охрана объясняла, что тот, кто хочет за мной проследить, должен караулить мой “Мерседес” на выезде из Бель Эйр и дальше цепляться к нему и пасти — что, видимо, и делали Ленчиковы люди и со мной, и со Стэйси.
Новостей у Рэя пока особых нет — тогда, когда он поехал на предполагаемую мою с Ленчиком встречу в ресторан, чтобы увидеть убийц Ханли в лицо, попытка проследить за Ленчиком и установить, где он живет, не удалась: слишком долго катались они по городу, и Рэю показалось, что они его засекли, или просто боятся, наученные горьким опытом, что кто-то может следить за ними и, вычислив, опять будет караулить с автоматом. Ну он и отстал тогда — и пока объезд многочисленных лос-анджелесских мотелей ничего не дал. Я так понимаю, что он просто подъезжает к мотелю и дает администратору описание Ленчика, и количество сопровождающих его людей и, наверное, номер машины, и удостоверение частного детектива показывает, и излагает в случае необходимости какую-нибудь байку про поиски сбежавшего от жены и детей мужа, и наверняка к просьбе присовокупляет бумажку долларов в пятьдесят.
Но в Лос-Анджелесе мотелей куча, а в его окрестностях — Венисе, Марина-дель-Рэй, Малибу, Санта-Монике — еще больше. Еще бы, пятнадцать миллионов людей тут живет, с учетом всех районов и пригородов. А к тому же Ленчик со товарищи могут и в отеле жить, коих здесь великое множество, от жалких беззвездочных до супершикарных, могут и квартиру снять, и дом. В общем, боюсь, что ничего не дадут ему эти поиски.
И выяснить мне так ничего у него не удалось — посидел час-полтора, обсуждая ситуацию со Стэйси, о которой вдруг вспомнила случайно, и я видела, что разговаривать со мной откровенно, на личные темы, он не расположен совсем. И первый сказал, что спать пора, что завтра в часов в одиннадцать снова отправляемся в поход и что в девять меня разбудит, коли мне требуется полтора часа на сборы. И я ушла, оставив его в гостиной на первом этаже, в которой он обосновался — объяснив тем, что до входной двери два шага, а особо комфортные условия ему ни к чему: пледа вполне достаточно.
Когда вчера решили, что ему лучше перебраться ко мне (честно признаться, я себя не слишком уверенно чувствовала после того, как он проник в дом, обогнув и камеры, и забор, и входную дверь), он сразу именно в гостиной и решил обосноваться и еще спрашивал долго, не будет ли меня смущать его присутствие в доме.
— Но мы же партнеры, Рэй, а не потенциальные любовники, верно? — напомнила ему. — Надеюсь, ты не из тех, кто смешивает личные дела и бизнес — лично я не из тех.
И он кивнул серьезно — он вообще достаточно серьезен на вид, видно, думает все время о нашем плане и его осуществлении или просто такой по натуре, и наглая самоуверенность в нем видна, только когда он со мной разговаривает не как с партнером, а как с женщиной. Не знаю, думает ли он о том, чтобы попробовать со мной переспать, или нет, но мне хочется, чтобы он понял, что лично мне это совсем не нужно и на его присутствие в моем доме я согласилась только потому, что он мне сейчас партнер, то есть существо бесполое.
Оставив его, я ушла наверх, полежала в ванной немного, думая, что без спиртного, к которому привыкла за последнее время, отвлечься от ситуации мне сложно. И попробовала было лечь спать, но сон не шел, не в силах пробиться сквозь снующие взад-вперед мысли и мыслишки, не в силах остановить их и подчинить своей воле. И ненавистная Ленчикова рожа встала перед глазами, а потом отодвинулась, став общим фоном, на котором сменяли друг друга лежавший в снегу Кореец, под которым расплывалось большое темное пятно, лежавший точно в той же позе, в которой лежал тогда ты, и Стэйси с посиневшей шеей и выпученными глазами и вывалившимся языком, и залитый кровью Ханли с простреленной головой, и я удивилась, потому что никого из них мертвым не видела, да и нехарактерны для меня были такие вот видения. А общий фон в виде Ленчиковой рожи то скалился довольно, то злобно что-то шипел.
— Ты мне за все заплатишь, рожа, — сказала то ли вслух, то ли про себя, обращаясь к Ленчиковой физиономии..
И усилием воли придвинула лицо к себе поближе и представила, как вижу боль в его взгляде, боль и страх, и не спеша расплывающуюся темноту. Как сморщивается полиэтилен его глазок, расплавляемый приближающимся адовым огнем, как искажаются черты лица и потеет лысина и скрючиваются пальцы. И когда проснулась — не в силах вспомнить, что еще мне снилось, но отчетливо помня эту картину, — поняла, что тот период, когда я пила и нюхала, и боялась всего, и стремилась спрятаться от окружающей жизни в доме, он прошел уже. И я готова теперь — я ко всему готова…
Ленчик только на третий день объявился — двадцать восьмого, символично так, в последний день зимы. И я сидела в том же ресторане, в котором встречалась с ним до этого и в котором он меня ждал безрезультатно несколько дней назад, и перекусила уже, и курила за чашкой крепчайшего кофе, и тут увидела, как он входит в сопровождении того же самого быка, с которым тогда за мой стол садился. Входит и уверенно идет ко мне, видно, заранее знал, что я здесь. Я смотрела на него спокойно, и обнаружила вдруг, что даже радуюсь его появлению, и подумала про себя: “Наконец-то все началось…”
Наконец-то. Накануне весь день опять по городу моталась, и безрезультатно, и даже удивилась тому, что от Ленчика ни слуху ни духу, и даже письма в мой ящик никто не опускает, словно потерял он ко мне интерес. Еще пять дней назад я бы себе сказала, что это и к лучшему, что об этом можно только мечтать — о том, чтобы он забыл меня или просто решил от меня отстать, то ли боясь очередного киллера, то ли по какой другой причине, — и не верила бы своему счастью. И ликовала бы, и планировала бы свой некиношный совсем побег из Лос-Анджелеса, думая о том, что найду киллера в Европе и его за Ленчиковой душой пришлю, если таковая у него имеется, а лучше — за головой. Слишком слабая я была тогда, нервная, дерганая, обессилевшая от всего на меня свалившегося — и, наверное, и вправду способна была сбежать, и, если бы это удалось, потом терзалась бы, проклинала себя и судорожно искала бы людей, способных выполнить мое задание, за любые деньги.
Но, видно, и вправду именно судьба прислала мне Мэттьюза, вылившего в туалет все мои запасы спиртного, и туда же отправившего кокаин, и пристыдившего меня за мое поведение. И поэтому, когда Ленчик и на второй день не появился, я не унывала и твердила себе, что буду мотаться по городу столько, сколько надо, несмотря на то, что проблемы с ФБР и полицией так и не решены еще, и даже если Ленчик от меня отстанет вдруг, то я от него уже не отстану. И хрен с ним, с побегом, хрен с ней, с перспективой посадки — мне главное, чтобы совесть моя была чиста, а это возможно только в том случае, если Ленчик свое существование прекратит.
И поэтому двадцать седьмого я колесила по Лос-Анджелесу без устали, скорее, бродила даже — доехала до Западного Голливуда, до Меллроуз-авеню, и поставила машину на парковку, и пошла гулять, заворачивая в каждый бутик. Вот уж где, кажется, целую вечность не была — и потому рассматривала с живым интересом, что новенького появилось за время моего отсутствия, и проводила кучу времени в примерочных, и нюхала самые разные туалетные воды и духи, радостно отмечая про себя, что коли интерес к вещам и парфюмерии ко мне вернулся, значит, точно я ожила.
Только вот не купила ничего — если не считать небольшого количества косметики, чтобы пополнить опустошившиеся запасы, — а видела и замшевые шорты симпатичные, и очень красивую замшевую блузку, — не купила потому, что, в принципе, они мне совершенно ни к чему были: ведь все вещи, за исключением какого-то минимума, предстояло в случае отъезда бросить в Эл-Эй. Просто не хотелось таскаться с пакетами, не зная, в какой момент что может произойти, — не исключала, что на выходе из бутика вполне могу столкнуться нос к носу с Ленчиком, а с пустыми руками себя поуверенней чувствовала, хотя, разумеется, вступать с ним в рукопашный бой не собиралась.
Так я и перемещалась от магазина к магазину, предполагая, что вот-вот может появиться мой запропавший куда-то “клиент”. И поймала себя на том, что совсем не напряжена, и не оглядываюсь по сторонам, и не жду, что сейчас он выскочит передо мной, как черт из шкатулки с сюрпризом, и настроение было классное: я чувствовала себя этакой бомбой в виде рождественского подарка, которая, если схватить ее, оторвет к такой-то матери руки, а то и голову заодно, и сравнение мне даже понравилось. Самоуничтожение ради уничтожения Ленчика ужасным самопожертвованием мне не казалось — скорей, не самым выгодным, но все-таки неплохим обменом.
А ровно в три была все в том же “Ла Луз дель Диа” в Даун-Тауне, поев с аппетитом и не отказав себе в пиве, и обнаружила, что вполне могу сейчас и рюмку текилы себе позволить, и две, и даже три — и никакого желания напиться по возвращении домой у меня не будет уже, потому что в корне поменялось мое мироощущение. Но экспериментировать не стала, и курила, поев, и дегустировала по-гурмански крепчайший мексиканский кофе, и, кажется, вид у меня был со стороны донельзя довольный. И не торопилась совсем — приехала к двум, и полтора часа просидела, и уже после еды, за кофе, пыталась понять, куда же делся Ленчик.
Решил, что это я куда-то делась, коли не показывалась две с лишним недели и не отреагировала на его письмо? Или некому за мной следить? Или потеряли меня неудачливые филеры, хотя я и ехала не спеша, подыгрывая им вовсю? Или боится ловушки и сидит сейчас в машине где-нибудь неподалеку, заслав в ресторан одного из неизвестных мне подручных, и тот пытается определить, нет ли в зале кого-то, с кем я перемигиваюсь или обмениваюсь понимающими взглядами или другими сигналами, а Ленчик высматривает у ресторана моих возможных помощников?
Что ж, может быть, вполне может быть. Если тогда повсюду с охраной моталась, с тремя людьми на двух машинах, причем и не скрывала, что это охрана, и телохранители мои сразу в глаза бросались, то сейчас может показаться странным, почему я одна, да еще после смерти Стэйси и Ханли, и выгляжу такой веселой и беззаботной. Что бы я подумала на его месте — хотя и сложно представить себя Ленчиком, — что заручилась “паскудная сука” поддержкой ФБР, и те ее охраняют незаметно, и стоит к ней подойти, как тут же толпа людей в черном появится откуда ни возьмись и ласты загнет в шесть секунд? Возможно. Или нанятые ею киллеры сопровождают ее незаметно и готовы пальбу открыть в любую секунду, прямо среди белого дня, в самом людном месте? Опять же возможно, но маловероятно, коли не является на встречу и второго удара пока не было. Или обнаглела, решив, что убийство Стэйси есть последний акт возмездия, непрямого и трусливого? Обнаглела и уверена, что ее теперь никто не тронет, и мотается себе по магазинам, шмотки щупает — и в силу бабьей своей глупости и не подозревает, что ее вот-вот снова начнут трясти?
Вот этот вариант мне самым реальным показался — судя по тому, как разговаривал со мной Ленчик, он именно глупой бабой меня и считал, глупой и оттого наглой, не понимающей, с кем она говорит и чем все может закончится. Глупой бабой, которая набралась понтов у сожителей своих, но которую стоит только прижать посильнее, показать, что без защиты она ничто, и она расколется тут же и все отдаст.
Что ж, классно, если так: это будет означать, что недооценивает меня Ленчик, как недооценивали Кронин и его телохранитель, как недооценил пришедший по мою душу киллер в Москве. Еще было бы неплохо, если бы я уцелела в итоге, хотя плохо себе представляю, как это возможно: сколько ни обдумывала наш план, заканчиваю обдумывание с ощущением того, что крокодила на живца мы поймаем бесспорно, только вот в борьбе с этим крокодилом погибнем оба: ведь он не один, а с корешами, которые нас и сожрут. И Мэттьюза, слишком много, боюсь, на себя берущего, и меня. Начнись стрельба и завали Рэй Ленчика, люди его и меня положат тоже, случайно либо намеренно: ведь без Ленчика, великого их мыслителя и вождя, я им на хрен не нужна. Может, они и получают с кого-то по десять-двадцать тысяч налом, но пятьдесят миллионов, которые налом не отдашь, они даже взять не смогут.
Но это я к тому, что если дело будет сделано и я уцелею, то с удовольствием совершу на Ленчиковой могиле какой-нибудь акт кощунственный — оскверню ее каким-нибудь образом или спляшу на ней в голом виде страшный языческий танец, посвященный победе над поверженным врагом. Или предамся страстной любви с вибратором. Кстати, о вибраторах…
А вечером, когда Рэй возвращается в десять, и мы с ним говорим с час о какой-то ерунде, и он снова произносит свое коронное “пора спать”, явно желая остаться один и подумать или позвонить кому-то, — говорю такое же банальное “гуд найт” и ухожу в свою сексуальную комнату. Принимаю душ и падаю на булькнувшую подо мной водяную кровать, поставив предварительно одну из немногих неуничтоженных мной записей нашего с Юджином секса — остальные ушли от меня через камин еще перед посадкой, когда я планировала смыться отсюда, уверенная в том, что Джо все сделает и мое присутствие не обязательно. Неплохо было бы выпить немного, чтобы расслабиться полностью, перенестись туда, в вырванный и замороженный видеокамерами кусок прошлого — и тут же вскочила, осененная идеей, движением пальца приказав пульту умертвить на время изображение.
Рэю бы это и в голову не пришло, да он и не заходил сюда наверняка, ограничился спальней и гостиными. А тут у меня бар хитроумный, вделанный в стену, и когда дверцы распахнулись, я даже зажмурилась от яркой вспышки, осветившей хранившееся там и позабытое мной великолепие. “Джек Дэниелз”, текила, джин и тоник и бутылка вермута, и шампанское хорошее, и даже бутылка дорогого вина, и разные бокалы, стаканы и фужеры. И я облизнулась даже, представив, как мне станет хорошо через пятнадцать минут и в какую запредельность я унесусь, и каким полным будет оргазм, даже несколько оргазмов, потому что если уж наслаждаться, то от души. И неожиданно для самой себя снова погрузила комнату в полумрак, нажав на кнопку и дверцы закрывая, пряча от загоревшихся глаз дьявольский соблазн, заставляя закричать истошно и забиться в судорогах ожившего внутри червячка, принуждая разочарованно замолчать и лишь вздохнуть с тоской затаившиеся в ожидании такого притягательного вкуса рецепторы.
“Вы еще слюну пустите, мисс Лански”, — грубо посоветовала себе и отошла, падая обратно на кровать, желая подавить внутренний протест — потому что возмущенный организм мог мне помешать получать удовольствие от того, чем собиралась сейчас заняться. И потому пообещала себе вслух:
— На поминках Ленчика — гарантирую. За упокой его души — сколько угодно.
И вправду полегче стало, и огромный телеэкран снова вспыхнул, и появился Кореец — и перед тем, как полностью уйти в происходившее на экране, я только подумала, что что-то неправильное есть в том, что вот человека нет, а на пленке он остался. И что недаром представители некоторых африканских племен запрещают исследователям себя фотографировать, видя в этом какое-то колдовство и считая, что с каждым снимком похищают у них часть души и отнимают кусок жизни. И что очень символичен тот факт, что от тебя у меня не осталось ни одного снимка. Я всю кучу фотографий, на которых мы вместе, сделанных в Америке в основном (у тебя собственных фото того периода, что прожил до меня, и не было почти, криминальные личности, кажется, вообще фотографироваться не слишком любят, так Кореец говорил), убрала после твоей смерти. Пыталась поначалу хоть один снимок в рамке выставить, но это было для меня слишком тяжело, и я спрятала их, и если и доставала за весь год пару раз, то только в пьяном виде, и так они и сгорели, когда сожгли люди Хохла нашу квартиру.
В итоге, не осталось у меня ничего — кроме твоего “Ролекса” за двести штук, который ношу не снимая, за исключением тех дней, когда одевала вечернее платье, к которому “Ролекс” не подходил. Кроме твоей зажигалки золотой, усыпанной бриллиантами, от Картье, обрезалки для сигар и подаренных тобой драгоценностей. И знаешь, я даже рада этому, а если увидела бы сейчас твое фото, то не радовалась бы: память, как ты понимаешь, искажает все немного, и столько лет уже прошло после твоей смерти, целых три года. И потому когда Кореец как-то обмолвился, что привез с собой из Москвы пару снимков, на которых вы вместе — один старый совсем, года восемьдесят восьмого, а другой сделан на твоем дне рождения, за два с половиной месяца до твоей смерти, — я промолчала. И может, он и ждал, что я захочу их посмотреть, и удивился про себя моему нежеланию, а может, понял все правильно, а может, просто не захотел повторять — и в любом случае виду не подал, сохранил на лице привычную свою невозмутимость, словно и не говорил ничего.
И еще я вспомнила тут же, что несколько фотографий с Корейцем у меня есть — Мартен нас снимал, кажется, и еще кто-то щелкнул на тусовке одной и вручил снимок, — и я вроде бы знаю даже, где они лежат, в кабинете, но смотреть на них не хочу. По той же самой причине…
И переключилась на экран, а там я лежала, голая, в чулках только и поясе, бесстыдно согнув в колене одну ногу — призывно лежала, ожидая его. И он появился — высокий, широкоплечий, квадратный, со здоровенным своим членом, красным и напряженным и изуродованным буграми и шишками. Оставшимися в память от зоны, где он себе пытался всякие шары вгонять, мечтая, после того как откинется, поражать членом всех баб и трахать их безжалостно, вырывая вопли и мольбы о пощаде, — типичные мечты пацана из глухой провинции, подсевшего в девятнадцать лет на долгий-долгий срок.
И я смотрела, как он закрывает меня сверху своим мощным телом, и слушала естественные сладострастные стоны, и ощущала его сильные руки на себе, стискивающие до боли мою небольшую упругую грудь, и внизу все стало мокрым в один миг, и сползшие туда пальцы начали исследовать эту влагу. А там, в прошлом, слившимся каким-то образом с настоящим, Юджин уже закинул на себя мои ножки, и сидел на коленях, и входил резко и глубоко, и я содрогалась, закатив ослепшие от страсти глаза, судорожно водя руками по груди, массируя набухшие сосочки, и наконец широко расползся в крике рот, и я выгнулась и начала обмякать, и опустила руку вниз и облизала вернувшийся оттуда блестящий палец, и словно сигнал этим подала — и сильные руки на экране перевернули меня, поставив на колени и крепко сжимая мою попку, и все началось заново.
Да, да, хочу! Подскочила на кровати, неудовлетворенная собственными пальцами, такими знающими и умелыми, но не могущими заменить гигантский Корейцев член — и, не отрывая глаз от экрана, схватила на ощупь отточенным движением самый большой вибратор и легла обратно. Обхватив его губами, повторяя экранный минет, и следила жадно, как красный член входит в мой ротик, между ярко-красных пухлых губ, и облизывала черный вибратор, который в этот момент показался мне горячим. И когда Кореец с ревом кончил вдруг, я тоже машинально сглотнула, но не ощутила такого приятного вкуса обильной его спермы. И обиженно ввела вибратор туда, где он мог принести больше пользы, и зажужжали батарейки, а я смотрела, как он снова ставит меня на колени и жирно смазывает специальным кремом член, намереваясь ввести его в мою оттопыренную похотливо попку, — и кончила от одной этой картины, заглушив экранные крики, всегда сопровождавшие такой болезненный и такой сладкий анальный секс.
А дальше я уже не видела толком ничего — потому что обычный вибратор заменила на двойной, с большим отростком для влагалища и чуть поменьше для попки, и мучила им себя, и орала в голос, уверенная, что сзади сейчас Кореец, берущий меня грубо членом, и заодно для полноты ощущений вставивший в меня палец, как бывало. И только вспышка света грубо вырвала меня из полуяви-полусна, но к тому моменту я кончила опять, бог знает в какой по счету раз за это бог знает сколько длившееся время, и упала устало на бок, лицом к распахнувшейся и впустившей свет двери, плохо соображая, что происходит.
— О, прости, Олли! Я не знал…
И вижу неотчетливую, расплывчатую, но постепенно все яснее вырисовывающуюся из застлавшего глаза тумана фигуру Рэя. Одетого, с пистолетом в руке, с немного непонимающими глазами и застывшим лицом, — словно он увидел что-то, недоступное его пониманию и воображению, скажем, приземлившуюся тарелку с зелененькими человечками, и мозг заело, так как не в силах он воспринять происходящее, не говоря уже о том, чтобы обработать и оценить информацию. И он стоял, как человек с отключившейся головой, как робот с перегоревшими микросхемами, а я выползала медленно из фантастического портала, протянувшегося ко мне из такого приятного прошлого. И оказавшись здесь, в настоящем, сказала тихо и хрипло, забыв о том, что прозвучит в голосе похоть:
— Только не говори, что ты думал, что меня убивают…
— Но я так и думал! — выпалил он, приходя в себя, и я улыбнулась слабо:
— Если бы кто-то убил меня таким образом, я бы не возражала. Но от этого не умирают, увы…
И перекатилась на другую сторону, и пошла в ванную, и бросила ему, оглянувшись:
— Можешь осмотреться, если интересно, и спорю на тот миллион, который тебе пообещала, что такого ты нигде не видел…
И услышала, уже скрываясь за занавеской:
— Лучше скажи, что просто не хочешь мне платить…
— Слушай, а кто был тот парень на экране? Можешь не отвечать, если это личное…
— Мой бойфренд, — отвечаю коротко.
— Тот самый, который убил троих киллеров в Нью-Йорке, полез с пистолетом на автоматы? Почему-то я совсем не удивлен…
Ну не объяснять же ему, что в Москве, в спортивном костюме и на грязном огромном джипе Кореец выглядел куда опаснее, и Москва — совсем не Лос-Анджелес, и в московских джунглях выжить посложнее, чем во вьетнамских. Нет, не стоит…
Затягиваюсь вместо ответа, смотрю на него, зная, что глаза мои подернуты еще не ушедшей никуда чувственной поволокой, а на лице выражение томности и довольства, и тело под тонким черным халатом наверняка выглядит сытым и счастливым. Что ж, видит — так видит, что я могу поделать? Я же не звала его, он сам ворвался — и, кажется, ушел чуть ли не сразу после того, как я удалилась в ванную. Думаю, что огляделся быстро и сразу ушел, и я слышала, по-моему, как хлопнула за ним дверь.
А когда вышла — нескоро, через полчаса где-то, отходя в воде после животного совокупления с самой собой и с экранным Корейцем, вдруг явившимся сюда и ушедшим после того, как сделал свое дело, — решила проверить, не спит ли он, отметив, что на попавшихся на пути часах уже начало второго ночи, что значит, что где-то с час я развлекалась сама с собой. Может, стоило просто пойти спать: ноги были как ватные, и все тело и голова плыли слегка, и глаза полузакрыты, — но подумала, что если он не спит, то надо бы переговорить с ним чуть-чуть. В конце концов, голой он меня уже видел не раз, и в сексе с самой собой под порнографическую видеозапись опять же с собой ничего такого я не вижу — и потому стесняться мне нечего, я и раньше не стеснялась этого, в шестнадцать лет, а уж сейчас и подавно. Заодно и посмотрю, ханжа он или нет, и проверю, хочет ли он меня — то, что не получит, неважно, но посмотреть интересно, и в любом случае стоит как-то сгладить ситуацию. Все же разбудила его своими воплями, выдернула из сна, заставив примчаться сюда, готовясь по пути к перестрелке.
Но как, интересно, я могла его разбудить, если закрыла дверь, а комнату звукоизолировали специально по моей просьбе? Или не спалось ему и он ошивался поблизости? Или планировал пробраться ко мне в спальню, вынашивая нескромные планы? Или зря я его подозреваю, и просто слух у него слишком острый, и он слышит даже, как травинки прорастают сквозь землю? Вот сейчас и проверим.
Естественно, он не спал — сидел себе в обжитой им гостиной на первом этаже, смотрел телевизор и курил мою сигару. Я, кстати, против этого не возражала совсем — сама ему предложила, зная, что сигара здесь символ богатства и вкуса, но хорошие сигары, кубинские, немногим доступны. Это они в Москве стоят копейки, а тут цены дай бог: контрабанда же, как-никак, — хотя власти на эту контрабанду закрывают глаза, для них запрет на ввоз товаров с Кубы — решение политическое, но устаревшее и надоевшее давно. Правда, первую сигару он вытащил без спроса, когда пробрался ко мне в дом и сидел в моей спальне, но дальше, когда он согласился на меня работать, я ему сама сказала, чтобы курил, подумав при этом, что он, с его наглой рожей, и так бы их курил. Но, несмотря на всю наглость, денег он с меня пока не просит, даже небольшого аванса не потребовал, и когда я предложила оплатить текущие расходы — аренду машины, взятки администраторам мотелей, бензин и все такое — он отказался, просто махнул рукой.
И вот он сидел себе, все в тех же джинсах и том же свитере, и пил сок — и рядом второй стакан стоял, уже полный, только безо льда, словно он знал, что я появлюсь, только не знал, когда точно.
— Прости, что ворвался, — произнес, глядя в телевизор, от которого оторвал глаза на секунду при моем появлении, тут же убрав их обратно, словно смущаясь смотреть мне в лицо.
— Да ладно, это ты меня прости — подняла посреди ночи и вдобавок шокировала, наверное.
— Да я не спал, бродил по дому, ну и услышал, и рванул на крик. — Ага, вот мы и докопались до истины, почти докопались. Что же не давало ему уснуть, хотела бы я знать?
Тут-то он и спросил про Корейца, и когда помолчали после его слов о том, что он не удивлен, что Кореец мог с тремя вооруженными людьми расправиться в одиночку, я вдруг подумала, что вот и пришел момент поговорить о личном, все равно собиралась, чтобы контакт между нами был покрепче и не только деньги заставляли его защищать меня — впрочем, пока я и не видела, что деньги для него так важны, хотя, возможно, он просто скрывает это. Но он сам прервал тишину:
— Ты, кажется, говорила, что предпочитаешь женщин?
Слава богу, снова наглость к нему вернулась — точнее, видимая наглость, потому что вопрос вполне нормальный. У Лешего всегда была такая вот наглая маска на лице — словно он вызов бросал всем окружающим, и ждал, кто его примет. Где он сейчас, интересно, Леший, — если жив, почему не связался со мной, не сообщил, что с Юджином? А с другой стороны, кто я для него — он же не знает, что я твоя жена, та самая Оля Сергеева, ожившая чудесным образом, только изменившаяся сильно внешне, — я для него просто любовница Корейца.
Вот был бы смех, еще и Леший бы тут объявился и начал требовать бы с меня Корейцеву долю от вложений в фильм — но я ему бы быстро объяснила, кто я такая, да и не знает он, где меня искать, ни адреса, ни телефона. Хотя ему Виктор может сообщить — Леший же не знает, что тот предатель. Кстати, о Викторе: если он не здесь, не с Ленчиком, то это плохо, потому что тогда придется по пути в Мексику заехать в Нью-Йорк, что равноценно тому, как из Москвы ехать в Берлин через Вашингтон. Но эту тварь в живых оставлять нельзя — после Ленчика он второй, кого закопать жизненно необходимо.
— Ты спишь, Олли?
— Да нет, просто расслабилась, — улыбаюсь, чтобы он не видел, что думаю о чем-то серьезном сейчас, и специально настраиваюсь на прежний лад, вспомнив, как все было полчаса назад. — Да, ты прав, я предпочитаю женщин — после него.
Может, не очень корректно звучит — зато поймет, если есть у него мысли в отношении меня, что, кроме Юджина, мне никто не нужен.
— Ну уж раз ты так много про меня знаешь теперь, Рэй, давай и я что-нибудь про тебя узнаю. Постоянная герл-френд имеется?
— Нет, так, время от времени.
Опять молчим, на сей раз он, кажется, задумался о чем-то серьезном и не очень приятном. На лбу у него складка появляется, и сам он весь ссутуливается, старея на глазах.
— Я был женат, знаешь. Целых восемь лет. И дочка была — ей уже двенадцать сейчас, совсем большая. Ты, наверное, заметила, когда я рассказывал про Джима, то сказал, что не люблю семьи, в которых главное деньги, — вырвалось. У меня была такая же семья — когда все шло нормально, меня любили, как только начались проблемы, выяснилось, что я никчемный неудачник, так что я уже пять лет как в разводе…
— Часто видишь дочку, Рэй? — спрашиваю из вежливости: детей у меня не было и тяги к их рождению не испытываю, и поэтому лишь отвлеченно могу понять, что детей хотят и любят, что почему-то считается, что без них нельзя, что они цветы жизни, умиляющие и радующие в молодости и поддерживающие в старости. Как говорила мне моя бабушка, когда я выходила замуж за Лешика, ребенок необходим для того, чтобы семья была счастливой, а вслед за первым надо родить и второго. Я в ужасе была от такой перспективы: я ведь помнила, как мы, я, отец и мать, жили у его родителей в трехкомнатной квартире, в которой кроме нас еще пятеро обитало, до тех пор, пока мне не исполнилось десять. Помнила, как плакала от счастья моя мама, когда отцу наконец дали на работе квартиру — двухкомнатную, маленькую, но — свою.
Я тогда не хотела иметь детей не только
потому, что от Лешика, не только потому, что не хотела плодить нищих, — я искренне боялась, что роды испортят мою фигуру, которой я так гордилась, испортят тело, грудь опадет, и растяжки появятся, и все такое. А вот от тебя готова была родить ребенка, если бы ты захотел — но ты не хотел, ты понимал, что не та еще ситуация, знал, что рискуешь ежедневно, и потому сказал мне незадолго до смерти, когда мы были в Штатах, что со временем, когда мы переберемся сюда, у нас будет двое детей, но возиться с ними будет няня, потому что нам некогда этим заниматься.
И мне так это понравилось — то, что у нас с тобой будут дети, но возиться мне с ними не придется: я ведь до сих пор плохо себе представляю, как можно жить ради ребенка, посвящать ему все свое время, жертвовать чем-то ради него. Кто-то скажет, что я плохая — мне на это плевать, — а на самом деле я просто другая. Я для другого предназначена, для другого рождена. Может, если бы твоя мечта осуществилась, я бы изменилась к тому времени — это были бы твои дети, твои! — но осуществиться ей было не суждено, они погибли, не родившись, вместе с тобой. И я тогда поняла, что и мне не суждено стать матерью — ни-ког-да.
— Рэй, ты меня слышишь?
— Да, извини, задумался. Нет, она живет в Майами, у нее другой отец. По закону жена, бывшая жена, должна хотя бы раз в год, на летние каникулы, скажем, отдавать мне дочь — ей уже двенадцать, кстати, совсем взрослая, — но я понимаю, что не смогу быть с нею рядом с утра до вечера в течение этих двух месяцев. Получается, что я не могу создать ей надлежащие условия — и под этим предлогом жена мне ее не отдает, а я не настаиваю. Я ее видел в последний раз два года назад…
Слава богу, что произносит он это спокойно, без сентиментальной нотки, без слез в голосе.
— Иметь дочь — не лучший вариант, Рэй. Посмотри на меня и увидишь, что получается из хорошеньких маленьких девочек, а я все же не самая скверная…
Он поворачивается ко мне и широко улыбается — на это я и рассчитывала и рада, что все сработало, — но в глазах его вижу немного грусти.
— Это точно, Олли, это точно…
А утром все по-новой началось. В девять подъем, а спать легли почти в три — завершив беседу на его рассказе о семье, потому что хоть он и улыбнулся после моих слов, но чувствовала, что дальше говорить ему не хотелось совсем, и не стала настаивать. И так, видно, случайно задела за живое — и превращение наглого Мэттьюза в печального философа мне не понравилось совсем. Пять лет в разводе, а до сих пор болит, видно. Вот тебе и крутой парень — это я не в упрек, а с пониманием.
Итак, в девять подъем, и полтора часа на сборы, и пара чашек кофе и стакан сока на кухне. Он еще и хлопья съел, а я с утра вообще есть не могу, а тут особенно, потому что чувствовала легкое возбуждение от мыслей о предстоящем дне.
Маршрут прежний — только с утра заехала на студию, к удивлению своему не обнаружив там Боба. Мартен себя в последнее время вообще странно вел — я ему предлагала встретиться и переговорить, потому что мне надо вытаскивать наши пятьдесят миллионов из студии, а он отнекивается, проявляя беспокойство о моем самочувствии, уверяя, что понимает, что мне сейчас не до работы: то ФБР бесчинствует, то Стэйси убивают и приходится давать полиции показания. Вот и решила заехать без предупреждения, зная, что с утра он всегда там, на ланч обычно уезжает в час — а его вообще нет.
Даже в офис свой не стала заходить, просто поболтала немного с секретаршей и поздоровалась с двумя нашими помощниками (в самом начале договорились, что берем минимум персонала до запуска второй картины), и то же впечатление, что вчера от Лос-Анджелеса. Красиво, и вспомнить приятно, и посидеть здесь немного — но все чужое уже, не мое, и такое ощущение, что и я для них чужая и что-то они не договаривают.
А потом снова в Западный Голливуд, и снова магазины — и единственной покупкой стал парик белый, на всякий случай. Жутко непривычно было смотреть на себя с длинными светлыми волосами — ну не жутко длинными, до плеч, но мне, с моим коротким каре, показалось, что длина прямо непозволительная, и цвет чужой, мне совсем не идущий. С трудом верилось, что я когда-то была сероглазой блондинкой — не совсем я, а Оля Сергеева, у которой и лицо было другое. А потом вспомнила, как, выйдя из госпиталя после ранения, подбирала себе парик, чтобы прикрыть короткий ежик волос, оставшийся после операции, и вдруг поняла, что к новому лицу светлые волосы не идут, и черный померила последним, перемерив до него все остальные. Не верилось, что черный мне пойдет, а он оказался в самый раз, равно как и ярко-синие контактные линзы под него оказались в самый раз.
И я за два года так привыкла к парику, что не надевала его только дома, — и не пыталась отращивать собственные волосы, тоже крашенные в черный, оставив под париком постоянно подстригаемый короткий ежик. Парики меняю, это да — и в последний год предпочитаю короткое каре всем остальным, — а волосы отращивать не хочу. И сейчас подумала, что это очень удобно, кстати: если вдруг кто-то заподозрит, например, при пересечении мексиканской границы, что я ношу парик, чтобы в противозаконных целях изменить свою внешность, я всегда могу его снять и показать шрам под ежиком, и все подозрения отпадут.
“Далась тебе эта мексиканская граница — вот в кино ее пересечь ничего не стоит, никаких виз не надо, как и в Канаду, поэтому в фильмах все преступники именно в Мексику и бегут. А может, пограничники с обеих сторон, насмотревшись этих самых фильмов, усилили охрану так, что через нее не то что “бронепоезд не промчится”, а муха даже не пролетит?” Подумала об этом и отмахнулась от тревожных мыслей, и купила парик, и еще флакон духов приобрела в форме голубой неправильной звездочки, “Энджел” от Мюглера, которые у меня к концу подходили, — правда, запах, на мой взгляд, сочетается с поздней осенью и зимой, а весной и летом мне лучше пользоваться духами от Готье, дерзкими и вызывающими. Но коли все равно зашла в парфюмерный, то и покупку сделала — вчера еще думала, но забыла.
И пошла не спеша обратно к машине и, как и вчера, к двум была в мексиканском. И поела с аппетитом, и кофе пила, и аромат его смешивался с сигарным дымком, и я посмотрела на часы и отметила, что три уже, а Ленчика так и нет. Хрен с ним, не сегодня, так завтра, но появится — и решила, что еще минут пятнадцать посижу и уйду, и заказала официанту еще чашку кофе и добавила, чтобы счет принес. И он вернулся и снова ушел с моей кредиткой, и тут-то и состоялось явление Ленчика народу.
Он вошел так быстро вместе с тем отморозком, с которым уже садился за мой стол, что я сразу решила, что они пасли меня здесь. И еще это значило, что Рэй их прощелкал или слишком поздно заметил, чтобы звонить мне и предупреждать. И что, возможно, это показатель его способностей, а может, и нет. И лучше бы верным оказалось последнее предположение.
Я так думала, выдавливая мысли, освобождая голову для той пустоты, которая необходима была для предстоящего разговора, чтобы ничто не помешало инстинктам и рефлексам находить точные ответы, и жесты, и движения лицевых мускулов, и настраивалась, глядя, как он идет ко мне через весь зал, и злоба чувствовалась в нем, словно что-то очень темное ко мне приближалось, готовое захлестнуть меня этой темнотой, подавить и пожрать.
И я смотрела ему в глаза, видя злобу в них и говоря себе, что это хорошо: он неуравновешен сейчас, а неуравновешенный человек себя не контролирует и допускает ошибки. Кореец мне рассказывал когда-то, еще после твоей смерти — специально, видимо, рассказывал, видя, что я внешне спокойна, на людях слез не лью, — что несколько раз разбирался с кавказцами, пользуясь как раз их неуравновешенностью. Те горячие, и особенно молодого вывести из себя парой едких фраз ничего не стоит, особенно такому хитрому и невозмутимому, как Кореец, — и тот уже не видит ничего, кроме якобы оскорбившего его врага, и бездумная слепота в глазах, и при всех лезет на рожон, не слушая своих, оскорбляя в ответ, и тут его и валить можно, и по всем понятиям именно он неправ и оказывается. Не контролирующего себя человека вывести на конфликт просто, и его можно ко всему подтолкнуть, заставить сделать то, что максимально выгодно для тебя и максимально невыгодно для него, — и всем третейским судьям продемонстрировать, что он сам этого хотел. Стреляет тот, кто спокоен и заранее все рассчитал, это и дураку понятно.
И мы с Рэем так все и обговаривали: что я вывожу того из себя, а он уже вмешивается и стреляет. Но не здесь и не сейчас, и, в любом случае, мы хотели взять, по меньшей мере, неделю передышки — если получится.
Все, время!
Они уже оба стоят передо мной, и тот, второй, просто дышит ненавистью, смотрит на меня так, словно думает, что может взглядом убить, — типичный бык, упирающий налитые кровью глаза в тореадора. Хорошее сравнение, потому что тореадор обычно уворачивается и под аплодисменты публики ослепшего от ярости быка убивает — но бывает, что оказывается на рогах, кстати…
— Ну что, попалась, сука, — шипит, чуть ли не брызгая слюной.
— Сядь туда. — Ленчик толкает его к пустующему соседнему столу. — Слышь в натуре — сядь и сиди. Пожри чего-нибудь, а мы тут перетрем пока…
Плюхается напротив, вперяя в меня тяжелый взгляд — у него такие бесцветные, истертые глаза, как у профессиональных убийц в книгах и фильмах. Мятый полиэтилен — в первую нашу встречу такое сравнение мне в голову пришло. А я смотрю в них спокойно, подношу ко рту сигару, понимая, что играть в гляделки с ним — дело нелегкое. И тут весьма кстати возвращается официант с моей кредиткой.
— Пиво, Леонид? — спрашиваю вежливо по-английски. — Я плачу.
Он кивает, и я прошу два пива принести, заказав и на Ленчикова спутника, и мне еще кофе.
— Платишь, значит? — выдавливает наконец. — Щедрая ты, я смотрю, — только заплатить придется подороже, чем за два пива. Пацан тебя прям здесь порвать готов — за то, что корешей его заказала и бегала от нас потом.
— Что касается заказа, так это не моя инициатива, — отвечаю тихо по-русски — бог с ним, раз ему так нравится. — Это частный детектив решил отличиться, которого я наняла для того, чтобы он за вами следил. Он и узнал, где вы живете и кто вы такие. Вот я в последнюю нашу встречу и сказала тебе, кто есть кто в твоей бригаде…
Он ухмыляется в ответ:
— Я его портрет срисовал — еще когда он у мотеля крутился. Докрутился, пидор…
— Вот он и решил инициативу проявить, — перебиваю, чтобы закончить мысль. — Рассчитывал, наверное, что я ему прилично заплачу, а может, пошантажировать меня хотел, сейчас уже не выяснишь — твои люди свое дело знают…
— Ты мне не гони — ты ему и подогнала лавэ, чтобы он пацанов завалил и меня с ними! — шепчет яростно, резко наклонившись ко мне и смахнув со стола свои бумажные шарики, оседающие на пол невиданным здесь снегом.
— А че мне гнать — я за свои слова отвечаю. А что касается того, что я от вас бегала — так это пустой базар. Я сюда, между прочим, третий день прихожу — потому что тогда не могла. Ты не в курсе, случаем, что я девять дней в тюрьме предварительного заключения провела? Что ФБР меня арестовало, решив, что это я заказала Цейтлина, чтоб наследство получить?
— Да не гони!
— А че мне гнать, — повторяю. — Проверь, если есть возможность. Наверное, Берлин твой мог бы узнать — или он не в курсе наших дел?
— Тебя это не еб…т, — отрезает, но видно, что удар мой точно в цель пришелся, он и не подозревал, что я знаю о Берлине и о его с ним контакте.
— А ты не в курсе, что полиция меня допрашивала из-за убийства девушки, которую ты завалил со своими людьми и записку оставил? Ты думаешь, они лохи и купятся на то, что она кому-то должна была пятьдесят лимонов? Ты не в курсе, что они подозревают, что коли мы с ней дружили, то убили ее из-за меня, чтобы меня напугать и чтобы я кому-то там пятьдесят миллионов отдала? И ты думал, что я испугаюсь? Ты не забывай, что у меня мужа убили на глазах, и хоть кого хочешь вали теперь, мне это по барабану!
Официант нас прерывает, ставя кофе передо мной и пиво перед Ленчиком и его бычиной — и вижу, как тот вздрагивает нервно, когда официант перед ним ставит бутылку, и оглядывается, и сверлит меня своими глазками. Может, улыбнуться ему, оскорбить — он бы точно дернулся тут же, и Ленчик бы его не удержал, и самое время было бы Мэттьюзу вступать. Но не здесь же, да и не вижу я Рэя.
— Так вот теперь не исключаю, что и ФБР меня пасет, и полиция — потому что ни те, ни другие мне не верят. И потому и не было меня на встрече — понятно, Леонид?
Пока я себя хорошо веду — четко, спокойно, очень уверенно, без провокаций и резкостей. Конечно, по отношению к вору, наверное, неуважительно и слишком дерзко — но к этому он уже должен был бы привыкнуть.
— Никто тебя не пасет — пургу гонишь. Пацаны за тобой ехали сегодня, все чисто.
Отхлебывает шумно пиво, опустошив за один раз полбутылки, откидывается на стуле, расстегивая верхние пуговицы на рубашке, словно боясь апоплексического удара, нуждаясь в доступе кислорода.
— А ты проверь, Леонид. Через Берлина и проверь…
— Ты кончай Жида трогать — тебе о нем вообще лучше забыть…
Ага, значит, мистер Берлин проходит под погонялой Жид. Впрочем, все равно не у кого узнать, ни кем он был там, в Союзе, ни кто он здесь. Ханли сказал, что это, по данным полиции, мафиозный авторитет, просто не пойманный ни на чем — но, по мнению ФБР, организации куда более высокой, чем полиция, и я являюсь мафиози и убийцей. Так что не исключено, что он просто бизнесмен, хотя и с мафиозным душком. Может, бывший теневик, они же все в СССР с бандитами были завязаны. Бандиты их охраняли, теневики платили — вот такой симбиоз: акула и рыбка-лоцман или птичка тари, чистящая зубы крокодилу.
— Короче, ты моли Бога, что я пацанам не дал до тебя добраться за то, что ты наших завалила, они тебя зубами рвать хотели, я остановить их не успел, как подругу твою на кладбище отправили. Если бы не я, и ты бы уже там была…
И кивает назад машинально, показывая мне, кто это сделал — вот так, потому что в этом мире не принято сообщать чужим, на ком из своих сколько крови. Так что это или случайно — или специально, на тот случай, если я их заложу-таки, чтобы вина за смерть Стэйси легла на другого. Если второе, то, выходит, Ленчик по-крысиному себя ведет, и еще раз показывает мне, что не вор он, а падла. Но хрен с ним, с Ленчиком, — важно, что я знаю, кто убил Стэйси, и если то, что он говорит, правда, то произошло это в его отсутствие, пока он был в Нью-Йорке, откуда потом и послал мне письмо, вылетая.
— А мы в расчете, кажется, — замечаю. — Даже если считать, что твои пацаны на мне, то на вас Яша с женой и охраной, и детектив, и девушка, и Кореец еще. Или он все-таки жив?
— Корейца твоего нет уже — как раз на следующий день после того, как ты нам стрельбу устроила, я отмашку дал. Так что, считай, сама его закопала.
Смотрит на меня испытующе, а у меня внутри замирает все. Врет? Говорит правду? Не верю в пленного Юджина — Ленчик бы мне раньше предоставил доказательства, чтобы сделать меня посговорчивей. Или я слишком резко повела себя вначале? Дорого бы я дала, чтобы узнать правду, кто его, и когда, и как…
— А че ты, я ж тебя предупреждал. Ты ж, чтобы бабки не отдавать, всех была готова закопать — и Корейца, и родителей. Их мы не трогали — пусть живут, — а с корешем твоим разобраться надо было. В следующий раз подумаешь, как правильно с вором себя вести — тут тебе никто впустую не базарит, слов не поняла — получай. Сечешь? Короче, завтра приезжаешь сюда, получаешь список — куда посылать бабки. Витюха тебе передаст — там все продумано, чтобы не лепила потом, что это не могла и то не могла. Все продумано, расписано, все чисто будет — наследство переведешь на счет, который скажем, и еще двадцатку как бы вкладываешь в фирмы разные. Ладно, Витюха объяснит — это он сечет. Специально вызвал человека сюда — а ты бегаешь…
И тут все встает на свои места — что именно Виктор по приказу Ленчика и послал мне то письмо из нью-йоркского аэропорта, а сам Ленчик после расстрела своих людей был здесь, прятался просто. И еще это значит, что Стэйси погибла не в его отсутствие — что именно он и дал приказ ее убить. И никакой Берлин и его люди здесь точно ни при чем — Ленчик сам орудует, своими силами. А значит, справиться с ним нам будет легче…
— Да, слышь — с тебя за то, что наследство получила, надо бы еще поиметь половину. Это ж я тебе подарок сделал, а? Кстати, и с косым я тебе помог — все его бабки теперь твои? Спасибо надо было говорить, а ты понтуешься все…
Смеется. Тихо так смеется, показывая хреновые зубы — мог бы сделать, пидор, денег нет, что ли?
— Ну че? Полтинник был должок, это не нам, а еще пятнашка — нам. Ну?
— Ну, во-первых, не полтинник, а сорок восемь — это раз. Не надо удивляться — тюменцы вложили тогда сорок восемь миллионов ровно. Вот их и получат. А во-вторых, стоимость клуба отсюда надо вычесть — коль скоро вы себе его забрали уже и бабки с него получаете. А насчет наследства — я его не просила, и у меня из-за него проблем хватает…
— Слышь, ты кончай. Полтинник, потому что проценты набежали. А клуб — на братву, на пирожки, мы ж из Нью-Йорка, здесь нам жить где-то надо, и жрать, и все такое. И я тебе в натуре говорю — с тебя половина того, что тебе оставили, и мозги мне не е…и…
Кажется, ему эта идея недавно в голову пришла, и он жутко доволен собой. И еще доволен тем, что я торгуюсь — значит, собираюсь без шума отдавать.
— Раз ФБР меня пасет — не зря девять дней за решеткой держали, еле отпустили, — то стоит мне сейчас куда-нибудь деньги двинуть, как они тут же вычислят, куда, и кому, и зачем Вам же будет проблем больше — и мне заодно, а мне это на хрен не надо, — говорю задумчиво. — Адвокат мой сейчас работает с ними, отмазывает меня — неделю дайте, чтобы все до конца улеглось. Я ж вышла только тридцать первого, и у меня еще подписка о невыезде…
— Тридцать первого? — По напряженному лицу вижу, что он сопоставляет, и выходит у него, что к стрельбе я и вправду не имела отношения. — А села — двадцать третьего? Я проверю — если лепишь…
— Да проверь, не проблема, — подхватываю легко. — Я здесь, и никуда не прячусь, и все отдам, разумеется — только надо неделю, а лучше две переждать, пока они от меня отстанут окончательно. Иначе я отправлю деньги, а они уже будут проверять, что это за контора и кто в ней работает, и так проверят, что все всплывет…
— Хочешь наеб…ть меня? Две недели! Ты мне с января мозги еб…шь! Ладно, я подумаю. Но завтра чтоб была здесь в два часа! Поняла?!
Я киваю согласно — вот я какая покорная, Ленчик, цени. И он оценивает, удовлетворенно осклабившись. А я ловлю себя на том, что выставляю ему только отрицательные оценки — и глаза бесцветные, полиэтиленовые, и зубы плохие, и запах изо рта, и склабится он, а не улыбается. Наверное, вполне естественное восприятие — он ведь для меня олицетворяет зло, а у отрицательных персонажей все отрицательное, а положительные красивы, хорошо одеты, и благоухают, и все из себя, короче. И задумываюсь, что покойный Ханли, в принципе, выглядел не лучше — Ленчик, может, даже поприятней. Все-таки примитивен человек, предпочитая мыслить шаблонами и видеть перед собой лубки — и я, увы, в данном случае не исключение. Хотя если честно, они и вправду убоги. И доказываю себе, что все же я объективна, вспоминая что Серега Хохол, организовавший твое убийство, внешне был приятный, холеный такой, типичный барин начала века, с барскими же замашками… Господи, о чем я думаю?!
— И последнее, Леонид… — спрашиваю я вдруг, когда он этого совсем не ждет, празднуя победу, не понимая, что разговор наш, если слушать со стороны, идиотский, потому что я не реагирую совсем на его слова о смерти Корейца и вообще чересчур спокойна для человека в моем положении. Я вот это понимаю и вижу, что сыграла не слишком хорошо — надо бы его побольше расслабить, страх показать, но гордыня обуяла. Ладно, дай бог, чтобы он и вправду верил, что все по плану идет. — И последнее. Вот я вам отдаю деньги — где гарантия, что вы потом не завалите меня?
— Ты бабки отдай — гарантии ей!
— Короче — список твоей бригады с точным указанием всех фамилий и имен, фотографии ваши, письмо из Нью-Йорка, записи наших разговоров, в которых ты Яшу на себя брал и Корейца, — всё у меня. И я всё отдаю адвокату с пометкой, что, если что-то со мной случится, отправить это в ФБР. Не хочется, конечно, рисковать, адвокаты — люди стремные, глядишь, вскроет из любопытства в мое отсутствие — но я рискну, у меня другого выхода нет.
— Ты на понт меня не бери! И с адвокатом не суетись!
Не нравятся тебе мои слова — и это хорошо, что не нравятся.
— Я на понт не беру, я предупреждаю, а не то пехота твоя дерганая очень…
— Это Серый — пехота? — кивает назад, и такое выражение на лице, словно я сморозила откровенную глупость, и чуть повышает тон, чтобы тот услышал, видимо. — Ты базар фильтруй, пока башку не открутили. Серый в авторитете, второй после меня…
— Быковат твой авторитет, — отрезаю тоже громко, видя, как тот напрягается и начинает поворачиваться к нам, краснея толстой шеей, но Ленчик, развернувшись быстрее, успокаивающе кладет руку ему на плечо. — И еще: нам посредник нужен, который будет в курсе и увидит, что я сделала то, что должна, и чтобы потом на меня никто не наезжал. Потому что есть у меня сомнения: тюменца киллер завалил и где гарантия, что бабки, что я отдам, уйдут в Тюмень, а не останутся в Штатах? И что меня не завалят, чтобы потом сказать, что я так ничего и не вернула? А мне такое не нравится, мне свидетель нужен.
— Какой на хрен свидетель? — Он так взрывается, и я понимаю, что попала в цель. Значит, ты и меня убить хотел, паскуда, — отдавать тюменцам ничего не собирался. На хрен тебе пятьдесят миллионов, Ленчик, — тебе, как Балаганову, надо максимум пятьсот рублей, вот предел мечтаний, а с таким количеством миллионов ты же не знаешь, что делать.
— Ну разводящий, если по-русски. Тот, кто разведет нас. Или ваш Берлин. Или представитель тюменцев — там был еще один, который меня видел в Москве…
— Да его нет уже — кончили пидора за то, что нормальных людей втянул в сделку…
Ленчик даже не понимает, какую ценную вещь сказал: что нет еще одного свидетеля, видевшего меня с Крониным. Не знаю, понадобится ли мне это, но это хорошо в любом случае. И опускаю глаза на опустевшую чашку и пальцем стираю бледный след помады со стенки, в который раз отмечая, что производители стойкой помады не врут: помада сама яркая, а отпечатков практически не оставляет, разве что почти незаметные тусклые пятна.
— Значит, или Берлин, или…
— Да не буду я тебя трогать — ты бабки отдай!
— Ты все же подумай, Леонид, — советую ему. — Подумай. И так деньги отдаю гигантские и рисковать жизнью я не хочу. Я молодая, красивая, мне жить хочется — бабки забирайте, а меня оставьте. Так что адвокату завтра все отдам, а с разводящим думать надо…
— Да ты не суетись с адвокатом, я тебе сказал! А с остальным подумаем, завтра в два тут — и чтоб была!
И он уходит, и бычину уводит за собой, и тот оборачивается пару раз на меня с таким выражением, что все понятно. Неужели Ленчик не понимает, что одного такого взгляда хватит для того, чтобы я ему не поверила?
И я приехала домой вся такая окрыленная тем, что наконец состоялась встреча, и тем, что поговорила как надо — может, зря только не изобразила испуг, зря не проявила деланное раболепие и покорность, чтобы потом точно его взорвать отказом. Может, зря бычину провоцировала. Может, зря так настойчиво просила пригласить Берлина, но, с другой стороны, почти уверена, что он не в курсе ситуации. Или же он настолько выше Ленчика по положению здесь, что тот его впутывать просто боится. Но у меня еще будет время это узнать, завтра, например, ибо не сомневаюсь, что Ленчик наверняка приедет, не оставит меня один на один с Виктором. Заодно спрошу, просто забыла сегодня, каким образом они убрали Стэйси — чтобы проверить, не Берлина ли люди постарались, хоть и маловероятно это.
И уже после ванной, в которой просидела с час, спохватилась, где этот чертов Мэттьюз? Мало того что он не предупредил меня о появлении Ленчика — может, я такой человек, которому необходимо время, чтобы настроиться и собраться, мало того что его не оказалось рядом — а ведь, в принципе, я могла их элементарно вывести из себя, бычину точно, он и так красный был весь после моих слов; могла бы выйти сразу вслед за ними из ресторана и брякнуть что-нибудь еще уже на улице — и вот он момент, если только там их остальные пятеро не ждали, и Виктор с ними — так он еще мне и не звонит вдобавок — хотя должен знать, что я уже дома, даже если он следит за ними сейчас — неужели не может мне позвонить? И я тут же набрала ему сама, и мне сообщил любезный оператор, что связи с абонентом нет. Отключил? Или просто свалил, все обдумав?
Да нет, не должен, не похож он на человека, который сначала подписывается на дело, а потом в какой-то момент трезво все оценивает и сваливает. Или я напугала-таки его окончательно своими рассказами о том, как зарезала кого-то, и он решил, что быть заодно со мной опасно? Или увидел, что у Ленчика не семь человек, а семнадцать — что вполне возможно, хотя вряд ли бы все они подъехали к ресторану, — и понял, что шансов нет?
И тут еще одна мысль пришла в голову: что я ни разу не подумала о том, что Мэттьюз мне предлагал спровоцировать Ленчиковых людей, вывести их на конфликт, чтобы он их потом перестрелял, и я кивала, плохо все это себе представляя, и даже не задумалась, что ведь буду при этом присутствовать. И, соответственно, если все получится, вместе с Мэттьюзом заметут и меня. И его, конечно, отпустят после того, как он скажет, что эти люди напали на его клиентку и он был вынужден стрелять — и меня, разумеется, отпустят, но с учетом моей репутации в ФБР этого хватит, чтобы взять меня снова. И уже на следующий день, если не в этот, последует допрос с выяснением, кто и почему пытался меня убить — это точно, — а раз кто-то пытался меня убить и выясняется, что это русские из Нью-Йорка, то отсюда вывод, что расстрел других русских из Нью-Йорка в конце января организован был мной. И неважно, что я сидела в это время — Крайтону это по фигу, он горазд предположить, что я прямо из тюрьмы всем руководила.
Рэй, правда, сказал, что все возьмет на себя — скажет, что ему угрожали, мол, по телефону, напали на него, и он вынужден был защищаться. Но нападать-то они будут на меня, и что же я, просто скроюсь, оставив его разбираться, и никто ничего не увидит, свидетелей не окажется? Что-то не нравится мне такой план, в котором и так много прорех.
И я сварила себе кофе, отмечая что нашла не лучшую замену спиртному, потому что от такого количества кофеина в организме сердце запросто может остановиться, даже здоровое мое. И пила задумчиво, чувствуя, как уплывает мое хорошее настроение — даже улетает, потому что поведение Мэттьюза мне совсем непонятно и в плане я нашла серьезный изъян: когда рядом со мной начнут убивать людей, Крайтон будет только счастлив.
Ну где же этот Мэттьюз, мать его?! И где, кстати, Дик, о котором я забыла и которому на протяжении последних суток, кажется, не напоминала о своем существовании. И я села на телефон, чтобы отвлечься от грустных дум, — и Мартен, которому набрала первым, извинялся, что на студии его не оказалось в момент моего визита, и договорились завтра встретиться, и Дика, как выяснилось, он так и не нашел и просил, чтобы я не волновалась, потому что такое бывало уже, когда он пропадал надолго по своим важным делам. Но что, в принципе, он может дать мне телефон его офиса в Вашингтоне, где конгрессмены большую часть времени и проводят — и, возможно, там я и найду его.
Найдешь его, как же! Опять секретарша, и сто вопросов по поводу того, кто и зачем, и, судя по голосу, классическая такая секретарша — страшная старая дева, преданная своему боссу, у которой нет ничего в жизни, кроме работы и кота дома, и которая дотошна настолько, что из любого вытянет душу. Телефон записала — хотя мой мобильный у него и так был, — но наотрез отказалась сообщить, когда же перезвонит мне многоуважаемый мистер Стэнтон.
И я вздрогнула, когда через пять минут звякнул мобильный, — сначала решила, что это Мэттьюз наконец, но звонил другой, старый, и я уже готовилась произнести со счастливой улыбкой “Привет, Дик”, когда услышала слова “Привет, Олли”, произнесенные голосом Эда. Сообщил мне, что у него две новости, хорошая и плохая — хорошо, что “плохая”, а не "очень плохая”, — и какую я бы желала услышать первой? Ну и начали с хорошей, естественно, в надежде, что она затмит плохую, — и новость эта заключалась в том, что все документы от Яшиного адвоката Эд получил и готов их мне привезти, и как только я их подписываю, отсылаю обратно и они приходят в Нью-Йорк, я автоматически становлюсь владелицей Яшиных денег. А плохая новость — что помощник Крайтона сообщил ему, что ФБР желает продлить срок моей подписки о невыезде еще на месяц, до первого апреля. И что он, Эд, считает, что коли я так и не решилась подавать на них в суд, то мне лучше подписать все — я ведь все равно никуда не собираюсь, а значит, это не принципиально, зато потом, когда я решусь наконец, продление подписки можно будет истолковать как еще одно издевательство ФБР над порядочным, законопослушным гражданином.
И я предложила встретиться в городе, не хотела, чтобы Эд видел Мэттьюза, если тот появится, и уехала через полчаса и домой вернулась уже к восьми, просидев с Эдом пару часов в ресторане. Дел-то было — подписать бумагу для ФБР, им уже полученную, и бумаги из Нью-Йорка, и выслушать короткую лекцию по поводу того, что такое наследство и какой налог с него берут. Но он был, как всегда, словоохотлив, а мне домой ехать не хотелось, потому что настроение было хуже не придумаешь, потому что рушился стройный план, и что-то явно не додумал Мэттьюз, и продление подписки означало, что в случае успеха мне все-таки придется отсюда бежать как самому настоящему преступнику. И если даже завтра Ленчик даст мне отсрочку еще на пятнадцать дней, это ничего не изменит: через пятнадцать дней, пятнадцатого марта, я пошлю его подальше, а затем все будет происходить очень быстро и уже через неделю либо нас с Мэттьюзом не станет, либо Ленчика с его бандой.
Господи, как мне нужен Дик! И Мэттьюз тоже…
Но телефоны молчали, оба, и я поехала домой, не торопясь, зная, что сейчас мне никто угрожать не должен, — и думала про себя, что судьба вечно сует меня мордой в грязь. Начала жить с тобой, год всего прожила — и тебя не стало. Пришел по мою душу киллер, появление которого я встретила с радостью, потому что не хотела жить, хотя и переехала его, чтобы не стыдно было на том свете встретиться с тобой, — так меня с того света вытащили. Сделали с Корейцем такое важное дело, отомстили за тебя, обосновались здесь — и через год убивают Яшу и Кореец уезжает и не возвращается уже, и у меня проблемы. Нахожу киллера и радуюсь, несмотря на то что оказываюсь в тюрьме, — и он делает не то, что требовалось. Нахожу Мэттьюза, изобретающего свой план, в который я поверила, — и вдруг план оказывается прогрызенным мышами манускриптом, который, может, и ценен был, но при пристальном рассмотрении выясняется, что в нем не прочесть ничего. Может, в этом и заключается моя судьба — в вечных испытаниях?
А уже въехав на территорию собственного особняка, вдруг вижу конверт в почтовом ящике. И уже не жду от него хорошего, и не нахожу дома Мэттьюза, хотя признаюсь, рассчитывала на то, что он здесь уже, — и с таким трудом подавляю желание дойти до сексуальной комнаты и налить себе порцию виски, которое снимет сейчас мою разбитость, что, кажется, все силы на это уходят. Так что даже в кабинет не иду — просто надрываю конверт и внимательно изучаю содержимое, которое, как я и ожидала, радости мне не приносит, добавляя лишь неприятных воспоминаний. Из риэлтерского агентства письмо, о том, что закончился срок аренды принадлежащей мистеру Кану студии в Беверли-Хиллз и она в настоящий момент свободна — и с появлением нового арендатора агентство свяжется с мистером Каном, дабы обсудить условия нового договора.
Вот дела — я и забыла, что студию свою он так и не продал, когда переехал ко мне. И точно — вспоминаю, как сама посоветовала ему ее не продавать, все-таки я не замуж за него согласилась выйти, просто сказала, что согласна жить вместе, и как-то хотелось подчеркнуть, что у меня — свой дом, а у него — своя студия, просто на всякий случай. Естественно, я и не думала тогда, что мы с ним поругаемся и расстанемся, — да и в этом случае он мог бы тут же купить себе новое жилье, — но хотелось, чтобы хотя бы внешне мы были не семьей, но любовниками. А там мало ли — захочется ему с кем-нибудь переспать тайком от меня, пусть и везет к себе. Или мне захочется пожить одной… Я тогда не до конца понимала Оливию Лански, еще не привыкла к ней полностью и продолжала ее изучать. Потому что новая внешность естественно привела за собой новые черты характера, проявив во мне прежней то, о чем я и не догадывалась раньше, или прятала, или давила — жесткость, например, резкость, властность и все такое.
Он согласился, тем более что и у него и у меня еще одна причина была отказаться от продажи: он же купил ту самую студию, в которой я жила после того, как вышла из больницы, в которой мы с ним начали познавать друг друга, в сексе, естественно, и в другом тоже. Сексом мы с ним в первый раз занимались в той шикарной гостинице, куда он меня привез после выписки, — но это всего одна ночь была, а в той квартире, снятой на следующий день, и прошел наш, если можно так выразиться, медовый месяц.
Господи, сколько всего я там испытала: возвращение к жизни, и страстные животные совокупления, которых раньше у меня не было, и привыкание к новой внешности, и создание нового имиджа. Там я позировала часами перед зеркалом в непривычном черном парике и ярко-синих линзах и часами рассматривала себя в неизвестно почему понравившихся мне кожаных нарядах, которые с тех пор только и ношу, за исключением ответственных мероприятий, требующих вечернего платья. Там я часами лежала под Корейцем, и сидела на нем, и стояла перед ним на коленях — и именно там он часами без устали вгонял в меня огромный член, заливая спермой.
Да, памятное место — и мы решили эту студию не продавать, а потом вдруг я, забыв о том, что хотела сохранить ее как плацдарм для возможного, пусть и ничтожно маловероятного Корейцева отступления, предложила ее сдать. Видно, сочла себя этакой типичной американкой, деловитой до ужаса, которая не хочет, чтобы пропадали копейки, даже когда в кармане миллионы, — и позвонили в риэлтерское агентство, где-то в конце лета. Мы ведь начали жить вместе в мой день рождения, тринадцатого июля (и до этого Кореец почти жил у меня, но именно “почти”, потому что я его выставляла периодически), значит, не раньше конца августа позвонили, когда я поняла, что, естественно, никакой плацдарм ему не нужен, и сдали ее почти сразу, и тысяча в месяц нам капала на один из счетов. На полгода сдали, а сейчас конец февраля. Значит, все правильно.
И воспоминания нахлынули сами собой — и о том, как начинали жить вместе, когда я выписалась, и ездили по магазинам, и на пляжи, и на дискотеки, и сексом занимались безудержно, и о том, как вернулись после операции “Кронин”, как начали снимать кино, как все здорово было и я была счастлива — не так, как с тобой, не больше и не меньше, просто по-другому, потому что я уже была не совсем я. И разные мелочи вспоминались, тревожащие куда больше, чем общие отвлеченные картины, — и я спохватилась, только когда почувствовала, что слезы в глазах.
— Ну давай поплачем еще, мисс Лански! — издевательски произнесла вслух, но издевка не сработала, не одернула, не пристыдила. И я грустно сказала себе, что мне очень хорошо было с ним, очень-очень — так, как не будет ни с кем. Да, я помню, что это говорила уже — про тебя, после твоей смерти, — но это неважно. С тобой мы прожили год, с Корейцем — более полутора, и это тоже о многом говорит. И хотя я знала всегда, что он в меня влюблен, хочет на мне жениться, а я не хочу за него замуж и считала, что после тебя никакой любви ни к кому у меня просто не может быть, потому что я не любила никого до тебя и никого уже не могла любить после, — сейчас сказала себе, что, наверное, все-таки это была любовь. Более зрелая, чем к тебе: ведь с тобой я девятнадцатилетней девчонкой была, начавшей жить с человеком, почти вдвое ее старше, и я была никто, а ты известный человек, я смотрела на тебя как на полубога или даже не “полу”, и я училась у тебя всему и перенимала твои привычки, и каждый день каждое твое слово открывали для меня абсолютно новый, неведомый мне мир. А когда начали жить — сожительствовать, точнее — с Корейцем, я была двадцатилетней по паспорту, но по жизненному опыту лет мне было гораздо больше, и я видела уже много, и прошла через потерю самого близкого человека и собственную смерть, и изучила тот мир, который ты мне открыл, — и Юджин меня ничем удивить не мог. И для меня он был не полубог, а близкий человек, любовник и партнер одновременно. И мне, новой, именно такой он и подходил.
И так потрясло меня это открытие: были, хотя я это и отрицала, во мне чувства к нему, не просто привычка, не просто похоть, но настоящие чувства, — что ни о каком контроле над собой я не думала уже. И только когда ощутила, как что-то капнуло на руку, поняла, что происходит, и спросила себя, когда плакала в последний раз, — и ответила, что, кажется, в тот день, когда убила Павла. Но то были слезы радости и облегчения и истерика одновременно, потому что, бесспорно, в первый раз осознать, что убил, нелегко, не убить, а именно осознать. Поэтому те слезы не в счет, — а значит, плакала я по-настоящему в последний раз в тот год после твоей смерти. И то, что после такого долгого перерыва я плачу теперь, — это говорит о многом…
Глава 3
— Что случилось, Олли?
Я слышала его шаги, но не подняла голову, так и сидела в темноте в гостиной на первом этаже, курила и вспоминала — и, заслышав шаги, не шевельнулась, зная, кто это, но не радуясь его появлению, потому что не до него мне было. И когда он зажег свет, произнесла тихо:
— Все в порядке…
И удивилась, как он тактично включил торшер в углу, убрав такое яркое центральное освещение, и сел напротив, и я слышала, как щелкает обрезалка, почему-то подумав, что ею вполне можно делать обрезание мужчинам — смазал нож гильотинки спиртом, оттянул крайнюю плоть — и готово. Организм мне, видно, идею шепнул, пытаясь развеселить — но смешно не было. И не хотелось показывать ему слезы, и вытирать их при нем, и я ждала, пока они высохнут сами и тогда уже я смогу на него посмотреть — и только потом спохватилась, что косметика наверняка поплыла. Бросила ему, что сейчас приду и не мог бы он кофе сварить, и вышла, чуть отворачиваясь, и привела себя в порядок. А когда вернулась, кофе уже стоял на столе, кривой, футуристический такой треугольный кофейник, который я купила, едва его увидев, и маленькие черные чашки — все красиво так расставлено, что я сразу оценила, хотя и без эмоций ввиду состояния.
— Ты думаешь, что с твоим бойфрендом что-то произошло?
Я даже не сразу поняла вопрос, а потом удивилась, почему он его задал, и только потом поняла, что бумагу от риэлтеров оставила на столе, и он прочитал, конечно, думая, что это от кого-то другого, и сделал вывод.
— Боюсь, что да, Рэй. Он уехал в конце ноября, после того, что случилось в Нью-Йорке. Обещал вернуться к Рождеству — а уже первое марта завтра. Он предвидел, что ФБР может поставить телефон на прослушивание и потому сказал, что звонить не будет. Но обещал связаться по факсу — и так и не связался, да к тому же я сменила номер в январе, поняв, что ждать нечего. Эти подонки утверждали, что он у них, но не смогли предъявить доказательства — я бы заплатила им столько, сколько они просят. А сегодня сказали мне, что убили его — на следующий день после того, как их обстрелял Джо, этот чертов киллер-неудачник, они позвонили в Москву и дали сигнал. Я им не верю, но…
— Они могли его убить? Я так понял, что он крутой парень — и ты думаешь, что у них была возможность устранить его? Если хочешь, можешь не отвечать.
— Да нет, все в порядке — ты и так про меня уже знаешь слишком много. Он и вправду крутой парень — но он больше года не был в Москве, жил тут, расслабился со мной, а там совсем другая жизнь, там, как в джунглях, опасность на каждом шагу. Тем более что те люди, на которых работают эти подонки, преследующие меня, — у них есть деньги, очень большие деньги, и, значит, они могут нанять кого угодно и расправиться с самым крутым человеком. Как говорил мой муж — если захотят убить, то все равно убьют…
— Он был твой муж, этот Юджин? — спрашивает со странной интонацией. — Я не знал…
О, господи, ну кто тянет меня за язык? Впрочем, какая разница: оттого, что он узнает чуть больше, чем знает сейчас, ничего не изменится. Он и так уже знает то, за что меня можно посадить на гигантский срок — про киллера, например, и кто именно этот киллер. Так что разницы нет, да и настроение такое, что от слов становится чуть-чуть легче, потому что вытягивают они грустные мысли, и мысли эти, озвучившись и обретя материальность, летают и падают на пол, и лежат там, тая, — или рассеиваются, как сигарный дым, повисев сначала в воздухе густой пеленой.
— Да нет, он был самый близкий друг моего мужа. А моего мужа убили — уже давно, три года назад, в Москве, и меня чуть не убили через год. А он меня спас, привез сюда, он меня любил, Юджин, хотел, чтобы я вышла за него замуж, а теперь и его нет…
Прерываюсь, чтобы слегка прокашляться. У меня всегда так: где люди, не стесняющиеся эмоций, могут прослезиться, я эмоции сдерживаю и намеренно понижаю голос, и он становится хриплым, застревает в горле.
— …Понимаешь, Рэй, — те деньги, которые они с меня просят, они ведь, по сути, не мои, и я бы отдала их, чтобы не осложнять себе жизнь, мне самой много не надо, я и дом-то этот купила только потому, что это когда-то планировал сделать мой муж. Но это уже вопрос принципа — я должна отомстить, понимаешь? Ты очень иронично отнесся к моей просьбе насчет оружия — но если ты думаешь, что я просто вздорная богатая девица, способная только болтать, то ты ошибаешься. Когда через год после смерти мужа за мной пришел киллер — тоже, кстати, из-за тех денег, о которых мы сейчас говорим, — я сбила его машиной, но он успел выстрелить и отправил меня в реанимацию. И за мужа я отомстила — очень жестоко. И сейчас я отомщу, чего бы мне это не стоило — с твоей помощью или сама. Деньги я им все равно не отдам, смерть меня не пугает — но отомстить я должна.
И добавила неожиданно:
— Вот видишь, ты теперь про меня знаешь еще больше, и если тебе не нравится то, что ты
знаешь, — ты можешь уйти, ты ведь мне ничем не обязан. Я так понимаю, что ты, видимо, тоже бывший полицейский, как и Ханли, и ты законопослушен, потому что отказался от моего предложения найти киллера, — и, наверное, тебе не очень приятно связываться с такой, как я, женой покойного мафиози, любовницей тоже, видимо, покойного мафиози, и я сама уже могу считаться мафиози, по крайней мере таковой меня считает ФБР…
— Слушай, а почему ты все время выбираешь себе в мужья и любовники русских? — спрашивает он вдруг. — Тебе американцев мало?
И по тону чувствую, что он пытается как-то отвлечь меня, развеселить. Но разве он еще не понял?
— Так я же русская, Рэй, — или ты решил, что я китаянка..
И он замолкает недоуменно, а я уверена была, что он давно уже в курсе, и я молчу, и кофе остыл уже, и только хорошо, что сигара толстая и длинная — заменяет стакан, четки, все что угодно, потому что руки заняты и вроде при деле, и вкусно к тому же. И смотрю на него не прямо, исподлобья так, и такое ощущение, что он несколько потрясен услышанным, не додумался, видно, по какой-то причине или не пытался над этим думать, и сейчас у него в голове или перед глазами выстраивается все в длинную цепочку, в которой нет пропущенных звеньев. И говорю себе, что если он решил свалить — то Бог ему судья, он неплохой парень, Рэй, но я все же не знаю, кто он, каков он и можно ли положиться на него, и, в конце концов, право решать принадлежит ему. Потому что тут, возможно, жизнь его на кону — не “возможно”, а точно, это он должен понимать прекрасно, и вопрос, готов ли он ее на кон поставить.
— Знаешь, я тоже должен про себя рассказать — чтобы было честно, — произносит он минут через двадцать, наверное, и так серьезно произносит, что я чувствую, что он не любит обсуждать эту тему и ему тяжело об этом говорить. В Америке откровенность не в ходу, душевные порывы не в чести, ими оттолкнуть можно кого хочешь, собеседник сразу решит, что ты на него переваливаешь свои проблемы, и напомнит тебе об этом. Но раз уж он начал, не останавливать же его.
— Ты права насчет полиции — я действительно там служил. Ну, не совсем там — в специальном полицейском подразделении, которое используется в экстремальных ситуациях. Мне всегда нравилось играть в войну — а там случалась самая настоящая война. Жену, конечно, моя работа немного пугала, но она гордилась мной, а я быстро продвигался по службе, стал офицером. А в ходе памятных лос-анджелесских событий — помнишь, когда четверо полицейских избили негра, и начался самый настоящий негритянский бунт? — я даже получил награду и самые блестящие перспективы.
А потом… потом я собственноручно спустил свою карьеру в унитаз. Это пять лет назад было: нас вызвали, чтобы освободить заложников, захваченных в супермаркете какими-то уродами. Эти ублюдки захватили порядка сотни человек — и потребовали прислать им прессу и телевидение для политического заявления, хотя дураку было ясно, что потом они потребуют кучу денег, и автобус, и безопасный проезд, и все прочее. Ты же знаешь, в Америке вообще много уродов, разных там сект, тайных обществ, и маньяков, и просто больных — вот и эти были такие, да еще и вооруженные до зубов, а все эти политические заявления они хотели сделать просто для отвода глаз. Но всем командовало ФБР, твой друг Крайтон, и он отказался дать им возможность побеседовать с телевидением, он хотел показать, как мастерски он борется с преступностью, — и решил, что если начнет им угрожать, кричать, что они окружены, и предложит сдаться, то они тут же струсят и поднимут руки. Откуда ему знать, как бывает в таких ситуациях — он же, кроме карандаша, никакого оружия в руках не держал.
Замолкает, вспоминая, кажется вызывая перед глазами ту картину, разделившую его жизнь на “до” и “после”, и я молча смотрю на него и слышу в севшем его голосе горечь.
— Я был совсем недалеко от входа, сидел со своими ребятами в укрытии, за машинами. И вдруг увидел, как кто-то выталкивает на улицу двоих заложников, женщину и девочку, примерно того же возраста, что моя жена и дочь, они даже внешне были похожи, или мне так показалось. Они вытолкнули их, а потом выпустили несколько очередей им в спины, превратив в нашпигованное свинцом кровавое мясо. И Крайтон тут же начал орать в мегафон, чтобы больше никого не трогали и что он сейчас пришлет им телевизионщиков, и нам дали команду, чтобы мы все оставались на своих местах. А я смотрел на женщину с девочкой — знаешь, они лежали совсем рядом со мной, все в крови. Я видел много крови — такая работа, — но как-то не мог осознать, за что так бессмысленно они погибли. Я понимаю, что бывают автокатастрофы, падают самолеты, но это не от нас зависит. А тут супермаркет, все тихо и мирно, да еще и посреди бела дня — и к тому же молодая женщина с маленьким ребенком.
Ну а дальше я пробрался в супермаркет через пожарный выход, и устроил бойню — убил всех, по одному и по двое, и ни один заложник не пострадал. Этих было семеро, в том числе две женщины, я точно видел, что одна из них стреляла в спину девочке и ее матери — и почему я должен был жалеть убийц, если они не пожалели своих жертв? Они разбрелись по магазину, и я сначала убил одного, потом еще двоих, они уже забыли о заложниках и стали охотиться за мной: наверно, думали, что я один из этих самых заложников. И когда их осталось четверо, я встал из-за прилавка и расстрелял их в упор. Я точно не знал, сколько их всего, и мне, в принципе, было все равно, что будет со мной, — я просто хотел наказать этих ублюдков.
Заложники кинулись на улицу, а я, поняв, что все кончилось, подошел к этим, двое еще дышали, мужчина и женщина — по-моему, та самая, которая стреляла в мать и дочь. И я подошел, и смотрел на них, и думал, какой же жалкий и испуганный у них вид — какие смелые они были полчаса назад, убивая безоружных, и какие жалкие твари они сейчас. И не сдержался и нажал на спуск…
— И что, Рэй? — прерываю тишину, зная что все равно он должен выговориться до конца, завершить исповедь.
— И все, Олли. У магазина к тому времени собралась куча журналистов и телевизионщиков, и когда один из освобожденных заложников рассказал, что их спаситель дострелил раненых террористов, и это пошло в прямой эфир, вышел настоящий скандал. Часть газет и телеканалов требовала меня осудить, часть называла героем, но это была меньшая часть. И меня все же не посадили — хотя до этого чуть не дошло, зато уволили за превышение полномочий и неправомерное применение оружия. И я был в шоке — я был наивный мальчишка до того момента, я верил в справедливость и в то, что зло надо наказывать, — и начал пить, особенно после того, как вскоре после увольнения от меня ушла жена. Сочла меня зверем и неудачником — и никак не могла понять, когда я пытался объяснить ей, почему я это сделал.
Знаешь, для меня работа была всем — я, в общем-то, жил ею, можно сказать, а тут пустота, и жена ушла, забрав ребенка. Ребята, правда, позванивали иногда, звали выпить пива, но все реже — я напивался, начинал ругать начальство, в общем, вел себя как неудачник, а неудачников никто не любит. Пытался найти работу, но в охранные агентства меня не брали — объясняли вежливо, что репутация моя им не подходит. Подрабатывал вышибалой, потом одна частная фирма пригласила телохранителем к своему боссу — хорошо еще, что до суда тогда не дошло, могли ведь лишить права работать в охранных структурах и брать в руки оружие, — но я там пробыл недолго. Так вот и жил — нанимался в телохранители, в частные детективы, а через пару месяцев уходил и опять пил. Были перспективы, но мне все уже было безразлично, так что довольствовался скромными доходами. А два с половиной года назад меня разыскал Джим, предложил работать вместе, вложив деньги в новое агентство, — и это звучало заманчиво, звучало как перспектива сменить статус неудачника на статус удачника. И я согласился, хотя вскоре стало ясно, что рано или поздно мы развалимся. А дальше ты все знаешь…
А я слушала и думала, что Америка с ее демократией — страна, мягко говоря, странная. Тут суды оправдывают виновных богатых и сажают невиновных бедных, тут можно совершать кучу преступлений, но сесть за неуплату налогов, тут можно освободить заложников, а тебя осудят за то, что ты застрелил террористов, потому что должен был вести с ними переговоры. Я раньше много таких сюжетов в кино видела — но им не верила, — а уже здесь убедилась в том, что это чистая правда, что в Америке такой же бардак, как в нынешней России, — только живут богато, и люди другие, и в этом вся разница.
— Так что я с тобой, Олли, — вдруг заключил он, совершенно для меня неожиданно, потому что говорили вроде о другом. — И не только потому, что мне надо отомстить за Ханли — выходит, что он сам виноват в собственной смерти, хотя я все равно обязан за него заплатить. Не только потому, что ты мне нравишься и я знаю теперь, кто ты — я ведь и вправду подумал сначала, что ты взбалмошная девица, подцепившая себе любовника или мужа-миллионера и вляпавшаяся в какую-то историю. И ты правильно сказала, что я законопослушен — ни за какие деньги я бы не стал нанимать киллера, или выслеживать их и стрелять из-за угла, или минировать их машины. Но я — с тобой…
— Но ты так и не объяснил — почему?
— Почему? Потому что ты дала мне шанс выбраться из того дерьма, в котором я жил последние пять лет. Шанс отомстить за Ханли и спасти тебя. И шанс заработать — и навсегда уехать отсюда и больше сюда не возвращаться. Деньги не главное — мне много не надо, — но сменить обстановку и начать новую жизнь я бы хотел. Главное — что ты дала мне шанс снова поиграть в настоящую войну, шанс после долгого перерыва почувствовать себя победителем — мне очень не хватало все пять лет этого чувства…
Мы долго еще сидели в ту ночь — часов до трех, наверное. О личном не говорили больше — вполне достаточно было сказано, и любое лишний вопрос, любое лишнее слово на эту тему было бы перебором, нарушило бы гармонию той атмосферы, которая между нами сложилась.
Тем более что было еще о чем поговорить. И он мне рассказывал, как ходил и ездил за мной весь день и готов поклясться, что слежки не было, — и когда он сидел в своем “Форде” у ресторана, ожидая, что я вот-вот выйду, вдруг подлетел “Джип Чероки”, и двое вышли и направились быстрым шагом внутрь, а двое остались в машине. И именно поэтому он даже звонить не стал — не успел бы сообщить заблаговременно и искренне опасался, что в тот момент, когда я поднесу к уху трубку, они уже будут в зале и я инстинктивно подниму глаза, отыскивая их, и они могут понять, что кто-то предупреждает меня об их появлении. Они раньше времени могли его рассекретить, труда особого для этого не требовалось: тут же одному из них выскочить обратно и посмотреть, в какой из припаркованных у ресторана машин сидит человек с телефонной трубкой у рта.
Рэй сказал, что их человек в ресторане был в момент моего появления там — видно, на всякий случай послали его туда, завезли пораньше и там и бросили, и, когда он отзвонил своим, сообщив о моем появлении, они на это не рассчитывали даже — потому и ехали так долго и появились, когда я уже больше часа там была. И если еще пару часов назад я бы встретила это заявление посомневавшись про себя — подумала бы, что не исключено, что он оправдывает собственную неоперативность и вообще неопытность, — но человеку, в одиночку пробравшемуся в магазин, где находились вооруженные террористы с заложниками, и убившему семерых, не задев ни одного заложника, не поверить не могла. И даже мысли не мелькнуло, что он мог придумать все это, чтобы я ему заплатила побольше, — зачем, когда я и так предложила ему работу, этого не зная, да и видела, как он это рассказывал, как далось ему это повествование, когда слова то лились сбивчиво, то он их из себя вытягивал, словно гланды вырывал.
Разумеется, я ему поверила. И то, что я услышала, мне понравилось — и особенно то, как он пристрелил двоих раненых, потому что именно такой человек мне и был нужен. И видимо, совсем не случайно судьба мне его и прислала. Как там в “Интернационале” — ни Бог, ни царь и ни герой… Кто знает, кто знает…
А далее он мне поведал, как двое заходивших в ресторан вышли к машине и отъехали чуть в сторону, и уже после того, как появилась я, села в “Мерседес” и тронулась с места — сам Рэй перед этим чуть назад сдал, чтобы не было видно его от входа, боясь, что я, не зная о том, что за мной следят, подойду к нему, чтобы рассказать о встрече, — вышел из ресторана еще один человек и подошел к “Чероки” и сел внутрь. Смотрел, видимо, что я буду делать после их ухода, не буду ли звонить кому, не подойдет ли кто ко мне, — выходит, дело мы имеем с людьми достаточно хитрыми и осторожными. И, судя по тому, что они убили Яшу, Ханли и Стэйси, — опасными.
А “Чероки” поехал за мной и отвернул в сторону, уже убедившись, что я направилась в Бель Эйр. И катался за ними долго по городу — хотя и непохоже было, что они боятся слежки и опасаются привести за собой хвост на собственную базу, — остановившись один раз у ресторана китайского в Даун-Тауне, где к ним присоединилась вторая машина, “Тойота Терсел”, и где они обедали с час. А потом, уже к семи, тормознулись у стриптиз-клуба в Западном Голливуде — и Рэй прождал пару часов и уехал, решив, что где они живут, в принципе, неважно — важно, что в “Чероки” было пятеро и подъехали в “Тойоте” еще двое, а значит, их семь человек, как он и убедился еще в первый раз, когда их увидел. И было бы их больше, остальные бы, наверное, прибыли тоже, чтобы отдохнуть всем вместе, так что коли он не собирается устраивать им засаду у места их обитания, то оно пока значения не имеет.
И я еще напомнила ему про наш план — рассказав про то, что ФБР продлило мне срок подписки о невыезде и что теперь из Америки мне придется сбегать, а не уезжать спокойно, как я на то рассчитывала. И что если теперь нанятый мной частный детектив застрелит кого-то, пытавшегося напасть на меня, то Крайтон сочтет, что я точно мафиози, и моментом припишет мне смерть тех, кого убил Джо, — и Рэя-то отпустят после допроса в полиции, а вот меня там оставят.
— Ты будешь ни при чем, Олли, — тебя там не будет. — Так он мне ответил. И когда я стала интересоваться, каким же образом я тогда сыграю роль приманки — двойника он мне найдет, что ли? — добавил только: — Положись на меня.
И не стал ничего объяснять, и сидел молча, а я все думала и думала, что он может иметь в виду, — но потом решила, что если он застрелит Ленчика, то хрен с ним, пусть меня сажают, в конце концов. И возможно, что Рэй просто не хочет раньше времени раскрывать карты — хотя мне бы мог раскрыть, знает же уже, кто я, да к тому же я ведь в качестве приманки должна выступать. И все же не стала требовать объяснений, сказав себе, что, скорее всего, Рэй сам пока не представляет, как это будет. Но я должна ему поверить — ибо другого выхода у меня все равно нет. По крайней мере, пока…
— Привет, Олли!
Он улыбается, а я смотрю пристально ему в глаза — этой твари, предавшей Яшу. Да, возможно, ему угрожал Ленчик, может, прихватил его на чем-то — но это не оправдание, он обязан был предупредить, и Юджин принял бы меры. А он не предупредил, и заложил и Яшу, и нас с Корейцем — потому что Ленчик пообещал ему долю и он рассчитывает, что ему перепадет неплохо. Интересно, сколько? Я так думаю, что Ленчику пообещали максимум процентов двадцать от суммы — это в Москве долги обычно возвращают из расчета половины, а это не Москва и сумма фантастическая. Вот Ленчик и рассчитывает на десять лимонов — на себя и свою банду, которой достанется, разумеется, куда меньше, чем главарю. А Виктор, думаю, на два миллиона минимум. Но есть у меня большие сомнения, что он их получит. Хотя до поры до времени ему бояться нечего, но они же быки, они же с большими деньгами дел не имели, и банковские операции для них дело темное, а деньги придется переводить на разные счета, и хрен ты их обналичишь, так что именно Виктор и будет ими как бы управлять и продумывать каждый ход операции — и поэтому, наверное, и вправду обретет желаемое.
Смотрю пристально и с ненавистью, но он пока улыбается — кажется, что он мне сейчас, как герой американского боевика, скажет ненавидимую тобой фразу: что против Яши лично ничего не имел — это просто бизнес. Но он не говорит ничего, и улыбка сползает медленно с его лица.
Что-что, а своим взглядом я владеть умею. Еще в развратной молодости отрабатывала перед зеркалом разные взгляды и потом опробовала их на мужчинах — показывая свою заинтересованность, или восторг, или восхищение или плохо скрытое желание познакомиться, или, в редких случаях, отсутствие этого самого желания. Для меня это игра была, интересная и захватывающая, — и я неплохо научилась играть. Я могла так посмотреть на очередного любовника, скинувшего одежду и явно стесняющегося своего маленького висящего членика, что он сразу чувствовал себя опытнейшим самцом.
Позже, когда жила с тобой, научилась глазами показывать другое — чтобы ко мне не приставали, научилась смотреть как бы сквозь человека, холодно, и отстраненно, и порой высокомерно, чтобы он видел, что подходить ко мне бессмысленно, для него же лучше будет не подходить. И так училась и училась — и выигранный матч против Кронина, самый серьезный в моей жизни, подтвердил, что мастерской степени я достойна.
Но так, как на Виктора, я смотрела в первый раз в жизни — вкладывая все презрение, и спокойную холодную ненависть, и брезгливость, чтобы он чувствовал себя грязью. И он понял, и суетливо отодвинул стул, и сел напротив, не глядя мне в глаза. И заговорил, только когда Ленчик — разумеется, приперся, как я и предполагала, разве мог он выпустить ситуацию из-под контроля? — его подтолкнул. Заговорил, правда, по-английски — он же американец у нас, самый настоящий, потому бизнес для него важнее пустых категорий типа преданности, верности и порядочности.
— В общем так, Олли, — вот список счетов, на которые ты должна будешь перевести наследство мистера Цейтлина. Никаких вопросов это вызвать не должно — ты просто вкладываешь деньги в эти компании и предприятия. А то, что несколько из них лопнут вскоре — это уже случайность, правда? Тебя никто ни в чем не заподозрит — тем более что твои потери от лопнувших компаний составят максимум пять миллионов…
Я не специалист в банковских операциях, но понимаю, что они хотят таким образом деньги обналичить: создали под меня фирмы, те лопаются потом и деньги уходят с ними в небытие, то есть в карманы подельников. Умно…
— А что касается тех, которые останутся, ты становишься их вкладчиком, или пайщиком, или партнером, как тебе будет угодно. Но оставляешь право распоряжаться своей долей за руководством компании. Это тоже распространенная практика — ты ведь не обязана в этом разбираться, ты же молодая, красивая женщина, Олли, — и никто тебя не обвинит в том, что ты доверилась проходимцам. Тебе просто надо будет подписать несколько бумаг, я тебе их отдам, как только деньги придут в движение…
— Слышь, ты говори нормально, — перебивает его Ленчик. — Че, по-русски не можешь?
Ага, значит не доверяет он Виктору — и так как не понимает всех этих специальных терминов, его это тревожит. Удастся ли только воспользоваться его недоверием? Подумаем, господа, подумаем…
Виктор оглядывается на него виновато, бормочет, что просто не хотел привлекать к себе внимание, Леонид же сам знает, как к русским относятся, и все такое. Но тот сидит с каменной рожей, показывая, что он здесь главный и все должно быть так, как он велит.
— Дальше, Олли. Тебе надо подписать поручение одной финансовой структуры насчет покупки акций — то есть ты доверяешь им право играть на бирже, используя твои капиталы. Ты слышишь, Олли?
Молчу, не глядя на него, и Ленчик взрывается, забыв, видно, как я давала ему отпор, понижая при его людях.
— Слышь, тебя спрашивают?! Оглохла, что ли, в натуре?
— Фильтруй базар, Леня! — отвечаю тихо и жестко. — А с пидором этим я разговаривать не намерена, пусть быстро выкладывает, что надо, и валит отсюда — а то у меня ощущение, что я за одним столом с опущенным сижу. Он, кстати, в рот-то берет у братвы твоей? Язык у него уж больно рабочий…
Ленчик смеется вдруг — глаза злые, но смеется, показывая неумело, что я его совсем не задела. Задела, Ленчик, я же вижу — и совсем не хотела этого, ты сам виноват. Знаю, что меня ненавидишь, что готов разорвать — но терпишь ради дела, предвкушая долгожданную расплату. А пока не рад, что пришел с Виктором сюда, — не рад, что забыл, что я могу быть мягкой и вежливой, а могу быть и злой. Да, я знаю, что где-нибудь в Москве люди твои бы уже увезли меня куда-нибудь подальше и резали бы на части ножами — не сомневаюсь, что с удовольствием, — но ты не в Москве, так что терпи, братан, даст бог, недолго тебе осталось терпеть.
— Олли… — с обидой и возмущением начинает Виктор, но тут Ленчик его обрывает:
— Ладно, кончай базар. Давай по делу…
А я не смотрю уже ни на того, ни на другого — чуть отодвинувшись от стола и закинув ногу на ногу, погружаюсь в созерцание собственных ногтей, искусным маникюром превращенных из обычной и к тому же очень незначительной детали человеческого тела в броскую мою характеристику. А потом медленно поднимаю глаза.
Виктор красный весь, лоб вспотевший, руки дрожат — не ждал от меня такой реплики и не ждал, что Ленчик его заткнет, не давая сохранить лицо, показывая, что с репликой моей согласен и что Виктор для него особого значения не имеет. А на Ленчика тянуть ему слабо — ему уже хода назад нет, и если он до этого верил в свою исключительность и незаменимость для Питерского и его корешей, то теперь, кажется, осознал, кто он в их глазах.
— Да я все сказал, — шепчет подавленно. — Там в бумагах все есть. И про деньги, которые в Нью-Йорке, и про те, которые здесь. На все пятьдесят миллионов. Все расписано.
— Ну ладно, иди, Витек, мы тут потрем еще, — великодушно отпускает его Ленчик, и смотрит на меня, когда тот уходит.
— Ты мне еще раз скажешь, чтобы я фильтровал базар, я тебе…
— Не надо разговаривать с мной невежливо — и проблем не будет, — замечаю спокойно, пытаясь исправить ошибку, показать Ленчику, что все в порядке, я его опасаюсь, хотя пытаюсь это скрыть, и готова все отдать. — Да еще при этом петухе, который скурвился за лавэшки и всех сдал. Яше он зад лизал, у тебя в рот берет — а ты его сажаешь со мной за один стол…
— Короче, ты поняла?!
— Я-то поняла — хотя должна добавить, что все эти документы ксерокопирую и вместе с теми бумагами, о которых упоминала вчера, отдаю на хранение адвокату с пометкой: вскрыть в случае, если что-то со мной произойдет. Не пугаю, но гарантия мне нужна — предупреждаю.
У Ленчика вдруг такое выражение появляется на лице, что вид его вызывает жалость. Недоумение, злоба, непонимание, нерешительность — целый букет. Вроде отдал бумаги, без которых перевод денег невозможен — и опять все против него может обернуться. Представляю, как он меня сейчас называет про себя — но это его личное мнение, я к нему равнодушна.
— Все на понт берешь — не устала?
— Да какие понты, Леонид? Я должна быть уверена, что как только вы получите деньги, то меня оставите в покое. Ты же умный человек — и Виктора этого прицепил, заставил на себя работать, и частного детектива вычислил, и догадался, кто я такая, чья я жена, — и понимаешь, что без гарантий я ничего делать не буду, и пугать меня без толку, потому что моя смерть для вас есть потеря денег.
Лесть к месту оказывается, он расслабляется на глазах, обмякает на стуле, расползаясь по нему.
— Кстати, у меня просьба есть — готова заплатить еще миллион налом, если пидора этого твои люди кончат при мне. Чего такой падле жить? Ты же в авторитете — неужели не найдешь ему замену? А миллион — хорошие бабки, тем более что доля его тебе остается.
Ленчик смотрит на меня заинтересованно — значит, роль Виктора я явно переоценила. Значит, он только помогает наладить схему, а там можно и без него обойтись. А может и так собирался его вскоре убрать — чтобы не ляпнул никому ничего. Даже Ленчику понятно, что тот, кто предал раз, предаст и в другой — а тут еще за это миллион предлагают. И хотя внешне лицо его непроницаемо, я вижу эту заинтересованность — и как потом ей на смену приходит озабоченность. Спасибо Корейцу — такой непробиваемой маски, как у него, я в жизни не видела, и время понадобилось, чтобы начать понимать, что там, под ней, и потому и Ленчика сейчас вижу насквозь. Догадываясь, что он задумался, как убить двух зайцев: ему надо придумать, как меня убрать после передачи денег и при этом нейтрализовать каким-то образом мой компромат и как Виктора убрать и еще деньги с меня получить. Выходит, если он хочет еще миллион, то Виктор должен умереть первым — но он же нужен пока!
Ладно, думай, Ленчик, ломай пустую свою голову. Ты же не знаешь, что я вам ничего не отдам — вот и успокойся насчет меня и строй пока планы, будет чем заняться.
— И последнее, Леонид. Вчера мне ФБР продлило срок подписки о невыезде — они все еще проявляют ко мне пристальный интерес. В такой ситуации переводить пятьдесят миллионов — это и себя подставлять, и вас. Да и понятно, что если примут меня, вас-то я вложу тут же. Это, конечно, в падлу — но ты же был готов меня вложить, сам пугал — какие уж тут понятия?..
— А не боишься, что если сдашь меня, я им статейку покажу, которую тебе давал, — да за Вадюху Ланского поговорю, и за Корейца?
Господи, какой же ты дурак! Веришь ведь, что я записывала разговоры, а значит, знаешь, что тебе вышка будет светить, — да и глупо просто садиться в тюрьму, не говоря уже об электрическом стуле, когда такие бабки в кармане.
Я не отвечаю. Просто смотрю на него без всякого выражения. И жду. И дожидаюсь.
— Ну ладно. Три дня…
— Пятнадцать.
— Неделя.
— Леонид, я же не шучу — да и хреново с ФБР шутить. Я же предупредила: не веришь мне — проверь, у тебя же наверняка связи на высшем уровне.
— Я проверю, — обещает грозно, довольный тем, как я ему подыграла. Идиот — да какие у тебя на хрен связи могут быть? Ты б посмотрел на себя, бычина. Хотела бы я знать, кто его короновал в Союзе и за какие заслуги? — Ладно, на десятый день приезжаешь сюда, десятого марта, днем. Отдаешь бумаги подписанные Витюхе, еще раз с ним все обговариваешь — и вперед.
— Лучше не здесь, Леонид, — говорю быстро, потому что мне очень надо это сказать, потому что тут меня столько раз видели, что запомнили мое лицо давно, и не надо чтобы нас тут опять видели вместе, тем более в свете того, что может произойти потом. — Бар есть один в Даун-Тауне, неподалеку отсюда, адрес сейчас скажу — не хочу тут все время мелькать, вдруг пасут меня. И лучше вечером встретимся, в девять, скажем, или в десять. О’кей?
Он выслушивает мою речь и про адрес тоже и не отвечает, но ясно, что согласился, и уходит, не прощаясь, первый — то ли задевало его на первых наших встречах, что я уходила первая, опуская его в глазах корешей, то ли человек его опять в зале и опять будет смотреть, что я буду делать дальше. Чего мне делать — домой, и все дела…
…Так быстро эти дни пролетели до очередной встречи с Ленчиком, что даже толком не отложились в памяти. Рэй мотался целыми днями, утром уезжал и поздно вечером приезжал — не знаю точно, чем уж он там занимался, — и пару раз я выезжала по его совету в город, чтобы показать Ленчику на тот случай, если он следит, что я тут и никуда не делась, все в порядке со мной.
У меня только первый день отложился в памяти, следующий после встречи, — когда встретилась наконец с Мартеном. Приехала на студию, и он улыбался мне, и был весь из себя, такой счастливый от моего приезда и нашей встречи, что я сразу почувствовала фальшь. И так неестественно выглядело накануне, что он отговаривает меня от выходов из дома, уверяет, что мне нужен отдых и все никак со мной не может встретиться, что я уже напрямую ему сказала: завтра, мол, буду на студии во столько-то и хотела бы его видеть, потому что есть разговор, — и только тогда назначил рандеву. Причем в ресторане в городе — но я почувствовала подвох и приехала-таки в офис.
И он, конечно, шокирован был моим появлением — но куда уже деваться? А там суета царила, человек пять абсолютно новых, неизвестных мне людей звонили по телефонам, распечатывали что-то на принтерах, компьютерные клавиши мучили. Причем один из них в моем кабинете сидел — он удивленно приподнял брови, когда я распахнула уверенно дверь и застыла на пороге, — в моем, который обставили в соответствии с моими пожеланиями, сделав “под меня” черно-белым и легким, с немассивной мебелью, стеклянным столиком в углу и металлическими полками на стенах.
— Я тебе все объясню, Олли! — услышала сзади. Увидела, обернувшись, Мартена — и улыбнулась в ответ сдержанно. Пошла за ним в его кабинет, выслушивая дружеские упреки насчет того, что не предупредила его, и лицемерную заботу о моем здоровье.
— Итак, Боб?.. — спросила, сев, закурив и глядя ему в глаза. Уже тот факт, что я закурила, ему должен был показать, что я очень серьезно настроена — раньше я его, некурящего, уважала и курила только в своем кабинете, ему приходилось терпеть, только если он сам ко мне заходил. А тут взяла сигару, не спросив даже из вежливости, не против ли он, — и демонстративно выдохнула дым в его сторону длинной струей, думая, что так бы повел себя ты, чтобы без угроз показать, каково положение. Только вот Мартену я угрожать не могла — и глупо, и незачем.
— Да вот совершенно случайно предложили один проект, Олли, буквально вчера — как раз собирался тебе рассказать и с тобой посоветоваться…
Ну да, “вчера”, потому и люди новые уже появились, и человек сидит в моем кабинете. Я так думаю, что они здесь были и когда я заезжала несколько дней назад — я просто не заходила никуда, поговорила две минуты с секретаршей и уехала.
— Короче, к нам обратились одни люди — солидные бизнесмены, — пожелавшие вложить деньги в кино. Им понравился наш первый фильм, и я встретился с ними и рассказал, какой у нас есть замечательный сценарий и кого планируется пригласить на роли, и они заинтересовались — вот и пришлось нанять людей, чтобы в срочном порядке подготовить им все бумаги, бюджет и все остальное.
— К кому это “к нам”, Боб? Я почему-то думала, что совладельцы студии — это мы с Юджином и ты, или я что-то забыла?
— Все так, Олли, — я имел в виду — ко мне. Я как раз хотел тебе позвонить, чтобы все обговорить, а тут ты мне позвонила. Я очень беспокоился за тебя, ты же знаешь — не хотел тревожить попусту, ведь у тебя столько проблем. Тем более что пока все под вопросом — и до окончательного решения еще далеко.
Я сразу поняла все. Он пришел к выводу, что со мной связываться стремно, и решил пойти другим путем. Славу за наш первый фильм все равно он взял себе — кто знает, что сценарий и деньги дали мы с Корейцем? И видно, нашел инвесторов — он уже не раз заикался на эту тему, просто речь шла о том, что часть суммы — их и часть — наша, большая часть, — и теперь хочет по моему сценарию сделать кино, к которому я уже отношения иметь не буду. И так он вытеснит меня, и, случись что со мной, арестуй меня ФБР, студия как бы и ни при чем, всегда можно сказать, что ко второму фильму я отношения не имела, никаких бумаг не подписывала, так что он не мафиозен и абсолютно чист.
— Неужели они готовы дать пятьдесят миллионов, Боб? — спрашиваю с деланным удивлением, уже начиная подозревать, что он, пользуясь моей фамилией, еще и наши деньги туда хочет вложить, полностью либо частично. Ведь были же у меня подозрения — и вот теперь они подтверждаются. И мне, достаточно жесткой и циничной, знающей уже, что такое предательство, знающей, в какой стране я живу и какие здесь принципы, все же становится очень неприятно. Хотя бы из-за того, что без нас бы Мартен хрен поднялся — а теперь снимает сливки и вдобавок хочет забрать себе все, что принадлежит нам. Если бы он мне честно сказал, что лучше бы я отошла от дел, потому что надо работать дальше, надо развивать успех, и мне бы лучше забрать свои деньги, я бы согласилась, потому что он был бы прав. Или сказал бы, что мы с Корейцем не должны ничего вкладывать, но, как совладельцы студии, получим долю от проекта — проявляя понимание и уважение ко мне — это было бы еще нормально. Но похоже, что он отчетливо видит, что я в серьезной беде, — и не воспользоваться этим для него просто грех.
— Да, скорей всего.
— И не требуют войти в число совладельцев или основать новую студию? Щедрые же у тебя инвесторы, Боб…
— Да, да, они деловые люди, сознают, с кем имеют дело. Ты пойми, Олли, — тебе надо отдохнуть, мы снимем этот фильм, вся прибыль студии будет поделена согласно нашему договору, и ты получишь приличную сумму как сценарист. Вернее, как соавтор сценария.
— Разве я давала согласие на внесение изменений, Боб?
— Нет, конечно нет. Но ты же знаешь, что это необходимо, что у нас свои сценаристы, которые…
— Я так понимаю, что ты, в любом случае, планировал согласовать все со мной, верно, Боб?
— Ну конечно, Олли, разве может быть иначе — мы же партнеры!
Да, твою мать, мы партнеры — и цену нашему партнерству я вижу. Но, несмотря на то что все мои вопросы были очень серьезными, задавала я их относительно мягко — опасаясь, что, может, я и в самом деле что-то понимаю неверно, и отталкивать его мне не хотелось: все-таки еще ты с ним завязался, и для нас с Корейцем это был единственный деловой партнер и просто хороший знакомый, и именно он нас выводил старательно в голливудский свет. И с Диком он мне помог — можно было бы сказать, что именно он подтолкнул меня под этого самого Дика лечь, но ложилась-то я сама.
И потому я разговор увела в сторону — решив, что время по-настоящему решительных вопросов еще не пришло, хватит с него того, что услышал, — и так уже надоело кивать в ответ на его заверения, что человек в моем кабинете оказался случайно и через десять минут его там не будет, что мне необходим тайм-аут после всех этих проблем и он ждет, что через месяц я подключусь к работе, и все такое. Кивала — думая, что будь на моем месте американец, он бы вел себя по-другому, особенно из-за кабинета, священного и неприкосновенного места, посягновение на которое может быть приравнено к смертельному оскорблению.
— Кстати, никак не могу найти Дика, — пожаловалась деланно, сменяя тему. — Звоню ему по всем телефонам каждый день — но мобильный не отвечает, а в офисе в Вашингтоне то секретарша, то помощник уверяют, что он мне перезвонит, — и никакого результата.
И чуть наклоняю голову, отводя глаза, и поправляю волосы, показывая тем самым что смущена и расстроена этим обстоятельством.
— Так он здесь, в Лос-Анджелесе, — слышу неожиданный ответ. — Я с ним только вчера разговаривал. Может, он просто не успел тебе перезвонить?
И Мартен явно счастлив, что я перевела стрелки, и видит ясно, что Дик меня интересует в данный момент больше, чем студия, и уже начинает набирать телефон, когда я говорю ему, чтобы попробовал сам договориться с ним на ланч, но чтобы не говорил, что я там буду, хочу, мол, сюрприз сделать.
Он подмигивает мне, довольный, и включает интерком, чтобы я слышала все, и представляется секретарше, и через пару минут слышу голос моего порфироносного любовника.
— Дик, какие планы на ланч? Хотел встретиться с тобой — я плачу.
Вот лучший способ, чтобы на твое приглашение ответили согласием, магическая формула, одинаково действующая на богатых и бедных — нет, на богатых сильнее, потому что они более экономны.
— Если только завтра, Боб, — слышу ответ. — Завтра в час — о’кей?
— Да, прекрасно. Кстати, мне звонила Олли — искала тебя…
— Знаешь, не говори ей ничего, Боб. Я попытался решить ту проблему, о которой она просила, — выяснилось, что… Короче, извини, но я не могу вмешиваться в такое дело — и если ты хотел переговорить по этому вопросу…
— Нет, Дик, совсем по другому!
— В общем, я попросил, чтобы ее со мной не соединяли. Не надо, чтобы она об этом знала, — и я надеюсь, что все ее проблемы разрешатся, — но я просто не могу позволить себе оказаться впутанным во все это. Я хотел ей помочь — но что скажут мои избиратели, если вдруг все обернется не так? В общем, не телефонный разговор, Боб, — кстати, мой помощник напоминает, что завтра я занят, оказывается, целый день, так что давай перенесем встречу, о’кей? Я тебе сам перезвоню…
В трубке отбой, и Мартен смотрит на меня виновато — чувствует вину за то, что сосватал мне этого Дика, и неудобно, что тот при мне и его послал подальше, и наверняка злится, что из-за меня пошатнулась связь с влиятельным человеком, и наверняка думает, что теперь-то меня можно кинуть легко и без последствий.
А у меня на лице холодное выражение, а потом я приподнимаю одну бровь, цинично улыбаясь, показывая, что вижу, какие дружеские у них отношения.
— Кажется, он даже не пытался ничего сделать — а, Боб?
— Кажется да. О, политики — ненадежный народ, Олли.
— Я знаю, Боб. А в принципе, мне ничего от него не было нужно…
Задумалась, не передать ли через Боба намек на то, что наше совокупление запротоколировано камерой и лучше ему пойти мне навстречу, — но решаю, что нет, потому что он, во-первых, сам неизвестно когда с ним встретится, а во-вторых, побоится что-либо передавать от меня.
— Просто он так добивался моей благосклонности, проявлял такое усердие, чтобы заполучить меня в постель, что я подумала, что он мне кое-чем обязан…
Правильно сказано, ровно столько, сколько надо, — пусть сам делает выводы.
— Ты извини, Олли, куча дел. Может, отменим ланч — мы ведь все равно уже поговорили, а у меня столько работы…
— Конечно, Боб, держи меня в курсе, как идут дела… — И вышла под заверения в вечной дружбе и сотрудничестве, и, когда села в машину и уже завела ее, заметила, как крепко вцепилась в руль “Мерседеса”, и отъехала чуть-чуть, и встала, закуривая, чтобы успокоиться, увидя, как дрожат руки. Поганые твари — и Мартен, и Дик! Но Мартена еще можно понять: бизнес должен идти вперед, да мог бы поставить меня в известность, но о нем отдельный разговор. А вот Дик — это точно тварь. Причем не сомневаюсь, что он даже не пытался мне помочь — вопреки тому, что сказал Мартену, — и, наверное, даже не собирался этим заниматься. И вдруг ловлю себя на мысли, что в первый раз меня вот так вот использовали. Обычно я сама заманивала мужчин в постель, помня о том, что я жрица, — и знакомясь с кем-то и принимая, например, от почти незнакомого человека предложение приехать в гости, прекрасно понимала, чего он хочет. И сама этого хотела в силу своего призвания — опять же прекрасно понимая, что и оргазма я не испытаю, и встречаться с ним больше не буду, хотя ему на девяносто девять процентов этого снова захочется.
Но ни разу я не отдавалась никому по расчету, а могла бы и подарки поиметь хорошие, и деньги, причем не в плату за секс, а в качестве помощи. Да и хватало людей, которые искренне хотели сделать для меня что-нибудь материально-приятное, — но я так же искренне отказывалась. И пусть многие из тех, с кем я спала, думали, что используют меня, — на самом деле я использовала их и после первого раза с легкостью от них отказывалась за ненадобностью.
Я подпитывала их спермой уверенность в собственной привлекательности. Как женщина, накладывая крем или поедая по утрам якобы полезную мешанину из овсянки и воды, чувствует, что становится от этого красивей, так и я день изо дня ела этот салат красоты, приготовленный по одному и тому же рецепту и отличающийся лишь незначительными добавками — курагой, изюмом или грецкими орехами. И за общим пресным вкусом отличий одного от другого уже не замечала. Но кожа от этого салата становилась нежной и чистой, волосы густыми и блестящими, тело стройным и упругим, и каждый раз, съедая салат, я забывала о нем, делая утром новый, — как забывала и своих так называемых любовников. А потом, наевшись досыта, я сказала себе, что с меня довольно, и теперь я и так достаточно красива и могу себе позволить есть только самые вкусные и изысканные блюда.
И только трижды в жизни я отдавалась мужчине, чтобы что-то получить: во-первых, с Крониным, которого мне необходимо было соблазнить, чтобы толкнуть на сделку и уничтожить таким образом. С его телохранителем, чтобы расслабить его и найти способ как-то избавиться от него, что, опять же, удалось. И с Диком — чтобы спас меня от ФБР.
Но если первых двоих я в постель заманивала сама — что бы они там ни думали, — то Дику я отдаваться совсем не хотела и сделала это вынужденно, понимая, что этого он хочет и это лучший способ заручиться его поддержкой. Ни удовольствия не было — какое, к чертовой матери, от него удовольствие?! — ни интереса не было. И одного раза, казалось бы, было достаточно, но он ведь толкнул меня и на второй — заранее зная, что не сделает ничего, и также зная, что шума я поднимать не буду, а если и подниму, кто мне поверит, к тому же мне от этого шума будет только хуже.
Выходило, таким образом, что он использовал меня, — и так как впервые в жизни со мной такое приключилось, чтобы меня использовали, то когда я это осознала, ощутила прилив ярости и ненависти. Он внутри оставался, конечно, хотя распирал меня всю, грозя выплеснуться — потому что ладно бы кто-то использовал Олю Сергееву, юную, наивную развратницу, так нет, использовали Оливию Лански, и этого простить было никак нельзя.
Нет, он за это должен ответить, ублюдок! И даже думать не надо — сегодня же пошлю ему пленку на адрес офиса, чтобы понял все, и сам позвонил, и приполз, гнида, и сделал то, что мне нужно. И, приняв решение, резко стартовала, направляясь домой, и уже минут через сорок, пока видеомагнитофоны производили на свет еще одну копию — оригинал с минимум парой копий надо пока оставить себе, — уточняла у Мартена адрес офиса Дика. Нервными движениями повырывала все ящики из стола в кабинете в поисках большого конверта и, когда один из ящиков вывалился, разбрасывая бумаги, пнула его злобно. И ухватилась за найденный конверт, и начала адрес писать большими дергаными буквами, процарапав и надорвав плотную бумагу, и скомкала его с силой, кинув в сторону, и схватилась за второй. И только тогда спохватилась, сказав, что надо взять себя в руки, что стыдно себя не контролировать, и ящики ни при чем, равно как и конверты, и ломать ручку в тысячу долларов в платиновом корпусе тоже негоже.
Но тем не менее крышку хумидора, ящичка для сигар, откинула резко, выхватила толстую “Дабл Корону”, быстро сорвав обертку и, торопливо щелкая обрезалкой, неровно откусила кончик. И сунула было ее в рот, беря в руки коробок с длинными спичками, но потом вытащила обратно и посмотрела брезгливо — сказав себе, что курить такую сигару все равно что пить коктейль из грязного или надколотого стакана. И это помогло — опустила ее аккуратно в корзину для бумаг, достала другую,
неспешно развернув — и закурила, медленно-медленно втягивая в рот дым и выдыхая, не пропуская его в горло и легкие. Когда только начала курить сигары, никак не могла понять, как можно ими не затягиваться, хотя и затягиваться ими могла с трудом, чересчур крепки. Потом уже у тебя узнала, что надо просто ощущать вкус и аромат дыма, пробовать его и отдавать, насыщая им окружающее пространство. Успокаивающий процесс — спокойный, размеренный, расслабляющий. Курить сигару быстро глупо, это как есть деликатес на бегу, не ощущая ничего, уж лучше сломать ее сразу.
“Ну что дергаешься? — спросила себя. — Забыла, что во взвинченном состоянии серьезных шагов делать не стоит? Да и, в конце концов, он тебе не так уж срочно нужен сейчас — не дай бог придет время, когда без него никак не обойтись. Например, если тебя арестуют еще раз, вот тогда и отправишь ему сразу две копии, и в местный офис, и в вашингтонский. А сейчас чего ты этим добьешься? А если секретарша вскроет конверт и посмотрит — так оно и будет, скорей всего, не может же она боссу отдавать конверт бог знает от кого и с непонятным содержимым. Да его еще раньше охрана прощупает, заподозрит, что там взрывчатка: взрывчатое вещество в конверте, срабатывающее в тот момент, когда конверт вскрывают, номер не новый и хорошо известный. А они все должны проверять — мало ли кому придет в голову убрать их босса, да просто идиот какой-нибудь, коих в Америке полным-полно, решит ему сделать вот такой сюрприз безо всяких на то причин. А тебе надо, чтобы это попало лично ему в руки, и только ему, — так что не гони, остынь и подумай лучше, что делать дальше”.
И я остыла, поклявшись себе, что он за это ответит. Конечно, выходит, что слишком многих я собираюсь призвать к ответу — но почему бы нет, с другой стороны? И уж если корабль мой пойдет ко дну, куда приятней забросить абордажные крючья на вражеские корабли и утопнуть спокойно вместе с ними.
Остаток дня занималась тем, что размножала пленку и упаковывала кассеты в конверты — и надписала адреса двух офисов Дика, и двух лос-анджелесских телекомпаний, и двух газет, чтобы хоть где-то да заинтересовались в случае чего полученной информацией. И все это аккуратно запихнула в секретный сейф. Вместе с еще одним конвертом, содержащим предоставленный мне Ханли список Ленчиковых людей, с указанием имен, фамилий и нью-йоркских адресов, копии документов, врученных мне Виктором для перевода денег, и кассету с совсем другим содержанием. Ее я записала чуть раньше, установив камеру на треногу, поправив парик, подкрасив губы и сев в кресло, полагая, что должна выглядеть не хуже телеведущих, которые читают новости. И так же по-деловому, официально начала рассказ — о том, кто убил Яшу и кто его сдал убийцам — при этом не обговаривая, каков был мотив убийства, упоминая лишь банальный рэкет. И как эти убийцы вышли на меня, и как убили Стэйси и Джима Ханли. И — заключая — что, находясь под подозрением ФБР, не могу обратиться к правоохранительным органам за помощью, и короткая обвинительная речь в адрес хваленой американской демократии, и вывод — в случае моей смерти или исчезновения прошу винить во всем тех-то и тех-то. Фак ю, Америка, — примерно так, только чуть посдержанней.
Так что вот такой день выдался — сильное разочарование сначала, продуманная и серьезная работа потом. Дала видеомагнитофонам отдохнуть, убрала подальше видеокамеру с треногой и долго-долго лежала в ванной, размышляя над тем, что, может быть, стоит несколько оттянуть начало операции в надежде, что ФБР меня в течение марта не примет и подписку не продлит. А десятого сказать Ленчику, что опять вызывали меня туда — могу, кстати, встретиться с Бейли у него на глазах, пусть понаблюдает сбоку, как я демонстративно беру у Бейли визитку, и увидит, кто это такой. И потому до конца марта следует выждать — и вот тогда…
— Ну, как дела?
Я вздрогнула даже, настолько ушла в собственные мысли и, признаться, едва не заснула в горячей воде.
— Опять подглядываешь, Рэй? — улыбнулась, едва не нахлебавшись от неожиданности воды. И, не раздумывая, выложила ему все, что было со мной за этот день — потому что любая мелочь могла сыграть роль. И про моего партнера Боба Мартена, и про конгрессмена Дика, которого записала на камеру в той самой комнате, в которую Мэттьюз ворвался с пистолетом, заслышав мой оргазменный крик.
— Ты опасный человек, Олли. — Он улыбнулся в ответ, и я впервые заметила, что улыбка у него очень приятная. И что он вообще мне нравится — потому что та грусть, которая звучала в его голосе, когда он рассказывал мне о семье, больше не являлась никогда, и никогда больше он не был так печально многословен, и вел себя он как уверенный в себе и нашей победе человек. И эта уверенность — в сочетании с его наглостью, при мне проскальзывавшей очень редко, потому что он понял, что со мной не надо так, — притягивала меня, равно как и его понимание.
И еще нравилось чувствовать на себе его взгляд, пытающийся прорваться сквозь взбитые сливки пены, которые обволакивали меня, делая похожей на вкуснейший десерт. Так, наверное, смотрит ребенок, у которого нет с собой денег на пирожное, выставленное в витрине кондитерской: он говорит себе, что завтра должен захватить несколько монеток. И мечтает, как медленно и со вкусом будет есть — сначала аккуратно слизывая крем, а потом не спеша надкусывая то, что под ним, — и картина такая яркая, что у него даже кончики пальцев становятся липкими, словно он и в самом деле только что насладился десертом его мечты.
И Мэттьюз наконец отводит взгляд, заставляя меня усмехнуться, и так нейтрально присаживается на бортик ванной.
— Наверное, когда вернулась после этой встречи, жутко злилась на меня за то, что я вылил весь твой запас? Ну признавайся, Олли?
— Да нет, у меня ведь еще бар есть — ты о его существовании не знал, а я забыла и вот вспомнила на днях, но так к нему и не притронулась. Кстати, тебе бы надо в обществе анонимных алкоголиков главным консультантом работать — и излечивать людей такими вот жестокими способами. А что касается меня, то выпить, конечно, хотелось — признаю…
— Ладно, у меня подарок для тебя. Дюжина “Короны” — все равно она слабоалкогольная, да и я составлю тебе компанию — и куча мексиканской еды. Судя по тому, что ты все время встречаешься со своими друзьями в мексиканском ресторане, эта кухня тебе очень нравится. Угадал?
Так что остаток вечера провели за едой и пивом — не слишком пристойный напиток для леди, но в качестве сопровождения острейшей еды подходит, — обсуждая то, что имеем на сегодняшний день. И он согласился со мной, что если есть возможность потянуть с Ленчиком и дождаться, пока ФБР потеряет ко мне интерес, то так и надо сделать, потому что лучше уехать, а не бежать. А с паспортами он вопрос решил: в течение двух недель тот человек, про которого он уже говорил, сделает канадский паспорт для меня и на всякий случай для него, Рэя. И все, что надо еще, — права там, может, карточку социального страхования, я не уточняла. Уточнила только, почему канадский — услышав в ответ, что за мексиканку я, может, и могу сойти, но испанского уж точно не знаю. А к тому же канадский паспорт имеет массу преимуществ перед паспортами других стран. И канадцы чуть ли не по всему миру могут без виз разъезжать. И все, что нам останется, — это по пути из Лос-Анджелеса в Мексику — то есть до ближайшей границы — тормознуть в городе Сан-Диего, где живет этот приятель Рэя, и тот вклеит наши фото в уже готовые бумаги.
И ко мне опять вернулось хорошее настроение, и опять благодаря ему. И я настолько благодарна была, что ночью уже, когда собралась уходить к себе, сказала шутливо, но в то же время серьезно:
— Рэй, ты такими глазами все время смотришь на меня, голую, что я боюсь, что ожоги на теле появятся. Может, вызовем тебе девицу? Могу даже свою сексуальную комнату предоставить — она мне все равно не понадобится больше. Я плачу, соглашайся.
И он посмотрел на меня внимательно и потом качнул головой, заметив, что услугами проституток пользовался не раз и это совсем не так интересно, как может показаться. И все не отводил от меня глаз, и мне показалось, что я знаю, что он хотел бы мне сказать, но не решается, — и ушла, с деланным бессилием пожав плечами, чтобы не услышать, что хочет он именно меня…
— Я сказал — нет!
Черт, ну почему он такой идиот? Ведь так правдоподобно звучит все сказанное мной — на хрен ему риск? Но он, видно, не может терпеть больше — он, наверное, уже не раз мысленно представлял себя где-нибудь на Гавайях в окружении местных красавиц, миллионером, владельцем гигантской белой виллы на берегу океана и роскошной машины, человеком, которому не надо больше никого напрягать, а можно отдыхать остаток жизни. Он, наверное, уже не раз закрывал глаза и видел мешки с деньгами, и щупал их мысленно, и они хрустели у него в руках и пахли необычайно вкусно — как в детстве пахли конфеты, которые ему, малолетнему грязному оборванцу, маманя покупала раз в месяц в колхозной лавке.
Закуриваю, собираясь с мыслями, судорожно думая, как убедить его подождать еще немного, каких-нибудь двадцать дней. Но чувствую, ничего не выйдет — потому что он перенервничал уже, видно, натерпелся от меня, напрягался, ожидая в любой момент появления киллера, и два трупа на себя взял. И теперь, находясь в шаге от своей мечты, он просто ждать уже не может — и готов зарезать курицу, несущую золотые яйца, чтобы выхватить то единственное, на котором она сейчас сидит.
— Леонид, я еще раз говорю — ФБР меня дергает постоянно. Я же никуда не деваюсь, я здесь и готова платить — зачем рисковать и тебе, и мне? Кстати, мне сегодня опять с утра их спецагент звонил — встретиться хочет в неформальной обстановке. Хочешь, могу сегодня или завтра прийти с ним в тот ресторан, где с тобой были, — пусть твои люди понаблюдают, убедятся, что я не вру.
— Нет! Все, пустой базар идет! Отдавай Витюхе бумаги и чтобы завтра с утра была в своем банке и начала делать все, как он тебе расписал.
— Да нет у меня с собой бумаг! Я сюда приехала, рассчитывая на твой здравый смысл, — я-то знаю, что не хочу спалиться, и думала, что и ты не хочешь. Да пойми же — стоит мне двинуть деньги, они их тут же проследят и все проверят. Они же боятся, что я смоюсь.
Вижу, что Ленчик бесится уже — пытается это скрыть, но готов взорваться, прозрачный он, до Корейца ему далеко в этом плане. Тот бы слушал-слушал и говорил бы спокойно, а потом сделал бы один-единственный шаг — и все б было так, как он хочет. А этот…
— Леонид, вообще, она права, — слышу шепот нагнувшегося к нему Виктора. — И вправду стремно. Ты ж знаешь весь план — фирмы начнут валиться, эти начнут искать и на нас и выйдут…
— На тебя они выйдут — если херово все продумал! — громко отрезает Ленчик, уже не сдерживаясь. — А если хорошо думал, то хер найдут концы. Хватит мне мозги еб…ть — сказал завтра, и все!
Глаза его, и без того пустые, становятся похожими на черные дырки в черепе, да и вся рожа напоминает выдолбленную тыкву, атрибут Хэллоуина: такие же редкие и кривые зубы, такая же лысина, такой же желтоватый оттенок кожи. И мне кажется, что в голове у него, как и положено в Хэллоуине, зажгли свечку — которая поджаривает остатки крошечного, как у динозавра, мозга.
— Так что завтра езжай в свой банк — Это уже мне. — А послезавтра в двенадцать будь здесь, усекла?
— Да не поеду я завтра никуда, — тихо, но отчетливо произношу в ответ. — Я не дура — и бабки вам отдавать, и еще потом сесть по обвинению в отмывании мафиозных средств, или попытке скрыться от уплаты налогов, или попытке сбежать. Мне еще минимум три недели нужны — я за это время окончательно решу с ними вопрос, и через адвоката, и сама. А чтоб ты не думал что я свалила, приезжать сюда могу хоть каждый день — если, конечно, ФБР меня не пасет и кто-нибудь из их агентов не сидит сейчас в зале.
Виктор оглядывается так нервно, что сразу ясно, что он боится, и давно, видно, боится, и ФБР, и Ленчика — но попал коль, деваться некуда, пусть подергается. Вокруг никого, зал на кабинки поделен — и кажется то, что он не может охватить взглядом весь зал целиком, нервирует его еще больше.
— Да не гони — никто тебя не пасет, у меня пацаны у входа сидят в машине…
— Ну да — и сразу определяют, кто есть кто. Они у тебя по-английски-то говорят с трудом, как они могут в американцах разбираться?
— Леонид, она права, — говорит Виктор уже громче и смолкает, встретившись с тяжелым, изучающим взглядом. Ленчик смотрит на него как на насекомое, как на комара, осмелившегося потревожить большого, грозного человека, который этого комара может прихлопнуть в любую секунду одним движением. Я в Москве еще видела такие взгляды, пусть и не мне адресованные, — неприятно, не скрою. Но на меня такое не действует — надеюсь, что Ленчик уже убедился в этом. А вот на Виктора действует — он затыкается сразу.
— Короче — завтра…
— Нет, — смотрю ему в глаза и выдерживаю взгляд. — Я собой рисковать не буду.
— Завтра! — заключает он, опираясь на стол и готовясь встать и уйти. — Если завтра в двенадцать тебя не будет в ресторане, послезавтра будешь должна на пол-лимона больше. Включаю тебе счетчик, и каждый день тебе будет капать пол-лимона — за двадцать дней десятка. У тебя эти бабки есть — не последнее отдашь…
И встает, и застывает, слыша мои слова, медленно поворачивается всем грузным телом и плюхается обратно, и смотрит на меня так, словно не верит своим ушам.
— Да ни хрена я тебе не отдам, — говорю с улыбкой. — Я передумала. Я привыкла с серьезными людьми дело иметь, а тут один пустой базар, да на понт меня берут, да и ведут себя по-бычьи. Отдыхай, Ленчик.
И весело так ему подмигиваю, и встаю, не реагируя на яростный шепот:
— Сядь, сука!
— Слышь, фильтруй базар, Ленчик, — бросаю пренебрежительно, стремясь задеть его посильнее, понимая что план мой отсидеться до конца марта уже рухнул. — Ну че ты понтуешься — здесь, в зале, фэбээровец, хер чего ты мне сделаешь. Все бумаги на тебя и твою братву — у моего адвоката, я тебя предупреждала. Будете меня доставать — закажу под вас работу или сдам на хер мусорам. Понял в натуре? И это — заплати за меня. Столько времени у меня отнял впустую — гони лавэшки…
И иду к выходу, легко и спокойно, понимая что в любую секунду могу услышать за спиной тяжелые шаги и дыхание, и он схватит меня и потащит к выходу, несмотря на то что народа в баре много. И хотя Америка страна героев, безрассудно вступающихся за посторонних людей — по крайней мере, в кино так, — не исключено, что хрен мне кто поможет. И что будет дальше — неясно. Но сзади тихо, и хотя воображение услужливо подсовывает неприятную картину — Ленчик выхватил уже ствол и целится мне в спину, и через мгновение пули попортят мою кожаную куртку, — я ее отметаю. И выхожу спокойно, и подаю Мэттьюзу условный сигнал: вынув по пути к машине тонкую сигару, подношу ее к губам и прикуриваю перед тем, как сесть. Признаться, нелегко дается такая размеренность действий — инстинкт толкает внутрь “Мерседеса” и требует газануть с визгом и нестись к дому, чтобы спрятаться там.
Но заставляю себя не спеша открыть дверь и сесть на уютное кожаное сиденье, и вижу краем глаза, как смотрят на меня из соседней “Тойоты” двое, один из которых разговаривает по телефону, — и трогаюсь все же рывком: дрогнула рука и нога чуть сильнее вдавила педаль. Показалось, что они хотят заблокировать мне выезд — и встань я по-другому, так бы оно и было, но я давно по-бандитски паркуюсь, то есть лицом к улице, чтобы не терять времени и сорваться в любой момент. И когда уже вырываюсь на простор, вижу в зеркало заднего вида, что они едут за мной, и тут же усилием воли ослабляю давление на педаль газа. Пусть преследуют меня, пусть убедятся, что я еду домой, и главное — пусть не подозревают, что я догадываюсь о слежке.
Внутри чуть подрагивает, и руль сжимаю чуть крепче, чем надо, — но это не стыдно, только дураки не боятся, ты так говорил. Но сам в последние минуты своей жизни точно ничего не боялся — и, наверное, сказал эту фразу, просто чтобы успокоить меня и я не стеснялась тебя, если испугаюсь чего-нибудь, и рассказывала все. Так что признаюсь — но не в том, что боюсь, этого, кажется, нет, а в том, что волнуюсь немного. Ничего, можно — ведь повод есть, война началась, и теперь мне предстоит играть роль приманки и пару часов возить за собой хвост.
— Все в порядке, Олли, они за тобой через машину, я за ними, на соседней полосе — сообщает мне зазвонивший телефон. — Я тебя правильно понял — ну, с сигарой?
— Абсолютно.
— Отлично! — Голос у него веселый, не деланно веселый, а просто веселый, и даже, кажется, довольный. Это ободряет меня, конечно, но, с другой стороны, удивляет — и только минут через пять понимаю, что он и вправду доволен, потому что ожидание закончилось и игра в войну, по которой он столько лет скучал, началась. — Отлично. Карту не забыла? Тогда все по плану. Только не торопись и не волнуйся.
Отбой. Он прав, волноваться мне нельзя — и гнать нельзя, потому что тут, в центре, много копов. Вот когда окажемся поближе к цели, тогда все будет о’кей. Но до нее пока далеко — тем более что, хотя уже пол-одиннадцатого, машин много, так что все равно особо не разгонишься.
Что ж, надо отдать Рэю должное — похоже, что он оказался прав. Мы, конечно, оба рассчитывали, что Ленчик поведет себя умнее, но я честно сказала, что один процент на то, что он упрется, есть. Он ведь мог подумать, что я просто тяну время, и могу запросто найти очередного киллера или вообще пропасть — ведь он не в состоянии проверить мою историю насчет ФБР и должен подозревать, что я готовлю побег и потому откладываю и откладываю срок платежей. Рэй же заявил, что процентов этих куда больше — и потому и придумали условный сигнал, показывающий, что имел место серьезный конфликт.
— Все что им надо — это тебя захватить, привезти к себе в мотель или другое место, запугать до смерти, заставить подписать нужные им бумаги и отдать распоряжение своему банку по телефону, или по почте, или по факсу. Естественно, если речь идет об очень крупных суммах, то они должны понимать — ты же сказала, что у них есть специалист в банковских делах, — что это можно сделать только при визите в банк. А значит, они потребуют от тебя позвонить и при них договориться и потом проводят тебя до банка, уверенные, что ты не станешь там шуметь и поднимать тревогу. Для того чтобы быть в этом уверенными, они должны верить, что сломали тебя, что ты будешь молчать — не исключено, что в их планы входит продержать тебя у себя несколько дней и все время обрабатывать, не физически, конечно…
— Ты меня утешил. — Я тогда сделала веселую гримасу, хотя не было мне прямо так уж весело, потому что понимала, что ошибись Мэттьюз в своих действиях, и то, что он сейчас говорит, может воплотиться в реальность. Но он уже говорил об этом, когда мы разрабатывали план, и это для меня не новость, пусть и звучит по-прежнему не слишком оптимистично.
— Значит, если конфликт произойдет, если они откажутся ждать, а ты произнесешь в ответ еще более резкие слова, задев их по максимуму, то они попробуют захватить тебя сразу. Не у бара — тут все-таки хватает людей в это время, мы не случайно именно вечер выбрали и это место, — но по дороге. Одна машина пойдет за тобой, чтобы тебя не потерять, а вторая направится к Бель Эйр, в уверенности, что ты покрутишься немного по городу и поедешь туда. А мы действуем по плану…
Что ж, по плану — так по плану. Маршрут он меня заставил запомнить заранее, чуть ли не на следующий день после встречи с Ленчиком его разработал и экзамены устраивал, и я его повторяла несколько раз, и однажды даже проехала, чтобы посмотреть. И сейчас думаю про себя, что здорово, что я прошла давным-давно, в Москве, уроки езды в экстремальных ситуациях, — и навыки эти, которыми, кажется, так и не пришлось воспользоваться практически, должны сидеть где-то глубоко и выскочить в тот момент, когда они понадобятся. Я этого даже не почувствую — для меня все будет естественно и обычно, потому что они часть меня.
Еду по десятому шоссе, как обговорили, и они должны думать сейчас, что, может, я просто решила покататься, и доберусь до пересечения с шоссе четыреста пять и сверну направо, на Беверли-Хиллз и Бель Эйр. А могут думать, что я боюсь узких дорог и потому предпочла широкие шоссе, где меня сложнее выследить и перехватить, — это их дело, что думать, а мне важно, что эти идут за мной, а Ленчик на “Чероки” пойдет как бы мне наперерез, и в две машины тормознуть меня куда легче, тем более что с шоссе мне все равно придется сойти.
Господи, сколько же в этакой игре всяких “если”. Если они поедут за мной до конца, не потеряют меня или не прекратят преследование, сломав наш план и оставив нас в замешательстве… Если они хотят захватить меня, а не просто последить, убедиться, что я еду домой, а не в ФБР в поисках защиты — и тогда наш план тоже сломается. Если у них есть при себе оружие, чтобы Мэттьюз мог применить свое, он иначе не может… Если у них две машины, опять же, а не три, и тогда они нас перехитрят… Если Мэттьюз меня и их не потеряет… Одни сплошные “если”…
“Не думай, не думай!”, — твержу себе. Сейчас совсем не время думать — все уже продумано, и теперь надо выполнять план, веря в то, что он надежный и единственно верный. Любое сомнение — это ошибка, которая помешает и мне, и всей операции. Конечно, легко сказать “не думай”, когда минут так через сто меня должны попытаться захватить. И если Ленчик такой идиот, что поставил получение денег под угрозу срыва, то можно представить, каковы его подчиненные — к тому же они меня ненавидят люто, и где гарантия, что они не перестараются при захвате, не влепят мне, скажем, пулю в бензобак или не скинут меня с дороги так, что я все кости переломаю?
И внутренний голос говорит и говорит, то срываясь на визг, то падая уныло, и я наконец затыкаю его. Просто отрешаюсь, и закуриваю сигарку, и приспускаю окно, чтобы вентилировать салон, над которым подняла крышу — и в прорезь си-ди плеера всовываю диск, купленный еще Корейцем, — его любимый гангстерский рэп, вся коллекция которого перекочевала в мою машину после его отъезда. Но вместо того чтобы думать о нем, вслушиваюсь в слова и удивляюсь самой себе, так и не сумевшей после смены личности выбрать свою музыку, — в детстве обожала “Алису" и ДДТ и всякий прочий рок, живя с тобой полюбила “Куин” и Меркьюри, а вот Оливии Лански не поймешь, что подходит. Так что все, что ей остается, — слушать полуматерную речь певца, Кулио его зовут, кажется. “Гангстерский рай” — так диск называется, как и фильм, который я не смотрела. Кулио и Тупак Шакур и еще какие-то имена — все любимцы Корейца, который что-то в этой музыке находил. Раз он находил, то и я должна найти — по крайней мере, могу попытаться.
— Олли, все по-прежнему. Пора перестраиваться.
— О’кей, — отвечаю замолчавшему телефону и ухожу не направо, как ждут мои преследователи, а налево, и через какое-то время снова налево, и возвращаюсь в центр. И они не оторвались, потому что еду я не спеша, и перестраиваюсь заранее, и поворотным сигналом мигаю, подсказывая им, что делать. Ошибутся еще быки, проскочат мимо (откуда им знать хорошо Лос-Анджелес, они ж не местные, да и я, столько здесь прожив, не представляю до конца, куда двигаюсь), и потом начинай все сначала. Но они сзади, я их вижу. А потом с изумлением замечаю, что умудряюсь вести машину и двигаться в такт музыке. Молодец все же Кореец — знал, что слушать, даже мне понравилось.
На часах мерседесовских — начало двенадцатого. Вот время летит — кажется, несколько минут прошло после того, как вошла в бар, а уже полтора часа назад это было. Все верно — я приехала пораньше, без двадцати десять примерно, и кофе выпила до их прихода, и они себе заказали по порции виски. И посидели мы после их прихода, а они ровно в десять прибыли, минут пятнадцать, двадцать максимум. Пока я не начала за второй чашкой кофе объяснять Ленчику, что мне нужна отсрочка. А потом был диалог еще минут на пять — десять, и выходит, что я в дороге уже почти час. И до цели совсем немного.
Направо, еще раз направо. Вот это места, я даже не думала, что здесь такое может быть, забыла совсем про советскую еще фразу, согласно которой Нью-Йорк — город контрастов. Я маленькая была, а запомнила, как нам любили всякое дерьмо показывать: мазнут камерой по шикарным улицам и магазинам — и тут же Гарлем и прочие дыры. Москва, кстати, давно уже тоже превратилась в город контрастов, но это неважно, важно то, что в Лос-Анджелесе, оказывается, не меньше контрастов, чем в Нью-Йорке, и я заехала в какую-то глушь и даже не могу сориентироваться, где я. Темно, редкие фонари, и только старые, кажется, заброшенные дома вокруг, и нищета, и убожество, и “Мерседес” подпрыгивает на выбоинах в покрытии узкой улочки.
— Олли, оторвись от них сейчас подальше, и как только увидишь, что я свернул, сворачивай за мной и тут же тормози, — сообщает обогнавший меня Рэй.
Снова дрожь появляется — близится момент истины, и по тому, удастся ли первый удар и насколько четким он будет, я смогу убедиться в наших шансах на победу и в мастерстве Рэя. Только вот немного не нравится мысль, что этот момент может стать для меня последним. Ладно, поздно уже думать.
Резко поворачиваю вслед за Рэем, перед поворотом убеждаясь, что оторвалась от преследователей метров на двести-триста, — улица пустынная, и не было больше никого сзади, и очень надеюсь, что это они. Торможу, не выключая фар и включив аварийную сигнализацию, и закрываюсь изнутри, и снова закуриваю, только вот окно чуть приподнимаю, чтобы руку в него просунуть было нельзя. И смотрю, как Рэй проезжает метров пять вперед и сворачивает в арку направо, оставив меня одну. Больше он ничего не говорил — кроме того, что, как только начнется конфликт, я тут же должна сорваться с места и въехать в ту же самую арку и нестись домой не оглядываясь.
Осматриваюсь, опустошая голову. Не нравится мне здесь — тут оказаться в такое время, наверное, стремно и без преследователей на хвосте. Темно, ни души, словно это необитаемый квартал,
Зона из некогда нравившегося мне “Пикника на обочине”. Железные баки, доверху набитые какими-то пакетами, дымок от тлеющего мусора, зловонные на вид лужи, и тоскливое кошачье мяуканье, свидетельствующее, видимо, о сексуальной неудовлетворенности. И нечеткий свет фар сзади, там, откуда только что свернула.
Проскочили, идиоты! Вижу в зеркало заднего вида, как они пролетают мимо — если это они, конечно, — и от злости чуть не нажимаю на сигнал, чтобы самой себя обнаружить. Неужели все сначала? Неужели зря гоняли столько? Или…
Возвращаются — по крайней мере, кто-то возвращается, слышен шум мотора в тяжелой тишине. И точно: вижу в зеркало сдающую назад машину. Вроде “Тойота”, хотя темно, хрен поймешь, — но по тому, что она сворачивает в этот переулок и становится сзади меня, это — они.
Черт, надо было взять у него пистолет — просила же, но потом вняла голосу разума, то есть голосу Рэя Мэттьюза, утверждавшего, что это ни к чему, особенно с учетом того, что мной интересуются и ФБР, и полиция. Отвыкла я от московской обстановки, от жизни с тобой, когда все что угодно могло случиться, в любой момент могли мне позвонить и сообщить самое плохое — как это и произошло, когда тебя ранили и в галерею приехал Хохол. Отвыкла от того напряжения, в котором была в ходе операции “Кронин”, — на войне как на войне, все привычным казалось и нормальным, а тут…
Курю, глядя перед собой, и поднимаю голову только когда слышу:
— Эй!
Один сбоку, у моей двери, смотрит на меня в почти прикрытое окно, второй обошел машину спереди, а назад и не сдашь, там они меня подперли. Они же не знают, что я в свое время переехала киллера — и переехать этого козла мне не составит никакого труда, и даже не буду задумываться о том, что меня могу вычислить по вмятинам, отпечаткам протекторов и прочей ерунде.
— Эй, проблемы?
Говорят по-русски, значит, удостоверились, что я это я. Тот, кто сбоку, вдруг резко дергает на себя дверь, не зная что она заперта, естественно.
— Э, открывай! У Ленчика к тебе дело есть — сейчас съездим. Слышь, открывай!
Мотаю головой, изображая испуг, тем более что это несложно — мне и так, мягко говоря, все происходящее неприятно.
— Ну че, колесо пропороть? — Тот кто спереди вытаскивает нож. — Или стекло разбить? Мы ж тебя один хер вытащим — хоть через крышу. Лучше сама выходи, а то морду попортим!
Снова мотаю головой.
— Ну давай, сука, мать твою!.. — Все, кончилась дипломатия, взорвались ребята. Где же этот чертов Рэй?
— Что вам от меня надо? — спрашиваю по-английски негромко, ведь и они негромко говорят, а сквозь оставленную мной щель между окном и крышей они все должны разобрать. — Уйдите или я позвоню в полицию!
— Не бубни, сука! Дверь открой, поняла? Живо!
— Эй, мужики, проблема? — слышу сзади голос Рэя. Не оглядываюсь, держа в поле зрения этих, но зато они оглядываются, быстро смотрят друг на друга и тот кто был перед моей машиной огибает ее, встает рядом с приятелем, а потом оба делают пару шагов вперед.
— Проблема, мужики? — повторяет веселый голос, и язык чуть заплетается — наверное, так и должен говорить оказывающийся в такое время и в таком месте человек. И тут я поворачиваюсь и вижу, как он подходит к ним, понимая, что он въехал в арку и проскочил насквозь и снова оказался на той же улице, с которой мы свернули сюда, и там, видно, бросил машину. Вспоминаю, что по плану через мгновение должна рвануть вперед, вписаться в арку у тупика и уйти через нее — эти ведь видели только сплошную стену, они не в курсе, что там арка есть, и уверены, что я никуда не денусь. Но понимаю сразу, что, несмотря на все свои эмоции, уехать не могу — я должна видеть это, хотя видно мне и не очень, они мне его загораживают уже.
— Ну че с ним делать? — спрашивает один другого.
— Да че — перо ему покажи, он сейчас сам свалит.
Они уже шагах в пяти от меня, и я резко открываю дверь и захлопываю ее обратно — чисто инстинктивно, решив, что этим помогу ему.
— Не высовывайся, сука! — орет один и резко бросается ко мне, и я только успеваю утопить собачку, закрывающую центральный замок — Сиди и не высовывайся, паскуда, мать твою!..
И я не вижу, что происходит, слышу только удар тела о землю и вижу, как тот, что был около меня кидается туда, где должен быть Рэй, и залезает на ходу в карман, и останавливается, застывает, делает шаг назад и падает на спину. И видно плохо, но я готова поклясться, что у него что-то торчит из груди — и, кажется, я уже знаю что. А еще вижу резкий взмах руки, показывающей мне, что надо ехать, и повинуюсь этому жесту, и срываюсь с места, и едва не вминаю “Мерс” в арку, входя с нее со слишком острого угла. Задний ход, вперед, и я уже в ней, а еще через мгновение — на улице, и глаза прыгают с дороги на лежащую на коленях карту. Я не понимаю, что произошло, почему не было выстрелов — но еду, как тупой робот, выполняющий заложенную в него программу, заученно кручу руль, сворачивая то там, то здесь. И музыка прибивает остатки мыслей, позволяя концентрироваться только на дороге и чуть-чуть на ней.
И я вдруг начинаю истерично смеяться, когда на светофоре беру с соседнего сиденья плоскую коробочку, чтобы поменять диск. И вижу надпись на ней: “Гэнгстерз Пэрэдайз” (“Гангстерский рай”). И говорю себе, что эти двое, наверно, уже там — или на подлете…
— Вы не могли бы проводить меня, офицер? Простите за необычную просьбу, но мне показалось, что меня кто-то преследовал — какая-то машина, джип, ехала за мной и сигналила и мигала мне фарами, и потому-то я и превысила скорость. Она отстала, но я не знаю, где она, и не поджидают ли меня где-то эти шутники? Мне здесь совсем недалеко — минут двадцать. С вами меня никто не тронет…
Он мнется, но вижу, что купился, кажется, — хотя у американских полицейских, как правило, физиономии серьезные и непроницаемые, у этого маска начинает менять очертания, и после недолгого колебания он кивает, улыбаясь.
— Хорошо, мэм.
— Мисс, — улыбаюсь чуть кокетливо ему в ответ. — Пока лишь мисс. И возможно, стану миссис, если встречу по-настоящему сильного мужчину, с которым мне будет надежно и спокойно — как с вами сейчас…
— О’кей, мисс. Езжайте вперед, а мы за вами — только не гоните, не то нам снова придется вас остановить…
Смеется собственной шутке и залезает в свой “Шевроле Каприз” только после того, как я усаживаюсь в “Мерседес”. Не очень смешно — и, возможно, я сделала неправильно, обратив на себя внимание полиции. Но просто подумала по пути к дому, что не исключено, что Ленчик так и ждет меня где-то на подъезде к Бель Эйр — маловероятно, но черт его знает. Получилось, что мы с Рэем их разделили — пока “Тойота” ехала за мной, в полной уверенности, что я сверну к своему району, Ленчик должен был выдвигаться к Бель Эйр, сам или послать кого-то, на “Чероки” или на другой машине. Их же семеро да еще и Виктор — в “Тойоте” было двое, так что еще одна машина у них должна быть наверняка — чего им тесниться впятером в джипе?
Но я свернула обратно в центр, и Ленчик все равно уже не успевал и, видимо, верил, что те двое и так меня тормознут или хотя бы проследят, что я буду делать, и потом сообщат, что наконец я возвращаюсь к себе, на базу, так сказать. И они наверняка связывались с ним, пока преследовали меня, а потом пропали — и что оставалось делать их главарю? Или он у себя в мотеле ждет меня в гости в сопровождении своих головорезов — или не слишком веря в то, что они вот так легко смогут меня прижать к обочине или загнать в тупик, караулит меня там, куда я должна вернуться.
В общем, версий у меня в голове выстроился целый десяток, не меньше. И я еще подумала, что хорошо, что не пишу детективы — я бы запуталась, описывая разные ситуации и придумывая за хороших и плохих героев, что они должны делать и как высчитывать следующий шаг оппонента. Хотя, с другой стороны, детективы же из головы рождаются, ни на чем не основанные, а в жизни все сложней и запутанней.
И потому, оказавшись на шоссе сто один, ведущем в Голливуд — а там налево и Беверли-Хиллз тут как тут, — прибавила скорость, зная, что патрульные машины здесь катаются нередко. Довела стрелку спидометра до сотни — сто миль в час, считай сто шестьдесят километров, — а потом до ста десяти, и тяжелый “Мерседес” не летел, но шел величественно, крепко держась всеми колесами за дорогу, и минут через десять — пятнадцать засверкали за спиной проблесковые маячки, и, когда я поняла, что это за мной, начала тормозить плавно и встала. Как положено, опустила окно, не выходя из машины, и приготовив документы, и положив руки на руль — слышала по телевизору, что случалось пару раз, что полиция начинала стрелять, когда водитель остановленной машины вел себя по-другому: пугались копы, что он при оружии и сейчас откроет по ним стрельбу. Это Америка, здесь все возможно — и это при их-то уровне жизни, что уж тогда о несчастной Москве говорить.
А потом решила продолжать игру — ведь специально привлекла к себе внимание — и выскочила из “Мерседеса”, словно и вправду испугалась чего-то, и кинулась к ним, несмотря на предупредительные крики, приказывающие мне оставаться в моей машине, и затараторила, перебивая, что кто-то меня преследовал незадолго до их появления, и я, конечно, готова заплатить штраф, но я так испугалась, так испугалась!..
Сработало — даже квитанции мне не выписали. Я так искренне изображала испуг, что они даже не успели возненавидеть меня за то, что я, молодая обеспеченная девица, разъезжаю на дорогой машине, возвращаясь, возможно, от очередного любовника в свой особняк, в то время как они вынуждены за какие-нибудь три тысячи в месяц ежедневно рисковать собой. И достаточно толстый комплимент насчет сильного и уверенного мужчины сработал — кокетство мое ему понравилось. Вот если бы я начала орать, что за мной гнались, а полиции на это плевать, им бы только штрафы выписывать, а жизнь налогоплательщиков их не беспокоит, — вот тут бы они озлобились. Но я ведь была сама любезность, и так мило улыбалась, и так надеялась, что они меня проводят, — разве они могли отказать?
И я еду не спеша, тем более что с шоссе приходится свернуть, значит, скорость волей-неволей надо сбрасывать. И вижу, как они едут за мной, и то ли мне показалось, то ли и вправду — на улочке, по которой проезжала, увидела “Чероки”, и фары выхватили силуэты внутри…
— Могу я угостить вас чем-нибудь, офицер, — вас и вашего напарника? — спрашиваю, остановившись перед своими воротами, выйдя из машины и приблизившись к их “Шевроле”. — Кофе, пиво или что-нибудь покрепче?
Тот, кто разговаривал со мной, смотрит на напарника — и я чувствую, что он бы с радостью зашел, надеясь наверняка, что может получит чего-нибудь повкуснее. Мало ли на что способна такая вот богатая девица — тем более что сама наговорила комплиментов. Но на двоих им, естественно, ничего не обломится, это он понимает, даже если считает себя покорителем женских сердец и тех мест, что пониже сердца, — и потому в ответ гордо качает головой:
— Может быть, в другой раз, мисс. Только будьте поосторожней за рулем и не гоняйте так…
С видимым огорчением пожимаю плечами и въезжаю в ворота, и только тогда они трогаются с места, посигналив мне напоследок. Что ж, все прошло классно. Уверена, что им будет о чем потрепаться во время сегодняшнего дежурства — все какое-то разнообразие в скучной рутине службы, — но начальству они об этом не доложат, ведь тогда им придется признать, что покинули трассу, чтобы проводить какую-то миллионершу до ее особняка. Да и даже если доложили бы, начальство их обо мне ничего не знает — пусть допрашивала меня полиция и подозревает в том, что я имею косвенное отношение к убийству Стэйси, пусть я на подозрении у ФБР, но это вовсе не значит, что и у тех и у других нет никаких других дел, кроме, как отслеживать каждый мой шаг. Да и что я такого сделала, в конце концов, — всего лишь превысила скорость на трассе. Конечно, узнай Крайтон о том, что вчера в трущобах неподалеку от Даун-Тауна (я даже не знаю точно, где мы были, похоже на какое-то гетто, а скорее, на руины, оставшиеся после ядерной войны) убили двух русских, а через сорок минут на значительном расстоянии от этого места остановили за превышение скорости мою машину, ему этого хватит, чтобы утверждать, что я была на месте убийства. Но не узнает — не должен.
Вхожу в дом, зажигаю свет повсюду, лениво потягиваюсь — кокетство, даже абсолютно придуманное и намеренное, меня всегда чуть возбуждает. Как и тех, с кем кокетничаю — полицейского в данном случае. И я уверена при этом, что себя не переоцениваю — я, конечно, не самая сексапильная женщина планеты и даже не считаю себя новую красавицей, да и себя прежнюю тоже, но опыт мой подтверждает, что с мужчинами я общаться умею. И знаю, что сказать, и как и когда посмотреть, и какие эмоции изобразить своим видом, позой, выражением лица — и это действует. Если уж подействовало на осторожного, никому не доверяющего Кронина — то это правда. Хотя, разумеется, есть исключения из любого правила — и вот соблазнять Ленчика я бы даже не стала пытаться, тем более что он мне противен.
Уже залезая в ванную и, как всегда, замерев на мгновение, когда вода касается того самого места, которое теоретически мужчин интересует больше всего, вдруг ощущаю, как пробегает по мне сконцентрированная в пучок дрожь — остаток нервного напряжения. И возвращаюсь мыслями к забывшейся во время гонки сцене — непонятной и нечеткой. Что он сделал с ними и почему отступил от своего плана? Он ведь собирался стрелять и потом вызывать полицию, и сообщить, что на него, частного детектива, напали какие-то вооруженные типы. И что первого февраля был убит его партнер, а последние пару недель кто-то каждый день звонит по телефону ему, Мэттьюзу, и угрожает расправой. И еще он собирался сказать, что, на его взгляд, это кто-то из вынужденных пойти на развод мужей нанял этих громил. И он уверял меня, что его заберут в участок и отпустят не раньше чем часа через три — и он мне сразу позвонит и приедет, только если убедится, что полиция ему поверила. А в противном случае поедет домой — потому что рисковать не стоит — и тогда приедет ко мне утром, и то после того, как убедится, что все чисто.
— Я не думаю, что будут проблемы, Олли. — Так он мне сказал. — Даже если попадутся копы, которые никогда обо мне не слышали — а поверь, что та история с моей отставкой была очень громкой, — значит, слышало их начальство. Если вдруг произошло долгожданное чудо и все напрочь обо мне забыли — значит, вспомнят, когда начнут устанавливать, кто я такой. Не поверить мне у них нет оснований — то, что Джим погиб, — это факт — хотя может возникнуть мысль, что я разбираюсь с убийцами своего партнера. Но, в любом случае, применение оружия будет признано правомерным — если, конечно, у них будет с собой оружие, и я молю Бога, чтобы так оно и было.
— Должно быть, Рэй — не забывай, что не так давно они попали под огонь киллера и потеряли троих людей. Теперь они каждый шаг делают, оглядываясь назад и по сторонам…
— Хорошо, если это так. Я думаю, что меня тогда порасспрашивают, снимут показания и отпустят, — я их упрошу, чтобы в газетах не упоминалось мое имя, потому что тогда, мол, за мной придут друзья тех, кого я убил, защищаясь. Надеюсь, что они пойдут мне навстречу — и таким образом я до конца операции останусь неизвестной величиной…
Что ж, и я надеюсь, на то, что он прав — как оказался прав в том, что Ленчик отдаст своим людям приказ меня похитить. Сейчас почти час — часа через три можно ждать звонка…
— Ты, как всегда, встречаешь меня в голом виде, Олли, — либо в постели, либо в ванной…
Господи, как он меня напугал! Так ведь и инфаркт можно заработать. Даже не думаю, что сама виновата, оставив открытой входную дверь, — ведь он и в первый, и во второй раз как-то проник внутрь, значит, и сейчас она бы его не остановила.
— Признайся, что специально выбираешь именно такие моменты для своего появления, Рэй, — отвечаю в тон, и улыбаюсь ему, и не сразу понимаю, что во взгляде моем легко читается восхищение. — Почему ты так быстро? Что, полиция даже не стала тебя допрашивать и просто вынесла благодарность за очистку лос-анджелесских улиц от швали и тут же отпустила? И вообще — что ты с ними сделал, Рэй? Я ничего не поняла…
А он смотрит на меня спокойно и невозмутимо, улыбается в ответ, и видно, что он доволен — то ли тем, как прошла встреча с полицией, то ли чем-то еще, пока не знаю.
— Ты задаешь слишком много вопросов, Олли, — куда больше, чем задали бы копы…
— Почему сослагательное наклонение, Рэй, — что значит “задали бы”? Разве они их не задавали?
— Если ты не возражаешь, я сварю нам кофе — и мы побеседуем в другой
обстановке, потому что эта меня немного смущает. Видишь ли, ты заставляешь меня отвлекаться от дела, и я могу что-то перепутать или сбиться с мысли…
Вообще-то я сижу в покрывале из пены, и видны только голова, шея и плечи, хотя, бесспорно, можно домыслить, где у меня что, тем более что он меня в обнаженном виде лицезрел уже дважды и в первый раз делал это слишком долго — прокрался в семь, а я проснулась в десять. Но дело не в том, что видно и чего не видно, — догадываюсь вдруг, что он уже не тот, которым был сегодня днем, он другой, потому что то, что случилось, прибавило ему уверенности, и он сделал большой шаг к себе прежнему — к бесстрашному, бравому вояке Рэю Мэттьюзу, героическому бойцу спецподразделения лос-анджелесской полиции, которым гордились и сослуживцы, и собственная семья. И который сам считал себя героем, и таковым считает себя и сегодня — впервые за минувшие с момента увольнения пять лет выйдя на тропу войны и одержав первую победу, и показав, что остался прежним, и себе, и мне — и мое восхищение в глазах тому доказательством. И потому с большей откровенностью говорит о том, что я ему нравлюсь, — с чуть большей, но я чувствую это “чуть”.
— Ну, может, ты мне все расскажешь наконец? — спрашиваю, когда сажусь напротив него.
Он все в тех же джинсах и в том же свитере, только майка под ним другая — и полагаю, что все, что он меняет из гардероба, ежедневно заезжая к себе, так это трусы с носками и майку. И не сомневаюсь, что в той сумке, которую он возит с собой в машине и втаскивает каждый вечер в дом, — тоже свежий комплект белья и бритва, хотя бреется он раз в пять дней, по-моему.
— Ну… — Он пожимает плечами и заминается, не зная, с чего начать, и я отчетливо понимаю, что он сейчас думает о том, чтобы в собственном рассказе не предстать этаким Рэмбо. Он реальный человек, я уже в этом убедилась — а значит, хвастать не любит, что следовало и из его рассказа о той операции, за которую его выгнали с работы. Сдержанный был рассказ, безо всяких красочных подробностей, сухой и скучный — просто констатация фактов, без расписывания собственных подвигов и самоотверженности. Он тогда ни разу не сказал о том, что семеро вооруженных террористов, в принципе, легко могли его убить — он, видимо, как не думал об этом, когда убивал их, так и позже не задумывался. Мне это понятно, точно так же мне бы не хотелось расписывать, как я направила машину на киллера, вместо того чтобы дать задний ход, или как побеждала Кронина, или как убила Павла — это было, и я должна была это сделать, и я это сделала, и пережила, и это мое. И все, что я могу — просто сказать, что все это имело место, но от подробностей увольте.
— Кстати, ты нарушила правила игры, Олли, — переводит он разговор на меня, полностью оправдывая мои подозрения относительно его нежелания что-либо рассказывать. — Мы же договорились, что, как только появлюсь я, ты тут же уезжаешь.
— Но я не поняла, что происходит, — признаю честно. — Не поняла — это во-первых, а во-вторых, их было двое, а в-третьих, я решила, что должна все увидеть.
Меняю положение в кресле, поджимая под себя ноги, поза такая уютная и, видимо, соблазнительная одновременно, и слежу за движениями его глаз, рванувших туда, где разошлись на секунду полы халата.
— В следующий раз, пожалуйста, соблюдай правила — игра не закончена, и может случиться так, что любое отклонение от выработанного нами плана сыграет отрицательную роль. Договорились? А что касается того, что ты хотела увидеть — я не думаю, что это самое приятное зрелище, хотя прости, я забыл, ты, наверное, и не такое видела.
Молчу, провоцируя его на продолжение, и он продолжает, пусть и вынужденно:
— Знаешь, я не стал ждать полицию — я просто уехал…
Смотрю на него непонимающе. Не он ли мне говорил, что все должно быть по закону, официально — и по-другому он не может?
— Да, я понимаю, о чем ты думаешь, Олли, — но, когда я увидел, как они обступили твою машину и как нагло себя ведут, потому что перед ними безоружная женщина, я вдруг решил, что закон на них не распространяется…
— Как тогда? — спрашиваю тихо.
— Да, как тогда, — соглашается он. — Хотя, конечно, тебя вряд ли можно назвать безвинной жертвой, по воле случая оказавшейся на прицеле маньяка.
И снова улыбка, снова уход от темы, и я уже начинаю проявлять нетерпение.
— Рэй, ты убил этих двоих?
— Что за вопрос, Олли? Я никого не убивал — я сидел целый вечер дома, а теперь вот заехал к тебе в гости и…
— Рэй, я, между прочим, волновалась за тебя, — произношу с укором.
— Хорошо. — Он снова серьезен и решительно засовывает в зубы сигару. — Хорошо, да, я их убил, что еще было с ними делать? Я не стрелял, потому что они не пытались стрелять, они все хотели сделать тихо — хотя у одного был при себе пистолет. В тот момент, когда ты захлопнула дверь машины и один рванулся к тебе — спасибо, я признателен, что ты мне помогла, — второй кинулся на меня и я его убил. Просто ударил и убил — меня этому учили. А когда тот упал, его приятель обернулся, и побежал ко мне, и лез в карман — я решил, что за оружием, и попозже выяснилось, что я был прав, — я кинул в него нож, которым меня пугал первый. Я был в перчатках — никаких следов. Запихал их в багажник, вынул документы — у одного были при себе права, я их забрал и кинул в мусорный ящик по дороге к тебе, — обнаружил, что на двоих у них был один пистолет, машину загнал в арку, и ее найдут не раньше завтрашнего дня, да и то вряд ли, я специально сломал ключ так, что багажник легко не откроешь, пусть полежат там, как лежал Джим…
— А что решит полиция?
— Полиция решит, что это бандиты, — я подкинул копам подарочек. Я выкинул тогда не весь твой кокаин, специально немного сохранил — пусть думают, что это разборки наркомафии. Никаких документов, номер у машины я оторвал, пистолет, нож, кокаин — полиции хватит работы. А твои — наши — оставшиеся друзья не скоро узнают, куда делись их коллеги. А когда узнают, что с ними приключилось и как это произошло, вряд ли подумают на тебя. Хотя…
Естественно, они подумают на меня — разумный человек предположил бы, что те в погоне за мной заехали не туда, куда следовало, и стали свидетелями чего-то или влипли в конфликт с не менее неприятными личностями, чем они сами, но Ленчика к разумным не отнесешь. Если завтра молния ударит в их мотель или у “Чероки” на полном ходу отвалится колесо, в этом тоже буду виновата я.
Но это неважно сейчас — совсем не важно…
Я перевариваю услышанное и ловлю себя на том, что человек, искренне говоривший мне, что будет действовать только в рамках закона, убил голыми руками двоих, несомненно, опасных бандитов, изменив своим правилам ради справедливости — или ради меня? И уже смотрю на него не просто с восхищением — смотрю как на человека, уподобившегося зверю и убивающего себе подобных, не применяя такого удобного для личной безопасности огнестрельного оружия, сходясь в первобытной рукопашной схватке.
Кровь, пот, удары — меня это возбуждает, как возбуждал вид тренирующегося в оборудованном в доме спортзале Корейца, за которым подглядывала иногда, чтобы его не отвлекать. И смотрела, с какой яростью он всаживает кулак в тяжеленный мешок, отлетающий от его удара, и обрушивает вдогонку еще серию, и ходят мышцы под мокрой кожей, и пустота в глазах — и рука моя сама собой тянулась вниз, под одежду, отыскивая заветные точки, и я кончала с такой силой, что потом с трудом удавалось отдышаться.
На меня это всегда производило впечатление — и мне нравилось, когда мужчина был сильным, и бесцеремонным со мной, и грубым, и делал мне больно. Нравились наручники и плетки, крепкие объятия и глубокие проникновения, нравилось, когда меня не спрашивают, как мне лучше, а делают. Так было с самого начала моей интимной жизни — когда лишивший меня девственности в тринадцать лет Лешка Мазанов слишком мягким был и нежным, и я не понимала, что мне не нравится, почему я ничего не испытываю, и лишь потом поняла, в чем причина. Когда год, наверное, спустя меня изнасиловали трое кавказцев — изнасиловали самым натуральным образом, посреди белого дня, заманив к себе в машину и доставив на квартиру. Страшно было, и они со мной делали все, что хотели, по одному, по двое и по трое, а я не имела никакого понятия об оральном и анальном сексе, да и в обычном сексе не слишком была искушена. Но, несмотря на страх, возбудилась сразу, увидев их голые волосатые тела, — и еще подумала, что я, наверное, извращенка, если с Лешкой неизменно сухая, а тут вдруг в такой ужасной ситуации между ног впервые появилась тяжелая, липкая, горячая влага.
И впоследствии от всех своих любовников — нет, это слишком сильное слово, лучше уж: постельных знакомых — я ждала того же. Но встречала это очень-очень редко, если не считать того случая, когда меня изнасиловали еще раз, на балконе в доме одного моего одноклассника, когда мне было уже лет шестнадцать. Я была у него в гостях, нас там много было, и мне надоело быстро, скучно стало, и я ушла, и, непонятно зачем, поднялась на лифте на самый верх, на шестнадцатый, кажется, этаж — дом был такой странный, я таких больше не видела, выходишь с площадки перед лифтами на лестницу, и там балконы между этажами, огромные, открытые ветру. И я вышла на балкон и закурила — для этого, собственно, туда и отправилась, потому что в гостях курить было нельзя почему-то, — и смотрела вниз. На печальный пейзаж, открывшийся мне, — на облезлые деревья, на которых мокрыми тряпками болтались редкие желто-красные листья, похожие на старушечьи платки; на небо грязно-серого цвета, приклеенное к крышам преждевременными заморозками; на унылые кривоватые коробки домов, влажные и в потеках; на сонных, похожих на засыпающих с наступлением холодов насекомых немногочисленных в дневное время крошечных людей.
И вдруг услышала голоса. И на балкон еще двое вышли — двое мужчин лет под тридцать, такие солидные, как мне показалось, в модных тогда кожаных куртках и джинсах. Покосились на меня, и я отвернулась тут же и видела краем глаза, как они уселись на большом листе картона в углу и начали обсуждать, куда же запропастился приятель, к которому они пришли, где он, мать его, задержался и не следует ли его наказать, выпив одну из нескольких бутылок коньяка.
Все мирно было и тихо, и они меня не трогали — даже спросили, не мешают ли мне, и я посмотрела на них кокетливо, как всегда это делала в шестнадцать лет, и сказала, что, конечно, нет, — я все равно собиралась уходить. Но почему-то продолжала стоять, специально оттопыривая попку, потому что считала своим долгом производить впечатление на всех попадающихся мне мужчин.
Произвела. Стояла так, и снова закурила, и задумалась, забыв про них, думая, не вернуться ли обратно к одноклассникам, потому что неохота в такую рань ехать домой, — и вдруг ощутила сильные руки на бедрах. Обернулась, увидев одного из них и похоть в его глазах, и он провел по моей попке и спросил: “Хочешь?” Я уже забыла, что сама подсознательно их соблазняла, и испугалась, и замотала головой — но поздно было, они явно решили, что я заигрывала с ними, и, в общем, были недалеки от истины, только вот секса я не хотела, да еще в таких условиях. А он приподнял мой плащ, и рука под школьной юбкой оказалась, на попке, прикрытой только колготками, и когда я произнесла: “Оставьте меня, пожалуйста” и широко распахнула глаза, подражая Монро, он вдруг взял меня за шею и наклонил вниз, как бы показывая, что, если буду возражать, окажусь внизу.
И я молчала, когда он меня нагнул вниз, за балконную перегородку, и звякнул вывалившийся из-под воротника свитера золотой крестик, ударившийся о кирпич и обречено зависший, покачиваясь, между небом и землей. А этот спустил с меня колготки одним движением, и заскрежетала молния его джинсов, а потом он уже был во мне — и брал жадно под просьбы товарища перестать и не связываться с малолеткой. И я стонала, подыгрывая ему, и только просила в меня не кончать — и через какое-то время он развернул меня, резко опуская на колени, и в ротик вошел и обильно кончил туда, держа за волосы и не давая отстраниться.
А потом, наверное, испугался сам своего порыва — но это я поняла только позже. Пригласил меня выпить с ними, обмыть, так сказать, знакомство, и коньяк был хороший и вкусный, после нескольких рюмок закружилась голова — и от спиртного, и от его снова жадных взглядов. И он не сдержался, конечно, и поставил меня на колени на картон, на котором они сидели, и брали меня уже вдвоем, и хотя неудобно было, и негигиенично, и вообще стремно, я едва-едва не кончила, чуть не оборвав длинную цепь безоргазменных совокуплений.
Но все же было страшно — они предлагали посидеть с ними еще, а потом перейти к их товарищу, который появится вот-вот и провести приятный вечер, — и я ушла. И они, естественно, не особо удерживали — все-таки насытились или просто временно утолили голод. И я, конечно, ругала себя потом за то, что спровоцировала их и рисковала быть выкинутой с балкона, — но внутренний голос напоминал, как мне понравилось то, что использовали меня, не спрашивая.
И еще был случай, уже позже, перед свадьбой, — я тебе, кажется, рассказывала уже в одной из наших диктофонных бесед, еще в Москве, как развратничала с четырьмя видеоинженерами, все, разумеется, было по доброму согласию, они мне нравились, и давно хотелось соблазнить их — но по одному было нереально, они работали вместе, в одной монтажной, и слишком дружны были. И я сделала это со всеми — и тоже была очень и очень близка, хотя, как всегда, ничего не испытала.
Так что мне всегда нравилось животное совокупление — но слишком мало их было в моей жизни, слишком мягки, нерешительны и неумелы были остальные мужчины, хотя многие и корчили из себя самцов и жеребцов. Но жеребцы были жирные и вялые, кастрированные как минимум морально, и стояли привязанные в конюшнях, и жрали лениво овес из яслей, и шарахались и ржали тревожно, если их вдруг отвязывали и, распахивая все двери, давали возможность побегать на воле. И поэтому, когда ты меня в первую нашу встречу повел на пустой второй этаж ресторана — и я не знала, кто ты, а ты не знал, кто я, и это не имело значения, потому что ты меня хотел и мне нравилось, что ты меня хочешь, — и наклонил, и брал властно и сильно, так что я кончила впервые в жизни, и так же властно опустил потом на колени перед собой, заставив сделать тебе минет, отчего я, кстати, испытала второй подряд оргазм, я и запомнила тебя и вспоминала, хотя не решалась звонить, несмотря на то, что сохранила твою визитку. Но судьба свела нас снова — сама свела и развела точно так же, по собственной прихоти.
Но то, что было с Юджином, — вот это уж точно по-звериному, с болью, яростью, рычанием и укусами, синяками и кровоподтеками. С ним каждый акт был групповым изнасилованием, он из человека превращался в огромное, грубое животное, утоляющее похоть, — а я такая маленькая была по сравнению с ним, такая нежная, и это так смотрелось со стороны, что даже просматривая потом пленки с нашими соитиями, неизменно сама доводила себя до оргазма, и требовался для этого самый минимум усилий.
И я вспомнила все это, услышав рассказанное Мэттьюзом, рассказанное буднично и тускло, но увиденное мной во всех красках, во всем великолепии. И мокро стало внизу, и я посмотрела на него чуть затуманенным взглядом, и не знаю, что произнесла бы, что сделала бы в следующий момент — потому что он тоже хотел меня, одержавший победу зверь жаждал утолить похоть, — но услышала пробивающийся сквозь туман собственный голос:
— Нельзя! Не сейчас, Олли!
Но я не слышала его, не желала слышать, и он понял это, крикнув показавшуюся ему единственно верной фразу:
— Может быть, потом, завтра, послезавтра — только не сейчас!
И я выдохнула тяжело, и отвела от него глаза, по которым все можно было понять, и взгляд постепенно начал проясняться — только вот внизу, подо мной, была, наверное, уже небольшая лужица, растаявшее желание — растаявшее оттого, что так и не осуществилось…
…“По мнению полиции, двое белых мужчин, обнаруженных вчера днем в багажнике автомобиля, стали жертвами своих конкурентов по торговле наркотиками. Судя по всему, покойные прибыли в это заброшенное пустынное место для того, чтобы продать — или купить — очередную партию наркотиков, предположительно кокаина, и были готовы к неприятностям: у одного из них был пистолет, у второго нож, и не исключено, что арсенал их был куда внушительнее, но его частично позаимствовали убийцы. Убитые знали тех, с кем встречались, и потому были убиты довольно необычными способами: один профессиональным ударом руки, сломавшим ему переносицу так, что кости пробили мозг, а второй брошенным с близкого расстояния ножом. Как правило разборки между наркомафией заканчиваются стрельбой, однако в этом случае все было по-другому.
Речь идет о наркомафии, поскольку в машине покойных обнаружена кокаиновая пыль, к тому же в кармане одного из них найден пакетик с кокаином, видимо, образец, то ли данный продавцом, то ли предназначенный для покупателя. Вскрытие показало, что сами покойные не употребляли наркотики — наркодельцы предпочитают губить чужие жизни, но берегут свои. Однако двое белых мужчин, чьи имена из-за отсутствия документов и номеров на машине пока неизвестны, свои жизни не сберегли…”
— Что скажешь, Олли?
Вместо ответа поднимаю большой палец. Что тут скажешь — профессионально сработал мистер Мэттьюз. А то, что нашли их быстро — на второй день, — так это не его вина.
— Думаешь, они догадаются?
— Думаю, что они давно догадались, Рэй…
Хотела добавить, что газеты они вряд ли читают, а по телевизору об этом, кажется, не было ни слова — слишком малозначительное происшествие для такого мегаполиса, — но спохватилась, что Виктор с ними, он-то должен все отслеживать. Их это люди или нет, они не проверят — ну не пойдет же Ленчик в полицию с заявлением, что пропали его друзья? Конечно нет, и Виктора не пошлет, и вряд ли воспользуется связями Берлина, да и вряд ли у того есть связи с полицией. А значит, ему остается только верить, что они давно уже покойники — с того самого момента, как прекратилась телефонная связь с ними.
Интересно, что он думает? Ну, это еще можно предположить: он думает, что их убил кто-то нанятый мной, и он теперь ломает голову, кто же это мог быть. Не киллер же, тот бы стрелял, и охраны у меня вроде не было, если бы была, я бы ее таскала с собой на встречи. Может, поверит, что они действительно заехали не туда, куда следовало, а я тут ни при чем? Может, испугается и уедет наконец, плюнув на всю затею: вот уже пятеро погибли у него, меня не найти, я сижу дома и не высовываюсь, напрягать меня опасно, потому что я обладаю сильным компроматом, способным посадить Ленчика на электрический стул, или в газовую камеру, или в кресло, в котором ему сделают смертельную инъекцию. Это смотря по тому, где будут его казнить, он же организовывал убийства и в Лос-Анджелесе, и в Нью-Йорке, а в каждом штате свои законы — кстати, было бы вполне по-американски, если бы из газовой камеры бесчувственное тело перенесли на электрический стул и казнили бы во второй раз, а напоследок еще и укол сделали бы, уж очень вяжется это с их приговорами на сроки до ста и более лет.
Да нет, конечно, он никуда не уедет — хотя пребывание его здесь становится стремным. Но он уже точь-в-точь как бык на арене: ничего не видит, кроме красного плаща, и кидается на него, чтобы поднять на рога, а плащ ускользает, и погасает в налитых кровью глазах солнце после точного удара мулеты. Он не уедет, и не надо, чтобы он уезжал — потому что мы должны нанести завершающий удар. Или оказаться на рогах — как повезет.
Тогда, в ту ночь, когда он рассказал мне, как все произошло и я с трудом победила возбуждение и ушла к себе — зная, что, если он придет сейчас, я ему не откажу, не смогу, но он не пришел, — то думала, засыпая, что коль скоро он преступил закон, то, может, завтра он начнет-таки пытаться убивать их по одному или по двое. Ведь он знает про них все, он же недаром целыми днями за ними следил и в курсе, где они живут и где бывают, где обедают и ужинают и где развлекаются. Но наутро поняла, что ничего такого не будет — и мне и дальше предстоит играть роль приманки, а он будет вступать в дело, только когда этот, кого мы ловим, на эту самую приманку клюнет с самыми серьезными намерениями.
Вот уже третий день, как я безвылазно сижу дома, а Рэй так и пропадает с утра до вечера, хотя утро у него не раннее и вечер не поздний. Сменил машину наутро после убийства — на тот случай, если покойники ее засекли и передали Ленчику, что кто-то крутится рядом, — он теперь разъезжает на небольшой “Шевроле Люмина”. А я смотрю телевизор в ожидании нового репортажа о случившемся в лос-анджелесских трущобах и читаю газеты. Единственное полезное дело, которое сделала за это время, — извлекла из сейфа конверт, предназначавшийся для ФБР, точнее для Бейли, потому что в руки Крайтона ему лучше не попадать, и вложила туда название мотеля, в котором остановился Ленчик. Пусть проверят потом и убедятся, что действительно там жили какие-то русские, — если, конечно, я когда-нибудь отправлю этот конверт. А все остальное время смотрю наши с Корейцем записи и отчаянно мастурбирую — возбуждение, поселившееся во мне после рассказа Мэттьюза, так и не спадает.
Так что слава богу, что вышла наконец эта газета — именно в ожидании ее я сидела дома и план наш временно приостановился, хотя лично я так и не поняла, чего мы ждем и зачем. Но когда Мэттьюз произносит с довольным видом, что полиция подумала то, что он хотел, чтобы она подумала, я понимаю, что пауза вызвана именно тем, что он хотел убедиться, что никто не видел на месте преступления большой черный “Мерседес” или белый “Форд Торус”. Здесь от газет ничего не скроешь — у них куча своих информаторов в полиции, которые за сотню-другую баксов с удовольствием поделятся засекреченной новостью, — и раз написано, что не было никаких свидетелей, значит, так оно и есть.
— Что теперь, Рэй? — спрашиваю с облегчением, показывая ему, что я слишком устала сидеть дома без дела и ждать и не задавала ему вопросов только потому, что в самом начале приняла его условие — согласилась делать то, что он скажет. — Что теперь?
— Теперь фаза номер два, Олли, — сегодня же вечером или если тех, кто нам нужен, не окажется там, куда мы поедем, тогда завтра вечером. И если все пройдет успешно, то останется фаза номер три — которая должна стать последней для наших друзей…
“Наших”, он уже в который раз говорит “наших”, и мне это очень нравится!
— …А фаза номер четыре — это наш отъезд. Кстати, я хотел бы, чтобы ты запомнила два адреса, в Штатах и в Мексике, и два телефона соответственно, и две фамилии, на всякий случай — я о том парне, который обеспечит нас канадскими паспортами, и еще об одном приятеле из Акапулько…
— Что с тобой, Рэй? — удивляюсь я, почувствовав внутри холодок. Точно такой же, который появился в конце декабря девяносто третьего, когда мы возвращались из Америки в Москву, то есть за несколько дней до твоей смерти, и ты сказал мне, что твой личный счет в Штатах теперь наш, и счет, на котором лежат деньги на фильм, тоже наш, и мне надо кое-что запомнить, просто на всякий случай. — Что-то плохо? У тебя есть сомнения? Ты что-то предчувствуешь?
— Олли, никаких сомнений быть не может — мы должны надрать этим подонкам задницы. И предчувствий нет — я не суеверен. Просто… Скажи, ты, наверное, безразлична к боксу?
— Нет, мне нравится бокс, — признаюсь, чуть не добавив, что вид двух дерущихся на ринге боксеров меня тоже очень возбуждает. — Я с Юджином не раз летала на бои супертяжеловесов — он сам когда-то занимался боксом много лет, чуть чемпионом России не стал, так что ему было интересно — и хотя я в первый раз прилетела в Лас-Вегас просто ради него, сама получила удовольствие…
— Тогда ты должна представлять, что такое поединок супертяжей. Ставки высоки, очень высоки, и напряжение огромное, и, как правило, соперники равные по уровню, хотя бывает и наоборот. И Мохаммед Али оказывался в нокауте, и Тайсон, и многие другие из великих, хотя именно они были фаворитами в проигранных матчах. Дело в том, что при такой массе любой удар, даже случайный, абсолютно слепой, может стать решающим, любая мелочь может сыграть огромную роль. И вот мы сейчас вышли на такой же ринг — и не знаем, уйдем с него победителями или нас унесут. Мы верим, что золотой пояс чемпиона достанется нам, и я верю, и ты веришь — но любая мелочь типа даже не заевшего в стволе патрона, а оказавшегося под ногой камешка может все изменить. Когда я служил в спецподразделении, то, отправляясь на опасное задание — Лос-Анджелес по американским меркам достаточно мирный город, это не Атланта и не Нью-Йорк, но бывали очень неприятные случаи, — я говорил себе, что должен вернуться. Но при этом знал, что может выйти по-другому — и все, что я могу, это быть максимально осторожным, и, даже если мне не повезет, унести с собой как можно больше уродов. Понимаешь?
Киваю. Конечно я все понимаю — я ведь сама считаю, что случай все решает, — просто мне не нравится, что он об этом говорит. И он словно слышит мои мысли и добавляет:
— Но надо верить в то, что мы победим, — иначе лучше на ринг не выходить…
И я опять киваю, и тут раздается звонок — и это так неожиданно, что я хоть и не вздрагиваю, но судорожно пытаюсь ответить себе: “Кто?” И подношу телефон к уху, пристально глядя на расслабленного внешне, но внутренне наверняка чуть напрягшегося Рэя.
— Олли, это Джек Бейли, ФБР. Помните меня?
Опять “you” звучит как “вы”, так официально, и я чуть закусываю губу, не обращая внимание на то, как впивается глазами в мое лицо Мэттьюз.
— Гостеприимство ФБР сложно забыть, Джек, — не удерживаюсь от издевки, а сама боюсь услышать, по-настоящему боюсь, что меня снова приглашают на беседу в местное управление. Неужели они послали-таки запрос в Москву и он пришел? Неужели они как-то привязали ко мне это убийство? Неужели Ленчик подкинул им свой компромат, отчаявшись вытрясти из меня деньги?
— Я сделал все, чтобы вы поскорее покинули нас и чтобы не познакомились с этим гостеприимством снова, Олли. — В голосе легкий упрек. — Если вы не против, я хочу пригласить вас на ланч. Дело в том, что я сегодня вечером улетаю обратно в Нью-Йорк, и жаль было бы уезжать, так вас и не увидев…
— При одном условии, Джим, — отвечаю, понимая, что отказать ему не могу, поскольку не могу исключить, что что-то узнаю, — хотя также не могу исключить, что ланч закончится там, где я уже была. — Если вы заедете за мной и потом привезете меня домой. Встречи с представителями ФБР для меня обычно завершаются тем, что моя машина оказывается на служебной стоянке, а я бы не хотела, чтобы на ней катался потом мистер Крайтон…
Ну я и стерва — так он, наверное, думает, но в ответ слышу невозмутимое:
— Называйте адрес и время.
И даже не язвлю по поводу того, что адрес ему прекрасно известен.
— Умный ход, Олли, — комментирует Рэй, когда я заканчиваю разговор. — Умный ход — выбраться в город на чужой машине, так чтобы мы смогли посмотреть, насколько тобой интересуются “наши друзья” — и какова их тактика. Надеюсь, ты повезешь его не в тот же ресторан?
— Вы знаете, что Крайтон продлил мне срок подписки о невыезде, Джим? — интересуюсь, когда он закончил осыпать меня любезностями по поводу того, как хорошо я выгляжу и как он рад меня видеть. — Я все не могу понять — следует ли мне чувствовать себя свободным человеком, или пора, как говорят в России, начинать сушить сухари?
— В наших тюрьмах кормят неплохо, черствый хлеб не нужен, — начинает он с усмешкой и спотыкается о мой взгляд. — Я имею в виду, что все в порядке, Олли, просто расследование еще не закончено, и то и дело появляются все новые подробности. То кто-то убивает здесь русских из Нью-Йорка, прилетевших сюда якобы с целью показать Эл-Эй своему другу из России — при том что имеются данные, что погибшие, за исключением туриста, имели отношение к русской мафии. То я узнаю что убита девушка, твоя знакомая, на теле которой оставили бумажку с цифрами — пятьдесят миллионов. И это при том, что у нее таких денег просто быть не могло — но такие деньги могут быть у тебя…
— Ну да, Крайтон еще решил, что я лесбиянка, потому что та девушка была лесбиянкой, — добавляю я с улыбкой. Не стала ему объяснять, что предпочитаю мужчин — или стоило? — Да, кстати, Джек, признаюсь по секрету, что мой адвокат подбивает меня подать в суд на ФБР, но я пока отказываюсь, хотя мне и вправду нанесен сильный моральный ущерб — работать со мной отказалось охранявшее меня агентство, мой партнер по бизнесу относится ко мне настороженно, и я теряю на этом большие деньги. Я понимаю, что у нас частная встреча, Джек, но, хотя в последний раз я разговаривала с тобой резко, я все же благодарна тебе за все и верю, что ты не желаешь мне зла…
Вот это я молодец — в прошлый раз и вправду была с ним холодна, равно как и на встрече, которая была перед последней. Все же тот факт, что он со мной встречается в неофициальной обстановке, показывает, что он по-прежнему ко мне неравнодушен, — и даже если сейчас выяснится, что он хочет о чем-то меня спросить, надо признать, что он мог бы сделать это в совсем другой обстановке. К тому же он искренен — и хотя я и подозревала, когда меня арестовали, что они с Крайтоном играют в доброго и злого следователей, чтобы расколоть меня на этой контрастности, уверена, что ошибалась.
— Если честно, то я не советовал бы тебе этого делать. Знаешь, когда я вернусь в Нью-Йорк, я передам начальству, что твой срок подписки о невыезде опять продлен — это инициатива Лос-Анджелеса, хотя расследование наше.
— И ты думаешь, что сможешь что-нибудь изменить, Джек?
— Вообще-то да — только очень надеюсь, что ты тут же не уедешь куда-нибудь.
— Да, Джек, я только этого и жду — брошу дом, бизнес, перспективы и улетучусь. Если бы мне надо было это сделать, мне бы не помешала никакая подписка — но ведь я здесь…
— Прости, Олли, — почувствовал-таки сарказм в моем голосе. — Завтра я буду дома и тут же подниму этот вопрос на самом высоком уровне. А теперь хотел кое-что уточнить — помнишь, я в последний раз говорил, что, по нашим данным, Джейкоб Цейтлин имел самое прямое отношение к незаконной операции с иракским динарами, и ты на меня обиделась и поинтересовалась, не арестуют ли тебя теперь за связь с Саддамом? Так вот — похоже, что я был прав. Арабские бизнесмены в Объединенных Эмиратах должны были ему деньги, и, так как в тот момент средств у них не было, они много потеряли на невыгодной сделке, то они расплатились с ним несколькими складами с динарами. А потом владельцами динаров стали другие люди, тоже русские, но из России, а не из Штатов — и динары до сих пор там, на складах, — и конечно, никто ничего не признает, но, видимо, они купили их у Джейкоба, веря в то, что сделка принесет им бешеные деньги, и собираясь работать с Ираком. Или он их им продал — убедив, что они выиграют миллионы…
Все тайное становится явным? В таком случае он мне скажет сейчас, что я причастна к убийству Кронина и деньги, на которые мы сняли фильм, — это как раз деньги, полученные от продажи динаров.
— Я не очень во всем этом разбираюсь, Джек, — делаю скучное лицо. — Какое это имеет ко мне отношение?
— Самое прямое, Олли, — если выяснится, что это так, то, значит, можно сделать вывод, что он вложил в твою студию как раз эти деньги. И что его наследство тоже состоит из этих денег. Ты понимаешь?
— Ты хочешь сказать, что я могу лишиться и его наследства, и студии — так, Джек?
— Я не могу этого исключить — хотя честно сказал тебе, что никаких доказательств у нас нет, и нет никаких документов, которые бы подтверждали, что Джейкоб официально владел этими динарами и официально их продал. И тот, кто их купил, конечно, тоже ничего не скажет. Но…
— Я не могу понять, зачем ты мне это говоришь, Джек?
И он начинает мне объяснять, что хотел бы услышать, откуда я его знаю, Яшу, и почему Яша решил финансировать фильм, снимающийся новой студией, и почему именно мне он оставил наследство. И опять начинается старая песня, и я рассказываю что могу, стараясь, чтобы обрывки и неполности выглядели связно и правдоподобно, и понимаю, что встретился он со мной совсем не за этим, потому что ничего нового я ему все равно сообщить не могу, и он, похоже, это знает. Так чего же он хочет? Просто предупредить меня, что я могу потерять кучу денег? Но его это, пардон, трахать не должно. Поймать меня на несоответствии предыдущих версий и версии новой — непохоже. Так зачем?
— Джек, скажи честно, зачем я здесь? — решаюсь задать вопрос в лоб, и он чуть смущается. — Ты ведь не затем меня пригласил, чтобы услышать то, что я уже говорила, правда?
— Если честно… — Он замолкает на мгновение. — Я испытываю чувство вины от того, что все так произошло с тобой — и хотел сказать, что я сделал все, что в моих силах, чтобы Крайтон побыстрее отстал от тебя. Дело в том, что я хотел бы, чтобы наше знакомство продолжилось, Олли, и чтобы оно было таким же приятным, как в самом начале, когда мы беседовали не о деле, а совсем на другие темы…
Э, да ты все еще хочешь переспать со мной, Джек. Что ж, я тебя понимаю — в начале нашего знакомства, когда я тебе рассказала все, что знала об убийстве Яши, с купюрами конечно, я тебя сама пригласила в ресторан, и кокетничала с тобой, и курила демонстративно обхватывая пухлыми губами сигару, чуть полизывая иногда кончик. И вела этакие фривольные разговоры, и видела, что тебе нравлюсь и тебя возбуждаю обсуждением достаточно смелых тем. И сняла твое возбуждение, направив тебя в собственный бордель, которым владела через подставных лиц, и оплатив твое пребывание там — деньги ты мне потом вернул. А ты все это время хотел переспать не с проституткой, к которой я тебя направила, а со мной — и не потому ли принял такое участие в моей судьбе?…
— Мне тоже было приятно, Джек, — соглашаюсь легко и приветливо. — И…
— И поэтому я попросил тебя встретиться со мной сегодня, чтобы ты поняла, что я хочу помочь тебе — и помогу. По крайней мере вопрос с подпиской о невыезде я решу…
— Я тронута, Джек, — произношу, глядя ему в глаза тепло и нежно. — Я очень тронута, потому что Америка, казавшаяся мне гостеприимной, вдруг в одно мгновение стала чужой, жестокой, безразличной, враждебной, и люди вокруг стали в лучшем случае равнодушными. И я очень рада, что есть здесь один человек, который верит в мою невиновность. Я умею ценить добро, Джек, — не говоря уже о том, что я ценю тех, кто вызывает симпатию во мне и кому нравлюсь я — и могу признать, что умею платить добром за добро и теплом за тепло…
И шутливо погрозив ему пальчиком, добавляю:
— Но сначала ты должен мне доказать, что на самом деле готов мне помочь, а не просто хочешь втереться мне в доверие и снять с меня показания — и кое-что другое — в иной обстановке… — И смеюсь, как бы скрывая собственные эмоции, как бы пряча, спохватившись, ту искренность, с которой произнесла эту фразу — и он, видимо, понимает меня, потому что подхватывает мой смех.
А дальше говорим о чем угодно, кроме дела, — о каких-то пустяках, — а я думаю про себя, что если он правильно меня понял и сможет отменить решение Крайтона, то это значит, что я могу свободно уехать отсюда, не боясь, что кто-то будет меня искать потом. Смогу уехать и жить дальше, не скрывая свою личность, не опасаясь, что вот-вот найдет меня ФБР и в наручниках увезет обратно в Лос-Анджелес. И если он это сделает, то я готова сделать то, чего он так хочет. В конце концов, это просто товарообмен, присущий развитому капитализму, — услуга за услугу, и ничего личного с моей стороны.
Хотя, конечно, я сделаю все, чтобы избежать этой расплаты — и взамен пошлю ему конверт, приготовленный мной для ФБР. И это будет для него лучшая плата, чем мое тело, потому что он сможет отличиться, воспользовавшись сообщенными мной фактами, и карьера его, и так видимо успешная, пойдет еще круче вверх. А здесь, в Америке, карьера куда важнее, чем женское тело, — так что он долго будет говорить вынутой из моего личного дела фотографии большое спасибо…
— Я рад, что мы встретились, Олли, — замечает он, расплатившись — так и не дал мне сделать это самой, хотя я уж наверное побогаче его. — Я улетаю сегодня вечером, к сожалению…
— Да, Джек? — спрашиваю, почувствовав в его голосе желание что-то сказать и нерешительность произнести эту самую фразу.
— Я, вообще-то, специально выбил себе эту командировку — надо было кое-что сделать по работе, насчет тех погибших русских, но это можно было сделать по факсу. Я очень хотел встретиться — но так и не решался позвонить все три дня, что был здесь. Вот только сегодня отважился, помня, что ты была со мной очень нелюбезна и понимая, что ты, наверное, права, что так ведешь себя со мной…
— Мне очень приятно это слышать, Джек, — произнесла, уже когда мы выходили. — И я очень надеюсь, что ты поможешь мне — если Крайтон официально аннулирует эту подписку, я буду чувствовать себя лучше, намного лучше…
— Я помогу, Олли. Моему начальству не понравится, что из-за самодурства Крайтона может начаться шумный процесс по обвинению ФБР в притеснении голливудского продюсера только на основании его национальности. Я обещаю, что преподнесу это так, что начальство среагирует нужным образом…
И мы вышли на улицу и запах острой пищи уступил место запаху свежего ветра, по-мальчишески заигрывавшего со мной, пытающегося обратить на себя мое внимание, то забирающегося под платье, то ударяющего в спину, то треплющего волосы. И подошли уже к его прокатному, видно специально для этой встречи взятому “Форду”, когда вдруг увидела старую машину непонятной окраски, грязно-синюю, этакого длинного приземистого монстра, медленно ползущего по улице, вот-вот поравняющегося с нами. Я, естественно, огляделась автоматически, как только мы вышли — равно как и когда входили в зал, — пытаясь определить, нет ли тут Ленчиковых людей или его самого. Я понимала, что в лицо знаю только Ленчика и его вечного спутника, зама, так сказать, но, когда оглядывалась по сторонам как бы невзначай, искала взглядом человека или нескольких человек, которые бы не вписывались в эту обстановку, выглядели бы в ней неестественно, чуждо, как наклеенные на полотно Рембрандта переводные картинки. Но в зале ни тогда, ни сейчас никого не заметила — и вот только эта машина почему-то привлекла мое внимание, может, потому, что мне показалось, что она тронулась с места, как только мы появились на выходе. Может, потому, что как-то слишком медленно она ползла, словно высматривая кого-то. Может, потому, что было открыто окно со стороны пассажира.
Не знаю, короче, но как бы там ни было, когда мы свернули к парковке, где стоял его “Форд”, показалось, что чувствую спиной чей-то взгляд. И обернулась, пока Бейли открывал дверь со своей стороны, и хотя обзор мне загораживал чей-то “Крайслер”, увидела сквозь его стекла, как она крадется, и следила за ней, не отрывая глаз, и когда она вынырнула наконец, оказалась в прямой видимости, в метрах десяти от нас, я замерла, не обращая внимания на адресованную мне фразу Джека, и заметила, как что-то металлическое высунулось в окно, обращенное в нашу сторону, я совсем не удивилась. Наверное, ждала чего-то такого — ждала ответного шага со стороны Ленчика, догадавшегося, что в газете речь идет о его сподвижниках, и взбесившегося, и решившего показать мне, что он знает.
— Джек! — только и успела крикнуть, и тут тишина взорвалась, и я только отметила периферийным зрением, что он бросился на землю, и сама присела, скрываясь за “Фордом” и отлично понимая, что, как только этот смертоносный монстр покроет еще пару-тройку метров, я окажусь перед стрелком прямо как на ладони — как мишень в тире. И на голову мне полетели осколки стекла, и корпус “Форда” задергался и зазвенел и нырнул вниз, опускаясь на пробитые передние шины, словно падая на колени, и над головой свистело, как тогда, второго января девяносто четвертого года, в арке у японского ресторана. Только здесь весна была, а там зима, и ты шел на них и стрелял, а здесь некому было принять их вызов. И мне следовало бы на корточках перебираться назад, за машину, чтобы не подставляться киллеру — но я так и застыла присев, не двигаясь с места, и уже появился в поле моего зрения длинный синий капот, и поздно было бежать.
И когда окно со стрелком, поливающим без устали “Форд”, оказалось напротив меня, тут изменилось что-то, и я видела отчетливо ствол и слышала свист совсем рядом, но почему-то не могла даже просто упасть на землю и распластаться на ней. Мысль о том, что я испачкаю свое кожаное платье, билась в мозгу, не давая спасительно рухнуть, — глупая, нелепая, но в тот момент повелевающая мной мысль, и тут пропали и ствол, и стрелок, и синий монстр — кто-то возник между нами, кто-то стоящий на полусогнутых ногах и вытянувший вперед руки. И выстрелов я не слышала, временно оглохнув, но когда этот кто-то опустился на колено, открыв мне обзор, готова поклясться, что увидела, как голова стрелка в окне вдруг взорвалась, как хлопушка, разноцветно и празднично разлетаясь по всему салону, осыпая его конфетти из мозга, и костей, и крови.
И вдруг наступила тишина, и я так и сидела, привалившись к “Форду”, и смотрела в лицо обернувшегося ко мне Рэя Мэттьюза, целого и невредимого, пристально смотрящего на меня — и прижимающего палец к губам, что-то давая мне понять, и исчезающего туда, откуда появился, в неизвестность.
— Ты жива, Олли?! — донесся крик с той стороны машины, и я встала наконец, разгибая с трудом затекшие колени, осознав внезапно, что имел в виду Мэттьюз, и отодвинула случившееся куда-то вдаль, чтобы подумать и пережить его чуть позже — понимая, что не должна говорить Джеку, что знаю нашего спасителя и должна уйти отсюда до прихода полиции.
— Господи, ты в порядке?!
Сам он, кажется, в полном порядке, только вот бледный, и лицо перекошено, и стеклянная пыль мелькает в волосах. Почему он не стрелял, интересно?
— А у тебя много друзей в этом городе, Джек, — тебя так тепло тут встречают, — замечаю с улыбкой, которая выходит кривой и вымученной, потому что кажется, что все окаменело, включая мышцы лица, и слова тяжело выпадали из меня, а не выливались плавно. Жду пока, что он поймет, о чем я, а сама перевожу взгляд на “Форд”, только сейчас подумав, что запросто мог взорваться бензобак — такое ощущение, что кому-то понадобился огромный дуршлаг и для этой цели он избрал машину Бейли. Но чуть перестарался, потому что даже для этого она была уже непригодна.
— Господи, Олли! — снова повторяет он, и вид у него потрясенный, и я, наверное, выгляжу ненамного лучше — просто я, видимо, предчувствовала, что может приключиться нечто подобное, но совсем не
такое, конечно, нечто куда менее значительное. А для него это “приятный” сюрприз, кажется преподносимый ему впервые, потому что он никак не может его переварить.
Такая тишина вокруг, словно мы где-то вдали от городов, в необъятном поле, покой которого не тревожат даже птицы, — и никого вокруг, все попрятались, не зная, будет ли продолжение. И мы молчим, и я дергаюсь, когда слышу вдали полицейские сирены. И замечаю, что там, где проезжал синий монстр, лежит на асфальте что-то металлическое, очень похожее на короткий автомат.
— Ни к чему, чтобы нас видели вместе, Джек, — говорю ему как-то дергано. — И тебе ни к чему, чтобы Крайтон доложил твоему начальству, что ты спишь с русской мафиози, и мне ни к чему, потому что он решит, что я хотела вот таким вот способом убить тебя. Я права?
— Да-да, — кивает он суетливо, но отстраненно и, видно, вдумывается в мои слова. — Конечно, Олли. Уходи — тебя здесь не было, верно? Я позвоню вечером — и прости, пожалуйста, что втянул в такую передрягу.
— Я бы предпочла в следующий раз встретиться в другой обстановке, Джек, — замечаю напоследок и как бы случайно отступаю за машины, и одним движением срываю парик, запихивая его в сумочку и поцарапав осколком стекла руку, и через пять минут уже стою на параллельной улице в телефоне-автомате, вызывая такси.
— Что-то случилось, мэм? — любезно интересуется черный таксист, появившийся минут через пятнадцать.
— Да, собиралась в ресторан, но не успела до него дойти, как началась стрельба, — отвечаю ему испуганно. — Представляете, посреди бела дня!
— Лос-Анджелес, мэм, обычное дело, — небрежно кидает таксист, успокаивая меня и показывая, что он бывал и не в таких ситуациях, и случившееся его не удивляет. И тут же спрашивает с затаенным желанием, косясь на меня:
— Не возражаете, если я попробую проехать мимо — наверно, вам интересно, что там стряслось?
Мне не очень, но ему точно интересно, и я соглашаюсь, наклоном головы разрешая ему утолить свое любопытство за мой счет…
— Олли, это Джек. Звоню тебе из гостиницы — мой вылет перенесен на завтра. К сожалению, мы не сможем встретиться сегодня — мне тут выделили охрану и…
— Я понимаю, Джек. Все в порядке?
— Да, конечно. Я так счастлив, что все в порядке с тобой…
— Взаимно, Джек. Боюсь, что теперь ты не скоро прилетишь сюда.
— Как только смогу вырваться из Нью-Йорка — предварительно решив там кое-какие вопросы. Ну, ты понимаешь…
— Спасибо, Джек. Прошу — береги себя. Это ужасно — и после того, что случилось с одним человеком в том городе, в который ты возвращаешься. Мне бы очень не хотелось потерять еще одного человека, который для меня больше, чем просто знакомый…
Фраза моя повисает в воздухе, как и было задумано, и он подхватывает ее с благодарностью.
— Спасибо, Олли. Спасибо.
— Надеюсь, наш общий друг?..
— Нет-нет, Олли, — твое имя не произносилось. И знаешь — не опасайся его, я обещал тебе все решить и решу…
Вешаю трубку, попрощавшись, и смотрю на Мэттьюза.
— Вы — само лицемерие, мисс Лански, — произносит Рэй с широкой улыбкой. — Подкинули чуть не пострадавшему невинно фэбээровцу нужную вам мысль и продолжаете морочить ему голову. И он благодаря вам чувствует себя героем — преступники, как правило, не рискуют разбираться с полицейскими, а уж тем более с фэбээровцами, для этого требуется, чтобы этот коп или фэбээровец был для них крайне опасен. И пока он чувствует себя героем и в глазах начальства, и в ваших — в это время вы безжалостно смеетесь над ним…
— Если бы ты видел, какое испуганное у него было лицо, ты бы сам рассмеялся, — парирую его шутливый упрек. — Он даже пистолет не вытащил — хотя ведь он, наверное, был вооружен, как ты думаешь? А вот ты… Но ты и не заслуживаешь моих комплиментов — за то, что заставил меня понервничать…
Я и вправду перенервничала — сначала из-за того, что случилось со мной, причем в такси держалась — ни к чему, чтобы водитель запомнил испуганную лысую девицу, — а когда вошла в дом, дала волю эмоциям. В январе девяносто четвертого, когда все произошло с тобой, я не успела испугаться, хотя казалось, что перестрелка длилась целую вечность, — я даже не реагировала на то, как свистели в арке пули, высекая искры из стен, потому что слишком неожиданно все началось, потому что был праздник и такой приятный вечер в ресторане и вдруг такая резкая смена декораций произошла, что я застряла где-то между прошлым и настоящим. Не воспринимая ничего, наблюдала за разворачивавшимся перед моими глазами действием со стороны.
А тут тоже вроде не испугалась — тем более что случившееся неожиданностью не было, я все время была настороже, пусть не ждала конкретно такого. Но, оказавшись в доме, почувствовала, что ноги ватные и дрожь внутри, и упала тяжело на диван в гостиной, и прикурила только с десятой примерно попытки, перепортив дрожащими руками и вырывающимся сбивчивым дыханием кучу спичек.
Ванная помогла, как всегда, — и там, превратившись в аморфную массу, распаренную, и расслабленную, и расплывающуюся в воде, успокоилась и подумала, что они не собирались меня убивать. Но явно планировали убить Джека — решив, что это и есть тот самый тип, который уложил их корешей накануне. А может, все же и меня с ним заодно — чтобы вернуться наконец в родной уже Нью-Йорк, и работать спокойно, изымая у русского населения свои доли. В Нью-Йорк, где не надо неделями сидеть в мотеле, изредка из него выбираясь, не надо попадать под горячую руку главного, злящегося на какую-то непонятную девицу, почему-то не боящуюся его и не отдающую ему деньги. В Нью-Йорк, где все их опасаются и никто не осмеливается в них стрелять, где не надо озираться и терять под пулями корешей и задумываться над тем, не станешь ли ты следующим и тогда твой жирный заманчивый кусок тебе уже не понадобится.
А может, просто хотели попугать — показать, что не шутят и мне лучше пошевеливаться? Возможно — но только в том случае, если они не знают о смерти своих или не приписывают ее мне, а это маловероятно все же.
Да, близко было, очень близко — но в ванной я уже спокойно воспроизвела в голове недавнюю картину, объемную, состоящую не столько из красок, сколько из звуков. Визг разлетающегося стекла, и треск взрывающихся фар, и свист пробитых шин — машин пять, как минимум, пострадало, мы не одни там стояли, к счастью, — и автоматный грохот, жутко гулкий и оглушающий. И выползающий синий монстр, и стрелок в окне, и направленный в мою сторону ствол — и появляющийся между мной и ними Рэй…
Рэй! Где он, черт возьми, — куда делся? Неужели рванул за уносящейся машиной с Ленчиковыми людьми? И чем кончится эта погоня и где он сейчас?
И с того момента я уже думала только о нем — как он выскочил на линию огня и опустился на колено лишь через несколько мгновений, рискуя получить очередь и ее не боясь. Как уверенно он выглядел и гордо, не испугавшись выйти с пистолетом против автомата, совсем как ты. Каким спокойным выглядел после всего, словно проделал обыденную будничную работу — и как появилась в его взгляде тревога, только когда он обернулся на меня, и тут же ушла, уступая место наглой самоуверенной ухмылке. Нет, конечно, он не похож был ни на тебя, ни на Корейца — но что-то в нем, в его манере, его поведении в экстремальной ситуации напомнило мне вас обоих. И внизу заметно погорячело, и вода здесь была совсем ни при чем, и пальцы, легкими движениями втирающие пену в кожу, двинулись туда…
А потом, отдышавшись, я продолжала сидеть в ванной и медленно наслаждаться сигарой и не торопилась вылезать, помня, что он обычно появляется именно в тот момент, когда я здесь. Но его не было, и восхищение им, и возбуждение, вызванное его сегодняшним поступком, уступили место самому настоящему волнению — и я вылезла и занялась делами, чтобы как-то отвлечься. Накрасилась заново, тщательно вытряхнула парик, который, оставь я его в таком виде, переливался бы на солнце, словно посыпанный алмазной крошкой, — увидь меня какой-нибудь модельер типа Мюглера или Готье, смелый и оригинальный, мог бы родить новую идею. Позвонила в ближайший мексиканский ресторанчик, чтобы привезли еды и пива заодно, дождалась доставки заказа и расставила все на столе внизу. Напоследок отметила равнодушно, что красивый снаружи особняк внутри выглядит достаточно бардачно — с того момента, как у меня поселился Рэй, временно отменила визиты садовника и убирающей дом девицы, — но делать ничего не стала, слишком велик был объем работ, да и ни к чему, коли до отъезда оставалось немного. До отъезда в Мексику или в места куда более отдаленные — в ад, например. И поднялась на второй этаж и села у окна — ждать.
Он приехал когда я решила, что с ним точно что-то случилось, — примерно в девять, то есть часов через шесть после того, как я вернулась домой. И я сбежала вниз, как девочка, поймав себя на несолидном поведении только на первом этаже. И, спохватившись, села на диван перед заставленным давно холодной едой столом и, как только открылась дверь, поинтересовалась холодно:
— Вам известно, что человечество изобрело телефон, мистер Мэттьюз, — или вы считаете, что главным способом общения на расстоянии являются письма?
И тут позвонил Бейли, а когда я повесила трубку, и выслушала шутливый упрек в лицемерии, и дождалась наконец, когда смогу упрекнуть его сама, и сказала, что он не заслуживает комплиментов, потому что заставил меня нервничать, — гнева уже не было.
— Жаль, пара теплых слов бы мне пригодилась, — развел он руками, изображая на физиономии огорчение. — Что ж, война — дело грязное, и спасибо тут не говорят — тем более такие бессердечные женщины…
И мы опять смеялись, и, пока он был в душе, я разогрела еду в микроволновке и воткнула кусочки лимона в пивные горлышки, как положено, как бы откармливая их, прежде чем выпить до дна, — и ели, включив телевизор, и ждали, когда покажут новости с описанием сегодняшних событий, и он, верный своей привычке, ничего не рассказывал, может действительно для него важно было услышать репортаж и узнать, что никто его не видел. А мне все время хотелось смотреть на него, и я, глядя с показной заинтересованностью в экран, то и дело косилась на Рэя. И хотя сказала себе, что так нельзя, ничего не могла с собой поделать — и тогда сменила позу, забравшись с ногами на диван и повернувшись к нему боком. И пила пиво, и курила, но голова все равно поворачивалась в его сторону, словно заело где-то шейные позвонки и держать голову прямо я просто не могла. И ясно было, что он видит мои взгляды, но решила, что и пусть видит, нет в этом ничего такого. И когда наконец начался репортаж, радостно убедилась, что с шеей все в порядке, без труда повернувшись к экрану и застыв во вполне естественном положении.
— Почему ты так на меня смотришь, Олли? Что-то со мной не в порядке? — спросил он со своей коронной улыбочкой, когда все закончилось и мы помолчали немного, наверное вспоминая показанные камерой расстрелянные машины, и покрытый кровью короткий автомат на проезжей части, и комментарий, в котором сказано было лишь, что неизвестные покушались на жизнь специального агента ФБР. И ни слова о том, с кем был этот агент, и о том, что кто-то пришел ему на помощь.
А сам герой дня гордо смотрел на нас с экрана с видом человека, постоянно участвующего в перестрелках и выходящего из них победителем, — и сообщал зрителям, что, к сожалению, не может ответить, с каким из расследуемых им дел связано покушение, но что случившееся лишь подстегнет его и ускорит развязку, потому что запугать ФБР не удавалось еще никому. И я даже не улыбнулась ни разу — судорожно думая о другом, и давя эти мысли, и понимая, что задавить их я не смогу.
— Да нет, все в порядке, — ответила спокойно, глядя ему в глаза. — Просто хотела сделать тебе скромный подарок — ты вел себя как настоящий мужчина и заслужил женщину, и я подарю тебе ее на эту ночь. Каких женщин ты предпочитаешь и какой секс тебе нравится больше? Расскажи мне, а я позвоню куда надо и гарантирую, что твой заказ будет выполнен с учетом всех твоих пожеланий. Ну так, Рэй?
— Таких, как ты, — слышу в ответ, и его глаза смотрят в мои, не отпуская.
— Не знаю, есть ли у них такие, — доносится до меня издалека собственный голос. — Но я постараюсь. А теперь иди в ту комнату, в которую ты ворвался тогда, — и жди…
…Сейчас могу честно сказать, что все в ту ночь было стандартно и обычно — и он не делал ничего такого из ряда вон выходящего, и вел себя в постели так, что встреться я с ним лет в шестнадцать-семнадцать, потом разочарованно сказала бы себе, что вот и этот такой же, как все. А тогда казалось, что ночь была жутко длинной и чувственной, и я кончала раз за разом, возбуждаясь от любого его прикосновения, и была на верху блаженства, и кричала так, что зеркала вибрировали в сексуальной комнате, и в припадках страсти исполосовала безжалостно его спину. Рэй для меня ассоциировался с тем человеком, который прикрыл меня собой от пуль, убив стрелка, чья голова разлетелась, как тыква, в которую какой-то шутник засунул гранату. С тем человеком, который на глухой темной улице одним движением руки убил здоровенного детину и через секунду воткнул нож во второго. С тем, кто вытащил меня из залитой спиртным и усыпанной кокаином пропасти и потащил за собой наверх, безошибочно находя путь, и уворачиваясь, и уводя меня от летящих сверху валунов. И потому я и была такой.
— Привет, чемпион! Хочешь поразвлечься?
Так я спросила хриплым дерзким голосом, когда вошла в самую интимную в моем доме спальню, играя роль девушки по вызову. Он лежал развалившись на постели, голый, и курил сигару в ожидании, и теперь смотрел на меня, ухмыляясь и изучая.
— Ну, я нравлюсь тебе, чемпион? Может, угостишь меня выпивкой? Судя по этим игрушкам, которые у тебя повсюду, ты настоящий жеребец — да еще и ненасытный вдобавок. Так что налей мне — и займемся делом, а?
…О, я в твоем вкусе! — прокомментировала, глядя на его вставший член, упруго двинувшийся, когда он приподнялся и придвинул столик, на котором по моему совету стояло ведерко со льдом, охлаждающим любимый напиток Монро.
— Любишь шампанское, бэби?
— Ты должен знать, чемпион, — настоящие леди предпочитают шампанское.
И, не отводя от него глаза, вышла из опавшего на пол платья, под которым не было ничего, кроме пояса и чулок. И, подойдя к нему ближе, встав в бесстыдную позу, вызывающе демонстрируя грудь, залпом опустошила бокал, ставя его обратно на столик.
— Ну, удиви меня, чемпион…
Он в постели оказался совсем другим, нежели в жизни — мягким, и ласковым, и нежным. Опрокинул меня бережно и целовал все тело, спускаясь все ниже и задерживаясь там надолго, дразня языком. И последнее, о чем я успела отчетливо подумать, это то, что он не ждал, что это будет между нами, и не знает, как мне надо, и я должна ему показать, я должна сделать так, чтобы он чувствовал себя тем же героем, которым был сегодня, и два дня назад, и когда-то давно, когда все в его жизни было классно. И я выскользнула из-под него, прошептав: “Люблю настоящих мужчин”, — и сама начала действовать пальцами и языком, изображая покорность и желание угодить, заглядывая откровенно ему в глаза, и он понял.
Нет, он конечно не был в постели Корейцем — но был груб и властен со мной, настолько, насколько мог. Это я сейчас говорю — а тогда мне казалось, что более бесцеремонно со мной еще не поступали, более нагло меня не брали. И я не замечала, что он боится все же причинить мне боль, и пальцы его не впиваются в мое тело, и член входит глубоко, и резко, и жадно, но не как при изнасиловании, и когда я, напустив в интонацию похоти и страха одновременно, попросила наказать меня, плетка хлестала не изо всех сил, и ладони его шлепали по моей попке громко, но не оставляя следов.
Но я все воспринимала иначе — и когда наступила первая передышка, бесстыдно облизывала его член, покрытый белой глазурью моих собственных выделений, торопя начало следующего раунда, желая чувствовать еще, и еще, и еще, и быстро оседлывая его и отправляясь к очередному, совсем не последнему оргазму. А позже провоцируя его войти между двух моих сладких половинок, а еще позже возбуждая его актом с двойным вибратором, а после этого…
И когда все закончилось, я не знала, сколько времени сейчас и как долго все это длилось. И я вообще была не я, находясь в другом измерении, зависнув между потолком и кроватью, между реальностью и фантазией, между ненасытной страстью и полным опустошением. И даже на то, чтобы пойти в ванную, уже не было сил — но даже тогда я не отпускала его, держа в руке его член, прижимаясь к нему всем телом, видимо думая, что сейчас мы начнем все сначала.
А сама уплывала куда-то и, хотя слышала его вопрос, не разобрала слов, не поняла смысла, и кто это вопрос задал, и кому.
И утром уже вспомнила уцелевшие в памяти слова:
— Олли, насчет того, что тебе нужен телохранитель в Европе хотя бы на год — это серьезно? Я согласен — и никаких денег мне за это не надо…
И все последующие ночи были такие. И наверное, я шокировала его поначалу — потому что показывала открыто, что нежная и ласковая любовь мне не нужна, мне нужен секс звериный, изнасилование, утоление самых низменных желаний, хотя до сих пор не могу понять, что означает это словосочетание: “низменные желания”? И он, скованный поначалу, расковался быстро — и делал то, что мне было надо, уже без подсказок и намеков, сам. И может, не совсем так, как я того хотела, но почти так, и все ближе и ближе к моему, так сказать, эталону, и все смелее. Мужчина, не задумываясь убивающий людей в жизни и застенчивый в постели — это не парадокс совсем. И именно таким, застенчивым, он и был в нашу первую ночь, с каждым новым актом раздвигая границы все дальше и дальше.
Но это, как я уже говорила, результат более поздней оценки, более позднего переосмысления — а тогда ночь была фантастической, и каждая последующая была фантастичнее предыдущей. Только вот слова, произносимые в конце, после всего, были слишком личными, словно мы все же занимались не сексом, но любовью: и его восхищенные комплименты, и восклицания, как ему хорошо со мной и как я ему нравлюсь, и откровенное признание, что он в жизни не испытывал ничего подобного и не думал, что такие женщины, как я, существуют. И наконец, фраза о том, что он хотел бы на мне жениться, чуть завуалированная, правда, сказанная на вторую ночь. “Нам будет очень хорошо в Европе, Олли, — и может быть, ты сменишь фамилию Лански на Мэттьюз, чтобы тебя уже никто никогда не нашел?” Он с улыбкой это сказал, но не было в улыбке ни наглости, ни самоуверенности — она просто нарисовалась с целью скрыть истинные чувства, и не слишком убедительный был рисунок, и слишком прозрачный.
Я так думаю, что он влюбился в меня, и совсем не считаю, что по-другому и быть не могло — или что в такую, как я, не влюбиться невозможно. Я знаю себе цену — и далека от того, чтобы думать, что сражаю наповал всех мужчин подряд. Было бы так, и глава лос-анджелесского отделения ФБР Крайтон снял бы с меня все подозрения в обмен на ночь в моей постели, и Мартен бы не смог меня предать, и Ленчик бы от меня отстал, и очень многое было бы по-другому. Нет, конечно, я так вовсе не думаю — хотя иногда мне кажется, что влюбиться в меня может только тот, кто со мной переспит и увидит, какая я. Ну а с Мэттьюзом так получилось только потому, что слишком много факторов совпало.
Уволенный, опозоренный, зачисленный в неудачники, брошенный женой, лишившийся дочери, чуть не спившийся и не опустившийся, не имеющий будущего — он сам сказал, что благодаря мне получил шанс обрести себя прежнего. И начать совсем другую жизнь, выбравшись из зловонной ямы для отбросов общества на зеленую лужайку, по которой гуляют исключительно удачники, и заработать достаточно денег, чтобы больше никогда о них не думать, и уехать навсегда из того города, в котором познал несчастье, и неудачу, и боль, и ненависть, и презрение к самому себе. И именно я дала ему этот шанс и потому для него была символом этой новой, прекрасной жизни. И думаю, что вполне естественно было то, что когда я открыла ему что-то новое в постели — ведя себя не так, как те женщины, которых он знал прежде, немногочисленные по-моему, — я стала для него той, которая должна была быть рядом с ним в новой его жизни. И к тому же я воспринимала его как героя и смотрела на него с восхищением — и это после того, как в течение пяти лет он ловил на себе совсем другие взгляды. И все это, вместе взятое, и сыграло свою роль. И он влюбился в меня и был уверен, что я влюбилась в него, — и возможно, что это и в самом деле было так, потому что он тоже дал мне шанс в тот момент, когда у меня не было совсем никаких шансов.
Нет, не совсем так. Не было моей влюбленности, это для меня слишком сильно — было увлечение. Я увлеклась им и увлекалась все больше, и одному Богу известно, к чему бы это могло привести. Вот он один и знает — я его никогда не спрашивала.
Как я там выразилась, описывая наши с ним отношения: “Все последующие ночи”? Сильная фраза — потому что последующих ночей было всего две…
— Шаг номер два, Олли, — завтра вечером мы предпринимаем шаг номер два. Вчерашний не в счет — это был их шаг, и пусть они отойдут чуть-чуть, и успокоятся, и пусть подумают, как им быть дальше, и, естественно, пока ничего не решат. А завтра мы попробуем сделать так, чтобы их стало еще меньше. И потом сделаем еще одно усилие — и они должны стать воспоминанием, если, конечно, будет кому их вспоминать.
“Или они — или мы”, — подумала я про себя, опасаясь, что он в эйфории сейчас, после случившегося между нами, и не слишком трезво оценивает обстановку. А потом сказала себе, что я несправедлива к нему: он тоже понимает, что карты могут лечь как угодно, просто не хочет, чтобы я об этом думала. Вроде и знает уже, что я совсем не слабая женщина, которую нужно беречь, — и я ему кое-что рассказала о своем прошлом, и сам вчера восхищался тем, как спокойно я себя вела под обстрелом и как моментально от всего отошла и еще сумела провести Бейли, и в постели увидел истинное мое лицо — но бережет.
— Итак, Рэй? — спросила, поглощая приготовленный им завтрак — или, скорее, обед, потому что проснулась в час дня, — и отмечая, какой у меня зверский аппетит после секса, и я не ем, а просто жру. Но решила, что мне простительно — Юджин пропал уже почти четыре месяца назад, и с тех пор секса с мужчиной у меня не было, потому что вялый Дик не в счет, а немужчина Стэйси тем более, а самоудовлетворение с тем, что было ночью, не сравнится. Вот такой вот комплимент ему сделала, не произнося ничего вслух, — и не буду сейчас его забирать назад, некрасиво.
— Попозже, Олли. Я уеду скоро, мне надо кое-что проверить и уточнить, и еще хочу пообщаться с одним полицейским чиновником, приятелем Ханли, которого я тоже более-менее знаю. Отношения у нас, конечно, не такие дружеские, но он нам помогал пару раз — да и все, что мне нужно знать, это то, не нашли ли они пулю, выпущенную мной вчера. Это было бы ни к чему: баллистическая экспертиза и все такое. Я ведь стрелял из своего пистолета, стандартный тридцать восьмой калибр, как у полиции, — и вообще, я не думал, что дойдет до стрельбы. Хорошо, хоть твой фэбээровец меня не заметил, — я вообще не собирался выскакивать, думал из-за машин выстрелить им по колесам и этим ограничиться. Но когда увидел, что ты вот-вот окажешься на линии огня… Заодно узнаю, почему в телерепортаже ни слова не было о том, что кто-то убил ведшего огонь киллера — они ведь должны были видеть следы крови на выпавшем в окно автомате. А может, и машину уже нашли, наверняка краденая или купленная где-нибудь за пару-тройку сотен баксов, жуткое старье. В общем, встречусь, чтобы узнать, нет ли чего нового по убийству Джима — ну и попробую вытянуть все остальное. Я ему позвонил, когда проснулся, он меня ждет в шесть, после работы, в одном ресторане, полицейские не прочь поесть за чужой счет. А потом… Потом я приеду и все тебе расскажу, и если я не узнаю ничего такого, что могло бы заставить нас затаиться, завтра мы должны сделать второй шаг…
…И, если все будет удачно, может, ты вечером вызовешь мне еще раз ту же девушку, что и вчера?
— Можешь не сомневаться, Рэй, можешь не сомневаться.
И, польщенная его утренним комплиментом — в дни своей развратной молодости я очень редко ночевала с мужчинами, но точно знаю, что утро есть то самое время, когда можно понять мнение партнера о предыдущей ночи, — добавила с шутливой ревностью в голосе:
— Не пойму, чем она так тебе понравилась? Ты же говорил, что не любишь проституток, Рэй, а теперь оказывается, что на самом деле ты не любишь порядочных женщин. Таких, как я, например…
А следующим вечером, ровно в десять, сижу во взятой напрокат “Мазде” чуть в стороне от входа в некогда свой, а ныне Ленчиков стриптиз-клуб. Пятнадцатое марта, суббота, выходной день. Западный Голливуд оживлен, машин много, хотя пешеходов, естественно, нет, в Америке пешком не ходят.
Длинный был сегодня день. Опять ночь без сна, и я проснулась где-то в час, проспав всего ничего, и Рэя не было уже. А к пяти он вернулся на этой самой “Мазде”, старенькой и неброской, и мы поговорили и выехали в семь, и он был за рулем, а я скрючилась сзади, чтобы, даже если кто будет пристально смотреть на “Мазду” сбоку, не увидит, что в ней еще и я имеюсь в наличии. А потом доехали до места, где он бросил свою машину, и Рэй пересел в нее, и заехали перекусить в недорогое заведение, естественно мексиканское, но у меня аппетита не было, и даже такие, которые мне так нравятся, никаких эмоций не вызвали. Только кофе выпила — напиток, который могла бы пить целыми днями и который при наличии в нем сахара и сливок вполне может заменить еду. Проверено за то время, пока я тщательно себя разрушала до появления Рэя — сытно, и вкусно, и питательно. И возможно, даже полезно — хотя было бы столько плюсов, тогда боги должны были бы пить не нектар, а именно кофе.
И вот за этим самым кофе я и слушала, что Рэй даром времени не терял — как всегда большую часть скрывает, но, по крайней мере, сообщил, что, как только начал работать на меня, следил за ними по мере возможности днем и вечером. И убедился, что чуть ли не каждый день наши друзья — то в полном составе, то в неполном — часам к девяти подъезжают в клуб. Он же как бы им принадлежит теперь — по крайней мере, деньги с него они стригут, хотя город вроде не их. А коли они себя ощущают владельцами клуба, то и заваливают сюда почти ежедневно — и, естественно, развлекаются от души. Вернее, развлекались, пока сначала двое не пропали, а потом еще одного не стало, — сейчас, наверное, просто проводят время, чтобы не торчать все время в мотеле и не загнуться от тоски.
Когда он мне это рассказал, вспомнила Корейцев рассказ про одну московскую бригаду, которая получала дань с одного ресторана — и вдобавок еще и питалась там каждый день, наедаясь от души и употребляя приличное количество спиртного и, разумеется, ни за что не платя. А когда поддавали, начинали шуметь — хотя и так вели себя не слишком тихо — и распугивали редеющих с каждым днем посетителей. И естественно, ресторан разорился — месяца через три, — и тупые быки были настолько изумлены этим фактом, что наехали на несчастного хозяина. Ну не в силах они были понять, что именно из-за того, что душат они ресторан беспредельными поборами, и тут жрут по вечерам всей теплой компанией, и скандалят, и отпугивают клиентов, все и произошло, — и на полном серьезе требовали с хозяина отдать украденное под угрозой смерти, уверенные, что тут одно его желание их обмануть, и только. Хозяин в итоге пришел к тебе — нашел через кого-то выход, — и, так как и вправду беспредел творился, Кореец лично поехал на встречу с бычьем и все популярно объяснил, и они отвалили в итоге. И ты этого ресторатора обложил нормальным оброком — ну не ты лично, а те твои люди, которые теперь контролировали это заведение, — и все твои пацаны, если бывали там, всегда за все платили, и заведение вскоре приобрело солидную репутацию и прибыль давало такую, что счастливый владелец сам отчисления увеличивал, без напоминаний.
— Я, конечно, не уверен, что они там будут сегодня, после того что произошло вчера, — вывел меня из воспоминаний Мэттьюз. — Но мы ведь можем попытаться, верно?
И вот теперь сижу в “Мазде”, такой крошечной, и обшарпанной, и неуютной после моего “Мерседеса”, и напряженно всматриваюсь в дверь, готовая среагировать на малейшее ее движение, — и не менее напряженно размышляю о том, что шаг мы предпринимаем рискованный. Когда подъехали, Рэй мне по телефону сообщил, что вот тот джип фордовский на стоянке сбоку от здания — это их, они его еще позавчера взяли в прокате, после того как потеряли “Тойоту”. И пошел внутрь в соответствии со своим планом, кажется абсолютно уверенный, что никто из них в лицо его не знает — в то время как он знает всех. И я знаю — он их умудрился заснять уже в течение двух первых дней, и для себя и для меня, потому что лица тех, кто прилетел с Ленчиком на замену выбитых из игры, были мне неведомы, кроме Ленчика, Ленчикова зама, так сказать, и Виктора.
Странно, что Рэя до сих пор нет. Я понимала, конечно, что эти могут быть у девиц, в номерах, и он сидит внизу, смотрит стриптиз краем глаза, пьет пиво и ждет их появления, чтобы узнать, сколько же их, — но все это мне не нравилось. Рискованный был шаг, куда более рискованный, чем гонка по Эл-Эй со мной в качестве приманки, — прежде всего потому, что хрен знает, сколько их здесь и точно ли, только одна из стоящих около клуба машин им принадлежит. И если он увидит двоих, к примеру, и решит, что это — все и мы приступим к осуществлению плана, а потом окажется, что их больше, что остальные были наверху, то это будет последний наш план. Или, скажем, этих в клубе и вправду окажется двое или трое, и тут в самый последний момент вдруг “Чероки” подъедет ко входу с остальными, либо, что еще хуже, другая, неизвестная нам машина — это же Америка, тут в пять секунд можно машину арендовать, — и это тоже будет конец.
И еще я думала о том, что они его могут узнать — ведь тот, кто сидел в машине с киллером, кто потом увез труп с разваленной головой и счищал со своей одежды мозги товарища, он же мог случайно запомнить лицо стрелявшего. Конечно, не тот был момент, чтобы внимательно всматриваться в лица и запоминать, но ведь расстояние между ними было небольшое. И уж если я с куда большего расстояния увидела, как разлетается от выстрела голова, то водитель тем более мог не только увидеть Рэя, но и запечатлеть его лицо в башке. А значит, Мэттьюз, может, оттуда уже и не выйдет — или они, заметив его и узнав, организуют все так, что мы с ним попадем в нашу собственную ловушку.
“Вы прямо как Агата Кристи, мисс Лански”, — издевательски говорю себе. И вправду, лишнее это — сидя тут, подавлять волнение выдумыванием множества версий, которые это волнение только усугубляют. Ведь уже говорила себе не раз, что все просчитать невозможно, и получится так, как получится, и надо лишь верить в успех — и я верю в него, хотя от всех сомнений избавиться не могу, — и быть готовой ко всему. Но не нервничать не выходит — все-таки непривычно для меня заниматься охотой на людей, и одно дело — единоборство с Крониным, в котором моим оружием было мое же тело, и умение себя вести с мужчинами, и весь мой опыт жрицы, и совсем другое — игра, в которой это оружие применять нельзя, в которой от меня зависит немногое. И поэтому мне такая игра не нравится. Соблазнить Дика, подложить проститутку под фэбээровца, найти киллера я смогла, и это были мои глобальные шаги, а когда дело дошло до шагов моих менее глобальных, тут уже не я веду игру, а она меня, и бог ее знает, куда она меня заведет. И попробуй не волноваться тут — у меня вот не слишком хорошо получается.
Но в то же время прекрасно понимаю, что мы сейчас делаем нечто хоть и рискованное, но необходимое. Дела у Ленчика идут плохо, и они злятся, не знают, что делать, и потому ждать нам нельзя: они могут на какое-то время улететь обратно, что нам вовсе не нужно, или могут выработать иную тактику, которая даст им преимущество. Сейчас преимущество на нашей стороне — внезапность, — так что все должно сложиться удачно.
Сколько у него осталось людей? Четверо, точно. Четверо вместе с ним — и Виктор, который не в счет. Меньше чем было, но, в любом случае, слишком много для того, чтобы разобраться с ними за один раз. При этом я еще надеюсь, что Ленчик не запаникует, не попросит, к примеру, помощи у Берлина — конечно, обратись он с такой просьбой, придется делиться, но, с другой стороны, он сможет одним махом решить вопрос с тем или теми, кто мне помогает, и меня захватить. Да нет, не захочет он делиться: слишком жаден. Он подождать не захотел несколько дней — я ведь просила дать мне еще пару недель, уверяла, что все отдам, как только ослабнет ко мне внимание со стороны ФБР, — а уж брать кого-то в долю тем более не захочет. Ко всему, он теперь в замешательстве — ведь в курсе уже, что его человек стрелял по агенту ФБР, находившемуся рядом со мной, и в курсе, что убил его человека не фэбээровец, потому как об этом ни слова. И пусть гадает, кинулась ли я за помощью к властям и они просто не афишируют, что застрелили палившего по нас из машины, — или с фэбээровцем я встретилась не за тем, а стрелял нанятый мной киллер.
— Он один, Олли, он там всего один, и собирается уходить, — негромко произносит в трубку голос Рэя, пару минут назад на моих глазах вышедший из клуба на улицу и прошедший мимо меня не останавливаясь. — Давай, время!
Поеживаюсь, внушая себе, что просто прохладно — но погода тут ни при чем. Он же сам говорил, что по одному они не приезжают — и не дай бог, если ошибся, вот уж будет неприятный сюрприз.
“Да он не ошибается, — успокаиваю себя, вылезая из “Мазды” и глубоко вдыхая воздух перед тем, как направиться ко входу, каких-нибудь двадцать-тридцать шагов сделать. — Он не ошибается, запомни и поверь”.
И спокойнее становится, и ко входу я подхожу уже уверенней, останавливаясь метрах в пяти от него, закуривая и отдавая себе отчет в том, что странновато смотрюсь около входа в стриптиз-клуб. За кого меня можно принять интересно — за жену, поджидающую неверного мужа? Тут так не принято вроде — тут прилюдных скандалов не устраивают, а все разборки внутрисемейные через адвоката ведутся. На проститутку я, наверное, тоже не слишком похожа, да и не видно поблизости ни одной — ну хрен с ним, пусть думают что хотят, пусть даже запомнят светловолосую девицу в кожаном костюме — я специально такой парик надела, так что я не против, пусть запоминает, кто хочет.
Да, не слишком приятно я себя чувствую сейчас. Одно дело — быть приманкой, когда сидишь в собственном “Мерседесе” и точно знаешь, что за тобой едет одна машина с двумя людьми, и совсем другое — стоять неподалеку от входа в стриптиз-клуб, не зная, точно ли один из Ленчиковых людей сейчас оттуда выйдет и не подкатит ли через секунду машина или две с остальными. Стою вполоборота ко входу, чуть вздрагиваю, когда открывается дверь и кто-то вываливает наружу. Высокий, здоровый, стрижка короткая — точно, Ленчикова правая рука, тот тупой бычина, который в ресторане присутствовал при беседе, которого тогда Ленчик успокаивал, когда тот готов был взорваться от моего непочтительного, дерзкого тона.
Он медленно так идет, неторопливо, тяжелой, уверенной походкой, и кажется, что на асфальте после него остаются вмятины, — и, разумеется, узнать меня не может: у меня другой парик. Да и не ожидает он меня здесь встретить — а я вдруг чувствую, что все во мне застыло и даже сказать ничего не могу, хотя по сценарию должна его окликнуть. Не могу, потому что жду, что вот-вот за ним выйдут еще, как минимум, двое — или скрипнет тормозами подлетающая машина, и кто-то заорет ему приветственно: “Как потрахался, братан?!”
Черт, он уходит! Проходит мимо меня, естественно не обратив на меня внимания, прикуривает, остановившись на секунду, и идолопоклоннический огонек освещает лицо истукана с острова Пасхи. И дальше идет, к машине, ждущей его на парковке, — а я все не могу заставить себя сделать шаг, открыть рот. И все из-за непонимания того, почему он один — в такой ситуации, когда корешей его валят одного за другим. И только когда судорожно вспоминаю, как неохотно он подчинился в ресторане приказу Ленчика заткнуться и пересесть за другой стол — и когда так никто больше и не выходит из клуба, — физически ощущаю, как спадает с меня оцепенение. Ну конечно — если он при мне Ленчика послушался неохотно, хотя ронял этим его авторитет, то уж один на один явно мог настоять на своем и поехать туда, куда захочет, и Ленчик спорить бы с ним не стал, и так обстановка нервная, и так он себя показывает не с лучшей стороны, хотя и вор. Как же его зовут — я ведь помнила, он же был еще в том списке, который мне Ханли давал…
Ноги двигаются так странно, словно только учусь ходить. Или словно в водолазном костюме перемещаюсь. Но стоило сделать пару шагов, как стало полегче, и я, еще раз оглянувшись на дверь, — никто не выходил на пустую улицу, по которой редкие машины проезжали, и на абсолютно пустую стоянку — до нее ему оставалось пару минут идти, раскрыла рот и застыла.
Что же сказать ему, черт? “Вы не скажете, как пройти в библиотеку?”, “Почему у тебя такие большие руки?”, “Сегодня хорошая погода, не правда ли?”…
— Как потрахались, мистер Вагин?
И, видя, как он останавливается, будто мину под ногами заметил — не ждал, сволочь, не ждал! — не спеша иду к нему. И дышится уже без проблем, и ноги меня слушаются и все тело, а главное, что в голове легко, и пусто, и весело даже, как в рождественском елочном шаре.
— Передай Ленчику, что мне с ним перетереть надо — пусть завтра будет там, где обычно, в восемь вечера! — произношу отчетливо по-русски, подняв голову и глядя в его глаза — в которых видно было, как в замедленной съемке, как недоверие и удивление сменяются узнаванием и злобой. — Понял или нет?
— Че? Че сказала, сучка?
Глаз я не видела в тот момент, он быстро так стрельнул ими по сторонам, отмечая, видимо, то же, что и я чуть раньше — что пусто вокруг, никого — и шагнул ко мне так молниеносно, что я даже не успела понять что делать, оставшись на месте. Заметила еще одно движение, но опять не прореагировала, и только, когда полетела на него, ощутила, что он вцепился мне в руку и дернул на себя.
— Вот щас и перетрешь, сучка!
Здоровый сволочь — рванул так, что я врезалась в него, ощутив запах сигарет, въевшийся в одежду, и запах не слишком дорогих духов, подаренный ему той, с кем он сексом закончил заниматься пятнадцать минут назад.
— Руки убери, падла! — только и успела крикнуть, отталкиваясь от него, оглядываясь назад, на пустынную дорогу в пяти метрах от нас, на пустую улицу. — Слышь, в натуре?!
— Рот закрой, сука! — И я успела заметить, как он руку чуть отводит, держа меня другой, и резко отклонилась назад, избегая удара, и снова оглянулась, услышав, как сзади машина тормозит и холодно говоря себе: конец. И он снова рванул меня на себя, развернув так, что я ткнулась в него боком, и обхватил рукой, как бы приобнимая. — Будешь орать, убью на х…й!
И по тому, что он шепотом это произнес и застыл, прижимая меня к себе, я через какое-то мгновение поняла, что машина притормозила совсем не Ленчикова. И подняла глаза, чуть повернув голову, и даже марку не разобрала, совсем было не до того, только увидела, что машина черная, низкая, спортивная, двухдверная. И дверь открыта со стороны пассажира, и смотрит на нас какой-то мужик, чуть высунувшись.
— Скажи ему, чтобы валил! — злобный шепот в ухе. — Скажи, пусть едет — быстро, ты!
И немая сцена — я стою прижатая к громиле, как сиамский близнец, и человек смотрит на нас из машины, то ли пытаясь понять что происходит, то ли думая стоит ли вылезать чтобы пытаться помочь неизвестно кому, проститутке может, что-то не поделившей с сутенером. Я даже про Рэя забыла в этот момент, судорожно думая, не крикнуть ли этим в машине чтобы помогли. И только когда что-то ткнуло сзади мне в спину, сильно и больно, произнесла громко, чуть дрогнувшим, неестественно бодрым голосом:
— Все о’кей! Все о’кей, мистер!
И дверь захлопнулась, и машина тронулась с места, медленно очень, словно пассажир все еще смотрел на нас, и тут я опять полетела вперед после его рывка, шагов пять сделала, спотыкаясь и упав на колено, больно стукнувшись обо что-то головой — о чей-то бампер. И такой прилив ярости испытала вдруг от этого пренебрежительного рывка, от унизительного падения, что будь у меня пистолет в тот момент, разрядила бы в него всю обойму, не задумываясь о последствиях. И когда он поднял меня опять рывком, одной рукой, и толкнул к своему “Форду", об который я ударилась тоже, спиной на сей раз, только выдохнула, отдавая себе отчет в том, что человеку его профессии такое говорить не стоит:
— Е…ный пидор!
И по нему поняла, что он меня сейчас убьет прямо здесь — и плевать ему на Ленчика, и Мэттьюз не успеет на подмогу. Правда, в лице его — здоровенной ряхе с перебитым носом, толстыми мясистыми губами и чугунными глазами — не изменилось ничего, но кулаки сжались так, что судорога по нему рванула, и разжались тут же. И когда он шагнул ко мне, я — не от смелости великой, а просто от безвыходности — выбросила вперед ногу, как учили когда-то, уже в момент удара увидев, что из-за тесноты брюк и его роста в пах не попаду. Но он все равно согнулся, когда узконосый ботинок врезался гулко под колено, и я, отведя ногу, снова собиралась ударить, рассчитывая попасть в лицо, и тут меня схватил кто-то сзади за руку и воротник куртки, дергая на себя.
— Во сучка! — раздалось сзади: по-русски сказали, и я трепыхалась вяло, когда меня опять дернули назад, ударяя спиной об машину. — Во сучка, а, Серый? — повторил с насмешкой голос. — Говорил старшой, что вдвоем надо ехать, а ты понтовался. Сейчас бы она тебя завалила тут, в натуре, только так. Ты как сам-то, Серег?
А тот, разогнувшись, наступил сморщившись на ту ногу, в которую я попала, поднимая глаза на улыбавшегося кореша, прижавшего меня одной рукой к джипу.
— Я нормально, братан. А эта сейчас ответит за все — сейчас приедем и побазарим с ней за жизнь…
И я как-то обмякла сразу, не пытаясь вырываться, став даже меньше ростом — понимая, что второй ждал в машине, откинул сиденье, и не включал внутреннее освещение, и лежал, и Мэттьюз его не заметил просто. И что предчувствие меня не обмануло — и не зря я не поверила Мэттьюзу насчет того, что этот Вагин приехал сюда один, мне даже Кореец рассказывал как-то, что на любое дело лучше ездить вдвоем, чтобы кто-то подстраховывал. И сложилась пополам, когда кулак врезался мне в живот, и упала на колени, слыша сквозь туман:
— Не здесь, Серега. Давай ее в тачку — в мотеле разберешься…
И вслед за этим слышу уже наигранно-веселый
голос:
— Проблемы, мужики?
…Знаешь, я в такой ситуации была в первый раз в жизни. В первый раз меня толкали вот так и швыряли, в первый раз я ударила кого-то, в первый раз ударили меня. Нет, конечно, мне ведь дал пощечину кронинский телохранитель — но не так, как сейчас, не в живот, не изо всех сил, так что я просто упала на колени и застыла, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть. И в происходящем я больше не участвовала — я просто присутствовала как неопределенный предмет, нечто неодушевленное. Как видеокамера, стоящая равнодушно в углу, позволяющая брать себя в руки, кидать, подбрасывать, даже разбивать — и все это время бесстрастно и тупо записывающая происходящее.
Вот и я “записывала”, не издавая при этом ни звука, ко всему относясь безучастно. “Записывала”, как меня приподняли за шиворот, снова ударив спиной о джип, о пассажирскую дверь. И слева от меня, тоже прижавшись к джипу, стоял тот, кто вышел из машины, а прямо передо мной был тот, кто меня ударил, он боком был ко мне, а лицом к нему, шагах в пяти, стоял вышедший из-за машин Рэй.
— Проблемы, мужики?
Звук я тоже записывала, с этим все было в порядке.
— Скажи ему, чтоб валил! — бросил Вагин тому, кто меня держал, и тот, выглянув из-за меня, медленно процедил оскорбительное “фак офф”, что значит “отъе…сь” по-русски, — и я не видела его лица, я вообще ни на кого конкретно не смотрела, но, когда прослушивала и просматривала “запись” потом, готова была поклясться, что он это говорил, гордясь своим знанием американского разговорного.
Потом тишина, потом снова голос того, кто слева:
— Может, волыну ему показать, Серый? Или номер тачки запомнит? Нам самим сваливать надо, че здесь торчать!
— Скажи, что баба с нами — и пусть уе…вает!
— Фак офф, мэн, наша девка! Ну че, не понял?! — Вторая фраза уже по-русски, а третья Вагину: — Серега, а может, это тот пидор, что пацанов завалил?
Поздновато спохватились, неужели думали, что это случайно вышел откуда-то американец и решил заступиться за непонятную девицу, не боясь двух здоровенных и агрессивных детин?
У Вагина рука нырнула под пиджак, и тут “камера” зафиксировала впервые Рэя, без оружия, с улыбкой на лице. Этакий вестерн, дуэль, в которой хороший все равно выхватит оружие быстрее, чем плохой. А потом в “объектив” попала рука, уже выскочившая из-под пиджака с пистолетом, и выстрел, и падающий Вагин, так и не успевший поднять ствол, и несильный удар мне сзади в голову чем-то железным и полушепот-полукрик:
— Завалю, сука! Скажи своему, чтоб кинул волыну — или завалю!
И рука на волосах, то есть на парике, и что-то просвистевшее совсем рядом, в миллиметре перед носом, и непонятный звук слева, и что-то мягкое, и липкое, и вязкое, хлестнувшее по моему лицу и поползшее вниз по нему.
И “камера” выключилась, и я ожила, дернувшись от тихих слов:
— Беги, Олли, быстро! Мой “Торус”! Ключи!
И поймала с ловкостью профессионального бейсболиста брошенную мне связку, чуть ее не выронив правда, и кинулась прочь от клуба, в ту сторону, куда показывал Рэй, проскочив сквозь стоянку на боковую улочку, запаниковав на бегу, что направляюсь не туда — хотя он мне накануне двадцать раз объяснил, куда поставит “Торус”. И как-то по-дурацки открыла его с другой стороны, слева, да и в замок попала с трудом, и рывком переместилась за руль, потом уже поблагодарив Бога, что в американских машинах нет коробки передач, что скорости переключаются рычагом на руле, и потому переднее сиденье сплошное, и потому не застряла я там, не потеряла времени. И уже через полчаса, и только благодаря включившемуся автопилоту, подъехала к дому.
Я сидела в машине какое-то время, тупо глядя перед собой, но ничего не видя, и ничего не слыша, и не зная, зачем я здесь сижу, — до тех пор, пока зачем-то не посмотрела в первый раз на себя в зеркало и не увидела какие-то потеки на щеке. И медленно, со скрипом тронулись с места застывшие шестеренки мыслей, судорожно пытающихся найти ответ на вопрос, откуда эти пятна, — и, когда память, упрямо помолчав, как зависший компьютер, наконец выдала ответ, я даже не успела открыть дверь. И не успела подумать о том, что хорошо, что вечером я ничего не ела — легче будет отмыть салон…
— Ну и что они тебе сказали?
Он пожимает плечами.
— Им показалось немного подозрительным, что я запомнил номер того черного “Шевроле Камаро”, который останавливался неподалеку от тебя и этого парня. Интересно, он знал, что такое вагина? Наверное, нелегко было жить в Америке с фамилией “Влагалище” — так что, можно считать, что я его избавил от массы проблем.
— Рэй, — произношу тихо и укоризненно, — мне сейчас не смешно, Рэй…
— А зря, — мгновенно реагирует он с улыбкой. — Юмор помогает жить. Короче, те двое, которые сидели в “Камаро”, подтвердили, что на самом деле видели, как здоровый белый парень тащил за собой блондинку — и что она была испугана, когда кричала им, что все о’кей. Им даже стыдно стало, что они не вызвали полицию — долго объясняли, что решили, что это проститутка и сутенер выясняют отношения. А когда услышали, что у парня был пистолет, тот, кто был за рулем, с такой укоризной посмотрел на своего приятеля, что я понял, что больше ни один из них никогда ни во что не вмешается — даже если у них на глазах будут кого-то насиловать или резать на части. Думаю, они крепко напились потом — за свое счастливое спасение от возможной пули в голову…
— Ну и что дальше?
— Ты очень любопытна, Олли!
Он еще издевается, гад. Издевается надо мной — а я ведь нервничала жутко по поводу того, куда он делся. Правда, сначала я выскочила из, извиняюсь, заблеванной машины, выскочила так, словно там через секунду должна была взорваться мина, и через мгновение была в ванной, голая, брезгливо кинув в угол всю одежду. Терлась судорожно, потом пила, как верблюд после перехода через Гоби, потом меня рвало водой, когда увидела лежащий в углу парик. Потом губкой протирала раз по двадцать брюки, и куртку, и ботинки, закинула в стиральную машину парик, зная, что никогда больше его не надену, вышла на улицу через силу, уже валясь с ног, и мыла салон, тихо радуясь тому что он кожаный. И ежеминутно вытирая лицо в том месте, куда плеснули мозги и кровь, не в силах избавиться от ощущения, что они все еще там, чувствуя их как ожог, словно это не кусочки человека были, а серная кислота.
А вернувшись в дом, села у телефона, заново прокручивая в памяти случившееся, раз за разом запуская с самого начала все отснявшую “видеокамеру” — и через пару-тройку просмотров открыла банку пива, а потом еще одну, отчасти нарушив сухой закон, но только благодаря этому и отключившись. Прямо в гостиной, сидя и все тупее и тупее глядя на трубку радиотелефона и лежащий рядом мобильный.
Не знаю, во сколько точно это было — часа в два ночи, наверное. А разбудил он меня, думаю, в четыре. Я проснулась оттого, что кто-то гладил меня по голове, и сразу поняла, что это он — ну не Ленчику же меня гладить? — и чуть приоткрыла глаза, увидев улыбающееся лицо и направленный на меня взгляд. И во взгляде этом было столько всего, что мне сразу стало тепло и уютно, и не вспоминались даже, что странно, недавние события, и я его притянула к себе и начала благодарить за тепло тем единственным способом, которым умела, потому что во взгляде его помимо всего прочего было легко прочитанное мной желание. Желание мужчины, вернувшегося к женщине после опасной охоты, мужчины, переполненного адреналином, азартом, гордостью, восторгом от победы — и я обязана была удовлетворить это желание, потому что победу он одерживал ради меня.
За те полтора года, что прожила в этом доме, я в первый раз занималась сексом на этом диване, достаточно широком и удобном, но все-таки для этого не предназначенном, — но у меня вдруг возникло такое сильное ответное желание, что я уже не могла ждать, не хотела никуда идти и его не пустила в ванную. И животные запахи немытого мужского тела — не такие сильные, как у Корейца после тренировки, но в тот момент они для меня были такими же, — выделяющего к тому же все запахи пережитых им недавно страстей, возбудили так, что я на следующий день удивилась себе. Проспав всего-то ничего, я не чувствовала усталости, свалившей меня пару часов назад, — и то, что произошло между нами, было сильным, и безудержным, и долгим, кажется.
И я кричала, и царапала, и кусала, и просила сделать мне больно — сейчас думаю, что в ту ночь мне казалось, что я с Корейцем, и я даже не замечала, что мой партнер совсем другой и ведет себя совсем не так. Мне это было неважно, я сама играла за двоих, полностью растворившись в этой игре, сама брала и отдавала, насиловала и подвергалась насилию, делала больно и чувствовала боль, доводила до экстаза и испытывала оргазм. И даже когда он ослабел окончательно, с трудом переводя дыхание и демонстрируя полную слабость соответствующих мышц и полное истощение запасов спермы, вылизывала его, а потом заставила вылизывать себя, нагло садясь сверху, и подставляясь, и запуская его пальцы в те места, которые требовали ласки и проникновения. И ничего не слышала из того, что он говорил, — только взялись откуда-то слова “похоже, я в тебя влюбился”, и я, услышав их и не вдумываясь в смысл, тут же закрыла ему рот, пристроившись к нему попкой и постанывая от прикосновения языка к горячей и ждущей дырочке…
И вот наконец утро — точнее, полдень, — и я пытаюсь вытянуть из него всю историю целиком, а он, как всегда, пытается ее замять. Не знай я его, решила бы, что делает это, чтобы возбудить к себе больший интерес, чтобы выглядеть настоящим героем, чтобы как следует порисоваться и похвастаться, — но я его уже знаю, по крайней мере, в том, что касается дела, и понимаю, что для него вчерашнее осталось в прошлом, минувший уже этап, вспоминать который, и еще подробно, с анализом тщательным, совсем не хочется. И героем выглядеть ему не хочется — ему куда важнее, что он сам себя чувствует героем, и мне кажется, что он уже понял по моим коротким обрывочным рассказам, что крутых мужчин в моей жизни хватало.
Идиотское, кстати, слово “крутой” — в России оно стало модным потому, что переводчики западных боевиков так переводили слово tough, которое в дословном переводе означает “жесткий”. Некачественно приготовленный цыпленок, он ведь тоже tough — что совсем не означает, что он крутой в том смысле, в котором слово употребляли в бытность мою в Москве. A tough guys — это просто “серьезные ребята”, “конкретные ребята”, в конце концов. Кажется, вполне понятное выражение, но переводчикам понравились “крутые парни”, и вот результат. Приелось словечко, и в Москве, насколько я помню, кругом “крутые”. Но это лирика…
— Так что было дальше, Рэй? — спрашиваю, глядя ему в глаза, показывая, что от ответов уходить не надо, все равно придется все рассказать.
— Поняли, что я говорю правду. Что я вступился за девушку, к которой пристал громила и которую он хотел увезти куда-то и изнасиловать, тем более что в машине его ждал приятель. Причем я вступился случайно — проезжал мимо, увидел эту картину, остановился и вышел. Ведь “Мазда” была прямо напротив стоянки, и ключи ты по моей просьбе оставила в замке зажигания, и все выглядело естественно. В общем, я вышел, попросил громил оставить девушку в покое, а они вытащили пистолеты. Ну и…
— Но они же сами не стреляли, Рэй!
— Кто тебе сказал? Из пистолета этого, который “влагалище”, было сделано два выстрела. Если честно, то это, конечно, я сам сделал, он же упал с пистолетом в руке, так что несложно было его же пальцем дважды нажать на курок. Второй не стрелял, это да — но в любом случае получается самооборона. Плохо, что девушка убежала, но зато нашли владельца “Камаро” и его приятеля — причем нашли минут через сорок после того, как приехала полиция, они неподалеку припарковались, у другого клуба. К тому же самое главное — что я не убежал, а честно остался ждать полицию, которую сам вызвал.
— Все так легко? — спрашиваю недоверчиво.
— Не совсем. Когда стали проверять меня по компьютеру, тут же установили, кем я был и всю мою историю, — но за минувшие пять лет со мной такое произошло впервые, хотя я работал и телохранителем, и частным детективом. Так за что меня наказывать — я ведь защищался от двоих вооруженных людей. Оба русские, у обоих нашли права, выданные в Нью-Йорке, — по компьютеру тут же установили, что лицензии на оружие они не имели, и сейчас, наверное, уже выяснили, что оба подозреваются в принадлежности к мафии. Жаль, конечно, что не пригодилась моя тщательно продуманная версия про то, что мне давно уже угрожают по телефону — и, видимо, те же самые люди, которые убили моего партнера. Но что теперь сделаешь — зато есть свидетели, видевшие, как этот Вагин тебя тащил за собой. И здорово, что не было никакой прессы, никакого телевидения — значит, нигде про это не будет ни слова, и мою фамилию не упомянут. Я, правда, и так попросил полицию меня не называть, боюсь, мол, расплаты, это же русская мафия наверняка, но разве можно верить полиции?..
— Выходит, ты убил двоих людей, и тебя отпустили, и даже не отобрали оружие? — Почему-то мне никак не верится в легкость этого факта. Ладно, это было бы в Москве — можно было бы объяснить, что дал взятку огромную и свалил при полном попустительстве — но это же Лос-Анджелес.
— Они ж узнали, кто я — узнали, что убийство — это мое хобби. Шучу, не обижайся. Да, отпустили, как только все выяснили, и пистолет остался при мне. Если бы я убил не русских, а американцев, проблем было бы больше — но у русских слишком отвратительная репутация. И я доехал на “Мазде” до дома, взял свой “Мустанг” — и к тебе…
И мы молчим какое-то время, он с радостью, а я потому, что все никак не могу вспомнить, какой вопрос так сильно хотела ему задать. Копаюсь и копаюсь в голове, то “тепло”, то “холодно”, но в точку никак не попадаю — и наконец вытаскиваю один из “теплых” вопросов, надеясь, что ответ на него приведет меня к вопросу “горячему”.
— Кстати, а где ты был все это время, пока меня тащили к машине, швыряли и били? Ты ждал, пока меня начнут убивать по-настоящему?
— Сначала я ждал, когда ты его окликнешь, и я не понял, почему ты его пропустила, и потерял время. А когда обошел стоянку с другой стороны, увидел человека в джипе — и смог подойти, только когда он вылез из машины, иначе бы он меня сразу заметил. Извини, что так получилось, Олли…
Вот он — вот он, чертов вопрос, который так меня мучил.
— А ты случаем не боялся меня убить, когда стрелял в того, второго? Он же, между прочим, стоял практически за мной и еще и пистолет к моей голове приставил — и я точно помню, что пуля просвистела прямо у моего лица. Я же его почти целиком закрывала собой…
— Олли, Олли, разве ты вчера была выше чем обычно? — Он так добродушно улыбается, провоцируя улыбнуться в ответ, но мне не до улыбок. — Ты и вправду его закрывала, но не совсем — ты же боком к нему стояла, спиной к машине, — а голова его все равно была над тобой…
— Но ведь ты же мог промахнуться?! — гневно задаю последний вопрос, заранее зная, что он риторический.
— Если бы мы прожили вместе уже хотя бы год, тогда, наверное, мог бы — уж слишком у тебя тяжелый характер, — слышу в ответ. — Но сейчас, проведя с тобой всего две ночи?!..
В голосе его такое искреннее возмущение, что и я уже улыбаюсь.
— А сколько тебе надо таких ночей? Это я на всякий случай интересуюсь, в свете сказанного тобой.
— Серьезно? — спрашивает он уже без улыбки. — Для начала хотя бы сто — люблю круглые числа. А еще лучше — тысячу. Кстати, может, изменим условие нашего договора — обещанный тобой миллион долларов остается тебе, а взамен ты обязуешься провести со мной минимум тысячу ночей? Что скажешь?
— По тысяче за ночь? Ты щедр Рэй, но не безрассудно щедр, — смеюсь в ответ, пытаясь увести разговор в сторону и вообще закрыть тему, потому что уж слишком нешутливо он все это говорил. — Мне кажется, что ты меня недооцениваешь — если уж в фильме “Непристойное предложение” Роберт Рэдфорд платит Деми Мур миллион за одну ночь, то ты бы мог предложить хотя бы сто тысяч. Видно, придется еще один раз отдаться тебе бесплатно — чтобы ты лучше понял, что собираешься покупать…
У меня такое супернастроение было в тот день — и после ночи, и после предшествовавшего ночи вечера. Рэй уехал днем — обещал явиться в полицию, да и сам хотел там кое-что вызнать насчет Ленчика и его банды, ныне уже почти не существующей. Он уехал, а я выбралась к бассейну, и сидела, и думала, и улыбалась своим мыслям. Тому, что с появлением Рэя в моей жизни наконец-то наступила долгожданная полоса удачи. И вот уже у Ленчика еще на пятерых людей меньше — “еще” потому, что троих убил Джо, — и остался у него всего один человек, плюс Виктор, плюс он сам. А значит, как и рассчитывал Мэттьюз, всего один ход нам осталось сделать — и я свободна.
Я совсем не удивилась, когда, взяв зазвонивший мобильный, услышала голос Джека Бейли — поздравившего меня с тем, что завтра, то есть в понедельник, Крайтон получит из Нью-Йорка уведомление, согласно которому моя подписка о невыезде аннулируется и ему строго предписывается оставить меня в покое. Я даже восторга не испытала — сегодня для меня этот звонок был в порядке вещей. Но, конечно, все равно поблагодарила его тепло, не забыв добавить, что буду очень рада его видеть и что надеюсь, что он появится в Эл-Эй в самом скором времени.
— Хотелось бы верить, что мы проведем время приятнее, чем в прошлый раз, а, Джек?
Я сделала так, что у меня голос вдруг стал очень низким, и фраза вышла настолько двусмысленной, насколько я этого хотела — и он, наверное, тоже. Он сразу оживился, забыв об официальности, с которой начал разговор, — и стал объяснять, что рад прилететь бы хоть завтра, но в связи с тем, что произошло в прошлый его приезд, начальство его пока не отпускает. И хотя тот факт, что он даже не пытался отстреливаться, когда нас поливали автоматным огнем, показал мне, что он не слишком храбр — правда, может это я зря, может, у него и оружия-то не было? — во время разговора я ясно слышала, что он готов прилететь даже если будет уверен, что кто-нибудь обстреляет нас еще раз. Что он хочет меня — нет, это и раньше было ясно, но тут я слышала, что он хочет так, что готов заплатить за секс попаданием под обстрел.
Увы, мой друг, — к твоему прилету меня здесь уже не будет. И я усмехнулась этой мысли и тут же подумала, что, если бы он прилетел завтра, я бы ему отдалась — потому что он это заслужил, сделав то, на что я даже не рассчитывала. И неважно, что мне это не надо, что он мне безразличен — я бы на самом деле на это пошла, и не испытывала бы угрызений совести, как после ночи с конгрессменом. Я вообще очень добрая, и человечная, и понимающая была в то воскресенье, казавшееся мне самым счастливым днем за несколько последних месяцев.
И когда уже вечером, почти в восемь, вернулся Рэй и сказал, что все нормально, что у полиции нет к нему никаких претензий — а значит, мы можем и должны сегодня ночью сделать последний шаг — это было еще одним подтверждением того, что сегодня получается все. И когда он добавил, что так долго отсутствовал потому, что Ленчик сменил мотель, но он нашел его, и их там трое, всего трое, как мы и рассчитывали, — я сказала себе, что этот счастливый день — шестнадцатое марта — я навсегда запомню. Запомню как день, в который… — я повторила то, о чем думала уже, пробуя сказанное на вкус и наслаждаясь этим вкусом, — …день, в который получается все.
А значит, получится и то, что запланировано на сегодняшнюю ночь…
Глава 4
… — Не нравится, тварь?! Не нравится, падла?!.
Мне не нравится — но ответить все равно не могу. Рот заклеен скотчем, как в боевиках, — что тут ответишь. Стою на коленях на полу, тело и голова на кровати, и люди вокруг на стульях, и реплики, и шум, и смех, все недружелюбное и издевательское, а я, голая, избитая, с затекшим синим глазом, вызываю у них только ненависть и желание растоптать меня и унизить. Что они и пытаются сделать — и кто-то очередной пристраивается сзади, всовывая свой член в мою попку, и начинает входить грубо и глубоко.
Вот идиоты, думают, что причиняют мне боль. Потому и рот заклеили — чтобы я своими воплями не переполошила весь мотель. А мне совсем не больно — не скажу, конечно, что приятно, но не больно. Мне все равно сейчас, и то, что они именно таким образом пытаются причинить мне боль, — это для меня даже лучше. А с них чего взять — для них анальный половой акт есть символ торжества, в их мире тот, кто имеет другого в заднее отверстие, возвышается в глазах собственных и в глазах окружающих, показывая свою абсолютную власть над тем, в кого входит, словно через зад лежит кратчайший путь к покорению души. Примитивно — я женщина, а не мужчина, меня этим не унизишь, я сама всегда любила анальный секс, — но полностью соответствует их убогим, на зоне воспитанным представлениям о жизни. Ленчикова идея, кстати — испугался, что его люди меня могут до смерти забить, вот и предложил такую, на его взгляд, страшную пытку.
Да нет, немного больно, конечно, — но это я вытерплю. Вчера, когда они меня привезли сюда и избили — старясь только не попадать по лицу, и так один глаз заплыл в результате захвата — было хуже. Когда потом привязали меня к сушилке для полотенец в душевой комнате и открыли холодную воду на полную, и мощные струи били мне в лицо, а я не могла отвернуться, потому что связали так, что головой не повертеть, задушишь сама себя, — это тоже было хуже. Когда потом устроили экзекуцию ремнями и мокрыми полотенцами — опять же это восторга у меня, мягко говоря, не вызвало. Я любила, конечно, экзекуции — но когда их Кореец проводил, а не трое разъяренных уродов, каждый из которых старается сделать мне как можно больнее.
Так что Ленчик вчера вернулся вовремя — и хотя сам был бы рад долго резать меня на мелкие кусочки или гладить раскаленным утюгом, кажется, был в шоке от того, что происходит. Я так поняла по его возмущенным монологам, что, когда все кончилось там, в Санта-Монике, они где-то поблизости и затаились. Отогнали машины в сторону от места перестрелки, бросив там трупы и засунув меня в багажник, и до вечера крутились поблизости, боясь ехать в Лос-Анджелес, боясь полицейских постов на дорогах. А потом Ленчик уехал по своим делам с одним человеком, а этим поручил меня привести сюда, не предполагая, что они займутся такой самодеятельностью. И потому долго орал на них — вернее, не орал, а говорил орущим шепотом, скорее, но я все равно немногое слышала: я где-то на полдороги была между этим миром и другим.
А на следующий день, сегодня то есть, он, чтобы направить их энергию в другое русло — наверное, сам хотел зло на мне выместить, только не знал как, — предложил этот вот вариант. Который всех вполне устроил — в том числе и меня. Как там было в сказке — только не бросай меня в терновый куст? Но он же не знает, что пугает козла капустой — и не надо ему знать.
И вот я стою на полу на коленях, голова и тело на кровати, причем голову я положила так, чтобы распухший глаз им не был виден, для меня даже сейчас важно выглядеть как можно лучше. И дергаюсь в такт движениям очередного урода, безвольно и вяло, и вспоминаю про себя позавчерашний день, и свое счастливое настроение, и то, как сказала себе, что это день, в который получается все. И мне так понравилась эта фраза, что я ее повторяла без конца и даже сейчас ее бормочу в несколько усеченном виде — получается все, получается все, получается все… И потом губы кривятся под скотчем — потому что в итоге получилось все совсем не так…
И тут скотч срывают одним движением — и уже не покривишься и не побормочешь ничего, потому что кто-то из уставших зрителей стаскивает меня с кровати, так и не освободив склеенные за спиной все тем же скотчем руки. И садится передо мной, впихивая мне свой член в ротик, и держит за голову, двигаясь сам, а сзади второй трудится в том же темпе. И я ухожу от них — просто переключаюсь, тем более что это дается без труда. Потому что с тех пор, как пришла в сознание в этой комнате, только и думаю о том, как могло все так получиться. Ведь все было так классно, все складывалось так удачно, и мы выигрывали, и до окончательной победы был один шажок — и вдруг все перевернулось. И вот я здесь — и не уверена, что когда-нибудь отсюда выйду и вообще проживу больше недели, — а Рэя уже нет. И еще меня мучает вопрос, почему так случилось со мной — почему, когда после стольких черных дней наконец-то выдался один по-настоящему счастливый, он же оказался и последним.
Все, я ушла, меня нет в этой комнате — а уроды терзают по очереди мою пустую оболочку. А я — я там, в том воскресном дне, в шестнадцатом марта. Почти восемь часов вечера, чуть меньше, и возвращается Рэй, и выкладывает свой план на сегодня — план на последний и решительный бой. Да и какой там бой, когда он до этого с такой легкостью расправился уже с пятерыми — сначала с двумя, потом с одним, потом еще с двумя, — и осталось их теперь ровно двое, не считая Виктора, который мне нужен, потому что должен заплатить за предательство, а в экстремальной ситуации пользы им от него все равно не будет.
— Ты представляешь, они сменили мотель, — говорит он мне вдруг, и я вздрагиваю, смотрю на него, не понимая, как мы можем теперь все осуществить, если Ленчик пропал. — Видимо, решили что полиция может узнать, где проживали покойные, приедет в мотель, а там узнает, что те тут были не одни, а еще с тремя приятелями — и тут начнутся допросы, расспросы и все такое. У меня еще утром такая мысль была — но я потом успокоился, поскольку в полиции мне ничего по этому поводу не сказали. Я им вообще был не нужен — посмотрели на меня как на идиота, зачем, мол, приехал. Я попытался выяснить, как и что, откуда были те, кого я убил, и что они делали в Лос-Анджелесе, и почему они так себя вели, и не мафиози ли они — но ничего конкретного мне не сообщили. То ли сами не знают пока ничего, то ли не сочли нужным.
И я просто на всякий случай подъехал к тому месту, где все вчера произошло — знаешь, есть такая теория, что убийцу тянет вернуться на место преступления, но в таком случае я бы должен был заезжать в достаточно большое количество мест, мне бы только и оставалось, что целыми днями колесить по городу — и увидел “Чероки” у клуба, и человека в нем на водительском сиденье. Ну и стал ждать, и вышел наконец тот, который главный, и они поехали, и я — за ними. Я ведь за ними ни разу не следил, когда был на “Мустанге”, — поэтому не опасался ничего, но такой ярко-красный цвет мог им примелькаться за время дороги. И в общем, мы ехали так, и в итоге они приезжают в совсем другой мотель, ставят машину и заходят в номер. Я проехал чуть дальше, а сам вернулся пешком, зашел в ресторанчик при мотеле, сел у окна, чтобы видна была их дверь — часа два сидел, но так никто и не вышел. Нам повезло — иначе пришлось бы их искать…
— И что теперь, Рэй?
— Давай съездим в одно место — на моей машине, хочу тебе кое-что показать…
И я не спрашивала ни о чем, зная о его любви к секретности, и, еще когда выходили из дома, рассказала ему про звонок Бейли.
— И когда улетаешь? — спросил он изменившимся голосом, и я сразу поняла все.
— Разве мы не вместе летим, мистер Мэттьюз? Разве не вы согласились в течение года быть моим телохранителем в Европе?
Рэй расцвел — мне, еще когда он задал вопрос, ясно стало, что он боится, что теперь, когда все решилось благополучно с ФБР, когда мне не нужна его помощь в нелегальном выезде из страны, не нужны поддельные документы, я могу счесть, что и он мне не нужен больше и могу уехать одна. И, в общем, мыслил он верно — действительно, для меня значимость его теперь кончалась сразу после расправы с Ленчиком. Уехать я могла без проблем, открыто, не сбегая, а насчет предложения побыть год моим телохранителем в Европе — так я его тогда сделала просто так, чтобы предложение мое звучало в целом как можно заманчивее.
К тому же я знала уже, что он в меня влюбился, и, судя по опрометчивому, дай бог, под воздействием момента высказанному предложению на мне жениться, чувства у него были серьезными — то есть абсолютно мне не нужные. Но после того что он сделал, оставить его здесь я не могла — хотя мне не был нужен рядом влюбленный в меня мужчина, которым я восхищалась, конечно, но которого не любила — у нас был просто такой короткий военно-полевой роман на время боевых действий, — да и одной бы мне было потом проще.
Точно сказала — военно-полевой роман. И когда война заканчивается, герой-освободитель не вписывается в мирную жизнь, кажется в ней иным, не таким, как на поле боя, лоховатым, некрасивым, дурацким. Начинает раздражать тем, что в повседневном бытии он совсем другой, и тем, что в гражданской одежде выглядит нелепо. Вспомнился рассказ Ирвина Шоу — того самого, который написал “Богач, бедняк” и много всего другого, — про то, как американка на австрийском курорте заводит роман с инструктором по горным лыжам, и он ей кажется верхом совершенства, он так фантастично смотрится на лыжах, так легко покоряет крутые склоны, так красив, и сексуален, и уверен в себе. И она, уезжая, со слезами оставляет ему свой телефон и адрес — и полгода спустя, снимая трубку, слышит, что ее герой завтра будет в Штатах. И она счастлива, хотя немного позабыла и про него, и про их отношения — и в аэропорту видит плохо одетого, неотесанного деревенского парня с обветренным лицом и жуткими манерами, и убегает, пока он ее не заметил.
Я другая, конечно, — я давно уже не наивна, знаю себе и людям цену и вижу, кто есть кто. Но тем не менее отчетливо увидела, что его беспокойство оправданно — что мне он и вправду уже не нужен. И тем не менее сказала себе, что телохранитель в Европе может пригодиться — не дай бог, тюменцы все же в курсе того, что происходит здесь, и узнают потом, что я уехала, и продолжат меня искать, все же сумму-то хотят вернуть немалую — и этой вот напускной практичностью прикрыла не слишком свойственные мне чувство благодарности, признательности, восхищения другим человеком.
— Так что мы летим вместе, мистер Мэттьюз — если я, конечно, уже не успела надоесть вам так, что не то что год, а даже месяц в моем обществе представляется вам адом, — добавила я с напускным и видимым кокетством. И чуть напряглась, когда он среагировал неадекватно — притормозил, выехав за ворота, посмотрел на меня пристально и серьезно, протянул руку, и погладил нежно по волосам, и помотал головой, по-прежнему глядя мне в глаза, явно желая, чтобы я прочитала в его взгляде как он относится ко мне.
— Поехали, Рэй, — сказала я, показывая ему на появившееся сзади на пустынной улице такси — оно еще далеко было от нас, но черт его знает, кто в нем сидел и куда ехал, и мы стартовали быстро, и я еще поблагодарила это такси за то, что позволило мне прервать затянувшуюся паузу, за которой последовали бы наверняка слишком откровенные, совсем не нужные мне сейчас его слова. И заявила вдогонку, что мы слишком рано начали говорить о завтрашнем дне, потому что нам предстоит сегодня одно очень и очень важное дело — на что он заметил несколько легкомысленно, что то дело, которое нам осталось сделать, бесспорно важное, но настолько легко осуществимое, что беспокоиться об этом даже не стоит. И у меня совсем хорошо стало на душе, и я сама начала говорить о том, что уехать, в принципе, можно было бы уже послезавтра — финансовые вопросы я давно утрясла, дом продам через банк, мне не к спеху, из вещей возьму с собой минимум.
И мы стали обсуждать, как лучше поступить: сначала уехать в Канаду и оттуда уже улететь в Европу, потому что виза у меня уже была, я об этом позаботилась заранее, равно как и Рэй, вообще никогда не выезжавший из Штатов, — или направиться в Мексику и улететь оттуда. И о прочих мелочах разговаривали — куда лучше вылететь сначала, во Францию или в Германию, и имеет ли смысл обосноваться в Лондоне, если можно поселиться там, где потише. Говорила в основном я — это был уже мой план, и он не встревал и только слушал, чувствуя, кажется, что здесь мы меняемся ролями, что после того, как закончится конфликт с Ленчиком, лидерство всегда будет принадлежать мне, потому что как бы он, Рэй, ни был крут, мы с ним не воевать собираемся, и потому его крутость меня не беспокоит.
— Как скажете, босс, — повторил он несколько раз с неопределенной улыбкой, такой неуверенной, словно сейчас уже думал о том, как будут складываться наши отношения потом, в Европе. И я никак не реагировала на эти реплики — потому что сама не знала, как все будет. Знала только, что я счастлива сейчас благодаря ему и буду еще больше счастлива, когда закончится сегодняшний день, и буду еще больше счастлива, когда наконец окажусь за пределами Штатов — потому что, несмотря на услугу, оказанную мне Бейли, валить отсюда надо как можно быстрее.
Ведь когда найдут Виктора — вряд ли Рэй собирается сжигать трупы или топить их в океане, — то выяснят, что он был помощником Яши, и все начнется заново, и меня опять начнут дергать как свидетеля, пусть даже для полуофициальных бесед с другом Джеком. Им, естественно, покажется странным, что столько русских погибло за последние два месяца в Лос-Анджелесе — словно они специально прилетали из Нью-Йорка на рандеву со смертью, — да еще и смерть Виктора тут, а так как я тоже русская, меня в покое точно не оставят. Так что лучше мне уехать — взяв с собой Рэя, чтобы никто при этом не узнал, что мы вместе улетели одним самолетом или уехали на одной машине. И потому послезавтрашний день, восемнадцатое марта, представлялся мне идеальным сроком…
…И тут я вернулась в реальность, потому что тот, кто был спереди и всовывал член в мой ротик, кончил вдруг, прямо в горло, и я закашлялась, на мгновение выпадая из воспоминаний, но не слышала ни одобрительных реплик, ни идиотского смеха, не чувствуя того, кто сзади, не видя пристраивающегося передо мной Ленчика, произносящего на потеху публике:
— Если что, все зубы выбью, по одному.
И я прокашлялась, понимая, что воды все равно не дадут, и когда он меня рванул за волосы, поднимая голову вверх, посмотрела отстраненно ему в глаза — и тогда он нагнул меня вниз, не увидев, видимо, того, чего ждал: страха, боли, испуга. Я только отметила, что сзади уже видимо другой, потому что не в попку входит, а пониже — и опять ушла. Подумав перед уходом, что сегодня как раз восемнадцатое марта — но вместо того чтобы сидеть в первом классе самолета, благосклонно принимая ухаживания стюардесс, выполняю роль куклы для пятерых пидоров, которые так боялись одной-единственной женщины, что теперь готовы ее убить, чтобы отплатить за свой страх…
А тогда за разговорами время полетело быстро, и я даже не смотрела по сторонам и наслаждалась ветром — Рэй откинул крышу, как только выехали из Бель Эйр, — и почти пустой воскресной дорогой. Я даже не задумывалась, куда мы, собственно, едем — и только, когда минут через сорок свернули с хайвэя и въехали в какое-то смутно знакомое место, я поинтересовалась, куда мы направляемся, собственно.
— Да пиццы захотелось, — ответил Рэй, притормаживая у заведения с вывеской “Уайлдфлор пицца”. — Любишь пиццу? Здесь ее готовят как нигде!
— И стоило ради пиццы ехать в Санта-Монику?.. — удивилась я, ничего не понимая — увидя, где находимся, потому что были мы здесь с Юджином. Это пригород Лос-Анджелеса, и, естественно, автономный, как и многие районы Эл-Эй. Бель Эйр, кстати, тоже автономный район, хотя мне сложно это понять, это все равно что Солнцево или Чертаново объявило бы о своей автономии от Москвы. Короче, я здесь была — и ничего такого не увидела. Ладно там престижный Малибу или городок культуристов Венис, а в Санта-Монике никаких достопримечательностей, зато куча бродяг и нищих, которых, впрочем, никто не трогает, такие уж здесь нравы демократичные.
— …И зачем так гнать, словно куда-то опаздываем.
— Конечно опаздываем — сейчас уже девять, а ресторан до десяти!
Я пожала плечами, и мы вошли в зал, прошли сквозь него во внутренний дворик, патио, благо погода хорошая, и сели там, и пицца действительно оказалась супер.
— Представляешь, они тесто дважды в день замешивают, потому она здесь такая нежная всегда! — только и произнес он за то время, пока мы ели. И я пожала плечами, пытаясь внешне хотя бы разделить этот энтузиазм, и заказала капуччино после еды, и вот кофе меня по-настоящему порадовал, по-настоящему крепкий сделали, европейский.
— Так зачем ты меня сюда привез? — поинтересовалась я в который уже раз, когда мы расплатились и выходили из закрывающегося ресторана.
А еще через час мы вернулись после проведенной Рэем экскурсии, и сидели в уютном кафе все на той же Мэйн-стрит, неподалеку от пиццерии, в удобных кожаных креслах, под тихий джаз, наслаждаясь первоклассным кофе и пирожными, которых я точно не ела года два. А еще через час, ровно в двенадцать ночи, когда Рэй набрал номер и попросил соединить с комнатой восемь, взяла трубку и, услышав голос Ленчика, произнесла отчетливо и весомо:
— Базар есть. Ровно через два часа в Санта-Монике у причала. Не приедешь — про бабки забудь и лучше сваливай в Нью-Йорк, пока не вальнули. До встречи, братан!
— Думаешь он приедет? — задумчиво спросил Рэй, когда я положила трубку.
— Думаю что да, — ответила я так же задумчиво. — Не уверена, но думаю, что да. И еще думаю, что он будет здесь даже раньше — может, уже через час. Так что кофе лучше допивать и ехать на место.
— Куда ты торопишься, Олли? — удивился он так искренне, словно нам предстояло прихлопнуть скрученной в трубку газетой надоедливую муху. — Лучше расскажи мне еще о Европе — интересно, где мы с тобой будем через несколько дней…
Мне уже неинтересно — я уже это знаю, равнодушно позволяя этим положить меня на кровать, думая, что коленям все равно надо отдохнуть, и один садится мне на грудь, а один пристраивается между ножек, раздвигая их сильно и грубо. И не надоело им?
— Слышь, старшой, может в клуб ее сдадим — пусть бабки зарабатывает, у нее получится? — с идиотским смехом спрашивает кто-то. — А может, себе оставим — телка ничего, и чую, пое…аться любит. Возьмем с собой в Нью-Йорк — будет на улице работать и нас обслуживать, когда захотим.
— Из-за этой телки десять пацанов уже землю хавают, и нам могут ласты загнуть, — мрачно отвечает Ленчик, сидящий, видимо, неподалеку. — Я так думаю, что мусорки уже пробили, откуда пацаны и с кем работали — и бля буду, что уже ищут нас в Нью-Йорке, меня-то точно, чтобы за пацанов побазарить. Ты лучше сейчас ее е…и, во все дырки…
— Пока тебя на зоне негры раком не поставили, — вдруг встреваю в разговор неожиданно для себя и получаю пощечину увесистую под Ленчиков крик “По роже не бей!”, и снова член во рту, тут уже не до реплик, не задохнуться бы.
Да, мне уже неинтересно — через пару недель меня уже нигде не будет. Закопают? Утопят в океане? Просто бросят где-нибудь, предварительно изуродовав до неузнаваемости труп? Да нет, в океан, наверное, так удобнее. Задумываюсь и тут же опять отключаюсь — и я в Санта-Монике, и прохладная ночь вокруг, ночь с воскресенья на понедельник, и потому тихо и пусто…
…Тихо и пусто, и мы сидим в “Мустанге” метрах в пятистах от знаменитой пристани — знаменитой потому, что эти несколько деревянных мостков, построенных бог знает когда, во многих фильмах показывали — и я курю, пряча огонек сигары и наклоняясь, чтобы втянуть дым. Нас от пристани не видно — хитро встали, — а мы ее видим хорошо, особенно Рэй, потому что у него бинокль в руках или прибор ночного видения, я не разбираюсь в этом.
— Ну и что именно мы будем делать? — интересуюсь, не в силах думать о том, что вот-вот должно произойти, через час максимум, а то и через полчаса. — Ты бы рассказал мне поподробнее, чтобы не получилось как в прошлый раз, когда я не знала, где ты и когда появишься.
— Да ничего особенного мы не будем делать, — сообщает он в своей привычной манере. — Через пятнадцать минут подъедешь к пристани, поставишь машину к ней задом, включишь фары, закуришь еще, чтобы видно было издалека и будешь ждать. А я буду рядом. Что делать, ты сама знаешь…
Да не слишком-то я знала, что делать. Одно дело провоцировать двух дураков, не подозревающих, что рядом мой человек с оружием в руках, — а другое дело провоцировать Ленчика, который уже знает, что еще пятеро его людей погибли, и знает, что из-за меня, уверен в этом безо всяких доказательств. И к тому же он прекрасно понимает, что я буду не одна, что зову его, чтобы решить с ним вопрос раз и навсегда, и что здесь его ждет засада. И скажи я ему, что ничего ему не отдам и что вообще он пидор — он может запросто всадить в меня пулю, решив что и вправду с меня ничего уже не возьмешь, а отомстить надо.
Да и если честно, не слишком я была убеждена в том, что он приедет: вдвоем, а у него остался всего один человек, ехать в заранее подготовленную ловушку, к тому же в абсолютно неизвестное ему место слишком опасно. Просить у Берлина людей он бы точно не стал — слишком поздно было для этого, я ведь ему позвонила ровно в двенадцать, и тот бы вряд ли оперативно среагировал, он внешне человек респектабельный. А значит, маловероятно, что у него по двору ходят вооруженные до зубов люди, готовые в любой момент мчаться куда угодно, и вряд ли бы он послал людей бог знает куда, где их ждет неизвестно сколько народа. Да, большой вопрос — рискнет Ленчик приехать или не рискнет?
Ну пусть не рискнет — но что ему остается делать тогда? Опять ждать неизвестно чего? Нечего ему ждать. Запрашивать подмогу из Нью-Йорка? Так вроде больше не должно быть у него людей, а было бы больше, он бы их всех с собой привез, уже потеряв троих в конце января и зная, что здесь опасно. И вправду — что ему остается делать? Глупо спрашивать себя, что бы сделал на его месте ты или Кореец — слишком разные персонажи. Ты бы, я уверена, не поехал, и Кореец тоже — без разведки ехать в стопроцентную ловушку бессмысленно. А вот что я бы сделала? Я бы, может, и приехала — и послала бы вперед Виктора, как наиболее безобидного, а сама наблюдала бы со стороны, пытаясь увидеть, где засада и сколько в ней людей. Да нет, Виктор ему нужен, через него должны пойти деньги, которые я якобы должна отдать — неужели он все еще в это верит, придурок? — и потому им нельзя рисковать: Ленчику без Виктора эти миллионы не нужны, он с ними ничего сделать не сможет, если только нет у него других бизнесменов.
— Все, Олли, пора! — прерывает Рэй ход моих мыслей. — Подъезжай туда, расслабься, покури, подумай о приятном — о том, как через неделю ты будешь жить в своем доме в Англии и твой верный слуга рядом. Кстати, где ты меня поселишь — на первом этаже или выстроишь специальный домик для охраны, в котором я буду ютиться вместе со сторожевыми псами?
— Зависит от тебя, — улыбаюсь в ответ, спрашивая себя, почему мне не
нравится его легкомыслие, его жуткая самоуверенность в том, что все сегодня будет легко и просто? Может, он так просто меня успокаивает, не хочет, чтоб я нервничала, вспоминая последнюю историю? Да уж, было отчего понервничать — хладнокровный сукин сын, выстрелить на опережение в человека, который приставил к моей голове ствол и стоит практически за мной, чуть высовываясь, чуть надо мной возвышаясь…
— Ты подумай, ладно? Через час мне расскажешь — я буду ждать ответа!
Он смеется тихо и уже вылезает из машины, когда я вдруг спохватываюсь.
— Постой, Рэй, я же тебе сказала, что мне нужен пистолет, что быть безоружной приманкой я больше не хочу, хватит с меня! Я ведь тебе сказала — я не хочу чтобы меня били, толкали, пихали, и не говори мне, что до этого не дойдет! Я ведь просила тебя, Рэй!
— Да я помню — просто ты молчала, я решил, что передумала. — Опять улыбка, на которую я реагирую строго. — Под сиденьем — поищи. Это оружие Ханли, оно зарегистрировано, и лицензия на него есть, на имя Джима, конечно, но все же, если вдруг появится полиция, сразу кидай его в воду, тебе всего одно движение для этого понадобится, ты же будешь у воды. Только постарайся сделать это понезаметней. И еще: пожалуйста, не стреляй сама, если в этом не будет нужды, о’кей? Дай все сделать мне: ведь это мой план, и я знаю, что делать, и я всегда могу оправдаться перед копами, сказать, что приехал сюда погулять, а на меня напали, мстят за вчерашнее. Даже если они застукают нас двоих, я скажу, что вот приехал погулять с девушкой, а там пусть думают что хотят. И последнее — я выбрал это место потому, что патрули по Санта-Монике не ездят, но если вдруг увидишь патрульную машину и она направится к тебе, не бойся, я тут же подойду. Договорились?
И исчезает, буквально растворяется, отойдя всего-то шагов на пять, уходит в сторону причала, что означает, что он будет сбоку от меня и мне будет спокойней оттого, что я это знаю. И я смотрю ему вслед и только потом спохватываюсь, что это плохая примета, и думаю, как мне не нравится его сегодняшняя веселость, и, нагнувшись, начинаю шарить под сиденьями, сначала под водительским, потом под вторым, холодея от мысли, что он просто обманул меня: ничего там нет, потому что ему так проще, он не уверен в том, как я себя поведу, окажись у меня в руках ствол — и он прав по-своему, и знает, что, не найдя пистолета, я все равно поеду к причалу. Хотя бы потому что это надо мне — пусть уже не в большей степени, чем ему, но в равной точно.
Нет, не соврал. Я уже отчаялась что-либо найти, когда наткнулась на металлический предмет. Извлекла его, ощупав предварительно и убедившись, что это то, что мне надо, — и только тогда положила себе на колени, первым делом посмотрев по сторонам и ничего не увидев, и только потом опустив глаза. Что-то типа “Макарова” по размеру, нетяжелый, с коротким стволом. Внутри стало теплее, и я улыбнулась при мысли, что Рэй свалил так быстро, потому что думал, что я сама не разберусь ни в чем, что в моих руках это будет бессмысленный кусок железа.
Но я не зря в свое время в тир ходила по твоему совету — и потому быстро выщелкнула обойму, убедившись, что патроны в ней есть, передернула затвор и положила его рядом с собой на сиденье, не снимая с предохранителя: выстрелит еще, переполошит всю округу. Все-таки не слишком доверяю я механизмам, мне кажется порой, что они живут своей жизнью и, хотя якобы служат человеку, способны устраивать ему совершенно неожиданные сюрпризы, как бы показывая, что они истинные хозяева жизни и что людишки слишком самонадеянны. Спохватившись, протерла его носовым платком, извлеченным из куртки — и на всякий случай положила в бардачок. Черт его знает, может, полиция каким-то фантастическим образом прослушивает Ленчиковы разговоры — и мне совершенно ни к чему, чтобы меня ловили с чужим пистолетом и моими отпечатками на нем.
Ладно, время — полвторого на часах, и я включила зажигание и фары и медленно-медленно тронулась с места, и встала так, как говорил Рэй, задом к пристани, и заглушила двигатель, и раскурила потухшую сигару, не пряча на сей раз ярко тлеющий ее кончик.
Хорошее место он выбрал, ничего не скажешь. С одной стороны, я как на ладони тут, вырисовываюсь четко на фоне пристани, меня отовсюду видно, а с другой стороны, и мне видно все, и незамеченным ко мне не подойдешь. Подкрасться, наверное, можно: все же и слева и справа, метрах в пятнадцати от меня или побольше, стоят неплотными рядами припаркованные на ночь машины, и я, разумеется, не увижу, если кто-то будет красться там, перебегая от одной к другой. Но эти пятнадцать метров незамеченным никто не преодолеет — да к тому же как этим двоим подкрадываться? Место это им незнакомо, и с учетом того, что я позвонила Ленчику в двенадцать, и где-то час ему дороги, ну минут пятьдесят, и на сборы надо какое-то время, то они раньше половины второго здесь появиться просто не могут и времени на изучение местности у них быть не может.
Немного неприятно думать о том, что, возможно, он сидит сейчас неподалеку в “Чероки” с потушенными фарами, и видит меня, и, в принципе, может выстрелить и попасть, если захочет, — а его даже не вижу. Нет, не будет он стрелять — может, но не будет. Но на всякий случай сползаю чуть ниже, а потом наклоняюсь вперед, чуть не упираясь лбом в стекло, и так и сижу, согнувшись.
Уже два на часах, потом полтретьего, и спина затекает, и я снова выпрямляюсь и закуриваю нервно. Где этот идиот, сколько можно ехать — хотя, с другой стороны, он здесь бывать не должен был, пока разберется в карте, пока по Санта-Монике покрутится и найдет причал. Городок вымер, кажется, ни одного человека не видно, несмотря на разговоры о многочисленных бродягах и нищих и наличие лавочек вокруг: то ли холодно им спать на улице, то ли у них свои излюбленные места есть и это место к ним не относится. И ни одной машины не слышно — и такое ощущение, словно вымерло все вокруг. Здесь мне, правда, больше нравится, чем в том районе, в который заехала, заманивая туда двоих Ленчиковых людей, — здесь нет трущоб, давящих со всех сторон, здесь достаточно просторно и океан — но тишина начинает действовать, шуметь, звенеть в ушах, рождать иллюзорные, несуществующие звуки. Зажигаю подфарники — может, Ленчик где-то близко, и сам сидит с выключенными фарами, и не видит “Мерседеса" моего, и думает, что меня нет. С него станется, все же не шибко он умный.
Три. Сидеть уже сил нет, я полтора часа уже сижу, припарковавшись здесь, — и до этого сидели вдвоем в машине порядка часа, ну минут сорок минимум. Конечно, “Мустанг” удобный, и, судя по тому, с какой гордостью о нем говорит Рэй, редкий какой-нибудь, коллекционный — здесь в Америке принято гордиться тем, что у тебя, скажем, “Мустанг", или “Бьюик”, или “Шевроле” семьдесят третьего к примеру года. Когда так говорят — со значением указывая модель и год выпуска, — то это означает, что или выпустили в том году небольшую серию, или еще какие достоинства есть у этой машины, какая-то эксклюзивность. И ими, такими автомобилями, гордятся, их полируют, постоянно в них копаются, бережно моют, ухаживают, как за женщиной, — короче, относятся не так, как к обычным серийным машинам. В Москве машина, которой больше десяти лет уже и машиной-то не считается, так, развалюха, даже если это “Мерс” или БМВ, а тут это суперавтомобиль, и владелец вполне может иметь другую машину для постоянных разъездов, а на этой выезжать по особым случаям. А что им — дороги хорошие, пробег в сто тысяч миль, в сто шестьдесят тысяч километров то есть, считается маленьким, в то время как в Москве это уже запредельная цифра, там столько машины не живут. Но это в Москве…
…Ты не подумай, кстати, что я там особенно скучала по столице бывшей своей родины — если честно, то совсем нет. Никого у меня там не осталось, и ничего не осталось, не считая твоей могилы. И никто меня не ждал там, и делать мне там было нечего — я ведь умерла в Москве, чтобы заново родиться в Лос-Анджелесе. А редкие сравнения местных обычаев с московскими — это не удивление американскому образу жизни и не порицание советского, это, скорее, для тебя, для моего единственного собеседника, для которого и предназначается весь этот монолог. Я, конечно, в курсе, что ты об Америке знаешь не меньше меня, пусть не жил здесь, но бывал часто, а просто сообщаю на всякий случай.
А может, я и для себя заодно эти параллели провожу — ведь все познается в сравнении, и не зная что такое белое, черное оценить нельзя. Представляю, как бы радовались американцы, даже самые средние, своему счастью, знай они, как живут в России — не понаслышке, не по телевизионным передачам, а по собственному опыту. Перенеси их на год туда, пусть даже в Москву, в лучший и самый богатый город, и потом верни обратно, они до конца дней своих — если не помрут от переживаний и выпавших на их долю страданий — будут искренне считать, что лучше Америки страны на свете нет и не будут никогда уже возмущаться президентом, критиковать политику правительства, устраивать марши протеста по самым разным поводам. Они будут сидеть тихонько по домам, и глупо улыбаться, и целовать по сто раз на дню землю под ногами и национальный флаг, и восхищаться ценами в магазинах, которые после России будут казаться им абсурдно низкими, и уверять, что никакой преступности в Штатах нет, и все такое прочее.
Я, правда, не хаяла Россию после того, как переехала в Штаты, — я и там жила неплохо, потому что у меня не было особых запросов, а с тобой вообще жила как в сказке, и здесь мне неплохо. Но тем не менее иногда сравнивала — хотя в Москве не была с осени 1995 года, то есть давным-давно, и больше туда не собиралась. До отъезда Корейца, может, и мелькала иногда мысль, что когда-нибудь, лет через десять, можно было бы съездить на пару недель, навестить тебя, посмотреть, что там и как, — но после того как он уехал туда и пропал, таких мыслей больше не возникало…
Без двадцати четыре. “Мустанг” удобный, спору нет, но не настолько, чтобы сидеть в нем безвылазно столько времени. И тишина уже начала давить всерьез, и я, хотя и договорились с Рэем, что не буду вертеть головой, чтобы его не выдать, на случай если кто-то подкрадется близко, косилась то вправо, то влево, пытаясь понять, где он, — и думала, каково ему сейчас, каково сидеть, затаившись, и ждать.
Ленчик, конечно, не король, для него пунктуальность — не вежливость, но почему же он не появился все-таки? Понятно, что это свидетельствует о том, что он не импульсивный идиот — но что он будет делать дальше? Оставит меня в покое? Точно нет. Попробует меня заложить ФБР? Тупость. Улетит на время? Это плохая мысль, это значит, что я никуда не смогу уехать, потому что обязана отомстить за всех.
А может, он собирался приехать, но что-то по дороге случилось? Сломалась машина, скажем. Или, не дай бог, тормознула полиция за превышение скорости и, когда поняли, что перед ними русские, попросили проследовать в участок — а там ведь и оружие могут найти, которое у него наверняка с собой, а нам это не надо, ни мне, ни Ленчику. Сбился с дороги? Возможно: в Штатах дороги непростые, особенно если едешь куда-то в первый раз. Вроде указателей куча, но стоит проскочить по хайвэю нужный поворот — обратно хрен вернешься так просто, для этого надо бог знает сколько времени крутиться. Может, он и крутится — тем более что он вполне мог оставить в мотеле большого специалиста в области английского языка и местных обычаев Виктора, а без него разобраться куда тяжелее.
Черт, надоело ждать и гадать тоже надоело! И когда снова смотрю на часы и на них уже четыре двадцать, закуриваю бог знает какую по счету сигарку и вылезаю из машины, не в силах больше сидеть. Ноги так затекли, что приходится чуть поприседать, держась за машину, чтобы мышцы отошли. И спина затекла, и я понаклонялась кое-как, попотягивалась, все время стараясь держать в поле зрения окружающее меня пространство. И хотя я не видела никого и нигде, кажется, ничего не двигалось, почему-то где-то очень-очень глубоко было ощущение, что за мной следят. Как появилось это ощущение в самом начале, когда я заняла позицию у пристани, так и не прошло.
“Мнительность это называется, мисс Лански”, — пояснила самой себе, едва не произнеся эти слова вслух. Конечно, мнительность, и тишина утомила, и сидеть надоело, и нечем заняться. Ну начни я подкрашиваться — вот уж на что здорово время убивать — внимание рассеется, а это опасно. Да у меня и косметики-то с собой почти не было — я на дело с Рэем неизменно ездила с пустыми руками, чтобы не дай бог не потерять что-нибудь при бегстве, не оставить улик для полиции. Футляр с сигарками и зажигалка в одном кармане куртки, кредитка и права и немного наличных в другом, помада и ключи в третьем — больше ничего и нет с собой, в этот раз даже мобильный не взяла, потому что поехали на одной машине.
Я так и прохаживалась — скорее, топталась, и звенело в ушах, и глаза уже устали от напряженного оглядывания по сторонам, оттого что все время косила ими то вправо, то влево, — и так еще полчаса прошло. И ровно в пять я сказала себе, что никто уже не приедет, и села обратно в “Мустанг”, и включила двигатель и кондиционер заодно, потому что умудрилась замерзнуть за время так называемой прогулки. И чувствовала, что засыпаю — странно: привыкла ложиться поздно и ко сну относилась достаточно равнодушно, но решила, что это объясняется усталостью, во-первых, и тем, что надышалась свежего воздуха, во-вторых.
И радио включила — совсем негромко, — чтобы не заснуть, зная, что ждать следует до тех пор, пока Рэй не решит, что пора уезжать, вовсе не собираясь его окликать или торопить, потому что мы не забавляться сюда приехали, хотя уже ясно было, что нечего ждать. Посмотрела на небо, светлеющее, напоминающее размытый перед ремонтом потолок, который после соответствующих работ станет чистым и гладким и запахнет свежестью. И подумала, что чувствую себя как человек, собравшийся сражаться с вампирами, приехавший ночью на кладбище с полной осиновых кольев сумкой, торчащих из нее, как клюшки для гольфа. И он ходит и не видит ни одной разрытой могилы, и хотя был готов к бою, с облегчением вздыхает, заслышав доносящийся из соседней деревни петушиный крик. И начала, видимо, засыпать, потому что вскрикнула и дернулась, когда Рэй внезапно постучал по стеклу, и инстинктивно рванула рукой по сиденью, отыскивая пистолет, предусмотрительно убранный под него.
— Поехали, Олли!
У него вид был такой усталый — я это умудрилась отметить каким-то чудом, хотя у самой уже глаза закрывались. Но увидела-таки, что он бледный весь, и стопроцентно замерз — хотя был, как всегда, в свитере на голое тело, джинсах и замшевой куртке, бессменной его одежде, куда более теплой, чем моя, — потому что еле заметно поеживается, и вообще вид такой непривычный, я его таким не видела никогда.
— Господи, как ты меня напугал, Рэй! — улыбнулась через силу, все еще чувствуя холод внутри. — Ты думаешь что…
— Думаю, что у меня есть другой план. К тому же ты, по-моему, уже вымоталась до предела.
— Знаешь, у меня все время было такое ощущение, словно кто-то следит за мной, кто-то откуда-то на меня смотрит, — призналась ему, чувствуя себя дурой, но помня слова Корейца относительно перебдения. — Я прямо чувствовала физически чьи-то глаза. Поэтому и не звала тебя — хотя умудрилась постыдно заснуть. Может, подождем еще — может, если они и следили за нами, то не увидели, как ты садишься в машину?
Фраза была такая длинная, что я ее произнесла с трудом, и прикрыла глаза в конце, отдыхая.
— Для них это слишком сильно, Олли, — следить за машиной столько времени и не сделать ни одного шага. Тебе не кажется?
Такая уверенность звучала в его голосе, что я подумала, что, конечно, я дура, что просто показалось, и это неудивительно, потому что новая для меня игра. Подумала, что надо бы сказать ему, чтобы не держал их за полных дураков — они быки, конечно, тупые, но свирепые, и совсем идиотами, которые буду сидеть и ждать, пока он придет за ними и поведет на бойню, их считать не стоит. Но, в любом случае, от уверенности его стало тепло и спокойно.
— Тебе виднее, Рэй. Так что будем делать? — спросила я полусонно, тщетно пытаясь прийти в нормальное состояние. Но, видно, слишком велико было напряжение в период ожидания, и когда оно кончилось, когда ясно стало, что никто не приедет, расслабленность нахально брала свое.
— Сейчас? Тут есть одно кафе, ровно в полседьмого открывается, то есть через час — можем попить кофе. А можем вернуться в Эл-Эй и выспаться как следует — и после сна заняться делами…
И я зевнула, прикрывая рот и чувствуя, что обратная дорога будет долгой и утомительной. Господи, мне так верилось, что все решится в эту ночь, а тут опять все откладывается — и потому настроение было куда хуже, чем еще пару часов назад, потому что охотник на вампиров знал, что эту ночь он пережил, но на следующую он должен будет опять выйти на охоту, потому что в округе они точно водятся, и если не вылезли сегодня, то, значит, они более хитрые и опасные, чем он думал, и очень голодные, ибо он не дал им поужинать. И я контролировала себя я уже с трудом и потому спросила его упавшим голосом:
— А что с этими?
И увидела его взгляд, наверняка определивший, что я огорчена, и не удивилась тому, что тон у него бодрый и уверенный, хотя и видно было, что он устал.
— Будем заканчивать то, что начали, Олли, — мы ведь планировали послезавтра уехать, верно? Так что сегодня вечером мы с тобой съездим к ним в мотель — наденешь парик, возьмем “Торус” и навестим наших друзей. Выспимся, днем соберем все вещи и поздно вечером нанесем визит вежливости — и завтра ты можешь съездить в банк, чтобы окончательно утрясти все свои вопросы, закончим сборы — и вперед.
— Ты что — решил разобраться с ними прямо в мотеле? — поинтересовалась я вяло, чувствуя, однако, что на смену грусти приходит оживление, ибо ловцу вампиров подсказали хитроумный трюк — вставить пластмассовые клыки из магазинчика ужасов, — который поможет подобраться к ним поближе.
— Почему бы и нет? Я знаю этот мотель — в отличие от большинства лос-анджелесских мотелей там есть окна, выходящие во двор, большая редкость, между прочим. Так что или я войду через дверь, прикинувшись кем-то, кого можно впустить, полицейским, например, или фэбээровцем — или ты войдешь через ту же дверь, скажешь, что пришла на переговоры или что-нибудь в этом роде, и обязательно закуришь, и попросишь открыть окно. Ну а за окном буду я. Я уже влетал в помещения через окна — не слишком удобно, зато неожиданно.
И я сонно задумалась, теребя пальцами сережку, чувствуя, что что-то здесь не то, — и долго соображала, прежде чем нашла то, что искала.
— А ты уверен, что они успеют достать оружие? Ты ведь не можешь по-другому, не можешь стрелять в безоружных — а вдруг они встретят меня нормально? Решат, что я пришла одна и все будет тихо и мирно?
— Ну, во-первых, мне совсем необязательно стрелять для того, чтобы убить, а потасовка в любом случае завяжется. И вообще, знаешь, Олли, они сами виноваты, потому что не приехали сегодня. И еще я слишком хочу поскорее уехать отсюда вместе с тобой, поэтому на этот раз мы несколько изменим правила — в конце концов, они и существуют для того, чтобы их нарушать, верно?
Он замолчал, и так сказал, кажется, больше, чем хотел — я видела, что ему не нравится разговаривать о том, кого и как он убил и кого и как планирует убить, для него это напоминало похвальбу. Но и не отвечать мне он не мог, ведь я была настойчива. И я погладила его по щеке, благодаря его за рассказ и за то, что он нашел выход из ситуации, которая казалась мне патовой, как шахматисты говорят, — и за то, что он готов изменить своим принципам, лишь бы избавить меня и себя от ожидания, и нервов, и неопределенности.
— Надеюсь, я смогу отблагодарить тебя, Рэй? — спросила двусмысленно, так, как делала это в шестнадцать лет.
— Не сомневаюсь — и я даже знаю как.
— И как же? — полюбопытствовала я чересчур заинтересованно, забыв даже о сне.
— Для начала можешь повести машину — а когда приедем…
— Кажется, я знаю, что будет, когда мы приедем…
Мы рассмеялись одновременно, так по-заговорщицки, понимающе, и я тронулась с места, чувствуя на себе его взгляд, горячий, даже обжигающий, направленный мне в лицо, но переадресуемый мной в совсем другое место, в которое он и должен был быть направлен. А дорогу я уже знала — прямо, потом направо, и еще раз направо, и после недолгого плутания по маленьким улочкам выезд на хайвэй, а там по прямой до Бель Эйр — и потому тоже смотрела на него. На секунду оторвала глаза, делая поворот, видя перед собой узкую пустую дорожку, и снова посмотрела ему в лицо, и резко притормозила, когда он выкрикнул что-то, и я заметила, что он смотрит уже не на меня, а вперед — и увидела машину в трех метрах перед нами, здоровенный джип, перекрывший нам дорогу. И обернулась вслед за ним, увидев еще один сзади, прямо за нами, бампер в бампер.
Он даже не сказал ничего, я сама нажала на газ — и хотя мало места было для разгона, удар меня потряс, и джип чуть развернуло, и я дала задний ход, мне пара метров нужна была, чтобы сдвинуть его вторым ударом и уйти, но поздно было, второй джип ударил сзади, заперев, звякнув выбитыми мустанговскими фарами. И в этот же момент увидела я движение справа, и Мэттьюза, выскакивающего, пригнувшись, из машины, всаживающего через опущенное боковое стекло распахнутой двери “Мустанга” несколько пуль в джип перед нами и разворачивающегося молниеносно, чтобы начать стрелять во вторую машину.
И как-то не услышала первый выстрел сзади, который бросил его на дверь, хотя услышала второй, третий, четвертый, пятый или сколько их там было. И он осел, дергаясь от бьющих его кусочков свинца, а потом застыв, и сидел, прислонившись спиной к двери, как в кино, — только вот в кино девушке удается заглянуть в лицо убитому герою, увидеть последнюю улыбку, прощальный взгляд. А я ничего не увидела, потому что не было у него лица — было что-то красно-черно-белое, словно он перед тем, как выскочить из машины, в предпоследнюю минуту своей жизни успел натянуть жуткую хэллоуинскую маску. Чтобы я не увидела его мертвым, чтобы он навсегда остался в моей памяти таким, каким я его видела перед тем как все началось — сильным, волевым, уверенным, с желанием во взгляде и прячущимися за желанием чувствами. И чтобы я даже не могла подумать, что этот заляпанный краской комок одежды — это он. Но я-то знала. И уронила голову вниз, обмякнув, опустив руки, глядя на него краем глаза, нащупывая положенный под сиденье ствол.
— Тащи ее, быстро! Ну!
Кто-то рванул на себя мою дверь, неуверенно дотронулся до плеча (я вдруг отчетливо поняла, что это Виктор, Ленчик наверняка взял его с собой, чтобы кровью повязать, чтобы тот и в мыслях не держал отскочить потом) и взял меня за волосы, поднимая голову, откидывая ее назад на сиденье. И голова откинулась как бы безвольно, а пистолета он не видел, конечно, руки-то были внизу, и темно — и тут я распахнула широко глаза, взглянув в его лицо, видя там и страх, и брезгливость оттого, что я могу оказаться окровавленной и мертвой, и облегчение, и тут же злорадство. И он чуть наклонился ко мне, намереваясь, видно, ухватить покрепче за куртку и одним движением вытащить, — и застыл, почувствовав упершийся ему в пах ствол, и глаза стали как дырки в яблоке, прогрызенные червяком, идеально круглыми.
И я хотела шепнуть ему по-киношному: “Встретимся в аду!” — но вместо этого просто нажала на курок, как учили, два раза подряд. И показалось, что я слышу, как пули в него вошли, в его тело, — впились с каким-то чвяканьем, словно камень в огромный кусок масла — и он так банально упал, некрасиво, без театральных стонов, скорчившись и издавая звуки, которые вряд ли может издавать человек. Упал на бок и скрючился, подтянув колени, и лежал, дергаясь, и негромко… воя? постанывая? кудахтая? курлыкая? клокоча? И лица мне не было видно, так что не знаю, была ли на нем мука или благодарность мне за то, что я избавила его, предателя, от позорного существования. И он не шептал ничего такого киношного, лежал себе, деликатно так пошумливая, будто стараясь никого не тревожить, — и я еще подумала, что убивать человека из пистолета очень безлично, что удар ножом — это настоящее убийство, потому что ты чувствуешь, что делаешь и полностью участвуешь в процессе. А тут все происходит через металлического бездушного посредника, которому все равно, кого и за что, которой не может передать твои чувства и эмоции, который очень удобен, но в то же время очень неподходящ для настоящей мести.
— Брось волыну! — услышала голос Ленчика и увидела расплывчатые фигуры перед потрескавшимся лобовым стеклом, ломаные и нечеткие, словно сотканные из тумана. Голос не слишком уверенный был, хотя и повелительный, словно он приказывает что-то собаке, которая может его укусить. — Брось!
Я знала откуда-то, что не будут они стрелять — пока не будут, не будут, если я не буду, — потому что я им нужна живой. Но мне было все равно и не страшно — потому что уже нечего было терять, потому что пришел мой момент истины, как когда-то пришел твой, у меня на глазах, как не так давно пришел Корейцев, которого я не видела, но знала, что он его встретил с достоинством. Это не мысли были — когда там думать, когда все произошло-то в течение буквально пары минут — просто ощущения. А внутри было легко и пусто — не как в старом, захламленном воспоминаниями, эмоциями и предчувствиями сундуке, а как в новеньком только что купленном чемодане. И тут Виктор сбоку заорал, словно проснувшись, и я быстро подняла руки, выбирая центральную из трех фигур перед стеклом, думая, что это и есть Ленчик, — и наклонила голову, чтобы осколки не выбили глаза, и не боялась промахнуться, потому что полтора метра до него было, и нажимала на курок до тех пор, пока не услышала пустой щелчок и не увидела боковым зрением тень сбоку, у моей открытой Виктором двери. А потом удар в голову, и боль, и вспышка, и я опрокинулась назад, и гаснущая мысль вылетела из меня последним салютом, шепнула, что это пуля — и что больше мне думать уже ни о чем не надо…
Первое чувство, когда пришла в себя — жуткая боль в голове слева, а потом ощущение, что я ослепла, — мрак был перед глазами. Точнее, перед правым глазом, левый не открывался никак. То, что я жива, и так было понятно — у мертвых ничего болеть не должно, — но вот где я, понять было сложно, и воздуха почти не было, и тишина вокруг, и руки меня не слушались, прилипнув к спине. И во рту очень было сухо, и жарко. Все это я постепенно осознавала, одно за другим — и при этом равнодушно и отстраненно, — и всплыло вдруг сравнение с человеком, закопанным заживо. Что тоже не особо меня взволновало, но я подняла на всякий случай свинцовую голову, слишком резко подняла, и ударилась обо что-то, и отключилась опять.
Наверное, отключилась — потому что когда я в следующий раз открыла глаза, потревоженная чем-то посторонним, было все так же темно, и воздуха все еще не было, видно, горло забито, потому что если носом дышать, то кое-что доставалось. Только слова доносились, и я лежала тихо и слушала, не пытаясь ничего понять, просто их воспринимая.
— Попали, ну попали, в натуре! — бубнил кто-то. — Ну старшой, ну подстава! Лавэшек срубим! Жить будем как короли! Сначала трех пацанов валят, потом еще пятерых, Серегу Вагина валят, Серого, волчину, валят как зеленого! И мы еще прилетаем — Сашка на глушняк, Лысого тоже. Он передо мной сидел, за рулем, волыну достал как положено, и я тоже — мы хер просекли, как этот из тачки вылез и палить начал. Ждем, как старшой сказал, когда этот вылезет, чтоб бабу не задеть, — и тут! Я только пригнуться успел, думал все, щас меня! Не, в натуре — этот, как снайпер, шмалял, вроде не целился, а у Лысого глаз на щеке повис, я видел. А, коммерсант, Витюха, — она ему все яйца разнесла, паскуда, там дыра такая, что смотреть страшно, как у бабы! Хорошо старшой сказал его кончить — куда ему жить, такому-то…
— Ну! — поддакнул другой. — Прилетели, твою мать! Надо было паскуду эту валить — на хер она нам сдалась! Целый день в этой Монике просидели, боялись к тачке подойти, потому что сучка в багажнике. Может, и сейчас мусора ее ищут — трудно им по мотелям прошвырнуться? Из-за этой суки такой тир получился, будто мы в совок на разборку прилетели — десять человек, твою мать! Только мы и остались. Весь Нью-Йорк ржать будет — из-за одной бабы десять пацанов отдали! И еще хер знает, че мы с нее получим! И может, за нее еще люди придут — кто-то же валил пацанов, не один же этот, которого ты кончил!
— Кончай базар, слышь?! — встрял третий, и первые двое замолчали сразу. — Ленчик сказал, вот вы и прилетели. Че вам, только жидков трясти? Зато лавэшки получим — Леня сказал, что всем хватит, и нам, и жен пацанов подогреем. Леня за базар отвечает. Там такой кусок — раздергаем, ляжем тихо и поживем нормально. Давай, Толстый, проверь лучше бабу — не сдохла? И поспрашиваем ее, кто там за ней стоит, — пока Лени нет, все равно делать нечего.
И свет появляется, и воздух, и меня дергают сильно, и света еще больше, и я понимаю, что лежала лицом вниз, накрытая чем-то вроде подушки или покрывала, а теперь меня перевернули. Рожа надо мной, большая и жирная, я ее вижу отчетливо правым глазом — а когда меня дергают еще раз, и я сажусь, вижу и остальных, щурясь от яркого электрического света. Все тело затекло, не только голова болит, но и заведенные за спину руки, слипшиеся как любимые мной в детстве лимонные дольки, перекорежившись в жестяной банке, — и пытаюсь вернуть их в привычное положение, но не получается. И меня это немного удивляет, и на этих я не обращаю внимания, все пытаясь понять, что у меня с руками, пока не приходит в голову, что они связаны.
— Жива, падла, — констатирует тот командный голос, который вступал в разговор самым последним. — Надо воды ей дать, чтоб не сдохла, — считай полсуток в багажнике валялась. Хочешь пить, паскуда?
Я понимаю, что вопрос обращен ко мне — и пить хочу, теперь, когда он напомнил. Очень хочу, но вот невежливое обращение мне не нравится. Я опять отвлекаюсь от них и пытаюсь понять, как я здесь очутилась, и для этого не требуется великого напряжения — их реплики, до этого просто просочившиеся в мою голову через уши, теперь оседают в мозгах, завершая моментом выстроившуюся цепочку — Санта-Моника, ночь, пристань, джип перед нами, таран, бесформенный ком одежды без лица, Виктор, голос Ленчика, стрельба сквозь стекло, удар…
Сильный шлепок по лицу заставляет вздрогнуть, возвращает в голову утихшую было боль.
— Оглохла, сука?!
— Не бей по лицу, Толстый. Леня же сказал.
— Да у нее рожа один хер как у вокзальной бляди — глаз-то вон, твоя ж работа, Андрюха.
— Рожу не трогать! Я б сам ей попортил — когда в январе у мотеля пацанов завалили, мне в больнице физиономию полдня латали. Ее ж работа — она платила. А ты, падла, кивай, когда тебя спрашивают! Хочешь пить?
Киваю, и толсторожий рывком срывает то, что заклеивает мне рот, и какое-то время спустя сует мне в лицо чашку, ударяя ею о зубы, и вода льется внутрь — и по лицу, и под куртку, но главное — внутрь.
— Еще! — только и могу произнести, потому что кажется, что могу выпить небольшое озеро, и этот приносит еще чашку, а потом еще и еще, и я уже мотаю отрицательно головой, а он все льет в меня воду. И когда я закрываю рот, больно давит мне на щеки, вливая очередную порцию. А потом сильно бьет в живот, и я от боли и неожиданности падаю на пол, и меня рвет выпитой водой, выходящей из меня спазмами и толчками.
Общий смех — наверное, и вправду смешно, и меня поднимают опять, за воротник куртки, тонкая кожа которой жалобно трещит от рывка, и сажают на стул. Когда спазмы проходят, и снова есть чем дышать, и вставшая в глазах влажная пелена уходит, растворяясь, поднимаю голову, видя перед собой длинное лошадиное лицо, скалящее большие зубы, нечасто общающиеся со щеткой, покрытые мутным илом.
— Еще пить хочешь, сучка?
— За сучку ответишь, — говорю машинально, пока не испытывая к ним ни злобы, ни ненависти, все еще приходя в себя. И снова удар в живот, сбоку, где толстомордый стоит.
— Крутая сучка, а, братва? — делано изумляется длиннолицый, украшенный большим неровным шрамом. — Ладно, сейчас мы из тебя понты повыбиваем. Я с такими, как ты, дело имел — как-то из одной такой лавэ тряс, коммерсантка была. Тоже на понтах, упрямая — так мы ее увезли на денек в одно тихое место, погладили немного утюгом, в ванной потопили, бутылок в дырки позасовывали, она уже к вечеру все готова была отдать. Все и отдала — только сдохла с колом в дырке, чтоб не понтовалась больше…
Я слушаю его тупо, не сомневаясь, что он говорит правду, и чувствуя вдруг, что эмоции возвращаются — в виде мощной яркой вспышки — и сами открывают рот, разжимая предусмотрительно сжатые губы.
— Смелый ты пацан, — произношу тихо в ответ. — Только я тебе не коммерсантка, у меня муж был в авторитете и таких, как твой Ленчик в шестерки брал, чтобы было кому на шухере постоять. И за братву я тебе могу порассказать побольше, чем ты мне. И никаких лавэшэк вы не получите — да и не уедете отсюда, вас тут и закопают!
Снова удар в живот, снова падаю, еще удары ногами, в бок, в спину, чувствительные, но не смертельные — и один по голове, в то же самое место, после которого опять темнота. А с возвращением света обнаруживаю, что сижу голая на стуле, широко расставив ноги, охватывая ими спинку, и руки по-прежнему за спиной.
— Любит пое…ться телка, даже без трусов, — слышу голос жирного. — А ничего, да — только вот рожа побитая. Может, давай ее на троих?
— Да лучше ей башку отрезать за пацанов и за сегодняшнее тоже. Сашок между мной и Леней стоял, — встревает тот, чьего лица я не видела пока. — Прикиньте, братва, — Леня ей кричит, чтобы кидала волыну, и тут она в Сашка садит, всю обойму. Его на джип кинуло, будто ломом долбанули. Сука е…ная!
— Обос…лся? — интересуется голос длиннолицего, мне уже знакомый. — Я те говорил, это не жидков трясти. Теперь знаешь, каково под стволом стоять. Я бы эту суку сам кровью умыл — за пацанов за всех, и за Серого. Мы с ним такие дела делали, такой волчина был, и из-за этой…
— Ты волков не видел, — подаю голос, понимая, что все закончится очередным ударом, но и удержаться не могу. — А те, кто на мне — это не волки, а быки. Вас бы в Москве всех завалили в шесть секунд — на первой же стрелке. С такими, как вы, не говорят, таких валят…
Он молчит, сверлит меня глазами, идет к холодильнику, копается там, стукая друг об друга жестью банок, и наконец находит то, что искал, гордо демонстрируя всем пивную бутылку с узким горлышком.
— Так ты думаешь, Толстый, она пое…ться любит? Заклей ей рот — сейчас посмотрим, как она это делает!
— Если ты мне сделаешь хоть что-нибудь, тебе Ленчик в зад десяток бутылок вставит, понял?!
Больше я ничего не говорила — толсторожий меня сзади больно ударил, по почкам наверное, а потом залепил рот, а потом они меня приволоки в душевую кабинку и привязали так, что голова вздернулась вверх, и когда открыли кран на полную, вода мне врезалась в лицо, забивая нос, не давая дышать, замораживая, а я даже отвернуться не могла, только жмурилась. И поначалу было ничего, но потом лицо закаменело, и грудь, и плечи, и руки, и я втягивала носом воду вместо воздуха. Не знаю, сколько это длилось, при этом я не теряла сознания, я просто перестала ощущать — и вернулась на какое-то время в чувство, тупо перенося обрушивавшиеся сзади удары. Я не сразу поняла, что это ремни и полотенца мокрые, завязанные в узел, — потому что одни удары обжигали, а другие тупо били.
Потом шум, голос Ленчика, отчитывающий свои подчиненных за самоуправство, ругань, мат и угрозы. И взрослый, но тем не менее жалкий лепет и ропот со стороны длиннолицего, видно не последнего человека в Ленчиковой бригаде.
— Из-за нее пацаны погибли, старшой, а ты мне пихаешь!
— Да я вам толковал уже, в натуре, — лавэ с нее получим, и делай с ней что хочешь! Или че, пацаны зря погибли, мы зря под пули подставлялись? Бабки надо получить — и валить отсюда!
— А че валить-то?
— Да пробить могут, с кем пацаны работали, — могут нас начать искать. Мы ж с тобой вдвоем с мусорами местными базарили, когда пацанов завалили в январе у мотеля, забыл, что ль? Лысый тогда в больнице лежал, они же его тоже точно срисовали — и тут опять его находят, только с пробитой башкой. Могут не вспомнить, а могут и вспомнить. Хорошо хоть все без документов, хер установишь, кто есть кто, но это ж мусора, они копать умеют.
— И че делать будем, старшой?
— Да все решено! Пока вы тут херней занимались, я с Жидом общался, он тут вопросы решает. Короче — получаем с нее и валим в Сан-Франциско, там у него люди есть, отсидимся пару недель. И ее пока с собой возьмем, может понадобиться, я же не очень секу в бабках, как там что делается, а Витюху она грохнула. А из дома нам позвонят если что — чтоб в курсах быть. А вы тут творите беспредел! Без вас одни проблемы — Жид злится, что такую бучу устроили, столько трупов осталось. Он же боится, что начнут всех русских прессовать — как у нас после того, как Японца приняли, — а ему это надо? У него ж тут бизнес, он такие бабки делает! Но и мы сделали…
— А че Жид, в доле?
— Да хер там в доле! Отдадим ему блядский дом этот стриптизный — а бабок ноль, и так получится до хера, он же на лимон тянет!
— Не треснет у Жида-то? — спрашивает все тот же настойчивый. — Людей не дал, когда ты просил, — куда ему лимон-то?
— Ты не забывай, в чьем городе мы! — возмущенно отрезает Ленчик. — И так наделали тут всякого, мусора еще год будут при слове “русский” за стволы хвататься. А то, что Жид людей не дал, это хорошо — еще узнали бы, сколько мы с нее получим! Зато тачки кто покупал, когда нам надо было? Его люди! Нас бы давно уже вычислили — “Форд” Серого бросили, “японку” эту, которую она помяла, тоже бросили — а так люди Жида покупали, если и запомнили кого, так их, мы в стороне! А стволы откуда? Тоже Жид. А хата в Сан-Франциско? Он нам помог, мы ему стриптиз отдаем — нам с ним один хер делать нечего!
— А че теперь?
— Ее не трогать больше — ты и так ей по роже засадил, теперь неделю потеряем, пока она сможет в банке объявиться. Еб…те сколько хотите, хоть в рот, хоть в жопу — но не бить, это потом! Усекли все?
Больше меня не трогали в тот день, оставили лежать. И я даже умудрилась заснуть и спала очень долго, потому что когда проснулась, светло было. В комнате тишина стояла и я лежала лицом вниз, все вспоминая. Грустно думая о том, что Ленчик в итоге нас перехитрил — вызвал еще пятерых, последних, видимо, из оставшихся у него в Нью-Йорке, причем вызвал в последний момент, после того как Рэй убил Вагина и того, кто был с ним. И они поехали в Санта-Монику — и смотрели издалека на меня, зная, что рядом со мной обязательно кто-то есть, и организовали достаточно грамотную ловушку, в которую мы попали в тот момент, когда оба были сонные и уставшие и убежденные в том, что Ленчик просто не поехал сюда.
И Рэй вспомнился — такой уверенный, такой сильный, успевший среагировать в опасной ситуации и убивший-таки одного, и за одну секунду превратившийся в нечто бесформенное и безлицое. И я еще подумала, что как хорошо, что тебя не обезобразили тогда пули — потому что ужасно осознавать, что мгновение назад живой человек превратился в ничто. Неважно даже, что он был мне очень близок, что он спас меня в трудную минуту, вытащил меня из виски и кокаина, проливал кровь — неважно, что он был в меня влюблен и хотел на мне жениться. Или именно это, только это и важно, потому что, будь на его месте кто-то чужой, меня бы это не тронуло? Наверное, так.
Я медленно думала, все еще не в силах отойти от случившегося, вцепившегося мне в память, заслонявшего тем комком без лица все остальное — не в силах осознать до конца, что все кардинально изменилось, что из победителя я стала проигравшей, из охотника превратилась в пленную жертву. Даже не вспоминала в тот момент о том, что вела я себя так, как надо, пристрелив Виктора и убив еще одного, выдержав вчерашнее испытание. Просто думала медленно и тупо, не очень хорошо соображая, чувствуя сильную головную боль, испытывая жажду, ощущая желание пойти в туалет, но не имея для этого сил. Будущее меня не пугало, видеть его мешало прошлое — и, наверное, я должна быть им благодарна за тот удар по голове, потому что, соображай я нормально, я бы испытывала больший дискомфорт при мысли о том, что мне предстоит вынести.
Тут голоса пришли, и меня перевернули, и Ленчик, поглядев на меня торжествующе — мне показалось, что было чуть-чуть тревоги в его взгляде, он все же боялся, наверное, не умерла ли я, не повредили ли мне чего его идиоты, когда били, но торжество было главным — поинтересовался, не буду ли я орать, если он освободит мне рот. И когда я кивнула, приказал тому, что зашел с ним, сорвать полоску широкого скотча с моего рта.
— Ну че, допрыгалась? Не хотела по-хорошему? — спросил с издевкой, грозящей вот-вот перейти в припадок ярости, я это видела, потому что глаза стали злобными. — Братва б тебя разорвала вчера, если бы не я. Таких пацанов убили — из-за тебя, сука, из-за того, что тебе бабки дороже всего!
— А ты и твои пацаны за справедливость воевали, да, Леня? — прокаркала я хрипло, царапая горло. — Воды дай…
Воды дали, вежливо так — длиннолицый, а это он с ним был, принес, а Ленчик уже меня напоил.
— Мне надо в туалет, в ванную, и курить я хочу — а потом поговорим, — произнесла тихо, без наглости, просто перечисляя, что мне нужно, зная, что хамить ни к чему, но и просить робко не надо.
— А ты под себя! — ухмыльнулся Ленчиков спутник.
— Че несешь, Андрюха — чтоб мы тут нюхали потом? Отведи ее!
— Может, и жопу ей вытереть?
— Надо будет — вытрешь! Руки ей освободи — пусть так походит пока.
Рук я вообще не чувствовала, и когда этот снял скотч, который они использовали вместо наручников, я руки еле вынула из-за спины, казалось, что они уж приклеились к ней. Распухшие, тяжелые кисти, как неизвестно откуда и зачем появившиеся отростки, висели — и когда по совету добросердечного Ленчика начала их тереть друг о друга, восстанавливая кровообращение, возникло чувство, что в каждую кисть всадили по паре сотен иголок.
Я даже не задумывалась, что стою голая перед ними — меня нагота собственная никогда не смущала, плюс я убеждена была всегда, что мне своего тела стыдиться нечего, и уже позже мне пришло в голову, что это был один из их главных козырей, потому что, в принципе, голый человек в обществе одетых остро чувствует себя уязвимым и незащищенным, особенно когда не сам он разделся, а его раздели и одеться не дают. А мне было по фигу с первого дня моего пребывания в этом мотеле и до последнего. И мне ни капли не смутило, когда Ленчиков спутник поперся за мной в туалет — в конце концов, на меня мой
первый муж вечно пялился, вечно врывался, когда я туда заходила, — и потом глазел, когда я стояла под душем. Зато собственная физиономия меня более чем смутила — так-то все было нормально, только вот парик куда-то делся, зато ни одной царапины, ни одного пореза от осколков лобового стекла “Мустанга”, но вот синяк действительно был как у вокзальной шлюхи, большой, закрывший весь глаз, как черная пиратская повязка. Я, правда, обрадовалась, что нет рассечения — мне, пока не увидела себя, вообще казалось, что там что-то страшное, — но видок был не очень.
Потом все тот же длиннолицый, которого Ленчик называл Андрюхой, поставил чайник, сделал мне чашку растворимого кофе, и ушел и тут же вернулся, видно, в соседнюю комнату выходил. Кинул на кровать три апельсина, разведя перед Ленчиком руками — больше, мол, ничего нет. И я сделала глоток бурды, оставив апельсины в покое. Голода не было еще, да и что я, должна была пальцами с них сдирать кожуру?
— Один на тебя работал, этот который был с тобой? — спросил Ленчик, и я видела, что заботит его этот вопрос, но думать в тот момент не могла и потому тупо кивнула, и потом еще раз, когда он переспросил.
— У меня там сигары были в куртке, — сказала и отодвинула протянутую мне пачку “Мальборо”, вовсе не собираясь курить это дерьмо. И Андрюха извлек мою куртку из угла, и заметила дырку под мышкой, распоровшийся из-за этих пидоров шов, но не прореагировала, опять же. Прореагировала, только когда он залез в карман и начал вертеть в руках зажигалку.
— Богато живет сучка, а, Лень? Пора раскулачивать! — и осклабившись, сунул ее себе в карман.
Вот этого я не могла стерпеть, это твоя зажигалка была. Я не могла позволить, чтоб эта гнида хватала ее грязными пальцами и уж тем более, чтобы забрала себе.
— Леонид, скажите ему, чтобы он мне отдал мою вещь, — произнесла спокойно и холодно. — Это зажигалка моего мужа, понятно?
И тот посмотрел на меня с усмешкой, помолчав, и усмешка стала еще шире, когда я протянула к лошадиной роже руку, раскрывая ладонь.
— Зажигалку гони, живо! — И следующим движением выплеснула кофе в перекривившуюся физиономию, и Ленчик еле успел остановить корешка своего, кинувшегося ко мне с кулаками, раз пять приказал ему успокоиться и прийти в себя, прежде чем тот остыл, с ненавистью запихнув зажигалку обратно в мой карман и кинув скомканную куртку обратно в угол.
— Не умеешь себя вести, а, сучка? Руки тебе развязали, попить дали, а ты? — упрекнул Ленчик с искренней обидой в голосе. — Не понимаешь по-хорошему, по-другому поговорим. Андрюха, заклей ей рот и руки тоже — и зови пацанов!..
Вот так и началось наше интимное, так сказать, знакомство — хотя интимности в том, что они делали со мной, не было вовсе. Это даже был не животный акт, не изнасилование — просто желание унизить и одновременно отправление нужды. Долгое, правда, — или нужда была сильная, или я их все же немного возбуждала, или они так на мне злобу вымещали, последнее, думаю, верно. Но в конце концов им надоело или они устали, и меня наконец оставили в покое — я это поняла потому, что больше никто ко мне не подходил. Руки, слава богу, были свободны — они все пытались жалкое разнообразие вносить, в смысле менять позы, так что распутали меня на каком-то этапе, мешали им мои связанные за спиной руки. И я поднялась кое-как с пола под проносящиеся мимо меня комментарии и, пошатываясь, пошла в душ — вся в сперме была, вся липкая, словно покрытая коркой, словно вымазанная сгущенкой зловонной, — и я доползла до него кое-как, и сил хватило только на то, чтобы открыть воду, и я села безвольно на кафель.
Они еще говорили о чем-то своем — для меня это просто фон был, такой же, как звуки падающей на пол воды, но слышала, как Ленчик, наверное, отвечая на чей-то вопрос, гордо заявил, что пора ему на покой, пусть молодые дела варят.
— А ты сам, старшой?
— А че я — куплю дом в Нью-Джерси, а может, вообще на Гавайи переберусь. Буду нужен — ну там рассудить кого, развести — будете звать, первый класс оплачивать. А так — все. Зоны нахавался, тут чуть не завалили, да и мусора теперь будут пасти.
— А мы?
— А че вы? Вернемся, бабок лом, наберете пацанов новых, ты, Андрюха, за старшего, раз Серого грохнули. И вперед. Только чтоб про бабки, на которые эту напрягли, молчали. Будут спрашивать, скажете, что летали потому, что братва местная просила помочь и заплатила нормально за работу — но чтоб про миллионы никому! И еще там одни люди за нее могут начать спрашивать, тюменские могут объявиться, — так вот, мы с нее ни хера не получили потому, что смотала она. Наняла негров каких-то, они наших завалили десять человек, и их тюменца тоже, а баба смотала, может, черные ее сами кончили. Хер им, а не бабки, тюменцам, — мы под стволы лезли, пацанов потеряли столько, короче, наше все, усекли?
— А сколько там? Тот тюменский про пятьдесят лимонов говорил, да? — не умолкал Андрюха.
— Да какой там! — презрительно протянул Ленчик. — Десять у нее есть, и ни цента больше. Так что тюменцы пусть отдыхают, а нам всем хватит, я ж сказал. Каждому по лимону, когда все выдернем — и семьям пацанов, Серого и Сашка, подкинем по пол-лимона. Как?
Тишина, видно вызванная неслыханной щедростью Ленчика — естественно, решившего себе прикарманить все остальное и, как и я думала, ничего не отдавать тюменцам и все свалить на меня.
— С такими бабками я бы тоже на Гавайи…
— Молодой еще, Андрюха, — ты поднимись, пацанов воспитай, похавай с мое, а там и отдохнешь. Мне пора, я свое отпахал…
Я чуть улыбнулась, слушая их диалог, вспомнив, как Ленчик не захотел давать мне отсрочку, спровоцировав конфликт раньше, чем мы планировали — как раз в тот день, когда Рэй убрал первых двух его людей, и представила себе смешную картину… Подумала, что Ленчик потому бесится, что ему уже кажется, что деньги — вот они, только руку протянуть, и он наверняка мечтает об особняке в Майами или на Гавайях, и уже видит себе в окружении грудастых красоток и негров в ливреях, курящим сигары и лениво стряхивающим пепел в гигантскую золотую пепельницу. И вот я представила такую сценку, которую видела в Москве на Арбате — там фотограф стоял рядом с вырезанным из плотного картона японским борцом сумо, экзотичным, жирным, гигантским, и предлагал всем желающим подойти к картону сзади и сунуть голову в отверстие, и запечатлевал их в таком виде.
И в моих мыслях Ленчик всовывал голову в целую конструкцию, приставляя ее к телу классического миллионера, сидящего на борту собственной яхты в окружении девиц, и пальмы на фоне, и голубой океан, и пахнет достатком и богатством. Только вот не видел он того, что с позиции фотографа смотрится комично, и не только потому, что череп маловат, не по Ленчику образ, но и потому, что диссонирует его физиономия с телом богача, и хотя и сценка-то вся убогая, сразу ясно, что Ленчик на эту роль ну никак не подходит. Но ему-то не видно, он же с обратной стороны — и он уже так вжился в эту роль, что отходить не хочет, убирать поганую свою голову, потому что нравится ему испытанное ощущение. И я перестала улыбаться и даже сплюнула на пол от отвращения, от мысли о том, какие же они все уроды, Ленчик и его команда, и как обидно проиграть таким вот ублюдкам.
А потом все ушли, один остался, он телевизор смотрел, когда я вышла, и добралась до постели, и рухнула лицом вниз, и молчала, когда он мне руки, вытянув их вперед, замотал и заклеил, приподняв голову, рот: боялись, наверное, что я могу заорать и услышит кто-нибудь, проходящий мимо номера. И я опять заснула. А вечером — когда меня разбудили, свет не пробивался уже сквозь закрывшую окно плотную штору — все повторилось. Вперлись всей толпой, и брали меня по очереди, то по трое, то по двое, то по одному, а остальные играли в карты, судя по репликам, и отпускали шутки, и давали друг другу советы относительно меня. И хотя это длилось дольше, чем утром, они уже не торопились, и я подолгу стояла на коленях попкой к ним, и никто ко мне не прикасался, видно доигрывали партию, покрикивая мне, чтобы готовилась, а потом вдруг брались за меня сразу вдвоем.
А я ни о чем не думала, я все вспоминала и вспоминала, чувствуя горечь внутри оттого, что так все получилось — тем более что нам оставалось до победы каких-то полшага. А потом, в какой-то момент, увидела у Ленчика уже свою зажигалку, он прикуривал в тот момент, когда я перед ним стояла с его членом во рту, и еще “Ролекс” твой и мой был на его руке. И когда они наконец уперлись потом, сна уже не было, и воспоминания ушли, и я лежала, думая о том, что должна что-то сделать. Не то что они творили со мной, а, казалось бы, незначительный факт — твои зажигалка и часы в чужих руках — вернул мне все эмоции, и чувства, которые хоть и притуплены были усталостью (ничего такого они со мной не делали, все примитивно и убого, но просто долго, потому что много их было), но заставляли искать выход.
И мне вовсе не нравилась идея поднять шухер, когда они привезут меня в банк, а сами останутся у входа — ясно было, что как только их примут, Ленчик вложит меня сразу, расскажет кто я, и ксерокс той статьи им отдаст, он наверняка при нем. И я искала другие варианты, и мысль ползала по мозгу, как улитка, вяло и очень-очень медленно, но зато упорно. И когда мои мысли прервал тот, кто со мной оставался, — вдруг меня перевернул на спину, раздвинул ножки, и вошел, и дергался какое-то время, пока не кончил, — я поняла, в чем он, мой выход. Как всегда в одном только — в моем теле.
Это было не совсем понятно — телом моим они и так пользовались сколько хотели, — но то, что уже наевшийся меня человек вдруг спустя несколько часов захотел меня снова, это говорило о том, что такое может случиться еще.
Тем более что он, кончив, не сразу от меня отстал, тискал еще какое-то время — именно тискал, поглаживанием это не назовешь, — и я подумала, что, может, он меня развяжет, и, может, захочет этого подольше, и, может, сделает какую-нибудь ошибку. И может, мне удастся ею воспользоваться — может быть, не то, что ударю его по голове и убегу — я слышала, как Ленчик, уходя, сказал оставшемуся, что запирает нас на ночь, сам запирает, снаружи, и хрен знает, что там было за окном. Да и не было особых надежд на то, что мне, с вечно затекшими руками и ногами, удастся каким-то образом свалить с ног и отключить здорового кабана.
Я, конечно, вспомнила, как когда-то давно была в похожей ситуации — как соблазнила кронинского начальника охраны, подтолкнула к тому, чтобы он меня изнасиловал, и потом наговорила ему восхищенных слов по поводу того, какой он в постели, и сделала вид, что стала покорной, что он подчинил меня своим, признаться, не слишком умелым, хотя большим и крепким членом. Но при этом мне не удалось отвлечь его настолько, чтобы завладеть его пистолетом, — хотела дать ему по голове и убежать, только и всего, — но зато он расслабился, и сам сказал, чтобы приготовила поесть, и спокойно смотрел, как я режу ножом сначала сыр, а потом и бастурму, и ему и в голову не пришло, что через каких-то пять минут я проткну его этим ножом насквозь. Но, с другой стороны, это и мне в голову не приходило, я это сделала потому, что раздался звонок в дверь и я поняла, что это Кореец и что этот пидор может его убить сейчас — и потому и нанесла удар. А так ни он, ни я такой возможности не предвидели.
Но это не квартира, а мотель — просто комната. Ножа здесь нет, пистолеты на полу не валяются, так что сравнение с той ситуацией было неправильным. Да к тому же и бежать мне было некуда — даже если предположить, что все получится, что мне удастся вылезти в окно, то что дальше? Домой — и начать все сначала? Как, с чьей помощью, каким образом? Неуютно стало от этих вопросов, на которые не было ответа, — и я сказала себе, что главное это выбраться отсюда, а там уже можно будет поискать ответ на все другие вопросы…
Охранник мой развязал мне руки, когда я проснулась и попыталась встать — то есть просто разрезал скотч, достав из кармана ножик и туда же потом его убрав — проводил меня до туалета, а потом до душа, где я сама сорвала пленку, закрывавшую рот. Когда я вышла, на столе у стены поднос стоял с завтраком — пакетик сока, пара тостов, крошечная коробочка с джемом, карликовая порция масла — и он отошел и смотрел, как я ела.
А я впервые со времени попадания сюда ощутила зверский голод — и то что было, упало в меня в мгновение ока. И спросила грустно в соответствии с продуманной линией поведения:
— И это все? Может, дадите мне еще?
И он задумался вдруг, и покосился на дверь, и потом пристально так и долго посмотрел на меня, на что-то решаясь, и рванув в ответ молнию джинсов, сказал: “Ну держи” — и вытащил член, маленький совсем, и не отводил глаз от моего лица, ожидая чего-то. И я с показной готовностью открыла рот, и с чувством, и неторопливо делала ему минет, помогая себе руками, и чувствовала, что ему нравится, хотя он в итоге сам начал входить, не умея ждать и получать большее удовольствие.
— Наелась?
И я кивнула, посмотрев ему в лицо, вспомнив продемонстрированную мне Мэттьюзом его фотографию — молодой парень, мой ровесник, наверное, такой же тупой и опасный на вид, как и все остальные.
— Ты такой… — начала я и, когда он опять напрягся, головоломка с непонятным его поведением решилась тут же, но надо было убедиться в правильности моего решения.
— Может, еще? — спросила с улыбкой, глядя уже на его джинсы, в которые он так быстро заправил обмякший членик, разом побелевший и напоминавший выбившийся клочок майки, что дуре бы стало ясно, что он стесняется его размеров. — Я сделаю приятно.
И он помялся, бросил мне пренебрежительно “обойдешься”, но мне показалось, что у нас с ним наладился какой-то контакт, пусть и незначительный. По крайней мере сам предложил мне сигарету, и я вспомнила, что не курила черт знает сколько, что уже третий день, как я у них, и взяла, не забыв поблагодарить, и хотя вкус оказался мерзким — я сигарет тысячу лет не курила, и невозможно их курить после сигар — сделала вид, что мне приятно. Докурить все равно не успела — ключ полез в замок, и он жестом показал мне на кровать, и я плюхнулась на нее, тут же притворяясь спящей. И ожидая, что он скажет Ленчику: если умолчит о том, что я ему делала минет, а он меня сигаретой угощал и что я вовсе не сплю, значит, есть прогресс.
— Ну че она, Василек?
Я лежала на животе, не открывая глаз, вслушиваясь напряженно.
— Да нормально, старшой. Жрать ей давал, мыться давал — вот развязал даже, ты же сам говорил, что нам надо, чтобы она выглядела в порядке.
Тут и остальные вперлись, и началось то же, что и вчера — меня то развязывали, то связывали, то освобождали рот, чтобы вставлять в него члены, то заклеивали его, я то лежала незадействованная, то пассивно участвовала в процессе. При мне рассказывали друг другу невероятно на их взгляд страшные истории о пытках и расправах, которые они якобы над кем-то совершали — видимо, я должна была дрожать от ужаса — и при мне иногда начинали беседовать о делах, видно забывая о моем присутствии, потому что я уже стала как часть мебели. Правда, ничего такого они не говорили — только Ленчик один раз сказал, что все в порядке, что по телевизору ничего нет, и в газетах тоже. И что надо сидеть тихо, без его разрешения никуда не выходить и с персоналом не общаться, могут просечь, что русские, а это на хер не надо.
— Может, сгоняем куда, старшой, — произнес уже хорошо знакомый голос. — Зае…лся тут торчать, сдохнуть можно.
— Ну вон займись ею! — не видела, но догадалась что Ленчик кивает на меня. — Я скоро за жратвой поеду, попьем пивка, похаваем.
— А вечером опять ее е…ать? Может, к Сереге в клуб сгоняем? — не унимался этот.
— Слышь, Андрюха, смотри, какая баба перед тобой раком стоит! — отвесил мне комплимент Ленчик. — Все делает, и куда угодно, и бесплатно, и сколько хочешь, а тебе все мало — ты так полгорода перее…ешь до нашего отъезда!
— Да не за тем к Сереге, старшой, — ответил длиннорожий, когда смех утих. — Охота в другом месте посидеть, не все в дыре этой. Съездим куда-нибудь, пожрем по-человечески — эти биг-маки не лезут уже, — а потом у Сереги посидим, просто посмотрим на баб, махнем пивка. Давай, а? Нас один хер не ищет никто — ты ж сам сказал, что все тихо, пацаны без документов были, а Витюху хрен кто узнает, там от башки-то ничего не осталось, я ж постарался…
Другие голоса его поддержали, и я все слушала — просто слушала, ни о чем не думая, — и ничего во мне не вздрогнуло, когда Ленчик смилостивился.
— Завтра, пацаны, завтра съездим. А пока этой займитесь — только чтоб аккуратно, знаю я вас, волков!
И ушел, и эти еще потыкали меня вяло, словно нажравшиеся до отвала комары, и расползлись. Набираться сил, видимо, — потому что вечером у них сил хватило на подольше, чем утром…
…Странно, но я совсем не запомнила, какие они были — не потому, что мне было плохо, не потому, что я подсознательно или осознанно заставляла себя заблокировать эту память о них и выкинуть ее совсем. Ничего не осталось — ни членов, ни реплик, ни команд, ни запахов, ни лиц даже. Кроме Ленчикова конечно — и вечного моего охранника с трогательной кликухой Василек…
— Ну че скажешь?
Утро четвертого дня, лично Ленчик пожаловал со мной побеседовать.
— Вы говорите — а я сделаю…
Посмотрел на меня внимательно, покачал задумчиво головой.
— Ну это уже нормальный базар. Может, ты просто нее…анная ходила, потому и хамила мне? Ох бабы, все у них не как у людей. Ладно, короче. Ты в банк тогда отдала бумаги, которые Витюха тебе дал? Нет? Ну и сучка ты — все ж хотела меня наеб…ть. Ничего, все равно все по-новому надо, грохнула ж ты Витюху, хорошо есть другие, кто в бабках шарит. К понедельнику у меня все будет, один хер рожа у тебя сейчас не очень, но через пару дней все сойдет. Сегодня четверг, завтра при мне позвонишь в банк, договоришься на понедельник на утро. Поняла? Кончились понты-то?
Изображаю на лице максимально подавленный и покорный вид.
— Вы меня не убьете, Леонид?
— А ты о чем думала, падла, когда платила, чтоб пацанов валили? — Гнев в глазах, этакий праведный гнев, забыл Ленчик, что на войне как на войне, или не знал никогда, или ожирел здесь, отвык от советской жизни, где бандитов каждый день убивают. Я морщусь испуганно, боясь переиграть, и он испепеляет меня взглядом, наслаждаясь производимым эффектом. — Ладно, сделаешь все как надо, отпустим.
— Правда? — подпускаю надежды в голос, не унижающийся, не умоляющий, просто тихий, словно сломана я внутри.
— Тебе чего, мамой поклясться?! Ты еще гарантий из банка попроси! Я вор в законе, ясно, я за слова отвечаю!
Киваю, не глядя ему в глаза:
— Спасибо.
— Вежливая, когда надо, — констатирует Ленчик удовлетворенно. — Ладно, пацанам будешь спасибо говорить за то, что тебя еб…т! А мне потом скажешь, отдельно! А хотя — ну-ка нагнись, быстро!
И я нагибаюсь, и постанываю, и двигаюсь ему навстречу, представляя, как бы он отреагировал, если бы я ему тем же робким голосом сообщила, что больна СПИДом. Наверное, кинулся бы от меня, как от прокаженной, — хотя чего уж кидаться, ни один из них презервативом не пользовался, поздно было бы пить боржоми. Надеюсь, что сами они не заразные, мне только не хватало впервые в жизни подцепить венерическую болезнь, какой-нибудь триппер, к примеру.
“А что, разве это имеет значение сейчас? — спрашиваю себя скептически, и сама себе отвечаю — имеет!”
…Они уехали вечером — предварительно позабавившись со мной днем — и все того же Василька оставив при мне. Хорош Василек — невысокий, правда, но здоровый, как они все, Ленчик, видно, себе людей по этому признаку отбирал, по физическим данным. Человеку с таким именем надо быть кудрявым блондином с голубыми глазами, добрым, и доверчивым, и улыбчивым — а этот мрачный, черноволосый, и доброты в нем даже меньше, чем во мне.
Господи, как я ждала, когда они уедут — боялась, что Ленчик передумает, когда его спросили утром, он пожал плечами, не знаю, мол, еще. Он несколько раз смотрел на меня внимательно, и всякий раз видел то, что я пыталась ему показать, может чуть переигрывая, чуть фальшивя, но не настолько тонкий он был, чтобы это почувствовать, и потому кажется полностью удовлетворился тем, что перед ним сломленный, испуганный, отупевший, задавленный, покоренный человек, и вправду готовый сделать все что угодно. И я даже слезу пустила — сидела в душе, когда все устали, и давила из себя влагу, из глаз в смысле, и все не выходила, чтобы они обратили внимание на то, что я там задерживаюсь. И естественно, Василек этот стоял рядом, потому что, выполняя приказ Ленчика, одну меня не оставлял ни на секунду — словно я могла разбить зеркало и куском стекла перерезать им всем глотки или планировала повеситься на полотенце — но не слишком пристально на меня смотрел.
А я все выдавливала слезы, и никак не получалось, разучилась плакать по заказу, хотя когда-то умела — и ни одна картина, которую я пыталась вызвать в памяти, не помогала. Но вышло наконец — не помню как, но потекли жалкие некрокодиловые совсем слезинки, и плечи чуть затряслись, и я все ждала, что вот-вот страж мой обратит на это внимание, а чертов болван все не обращал. Ленчик помог, честь ему и хвала.
— Э, она не утопла там у тебя?
И он ревностно окликнул меня, и я подняла голову, надеясь, что он догадается все же, что это не вода течет по лицу, и тут же отвернулась.
— Она ревет там, старшой. Вытащить ее?
— Ну пусть ревет, раньше надо было думать, — философски ответил Ленчик, и я минуты через три встала и выключила воду и вытерлась — уроды эти, разумеется, уборщицу в номер не пускали, видно вывесили на постоянку табличку на дверь с просьбой не беспокоить, так что полотенце у меня четвертый день было одно и то же, и грязное уже давно, потому что и эти им пользовались, кажется. И я вышла, отворачиваясь демонстративно от них, — я давно уже так делала, со второго дня, заставляя себя сдерживаться, но тут изобразила явное желание спрятать глаза. И Ленчик схватил меня за руку, развернув рывком, посмотрел мне в лицо — и я не вырывалась, стояла послушно, только голову наклонила ниже, как бы стесняясь собственных слез.
Каждый это как-то прокомментировал — кто-то сказал, что слезы у меня от счастья, что столько мужиков меня имеют, кто-то объяснил их моим нежеланием с ними расставаться, кто-то посчитал, что плачу я оттого, что они все утомились от меня. А я молчала, дошла до постели и легла лицом вниз, и они переключились на другое. Хотя какое-то время тишина была в комнате — я подумала, что Ленчик им показывает, что всего они добились, что проблем со мной уже не будет.
Я лежала, вспоминая вчера еще услышанную реплику длиннорожего, бравшего меня сзади:
— А ты че, Василь? Присоединяйся, братан, телка ничего! А то все сачкуешь и сачкуешь — может, черных больше любишь?
А тот промямлил что-то в ответ, и кто-то еще, жирный по-моему, пошутил, как всегда, тяжеловесно, что кореш их потому меня не хочет, что все его функции охранника только к сексу и сводятся, что, как только мы с ним остаемся наедине, он имеет меня как хочет, и потому на групповуху сил у него не остается уже.
Я запомнила — и сейчас сопоставила и тот разговор, и то, как он брал меня ночью, когда все ушли спать давно, и то, как он смотрел на меня напряженно сегодня утром, явно стесняясь своего членика, явно выдохнув с облегчением, когда я не только все сделала по его просьбе, но и сама попросила еще. И сказала себе, что из-за этого стеснения — видно, посмеялся над ним кто-то когда-то зло и жестоко — он даже при своих корешах обнажаться не хочет, хотя им-то его размеры до лампочки. А значит, в их отсутствие я могу сделать так, чтобы он меня захотел — и пусть делает что хочется, и пусть забудет о том, что меня надо охранять, а я придумаю, как сделать так, чтобы уйти.
— Э, миллионщица, хавать хочешь?
Есть хотелось жутко и давно, но я лишь качнула головой, не поднимаясь, как бы успокаиваясь после приключившейся со мной истерики.
— Давай-давай, ты нам здоровая нужна, — настаивал Ленчик, и я приподнялась и взяла из его рук гамбургер и банку пива.
— Мы ее кормим целыми днями — она только у меня цистерну спермы высосала, — сострил толстомордый, и все дружно захохотали, а я делала вид, что не слышу. И откусывала маленькие кусочки, подавляя желание сожрать все сразу, и уже после первого глотка пива показалось, что голова закружилась, и когда доела, легла обратно, уже не слушая их, думая, как себя вести сегодня с Васильком — чего он может хотеть, о чем мечтает в своих поллюционных снах, к каким женщинам привык. Быть самой собой с ним я не могла — он бы не понял, как не понимали и все остальные. Они меня брали так, как пили бы редчайшее и жутко дорогое вино, не осознавая тонкости, не чувствуя специфического вкуса, не испытывая ничего особенного. И сказали бы допив — пойло и пойло, водка лучше. И точно так же они мной уже пресытились, устраивая групповухи просто от безделья и потому еще, что думали, что унижают и ломают меня этим — и страстно желали сегодня вечером поглазеть на стриптизерш в клубе и переспать с кем-нибудь из них.
А я все думала, как реализовать тот первый и последний, возможно, шанс, который выпадает мне сегодня и которым я обязана воспользоваться. И не слышала их уже, не слышала, как они ушли и включился телевизор, и не осознала, что заснула, продолжая размышлять во сне, и дернулась, когда меня ткнули.
— Оглохла, что ли? Кончай спать — заправься вон!
И увидела Василька, показывающего мне на опустевший стол — и на несколько гамбургеров или чизбургеров на нем, все еще в пенопластовой упаковке, и банку пива.
— Давай, ты нам здоровая нужна! — повторил слова Ленчика, но так, словно это его собственные. И сел на кровать и включил телевизор, не обращая, кажется, на меня никакого внимания, просто удерживая в поле зрения, в периферии, пару раз всего обернувшись за то время, что я ела. И сигаретой угостил потом без слов, протянул пачку, показывая, чтобы я подошла и взяла, и когда я полулегла, полусела рядом на широкой кровати, шлепнул меня по попке, заглянув в глаза и ища в них то, что хотел найти. И я прикурила и улыбнулась ему двусмысленно и медленно облизала губы — прием из моего детства, но как раз для него — и спросила:
— Может?..
И он усмехнулся победно — так, видимо, должен усмехаться Дон Жуан, которому предлагает себя очередная неприступная якобы красавица.
— Перебьешься!
И тут же посмотрел на часы, и я поняла, что он ждет отъезда Ленчика со товарищи, и как бы невзначай еще раз обернулась на стол, проверяя там ли то, что я заметила, когда ела, то что может спасти меня сегодня. Обычная длинная и тонкая шариковая ручка за пару центов. Нет, писать записки на волю и выбрасывать их в окно в надежде, что кто-то их найдет и куда-нибудь передаст, я не собиралась — я не хотела никому ничего передавать. Но собиралась, помня московский инструктаж об использовании в случае необходимости любых подручных предметов, воткнуть ее Васильку в глаз. В один из тех глаз, в которые посмотрела, быстро отворачиваясь от стола. В левый или в правый — какая разница?
Интересно, как он на это среагирует?
Он полулежал на кровати, смотря телевизор, ни хрена, по-моему, не понимая, и я лежала рядом, а потом стала чуть отползать назад, по паре сантиметров в минуту. Мы все равно одни сидели, и никто к нам не заходил, спали ли они после еды, или просто устали от моего общества, или говорили о чем-то, чего мне слышать не следовало, не знаю.
Я пыталась с ним говорить — я на самом деле немного опьянела от пива и сказала ему об этом, глупо хихикнув. И курила и спрашивала его всякую ерунду вроде, давно ли он в Штатах — мне разговорить его надо было, потому что я совсем не была уверена, что мне удастся воткнуть в него ручку, и точно в глаз притом, и надо было поискать параллельный вариант, может, что-то узнать и как-то это использовать — я не считала себя никогда гениальным манипулятором людьми, но вдруг? Но он не отвечал и, когда я повторила вопрос, поинтересовался, не заклеить ли мне рот, и я решила, что он новенький здесь, и боится показаться неисполнительным, и потому и еду мне дал только после того, как все ушли, и потому утром не сказал Ленчику, что я ему делала минет.
И я все отползала и отползала и наконец оказалась позади него — ничего не делала, прислонилась спиной к стене и сидела, глядя в телевизор и ожидая, обернется он или нет, беспокоит его, что я у него за спиной или нет. И он обернулся и тут же отвернулся обратно, может, так нравился ему фильм, который он смотрел не с начала, а может, решил, что я не представляю для него никакой угрозы. И это мне понравилось, очень понравилось.
Не знаю, сколько было времени, когда кто-то стукнул в дверь — еще светло было, кажется, и он вскочил будто иголку воткнули в зад, и тихо пошел к двери, и отпер не сразу, и у меня екнуло внутри, потому что ключ был у него и, значит, не снаружи нас запрет Ленчик, уезжая, а этот сам, изнутри.
— Ну че, Василек, мы двинем влегкую. Поедем похаваем где-нибудь, а потом к Сереге в блядский дом, к двенадцати вернемся, — раздался голос Ленчика. — Тебе пожрать купить? Сейчас сгоняем — минут через двадцать жди.
Минут через двадцать Ленчик зашел, на сей раз пройдя в комнату и изучающе посмотрев на меня. Потом они вышли оба, притворив дверь за собой, стояли у порога, о чем-то говоря: я не слышала — тихо говорили. И когда вернувшийся Василек вдруг сделал то, чего не делал раньше — взял скотч и замотал им мои кисти, — я даже не поверила своим глазам.
— Зачем, я же не убегу никуда? — спросила возмущенно, забыв о том, как разговаривала с ним до этого.
— Старшой сказал! — отрезал этот урод. — Скажи спасибо, что рот не заклеил — он и это сказал сделать. Чтобы ты мне не пыталась бабки предлагать и вообще…
Честный такой попался — и хорошо, что сказал, потому что мелькала у меня в голове мысль сообщить ему, что Ленчик просит с меня не десять миллионов, а пятьдесят, и нагреет их всех и что я сама могу ему дать десять, если он меня отпустит.
— Ну заклей, если надо. — Я так огорченно это сказала, что он покосился на меня подозрительно. — Я-то думала что мы… Мне так понравилось то, что было утром…
И обмякла, когда широкая полоса скотча закрыла мне рот — и повернулась к нему спиной, ни о чем не думая больше, не ругая этого идиота за чрезмерную исполнительность и трусливость, не кляня судьбу. Лежала вмятая в постель обрушившейся на меня неудачей. Обрушившейся, как и накануне, именно в тот момент, когда мне казалось что до удачи полшага…
Я в какой-то черной яме лежала, без мыслей и снов, с пустой головой — наверное, после того, что случилось со мной и Рэем, уже ничто не могло меня потрясти так сильно, и не осталось, наверное, сил, чтобы переживать потрясения. В комнате темно было, и телевизор то кричал, то говорил разными голосами, то пел — как массовик-затейник из санатория для пенсионеров, считающий себя великим актером — и зажигалка чиркала, и хлопнула один раз открываемая банка пива. А потом люди пришли, и зажегся свет, вырывая меня из темноты, в которой было так бестревожно.
— Ты че, и сам не жрал и ей не дал? — удивился Ленчик. — Во пацаны, берите пример — остался с бабой голой, даже не трахнул ее ни разу. А вы, волки, тут е…лись целыми днями, и в клубе еще постарались. Красавец Василек. Живая она у тебя?
Я зажмурила глаза, поняв, что сейчас перевернут — и не открывала их, слыша удовлетворенное чмоканье Ленчика.
— Красавец! Ладно, развяжи ее, пусть передохнет. А я пойду — у меня от этой музыки башка пополам. Если что, стучи мне в стенку — или пацанам, они пока спать не будут, завелись там, баб напробовались. Пусть гульнут слегонца, а, Василек? Мы такое дело сварили, что слегонца можно. А в понедельник вечером валим отсюда — ты как?
И Василек бубнил что-то в ответ, польщенный Ленчиковыми похвалами, и тот ушел, и потом эти трое приперлись, и я с надеждой подумала, что, может, не по мою душу, и точно. Пошумели, не слишком трезвыми голосами повествуя наперебой о том, кого сегодня и как имели и что завтра надо будет выбраться опять, и подначивали Василька насчет того, что он тут творил со мной, и уперлись наконец, когда он им сказал, что спать ложится, устал за день — с шутками, но уперлись.
— Жрать хочешь?
Есть мне не хотелось, но пить очень. И я открыла глаза, и, избавленная одним движением ножа и руки от пут, поднесла ко рту банку с пивом, делая большой глоток. Говоря себе, что сегодня не вышло — но завтра мне предоставится другой шанс, потому что завтра они уедут снова. И поела с аппетитом противной холодной пиццы, и пивом ее запила, и выкурила две сигареты подряд, и, когда легла после душа, услышала тот риторический вопрос, которого ждала сразу после отъезда всей команды.
— Ну че, давай?
И я улыбнулась, потому что, во-первых, он мне был нужен, а во-вторых, все равно мог получить свое, я бы не стала с ним драться. И он встал поспешно из-за стола, быстро стаскивая мешковатый джемпер с эмблемой “Лос-Анджелес Лейкерс” и решительно снимая с себя джинсы, и я смотрела на него — думая, где же пистолет, и есть ли вообще у него оружие, кроме ножичка в кармане? И есть ли оно у остальных, или они воспользовались им и выкинули, боясь, что может-таки нагрянуть полиция, или на дороге могут остановить, или еще что-нибудь неприятное приключится? И когда он взял в руки черную маленькую сумочку, ту самую которая лежала поверх пакета с едой, переданного ему Ленчиком, и начал озираться, явно думая, куда ее положить, — тогда я поняла, что именно в ней ствол, что Ленчик ему оставил оружие на всякий случай, а он забыл отдать и вот и размышляет, куда его убрать.
И еще я сказала себе, что хотел он меня все то время, пока Ленчик отсутствовал — потому что через мгновение после того, как он сунул сумочку в шкаф, уже лежал на мне, нависая надо мной и краснея и дергаясь и кончая уже через пять минут, если не раньше. Я не отпускала его, и старалась как могла, терлась всем телом, ласкала губами и пальцами, пытаясь поднять мокрое, маленькое и вялое, добившись еще раз успеха — и думая только о том, как добраться до шкафа и успеть выхватить ствол из сумочки прежде, чем он успеет мне помешать, как сделать это так, чтобы в момент перехода оружия в мои руки между им и мной было минимум два метра, то есть чтобы он продолжал лежать и мне не пришлось бы его убивать.
Мне не жалко его было — но я отдавала себе отчет в том, что выстрел призовет остальных раньше чем я успею одеться и отпереть дверь и убежать. И вспомнила еще про окно, но они ни разу не отдергивали штору, опасаясь, может, что кто-нибудь каким-то чудом увидит меня с улицы, связанную и с синяком, и потому я даже не знала, что там, за эти окном. Кусты, парк или голое поле, в котором меня нагонят в пять секунд, или просто наклеенные на стекло фотообои. И открывается ли оно вообще, это хреново окно?
Он обмяк наконец — не только то карликовое, что у него пряталось между ног, но он весь. И я еще лежала какое-то время, целуя его в грудь, и гладя, и постанывая неискренне, и потому не слишком часто и не слишком громко. А он лежал на спине, закрыв глаза, и я опустилась рядом, стараясь его не касаться. Он дышал так ровно, что я решила, что он заснул. Но подождала еще и наконец встала тихо.
— Куда?!
Я только шаг сделала, и вопрос словно насквозь меня прострелил, неожиданный и громкий.
— В душ.
И оглянулась, увидев, что он приподнялся на локтях.
— Я быстро, — произнесла тихо и успокаивающе, нервно немного улыбнувшись. — Хочешь выключу свет?
— Сигареты дай!
Я подошла к столу, понимая, что про шкаф пока надо забыть, я только открыть его успею, не больше — и вернулась к нему с пачкой, зажигалкой и пепельницей, отметив, что ручка лежит на прежнем месте. А время у меня еще есть, вся ночь, и он все равно уснет, должен уснуть.
За стенкой стукнуло что-то, несильно.
— Гуляют пацаны! — произнес Василек то ли с осуждением, то ли с уважением, я не успела понять, потому что через секунду стукнуло сильнее, и звук странный, словно кто-то крикнул, и он вскочил, оттолкнув меня, рванув одним движением сумочку из шкафа. Кинулся к двери, тормознул вдруг, рванул обратно, а так как расстояния крошечные, комната-то всего ничего, а значит, от постели до шкафа три шага, и оттуда до двери еще три, — метания здоровенного кабана на таком пятачке смотрелись комично. Но мне было не до смеха — я стояла спиной к столу, куда он меня толкнул, смотрела, как он одевается судорожно, уже не обращая на меня внимания, потом бежит к противоположной стене, бухая в нее кулаком, прислушиваясь и снова кидаясь к двери.
— Тихо сиди! Я мигом — пацаны там драку видать устроили, нажрались. Так что тихо — я к старшому и обратно. Сечешь?
Через секунду его не было уже, и ключ повернулся в замке, и я даже растерялась, впервые за четыре дня оставшись одна. Тупо оделась, подошла к окну будто некуда было торопиться, аккуратно отодвинула штору, увидев сначала асфальтовую площадку под окном, на которой стояли машины в ряд, и ни одного человека, а за площадкой деревья, и больше не увидела ничего из света в темноту.
Какое-то время я металась так же хаотично, как и Василек перед этим — кидалась к столу, хватая ручку и сжимая ее в руке, потом к тому углу, где валялись мои вещи, потом обратно к окну. Не думаю, что это было долго — но тогда казалось что час прошел, пока стукались в моей голове мысли: “Одеться? Не успею! А если успею и этот вернется? А если окно не открою? А если попробовать? А если попробую и тут этот?”
Гадать всегда сложно и утомительно — и не только потому, что человек предполагает, а Бог располагает. Потому, скорее, что решение в таких вот ситуациях, где счет идет на мгновения, нельзя принимать размышляя: мысли мешают и отвлекают и сбивают с толку. Это ведь, в принципе, чисто самурайский постулат, буддистский точнее. И в соответствии с ним, не думая, я выстрелила в Виктора и потом во второго, точно так же когда-то всадила нож в Павла — так что не могу объяснить, почему вдруг задергалась там? Может, потому что была настроена совсем на другое, на попытку убийства — и не могла отрешиться от нее, кажется намереваясь дождаться Василька? А может, потому что мне тогда и в голову не приходило, что через минуту я буду бежать голая через кусты, зажав под мышкой одежду и сапоги и сжимая в ладони дешевую шариковую ручку?
— Куда?!
— Я же сказала — в Беверли-Хиллз.
Я мягко ответила, потому что он и так не хотел меня сажать, этот черный. Уставился на меня подозрительно и чуть испуганно, когда я вышла из-за будки, убедившись что это такси. И спросил с издевкой, есть ли у меня деньги, и попросил показать, и недовольно качнул головой, когда я продемонстрировала ему кредитку.
— Только наличные!
— Это же “золотой” “Мастеркард”! Знаешь, что это такое? Проедем мимо банкомата — я сниму!
— Пока, подруга! Карточками и телом не беру!
Я не могла его винить — видок у меня был дай бог. Синяк под глазом, никакой косметики, короткие волосенки, рваная куртка и сломанная молния на брюках — хотя молнию этого он мог и не заметить, равно как и того, что одевалась я в кустах, уже отбежав от мотеля метров двести. Но дырки на колене — я упала здорово потом, проехавшись по асфальту и окончательно погубив чудесные брюки за две тысячи долларов — не заметить он не мог. К тому же явно глаза у меня были шальные, и сама вся нездоровая, и возбужденная, и мокрая от долгого бега и напряженного ожидания, и прихрамывающая вдобавок, и прячущаяся за будкой. Так что решить, что я наркоманка, способная убить его за двадцать баксов, или прячущаяся от полиции преступница, можно было запросто.
— Пятьсот долларов!
Крикнула это, уже когда он тронулся с места — и отвернулась, понимая что этому хоть миллион пообещай, он меня не посадит, и чем больше обещать, тем неправдоподобней это будет выглядеть. И что надо куда-то деваться, где-то переждать ночь — потому что я максимум в километре от мотеля, ну, может, в двух, и эти хватились меня давным-давно и колесят повсюду. И что шататься по улицам мне более не стоит — легко нарваться на полицейскую машину. Но если тем я могу объяснить, кто я, что на меня напали, избили и все такое, — то Ленчику и его людям я уже ничего не объясню.
— Сколько ты сказала?
— Тысячу! — произнесла отчетливо, но тихо, достаточно того, что этот орет чуть ли не на всю улочку, — на которую я набрела бог знает как — просто увидела ничего не говорящее название и освещенную будку и “Желтые страницы” в ней, и сил у меня уже не было, потому и заскочила в будку и села на пол, не думая о том, что это глупо, что кому надо — увидит. Отыскала вызов такси и произнесла название улицы — даже выскочить пришлось чтобы уточнить, и я его тут же забыла опять. И черт знает сколько стояла за будкой, прислушиваясь к тишине, ожидая услышать приближающиеся со всех сторон машины, почему-то представляя, что Ленчик и его люди гоняют по округе на полной скорости, ревом двигателей и скрипом тормозов и визгом покрышек поднимая всех на ноги.
— Тысячу?
Недоверие было в его голосе, глухой бы услышал, но он-таки сдал назад. Хотя услышав, что мне надо в Беверли-Хиллз, переспросил с таким видом, словно я попросила отвезти меня в Москву.
— Ты уверена?
— Беверли-Хиллз, тысяча долларов. С остановкой у банкомата. Все.
И тут он рванул. И разумеется, косился на меня все время в зеркало заднего вида, пытаясь понять, кто я, спрашивая, где нашла кредитку и не подскажу ли ему столь чудесное место, и периодически с угрозой в голосе намекая на то, что без денег меня не отпустит. И я, не очень разбиравшаяся в уличных банкоматах и в том, как с них снимают деньги — слышала, но никогда не пользовалась, не было нужды, — сказала себе, что если для того, чтобы добраться туда, куда мне нужно, потребуется ему отдаться, я это сделаю, потому что у меня нет другого выхода. И потому я сделаю — если он возьмет столь стремное и, возможно, опасное создание.
Твари, вытянули деньги из кармана — точно помнила, что перед отъездом положила долларов семьсот наличными просто на всякий случай. Ключи оставили, сигары в футляре оставили, помаду тоже, а вот деньги сперли, как обычные кусочники, доказывая мне и себе, что миллионы им ни к чему, хотя я и не собиралась их отдавать.
Сначала я только озиралась по сторонам, боясь увидеть огни сзади или спереди, не понимая, где мы и не желая его спрашивать, потому что ответ мне бы не дал ничего. А потом пришло в голову спички у него попросить в обмен на сигару, сказав, что это настоящая, кубинская, — и он поколебался и дал мне прикурить, хотя сам был некурящим, а сигару убрал в бардачок, предназначив ее для кого-то, и стоически переносил дым, неполностью выдуваемый в открытое окно, и платил удушьем за собственную жадность.
Во время поездки я точно ни о чем не думала — не до мыслей, я вся еще была в побеге. Все еще открывалось с
поразительной легкостью окно, и я выскакивала голая с вещами под мышкой и зажатой в ладони шариковой ручкой, в которую вцепилась как в самое смертоносное в мире оружие или палочку-выручалочку. И неслась, и поспешно одевалась, когда кончились деревья и кусты, умудрившись в спешке сломать на брюках молнию, а потом и добить их окончательно навернувшись на ровном месте, на гладком асфальте.
Я даже не думала, что вдруг не выйдет получить деньги по кредитке. Единственная мысль связана была с тем, правильно ли я поступаю, что еду не домой, а к Корейцу. Но это решение возникло так спонтанно и так странно — я его приняла, достав из кармана ключи и увидев на них заодно ключи от Корейцевой студии, которую он снимал в Беверли-Хиллз, а потом купил, которую мы потом сдавали в аренду и из которой, как уведомили меня месяц назад, арендаторы выехали, которая теперь пустует временно. И я это решение не оспаривала — да и та единственная мысль о его правильности навестила меня за время дороги дважды. Один раз до и один раз после того, как, к моему великому изумлению, — и при непосредственной помощи черного таксиста, у которого, кажется, кредиток-то и быть никогда не могло — выбранный им банкомат после некоторого раздумья выдал мне две тысячи долларов, одна из которых перешла из равнодушных белых рук в черные, стиснувшие их любовно и страстно.
— Подождать?
Именно после этого вопроса, заданного тоном, в котором слышалась готовность служить мне верой и правдой, я и задумалась в последний раз, при этом отрицательно мотнув головой. Распахнув дверь, я, посредине раздумий, оказалась вне машины.
Он что-то бросил мне напоследок, но я не услышала, я уже смотрела на дом, в котором располагалась студия и до которого не доехала специально метров триста. Я ж даже адрес забыла, и потому мы покрутились какое-то время, и черный все не мог понять, то ли я безумная миллионерша, обожающая ночные рискованные похождения и возвращающаяся домой, то ли удачливая воровка, решившая до утра сделать еще одно дело.
Я постояла и покосилась на дом, на отдельный вход, который вел в студию, и ничего такого не увидела — ведь он отсюда в июле прошлого года съехал, и кому в голову придет, что я могу быть здесь, и кто может знать адрес, кроме покойного Виктора, который опять же знал, что Кореец давно переехал ко мне. И я перешла наконец через улочку — такую же тихую, как та, на которой я ждала такси, потому что все же ночь еще была, в три пятнадцать я из такси вылезла. И двинулась ко входу, потому что стоять было глупо: чего внимание к себе привлекать?
Я подошла к двери, не замедляя и так медленного шага, прислушалась, естественно, ничего не услышав, открыла ее и шагнула в лифт. Немного напрягшись, когда он захлопнулся за мной, как ловушка, — видно, после четырехдневного сидения в закрытой комнатке, лишенной естественного света, некоторая клаустрофобия во мне поселилась — но он открылся буквально тут же, второй этаж все же, — и тихо вокруг, тихо. И я вставила в замок второй ключ, вошла внутрь, в черное гигантское пространство, в котором лишь угадывались стены. Постояла, вспоминая, где выключатель. И сделала пару шагов вперед, полагая, что свет включать ни к чему, лишнее. И замерла на полушаге, услышав тихо произнесенные, но громовыми показавшиеся английские слова:
— Рад видеть вас, Олли!..
…И зажигалка щелкнула, рождая огонек пламени, высвечивая очертания прикуривающего человека, сидящего в нескольких метрах от меня. И опять по-английски:
— А вы — не рады?
Я так и стояла, чуть подавшись вперед, не стараясь узнать голос, слишком сильно бьющий по перепонкам, эхом разносящийся по опустевшей вмиг голове — словно он кричал из мегафона мне в ухо, а не говорил негромко, — но стараясь бесшумно залезть в нагрудный карман, куда сунула страшное свое оружие, ручку из мотеля. И залезла и рука разжалась, когда услышала третий вопрос:
— Может, лучше поцелуете меня, мисс?
И только после этого ответила без выражения, вопросом на вопрос, чувствуя, как вес всего моего тела уходит вниз, в пол, прилепляя меня к нему, лишая возможности сдвинуться с места, делая бронзовой статуей, так хорошо смотрящейся здесь, в дорогой студии.
— Вы думаете это смешно?
И добавила по-русски:
— Какая же ты сволочь, Юджин!..
— Ну я тебя прошу, поехали!
Господи, кто-то из нас рехнулся! Или я, и потому принимаю кого-то за исчезнувшего четыре месяцев назад Корейца, или он. Я жила на осадном положении, плела интриги, меня сажали, рядом со мной убивали людей, я нанимала киллера, в меня стреляли и не попадали, и я стреляла и попадала. У меня убили близкого человека, меня похищали, и били, и насиловали, я бегала голая по городу — я, в конце концов, четыре месяца его не видела, и переживала за него, и похоронила давно, и он мог бы рассказать, где он был столько времени, и как появился здесь, и почему он в студии, а не в доме! А он только обнял меня, крепко, правда, но не как женщину, а как кореша-бандита, и тут же потащил за собой, как бы говоря, что я сейчас в таком состоянии, что не могу ни рассказывать, ни слушать.
— Но куда, Юджин? — Русского хватит, только английский. Киваю, не веря своим ушам, когда слышу, что он мечтает искупаться в океане. Сейчас, ночью, когда мы только встретились!
— Я столько времени не видел океана!
Нет, он рехнулся. И все вокруг обезумело, все этой ночью перевернулось с ног на голову и пляшет на ней весело. И потому выскакивает из комнаты урод, которого я планировала вскорости попробовать убить, и потому открывается легко окно, и потому посреди ночи приезжает такси в какую-то глушь и берет меня, и потому в студии оказывается Юджин. Так что стоит ли удивляться, что он соскучился по океану?
Я уже ничему не удивляюсь. Я иду за ним покорно, тупо смотрю перед собой в лифте, и даже когда он разворачивает меня и вглядывается в мое лицо, я не вижу этого взгляда. И так же роботоподобно выхожу на улицу и сворачиваю за угол только потому, что он меня тащит — а так бы шла и шла, пока не уперлась бы в препятствие. Позволяю усадить меня в машину, марки которой я не разглядела, позволяю всунуть мне в рот сигару и поднести к ней огонек зажигалки, как две капли воды похожей на мою, бывшую мою. И еще позволяю положить мне на колени фляжку с виски, “Чивас Ригал”.
— Простите, мисс, стакана нет и льда тоже — ночь!
Он смеется, гад, ему смешно. Он взялся бог знает откуда, не подозревая о том, что происходит здесь, — и ему смешно!
— Вы хоть знаете, Юджин… — начинаю с вялым сарказмом и замолкаю после его фразы.
— Я знаю, Олли, я знаю.
Да чего он там знает! Я так ждала его, и он такие непонятные чувства вызывает во мне сейчас — и испуг, потому что он меня напугал жутко, и восторг, и злость за его тупое непонимание — но все чувства вялы, они спят, использованные до предела, смертельно усталые, и лишь вяло шевелятся, в то время как должны были взметаться взрывами. И я беру фляжку, свинчиваю крышку и делаю глоток, и еще один. И тепло бежит по замерзшему, промороженному всем случившимся телу, не оттаивая его, но напоминая, что когда-то оно было живым.
Тупо смотрю перед собой, на такую же как я дорогу — не мертвую, но и не живую, почти пустую, “почти”, потому, что хайвэй никогда не спит. И почему-то после очередного глотка, крошечного, естественно, вспоминаю, как сказала себе, еще когда жив был Рэй, что в следующий раз выпью виски за упокой души “раба Божьего” Ленчика. И вот он, следующий раз, а пью я, выходит, за упокой души раба Божьего или не Божьего, что по фигу сейчас, Рэя.
И тут замечаю взгляд Корейца — мы медленно едем, неторопливо, нечастые попутчики нас обгоняют, — но рука уже приподнялась, салютуя кусочком стекла тому, кто превратился в безлицый ком одежды. Он молчит, и я молчу, не видя уже ни дороги, ни лиц, ни того, чем они становятся, — ничего, короче.
— Ну что, приехали! — радостно сообщает он через какое-то время, и я возвращаюсь в машину, обнаруживая себя с сигарой в руке, выкуренной лишь наполовину, и чувствуя на коленях что-то стеклянное, оказывающееся почти полной фляжкой виски. Смотрю, как он распахивает свою дверь, и запах океана врывается, словно только этого и ждал. И вылезаю, потому что он вылезает, и вижу, что мы стоим на пустынном пляже, нецивилизованном совсем и заброшенном, может, оттого что не сезон. И машина стоит задом к океану, каких-то пять шагов до него, и пальмы слева, и справа, и позади, мы как-то проехали сквозь них.
— Искупаемся? Или сначала поцелуете меня, мисс?
— Лучше искупаемся, Юджин. Поцелуев за последние четыре дня было слишком много…
И начинаю раздеваться под его пристальным взглядом, стоя перед фарами, куда он меня поставил, не понимая, что теперь он точно видит все — и рваную одежду, и глаз, и синяки и кровоподтеки, оставшиеся на теле после экзекуции и о существовании которых я только догадывалась. И уже раздевшись и постояв так, чувствую, что мне холодно, и ежусь, как впервые вышедшая на сцену стеснительная стриптизерша.
— Вы, кажется, собирались купаться, мистер? — спрашиваю без иронии, с интонациями, свойственными зомби. — Или смотреть, как купаюсь я?
Смотрю ему в глаза и вижу там — не вижу, темно ведь, но чувствую — ту поднимающуюся волну, которую видела в них несколько раз. Волну, тщательно сдерживаемую дамбами и волнорезами железной воли и самоконтроля — но иногда прорывающуюся, превращающуюся в цунами, в слепую бешеную стихию, радостно предвкушающую похороны тех, кто ее пробудил.
— Значит, слишком много поцелуев за последние четыре дня? — переспрашивает он, и я устало киваю. Мне бы посидеть сейчас или полежать, чтоб никто меня не дергал, чтобы можно было просто лежать и курить. Можно даже в машине ехать — но только не стоять, выслушивая вопросы и не понимая, чего от меня хотят и зачем я здесь, да и не пытаясь понять.
— Слишком много поцелуев, — повторяет он еще раз, и тянет меня за собой, и распахивает заднюю дверь и протягивает мне что-то, две длинных толстых штуковины, оказывающиеся в свете фар огромным пристегивающимся членом и самым большим вибратором из тех, что у меня были, черным и жутко дорогим. И я их роняю непонимающе, забыв еще раз беззвучно воскликнуть, что у него съехала крыша — и мы огибаем машину, и я смотрю как он рвет на себя багажник джипа — я сейчас только отмечаю что это джип, не задумываясь какой и откуда. И он тащит оттуда что-то большое и тяжелое, отходя назад и роняя это что-то на песок.
— Это что, еще вибратор? — шучу просто потому чтобы что-то сказать, получить какие-то объяснения по поводу странных его действий.
— Это кукла, Олли, — мой тебе сюрприз!
На хрен мне кукла — я не мужчина и никогда не хотела быть мужчиной, хотя были у меня любовницы, которых я терзала пристегивающимся органом, но мало, одна или две. И даже если бы она мне была нужна, кукла, совсем не время сейчас для таких подарков и не место. Но опять же не удивляюсь — если уж мы после четырехмесячной разлуки поехали купаться через минуту после того, как встретились, если он ни о чем меня не спрашивает, а потом всучивает мне пристегивающийся член и вибратор, то не исключено, что через мгновение приземлится летающая тарелка, и выглянет из нее…
— Ленчик!
“Ленчик?”
— Как сам, Ленчик?
А ведь это и вправду Ленчик — то, что он называл куклой и вывалил на песок. Это он, со связанными сзади руками и растянутым ртом, из которого торчит тряпка, позже оказавшаяся Ленчиковыми же трусами.
Я даже не спрашиваю, откуда он тут — ведь вполне возможно, что из той самой тарелки, которая должна была приземлиться перед нами и которую я могла не заметить. Почему нет, сегодня ведь все возможно.
Юджин поднимает его одним рывком, прислоняя к джипу, выдергивая изо рта тряпку.
— Ты че, оглох? Я же тебя спрашиваю — как сам?
И безумные вытаращенные глаза прыгают с Корейца на меня, с меня на Корейца, который в этот момент поворачивается ко мне.
— Не желаете ли испробовать новую куклу, Олли? Можете ее не жалеть — это подарок, а к тому же она все равно одноразовая, вы с ней поиграете и мы оставим ее здесь. Я бы вам помог, но предпочитаю знаете ли живых женщин — таких, как вы. Но если будете настаивать, то я конечно присоединюсь…
И тут я улыбаюсь. Сейчас думаю, что за такую улыбку на таком лице, не то, что красивом, а просто ужасном, операторы заплатили бы бешеные деньги. Сначала один уголок рта ползет вверх и в сторону, потом второй, а потом я начинаю дико смеяться. Нервный, полагаю, был смех, истеричный — и я смотрела на Корейца, у которого не менее жуткая улыбка нарисовалась, и хохотала все громче.
— Генаха, давай по-нормальному?! Поехали к Жиду, он нас разведет! Баба цела — десять пацанов из-за нее легли, а я ее не тронул! Бабки ваши, мне не надо ни хера. Генаха, слышь?
Не знаю, слышал ли Кореец, я слышала. Видно, и он услышал в конце концов — на моих глазах вдруг развернулся, резко выбрасывая кулак, вошедший в массивный Ленчиков живот и приподнявший его даже, и он упал на песок, а я все хохотала.
А потом смех кончился разом, когда Кореец его поднял, прислонив обратно, и я посмотрела на прилипшие к роже песчинки, на ее, этой рожи, выражение, на то, что в глазах ее.
— Ты че, Ген?! Ну давай по-нормальному, по понятиям. Сейчас к Жиду, побазарим, бабки твои, баба цела…
Левой-правой, два жутко гулких боковых по челюсти — голова Ленчикова резко мотнулась вправо-влево, чуть не оторвавшись, кровь поползла по лицу тоненькой черной ящеркой.
— Молчи, пидор, когда люди разговаривают!
Молчание, вызванное проверкой состояния собственных челюстей, и языка, и мозга вообще.
— Генах, мы ж с тобой… И Вадюху я знал, и твоя в порядке…
Бам-бам-бам — хлоп. Левый хук — правый хук — апперкот по корпусу — нокдаун или нокаут? Нет, нокдаун, бубнеж с земли доносится и продолжается в момент подъема и прислонения обратно к джипу. Только лицо перед нами чуть другое — изо рта уже не ящерка ползет, а ящерица, более толстая и быстрая. И голос не очень отчетливый.
— Я те сказал — засохни, пидор!
Мне впервые за последнее время что-то становится интересно — а именно те метаморфозы, которые происходят сейчас с великим и ужасным Ленчиком. Те метания на его лице — между призрачной надеждой и глубоким отчаянием, между старанием выглядеть солидно и давящим страхом, между верой в лучшее и осознанием худшего. И я всматриваюсь в него жадно, хотя видела уже похожее на лице кронинского Павла, получившего от меня нож в живот, и на лицах уродов, принявших меня за проститутку, и едва не увезших куда-то, и в итоге встреченных Корейцем и его людьми. Похожее — но не такое.
— Генаха, ты че, я вор, а ты мне “пидор”. — Он так ласково увещевает, боясь разозлить увещеваемого — и мне почему-то легко представить, как бы он себя вел, если бы в другой ситуации его так назвал кто-нибудь.
— Да какой ты вор, Леня? К тебе даже в Союзе оказывается вопросы есть.
— Что? Какие?
— Да не в них суть. Не вор ты Леня, потому что девушке вот угрожал мусорам ее заложить и родителей ее убрать — ты уже поэтому не вор.
Я смотрю на них двоих, стоя чуть в стороне, совсем чуть-чуть, и Кореец отворачивается от Ленчика и медленно-медленно рассматривает меня — голую, с сигарой в руке, освещаемую задним габаритом. Начинает с ног, поднимая глаза вверх, к лицу — и вспышка в глазах, — и отворачивается.
— А если и был ты когда-то вор, будешь теперь пидор, — произносит финально, но обыденно, без пафоса, запихивая Ленчику обратно тряпку в рот, разворачивая его, дергая вниз так что тот стукается головой о дно багажника, а потом еще раз и видно как-то его там закрепляет, потому что тот не падает. И что-то сверкает у Корейца в руке, и трещит ткань, и голый зад Ленчика белеет, и распоротые надвое штаны тряпками оседают к ногам.
— Попробуете куклу, Олли?
Я смотрю задумчиво на этот зад — по сути, та же Ленчикова рожа, только побольше, — вспоминая все, что он мне сделал. Не тот сейчас момент, чтобы вспоминать, — но обрывки памяти какие-то мелькают вдалеке. Стэйси, в общем, мне чужая, еще более чужой Ханли, камера, жажда с похмелья, две дорожки кокаина, влетающие в меня, нечто, бывшее Рэем. Качаю головой и показываю жестом, что мне нужна зажигалка, и Кореец мне ее протянул — и она была, один к одному, как моя, когда-то твоя, потом моя, потом украденная у меня Ленчиком. И поняла по его улыбке, что это она и есть — и Юджин прочитал второй вопрос в моих глазах, чуть выгнув свое запястье, на котором я каким-то образом увидела в темноте свой, опять же бывший твой, и всего четыре дня бывший Ленчиковым “Ролекс”. И говорю себе, что все — при своих: мне — мое, Корейцу — Корейцево, а пидору, конечно, пидорово.
— Ну что, может, мне начать, а вы присоединитесь, Олли?
И мне не хотелось смотреть, как Кореец будет иметь его в зад — хотя это нормально по его меркам, да и я понимала это желание опустить физически опущенного морально. Не хотелось просто потому, что знала лучшее применение его члену.
И я прикурила, а потом подняла с песка вибратор. “Черный жеребец” он назывался, кажется, и стоил мне дай бог, гигантский, крепчайший черный член сантиметров тридцати длиной, со спрятанными в мошонке батарейками, очень правдоподобный, хотя ни одного негра обнаженным я не видела — а вот кое-кто имел на это больше шансов, негры в тюрьмах необычайно похотливы. Но Ленчику тюрьмы уже не видать — так стоит ли лишать его приятных ощущений?
И я протянула Корейцу “черного жеребца”, и он вбил его в белый оттопыренный зад так глубоко, что только мошонка и осталась видна. А все благодаря мне, обильно смочившей всю ладонь собственной слюной и втершей ее в толстенную головку.
Зачем я это сделала, интересно? Изощренное злорадство? Притворная жалость? Игра в этого — как там его фамилия? — в доктора, умерщвлявшего безнадежно больных по их же просьбе? Я себя много позже об этом спросила, пытаясь проанализировать все. И задумалась, и ответила, что сделала это чисто автоматически — потому что из богатого своего сексуального опыта и любви к игрушкам прекрасно знала, что вибраторы и искусственные члены положено перед использованием смазывать лубрикантами, а ничего, кроме слюны, под рукой не было…
…И мы пошли купаться. Представь: два идиота, купающихся в конце марта в океане! Зашли в воду, и повернулись лицом друг к другу, почти одновременно, и так же одновременно друг к другу потянулись. И через секунду я сидела на нем, обхватив его бедра ногами, а он в меня входил.
Я раньше пыталась заниматься сексом в воде и сейчас могу сказать, что даже для меня — для меня! — это дискомфортно, потому что смазка не выделяется и кажется, что член словно наждаком обернут. Но в тот раз — первый и последний — я об этом забыла. Как и о том, что у меня внизу распухло все за четыре дня групповух. И видимо, смазка выделялась, и был только комфорт, и я орала в голос. Именно орала, может быть компенсируя слишком скромные звуки, издаваемые Ленчиком. Когда мы уходили, он дергался так сладострастно и бился в экстазе головой о стенки и дно джипа, а вот крики сдерживал — может, стеснялся нашего присутствия, а впрочем, мешали забившие рот трусы. И Кореец по моему совету выключил фары, чтобы поинтимней была обстановка, и мы тихонько удалились под негромкое жужжание батареек вибратора. И когда он оглянулся уже у воды на белеющий и подергивающийся зад, с некоторым сожалением во взгляде, я потянула его за собой, сказав:
— Неужели вы предпочтете одноразовую куклу живой женщине, Юджин?
Зачем нам это было надо, лезть в воду и заниматься в ней сексом? Мне показалось чуть позже, что это был какой-то языческий акт. Может, очищались таким образом от той скверны, воздействию которой подверглись оба за время разлуки? А может, все потому, что жизнь зародилась когда-то, миллионы лет назад, в воде и, в сущности, все мы из воды и вышли? И по этой причине мы и слились именно в ней, подсознательно пытаясь зародить новую жизнь? И будет она более совершенной, чем мы, — как люди, тоже продукт воды, на семьдесят процентов из нее состоящий, стали совершенней рыб?..
…Ну я заболталась! Просто мы так давно не говорили с тобой, и мне хотелось этого давно — но для того, чтобы сесть вот так, и говорить, и говорить, и говорить, нужно особое внутреннее состояние. Такое, которое дает возможность проникать в прошлое и видеть его все целиком, все этапы — и прыгать из одного в другой или через два сразу, туда и обратно, — этап Оли Сергеевой, этап Оливии Лански, этап Линды Хоун.
Вот. А сегодня как раз выдалась такая ночь. Я еще утром почувствовала, что так будет, когда ездила покупать подарок Юджину — ему повезло, так и остался Юджином, только фамилию сменил — на день рождения. В праздники все воспринимается по-другому, я всегда отрешаюсь от всего, зависаю над собственной жизнью, глядя на нее сверху. И зависла сегодня, и увидела тебя, Корейца и многих других, Москву, и Лос-Анджелес, и Мексику, где пробыла всего пять дней, и Монреаль, и себя в нескольких ипостасях — и вот удалось с тобой побеседовать.
И все рассказала тебе — и так, кажется, слишком подробно. И потому на концовку места не хватило. И я закончу так:
“…И жужжал вставленный в Ленчиков зад вибратор, а мы летели по ровному шоссе в Мексику…”
Красиво? Не очень? Тогда так:
“…И мы летели по ровному шоссе в Мексику, и ветер свистел в ушах, как батарейки вставленного в Ленчиков зад вибратора…”
Нет, тоже не слишком хорошо заканчивать такую эпопею упоминанием чьего-то зада. К тому же, когда мы неслись в Мексику, батарейки давно уже не жужжали — хотя когда мы вышли из воды, они еще работали. Без устали удовлетворяя Ленчика — представляю, что творилось с его прямой кишкой, в которую вбили такую махину и которая пару часов там дергалась неутомимо. И поэтому Кореец отправил Ленчика в плавание, в последнее плавание. Ведь тот при мне говорил, что хочет перебраться на Гавайи, и, значит, мечтал жить у океана — планировал на наши деньги — и что самое главное — купить виллу на берегу океана и яхту и устраивать круизы с местными красотками. И мечта его осуществилась — вот ему и круиз, и, наверное, до Гавайев он доплывет рано или поздно — хотя я не сильна в географии.
Я только попросила вытащить вибратор у него из зада перед тем, как он уплывет от нас — вдруг кто-то выловит, и такая сцена. Но Кореец поморщился брезгливо, и как-то оперативно — я не успела заметить, отвлеклась — вытащил у Ленчика его же трусы изо рта и вместо них глубоко всунул пристегивающийся член. И когда я посмотрела на него с упреком, сказал, что Ленчику групповухи нравятся, и с этим я не могла не согласиться, испытав это на себе. И пожала плечами, а когда мы проводили Ленчика в последнее плавание — как этакую подводную лодку, поскольку двигатель в момент расставания вовсю работал, — заметила философски, что одним человеком на земле стало меньше. И Кореец жутко удивился, спросив меня, где я тут видела человека — тварь тут одна была, а людей он не видел. Кроме нас, естественно, — и с этим тоже нельзя было не согласиться.
Так что я закончу так:
“И мы летели по ровному шоссе в Мексику, и ветер свистел в ушах…”
…И мы летели по ровному шоссе в Мексику, и ветер свистел в ушах, и я думала о том, как странно устроена жизнь. Ведь это Юджин, оказывается, въехал на нашу улочку на такси, когда мы с Рэем отъезжали от дома, отправляясь в последнюю поездку. А Юджин ехал из аэропорта, ничего пока не зная, встревоженный немного тем, что не отвечают ни домашний, ни мобильный мои телефоны, разумеется не зная, что я их сменила. И ему показалось, что это я там, в красном “Мустанге”, и он попросил таксиста мигнуть нам фарами, но мы не заметили, а устраивать гонку он счел глупым. Вдруг обознался, далеко же, да и хрен догонишь.
Я думала, что было бы, если бы мы задержались на минуту, если бы Кореец подъехал на минуту раньше. Не было бы смерти Рэя, моего плена и всего с ним связанного, моего побега. Но, с другой стороны, не было бы такой необычной встречи с Корейцем и такой чудесной поездки к океану. Да и как бы они встретились, Кореец и Рэй, ведь для одного я была почти женой и для другого тоже? Но нет смысла гадать. Это игра — мы не выбираем, не решаем почти ничего, мы только держимся за гривы деревянных лошадей, командуем которыми опять же не мы.
Я думала, как классно мы встретились с Мартеном, пытавшимся зажать мой сценарий и наши деньги под предлогом того, что у нас проблемы с законом. Он начал мне объяснять в ресторане — поздно вечером все в тот же день, — как я его подвела, как я испачкала его репутацию, его имя, как скомпрометировала студию. Он уже не помнил, что сам-то сделал имя благодаря нам и нашим деньгам — и студия наша, он там почти никто. И тут подошел Кореец — с нашим новым другом, которого мы подобрали на улице, когда он попросил у нас два доллара. Корейцева была идея, мне поначалу непонятная, особенно когда он затащил попрошайку — невысокого латиноамериканца, нищего, но гордого, этакого мачо, притом почти не говорящего по-английски, — в машину. И мы поехали в дорогой магазин покупать ему костюм, преобразивший его до неузнаваемости, сделавший из оборванца кабальеро.
Мы сидели с Мартеном, и тут подошел Кореец с нашим другом, и у Мартена отвалилась челюсть при виде Юджина — и уже не закрывалась, и я рада была, что его не хватил инфаркт. И он закивал, когда услышал, что нам придется уехать, так что мистеру Мартену предстоит переслать наши деньги плюс гонорар за сценарий на этот вот счет на Кипре, а наш колумбийский друг, очень влиятельный человек из Майами, с радостью согласился проконтролировать мистера Мартена. И Боб чуть не умер при слове “колумбийский”, ясно приняв безобидного попрошайку за крутейшего мафиози, а тот сидел гордо и кивал, когда Кореец к нему почтительно обращался — но я видела, как, когда тот повел себя слишком заносчиво, забывшись и начиная входить в роль, Юджин под столом больно наступил ему на ногу. А потом, когда мы ушли, учтиво пропуская вперед величавого дона, Кореец сунул ему еще сто долларов — сказав, что тысячедолларового костюма с него вполне хватит, в нем побольше подадут. И дон смотрел на нас непонимающе — ему понравилась эта роль, он готов был играть дальше, — а добрые волшебники, превратившие его из нищего в принца, уносились вдаль.
Еще я думала, что мы много успели сделать за те сутки с небольшим, которые пробыли в Лос-Анджелесе с момента встречи. Мы успели уничтожить все записи, пленки и бумаги, и я успела в банк, где давно меня ждали, и нам удалось вытащить все деньги — превратившиеся в счета в европейских банках и акции. Другое дело, что трогать их пока не надо, пару лет я думаю, как минимум, чтобы не навести никого на наш след. Но ведь у нас есть почти два миллиона и куча моих драгоценностей — нам хватит.
И я думала, что жаль немного, что бросили дом, и машины, и вещи, купив для дороги подержанный “фордовский” джип — и надежно и неброско, — не было времени на то, чтобы все продать. Когда я вернулась домой, на автоответчике меня ждало сообщение от адвоката, Эда, о том, что почему-то именно в тот день, когда ФБР решило отменить мою подписку о невыезде, я скрылась, нарушив закон. Послушали бы они меня, объясни я им, что уже знала об отмене подписки и скрылась не по своей воле? Вряд ли. И еще было сообщение от Бейли, просившего меня ему перезвонить, потому что ему срочно надо поговорить со мной, так как убит в Лос-Анджелесе ближайший Яшин помощник, и Крайтон убежден, что тут замешана я, и у меня могут возникнуть проблемы, если я не объявлюсь в ближайшее время.
Поэтому у нас не было времени, нам надо было бежать — и мы бежали. И все, что я взяла с собой из дома, в котором была-то полчаса или час, — все на мне, и еще совсем чуть-чуть в багажнике, где основное место занято кейсами с наличностью и чемоданчиком с моими драгоценностями.
Я думала о том, как пригодился нам этот бесполезный и стремный стриптиз-клуб — потому что именно туда приехал Кореец, прождав меня два дня и случайно наткнувшись на оставленные мной в сейфе бумаги и узнав всю историю. Он приехал туда и узнал от Сергея то, чего еще не знал, — и мотался по мотелям, не зная, в каком именно остановился Ленчик, и ожидая, что Сергей позвонит ему, как только Ленчик появится. И он позвонил, он предан был покойному Яше — и Кореец проследил всю группу, и первым взял Ленчика, просто влез в полуоткрытое окно и вырубил его, спящего, и связал, вытащил и упаковал в багажник. А потом пошел к этим троим — и шум от появления Корейца, впущенного внутрь под видом разносчика пиццы, которую никто не заказывал, и услышал мелкочленный Василек, кинувшийся к корешкам и оставивший меня одну. И “разносчик пиццы” всех их там и оставил: положил всех на пол, кто-то лег добровольно, а кому-то пришлось помочь — обмотав полотенцем ствол изъятого у Василька пистолета и приставляя его вплотную к головам, чтобы не было шума…
И я думала о том, что молодец Кореец, что настоял, чтобы я позвонила мистеру Берлину, и продиктовал мне, что и как сказать. И я позвонила незадолго до отъезда из города с просьбой встретиться лично по очень важному вопросу, желательно без свидетелей, что готова отдать любые деньги и собственную студию лишь бы избавиться от одного его знакомого. И назвалась, и он знал от Ленчика, кто я, и приехал в названный мной ресторан, заинтересовавшись перспективами, и кивал, когда я рассказывала о беспределе якобы живого Ленчика и о готовности заплатить лично мистеру Берлину, если он окажет мне протекцию. Он великодушно согласился, и успокаивал меня, и обнадеживал, и сел потом в машину к поджидавшим его водителю и охраннику, но тут-то и расстрелял их в упор из пистолета с Ленчиковыми отпечатками злой киллер, почему-то показавшийся мне вылитым мистером Каном. Ничего личного — просто бизнес.
Правда, я его спросила потом задумчиво, уже в дороге, сколько же трупов всего на нас — особенно трупов, ставших таковыми в последние два дня, на что он мне ответил, что мы тут ни при чем, это все неблагоприятная геомагнитная обстановка, магнитные бури, короче, — вот люди и нелюди и мрут, как мухи. Вот так научно объяснил, на полном серьезе. Интересно, где он слов таких набрался — “неблагоприятная геомагнитная обстановка”?
И я думала, что я, конечно, тоже молодец — потому что, уничтожив все бумаги и пленки, не забыла прихватить с собой пакет с моей исповедью ФБР, спецагенту мистеру Бейли, чтобы отправить его из Мексики, и пусть они думают, что я скрываюсь потому, что боюсь страшных вымогателей, а защитить меня сами они не в силах. И я молодец, что не забыла прихватить еще несколько конвертов с копиями одной интересной кассеты, чтобы отправить потом по адресам нескольких лос-анджелесских редакций и телекомпаний — то-то будет сюрприз хитроумному конгрессмену Дику Стэнтону!
И последнее, о чем я думала — это о том, что до сих пор не знаю, почему так долго, целых четыре месяца, отсутствовал Кореец. Хотя когда вылезли из воды после купания, я разглядела в темноте огромный шрам на животе и на спине, похожий на след ножевого удара, следы автоматной очереди, точной, но не окончательно точной. Но зато я знаю, что по пути в Мексику по оставленному мне Рэем адресу меня ждут абсолютно надежные документы на новое имя — и новая жизнь в новой стране.
И вот я думала обо всем об этом — а потом заснула. Не спала две ночи и заснула — а машина летела по ровному шоссе по направлению к не такой уж далекой Мексике. А ветер, может, и далее свистел, но я не слышала: я спала…
Ну а теперь мы в Монреале — полтора месяца уже. Тот человек Рэя, к которому мы свернули по пути, не знал, что Мэттьюза уже нет, а я не сказала. Зато все документы на двоих уже были готовы, полный комплект подлинных канадских документов — только наших фотографий в них не было.
И вот мы здесь. В городе, в котором чаще услышишь французскую, нежели английскую речь, в городе, где, говорят, очень холодные зимы. Но ведь мы не выбирали — тот человек выбрал за нас, а вообще-то, по большому счету, выбор сделала за нас игра. И мы не ропщем, нам здесь нравится — пусть здесь бывают зимы и нет океана.
Мы прилетели в Ванкувер и помотались пару недель по Канаде, заметая на всякий случай следы, и осели здесь, отчасти потому, что русских эмигрантов в Монреале меньше, чем в любом другом канадском городе. Купили домик и живем тихо и мирно. Много гуляем, занимаемся сексом, сидим у камина, смотрим телевизор и видео. И это добровольное затворничество, потому что мы просто решили выйти из игры. Бросить замедлившую ход сумасшедшую карусель, слезть с деревянных лошадей, разукрашенных золотом и драгоценными камнями: мы уже были опытными игроками, одержавшими массу побед и провернувшими массу дел — нам по рангу такие лошади были положены. Но мы решили уйти, и не потому что задумали сбежать от возможных — а скорее, весьма вероятных — преследований с разных сторон. Наоборот, останься мы в игре, опасности было бы меньше — мы бы платили киллерам и антикиллерам, кого-то покупали и кого-то продавали, заводили друзей и врагов и все решили бы, скорей всего, в итоге. И не было страха перед новыми перестрелками и угрозами, похищениями и расправами, арестами и побегами — они просто надоели. И мы ушли — слезли и ушли, и карусель крутится уже без нас.
Я не просилась на эту карусель. Я случайно попала на нее из-за тебя, и больше уже не могла сойти — это Кореец пришел на нее сам. И я верила еще совсем недавно, что сойти с нее нельзя, что она никогда не отпустит, что, войдя на нее, ты уже принадлежишь ей. Мы ведь заработали в этой скачке бешеное количество денег, и добились фантастического успеха, и выбили из седел несметное количество других игроков — и теперь по сценарию обязаны были рано или поздно упасть со своих лошадей и умереть, растоптанные ими или сломавшие себе шеи.
Ведь на этой карусели немногие из счастливчиков живут долго. Во-первых, потому, что она убеждена, что за успехом должно следовать падение и она только и ждет, пока ездок расслабится, успокоенный выигранным и полученным, чтобы его сбросить. А во-вторых нужны места для новых игроков — слишком много желающих, привлеченных яркими красками, высокими ставками, возможностью выиграть, и все они верят, что выиграют и обретут неуязвимость и бессмертие. И обретают — в крематориях и на кладбищах.
Я так думала, но вот теперь вижу, что, видимо, сойти с нее можно. Потому что сейчас — и уже почти целых два месяца — мы принадлежим самим себе. А она продолжает крутиться дальше, она никогда не останавливается. А про нас забыла, отпустила. На какое-то время или навсегда. И хотя стараюсь об этом не думать, но знаю, что призывное ржание деревянных лошадей может раздаться под окнами в любую секунду…
…Все, мне пора. Уже утро, и он скоро проснется, а мне еще надо привести себя в порядок и настроиться на то, что впереди у меня долгий-долгий день. Праздничный завтрак — вернее, самый обычный, но с вручением подарка — и наверняка секс потом, и хорошо бы мне удалось поспать после него пару часов, чтобы компенсировать бессонную ночь и быть в порядке вечером. И съездить в ресторан — в японский, самый лучший в Монреале, где я уже заказала столик, — а потом вернуться и посидеть в гостиной, где будут гореть свечи и искриться в их пламени купленный мной на другом конце города “Дом Периньон”, потому что около нас такое дорогое шампанское я покупать не хочу.
И мы будем болтать, и слушать проигрыватель, потому что Юджин без музыки не может, — и наверняка его любимое старье: “Иглз” и известный мне наизусть “Отель “Калифорния”. А потом опять уйдем в спальню…
Я никогда не делилась с ним теми образами, которые живут в моей голове, никогда не рассказывала о карусели — и потому он так любит эту песню, и потому всякий раз подпевает в конце:
— But you can never leave…
И я иногда подпеваю машинально и, допев строчку до конца, ощущаю во рту вкус этих слов. И тут же скрещиваю пальцы так, чтобы он не увидел ничего, если рядом. И, несмотря на всю свою несуеверность, произношу трижды магическое заклинание:
— You can, you can, you can…

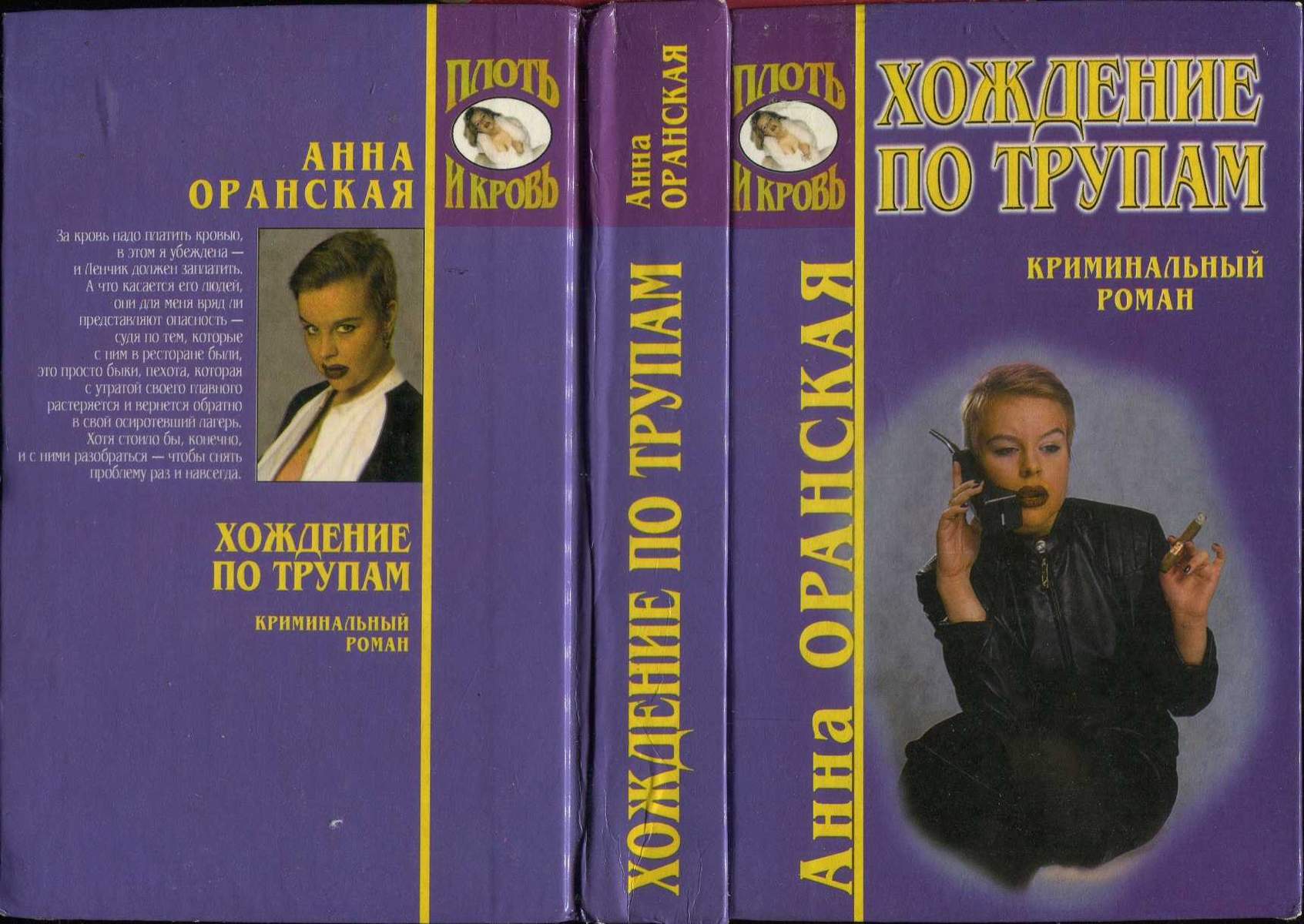 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Оглавление
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4