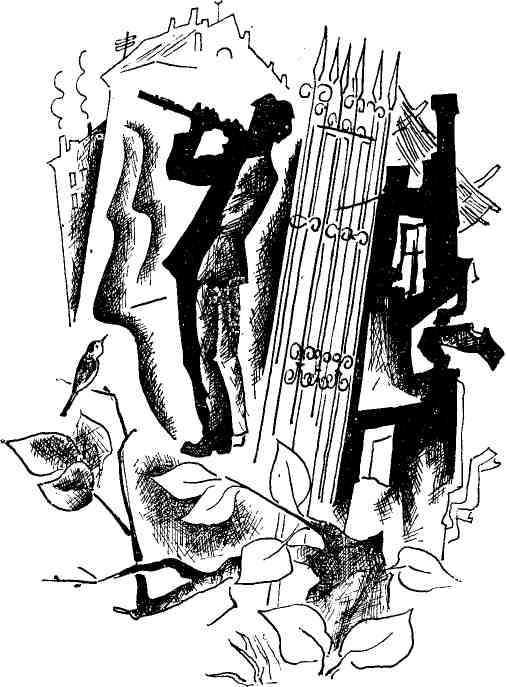И нет этому конца


ПОВЕСТИ

ТОЛЬКО ПЯТЬ ДНЕЙ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
1
— Товарищ лейтенант, вставайте! Вас срочно вызывает подполковник! Взвод прибыл!
От волнения я никак не мог навернуть портянки. Наконец-то прибыл! Три дня меня кормили завтраками, три дня я вместе с рядовыми санитарами таскал в госпитале носилки с ранеными и уже ничего хорошего не ждал для себя от полученного назначения. И вдруг — прибыл!
Мой взвод! Мой санитарный взвод! Мой первый взвод! Сколько в нем человек? И кто они такие? Опытные ли санитары, побывавшие в боях, или новички, которых надо учить? Но это частности. Главное — прибыл!
— Пошли! — сказал я прибежавшему за мной писарю, застегивая на ходу свой новенький офицерский ремень.
Подо мной так и замелькали ступеньки винтовой лестницы — она спускалась из бывшей кинобудки, где я спал.
Упитанный писарь, который старался не отставать от меня, едва не загремел вниз.
У крыльца стояла «санитарка». Из нее солдаты выгружали ящики и мешки с медикаментами.
— Лейтенант, помогите! — по привычке обратился ко мне начальник госпитальной аптеки старший лейтенант Лапин.
— Как-нибудь в другой раз! — ответил я, сбегая по ступенькам.
Старший лейтенант удивленно посмотрел мне вслед. В конце концов, я не имел к госпиталю никакого отношения. Просто начсанарм попросил меня, пока не подошел взвод, поработать там. Как я мог отказать ему?! К тому же я видел, как достается сестрам и санитарам: вот уже три дня непрерывно поступали раненые из-за Днепра…
А теперь я вступлю в командование собственным взводом. Мы будем выполнять специальное задание штаба армии. Оказывать медицинскую помощь непосредственно на месте — на переправе через Днепр. За нами закреплен участок, на котором реку форсирует гвардейский танковый корпус. Конечно, бои там идут жестокие. Но зато и с наградами не скупятся. Я бы многое сейчас дал, чтобы в следующий раз предстать перед Валюшкой уже бывалым фронтовиком, гвардейцем, с боевым орденом на груди. Для начала и «Звездочка» хороша. Ее ведь тоже даром не дают!
А для этого надо постараться. С первого же дня я поставлю дело так, что с нас будут брать пример. Прежде всего налажу четкую организацию медицинской помощи: быстрые перевязки, противошоковые мероприятия, срочную эвакуацию. Основное — строгое выполнение каждым своих обязанностей. Никакой разболтанности, никакого панибратства. Я буду требовательным, но справедливым командиром.
Однако, строя по дороге планы на будущее, я нет-нет да и ощущал беспокойство: знал, что на фронте не только часто награждают, но и часто убивают, часто ранят. Я отгонял эти непрошеные мысли и весь был в радостном ожидании встречи со своим взводом…
— Товарищ лейтенант, куда вы? — услыхал я позади голос писаря, который никак не поспевал за мной.
— Как куда? — я остановился и непонимающе уставился на посыльного.
— Так вы ж мимо прошли! — сказал он, показывая на хату, где размещался отдел кадров санитарной службы армии.
— Задумался, — смущенно признался я и повернул назад.
В глазах писаря промелькнула усмешечка. Может быть, решил, что я потерял голову от страха, отправляясь на переправу? Как бы не так! Лучше умереть комвзводом, чем прозябать писарем!
Меня ждали. Начальник отдела кадров подполковник Балакин, немногословный, с колючим взглядом, не отвечая на мое приветствие, спросил своего помощника старшего лейтенанта Климова:
— Предписание готово?
— Вот оно. — Старший лейтенант вышел из-за стола и заскрипел новыми хромовыми сапогами.
Подполковник взял предписание и, внимательно прочитав его, подписал. Потом кольнул меня взглядом, спросил:
— Ну что, будем воевать, лейтенант?
— Я — буду! — с вызовом ответил я, обиженный на то, что он не ответил на мое приветствие. Пусть знает, что я не мальчишка, а такой же офицер, как и он.
Лицо подполковника мгновенно покрылось багровыми пятнами.
— Посмотрим, посмотрим, — проговорил он в стол.
Старший лейтенант уставился на меня своими очень светлыми глазами и осуждающе покачал головой.
Я тоже покачал.
У Климова вытянулось лицо.
— Николай Иванович! — обратился к кому-то позади меня подполковник.
Я, удивленный, обернулся.
В темном углу хаты сидел не замеченный мною долговязый и лысоватый капитан в старой, выцветшей гимнастерке с нашивками за ранения.
— Вы сами представите лейтенанта взводу, или пусть Климов?
— Сам, — ответил тот, поднимаясь. — Пойдемте, лейтенант.
Когда мы вышли на улицу, он спросил меня:
— Сколько вам лет, лейтенант?
— Девятнадцать. А что?
— В девятнадцать уже пора научиться владеть своими чувствами.
Я промолчал. Поучать легко. А он сдержался бы сам, если бы его так унизили?
Капитан показал на полуобгоревшую хату сельсовета и сказал:
— Вон там, во дворе, разместился ваш взвод.
2
Я прошел в ворота и в растерянности остановился. Вместо веселых и ладных солдат, которых я ожидал увидеть, весь двор был заполнен какими-то людьми в гражданской одежде. Они сидели на бревнах, ящиках, подводах и, не обращая на нас внимания, занимались своими делами: ели, пели, разговаривали.
— Где взвод? — недоуменно спросил я капитана.
— А вот, — кивнул он головой.
— Эти? — скривился я.
— Да. Все они добровольцы. Сами изъявили желание помочь на переправе.
— Да они никакие не санитары!
— Ничего, научатся. Уже через день будут и жгуты накладывать и раны перевязывать… под вашим наблюдением, разумеется.
Я стоял в нерешительности. Может быть, повернуть назад? Попросить о другом назначении? Куда? Да в любую часть, лишь бы не стать из-за этих — даже не знаешь, как назвать их, — посмешищем для окружающих! Но я вспомнил о неприязни, которую наверняка теперь питал ко мне подполковник Балакин, о его словах, сказанных напоследок, — и остался…
— Пойдемте поищем старшину, который привел их, — сказал капитан.
Мы подошли к парню в изрядно потрескавшейся кожаной куртке, подпоясанной обыкновенной веревкой. Он сидел на корточках и играл с рыжим котенком. Быстро обласкал нас взглядом и, не прерывая игры, ответил:
— Та десь тутечки!
Прошли в глубь двора, осмотрелись: все гражданские, ни одного военного.
Затем спросили о старшине парня в городском полупальто — явно с чужого плеча. Он флегматично махнул рукой:
— А хто його знае!
Ничего определенного не могли сказать и трое пожилых усачей, стоя закусывавших у подводы. По их раскрасневшимся лицам было видно, что они только что пропустили. Некоторое время они не понимали, чего мы от них хотим. Наконец дошло! Перебивая друг друга, они принялись объяснять, куда ушел старшина. Но так как каждый говорил свое, между ними загорелся спор, который закончился яростной перебранкой…
— И по команде «смирно» не поставишь, не военнослужащие, — сокрушенно сказал я капитану.
— А зачем их ставить? — спросил тот.
— Как зачем? А как же наладить дисциплину?
— Попробуйте для начала установить с ними нормальные человеческие отношения. На другое у вас просто времени не хватит… Ну где же старшина?
И тут мы увидели его. Небольшого роста, с румянцем во всю щеку (не хватанул ли тоже?), густо перетянутый ремнями, он уверенно и твердо шагал в нашу сторону. Очевидно, ему все-таки сообщили о нашем прибытии.
Подойдя, с шиком взял под козырек, доложил:
— Товарищ помощник начальника санитарной службы армии! Санитарный взвод в количестве тринадцати человек занимается согласно внутреннего распорядка. Докладывает старшина Саенков!
— А горилку у вас пьют тоже согласно упомянутому внутреннему распорядку?
— Да разве за всеми уследишь, товарищ капитан? — Взгляд старшины открытый, нагловатый.
— Смотрите, старшина, за людей отвечать вам, а не Пушкину…
— Почему мне? Я не командир взвода… — И вдруг неожиданная догадка озарила его лицо: — А может, товарищ лейтенант?
— Старшина, постройте взвод!
— Есть! — Голос у Саенкова зычный, раскатистый, как и положено старшине. — Взвод! Слушай мою команду! В одну шеренгу становись!
Но никто из тринадцати не вскочил, не побежал что есть мочи в строй. Вставали медленно, не спеша отряхивая с одежды крошки. Шли неторопливо. Да и становились, как придется, не соблюдая ни ранжира, ни равнения. Перебрасывались репликами.
— Разговорчики в строю!.. Смирно!.. Отставить!.. Вы что, команду «смирно» не слышали?.. Смирно!
Переждав шумок, круто повернулся к моему спутнику.
— Товарищ капитан! Санитарный взвод по вашему приказанию построен!
— Здравствуйте, товарищи санитары!
Лишь двое ответили по-уставному: «Здравия желаем!» Остальные поздоровались как бог на душу положит.
Но капитан сделал вид, что ничего не заметил.
— Товарищи санитары! Прежде всего разрешите представить вам командира вашего взвода лейтенанта Задорина!
Раздались голоса: «Який молоденький!», «Мабуть, тилькы з училища»…
Я готов был провалиться сквозь землю.
— Да, он очень молод. Да, он недавно окончил училище. Да, он впервые на фронте…
Господи, когда все это кончится! Я жалобно посмотрел на капитана…
— Но у него немалые медицинские знания. Если я начну перечислять, что он умеет как медик, у меня не хватит пальцев на руках и ногах!
Капитан молодец! Он поднимал мой авторитет. Я с удовольствием и смущением слушал дифирамбы в свой адрес и, снисходительно отмечая про себя отдельные преувеличения, в то же время быстро поверил во все остальное.
— Он учился у крупных профессоров медицины… Посещал лучшие клиники… Окончил с отличием…
И вдруг я вздрогнул:
— Но главное — он ваш командир, и все его приказания вы должны выполнять беспрекословно!
По лицам санитаров видно, что в их отношении ко мне наступил перелом. Моих добровольцев прямо распирало от гордости, что в командиры они заполучили такую выдающуюся личность.
— Лейтенант!
— Слушаю вас, товарищ капитан!
— Переход до Днепра займет у вас двое суток. Но если вам удастся дойти за сутки или за сутки с небольшим, вы и ваш взвод спасете дополнительно жизнь не одному десятку людей. И постарайтесь в походе выбрать время, чтобы подучить товарищей. — И обращаясь ко всем: — Вопросы есть?
— Есть! — выкрикнул парень в кожаной куртке.
— Я вас слушаю.
— Як видносно амуниции?
— В отношении обмундирования дело обстоит так. До сих пор не подошел вещевой склад. Прибудет же он, как нам сообщили, не раньше чем через четыре дня. Ждать его мы не имеем ни времени, ни права. Обмундирование доставим вам на место. Ясно?
— Ясно! — воскликнул парень.
Капитан посмотрел на свои большие карманные часы и сказал:
— Сейчас десять тридцать. На сборы даю полчаса. Выступление взвода ровно в одиннадцать ноль-ноль.
3
Капитан Борисов проводил нас только до околицы. Дальше мы были предоставлены самим себе. Еще в селе я не видел ни одного человека, который бы не оглянулся, не посмотрел нам вслед. Действительно, трудно вообразить что-нибудь более странное и непонятное, чем мой санитарный взвод. Тринадцать гражданских в самой несуразной штатской одежде шагали к фронту в сопровождении лейтенанта и старшины, вооруженного автоматом. «Что за люди? — читали мы в каждом взгляде. — Схваченные ли полицаи, которых ведут на допрос? Или же бывшие партизаны, пожелавшие присоединиться к регулярным частям? А может быть, просто мобилизованные местные жители? Но тогда почему под конвоем?» Словом, взвод — загадка!
Правда, выступили мы из села как нормальное подразделение — строем по двое. Но вскоре взвод был оттеснен проходившими машинами на обочину и вытянулся цепочкой. Я с опаской оглядывался: кое-кто из моих санитаров уже смешался с чужими гражданскими, и различить издалека, где наши, а где не наши, было почти невозможно. Так и отстать недолго!
Я догнал старшину, который шел впереди.
— Саенков! Скомандуйте, чтоб подтянулись. А то тащатся как сонные мухи!
Старшина шагнул с дороги в поле и, сложив рупором ладони, громко и раскатисто крикнул:
— Взво-о-од! Не отставать!
Те санитары, что были на виду, поближе к нам, зашагали быстрее. Другие по-прежнему плелись где-то в хвосте.
Старшина повысил голос:
— Вы что, не слышали команду? Всем подтянуться!
От группы чужих гражданских оторвался и бросился догонять товарищей кто-то из отставших… Всего только один!.. И вдруг мне показалось, что людей во взводе стало меньше. Обеспокоенный этим, я решил пересчитать санитаров.
Один… Два… Три… Шесть… Семь… Восемь… Десять… А где остальные?.. Неужели потерялись? Я лихорадочно стал считать снова… Один!.. Два!.. Три!.. Шесть!.. Семь!.. Восемь!.. Десять!.. Двенадцать!.. Откуда еще двое взялись? По-видимому, я пропустил их. Но где же тринадцатый?
— Старшина, одного не хватает! — заявил я Саенкову.
— Кого?
— Я ведь еще многих не знаю. Просто я посчитал. Одного нет.
Старшина пробежал взглядом цепочку и сказал:
— Да нет, товарищ лейтенант, все на месте!
— Тринадцать?
— Сколько было, столько и есть!
Но все-таки я решил проверить. Снова прошел в голову цепочки и встал у обочины.
Мимо меня плелись санитары…
Первым, подавшись корпусом вперед, шагал мужчина лет тридцати — тридцати пяти. Обращало на себя внимание его лицо с крупными волевыми чертами. Фамилия у него была такая же значительная, как внешность, — Орел. Вначале я почему-то считал, что это его прозвище. Но оказалось: так значился он и в списке, который передал мне старшина…
В двух-трех шагах от него, не отставая, шел худенький паренек в старом, выношенном до дыр свитере, в солдатской пилотке без звездочки. Кто он и как его зовут — я еще не знал. Но лет ему было примерно сколько и мне, и я испытывал к нему расположение…
Следующим был болезненного вида человек с огромными малоподвижными глазами. Сперва я решил, что он плохо видит. Но вскоре я убедился, что зрение у него хорошее. При виде меня его толстые губы шевельнула едва приметная улыбка…
Дальше дружно отбивала шаг не протрезвевшая до конца неразлучная тройка. Держались они все время вместе и были, как видно, из одного села. Но лиц их я еще не запомнил: до того они похожи — усатые, краснощекие, коренастые. Впрочем, надо отдать им должное: вели себя сейчас эти трое тихо-мирно, ни с кем не задирались и на глазах трезвели…
За ними, лениво покачиваясь из стороны в сторону, двигался уже знакомый мне детина в расстегнутом полупальто. За его спиной на длинной суковатой палке болталась торба. Фамилия у него была обидная, но запоминающаяся — Дураченко…
Словно для контраста, за ним следовал подвижный и тщедушный человечек по фамилии Зубок. Его все вокруг интересовало. Даже вороны, разгуливавшие по жнивью…
Увидев меня, одновременно засеменили два толстяка в брезентовых плащах — братья Ляшенко. Мне показалось, что главное для них — не навлечь на себя гнев начальства, быть не хуже других…
Потом шел угрюмый, давно небритый человек в солдатской шинели с сильно обгоревшими полами. Странно, но я его видел в первый раз. Откуда он взялся? Надо будет спросить у старшины…
Предпоследним был пожилой крестьянин в войлочной шляпе, с медным чайником за спиной, а последним — тринадцатым — парень в кожаной куртке. Проходя мимо, он посмотрел на меня ласково и дружелюбно, как на того рыжего котенка, с которым недавно возился.
Да, старшина прав: сколько было, столько есть!
Но шагали они как на похоронах. При такой ходьбе ни за что не управиться за сутки!
Я побежал по дороге в голову взвода. Рядом проносились машины с понтонами, боеприпасами, продовольствием, горючим. Катили орудийные упряжки. Грохотом и лязгом наполняли окрестность проходившие танки и самоходки. Тянулась пехота…
И вдруг близкие голоса подхватили чью-то команду:
— Принять вправо!
Я отскочил на обочину и крикнул замешкавшимся санитарам:
— Принять вправо!
Оказалось, когда надо, голос у меня не хуже, чем у других командиров.
Боевая техника, до этого безраздельно господствовавшая на дороге, теперь жалась к правой стороне, пропуская санитарные машины.
«Санитарок» было три. На подножке передней стоял майор медицинской службы и рукой делал знак встречным машинам посторониться. За «санитарками» следовали два открытых грузовика. В них тоже были раненые.
— Неужто все оттуда? — испуганно удивился какой-то солдат.
— А откуда еще? — отозвались рядом.
Яростно крутили баранки шоферы, выводя машины на освободившуюся часть дороги.
— Эй, хлопцы, сколько до Днепра? — крикнул с танка автоматчик.
— Недалеченько! Километров шестьдесят! — весело ответил парень в кожанке…
4
За горизонтом громыхало. С каждым километром все больше ощущалось приближение Днепра. То ли это казалось, то ли было на самом деле, но ветерок приносил издалека запахи воды и дыма.
Мы сделали привал у околицы какого-то большого села. «Так будет лучше, — решил я. — А то разбредутся по хатам, потом бегай, собирай по одному».
— На все — пятнадцать минут! — предупредил я.
Санитары сразу же развязали свои вместительные торбы. Постелив на траве рушники и платки, выложили обильные домашние припасы: хлеб, шматки толстого сала, крутые яйца, соленые и свежие огурцы, яблоки, груши. Кто с кем шел, тот с тем и сел обедать.
Несмотря на мое предупреждение, большинство ели по-крестьянски неторопливо и аккуратно. Я уселся в сторонке, достал из вещмешка полбуханки черствого ржаного хлеба и маленький кусок шпика — нас так торопили, что мы со старшиной не успели получить по продаттестату. Отломил горбушку и начал рвать зубами жесткое и жилистое казенное сало. Проклятье, ни укусить, ни прожевать! Я махнул рукой и стал глотать его нежеванным.
Саенков же подсел к тройке односельчан и сейчас уплетал за обе щеки вареное мясо.
Вдруг он обернулся ко мне:
— Товарищ лейтенант, идите до нас!
— Зачем? — насторожился я.
— Покушаете с нами!
— Спасибо, я уже сыт, — ответил я, пряча остатки хлеба в вещмешок.
— Наше дело предложить — верно, папаши?
«Папаши» дружно закивали головами и загалдели:
— Хиба нам жалко? Мы люды просты…
— Простые, простые, — не то поддакнул, не то возразил старшина. — Ну, как говорится, — сказал он, поднимаясь, — спасибо этому дому, теперь пойдем к другому…
Проходя мимо меня, остановился.
— Зря отказались, товарищ лейтенант. Такого мяса я лет десять не рубал. Чего-то они в него кладут. Верно, травку какую? Может, подсказать им?
— Не надо! Я прошу вас! — взмолился я, глотая слюну.
— Ну как хочете, — ответил он и осмотрелся. — У кого бы молочком разжиться? А то сухая корка горло дерет, — добавил он, подмигнув.
Двинулся между сидевшими, поглядывая то в одну, то в другую сторону. Наконец увидел бутылку молока. Подсел к братьям Ляшенко. Нет, я его не осуждал. Характер такой. Легкий, решительный, даже дерзкий. Что захотел, то и сделал. Не то что я. Но у нас разная степень ответственности. Что можно ему — мне непозволительно.
Я встал. Хотя время, отпущенное на привал, уже вышло, никто и бровью не повел. Так же спокойно продолжали есть, пить, переговариваться. Нет, один все-таки вспомнил о моем предупреждении, стал собираться. Это человек в обгоревшей шинели. Как же его фамилия? Да еще деловитый и серьезный Орел…
— Товарищи, пора! — сказал я.
Меня слышали все, но я не видел, чтобы напоминание на кого-нибудь подействовало. Не спеша доедали, допивали, складывали продукты. Так можно и целый час провозиться!
— Товарищи, побыстрее! Ведь нам сегодня надо много пройти! — взывал я.
Наконец мне на помощь пришел старшина. Вытерев рукавом губы, скомандовал:
— В две шеренги становись!
На этот раз как ни тяжело им было подниматься и строиться после обильной еды, а пришлось…
— Смирно!
Хорошо и то, что перестали разговаривать в строю.
— Направо!
Кто направо, кто налево.
— Левое плечо вперед! Шагом марш!
Прежде чем выполнить команду, некоторые посмотрели на соседей. Лишь двое — человек в дырявой шинели да Орел — делали все правильно.
— Раз, два, три!.. Раз, два, три!
Так, строем взвод прошел всего метров сто — до дороги и немного по ней. Проходившими машинами его опять прижало к обочине, и снова каждый шагал сам по себе…
5
И в самом деле, почему нас отправили пешком, в то время как в направлении к Днепру шли сотни машин? Логически рассуждая, если мы там так нужны, то, казалось бы, надо было нас туда быстрее доставить? Между тем мы топали на своих двоих, глотали пыль и набивали мозоли на ногах. Хотя бы дали понять, что можем добираться по своему усмотрению — пешком или на попутных. Ан нет, сказано было ясно, недвусмысленно: «Переход до Днепра займет у вас двое суток». А на машинах и езды-то всего несколько часов!
Как ни странно, но первым этот вопрос задал мне огромный Дураченко. Очевидно, ему, как самому тяжелому на подъем, раньше всех пришла в голову мысль: а зачем идти пешком, когда можно ехать? И я не знал, что ответить.
Но вот на одном из привалов, когда все опять потянулись к своим уемистым торбам, меня неожиданно осенило: да нас погнали пешим ходом для того, чтобы я имел время позаниматься с людьми, научить их хотя бы самым простым вещам, которые необходимо знать санитару! На переправе будет не до этого, там надо спасать жизни! А мы… а мы… вместо того чтобы дорожить каждой минутой, только и делаем, что едим!
Все! Пора приниматься за дело!
Я попросил старшину объявить о моем решении.
— На заправку — пять минут! — зарокотал он. — Опосля товарищ лейтенант покажет вам, что должен делать санитар на поле боя. Предупреждение на будущее: такие занятия будут на всех привалах!
Я думал, что и в этот раз придется подгонять с едой. Но, к моему удивлению, уже через семь минут они были готовы к занятию. Сидели и смотрели на меня с откровенным ожиданием, словно детишки, соскучившиеся по школе после долгих летних каникул. Все лица серьезные и внимательные. Ни одного насмешливого или скучающего.
Начал я с задач взвода. Коротко обрисовал трудности, которые нас ждут на переправе, — о них мне досконально рассказал капитан Борисов.
Над головами неуверенно поднялась рука.
— Могу задать вопрос? — Глаза санитара по-прежнему смотрели на меня невидяще и отрешенно. — Мы несем ответственность за один левый берег или за правый тоже?
— За оба, — ответил я. — Так же, как за раненых на воде.
— А как быть с теми из нас, кто не умеет плавать?
— Велыке дило! Научатся! — подал реплику все тот же парень в кожаной куртке.
Тогда я попросил поднять руку умевших плавать. Таких оказалось большинство. Двое подняли после некоторых колебаний: мощный Дураченко, который вдруг покраснел как рак, и один из троих односельчан. Я заметил, что последний присоединился к остальным только после того, как на него удивленно поглядели приятели. Фамилия его Коваленков.
Эх, знали бы они, что я сам первый пойду топором ко дну. Живя в большом портовом городе, я, к стыду своему, так и не научился плавать. Это была моя самая большая тайна. Вернее, одна из двух моих великих тайн. Вторая — то, что я еще ни разу не целовался. Но об этом тоже никто не знал…
Я попросил подойти ко мне кого-нибудь из санитаров. Опять как школьники. Нет чтобы просто взять и выйти на середину, они лишь подзадоривали друг друга: «Давай, давай выходь! Ну, выходь! Коржи з маком дадуть!» — и не трогались с места.
Неожиданно поднялся мрачноватый человек в солдатской шинели с обгорелыми полами. Молча подошел ко мне.
Я достал из санитарной сумки перевязочный пакет, жгуты.
— Смотрите…
Я стал показывать, как накладывать повязку и жгут при ранениях в разные части тела. Человек в солдатской шинели послушно ложился на живот, на спину, на бок, снимал сапоги, засучивал рукава.
Но когда я что-то сделал не так, он подправил меня:
— Еще два-три поддерживающих витка…
Я удивился:
— А вы откуда знаете?
— Я был санинструктором.
— Санинструктором? Когда?
— До плена…
— Вот здорово! — обрадовался я. Теперь я не один медик во взводе! Теперь нас двое! Старшина не в счет. Он строевой командир. Его и оставили, чтобы следить за порядком и дисциплиной. Но в медицине он ни в зуб ногой. А тут настоящий санинструктор!
— Ваша фамилия?
— Сперанский.
— Ах да, она есть в списке! — вспомнил я и, краснея, сказал: — Я вас назначаю своим помощником по медицинской части.
Сперанский ничего не ответил. По его виду трудно было сказать, как он относится к повышению по службе. Никаких признаков радости или огорчения.
Зато другие…
На меня с нагловатой усмешкой поглядывал старшина. Он-то явно не одобрил.
Некоторые санитары доброжелательно подтрунивали: «Сперанский, с тебя приходится!», «Сперанский, смотри не загордись!», «Хто знав, що вин ликар!»
А он даже не улыбнулся.
Старшина угрюмо возвестил:
— Следующий привал — через два часа!..
6
Артиллерийская канонада на Днепре то сливалась в один сплошной гул, то дробилась на уже явственно различаемые голоса отдельных батарей и даже орудий…
Со мной поравнялся Панько — так звали парня в кожаной куртке.
— Товарищ лейтенант, дозвольте мени збигаты до своей хаты?
— Как сбегать до хаты? — удивился я.
— Бона тутечки, недалэко!
Я посмотрел туда, куда он показывал. На несколько километров тянулась низина, поросшая кустами и камышом. И совсем далеко виднелась рощица. Возможно, за ней и прятались какие-нибудь хатки.
Я колебался: отпусти одного, и другие начнут отпрашиваться. Так и от взвода ничего не останется. Да и где гарантия, что он вернется?
— Товарищ лейтенант!
Меня догнал Орел. Он приблизил ко мне свое красивое мужественное лицо и шепотом сказал:
— Его можно отпустить.
— Вы ручаетесь за него?
Он на мгновение замялся. Но ответил все равно уверенно:
— Как за себя.
— Хорошо, я отпущу его… Сколько вам нужно времени? — обратился я к Панько.
— Та зовсим трошкы! Пивгодынкы туды, пивгодынкы сюды. Та и з годынку вдома побуты! — Его глаза ласкали и привораживали.
— А как вы нас догоните?
— Та на попутных!
— Ну, идите… Только помните — чтоб через три часа вернуться!
— Не сумнивайтесь, товарищ лейтенант! Буду як из пушки! — пообещал он, сворачивая с обочины на узкую тропинку, уходившую вдаль…
— Отпустили? — неодобрительно спросил поравнявшийся со мной старшина.
— Да. А что?
Старшина покосился на Орла и поманил меня за собой. Вполголоса спросил:
— Удочку не закинули?
— Насчет чего?
— Чтобы и на вас харчи приволок?
— А это еще зачем?
— А затем, что пока вы по продаттестату получите — ноги протянете!
— За день перехода? — сыронизировал я.
— Цыган три дня лошадь не кормил, и она копыта откинула!
— Я не лошадь.
— Не лошадь, а что вечером есть будете?
Я промолчал, но невольно подумал: а в самом деле, что я буду есть вечером? И завтра, и послезавтра? Оставшиеся двести граммов хлеба, твердого, как камень?
А старшина продолжал:
— Я-то как-нибудь себя прокормлю. А вам ведь гордость не позволяет…
— При чем тут гордость? Просто неудобно.
— Неудобно, товарищ лейтенант, брюки через голову надевать, а так все удобно…
И надо же, что от этих разговоров об еде у меня вдруг сильно засосало под ложечкой. Я даже замедлил шаг.
Неужели он прав? И нужно жить проще, без всяких фокусов? Вот как он живет — легко и бесхитростно? Я встречал таких людей, они почти никогда не бывали в проигрыше. Может быть, так и надо жить?..
— С дороги! — ударил меня в спину чей-то выкрик. Я отскочил на обочину. Мимо нас пронеслась, хлестко обдавая воздухом, колонна стремительных «катюш».
Впереди я увидел свалившуюся набок крестьянскую телегу. Около коня, сердито покрикивая, бегал старик в рваном полушубке. Молоденькая девушка упиралась обеими руками в край подводы, тщетно пытаясь поставить ее на колеса. Вокруг валялись кочаны капусты.
— Поможем деду с внучкой? — предложил старшина. — Пошли!
Я, Орел и трое земляков двинулись за ним. Вшестером ухватились за нижнюю грядку возка.
— Ну, взяли! — скомандовал старшина.
Одно легкое усилие, и телега приняла горизонтальное положение.
— Ой, хлопчики, як вам виддячыты? — суетился старик.
— Оставь парочку кочанов, — сказал старшина.
Я отвернулся, сделал вид, что ничего не слышал. В конце концов, старик не знал, чем отблагодарить нас, и старшина подсказал.
Как и следовало ожидать, все решилось за моей спиной к общему удовольствию.
7
Мы остановились на ночлег в одной из трех уцелевших в этом селе хат. Хозяйка поставила перед нами чугунок рассыпчатой отварной картошки, огромную миску с помидорами и огурцами, нарезала гору хлеба, — и что же? Не успела она оглянуться, как мы лихо все умяли. Мы — это я, старшина, Сперанский и Орел, который когда-то учительствовал здесь и поэтому был желанным гостем. Так как хата была маленькая, а ночи стояли еще не холодные, остальные разместились в сарае на сене.
Пока хозяйка стелила нам, мы со старшиной вышли во двор.
— Кажный день бы так! А, товарищ лейтенант? — спросил Саенков, отдуваясь от обильного ужина.
— Да, неплохо бы…
— Вроде бы притихло, — сказал он, прислушиваясь к поредевшим звукам боя.
— Нельзя же и весь день, и всю ночь палить, — заметил я.
— На этой войне, товарищ лейтенант, и суток для пальбы мало, — серьезно и значительно произнес он. В его словах было что-то личное, глубоко пережитое. Я подумал, что почти ничего не знаю об этом человеке и сужу, наверно, о нем тоже поверхностно.
— Ну ладно, — сказал он. — Пойду посты проверю!
Посты? Ведь у нас один пост — у въезда в село. Да и тот мы поставили больше для Панько — чтобы предупредить, что взвод здесь. Какие еще посты рисовались богатому воображению старшины? Ах да, дежурный в сарае!
— Пойдемте вместе, — предложил я.
Село, в котором мы остановились, находилось в двадцати пяти километрах от Днепра. Это расстояние я вычислил среднеарифметически: все, кого мы спрашивали, отвечали по-разному. Таким образом, путь нам предстоял еще немалый. Конечно, мы бы успели больше, если бы не занятия, которые проводили уже четыре раза и намерены были продолжать дальше. Но все равно мы уложимся в срок, определенный командованием. А возможно, будем на переправе и раньше. То есть с учетом даже не приказа, а пожелания. Однако и это не предел. Я подумал, что если последние километры, когда нам будет не до занятий, мы проедем на попутных, то сэкономим еще какое-то время.
А машин к Днепру двигалось столько, что глаза разбегались. Вот и сейчас, несмотря на темноту, они шли непрерывным потоком, тускло подсвечивая дорогу закрашенными фарами.
В такой тьме мы не сразу нашли нашего дозорного. Он сидел на бревне поблизости от того места, где его оставили. Это был паренек в рваном свитере и солдатской пилотке без звездочки, которому я втайне симпатизировал. Звали его Витя Бут. За ужином мы узнали от Орла, что Панько и Бут когда-то учились у него русскому языку. Разумеется, Витя вместе со своим учителем более других был заинтересован в том, чтобы Панько возвратился из увольнения в срок. Поэтому и взялся подежурить.
— Ну как, нет еще? — спросил я.
— Ни… — В голосе Бута мне послышалась виноватая нотка. И беспокойство тоже.
— На сколько он уже опоздал? — обратился я к старшине.
— На полтора часа, — ответил тот, взглянув на светящийся циферблат своих трофейных ручных часов.
— Будем считать, что несколько нарядов вне очереди он уже заработал, — твердо сказал я. — И больше никогда не получит увольнительной.
— Лишь бы воротился. А там он у меня не заскучает, — посулил старшина.
Витя молчал. Но было видно, что он всей душой переживал за товарища.
— Сменить часика через два, или достоишь до утра? — спросил у него старшина.
Я удивился: ничего себе — достоять до утра, когда впереди еще вся ночь.
Но Витя опередил мое вмешательство:
— Достою!
Словно надеялся этим облегчить участь своего легкомысленного друга.
Мы повернули назад.
— Старшина! А что будем делать, если он не вернется? — решился спросить я.
— А ни хрена! Покуда они присягу не приняли, они народ вольный. Захочут — и домой уйдут…
— А я думал, что их уже зачислили, — сокрушенно заметил я. — Только вот обмундирования не успели выдать.
— Обмундирование, товарищ лейтенант, дело десятое. Главное — воинская присяга!
Поучительный тон, которым было сказано это, несколько задел мое самолюбие, и я сердито проговорил:
— Что главное, а что не главное, можете не сомневаться, старшина, мне тоже известно!
Саенков крякнул, но промолчал.
Хотя я и освоился в темноте, но, наверное, изрядно проплутал бы в поисках нашей хаты, если бы не мой помощник. Он уверенно вел меня какими-то садами и пепелищами, пока мы неожиданно не очутились перед сараем, из которого доносились приглушенные голоса санитаров.
Старшина приложил палец к губам и на цыпочках подошел к проему. Постоял немного, послушал. Шагнул вперед и резко рванул дверь.
— Кто дежурный?
Ответом было молчание.
— Я спрашиваю, кто дежурный?
— А мы уси дежурные! — весело ответил кто-то.
— Ах, уси? — подхватил старшина. — Тогда поговорим по-другому. Подымайсь!..
И тихо мне:
— Товарищ лейтенант, нате фонарик, посветите!
Луч света, который я направил в глубь сарая, выхватывал из темноты то одну, то другую выбиравшуюся из сена фигуру. Подымались нехотя, не скрывая вспыхнувшей неприязни к старшине. Слышались недовольные реплики:
— Чому пидиймайсь? Сказано: до ранку!
— Тилькы ляглы спаты, и вже пидиймайсь!
— Мы ще не солдаты!
— Хозяйка, видать, плохо покормила его, вот и злится!
Старшина рявкнул:
— Прекратить разговоры!.. В одну шеренгу становись!
Делать нечего, выстроились. Все мрачные, неулыбчивые.
— По порядку номеров рассчитайсь!
Под низкой крышей глухо катился отсчет:
— Первый!.. Второй!.. Третий!.. Четвертый!..
Налицо девять. Двое — Орел и Сперанский — в хате. Бут — на посту. Тринадцатый — пропавший Панько.
— Смирно!.. Товарищ лейтенант, разрешите мне сказать им пару теплых слов?
— Скажите…
ДЕНЬ ВТОРОЙ
1
Новый день начался с неприятностей. Прежде всего так и не явился Панько. Расстроенный вконец Орел шагал рядом со мной и заверял, что его бывший ученик должен непременно вернуться. Задержать паренька — он не сомневался — могли только какие-то очень серьезные обстоятельства. Во всяком случае, если отсутствие Панько затянется, он сам поедет за ним. («И вместо одного, — мрачно подумал я, — недосчитаемся двоих».)
Вторая неприятность — захворал санитар Зюбин — колхозник с медным чайником за спиной. У него ночью внезапно поднялась температура, и он, тяжело дыша, сейчас брел в хвосте цепочки. Посоветовавшись со старшиной, я решил отправить больного на попутной машине в госпиталь.
И, наконец, третья неприятность — с утра пораньше где-то опять дерябнула тройка земляков. Когда и где им удалось раздобыть самогонку, уму непостижимо. Но факт остается фактом. Они вышли из села в том прекрасном приподнятом настроении, которое обычно вызывает только что выпитое вино. Но с тех пор прошло около часа, и они уже сникли. И теперь шагали по обочине, покачиваясь и спотыкаясь.
Посулив каждому из них по три наряда вне очереди, я перестал обращать на них внимание…
Было удивительно прозрачное, чистое, солнечное утро. Невероятно высокое небо прямо на глазах наливалось нежнейшей голубизной, и одно за другим таяли в нем реденькие облачка. Ласково, едва касаясь лучами, грело притомившееся за лето осеннее солнце. И было это утро таким добрым, таким расположенным к людям, что просто не верилось, что в эти минуты совсем неподалеку отсюда кого-то убивают и ранят. Но это было так. Потому что не переставая ухали орудия, и с каждым выстрелом, с каждым разрывом, с каждым содроганием земли обрывались чьи-то жизни.
И тем не менее мы шли туда — навстречу неизвестности, навстречу своей судьбе.
Впрочем, я отгонял эти мысли и старался ни о чем таком не задумываться. Да и некогда было. Оказалось, что не так-то легко пристроить нашего больного на попутку. Одни водители гнали машины за боеприпасами и не хотели ни минуты задерживаться в дороге. Другие не доезжали до госпиталя или сворачивали в сторону. Третьи направлялись по каким-то сверхсекретным маршрутам и наотрез отказывались брать с собой гражданского.
Мы уже не знали, что и делать, прямо хоть оставляй его в ближайшем селе на попечение местных жителей. Но в этом случае он вряд ли вернется к нам. А это значит — взвод станет меньше еще на одного человека! Другое дело — госпиталь. Оттуда он уже никуда не денется, тем более что в сопроводительной записке будет сказано, кто он и откуда.
Но была еще одна причина, еще одно важное обстоятельство, почему я решил во что бы то ни стало отправить его в госпиталь. Я заметил, как приуныли, помрачнели санитары, наблюдая за моими тщетными попытками пристроить их больного товарища. Они видели, что никому нет до него дела. Нетрудно представить, сколь безрадостны их мысли о своем будущем. Да только ради того, чтобы они не считали себя хуже других, я должен отправить Зюбина в госпиталь на воинской машине.
И удалось! Причем даже лучше, чем мы ожидали. Хотя для меня вся эта история могла окончиться печально.
А было это так. Я бросился к порожнему «ЗИСу», идущему от фронта, и, пытаясь обежать его сзади, наскочил на канат, которым буксировалась изрешеченная осколками «эмка». К счастью, скорость была невелика, я упал, но успел ухватиться рукой за трос и протащился так по земле с десяток метров, оставаясь недосягаемым для колес легковушки.
Я видел, как следом бежали и кричали люди. Некоторые лица мне показались знакомыми. Но я все равно не узнавал своих санитаров — до того крик исказил черты.
Наконец машина остановилась. На мне не было живого места. Ладони ободраны в кровь, коленки разбиты, мои новенькие галифе зияли прорехами. И это не считая отодранной подметки и отлетевших на самом неподходящем месте пуговиц.
Вышел бледный как смерть шофер. Увидев, что я жив, он страшно обрадовался и тотчас же согласился подкинуть нашего больного до госпиталя.
Испытывая огромное облегчение, мы двинулись дальше. Я даже позабыл о своих ушибах и прорехах.
Но вскоре напомнила о себе оторванная подметка. При каждом шаге я загребал ею все, что встречалось на пути. И аппетит ее неуклонно возрастал. Назревала катастрофа.
И вот тут-то подоспела неожиданная помощь.
Я давно заметил, что несколько поодаль от обочины шагал и все время наводил на меня свои большие малоподвижные глаза санитар, не умевший плавать. У него определенно что-то было ко мне, но он почему-то не решался подойти.
Вдруг я обратил внимание, что расстояние между нами медленно, но неуклонно уменьшалось. И когда оно сократилось до одного метра, я наконец услышал:
— Товарищ лейтенант, разрешите ваш сапог… Приколочу…
— А у вас что, гвозди есть? — удивленно спросил я.
— У меня с собой весь инструмент. Я ведь сапожник.
Всего пять минут потребовалось Козулину (так звали санитара), чтобы починить сапог. С прибитой намертво подметкой я снова человек.
2
Чем ближе был Днепр, тем меньше оставалось на дороге машин и людей. Танки, самоходки, орудия, цистерны с горючим, грузовики с понтонами, боеприпасами, продовольствием сворачивали вправо и влево от главного шляха и по недавно проложенным колеям углублялись в прибрежные леса. По-видимому, там сосредоточивались войска, переправлявшиеся на тот берег.
Кроме нас появились еще небольшие пешие команды из местного населения. Среди них наше внимание привлекла группа — человек двадцать гражданских с топорами, пилами и другим плотницким инструментом. В одном из плотников Дураченко признал своего троюродного брата. Тот помялся, но все-таки сообщил, что их бросают на заготовку строительного леса для переправы. И добавил: «Давай до нас! Нам люды потрибни!» — «Ни, — ответил Дураченко. — Я санитар!» — «Ты санитар?» — усомнился тот. «А що? — обиделся великан. — Мы ж санминимум проходымо!»
Я был доволен. Если уж Дураченко, которого я считал увальнем, по-серьезному относился к своим будущим обязанностям, то о других и говорить нечего. Интерес к медицине у моих санитаров возрастал с каждым занятием.
Но теперь уж до самого Днепра занятий не будет. Семь километров, которые отделяли нас от него, даже если не спешить, займут не больше двух часов ходу.
Сплошной стеной надвигалась на нас нескончаемая артиллерийская дуэль, в которой участвовали десятки, а может быть, сотни — иди разбери, сколько их там, — орудий.
Постепенно в этом грохоте я стал различать какую-то систему и порядок. Одни пушки били где-то совсем близко. До меня не сразу дошло, что это наши батареи, обстреливавшие с левого берега немецкие позиции по ту сторону реки. Другие орудия гремели уже подальше. Это вели огонь, видимо, пушки на правом берегу.
Время от времени мое внимание привлекал какой-то странный — протяжный и нутряной — визг.
— Что это? — спросил я старшину. — Тезка мой!
— Какой тезка? — не понял я.
— А «ванюша»! Немецкий шестиствольный миномет, — коротко объяснил он.
Я давно понял, что на войне он как рыба в воде. Прошел все: и отступление, и наступление, и госпитали. В санитарный взвод попал после ранения: собрался, по его словам, «чуток передохнуть»…
Что ж, может быть, и в самом деле по сравнению с передовой пребывание на переправе будет отдыхом? Ему лучше знать.
— Товарищу лейтенанте!
Это окликнул меня один из троицы, отличившейся по части выпивона. Если бывший учитель после истории с Панько незаметно стушевался и шагал в хвосте взвода, то эти трое, наоборот, старались держаться в авангарде. То ли хотели показать мне, что уже протрезвели, то ли Днепр притягивал. Только сейчас я
запомнил их фамилии — Задонский, Коваленков и Чепаль. Почти Чапай. Постепенно я обнаружил, что они не так уж и похожи. И усы, и овал лица, и глаза — все у них разное. Даже ростом, что меня больше всего удивило, они не одинаковы. Задонский чуть ли не на полголовы выше. Он-то и окликнул меня.
— Чего вам? — грубовато спросил я, помня об их утренней провинности.
— Тут блызесенько баштан е…
— Какой еще баштан?
— Ну бахча з кавунами! Така овоч чи фрукт!
— Да я знаю, что такое кавун!
— Ну ясно — знаете, — поддакнул он и осторожно предложил: — Може, мы з хлопцами сходимо, наберемо?
— Чтоб потом меня под суд отдали?
— Та не виддадуть! Це колышний колгоспный баштан!
— Колхозный? Еще чище!
— Эх, товарищу лейтенанте! Таки кавуны пропадають!..
Хорошо, что старшина не слышал этого разговора, а то бы он тут же принял сторону земляков — любая пища для него дар божий, от которого грех отказываться…
Неожиданно забили зенитки. Их частые и отрывистые удары оттеснили все остальные звуки боя.
Небо впереди покрылось белыми хлопьями разрывов.
Вздрогнула под ногами земля.
— Что-то бомбят, — сказал я. — Интересно, что?
— Как что? — покосился на меня подошедший старшина. — Переправу!
3
Сперва в прозрачно-золотистом от солнца воздухе мы увидели тот берег. Широко раскинув крылья своих холмов, он круто возвышался над окружающей местностью. Его террасы и овраги были окутаны синеватой дымкой.
— От и Днипро! — воскликнул кто-то из санитаров.
Впереди сверкнула тоненькая ленточка.
Шлях, которым мы шли, внезапно исчез, и теперь перед нами было несколько дорог.
— Эй, кореш! — крикнул Саенков солдату, перематывавшему в сторонке портянки. — Где переправа?
— А на Днепре! — ответил тот.
— Это мы и без тебя знаем, что на Днепре, — заметил старшина. — А по какой из этих дорог топать?
— А по какой хошь!
— Слушай, у тебя что, язык отвалится, ежели точнее скажешь?
— Ну чего привязался? — Солдат в сердцах скомкал и швырнул на землю непослушную портянку. — Видишь, делом занимаюсь?
— Тоже мне дело — портянки перематывать, — презрительно сказал старшина. — Пойдемте, товарищ лейтенант!
Мы выбрали самую широкую колею.
— Берите левее! — крикнул нам вслед солдат.
— Давай, давай, не отвлекайся! — насмешливо бросил в его сторону Саенков.
Дорога вывела нас к просторной песчаной промоине, густо поросшей все еще зеленым ракитником. Мы обошли ее краем и очутились на поляне, основательно перепаханной гусеницами танков. Дальше наш путь лежал между крохотным озерком с темно-бурой водой, из которой кое-где торчали жалкие поблеклые камышинки, и леском с притаившимися в нем «тридцатьчетверками».
На опушке стояли и разговаривали несколько офицеров. Один из них увидел нас и что-то сказал остальным. На всякий случай я козырнул, хотя расстояние между нами было весьма значительное и никаких претензий ко мне не могло быть.
— Товарищ командир! — услышал я, уже пройдя вперед.
Да, это меня. Наверно, их так же, как других, при виде моего штатского войска разбирало любопытство. Я подошел.
— Слушаю вас, товарищ подполковник! — обратился я к старшему по званию.
Тот кивнул на офицера с тонкими черными усиками:
— Вас просил подойти капитан.
Я шагнул навстречу пронизывающему взгляду, от которого мне стало не по себе.
— Лейтенант, что это за люди с вами?
Я сбивчиво ответил.
— А документы у них есть? — Голос капитана звучал жестко и вкрадчиво.
— Я не знаю, — растерянно признался я. — У нас есть список. Нам сказали, что этого достаточно.
— Покажите ваши документы…
Я вынул из кармана предписание, подал ему. Он внимательно прочел, потом взглянул на обратную сторону — нет ли там чего? Вернул предписание со словами, обращенными к подполковнику:
— Конечно, командующему виднее. Но я бы не рискнул брать в армию людей, бывших в оккупации, без предварительной проверки…
— Ну и хорошо.
— Что хорошо, товарищ подполковник?
— Что вы не командующий. Я полагаю, что нет лучшей проверки для солдата, чем проверка боем!
Здорово отбрил! Я был целиком на стороне незнакомого подполковника, хотя и сознавал, что капитан, возможно, в чем-то тоже прав. Даже среди моих санитаров мог кто угодно затесаться. В душу ведь каждому не заглянешь. Но подполковник как-то больше располагал к себе. Да и мысль, которую он высказал, была мне более по сердцу…
— Разрешите идти? — козырнул я в промежуток между обоими офицерами, ибо подполковнику по-прежнему было не до меня, а с капитаном я не хотел встречаться взглядом.
— Идите! — ответил капитан.
Я круто повернулся, но не сделал и трех шагов, как меня заставили обернуться слова:
— Но помните, что это за люди.
Я сделал руками: «Ну разумеется!» — и быстрей отвернулся…
4
Теперь мы шагали по заливному лугу с изрядно примятой колесами, гусеницами и сапогами травой. Местами встречались участки, случайно или чудом не тронутые боевой техникой. Но то, что пощадили машины, не пожалела осень. Уже потускнели, а кое-где и побурели травы.
С каждым шагом все больше и больше раздвигались берега, шире становилась серебристо-серая полоса воды, сильнее дрожал от канонады воздух.
Медленно и грозно поднимались кручи на той стороне. Мрачно темнели глубокие и извилистые овраги. И даже ярко-желтые, дымчато-синие пятна от осенней листвы, очень красивые издалека, не радовали глаз. Но особенно щемили душу своей незащищенностью крохотные хатки, белевшие на холмах.
А повсюду странная, несмотря на непрерывную пальбу, неподвижность. Словно все, что там происходило, совершалось без участия людей…
Когда до Днепра осталось метров семьсот, не больше, мы услышали чей-то отчаянный выкрик:
— Ложись!
Я обернулся и увидел, как бросились на землю Орел и Сперанский. Остальные продолжали стоять и старались понять, почему нужно ложиться. Я растерянно смотрел на них и тоже ничего не предпринимал. И в самом деле, зачем ложиться? Дошло это до нас лишь после того, как метрах в тридцати от дороги шмякнулась и разорвалась мина и где-то близко просвистели осколки. Только тогда мы в одно мгновение растянулись кто где стоял. Хотя от возгласа Сперанского, который первым услышал свист приближавшейся мины, до ее разрыва прошло всего каких-нибудь две-три секунды, мне показалось, что время в этот момент остановилось.
Вторая мина угодила в большую воронку, и ее осколки ушли в землю…
Пока мне здорово везло. Однако мое везение могло окончиться с третьей миной. Я лежал и молился про себя, чтобы ее не было. Или, по крайней мере, чтобы она так же, как первые две, упала для меня удачно. Или, на худой конец, только ранила бы. Конечно, я помнил и о своих санитарах, которые тоже подвергались смертельной опасности. Но когда четверть минуты назад просвистела вторая мина, все внутри у меня сжалось от страха и я уже ни о чем другом не мог думать.
А сейчас я изо всех сил вжимался в землю, ожидая третьей мины. Но ее почему-то не было. Прошло добрых две минуты, прежде чем я поднял голову.
Одно из двух — или немцы не спешили, или решили ограничиться двумя минами…
Надо вставать.
Поднимались медленно, с опаской поглядывая на тот берег.
— Все целы? — справился я у санитаров.
— Кажется, все, — ответил Козулин.
И действительно, никто не остался лежать, никто не стонал, не жаловался.
— А старшина где? — спохватился я.
Маленький и верткий Зубок, который замечал все, сообщил, что старшина еще до обстрела пропустил взвод вперед, а сам спустился в ближайшую воронку.
Что же делать? Идти дальше или подождать его? Конечно, он нас разыщет, но с ним как-то спокойнее и надежнее.
Пока я решал, что лучше, на дороге показался старшина. Он шел, на ходу застегивая брюки. Увидев, что мы ждем его, прибавил шагу.
Еще издали я обратил внимание, что лицо у него как будто осунулось, побледнело. Неужели заболел? Лишь бы не дизентерия! А то придется отправить в госпиталь и я останусь один.
Он подошел.
— Понос? — упавшим голосом спросил я.
— Чистый пулемет! На три метра против ветра! — бодро ответил старшина.
— Неужели что-нибудь инфекционное? — Я уже не скрывал своего беспокойства.
— Та ни! — успокоил меня вездесущий Зубок. — Вин молоком огиркы запывав!
У меня сразу отлегло на душе.
— Чего это с вами? — осведомился старшина, заметив общее возбуждение.
Я сказал о минометном обстреле. Он тут же приказал рассредоточиться, двигаться к реке порознь, соблюдая дистанцию в несколько шагов.
— У фрицев здесь, видать, кажный метр пристрелян, — заключил он.
Впереди спокойно и неторопливо нес свои тяжелые зеленовато-серые воды Днепр — широкий и раздольный. И трепетно дрожала перекинутая с одного берега на другой золотистая солнечная дорожка — единственный мост, который невозможно разбомбить.
Покачивался на далекой волне паром с двумя автомашинами. А в стороне мелькали лодки с людьми…
Я прибавил шагу. Вскоре меня догнал Задонский и опередил Зубок…
Вид реки, казалось бы исподволь готовившейся к встрече с нами и неожиданно представшей во всей своей величавой и страшной значительности, необычным образом подействовал на нас. Несмотря на возможность нового обстрела, мы как шальные устремились к воде. Позади остались покореженная автомашина, разбитое орудие…
Наши ноги чуть ли не по щиколотку уходили в глубокий сыпучий песок, но мы продолжали бежать, опьяненные близостью великой реки, отчаянные и ликующие…
Вот он — Днепр!
Я ступил в воду, и легкая прозрачная волна как ни в чем не бывало приласкалась к моим сапогам…
Первым опомнился старшина.
— А ну, живо в укрытие! Не то как жахнет сейчас! Я кому говорю?! — закричал он на санитаров.
Когда мы взбегали по косогору, то увидели две фигуры, направлявшиеся к нам по самому гребню. Передняя помахала рукой.
Кто это? Неужели кто-то из моих однокурсников — выпускников военно-медицинского училища? Всего месяц назад судьба разбросала нас по всему фронту — от Белого до Черного моря.
Только подумать — встретиться у днепровской переправы!
Но если это не однокашник, то кто же?
Ах вот кто! Легкое разочарование мгновенно сменилось радостью. Это был не кто иной, как капитан Борисов. Добрый, умный, расположенный ко мне человек. Прямо здорово, что он уже здесь: с ним мы не пропадем!
— Це ж Панько! — воскликнул кто-то из моих подчиненных.
И впрямь вторым был Панько — наш пропавший санитар. Он шел позади капитана и ухмылялся. Значит, не обманул, не дезертировал. По-видимому, разминулся с нами и проскочил вперед.
— Товарищ лейтенант! Я ж говорил, что он никуда не денется! Я его еще голопузым знал! — торжествовал Орел.
Я двинулся навстречу капитану. Доложил о прибытии. Он крепко пожал мне руку.
— Молодцы! На полсуток раньше прибыли!
— Мы старались, — не чувствуя под собой ног от похвалы, сказал я.
— Я доложу о вас начсанарму, — пообещал капитан. — А теперь пойдемте, я покажу вам ваши места, познакомлю с обстановкой.
— Товарищ капитан, вы надолго к нам?
— Часок-другой побуду. У меня ведь, кроме вашей, еще есть переправы… Да, чуть не забыл. Вам привет.
И он с интересом и любопытством посмотрел на меня. Сердце мое тут же заколотилось.
— Привет? От кого? — спросил я сдавленным голосом.
— От Вали Сухаревой, — ответил он. — Ну, вы ее должны знать. Она медсестра в приемном отделении. Такая красивая и медлительная.
— А… вспомнил! — неумело сыграл я.
— Ну вот, от нее вам и привет.
— Спасибо…
Хорошая моя, когда мы еще с тобой встретимся?
5
Мы все набились в маленькой землянке, которую недавно покинули артиллеристы — переправились на ту сторону. Капитан Борисов решил лично расставить санитарные посты. Особенно его беспокоил правый берег, где скопилось много раненых. Туда, как стемнеет, он собрался переправить только что сформированное отделение Сперанского. Второе отделение, командиром которого стал Орел, капитан оставлял здесь, на этом берегу.
Хотя с момента раздела взвода прошло всего каких-нибудь полчаса, отделения держались уже обособленно. Так и сидели группками возле своих новых командиров, заново приглядываясь, примеряясь друг к другу.
Табачный дым клубами поднимался к потолку.
Капитан, который сам разрешил курить в землянке, теперь то и дело заходился в кашле. Наконец он не выдержал:
— Пойдемте, лейтенант, на свежий воздух.
Мы вышли наружу.
Солнце почти все ушло за высокие кручи правого берега, и над водой медленно и привычно нарождались сумерки.
Несколько стихла и стрельба. Уже не было той исступленности, той ярости, с которой еще десять минут назад противники кромсали друг друга металлом. Неужели определился победитель? Хорошо, если наши. А вдруг немцы? Поклялись же они своему фюреру сбросить русских в Днепр в ближайшие двое суток. А воевать они умели…
Я поделился своими опасениями с капитаном.
Он прислушался к поредевшим звукам боя и ответил:
— Не думаю.
Помолчав, добавил:
— Ничего, скоро начнется строительство моста.
— Здесь?
— Нет, у ваших соседей.
— Товарищ капитан, а сколько нужно времени, чтобы построить мост?
— Вот этого я вам не скажу. Я ведь по специальности не строитель, а рентгенолог.
Рентгенолог? А я почему-то думал: хирург. Хотя хирурга вряд ли кинули бы на что-нибудь другое — их руки на вес золота…
— А будет мост — будет и перевес в силах, — подытожил наш разговор капитан. — Пойдемте, лейтенант, договоримся насчет мест на пароме…
Мы сошли к воде. К берегу приближались, держась на большом расстоянии друг от друга, три парома, буксируемые маленькими катерами.
Высокий широкоплечий майор в кожаной тужурке шагал по берегу и отдавал распоряжения.
Мы догнали его.
— Сколько вас? — спросил он, выслушав нашу просьбу.
— Восемь человек, — ответил капитан.
— Можете выбирать: или по трое на паром, или все вместе под утро с пехотинцами.
— Разрешите остановиться на первом варианте?
— Как вам угодно, капитан.
— Лейтенант! — повернулся ко мне Борисов. — Давайте быстро за людьми!
Проваливаясь тяжелыми сапогами в глубоком песке, я побежал вверх по пологому склону. Напоследок оглянулся и увидел, что вслед за первым паромом ткнулись в свои причалы и остальные.
А навстречу мне двигался грохот танков…
Я припустил изо всех сил.
Взлетел на пригорок. Прямо по лугу медленно ползли, прогрызая сумерки, три боевые машины…
Я вбежал в землянку.
— Первое отделение, выходи строиться!
Но повскакали с мест санитары обоих отделений. Из-за тесноты все мешали друг другу.
— Сперанский, поторопите людей!
Бывший санинструктор, медленно и неохотно входивший в роль командира, обратился к своим санитарам:
— Товарищи, быстрее…
Просительные нотки, которые прозвучали в его голосе, возмутили старшину:
— Эх, Сперанский, Сперанский! Хороший солдат, а голос как у бабы!
И сам скомандовал:
— Выходи строиться!
Вышли оба отделения. Закинув за спину заметно похудевшие торбы, выстроились санитары Сперанского. Рядом с отделенным встал маленький Зубок. Дальше следовали двое земляков, которым я так и не успел воткнуть наряды вне очереди, — Коваленков и Чепаль. (Чтобы покончить с выпивками, третьего земляка — Задонского — мы изъяли из этой компании и передали под начало Орлу.) Затем стояли толстяки братья Ляшенко — Теофан и Савва. До войны старший был заготовителем, младший — колхозным счетоводом.
— Смирно! — опередил я старшину, уже приготовившегося скомандовать. — Направо! Правое плечо вперед, шагом марш!
В сгустившихся сумерках отделение Сперанского двинулось к паромам…
6
— Приготовиться!
Я ухватился за край танкового бака.
— Малый вперед!
Катер натянул трос, и наш паром мягко отошел от берега.
Вскоре отвалили и два других понтона. Темными громадами застыли на палубах «тридцатьчетверки». В неровных очертаниях угадывались силуэты сидевших на броне мотострелков и танкистов — в боевых машинах остались одни механики-водители.
Разместились мы так: на первом транспорте — капитан Борисов, я и Сперанский, на втором — братья Ляшенко, на третьем — Чепаль, Коваленков и Зубок. Едва отчалили, тут же поняли свою ошибку. Наша тройка не должна была, не имела права сесть вместе. При обстреле мы не только лишены возможности оказывать помощь бойцам на других паромах, но и подвергали себя — единственных медиков — одновременному риску.
Капитан сокрушался вслух:
— Как же мы могли так, а? Ну вы на меня понадеялись. А я о чем думал, старый дурак?
Мы тоже хороши. И я, и бывалый солдат Сперанский. Так что зря капитан всю вину брал на себя. К тому же я на его месте не стал бы в присутствии подчиненных обзывать себя дураком. Что они подумают о нем и обо всех нас? Еще поверят!
Я стоял, крепко держась за какой-то выступ.
Рядом чернела многометровая водяная толща, равнодушно подстерегавшая новые человеческие жертвы. Сколько их уже там — героев первого броска? Десятки, сотни? Переворачиваемых и несомых подводными течениями, прибиваемых волнами к берегам и отмелям, пугающих своим страшным видом босоногих ребятишек?
А ведь тех, кто умел плавать, было неизмеримо больше, чем не умевших. Но они все равно шли ко дну — убитые, раненые, обессиленные. А что говорить о таких, как я? Очутись я сейчас за бортом, потребуется всего несколько минут, чтобы все было кончено. Мне незачем напрягать воображение, чтобы представить, как тонут люди. Первый раз я испытал это, когда мне было шесть лет. Однажды ребята с нашего двора отправились купаться в затон, и я увязался с ними. Подражая старшим, я лег на спину и преспокойно пошел ко дну. Перед моими открытыми глазами дрожали водоросли, носились мальки, обламывались один за другим солнечные лучи. Я не ощущал ни страха, ни удушья. Мне было даже хорошо. Я не понимал, что тону. И совсем не заметил, как потерял сознание. Очнулся я уже на берегу. Меня вытащили и откачали приятели. Непостижимо, как они обнаружили, что меня нет. Ведь я не кричал, не барахтался. Только тихо-мирно тонул. Это было идиллическое воспоминание, но с каждым годом оно все больше наполнялось жутью.
Во второй раз я чуть не утонул, уже будучи семиклассником. Перевернулась лодка, в которой мы катались с ребятами. Трижды мне удалось подняться на поверхность за единственным глотком воздуха. Но вода снова наваливалась на меня, и я, всем своим существом сознавая безысходность и тщетность любых усилий, лишь извивался от боли и терял последние силы. А в это время моя судьба в лице черного от загара военного моряка сбрасывала с себя бушлат и брюки…
Два раза мне необычайно повезло. Но где гарантия, что везение будет продолжаться? Кто я такой, чтобы случай всегда был щедр и расположен ко мне? Чем я лучше других?
— Вот паразит! — ругнулись на танке.
С правого берега устремилась в небо белая ракета. Она шла под углом к реке и вспыхнула неподалеку от нас, осветив ненадолго и широкий плес, и паромы с «тридцатьчетверками», и оба берега. Не успела она погаснуть, как темноту прорезала еще одна, и еще…
Поблескивала обнаженная лысина капитана. Он стоял с фуражкой в руке и следил за направлением ракет.
— Сейчас врежет! — произнес Сперанский.
Я до боли ощутил спиной закраину стального танкового борта.
Вдалеке грохнуло орудие, и тотчас же мы услыхали тягучее сопение снаряда, а затем гулкий и раскатистый разрыв где-то позади нас. Упруго рассекая воздух, пролетел и шлепнулся в воду осколок.
Я рванулся вперед и наступил капитану на ногу.
Он отвел меня своей сильной и костлявой рукой в сторону и сказал:
— Не носитесь! Встаньте здесь и стойте.
Он прав. От снаряда, если он угодит в паром, все равно не скроешься…
— Еще метров триста, и будем в безопасности, — сказал мне Сперанский.
— А вы откуда знаете? — удивился я.
— «Мертвое пространство»…
По краю неба прокатились красноватые всплески орудийных выстрелов.
Я втянул голову в плечи и закрыл глаза. Прямо в нас, распарывая темноту, шел снаряд. Все! Но он не только не задел наш паром, но и пролетел над двумя остальными и разорвался у самого левого берега.
С каждым снарядом я замирал, мысленно прощаясь с жизнью. А разрывы все ближе и ближе подбирались к нам. То там, то здесь с гулким уханьем оседали поднятые на большую высоту водяные столбы…
— Братцы, в третий попало! — воскликнули где-то рядом.
В третий? Это там, где двое земляков и этот… как его… ну, вертлявый?.. Постой, как же его фамилия? Ведь еще недавно я повторял ее про себя… Что-то во рту… Ах да, Зубок!.. Но пока припоминал его фамилию, позабыл две другие…
— Кричат что-то!
— Да помолчите!
Если там раненые, то никакой помощи они от моих санитаров не получат. Вот когда бы любой из нас пригодился. Даже санинструктор Сперанский. Что ж, это будет нам суровым уроком на будущее!
— До берега дотянет! — сказали на танке.
Артиллерийский налет кончился, как и предвидел Сперанский, как только мы вошли в «мертвое пространство»…
Мимо нас прошел понтонер с багром.
— Что, браток, подходим? — окликнул его кто-то из танкистов.
— Не видно, что ли? — сердито отозвался тот.
— Откуда нам видать? Темно ведь.
— У него куриная слепота! — подковырнул соседа один из мотострелков.
— У меня куриная, а у тебя — петушиная…
— Такой не бывает…
Я с удовольствием вслушивался в немудреную и живую солдатскую пикировку. В ней не было ни злости, ни желания побольнее поддеть. Двигал ею один голый интерес, кто кого переговорит. Это своего рода разрядка после нервного напряжения.
— А кто вчерась к старухе подкатился, думал, что молодая?
— А может, мне старые больше нравятся?
— То-то облизывался, когда она тебе на голову горшок надела!
— Так горшок-то не пустой был — со сметаной!
— Горшок-то полон был, да голова пустой оказалась!
— А это еще доказать надо.
— А чего доказывать? Все слышали, как от нее со звоном осколки отскакивали!
Общий смех и одобрительные возгласы закрепили победу мотострелка…
— Приготовиться к разгрузке! — неожиданно раздалась команда.
Мы и не заметили, как совсем близко подошли к правому берегу, нависшему над нами огромной черной глыбой.
— Берите правее! — долетело с берега.
Пока паром причаливал, мы пытались разглядеть наших санитаров на третьем транспорте, который тяжело тащился позади. Но там все сливалось в одно большое темное пятно.
Наш паром ткнулся в берег, и мотострелки первыми попрыгали на землю…
7
Танк взревел и уже готов был съехать с поврежденного парома, как перед его гусеницами пробежал и спрыгнул на берег Зубок. Он так торопился к нам, что споткнулся о камень и пропахал носом землю. Вслед ему понеслась отборная ругань понтонеров и танкистов — еще мгновение, и его бы закрутили гусеницы.
— Ну зачем так — перед танком? — упрекнул санитара капитан.
— Та вин долго колупався, а в нас двое пораненных, — объяснил Зубок.
— Тяжело ранены? — Капитан шагнул вперед и стал высматривать на пароме раненых.
— Та ни! Одного в ливу ногу, а в другого ось тутечки малэсенька дирочка, — санитар ткнул пальцем себе в живот.
— Ранение в живот? — встревожились мы с капитаном.
Следующий наш вопрос:
— Вы перевязали раненых?
— А як же, товарищ капитан! И тому, и другому зробылы повязку. Тилькы воны щось не держатся.
Капитан устремился к парому. Я последовал за ним.
Хорошее начало, ничего не скажешь. Но отчасти я доволен: пусть капитан, а с ним и в штабе санарма знают, что за санитаров они мне подсунули. Напомнить бы ему его же слова: «Уже через день будут и жгуты накладывать, и раны перевязывать…»
Мы взбежали на причал и остановились, ослепленные ярким светом. До меня не сразу дошло, что это неожиданно выглянула из-за поредевших облаков луна. И только потом я увидел раненых.
Мы поспешили к ним. Один из них лежал, скорчившись, на чужой шинели и мелко-мелко дрожал: слышно было, как у него стучали зубы. Другой сидел прямо на палубе. Время от времени он перемещал раненую ногу руками в более удобное положение. Рядом с ним стояли в совершенно растерянных позах земляки. Тут я вспомнил их фамилии — Коваленков и Чепаль. Почти Чапай!
— Как чувствуешь себя, браток? — капитан наклонился над лежавшим мотострелком.
— Худо мне, — не переставая дрожать, ответил тот.
— Дай-ка я посмотрю, что у тебя там, — ласково сказал капитан. — И резким тоном мне: — Помогите!
Я отстранил рукой Чепаля и Коваленкова, которые также бросились помогать, и осторожно расстегнул шинель, приподнял гимнастерку и нижнюю рубаху. Так и есть: повязка сама по себе, а рана сама по себе…
Капитан опустился на колени, потрогал живот.
— Ранение, несомненно, проникающее. Надо немедленно госпитализировать, — тихо сказал он мне.
— А как? На чем?
— Вот это вам придется решать каждый раз с каждым раненым, — назидательно произнес капитан, вставая с колен.
Все это от него я уже слышал.
К нам подошел командир парома — младший лейтенант в меховой безрукавке.
— Доктор, сейчас мы начнем ремонт. Забирайте быстрей раненых!
— Еще две минуты, — ответил капитан и приказал Зубку: — Живо за носилками!
Тот кубарем скатился с понтона. Пока он бегал, мы с капитаном заново перевязали обоих автоматчиков…
А к этому времени закончилась и погрузка раненых на другие паромы.
Капитан подозвал девушку-санинструктора, сопровождавшую раненых до левого берега. Когда она подошла, мне показалось, что я ее где-то видел. Знакомой была и эта родинка на подбородке, и эти улыбчивые глаза.
Представившись ей, капитан приказал доложить о количестве раненых, которые остались на берегу. Она сказала.
Сделав какую-то запись в блокноте, он попросил ее захватить этим же рейсом и нашего тяжелораненого.
— Слушаюсь, товарищ капитан, — ответила она и тут же подумала вслух: — Только куда его положу?
О втором мотострелке решили, что он может подождать.
Когда мы попрощались, она, уже уходя, несколько игривым тоном упрекнула меня:
— Нехорошо, лейтенант, забывать старых знакомых.
— А я не забыл вас, — соврал я.
— Что-то непохоже, — со смехом заметила она.
— Нет, правда, я только не помню, где в последний раз видел вас.
— Ну, ну, вспоминайте! — сказала она, поднимаясь на паром, и я видел, как блестели ее глаза.
Где же мы виделись? Одно ясно: я с ней не учился, не служил. До войны мы тоже не были знакомы. Откуда же она знала меня, а я — ее?..
— Когда вы успеваете, лейтенант? — усмехнулся капитан.
В ответ я пробормотал что-то невнятное. Знал бы он о моих «успехах» у женщин…
8
Плавно и уверенно один за другим отчалили паромы. Залитые лунным светом, они отчетливо выделялись на темной, слегка посеребренной воде. Но вскоре тот, на котором была девушка, вырвался вперед. То ли катер у него был помощнее, то ли команда посноровистее.
— Ну и светит же чертова сковородка! — выругался капитан.
— Могут раздолбать? — спросил я.
— Запросто. Как на ладони ведь! — и обратился к санитарам, стоявшим позади: — Ну что, товарищи, пойдемте подыщем вам местечко для медпункта.
Пройдя с полсотни метров, мы вышли к глубокому оврагу, круто устремлявшемуся вверх, к уже совсем близкому схлесту орудийных и минометных выстрелов, пулеметных и автоматных очередей.
Мы поднимались молча, сосредоточенно и опасливо прислушиваясь к пальбе. И на всякий случай держались поближе к окопам, которыми были изрыты оба склона.
Один капитан шагал, не вихляясь из стороны в сторону, длинный, худой, сутулый — настоящий Дон-Кихот!
А с горы спускались раненые. Некоторых капитан останавливал, спрашивал, давно ли сделана перевязка и как самочувствие. Двоим пришлось перебинтовать раны, а одному ввести противостолбнячную сыворотку — военфельдшер его батальона был убит как раз в тот момент, когда собирался делать укол.
На наши вопросы о положении на переднем крае раненые отвечали еще не остывшими после боя словами:
— Прет гад и прет!
— Со вчерашнего дня одиннадцать атак отбили!
— Подкрепление к нему подошло — у каждого железный крест!
— Ну мы и дали ему! Ну мы и дали ему!
— Сколько ребят полегло…
— Пока держимся!
Подумалось: а что, если немцам все-таки удастся прорваться к берегу? Разве так уж это невозможно?
— Дальше не пойдем, — сказал капитан.
Он подошел к землянке, зиявшей черным полузаваленным входом. Видимо, ее вырыли еще немцы…
— Чем не медпункт? И от берега близко, и от дороги…
Довольны остались и санитары. Я видел, что им уже не терпелось быстрее прибрать в землянке, сколотить нары. Несмотря на то что в километре отсюда шел бой, исход которого еще не был ясен, они вели себя так, как будто ничего важнее этой землянки для них нет, как будто все, что происходило наверху, совершенно не существенно в их теперешней жизни.
— И не забудьте повесить флажок с красным крестом, — предупредил Сперанского капитан.
Но тут близко от нас, в каких-нибудь ста — ста пятидесяти метрах, неожиданно забили зенитки.
— Воздух! — закричал Сперанский.
Я бросился на землю и услышал нарастающий рев вражеских самолетов. Первый из них уже пикировал. Неужели на нас?
В мгновение ока я перекатился через небольшой бугор и свалился в узкий окоп.
Подо мной вздрогнула и заходила ходуном земля. Потом еще и еще…
Бомбы падали где-то внизу. Только бы не в раненых, ожидавших паромы!
А может быть, немецкие летчики целили в те два понтона? Но попасть в них не так просто: они — в движении. Как сейчас там моя знакомая незнакомка?
Поредевший на какое-то время огонь зениток снова стал оглушительным и частым. К ударам орудий, находившихся поблизости от нас, присоединились дружные залпы зенитных батарей левого берега.
Я приподнял голову и увидел капитана. Он стоял у землянки и наблюдал за самолетами, вновь заходившими для бомбежки. Остальные лежали там, где их повалил предупреждающий возглас Сперанского.
Раздалось еще несколько тупых ударов, и земля под моими ладонями и коленями забилась как живая.
— Лейтенант!
Я выбрался из окопа и подбежал к капитану.
— Давайте поднимайте людей — и вниз!
Удары зениток уже не были столь яростны и беспорядочны, как в начале налета. Они определенно двигались в одном направлении — вдогонку уходившим самолетам.
— Отбой! — заорал я не своим голосом.
Санитары осторожно отрывались от земли.
— Бегом вниз! — И первым рванулся под гору. За мной понеслись остальные.
— А носилки? — догнал меня голос капитана.
Я на бегу затормозил каблуками, крикнул бежавшему следом Чепалю:
— Назад — за носилками!
Он повернул обратно.
С кручи мы сбежали в считанные секунды. Под обрывом у дороги по-прежнему сидели, лежали и стояли раненые. Живые, невредимые, если можно так сказать о них — уже искромсанных металлом.
Сердце у меня сжалось от тревожных предчувствий. Я сбежал к воде и увидел вдали на серебристой поверхности контуры одного-единственного парома, приближавшегося к левому берегу. Другого понтона нигде не было.
Я оцепенел от охватившего меня ужаса.
— Нужно быстрее на ту сторону! — взволнованно сказал капитан.
Да, надо быстрее, надо быстрее!
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
1
Но попасть на левый берег нам удалось лишь за полночь, когда был отремонтирован третий паром.
Там мы узнали подробности потопления транспорта с ранеными. Одна из сброшенных самолетом бомб разорвалась всего в нескольких метрах от него. Паром пошел ко дну. Большинство раненых погибло.
— Товарищ майор! — наконец собравшись с духом, спросил я коменданта переправы. — Вы не скажете, где девушка-санинструктор?
— Какая девушка?
— Сопровождавшая раненых.
— Никакой девушки я не видел…
Значит, она тоже погибла. Я уже ясно-ясно представил, как ее било и било о камни на дне этой ненасытной прорвы. И в то же время она была передо мной как живая. Вот она с загадочной улыбкой взбегала на паром, и он медленно отчаливал, начиная свой последний рейс. И снова видел, как ее било и било о подводные камни. А потом протащило между ними и повлекло вперед по течению. И рядом с ней, то отставая, то обгоняя, неслись легкие и подвижные тела ее мертвых товарищей. Даже там они вместе, наверное.
Неужели так и исчезла она, унося с собой тайну нашей встречи? И мне до конца жизни, если, конечно, выпадет счастье пережить эти долгие военные дни, суждено будет мучиться в поисках разгадки, и так и этак раскладывая нескончаемый пасьянс воспоминаний?
А может быть, она вообще мне привиделась?..
— Это ваши люди? — спросил комендант, показывая на санитаров.
— Да, — ответил капитан.
— Они нам хорошо помогли. Шестерых вытащили из воды.
Стоявшие впереди Орел и Саенков приосанились. Да и остальные, похоже, довольны. Притихли, навострили уши — ждут, что еще доброго скажут о них.
Но коменданту уже не до нас: на одном из паромов вспыхнула перебранка между понтонерами и танкистами, которые разворотили причал.
— Назад! Назад! Кому говорят, назад! — долетел до нас его звонкий голос…
Под нашими ногами поскрипывал прибрежный песок. Залитый лунным светом, он был похож на грязный лежалый снег. Впечатление такое, как будто уже зима, только не холодно.
Капитан очень торопился — хотел за ночь побывать и на других переправах.
За восемь часов, пока он находился с нами, все к нему привыкли. А мне, к тому же, он здорово облегчил жизнь, принимая за меня то одно, то другое решение. С ним бы мы не пропали, это уж точно. Страшно подумать, как я тут буду без него. Ведь на мне вся переправа: и оба берега, и река, и санитары, которые почти ничего не умеют. И как я со всем этим управлюсь? И все же в глубине души я желал, чтобы он быстрей уехал: с ним я чувствовал себя в своем взводе третьим лишним. Не только старшина, но и командиры отделений обращались в основном к нему. Разумеется, я их не осуждал. Наверно, на их месте я вел бы себя так же. Но где-то внутри у меня нарастало раздражение. В конце концов, я был командиром взвода, а не мальчишкой на побегушках.
Но внешне я, конечно, не выказывал этого. И даже наоборот, с изрядной долей лицемерия попросил его остаться еще немного.
А он, славная, бесхитростная душа, принял мои слова за чистую монету и доверчиво сказал:
— Не могу, голубчик. Но через день-два я постараюсь снова побывать у вас…
И вдруг, спустя некоторое время, добавил:
— А вообще-то, вам уже пора ходить своими ножками!
Словно мои тайные мысли прочел…
Уезжая на попутной, он крикнул на прощание слова, которые окончательно меня запутали:
— Свяжитесь с зенитчиками!
И еще что-то. Но я уже не разобрал. Почему я должен связаться с зенитчиками? Странно и непонятно.
2
На правом берегу к противнику подошли свежие подкрепления. Не дожидаясь утра, немцы предприняли новую попытку прорваться к реке. Против мотострелков, зарывшихся в землю на западной окраине села, были двинуты «тигры» и «фердинанды».
Одновременно усилился минометный обстрел левого берега. Мины ложились с большой точностью — наверху, где скопились боевая техника и люди, и на спусках к причалам. Танкисты, ожидавшие своей очереди на переправу, опустили крышки люков, и теперь им были не страшны никакие осколки. Зато другие только и делали, что ныряли в укрытия.
Раненых было много. Я с трудом успевал оказывать помощь. Сам и перевязывал, и делал уколы, и накладывал шины. Мои же санитары неотступно следовали за мной и лишь сокрушались, глядя на открытые раны. Едва я заканчивал перевязку очередного раненого, они чуть ли не вшестером подхватывали носилки и, искоса посматривая на тот берег, устремлялись к машине.
Один старшина был спокоен и не суетился. Капитан поручил ему вести запись раненых. Правда, грамотей он был не ахти какой. Но ведь и требовалось от него совсем немного: записать фамилию, имя-отчество, воинскую часть, домашний адрес, а также характер ранения. И все под мою диктовку. Хотя огрызок карандаша он держал своими короткими пальцами как живого таракана, который вот-вот может вырваться и убежать, с возложенными на него писарскими обязанностями он как будто справлялся.
Обстрел нашего берега закончился так же неожиданно, как и начался.
Теперь все свое внимание мы переключили на подходивший паром с ранеными.
— Десять минут на разгрузку! — приказал мне комендант.
Я растерялся. Только на то, чтобы перенести на берег тяжелораненых, у нас уйдет вдвое больше времени. Ведь это не мешки с продуктами и даже не ящики со снарядами! Прежде чем положить человека на носилки, мы должны установить, куда и как он ранен. Без этого мы не имеем права и с места его сдвинуть. А вдруг у него поврежден позвоночник или сотрясение мозга? Или еще что опасное для жизни? Если одного можно уложить на спину, то другого надо непременно лицом вниз. А третьего безопаснее всего перенести на руках. Так что на каждого тяжелораненого потребуется минимум три-четыре минуты. Кроме того, нужно помочь сойти и легкораненым. В конце концов, если человек ранен только в ногу или руку, из этого не следует, что он сам побежит на берег. Ясно одно: необходимо поговорить с майором, объяснить ему, что за десять минут никак не управиться!
Но легко сказать «поговорить с ним». Он ни секунды не стоял на месте. Да и вообще никого не слушал — ни старших, ни младших по званию. Малейшее возражение приводило его в ярость. И все же другого выхода у меня не было.
Сделав глубокий вдох, я рванулся вперед.
В моем распоряжении осталось совсем мало времени: уже двинулась к парому, отчаянно лязгая гусеницами, ближайшая «тридцатьчетверка».
Судя по всему, у майора все было рассчитано до секунды. Я сердито подумал: если бы это было возможно, он бы разгрузку и погрузку производил одновременно!
Догнал я его лишь у штабеля бревен.
— Товарищ майор! Можно вас на минутку!
Он повернул ко мне голову и возмущенно проговорил:
— Я же сказал вам «нет»! Вам что, этого недостаточно?
От неожиданности я оторопел: когда он мне сказал «нет»?
— Товарищ майор! — заикаясь от волнения, продолжал я. — Вы меня приняли за кого-то другого. Вы мне ничего такого не говорили!
— Отвяжитесь, лейтенант! — резко повысил голос комендант. — Или я прикажу удалить вас с переправы!
Неужели он до сих пор не узнал меня? Что делать? До разгрузки остались считанные минуты.
— Товарищ майор! — я едва не задохнулся от собственного крика. — Я же командир санитарного взвода!
Я увидел испуганные лица Орла, Дураченко и других санитаров…
Но комендант даже не обернулся на мой выкрик. Он быстро взбежал на причал, к которому вот-вот должен был пристать паром с ранеными.
Я решительно последовал за ним.
Вдруг он остановил на мне взгляд и сказал:
— Лейтенант, давайте быстрей выгружать раненых.
Произнес так, как будто между нами ничего не произошло. И глаза его выражали лишь озабоченность делами.
Я только собрался сказать, что десяти минут мало, как он окликнул командира парома и приказал ему немедленно готовиться в обратный путь.
Проходя мимо меня, он устало сообщил:
— Я уже третьи сутки не сплю. Голова как чужая…
Я заскользил за ним по неровным и мокрым бревнам причала.
Он спрыгнул на землю и зашагал к «тридцатьчетверке», которая, нетерпеливо урча, застыла на спуске.
Теперь я не отставал от него ни на шаг. Он молча выслушал меня, но ответил категорическим отказом:
— Нет, нет, больше десяти минут дать не могу. Мне до рассвета надо переправить еще один танковый батальон. Это двадцать один танк. Не считая прочих машин и стрелкового подразделения…
— Товарищ майор! — взмолился я. — Но ведь это раненые! От одного неосторожного и торопливого движения может погибнуть человек!
— Ничем помочь не могу.
— Неужели вы не понимаете, — с отчаянием воскликнул я, — что так можно убить всех тяжелораненых?
— Ну хорошо, — неожиданно согласился комендант. — Пятнадцать минут. Ни одной секунды задержки!
— Слушаюсь!
Пока я вместе с санитарами бежал к приставшему парому, исчезла короткая радость, вызванная уступкой коменданта. Я понимал, что пятнадцати минут так же мало, как и десяти. И в мозгу сверлила единственная мысль: только бы уложиться, только бы уложиться…
3
Нога Козулина на всем ходу угодила в узкую расщелину между бревнами причала, и, если бы не Орел, по чистой случайности находившийся рядом и успевший подхватить носилки, произошло бы большое несчастье — бойцу, тяжело раненому в голову и спину, ни за что бы не перенести нового ушиба.
Не помня себя от ярости, я подскочил к бывшему сапожнику и схватил его за ворот:
— Вы что, ослепли? Не видите, что под ногами делается? Чуть человека не убили!
— Отпустите!
Он вырывался и толкал меня головой. Я опомнился и отпустил его. Орел и Дураченко осторожно понесли носилки дальше, а Козулин остался вытаскивать ногу из своей деревянной западни.
Мы никак не управлялись в срок, установленный комендантом. Кончались последние, минуты, а раненых на пароме было еще восемь человек. Хорошо, что мотострелки помогли сойти легкораненым и тем, кто мог передвигаться с посторонней помощью. А то бы совсем зашились. Но и восемь тяжелораненых тоже немало. Каждого следует осмотреть, опросить, аккуратно положить на носилки и осторожно перенести на берег. А идти надо по мокрому настилу понтона, по неровным и скользким бревнам причала — можно сломать голову и себе, и раненому. Хотя я и набросился на Козулина, но в душе сознавал, что такое могло случиться с любым из нас.
Вернулись за очередным раненым Панько и Бут.
— Берите сперва его! — я склонился над лейтенантом с перебитыми ногами. Он находился в тяжелейшем состоянии.
— Осторожней! — предупредил я санитаров.
И оттого, что я крикнул им под руку, они вконец растерялись и не знали, как подступиться к раненому. Лишь топтались на месте и не решались дотронуться до него. Я крепко выругался и стал им помогать.
— Ну берите же! Бут — за туловище! Панько — за ноги! Раз, два —
взяли!
Подняли, положили на носилки.
— Скорее! — напутствовал я однокашников. — Только не уроните!..
А по причалу навстречу Буту и Панько бежали с уже развернутыми носилками Орел и Дураченко. И в стороне скользил по бревнам, сильно прихрамывая, Козулин.
— Скоро, лейтенант, освободите паром? — долетел до меня с берега резкий голос коменданта.
— Товарищ майор, вы же видите…
— Даю вам три минуты! — жестко донеслось из темноты.
Три минуты… На каждого раненого выходит меньше, чем полминуты. Но что можно сделать за двадцать пять секунд?
— А теперь кого? — спросил, вытирая пот с лица, Орел.
— Вот его! — сказал я, придерживая за спину раненого, который очень тяжело дышал и сплевывал кровью. Это был старшина с тремя пулевыми ранениями в грудь. От обильной потери крови он то и дело терял сознание. Когда приходил в себя, вспоминал о каком-то Коле, оставшемся в овраге за немецкими окопами.
Санитары осторожно подняли его и опустили на носилки.
— Положите под голову вещмешок! — крикнул я им.
— Товарищ лейтенант!
Кто это? А, Козулин!
— А мне что делать?
— Помогите Панько и Буту!
Припадая на ушибленную ногу, Козулин побежал по причалу. Его опять понесло к расщелине. Не хватало, чтобы он во второй раз угодил между бревнами.
Но нет, проскочил мимо.
Осталась минута.
Я опустился на колени рядом с тяжелораненым сержантом. Он наступил на мину, и ему оторвало левую ногу. Туго затянутый жгут прекратил кровотечение, но, несмотря на это, бойцу становилось все хуже и хуже.
Если бы еще одни носилки!
Но вот показались Панько и Бут. Позади бежал Козулин.
Я с тоской подумал: будь у нас еще одни носилки, я бы на разгрузку бросил дополнительно Саенкова и Задонского — людей сильных и расторопных. А то один из них сейчас записывал раненых, а другой дневалил в пустой землянке. С писарскими обязанностями справился бы и Козулин. А без дневального в такой острый момент можно было бы вообще обойтись! Я встретил Панько и Бута упреком:
— Где вас черт носит?
Они молча выбросили вперед носилки. Ни слова в свое оправдание.
— Берите под мышки!
— Ну что, еще не выгрузили?
Я вздрогнул и весь сжался, хотя этого окрика со страхом ожидал с секунды на секунду. Что я мог ответить?
По причалу нервно застучали сапоги, и я этот стук расслышал, несмотря на нетерпеливое урчание танкового двигателя и непрекращавшуюся стрельбу на том берегу.
— Да быстрее, черт побери! — снова набросился я на санитаров.
Они с трудом оторвали от настила тяжелые носилки и заторопились к причалу.
Комендант прыгнул на паром.
— А вы чего стоите? Боитесь ручки натрудить? — заорал он на нас с Козулиным.
— Товарищ майор, что мы можем сделать, если у нас всего двое носилок?
— Что? На себе таскать!
В этот момент я увидел мчавшихся к парому Орла и Дураченко. А за ними из предутреннего тумана неожиданно вынырнули Саенков и Задонский. И тоже с носилками. Где они их взяли? Ах, да, наверно, сменили Бута и Панько…
Кого на носилках, кого на руках, мы за две минуты перенесли оставшихся раненых на берег и все, как один, переключились на погрузку их в машины.
4
Мы с Саенковым поднимались по пологому склону, как всегда преодолевая ожесточенное сопротивление глубокого и вязкого песка.
— Эй, мальчики! — услышали мы позади хрипловатый женский голос.
Но ни я, ни он не обернулся. Мне и в голову не пришло, что это могло относиться к нам: какие мы с ним мальчики?
Мы оглянулись только тогда, когда нас окликнули во второй раз.
Сверкая коленками, в гору бежала девушка в короткой шинели, в пилотке, которая почти затерялась в разлетавшихся светлых волосах.
Хотя уже спустя несколько секунд я видел, что это не Валюшка и не та другая, которая так таинственно и страшно исчезла нынешней ночью, сердце у меня еще долго не могло успокоиться.
И вот девушка — на расстоянии вытянутой руки. Она запыхалась. На ее лбу не то капельки пота, не то дождинки.
— Мальчики, вы не из санвзвода случайно?
— Ну! — ответил старшина, не сводя с ее раскрасневшегося лица своих усмешливо-нагловатых глаз.
— Да? Ой, как хорошо, что я вас нашла! — От смущения ее улыбка была разбросанной и неполной — все время обрывалась. — А то на вас выписали продукты, а мы не знаем, что с ними делать.
— По продаттестату, что ли? — с недоверием спросил старшина.
— А то как же еще? Вчера днем ваш капитан сдал нашему начпроду аттестат на пятнадцать человек.
— На пятнадцать? — обрадовался Саенков. — Ну, товарищ лейтенант, теперь живем!.. А вы кто такие? — обратился он к девушке.
— Мы зенитчики! Вон наши батареи! — показала она на ближайшие рощицы.
— Давайте, что ли, знакомиться? — предложил старшина.
— Зина, — сказала девушка и подала руку сперва ему, а потом мне. Ладошка ее была влажная и горячая.
— Лейтенант Задорин! — назвался я.
— Иван! — представился Саенков.
Девушка фыркнула.
— Чего? — удивился он.
— Больно просто — Иван…
— Так и Зина-то не сложней! — усмехнулся старшина.
— Один лейтенант сказал, что Зинаида означает божественная, рожденная греческим богом Зевсом.
— Верно, и Иван что-нибудь да значит? — предположил Саенков.
— А что он может значить? — хмыкнула девушка. — Иван и есть Иван!
— Нет, — не согласился он. — Что-нибудь да значит.
Все время, пока старшина разговаривал с Зиной, я как в рот воды набрал. Стоял и бездумно глядел, как она двигала своими тоненькими бровками, светлыми ресничками, пухленькими губками. Особенно губками, которые то раскрывались для очередной реплики, то складывались ненадолго в улыбку. Нет, внешность ее мне не нравилась. И все же я не мог оторвать взгляда. Даже понять трудно, что произошло со мной…
— Чего мы здесь стоим? — спохватился старшина и галантным жестом — где он его подсмотрел? — пропустил девушку вперед. — Битте, фройлен!
Мы поднялись на пригорок.
— А где ваша землянка? — спросила Зина. Впервые она обратилась не к Саенкову, а ко мне. И я увидел, что глаза у нее не просто темно-голубые, почти синие, а еще с заметной поволокой: смотрят и осторожненько так смущают…
— Вон видите, у самой дороги, — ответил я, покраснев.
— А знаю, там артиллеристы были.
Она, по-видимому, все тут знала.
Из землянки вышел и переминался с ноги на ногу Витя Бут. Затем показался Орел, как всегда серьезный и очень деловой. Проведя рукой полукруг от дороги до берега, он принялся что-то не спеша объяснять. Ах да, Бут заступал на дежурство, а Орел его инструктировал. В каждом движении, каждом жесте отделенного проглядывал учитель. Как я раньше этого не замечал?
Зина удивилась:
— А это что за гражданские у вашей землянки?
— Наши санитары, — ответил старшина.
— Эти? — она скривилась точь-в-точь как я, когда впервые увидел их. — А они что-нибудь умеют?
— Умеют, — усмехнулся Саенков. — Волам хвосты крутить!
Зина фыркнула.
Вчера бы я и бровью не повел, услышав столь нелестное мнение о санитарах, а сегодня меня передернуло. К Орлу, Дураченко и Задонскому у меня почти не было претензий: всю ночь они трудились как черти. Панько, Бут и Козулин тоже старались, хотя не все у них получалось. Так что насчет «кручения хвостов» старшина явно загнул.
— Товарищ лейтенант, я схожу за продуктами? — странным просительным голосом произнес Саенков.
— Сходите, — ответил я и незаметно перевел взгляд на Зину.
— Ой, мальчики, я совсем забыла! — вдруг воскликнула она. — Наш начпрод еще баиньки. А он не любит, чтоб его рано будили… Приходите днем! — Она сошла на тропинку, которая вела к зенитчикам. — Я забегу, скажу вам, когда он глазки продерет!..
И, помахав нам рукой, зашагала быстрой и веселой женской походкой.
Саенков почесал в затылке и сказал:
— Эх, Зина, Зиночка, моя корзиночка!..
5
— А? Что? — вскочил я с нар.
Кругом мелькали растерянные и озабоченные лица санитаров.
— Что случилось?
— Комендант ранен! — сообщил старшина.
— Тяжело? — испуганно спросил я.
— Говорят, отбегался.
Я быстро натянул сапоги, надел шинель.
— Дураченко, Задонский, Саенков, с носилками — за мной!
И первым выскочил наружу. В лицо хлестануло мелкой и колючей изморосью.
Сквозь туман, стлавшийся над водой, проступали знакомые очертания правого берега. По-прежнему все пространство над ним заполнял грохот орудий, треск пулеметных и автоматных очередей.
Мы спустились по крутым ступенькам вниз. Придерживая рукой мокрый полог, вошли в блиндаж.
На деревянном топчане, накрытом ворсистым трофейным одеялом, нет, не лежал, а сидел, всем своим видом отметая какие-либо мысли о смерти, комендант переправы. Правда, левую руку он держал на весу. Вот тебе и отбегался.
Ранение оказалось не тяжелым, но майор потерял много крови и ослабел.
Закончив перевязку, я сказал:
— Товарищ майор, вы посидите здесь, а мы поищем попутку!
— Зачем? — встрепенулся он.
— Как зачем? Отправить вас в госпиталь.
— Меня — в госпиталь? — он впервые с опаской поглядел на меня. — Да вы, я погляжу, шутник, лейтенант! Да с такой царапиной тут же отправят обратно!
— Не отправят, товарищ майор. Я работал в госпитале, знаю.
— Давайте, лейтенант, лучше по-хорошему договоримся. Я буду лечиться у вас амбулаторно, а вы уж постарайтесь, чтобы мне хуже не стало…
— Товарищ майор, я не имею права оставлять на переправе раненых, — жалобно сказал я. — У нас здесь нет даже санчасти.
— А вы организуйте ее!
— Не получится, товарищ майор. В санчасти должен постоянно дежурить медик. А мне надо бывать и на этом берегу, и на том, и вообще всюду, где есть раненые.
— Ничего, старшина подменит вас на часок.
— Товарищ майор, старшина не может подменить меня. Он строевой командир, а не медик.
— Вот как? — и с ужасающей прямотой и бестактностью добавил: — Тогда непонятно, зачем он вам нужен?
Старшина разом побагровел, и я вступился за него:
— Чтобы следить за порядком и дисциплиной! Вы ведь видели, что за контингент у меня?
Сказал и тут же смутился — вспомнил о стоявших сзади Дураченко и Задонском с носилками.
— Я хотел сказать, что они только что с гражданки, многого еще не умеют.
— Ну вот, пусть на мне и учатся. Но без рук! Как студенты в операционной!
Майор встал и показал ординарцу на шинель, висевшую у входа. Тот, поглядывая на меня, нерешительно снял ее с гвоздя. Я промолчал. Не везти же силой в госпиталь!
— Ну, так когда явиться на перевязку? — обернулся ко мне майор, которому ординарец накинул на плечи шинель.
— Завтра утром, — ответил я.
— Договорились, — сказал он и осторожно переступил порог…
— Пойдемте! — обратился я к старшине и санитарам. Мне показалось, что Дураченко и Задонский старались не смотреть в мою сторону. Обиделись?
А Саенков уж точно затаил обиду на коменданта. Выходя из землянки, он бросил ординарцу:
— Майор что, в феврале родился?
— Почему в феврале?
— Немного не хватает… — Саенков повертел рукой у виска.
— На себя поглядел бы, умник!
На этот раз старшина промолчал. Лишь громко крякнул от удовольствия, что хоть за глаза, но здорово подковырнул обидевшего его майора…
6
Солдат лежал ничком на дне глубокой траншеи. Из-под вывернутой в плече руки выглядывало обесцвеченное смертью молодое лицо. Видимо, он упал сюда уже смертельно раненный или убитый. Вчера здесь никого не было. Значит, это случилось во время ночного или утреннего обстрела.
Первым его увидел Витя Бут, которого Орел послал посмотреть, нет ли где поблизости тонких досок или фанеры, чтобы обшить землянку изнутри.
Вначале санитар подумал, что солдат спит: притомился за ночь, а может быть, просто давит сачка. Но тут он обратил внимание на неподвижность вывернутой руки и все понял. С отчаянным криком: «Хлопцы! Там убитый солдат!» — он влетел в землянку и всполошил всех. Мы выскочили наружу. Больше всего нас потрясло то, что рядом с нами, в нескольких метрах, много часов лежал убитый солдат. А что, если он не сразу был убит, а долго и мучительно умирал — и никто, ни одна душа об этом не знала? И главное — не знали мы, медики? Возможно, в то самое время, когда ему необходима была наша помощь, мы преспокойно спали или занимались второстепенными и маловажными делами?
Дураченко, Орел и Задонский подняли убитого и осторожно, словно опасаясь причинить ему боль, вынесли его из траншеи и положили на землю.
Осколок попал солдату в самый затылок — я разглядел в запекшейся крови кусок металла. Но мои познания в медицине были слишком поверхностны, чтобы я мог дать ответ на вопрос, который волновал всех: наступила ли смерть мгновенно или же солдат еще какое-то время жил?
Из документов, найденных в кармане, удалось установить основные данные: имя, часть, домашний адрес. Что ж, домой мы напишем. В часть, которая ночью перебралась на правый берег, тоже как-нибудь сообщим. Осталось последнее — решить, что с ним делать: самим ли хоронить или вызвать похоронную команду — трех пожилых солдат, выполнявших свою печальную обязанность с привычной деловитостью и сноровкой. Других убитых и умерших мы просто передавали им, а вот этого не могли: чувствовали свою вину перед ним…
— Похоронить — дело несложное, — замялся старшина.
— А что? — насторожился я.
— Да вот где?
— Как где? Места здесь, что ли, мало?
— Места-то много. Но как бы в ночное время танки невзначай могилку с землей не сровняли. Надо бы ее куда подальше или же к другим могилкам, чтобы виднее было…
Итак, проблема: где и как хоронить?
Простиравшийся перед нами луг весь был изрезан гусеницами танков и самоходок. Попробуй найти местечко, где бы ничто не потревожило нашего солдата. Язык не повернется сказать ему в последнем прости: «Спи спокойно!»
— А ежели вон там, у озерка? — оживился старшина. — Бут, сбегай-ка быстренько до него и разведай обстановку!
У санитара только пятки засверкали.
Вскоре он вернулся и доложил. Чутье и впрямь не обмануло старшину: гусеничные следы проходили стороной.
Орел, Задонский, Дураченко и Панько подняли носилки с убитым и медленным шагом двинулись к озерцу. Бут нес на плече две лопаты, которые нам одолжили саперы. Замыкали процессию мы со старшиной.
У землянки остался Козулин — дежурный. Он неотрывно смотрел нам вслед своими огромными малоподвижными глазами.
Мы прошли примерно половину пути, как вдруг увидели бежавшую к нам Зину.
— Стойте! — долетело до нас.
— Начпрод небось продрал зенки, — заметил старшина и приказал санитарам остановиться.
— Мальчики, идите продукты получать быстрей! — крикнула она на бегу.
— Вот похороним и придем! — пророкотал Саенков.
Зина подбежала, никак не могла отдышаться. Потом тихо спросила, кивнув на носилки:
— Кто это?
— Солдат, — ответил старшина.
— Ваш?
— Откуда наш? Наши вот — в гражданском.
Зина осторожно, на цыпочках, подошла к носилкам, заглянула и вздохнула:
— Какой молоденький!
— Пошли! — сказал старшина санитарам.
— Ой, мальчики! — спохватилась девушка. — Идите скорей на склад! А то начпрод уезжает и будет только через два дня!
Мы переглянулись со старшиной.
— А то за два дня, пока его не будет, ножки протянете!
— Я-то не протяну, — усмехнулся Саенков. — Вот лейтенант — да!
— Бедненький, — пожалела меня Зина.
— Может, товарищ лейтенант, разделимся: я пойду за продуктами, а вы солдата проводите? — предложил старшина.
— Ладно, — согласился я.
Но Зина неожиданно возразила:
— Ой, нельзя! Начпрод предупредил, что нужна подпись командира взвода.
Старшина на мгновение растерялся. Но тут же нашелся и обратился к Орлу:
— Товарищ учитель! Нам с лейтенантом надо срочно за продуктами, а вы сами все сделайте…
— Слушаюсь!
— И столбик с надписью поставьте. Вот его солдатская книжка.
— Ясно, — ответил Орел и вслух прочел: — Черных Алексей Ильич…
7
Зина и Саенков шагали рядом. Они оказались земляками. Его рабочий поселок находился от ее деревни в двухстах километрах, что по фронтовым представлениям было совсем рядом.
До рощицы, где располагался продсклад, мы дошли довольно быстро. На опушке сидели и курили два солдата. Один из них — помоложе — крикнул нашей спутнице:
— Зинок, тебе что, своих мужиков мало, чужих ведешь?
— Какие мы чужие? Мы тоже свои, — добродушно огрызнулся старшина.
— Свои-то свои, да зубы чужие.
— Это у меня-то чужие?
— А то у кого? Пусти такого козла в огород…
— Да, будет ей что вспоминать под старость, — услышал я негромкий голос пожилого солдата.
Но ни Саенков, ни Зина, ушедшие вперед, не расслышали этих обидных слов. А я тем более промолчал. Даже если солдат прав, какое мне дело до Зининого поведения? К тому же я не очень верил всей этой трепотне о фронтовых девчатах — чего только не наговорят с тоски…
Конечно, и я это понимал, природа требовала своего. Вот как у нас с Валюшкой. Еще немного, еще маленькое усилие, с моей ли стороны, а может быть, и с ее, сейчас трудно сказать, и мы бы тоже вкусили то, к чему все так стремятся. Мы всю ночь пролежали одни в кинобудке, на носилках, вплотную придвинутых друг к другу. Я ни на минуту не сомкнул глаз. Приподнявшись на локте, я с нежностью смотрел на ее тихое красивое лицо. Веки у нее были опущены. Но я чувствовал, что она не спала, — просто лежала, затаив дыхание. Теоретически я знал все об отношениях между мужчиной и женщиной. И я видел, что под тонким байковым одеялом спокойно и терпеливо дожидалось ласки ее мягкое и доброе тело. Я мысленно множество раз давал себе слово, что сейчас откину одеяло… и, обессиленный своим же собственным воображением, бросал разгоряченную голову на смятую госпитальную подушку. Словно какой-то магнит мешал мне оторваться от своих носилок. Самое большее, на что я решился за ночь, — это положить руку на талию девушки…
А утром, когда мы встали, нам ничего не оставалось, как сделать вид, что мы только что проснулись. Лица у нас были опухшие, измученные. Под глазами у обоих темнели такие круги, что мы целый день избегали попадаться вместе кому-нибудь на глаза. Так что при желании и о нас с Валюшкой досужие языки могли наговорить что угодно. Ну, мне, мужчине, это все как с гуся вода, и даже лестно. А вот о ней бы сказали, что она и такая, и сякая, и хуже ее чуть ли во всем госпитале нет. Между тем, будь она бывалой, умудренной неким опытом — это я еще тогда смекнул, — она, при наших отношениях, не притворялась бы спящей…
Может быть, и Зина такая?
Из раздумья меня вывел громкий возглас Саенкова:
— А, кореш!
У входа в землянку стоял на колене и колол щепу солдат, лицо которого мне показалось знакомым.
Он внимательно посмотрел на старшину и смущенно произнес:
— Чего-то не припомню.
— Ну как, перемотал портянки? — насмешливо напомнил старшина.
И тут мы одновременно узнали: я — солдата, он — нас. В тон старшине зенитчик спросил:
— Не заблудился? Нашел переправу?
— Да нет, все еще ищу!
Солдат хмыкнул.
— А Зина куда подевалась? — вдруг спохватился старшина.
— Не знаю, — сказал я. — Она только что была здесь!
— Рядом стояла! — продолжал удивляться Саенков. — Чисто мышонок!
— Это повариха, что ли? — спросил солдат.
— Ну!
— Она вон, в продсклад сиганула! — зенитчик показал на блиндаж позади нас.
Выходит, Зина повариха, и Саенков уже успел выведать у нее это. Что ж, такое знакомство имело свои немалые преимущества. Во всяком случае, если произойдет какая-нибудь новая петрушка с продаттестатом, с голоду не умрем. Еще с училищных времен я знал, что на солдатской кухне всегда можно разжиться котелком борща или каши. Не надо только строить из себя генерала. Все-таки это лучше, чем заглядывать в торбы санитаров. Так рассуждал я. Возможно, так рассуждал и Саенков. Я даже уверен, что так. Но его первоначальное бескорыстие не вызывало сомнений. Когда он увидел Зину и загорелся к ней интересом, он ровным счетом ничего не знал о ее профессии. Она могла быть кем угодно — и телефонисткой, и радисткой, и писарем, и зенитчицей…
Мы стояли у входа в продсклад, не решаясь войти туда. Надпись на дверях строго предупреждала: «Посторонним вход категорически воспрещен».
Изнутри доносились мужские голоса, то и дело прерываемые веселым Зининым повизгиванием.
Я незаметно поглядел на Саенкова. Вначале он делал вид, что все эти визги его мало волнуют. Но понемногу его лицо становилось растерянным и озабоченным. И под конец налилось кровью. Я почувствовал, что еще секунда-другая — и он взорвется!
Но в этот момент распахнулась дверь, и на пороге появилась Зина. Она что-то быстро дожевывала. Ее глаза подозрительно блестели.
— Так вот, мальчики, — сказала она, уводя взгляд в сторону. — Давайте решайте: хотите, можете получить сухим пайком, а хотите — мы вас поставим на котловое довольствие…
— Гоните сухим! — отрезал старшина.
— Сухим? — удивилась Зина. В ее голосе прозвучала нотка растерянности. — С чего это вдруг сухим?
— А с того… чтобы вас не утруждать.
— Ну чудак! — улыбнулась девушка. — Так мне же все равно, что для ста пяти, что для ста двадцати готовить!
— Ничего, мы сами, — продолжал упираться старшина.
— А я готовлю хорошо, — жалобно сказала она.
— Где тут получить? — шагнул вперед Саенков.
— Подождите, старшина! — остановил я его. Я уже давно не находил себе места от возмущения. Надо быть сущим остолопом, чтобы даже с обиды, даже из ревности отказаться от котлового питания! Для нас оно выгодно во всех отношениях. Иначе каждому придется часами варить себе суп и кашу. Кроме того, никто не давал ему права решать такие вопросы. Или он позабыл, кто командир взвода? Что ж, можно напомнить…
— Зиночка, что у вас сегодня на обед? — спросил я, мягко оттеснив плечом старшину.
— У нас? На первое — щи, на второе — пшенка! — радостно сообщила она.
— Вот и чудесно! Будем есть щи, будем есть пшенку! — решительно произнес я.
8
Я прибавил ходу. Что-то здорово изнутри подгоняло меня. Было ли это предчувствие беды или самое обыкновенное беспокойство, не знаю. Саенков же поначалу ни о каких санитарах не думал — все еще переживал Зинино непостоянство. Но когда мы вышли на опушку и не увидели у озерца ни единой души, он тоже забеспокоился:
— Неужто уже схоронили?
Не видно было санитаров и на тропинках, и на дороге, ведущих к реке.
— Быстро же управились! — с неуверенностью продолжал старшина.
Но особенно наша тревога возросла после того, как впереди показался бугорок с землянкой. Около нее никого не было, даже неизменной фигурки дежурного.
Обивая ноги тяжелыми термосами, которые нам на время дали зенитчики, мы припустили изо всех сил. Ни я, ни он уже не сомневались, что в наше отсутствие случилась какая-то беда.
И вот мы с грохотом влетели в землянку. Ни людей, ни вещей. Одни голые нары, кое-где прикрытые соломой. На полу валялись обрывки бумаги, пустые бутылки, рваные носки — следы недолгих и торопливых сборов.
Старшина присел на нары и растерянно проговорил:
— Вот так география!
Неужели разбежались? А почему бы и нет? Присягу они не принимали, добровольно пришли, добровольно и ушли. Но, подумав так, я тут же отбросил эту совершенно дикую мысль. Один, двое еще могли. Но чтобы все — и Орел, и Бут, и Дураченко… чушь собачья!
— Надо спросить у соседей! Может, кто-нибудь знает? — воскликнул я и бросился из землянки.
Первый же попавшийся мне на глаза боец — связист из соседнего блиндажа — сообщил, что моих санитаров, возвращавшихся с похорон, увидел, проезжая на «виллисе», какой-то генерал. Решив, что они слоняются без дела, он с ходу отправил их в распоряжение саперного начальника. Никаких объяснений он слушать не стал. Приказал, чтоб бегом выполняли его распоряжение!
Это была катастрофа. Еще бы, в считанные минуты лишиться целого отделения, поставить под угрозу срыва медицинское обслуживание всего левого берега! Можно представить, какая будет реакция начсанарма и капитана Борисова! А подполковник Балакин? Вот уж позлорадствует, старая колючка! И упрекнет их обоих за то, что назначили на должность командира санвзвода сопливого мальчишку. И будет прав. Действительно, мне доверили такое дело, а я уже на третий день растерял половину санитаров. А может быть, и всех? Я ведь не знал, что делалось на правом берегу у Сперанского. Надо, надо что-то предпринять! Первым делом срочно найти того генерала. Спокойно, не спеша, рассудительно объяснить ему. В конце концов, он должен понять, что никто не разрешит ему оставить переправу без санитаров. Тем более что взвод создан по указанию командующего армией. Я так и скажу: по указанию командующего армией! Хотя, откровенно говоря, я не имел ни малейшего представления, что за инстанция — не начсанарм, а еще выше — решила наша судьбу. Во всяком случае, был же чей-то приказ!
— Их на машине отправили? — спросил я связиста.
— Чего не видел, того не видел, — ответил тот.
Мы со старшиной заметались по пригорку. Где их искать?
— Как будто туда пошли! — неуверенно кивнул в сторону реки связист.
Мы помчались вниз по косогору. Больше всего я боялся, как бы их за это время не угнали в лес или на соседнюю переправу. Потом ищи ветра в поле.
Народу на берегу было немало. В общем, все здорово обнаглели — прямо на виду у немцев ремонтировали причалы, выравнивали спуски к ним, углубляли укрытия.
И вдруг я увидел Орла и Бута. Вместе с солдатами они катили к воде бревна. Остальные санитары, очевидно, были где-то поблизости. То, что их еще не угнали, наполовину облегчало нашу задачу.
— Ось погляньте: товарищ лейтенант и товарищ старшина! — воскликнул Бут.
В то же мгновение неизвестно откуда выскочили Дураченко, Панько и Задонский.
В первую минуту, когда я увидел своих санитаров, я еще собирался разыскать генерала и попросить его вернуть их. Это было бы по-деловому и разумно. Но, осмотревшись, я отметил про себя, что по соседству не было не только генерала, но и вообще офицеров, и неожиданно решил: а может быть, обойдется и так? В конце концов, все шестеро — мои санитары, и, пока я командир санитарного взвода, назначенный на эту должность начсанармом, они обязаны подчиняться мне и никому больше. Мало ли что придет в голову первому попавшемуся генералу? Если ему охота забрать у меня санитаров, пусть сперва свяжется с начсанармом!
И я, пораженный собственной дерзостью, крикнул санитарам:
— А ну, живо — в санчасть!
Первым, весело, не раздумывая, рванулся вверх Панько. За ним двинулись, озираясь, Дураченко, Бут и Задонский. Один Орел в нерешительности топтался на месте.
— Товарищ лейтенант, как бы вам не попало! — предупредил он.
— Ничего, — ответил я. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать! Быстро наверх!
Но Орел все равно не побежал, а пошел своим обычным крупным шагом.
— А Козулин? — спохватился старшина.
Пришлось обегать чуть ли не весь берег, пока наконец мы не наткнулись на последнего из наших санитаров. Вдвоем с каким-то ефрейтором, который покрикивал на него, он подтаскивал к причалу огромную бухту пенькового каната.
— Козулин! Ждать не будем! — заорал я так, словно виноват был он, а не ефрейтор, не отпускавший его.
Козулин опустил бухту на землю и побежал догонять отделение.
Но как мы ни спешили, далеко нам уйти не удалось. За косогором успел скрыться один Панько.
Меня догнал чей-то возглас:
— Товарищ командир! Вернитесь!
Я ускорил шаг. Конечно, это было чистое мальчишество. Словно там, за бугром, мы становились недосягаемы для начальства.
— Товарищ командир! Я прошу вас вернуться! — повторил тот же голос.
Я опомнился. Остановился, обернулся.
— Да, да, вы! — подтвердил незнакомый офицер в короткой плащ-палатке.
Я повернул назад. Расстояние между нами быстро сокращалось. Меня поджидали внимательные глаза на одутловатом небритом лице.
И вдруг чей-то громкий выкрик:
— Ложись!
Мина разорвалась, когда мы с офицером в плащ-палатке лежали нос к носу в широкой промоине. Над нами просвистели осколки. Вторая мина шлепнулась в воду. Третья упала за кустом ракитника.
Офицер застонал.
— Что с вами? — спросил я.
— Я ранен…
— Куда?
— Кажется, в ногу…
— Покажите. Я командир санитарного взвода… — Я подполз к ногам раненого. Поднатужился, снял с него сапог. Чуть выше лодыжки зияла глубокая, сочившаяся кровью рана. Лежа на боку, я наложил повязку.
Когда ему стало легче, он спросил:
— Скажите, лейтенант, кто вам разрешил забрать людей?
Я рывком поднялся на колени и, позабыв о продолжавшемся обстреле, одним духом выложил ему все: и что они — мои санитары… и что их забрали у меня, не поставив в известность начсанарма… и что есть приказ командующего армией о бесперебойном медицинском обслуживании переправ…
— Все бы ничего, — проговорил офицер. — Да вот только забрал их у вас и передал мне сам командующий.
— Как?!
Я так и остался стоять с открытым от удивления ртом, пока новая мина не заставила меня опять растянуться в промоине…
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
1
После истории с неожиданным уводом и счастливым возвращением санитаров я дал себе слово: больше никогда, ни при каких обстоятельствах не отлучаться с переправы.
Поэтому-то термосы с горячей пищей повез на тот берег старшина, хотя до дневного обстрела туда собирался я — меня очень беспокоило, справлялись ли со своими обязанностями Сперанский и его отделение.
И как хорошо, что не поехал. Ровно через час после отъезда Саенкова на нашем берегу начали рваться вражеские снаряды. Они падали в такой близости от причалов, от паромов, что на некоторое время приостановилась погрузка боевой техники. И опять было несколько раненых. В том числе — тяжело.
Оказав всем им первую помощь, я побежал искать попутную машину. Плечо мне непривычно оттягивал автомат, ставший всего полчаса назад моим личным оружием, — его оставил на пароме кто-то из раненых.
Дороги были забиты машинами. Большинство их стояло, дожидаясь своей очереди на паром. Меня же интересовали другие, которые, доставив на берег военные грузы, возвращались обратно.
Я вскочил на подножку «студебеккера», с которого только что сгрузили крохотный речной катер. Просунув голову в кабину, я попросил шофера:
— Послушай, браток, подбрось раненых до госпиталя?
— Никак не могу. Я тут в десяти километрах сворачиваю…
— А может, подкинешь все-таки?
— Сам посуди, мне до утра надо еще три рейса сделать…
Я спрыгнул на землю и бросился ко второй машине — старому «газику», в кузове которого высоко подпрыгивали две порожние бочки. Дверца неожиданно раскрылась, и я едва устоял на подножке.
— Послушай, товарищ, захвати раненых?
— А куда я их положу?
— Как куда? В кузов!
— Да там складские дуроломы целую бочку солярки разлили!
Соскочил, кинулся к следующей машине. Это был крытый «форд», новенький, еще пахнущий свежей заводской краской.
Рядом с шофером сидел лейтенант.
— Товарищ командир! После того как разгрузитесь, — произнес я тоном, не терпящим возражений, — вам приказано забрать раненых!
— Кто приказал?
— Комендант переправы!
— Я не против, — сказал лейтенант. — Но мне надо сперва заехать за командиром автороты — он на соседней переправе. А через час будем здесь!
— Через час?
— Раньше никак не управимся!
До чего обидно! Так ловко сработала ложь, и все напрасно!
Легко перекатываясь через бугры, возвращался порожний «ЗИС». Я рванулся наперерез.
— Стой! Стой!
Из кабины выглянул шофер. Посмотрел на меня и как ни в чем не бывало продолжал крутить баранку.
Я чуть не задохнулся от ярости. Неужели никому, кроме меня, нет дела до раненых?
Я побежал изо всех сил. Почти у самого поворота догнал машину и вскочил на подножку.
— Давай сворачивай! — крикнул я шоферу. — Захватишь раненых!
Тот молча покосился на меня. «ЗИС» же продолжал набирать скорость.
— Ты что, не слышишь?
— Пошел ты…
— Ах так! — я спрыгнул на землю и, на бегу сорвав с плеча автомат, направил его на колеса. — А ну давай, а то как полосну!
— Ты что, сдурел? — шофер торопливо переводил скорость.
— Считаю до трех!..
Водитель резко затормозил и заорал:
— Ну, куда подавать машину?
— Я покажу! — сказал я, снова залезая на подножку.
И он развернул «ЗИС» и подал куда надо. Зато, пока он это делал, я узнал от него, что я и «чокнутый какой-то», и «псих ненормальный», и «сопляк, о которого неохота руки марать», и еще многое другое. Правда, я в долгу не остался. Я и не догадывался, что мой лексикон за последние дни заметно обогатился. Увы, кроме санитаров, это отметила и Зина, ходившая по воду на реку. Она терпеливо переждала, пока мы отправим раненых, затем подошла ко мне и весело сказала:
— А я-то думала, что вы, окромя «здравствуйте» и «пожалуйста», других слов не знаете!
Я смутился:
— Нечаянно как-то получилось.
— А за нечаянно бьют отчаянно! Знаете такую поговорку?
— Почти все ругаются, — оправдывался я.
— Все могут, а вам — не идет!
Она явно не торопилась к себе. Судя по всему, намерена была и дальше вести со мной разговор на разные темы. То, что ей хотелось повидать Саенкова, я понял сразу: она то и дело украдкой поглядывала на землянку — наверно, считала, что он сейчас там и в любую минуту может выглянуть.
Между тем затянувшееся отсутствие старшины начинало меня серьезно беспокоить. Что могло его задержать? По моим расчетам, он должен был вернуться часа два назад. Паромы, лодки, катера курсировали туда и обратно бесперебойно.
Чтобы Зина зря не томилась, я сказал, зябко поеживаясь от утренней прохлады:
— Что-то Саенкова долго нет…
— А где он? — живо спросила она.
— На том берегу.
— На том? — в ее голосе послышалась почтительная нотка. Впрочем, с уважительной интонацией говорили о правом береге почти все, кто находился на левом. — А чего он там делает?
— Повез горячую пищу первому отделению.
— А!.. Ну, ладно, — сказала Зина, поднимая Бедра. — Заболталась я тут с вами!
Пройдя несколько шагов, она обернулась и упрекнула санитаров:
— Хоть бы помог кто-нибудь!
Но те лишь мялись да переглядывались. Первым дрогнул Панько. Догнал Зину и подхватил ведра.
2
А через полчаса вернулся старшина — мрачный, с перевязанной рукой. На наш берег его доставили на лодке два бородача в шапках с красными ленточками — днепровские партизаны. На мой вопрос, что с ним, он отозвал меня в сторонку и доложил, что в первом отделении чепе — куда-то исчез Чепаль. Еще вечером Сперанский послал его вон в те хаты за молоком для раненых. Назад он уже не вернулся. Может, дезертировал, а может, сбежал к немцам: его тесть, сказывал Коваленков, был полицаем. Хорошо бы поспрашивать Задонского — все-таки из одного села, вместе ели, вместе пили.
Сам же он, Саенков, на том берегу обшарил все хаты, и нигде никаких следов. Зато пока искал — чуть не схлопотал пулю. А это? Так, слегка оцарапало…
— Да, с этим народом ухо надо держать востро! — сказал я и вдруг вспомнил, что почти теми же словами предупреждал меня о бдительности капитан со жгучим, пронизывающим взглядом. Тогда я ему не поверил. Даже осудил в душе за недоверие к людям. А возможно, он был прав…
Позвали Задонского.
Тот подошел, доложил почти по-уставному:
— Товарищу лейтенанте, явився по вашему наказу!
Его круглое усатое лицо с большими мешками под глазами выражало беспокойство.
— У меня к вам несколько вопросов, — сказал я.
— Пытайте. У мене вид вас тайн нэмае! — бойко заявил он.
— Вы хорошо знаете Чепаля?
— А що вин наробыв?
Итак, началась игра в кошки-мышки…
— Да ничего особенного, — соврал я.
— Та знаю трошкы. Людына як людына! — осторожно ответил санитар.
Но тут не выдержал старшина:
— Брось финтить, Задонский! Нашел перед кем дурочку валять!
— Яку дурочку? — удивленно и испуганно переспросил тот.
— А вот яку: сбежал к немцам твой Чепаль!
— Чепаль — до нимцив? — Вид у Задонского, точно его обухом по голове ударили.
— Или дезертировал, — постарался я несколько смягчить обвинение.
— Це не може буты, — негромко произнес санитар.
— Почему? — обрадовался я.
— Вин так чэкав наших, так чэкав…
— Не так, как у нас в поселке одна… стерва? Мужа ждала, а соседу дала? — со странным выражением лица проговорил старшина.
— У нього и сын був в партизанах.
— Сын в партизанах, а тесть в полицаях? С обеих сторон подстраховался?
— Вы и про тестя вже знаете?
— А ты как думал? — усмехнулся старшина.
— Так Чепаль за того тестя не видповидаэ! Той тесть вид першей жинкы.
Старшина повернулся ко мне:
— Ишь как закругляет! На все у него опровержение ТАСС имеется!
И опять к Задонскому:
— А ежели он у тебя такой хороший, то, может, скажешь нам с лейтенантом, куда он, такой хороший, подевался, покинул свой боевой пост?
— А як я можу то знаты? — пожал плечами Задонский. — Я на цьому берези, вин — на тому…
Мы со старшиной переглянулись. Дальше вести разговор было бессмысленно.
— Ладно, идите, Задонский, — отпустил я санитара.
Он неловко повернулся и зашагал к землянке.
— Куда же девался Чепаль?
— А хрен его знает! — произнес старшина. — Может, еще заявится…
3
Утром ко мне на перевязку пожаловал сам комендант переправы. Следом за ним в землянку спустился паренек в мятой шинели с солдатскими погонами. На его красненьком носу поблескивали очки в железной оправе. «Наверно, с майором», — решил я.
Лицо коменданта выражало смущение.
— Поглядите, лейтенант, что-то там все мокнет и тянет…
— Пожалуйста, раздевайтесь, товарищ майор, — произнес я и с упреком посмотрел на него. Кто-кто, а он, человек образованный и немолодой, должен был знать, к чему может привести отказ от госпитализации.
Мы с Орлом помогли ему снять шинель, портупею, гимнастерку, на которой тяжело повис еще ни разу не виденный мною орден Александра Невского. Я с трудом оторвал от него взгляд. Вот бы мне такой! Валюшка бы так и ахнула…
— Ну что там? — обеспокоенно спросил комендант.
— К сожалению, попала инфекция.
— А нельзя ли покрепче прижечь?
— Чтобы вам совсем плохо стало?
Неужели он все еще надеялся, что обойдется?
Сбоку сверкнули стекла очков: пареньку тоже захотелось взглянуть на рану. Пусть смотрит!
Пока шла перевязка, я молчал. Зато бинтов на майора не жалел. Даже рука устала крутить витки… Все! Теперь можно ему сказать.
— Товарищ майор…
— Бросьте, лейтенант!.. В госпиталь я не поеду!
— Товарищ майор, я не имею права больше оказывать вам помощь!
— Это еще почему? — ощерился он.
— Потому что я не врач. Ваша рана нуждается в срочном врачебном лечении в условиях госпиталя.
— Могу подтвердить! — вдруг услыхал я рядом слабый голос.
Вот это да! Солдатик, пришедший вместе с комендантом. Кто он? Медик? Но тогда почему без звания?
Впервые майор не знал, что ответить мне…
— Помогите одеться! — сорвал он досаду на Козулине и Буте, которые тихо занимались своими делами. Оба так и подскочили. Бросились выполнять приказание.
Когда майора одели, я велел отправить его в госпиталь на первой попутной машине…
Солдатик же в очках почему-то остался. Я подошел к нему и удивленно спросил:
— А вы разве не с майором?
— Нет, — он взглянул на меня исподлобья. — Меня прислали к вам. Вот записка.
Он достал из кармана шинели смятую грязную бумажку.
В ней мелким и аккуратным почерком было написано:
«Лейтенанту И. Задорину. Посылаю в ваше распоряжение бывшего слушателя второго курса Военно-медицинской академии Лундстрема в качестве фельдшера. Капитан Борисов».
Я заулыбался во весь рот. Это было так неожиданно, так здорово! Теперь во взводе нас будет уже три медика. Можно развернуться!
К тому же приятно иметь в своем подчинении настоящего слушателя академии. Пусть он еще не врач, но его голова, прикрытая засаленной пилоткой, надо думать, полна медицинских знаний. Однако до чертиков любопытно, почему он не доучился и по званию всего лишь рядовой. Даже не младший лейтенант, даже не старшина, даже не ефрейтор… Может быть, совершил какой-нибудь серьезный проступок и был отчислен? Впрочем, как непосредственный начальник я могу спросить об этом. Но сперва ответ по существу — на записку.
— Молодчага капитан Борисов! Нам вот так, — и я провел рукой по горлу, — нужен был еще один медик!
Лундстрем снял очки и принялся протирать их несвежим носовым платком. Его глаза подслеповато и беспомощно глядели на меня.
— Ты сам бросил учебу, — спросил я его как можно непринужденнее, — или…
— Или! — отрезал он и нацепил на носик очки.
Дальше выспрашивать его я не стал. Захочет — сам расскажет.
Теперь мы говорили исключительно о делах, и по его цепким вопросам ко мне я понял, что в медицине он разбирался и круг своих обязанностей представлял отчетливо. Мне он понравился с первого взгляда. И даже то, что он время от времени опасливо поглядывал на правый берег, гремевший всеми видами оружия, я воспринимал как нечто естественное и делал вид, что ничего не заметил.
А что, если воспользоваться его приездом и махнуть на ту сторону? Тем более что старшина, которому пришлось с ходу заняться поисками Чепаля, не имел времени поинтересоваться другими делами отделения. Список раненых, привезенный им оттуда, почему-то насчитывал всего восемь человек, то есть намного меньше, чем у нас. Это на правом-то берегу.
Короче говоря, надо ехать.
— Саенков! — обратился я к старшине. — Остаетесь за меня. Вместе с товарищем военфельдшером. А я — на тот берег!
4
Утреннее солнце еще только приглядывалось к наступавшему дню. Из своих недосягаемых высей оно осторожно посматривало на грохотавший правый берег, словно не зная, на что решиться — уйти ли от стрельбы на весь день за облака или, невзирая ни на что, отпустить людям то немногое из своих осенних остатков, что положено им на сегодня.
Наконец после долгих колебаний оно выбрало второе — открылось людям до последнего лучика.
Панько, которого я взял с собой, оттолкнул лодку от берега и всем туловищем повис на носу. Солдаты взмахнули веслами, и в лицо мне ударили тяжелые холодные капли. Я поежился. Первая лодка с шестью связистами ушла вперед метров на тридцать.
— Поднажать! — скомандовал сидевший на корме лейтенант.
Все шире становилась полоса воды, отделявшая нас от левого берега, и с каждым метром на душе было беспокойнее и торжественнее. Трудно сказать, представляли ли какой-либо интерес для гитлеровцев две рыбацкие лодчонки с солдатами, но то, что мы были на виду у немецких наблюдателей и корректировщиков, не вызывало сомнений.
Впрочем, связисты, спешившие на ту сторону, ничего этого не знали. Они полчаса назад прибыли из запасного полка и направлялись в одну из действующих частей — для восполнения потерь. Для них самое страшное начиналось там, на плацдарме, а переправа представляла собой лишь путь туда. Во всяком случае мне так показалось. Уж больно спокойно и безмятежно они сели в лодки, отчалили и вот теперь преодолевали все насквозь прострелянные метры речного пространства.
Единственно, чем они были озабочены, это не очень отрываться друг от друга. Лейтенант то и дело напоминал гребцам:
— Опять отстали!
И тогда связисты снова нажимали на весла.
Прямо над нашими головами с металлическим ревом пронеслась шестерка «ИЛов». Они прошли низко над правобережными холмами и ревущим штопором ввинтились в гремящую толщу боя.
Солдаты живо комментировали:
— Сейчас дадут немцам жизни!
— А что? Знай наших!
— «Горбатенькие» не подведут!..
Внезапно небо над нами наполнилось треском пулеметных очередей и громом орудийных выстрелов.
Резко набрав высоту, уходили отбомбившие и отстрелявшие весь свой боекомплект штурмовики. Их преследовало несколько «фокке-вульфов». Один «ИЛ» вскоре задымил и пошел на снижение. В этот момент из-за солнца вынырнули шесть «ястребков». Они молниеносно атаковали немецкие истребители. Огненные трассы разрисовали небо густой и рваной сеткой. Все смешалось. Где наши самолеты, где фашистские, разобраться было невозможно. И вдруг мы увидели, как пламя охватило один из «ястребков». Самолет стал падать крутой спиралью. От него отделилась темная точка. Затаив дыхание мы следили за свободным падением пилота, который стремительно приближался к воде. Когда до нее осталось всего метров сто — сто пятьдесят, над летчиком наконец раскрылся серебристый купол парашюта. Мы облегченно вздохнули. Но тут же нами снова овладел страх за пилота — сейчас его подстерегала новая опасность. До берегов было далеко, и широкая глубокая река терпеливо поджидала свою очередную жертву.
Обе наши лодки немедленно повернули к месту будущего падения, до которого было по меньшей мере метров триста. Господи, только бы успеть!
Летчик мгновенно погрузился в воду, и его медленно накрыло огромное полотнище.
Никогда в жизни, наверное, связисты так не работали веслами, как в эти минуты.
Парашют течением отнесло в сторону. На поверхности воды показалась голова. Она то исчезала, то появлялась вновь. Летчик выбивался из сил. Хорошо, что ему как-то удалось освободиться от парашюта. Однако набухшие одежда и обувь тянули его вниз, и неизвестно, сумеет ли он продержаться до нашего подхода…
Теперь до него было метров сто.
— Ребятки, ну еще маленько, ну еще маленько, — упрашивал гребцов лейтенант.
Один солдат на нашей лодке и двое на той скинули с себя одежду и стояли в чем мать родила, готовые в любое мгновение прыгнуть в воду. Сбросил свою кожанку и стал расстегивать ботинки Панько…
Вдруг летчик что-то крикнул и снова скрылся под водой.
Прошла одна долгая секунда… другая… третья… четвертая… целая вечность, а он все не появлялся.
Даже я, не умевший плавать, машинально подался к борту. А о других и говорить нечего. Разом бросились в воду трое связистов. Последним прыгнул Панько. Посмотрел на меня, дурашливо перекрестился, набрал воздух и нырнул.
— Мина! — неожиданно воскликнул лейтенант.
Я обернулся и увидел, как метрах в двадцати от нас взметнулся и осел водяной столб.
— Вот паразиты! Ведь видят же, что человека спасаем! — возмутился лейтенант.
Нараставший свист второй мины прижал нас к днищу. На этот раз столб воды поднялся за передней лодкой.
Третья и четвертая мины разорвались неподалеку от ныряльщиков. К счастью, осколки никого не задели: все четыре головы одна за другой замелькали на поверхности.
Несмотря на обстрел, солдаты и Панько продолжали нырять, но все безрезультатно.
Оставаться дольше было бессмысленно. И все-таки лейтенант никак не мог решиться отдать приказание о прекращении поисков. Его, как и нас, мучило сомнение: а что, если летчик где-то рядом и его можно еще спасти? Но и рисковать своими людьми он тоже не хотел.
В этот момент за нашей кормой разорвалась пятая мина. То ли взрывной волной, то ли осколком выбило кое-где шпаклевку, и лодку начало медленно заливать. Кто чем — касками, банками, саперными лопатками — стали вычерпывать воду.
— Назад! — крикнул спасателям лейтенант.
Трое из них поплыли к лодкам.
Всплывший последним Панько отчаянно закричал:
— На пидмогу!
Рядом с ним безжизненно шевелилось тело пилота.
Связисты тотчас же повернули обратно.
— Ребятки, подойдемте ближе! — обратился к гребцам лейтенант.
Несколько сильных взмахов веслами, и лодку вплотную подогнали к Панько.
Ухватившись за мокрую и скользкую куртку, мы попробовали втащить летчика в лодку.
Где-то впереди всплеснул воду очередной близкий разрыв. Мы пригнулись. Один из связистов, сидевший на веслах, удивленно посмотрел себе на запястье — оно мгновенно окрасилось кровью. Вот и первый раненый!
И тут летчик стал выскальзывать у нас из рук. Я с ужасом увидел, что Панько, поддерживавший его из воды, вдруг как-то странно запрокинулся и быстро пошел ко дну.
Я смотрел в лица подплывших связистов и молча показывал рукой на то место, где только что был санитар, — неожиданно я потерял дар речи…
Летчика и Панько втащили в лодку одного за другим. Панько был мертв. Осколок угодил ему чуть ниже сердца. Летчика же откачали. У него оказались перебиты обе ноги. Как он еще только держался на воде?
Я глядел на белое лицо Панько и уже не узнавал его. Какое-то чужое, незнакомое. Вот так и унес он с собой тайну своего испытующего ласкового взгляда…
5
Похоронили мы Панько в окопчике неподалеку от обрыва. На это ушло минут десять, не больше. Летчика в той же лодке отправили на левый берег. Потом связисты пошли своей дорогой — вправо, а я своей — влево. Один…
Первым из санитаров мне встретился Зубок. Он приколачивал указатель с надписью «Санпост». Вот молодцы! Так точно и верно назвали. Не медпункт, не санчасть, а именно санпост.
— Зубок! — позвал я.
Сказано было под руку, и он саданул себя камнем по пальцу и взвыл от боли. Затем простонал:
— Це вы, товарищ лейтенант?
— Сильно ударили?
— Гитлеру бы так промиж очей!
— А вы подуйте, помогает, — посоветовал я и смутился — так говорила мне мама.
Зубок с недоверием посмотрел на меня и… подул.
— Та и справди полэгшало, — удивленно сообщил он.
По пути к землянке мы разговорились. Зубок оказался человеком словоохотливым и бесхитростным. Через несколько минут я был в курсе всех новостей. О судьбе Чепаля до сих пор неизвестно. Прямо как в воду канул. Но большинство считает, что его где-то убило и засыпало землей. Сегодня утром отличился младший Ляшенко — Савва. Упал, зацепившись ногой за колючую проволоку, и чуть ли не до кости распорол себе руку. У старшего Ляшенко — Теофана — тоже беда: на заднице вскочил чирей, ни встать, ни сесть. Но больше всех не повезло Коваленкову. Второй день понос — едва успевает добежать до кустов…
— А зараз и я соби по пальцю тюкнув! — закончил свой рассказ об общих несчастьях Зубок.
— Хоть сам-то Сперанский здоров? — спросил я.
— Та здоровый, — успокоил меня санитар. — Ось вин иде!
К дороге по склону спускался в своей длинной, прожженной до дыр шинели Сперанский. Его мрачное лицо выражало крайнюю сосредоточенность.
Я помахал рукой. Он увидел меня и сдержанно улыбнулся: ни радости, ни удивления, всего лишь сухая регистрация факта моего появления. Возможно, это и хорошо — обходится без меня.
Подошел, доложил:
— Товарищ лейтенант, первое отделение отдыхает после дежурства. По списку числится шесть, налицо пять. Санитар Чепаль не вернулся с задания. Проведенные поиски оказались безрезультатны.
Ну, об этом мне уже известно.
— Скольким раненым вы оказали помощь? — спросил я.
Сперанский замешкался с ответом.
— Что случилось?
— В первую ночь помогли восьмерым.
— А вчера? А сегодня?
— Нам сказали, что раненых перевяжут и без нас, что наше дело только таскать их на носилках.
— Кто сказал?
— Командир санвзвода.
У меня вытянулось лицо:
— Кто?!
Он повторил:
— Новый командир санвзвода.
Я обалдело смотрел на него. Потом собрался с духом и потребовал объяснений. И вот что выяснилось. Ночью объявился незнакомый старший лейтенант, назвавшийся командиром санвзвода. С ним были санинструктор и два санитара в военной форме. Они заняли одну из пустых землянок на берегу и устроили там медпункт. Когда начался обстрел и появились первые раненые, обе группы, разумеется, столкнулись нос к носу. После недолгого выяснения отношений старший лейтенант принял под свою высокую руку мое отделение.
— Проведите меня к нему, — приказал я Сперанскому.
Тот молча двинулся под гору.
Новый медпункт я разглядел издалека — около него на шесте трепыхал флажок с красным крестом, сидели и лежали раненые.
Что же это все могло значить? Я не знал, что и думать.
Мы вошли в землянку. Ее стены и потолок были обтянуты белыми простынями. Чистота, порядок. Под стать общей белизне и лицо старшего лейтенанта — бледное, с бесцветными, слегка вывернутыми губами. Он точными и уверенными движениями перевязывал раненого.
— Вам что? — неприязненно спросил он.
— Нужно срочно поговорить.
— Подождите снаружи, — кивнул он головой на выход.
Я едва не задохнулся от возмущения: он осмелился указать мне на дверь!
— Сперанский, пошли!
Я отшвырнул брезентовый полог и вышел из землянки. Не оглядываясь, что есть духу зашагал в гору.
Вскоре меня догнал Сперанский.
— Зря вы…
— А кто ему дал право так разговаривать со мной? — негодовал я.
— Так ведь раненые не виноваты? — раздумчиво упрекнул он меня.
От этих пронзительно тихих слов все внутри у меня мгновенно застыло. Он прав: никакие обиды, никакие личные соображения не должны заслонять главного. А главное — это раненые.
Сделав еще несколько шагов в гору, я решительно повернул назад…
6
Дожидаясь у медпункта старшего лейтенанта, я незаметно втянулся в разговор с одним из санитаров — рыжим ефрейтором со значком авиадесантника. Тот ничего не скрывал, и вскоре я знал о новом командире санвзвода если не все, то многое. Они вообще были не из нашей армии. Это меня очень обрадовало. А то я уже начинал подумывать о грандиозном подвохе со стороны подполковника Балакина.
В целом я был доволен случившимся. Еще бы, такая тяжесть свалилась с плеч. Мои заброшенные, предоставленные самим себе санитары первого отделения нежданно-негаданно обрели руководителя, которого я не мог им предоставить. Лундстрем же пока нужен был там, на левом берегу, — его присутствие развязывало мне руки. Во всяком случае от объединения с чужими медиками дело лишь выигрывало. Досадно только, что человек, с которым предстояло работать, видно, грубиян каких мало. Но другого выхода у меня нет: мы должны, мы обязаны найти общий язык!
Между тем он по-прежнему вел себя недружелюбно. Несколько раз выглядывал, бросал на меня неприязненный взгляд и просил зайти или внести следующего раненого. Я упрямо продолжал сидеть и ждать, хотя меня все время подмывало встать и уйти. Пока он занимался ранеными, я не имел права выражать какого-либо неудовольствия.
Но вот наконец наступил момент, когда он, закончив все перевязки должен был удостоить меня вниманием. Однако прошло минут десять, прежде чем он подошел ко мне.
— Ну, что у вас? — спросил он, уставившись в меня своим недобрым взглядом.
— То же, что у вас, — ответил я сидя.
В его глазах пробежало недоумение.
— Кто вы такой?
— Командир санвзвода, — сощурился я.
Теперь лицо вытянулось у него.
— Кто?
— Командир санитарного взвода, — и я назвал гвардейский танковый корпус, которому мы были приданы.
— Это ваши? — кивнул он в сторону нашей землянки. Впервые в его глазах появилась озабоченность.
— Наши, — сказал я, не сводя с него насмешливого взгляда.
— Вы собираетесь их забрать?
— Да нет, совсем наоборот!
— Что наоборот?
— Оставить их в вашем подчинении. — Последние слова я произнес так, как будто вручал ему по меньшей мере командование над всем нашим корпусом.
И вдруг старший лейтенант улыбнулся своими некрасивыми вывернутыми губами, тихо и задушевно спросил:
— Спирт пьешь?
— Пью, — ответил я, хотя никогда еще не пил ни спирта, ни водки. Даже красное вино я попробовал всего один раз — перед отправкой на фронт.
— Давай лапу! — сказал он, протягивая руку.
Я подал свою. Он помог мне встать и, хлопнув по плечу, сказал:
— Пошли!
Мы спустились в землянку. Там он достал из походного ящика бутылку с прозрачной жидкостью, две мензурки и налил в них ровно по пятьдесят граммов.
— Наркомовская норма. Так будешь пить или с водой?
— Так! — героически ответил я.
— Дают танкисты! — в его глазах промелькнула едва заметная усмешка. Он отвел взгляд в сторону и подал мне полную мензурку.
Я уже готов был опрокинуть ее таинственное содержимое в рот, как в землянку с грохотом ворвался рыжий ефрейтор.
— Товарищ старший лейтенант! Там снарядом машину с автоматчиками накрыло!
— Где? — Мой коллега опустил мензурку на стол. В воздухе запахло пролитым спиртом.
— Наверху, у села! Полно убитых и раненых! А по соседству ни врачей, ни фельдшеров. Даже перевязать некому!
— Лейтенант! — обратился ко мне мой новый знакомый. — Берите своих — и наверх! Мы догоним!
7
Мы взобрались на первую высотку. За желтеющим кукурузным полем начиналось большое село. Плотная завеса дыма и пыли поднималась за дальней околицей. Громко и отчетливо долетала каждая пулеметная и автоматная очередь, каждый винтовочный выстрел.
И здесь всюду овраги. Только вскарабкались, как снова надо спускаться. А потом опять вверх — вниз, вверх — вниз.
Везде окопы, траншеи, колючая проволока. Еще два дня назад эти овраги по многу раз переходили из рук в руки. Кругом следы ожесточенных схваток — опрокинутые и разбитые орудия, сожженные танки и самоходки, покореженные и втоптанные в землю винтовки и автоматы. Повсюду золотились гильзы.
В то время как танки и пехота дрались уже по ту сторону села, минометные и артиллерийские батареи находились еще на прежних огневых позициях.
Прямо над нашими головами проносились мины — их тут же, у нас на глазах, закидывали в стволы сноровистые работяги-минометчики. И сотрясали воздух, рвали барабанные перепонки стоявшие совсем рядом орудия.
Мы бежали по селу, то и дело кланяясь, — чуткое ухо улавливало посвист шальных пуль.
— Вон она! — крикнул мне Сперанский.
Из-за деревьев, обступавших хатки, показалась развороченная снарядом автомашина. Она стояла поперек дороги, и около нее толпились люди.
— Быстрей! — подгонял я санитаров.
Несмотря на грохот близкого боя, я слышал, как позади тяжело бухали сапоги Сперанского, дробно стучали ботинки остальных санитаров.
Нас заметил и двинулся навстречу офицер. На погонах сверкнули два просвета. Майор-артиллерист!
— Доктор? — спросил он.
— Да, — ответил я, смутившись. В конце концов, на фронте всех офицеров-медиков называли докторами, — а чем я хуже других? Майор сообщил:
— Из двенадцати пятерых наповал. Остальные ранены.
— Тяжело?
— Есть и тяжело…
Солдаты расступились, пропуская нас. Раненых старательно, но неумело перевязывала молоденькая девушка-санитарка. Убитые лежали чуть поодаль. Два солдата натужно тащили от машины еще одно изуродованное тело.
— Пустите! — сказал я девушке.
Она сразу уступила мне место возле раненого. Сперанский принялся за второго бойца.
Я еще не закончил перевязку, как рядом раздался протяжный скрежет автомобильного тормоза. С подъехавшей «санитарки» спрыгнул старший лейтенант.
— Дали всего на полчаса. Довезти до медпункта, — сообщил он. — Надо в темпе! А там, на берегу, если потребуется — подбинтуем.
Втроем у нас дело пошло быстрее. За каких-нибудь четверть часа мы перевязали и погрузили в машину всех раненых. Повез их старший лейтенант. А я со своими санитарами пошел пешком — не хватило места в фургоне.
8
Чтобы нас также не накрыло снарядом или миной, я приказал рассредоточиться.
Неподалеку от меня, как будто приглядываясь ко мне, шагал Коваленков.
Когда в одном месте наши тропки сблизились, он вдруг воровато оглянулся и сунул мне в руку какой-то листок.
— Товарищ лейтенант, це вам!
— Что это? — удивился я.
— Потим подывытэсь! — быстро проговорил он и, опять воровато оглянувшись, отстал от меня.
Я положил бумагу в карман. Потом так потом.
Мы двигались навстречу частым вспышкам выстрелов — артиллерийские и минометные батареи усилили обстрел немецких позиций. Прямо над нами полосовали воздух снаряды и мины. И хотя это ощущение не из приятных, мы быстро к нему привыкли. Даже перестали кланяться.
Когда до оврага оставалось всего метров сто, вдруг лихорадочно забили зенитки.
Я услыхал мгновенно нараставший рев неприятельских самолетов и заорал истошным голосом:
— Ложись!
И сам бросился на землю. Я не смотрел в небо и не видел самолетов, но уже твердо знал, что они пикировали не куда-нибудь, а на ближайшую минометную батарею.
С тонким металлическим воем прямо на меня, на нас падали бомбы…
Земля, в которую я до полного изнеможения врастал пальцами, лбом, подбородком, всем своим ставшим в одно мгновение таким огромным и неповоротливым, таким открытым для бомб, для осколков телом, внезапно перевернулась и опрокинулась на меня. Я пытался оттолкнуть ее руками, но они лишь погружались в нее как в старую ветошь, проходили насквозь и боролись с пустотой.
Когда после короткого помутнения я пришел в себя, то увидел, что лежу на боку и медленно продираюсь головой сквозь рыхлые, пропускающие свет комки земли…
Я пошевелил руками, ногами — вроде бы целы…
Стряхнул с себя гору песка и разной трухи. И услышал звук быстро удалявшихся самолетов. Посмотрел вслед: оба «юнкерса» набирали высоту и вокруг них вспыхивали все новые и новые хлопья разрывов.
Вскоре самолеты сверкнули плоскостями и скрылись в солнечных лучах.
Я вскочил на ноги.
Метрах в десяти от меня зияла огромная воронка. От нее в разные стороны тянулись узкие языки грунта, выброшенного из глубины взрывом.
Батарея же как стояла, так и продолжала стоять — ровненько задрав в небо короткие стволы. Возвращались на свои места минометчики, пережидавшие бомбежку в укрытиях.
Но где же санитары?
Первым я увидел Сперанского. Он стоял и тоже беспокойно осматривался.
А вот и остальные. Выбирались из траншеи, подсаживая друг друга, толстяки Ляшенко. Осторожно поднимался из-за старой яблони Коваленков.
— Товарищ лейтенант! — обратился ко мне Сперанский. — Вы не видели Зубка?
И впрямь, где Зубок? Неужели убит или тяжело ранен?
— Зубок! — позвал Сперанский.
Прошла добрая минута, прежде чем из окопа с опаской выглянула голова, с которой скатились комья земли.
— Зубок, жив-здоров? — обрадовался я.
— Улетив?
— Улетели! Давай вылезай! — сказал Сперанский.
Мы помогли Зубку выбраться наружу. Он показал на свои уши, а затем принялся трясти головой, пытаясь прогнать глухоту.
— Не тряси, — предупредил его Сперанский. — Может стать хуже. Это контузия!
Удивленно поглядывая на огневые позиции, внезапно погрузившиеся в тишину, Зубок молча зашагал за нами к оврагу. Теперь мысли о нем, о его контузии не давали мне покоя. Хорошо, если это не сегодня-завтра у него пройдет. В противном случае придется отправить в госпиталь. И тогда на правом берегу останутся четыре санитара. Да и те при желании могут объявить себя больными — у каждого что-нибудь…
Хотя бы тот же Ляшенко-старший. После сегодняшней беготни состояние его явно ухудшилось. Он уже плелся в хвосте, с трудом переставляя ноги.
Я обождал его. Осторожно спросил:
— Ну как фурункул?
— Хоч лягай та помирай, — тяжело вздохнул он.
— Ничего, Ляшенко, пройдет!
— Товарищ лейтенант, а може, там не чиряк, а пуля? — робко предположил он.
— Пуля? — я не удержался и захохотал.
— А що, не може буты? Колы я пид кущем сыдив, вона и куснула?
— Пуля бы не так куснула!
— А мабуть вона при кинци лету була?
— Вот разве только на излете, — весело согласился я.
И тут я увидел глаза Теофана. Они смеялись. Неужели его самого забавляла вся эта история с фурункулом, вскочившем у него на заду? Тогда он — ей-богу! — достоин всяческого уважения, толстячок в брезентовом плаще, бывший заготовитель сельхозпродуктов.
— Сперанскому показывали?
— Показував.
— Что он говорит?
— Що це тилькы начало!
И фыркнул, мать честная!
Увидев, что я разговариваю с его братом, остановился подождать нас младший Ляшенко — Савва.
— Что, тоже пуля? — спросил я, показывая на забинтованную руку.
— Вы маете в виду ту пулю, що вин придумав?
И мы все втроем засмеялись. Сейчас я готов поклясться, что у них и в мыслях не было идти в госпиталь.
— Я сам посмотрю ваши раны, — пообещал я.
— Добре дило, — отозвался старший Ляшенко.
В этот момент мы обнаружили, что сбились с дороги, спустились в совсем другой овраг. Сперанский упрекнул меня:
— Вы пошли, а мы все за вами.
— Мало ли куда меня занесет, — попробовал я отшутиться.
— Ладно, учтем на будущее, — неожиданно поддержал мою шутку командир отделения.
Чтобы не лазить вверх-вниз по горкам в поисках пропавшей дороги, решили спуститься этим оврагом до Днепра, а там берегом добраться до медпункта.
Шли тропкой, извивавшейся по склону.
Я вспомнил о Коваленкове, который после того, как сунул мне записку, держался от меня на расстоянии.
Интересно, что в ней? Правда, он попросил посмотреть ее потом. Но «потом» — это уже сейчас. Кроме того, меня начало разбирать любопытство…
Я пропустил отделение вперед и достал из кармана смятый листок. Развернул. Он весь был исписан малограмотными каракулями. С огромным трудом разобрал первую строчку: «Як совецки патриот сообчаю секретно про чужи илементив…» Что это? Ах вот что! Коваленков осведомлял меня, а в моем лице, по-видимому, и командование, о прошлом своих приятелей… «Чепаль — тесть палецай… (Все тот же злополучный тесть — тесть номер один!) Задонски — батька деакон, сослан Сибир… (Ну и что? Сын за отца не ответчик!) Орел — куркуль… (Чушь! Был бы он кулаком, так бы ему и доверили воспитание детей!) Панько — дизиртир з партизанскава атряду…»
Это был донос — настоящий донос на своих товарищей! Я с силой скомкал и швырнул листок на землю. Но через несколько шагов спохватился: а вдруг кто-нибудь найдет и прочтет? Быстро вернулся. Поднял, спрятал в карман…
Не знаю, видел ли Коваленков, как я расправился с его сочинением.
Я догнал его. В крохотных зрачках санитара спаялись ожидание и настороженность.
Я участливо спросил:
— Как ваш живот?
— Мий жывит? — удивился он.
— Ну да, ваш!
— Дуже погано, товарищ лейтенант! И болыть, и проносыть кожни пивгодынкы!
— Придется в госпиталь лечь! — сказал я.
— Та хиба я проты? — жалобно произнес он. — Колы треба, то треба…
У меня отлегло от сердца.
Скатертью дорога, приятель! Слава дизентерийной палочке, выбравшей из многих доносчика! А мы уж без тебя как-нибудь перебьемся.
9
Первым на мине подорвался солдат, который взбирался по склону со стороны реки. На помощь к нему бросился Зубок, находившийся ближе всех, и новый взрыв взметнулся вместе с душераздирающим криком. Маленький санитар сделал еще несколько шагов и упал ничком.
Мы мгновенно скатились с минного поля на тропинку, проходившую в середине оврага.
Время словно остановилось. Мы с ужасом смотрели, как Зубок пытался встать, но никак не мог справиться со своим странно укороченным телом. Потом он повалился на бок, перевернулся на спину и беспорядочно задвигал руками и ногами. А рядом с ним неподвижно лежал солдат, первым наскочивший на мину. Он был или убит, или потерял сознание.
От них нас отделяли десять — пятнадцать метров, усеянных невидимыми противопехотными минами.
Мы заметались по тропинке, не зная, что делать. Понимали, что каждая упущенная секунда все меньше оставляла надежд на спасение раненых.
Вдруг Сперанский выдернул из валявшейся на земле винтовки шомпол.
— Я пошел!
— Не надо! — закричал я.
— Я видел, — спокойно сказал он, — один солдат так прошел все минное поле…
И, поколов шомполом в нескольких местах землю, он сделал первый шаг… затем второй… третий…
Когда самодельный миноискатель в руках Сперанского натыкался на что-то твердое, я весь замирал…
Я сознавал, что также должен решиться на это. Каким бы опытным санинструктором ни был Сперанский, его знания медицины уместятся на одной или двух страничках школьной тетради. Он даже укола сделать не сможет, чтобы поддержать в раненом слабый огонек жизни.
Еще два-три шага, и я позабуду, куда он ставил ногу. Неизмеримо возрастет риск.
Или сейчас, или его невидимые следы сотрет время.
Моя правая нога нащупала знакомую площадку между бугорками, а левая, задев чертополох, перенесла тело на целых два шага вверх по склону. Дальше меня взяло сомнение: тот ли это камешек, на который наступил тяжелый сапог санинструктора? По отношению к одуванчику тот был чуточку левее. Или это обман зрения? Но другого тут нет. Значит, он… Наступил. Полный порядок… А выше основательно примята трава. Опасаться нечего.
Сперанский обернулся, сурово поинтересовался:
— А вы-то зачем?
— Странный вопрос, — ответил я.
— Смотрите, оставите взвод без фельдшера! — предупредил он.
— Ничего, — в тон ему ответил я. — Теперь у меня на каждом берегу по помощнику.
— Идите хоть по моим следам!
— А я по ним и иду!
Правда, раза два или три меня подводила зрительная память и я ставил ногу наугад. Но, к счастью, судьба меня миловала.
И так шаг за шагом поднимались мы по косогору, подгоняемые стонами одного раненого и молчанием другого.
— Осторожнее, — предупредил меня Сперанский, когда мы приблизились к месту взрывов.
Первым у нас на пути лежал солдат. Короткого осмотра его неподвижного тела было достаточно, чтобы установить, что мы ему уже не нужны.
Зубок был еще жив, хотя и находился в бессознательном состоянии. Он все реже и реже шевелил ногами. Осколками ему срезало обе ступни, которые вместе с ботинками держались на одних сухожилиях. Под ним была огромная лужа крови.
Впервые я совершенно потерял голову, не знал, за что хвататься. Лихорадочно рылся в своей санитарной сумке и не мог отыскать то, что лежало на самом виду.
Потом мы со Сперанским накладывали жгуты и перевязывали раны. С каждой секундой лицо Зубка становилось бледнее и прозрачнее.
— Готов, — сказал Сперанский.
— Что? — не понял я.
— Умер…
Действительно, налицо были все приметы смерти, но я еще на что-то надеялся: пытался нащупать пульс и услышать слабое туканье сердца. Даже попробовал поймать зеркальцем дыхание.
— Напрасно вы, товарищ лейтенант, — сказал мне Сперанский и закрыл Зубку глаза…
10
С невероятным трудом и предосторожностями мы со Сперанским вынесли умерших с минного поля. Затем на носилках по одному спустили к берегу.
И уже внизу вдруг меня окликнули. Я обернулся в полной уверенности, что это кто-то из санитаров, и неожиданно встретился со знакомым пронизывающим взглядом.
— Лейтенант, пройдемте со мной, — сказал капитан с тонкими усиками.
— Зачем? — я даже отступил.
— Здесь, неподалеку…
Я оглянулся на санитаров, которые удивленно смотрели на нас и озадаченно переглядывались.
— Товарищ капитан, мне же хоронить надо!
— Ничего, похоронят и без вас.
— Я бы хотел присутствовать. Кроме того, мы собирались похоронить их рядом с другим нашим санитаром — за причалами.
— Тогда придется подождать, — жестко произнес он и кивнул в сторону санитаров. — Они тоже могут понадобиться.
Неужели ему до сих пор не давали покоя мои гражданские санитары? Или в самом деле они в чем-то провинились перед советской властью? Что ему известно о них? У меня же сейчас лишь к одному из двенадцати не лежало сердце — к Коваленкову. Вот бы за кого я не поручился.
А что, если капитан имел дело лично ко мне? Сомнительно. Пока я за собой никаких грехов не чувствовал…
Землянка капитана находилась в крохотном овражке.
И тут меня точно кипятком обдало. Я вспомнил о записке Коваленкова, лежавшей в кармане шинели. Незаметно пригладил ее ладонью.
— Садитесь! — сказал капитан, когда мы вошли внутрь.
Я опустился на снарядный ящик.
Капитан уселся за самодельный дощатый стол, достал из полевой сумки какие-то исписанные листки, два карандаша.
Только после этого со значением произнес:
— У нас говорят правду.
— Я знаю, — сказал я, покраснев.
— Расскажите все, что вам известно о Чепале…
Значит, их интересовал Чепаль. Похоже, они уже располагали о нем сведениями. Как минимум — о его таинственном исчезновении. Как максимум — о его дальнейшей судьбе.
Я рассказал все, что слышал о нем от санитаров. Умолчал лишь о Коваленкове. Не все ли равно, кто первый сообщил о бывшем тесте?
— Стало быть, прошлое у него как стеклышко? — сыронизировал капитан.
— Вы просили меня рассказать, что я знаю. Я рассказал. А выводы делайте сами, — вдруг разозлился я.
— И сделаем, можете не сомневаться.
В последних словах мне послышалась угроза.
Я струхнул. Вспомнил о записке, лежавшей в кармане, о Коваленкове, которому ничего не стоило установить прямой контакт с капитаном, о своих санитарах, чье будущее, возможно, находится в руках сидевшего напротив меня человека. И решил вести себя потише.
— Значит, вы ничего не замечали подозрительного в этом человеке? — Многозначительность, с какой были сказаны эти слова, не предвещала ничего хорошего.
— Никак нет!
— А в других ваших людях?
Смятый листок раскаленным железом жег мне бедро.
— Тоже, товарищ капитан!
Помолчав, капитан впервые произнес просто, без иронии и скрытой угрозы:
— Что ж… — и добавил после короткой паузы: — Я ожидал от беседы с вами большего.
— Товарищ капитан, скажите же, что с ним? Где он? — не выдержал я.
— Где он? Здесь.
— Как здесь? — я окинул взглядом землянку. Попутно удивился, заметив в углу незнакомого сержанта. Тот сидел за крохотным столиком и записывал мои ответы. Когда он зашел?
Капитан сделал ему знак. Сержант встал и вышел из землянки. Вскоре над ступеньками, ведущими вниз, показались его хромовые сапоги. Они немного посторонились, пропуская вперед старые, ободранные, на веревочках, сандалии.
Чепаль вошел с уже устремленным к столу, за которым сидел капитан, взглядом — выжидательным и покорным. На меня он почему-то даже не посмотрел.
— Ну что, Чепаль, так и не скажешь, что высматривал в селе? — вороша бумаги, спросил капитан.
— Товарищ капитан, я же казав…
— Ну ладно, собирайся.
— Куды, товарищ капитан? — испугался санитар.
— К себе, во взвод!
Это было так неожиданно, что Чепаль онемел от радости. И тут он взглянул на меня.
— Товарищ лейтенант! А я вас и не помитыв!
Пятясь к выходу, он долго благодарил контрразведчика:
— Спасыби вам, товарищ капитан! Спасыби вам, товарищ капитан!
Встал и я:
— Разрешите идти?
— Идите… Идите хороните своих бойцов! Бойцов!
Так называли моих гражданских санитаров впервые. Но большинство из них, ей-богу, это заслужили.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
1
От раненых нам стало известно, что последняя немецкая атака захлебнулась еще на дальних подступах к селу. В узкой лощине остались догорать двенадцать фашистских танков и самоходок. На какое-то время на переднем крае наступило затишье. Оставили немцы в покое и наш левый берег, хотя по-прежнему действовала переправа и все новые и новые подразделения перебрасывались на ту сторону.
Мы отправили в госпиталь очередную группу раненых и сейчас терпеливо ожидали возвращения паромов.
К нам с Лундстремом, сидевшим на бревне, подошел скорбный Орел. Сперва я подумал, что просто так — постоять рядом. А он, вежливо переждав какой-то наш случайный и необязательный разговор, вдруг сказал мне по-украински:
— Товарищ лейтенант, идить у землянку.
— А что там?
— Треба трошкы хлопцив помянуты…
— Прямо сейчас? — испугался я.
— Колысь треба ж…
Да, надо. Это я понял еще вчера. Подавленные смертью двух своих товарищей, санитары буквально не находили себе места. Особенно были потрясены Орел, Бут и Задонский. Требовалась хоть небольшая разрядка.
Но пить в боевой обстановке? Притом командиру со своими подчиненными?
Орел угадал мои мысли.
— Да там всего одна бутылка, — снова заговорил он по-русски. — На восьмерых. По чарке на брата и того не будет…
Ну если так — только помянуть.
Я встал, оглянулся на Лундстрема, который сосредоточенно ковырял сапогом песок.
— Товарищ фельдшер, пойдемте! — позвал его Орел.
— Вы — мне? — сделал тот удивленный вид.
— Да, вам.
Упрашивать его не пришлось. Он поднялся и, шмыгая носом, поплелся за нами.
Нас ждали. В окружении нарезанных ломтей хлеба, соленых огурцов и тонко наструганного сала возвышалась одна бутылка с мутной, синеватого оттенка жидкостью.
Собрались все, кроме старшины, который повез на тот берег горячую пищу, и Дураченко, заступившего на дежурство.
Уверенной рукой Орел разлил самогонку. Поднял кружку и дрогнувшим голосом произнес:
— Помянемо же, хлопци, мого любого дорогого учня, славного партизанського розвидныка — Володю Панька…
А я и не знал, что Панько был разведчиком и что его звали Володей.
— …и Зубка Дмитра, теж добру людыну…
А Зубка — Дмитрием.
— Щоб земля им була пухом!
Выпили. Большинство залпом, не поморщившись. Зато мы с Лундстремом с трудом, украдкой подавляя рвотное движение. Молча заели тошноту хлебом и солеными огурцами. Внутри стало тепло, приятно кружилась голова.
— Товарищ лейтенант! — Орел подался ко мне всем корпусом. — Панько двенадцатый из моих учеников, кого война схрумкала.
— На фронте погибли?
— Кто на фронте, а кто в партизанах. А двоих германцы за их очи черные…
— Как за очи?
— А так. В глубоком яру.
— Товарищ лейтенант, где ваша кружка? — спросил меня Козулин.
— Вот. А что?
И тут я увидел в руках Задонского вторую бутылку самогонки.
— Что вы? Зачем столько пить? — всполошился я.
— Та хиба мы пьемо, товарищу лейтенанте? Мы ж своих братив поминаемо! — возразил Задонский.
— Да, конечно, — смутился я. — Только больше — прошу вас — не надо…
— Можете не сомневаться, товарищ лейтенант, — заверил Орел.
Налили снова.
Ко мне потянулся со своей кружкой Лундстрем.
— На поминках не чокаются, — шепнул я ему.
Он смущенно убрал кружку, поставил ее себе на колени.
То ли самогонка на этот раз была лучше, то ли уже наловчился, но сейчас я выпил и даже глазом не моргнул, в отличие от Лундстрема, который опять поперхнулся и долго боролся с тошнотой.
Орел делился с Козулиным воспоминаниями о Панько:
— Я его помню еще вот таким, — и показал вровень с нарами. — А Витю Бута только с пятого класса…
Бут, который всегда краснел при упоминании о нем, залился румянцем.
Когда Орел на минутку отвлекся и оставил в покое Козулина, к тому подсел Задонский. Размазывая по щекам слезы, он принялся рассказывать, какой добрый и хороший был Зубок.
— Якщо не вирыш, спытай Коваленка!
Видимо, позабыл, что Коваленкова я еще вчера отправил в инфекционный госпиталь.
— Вот пью, поминаю, — сказал мне Лундстрем, — а какие они из себя, не знаю. Одного вообще не видел, а другого — не запомнил.
— Да он был в черной кожаной куртке, подпоясанной веревкой! Белозубый такой, все улыбался! — Панько стоял перед мной как живой.
— Нет, не помню.
— Видправылы Коваленка…
Кто это сказал? А, Задонский! Все-таки вспомнил…
Так я и утаил от всех историю с доносом — решил, что не время сейчас разжигать страсти. Но главное сделано — избавились от мерзавца.
Зато остальные люди как люди. Даже новичок Лундстрем пришелся всем по душе.
— Давай дружить, — сказал я ему и протянул руку. — Игорь!
Он смутился, произнося свое имя:
— Эрих.
— Эрих? — удивленно повторил я.
— А что? — ощерился он.
— Немецкое имя…
— Не только! — вздернул он свой красненький носик.
— Да, конечно, — поспешил согласиться я. — Такие имена — Эрих, Густав, Генрих — встречаются еще у прибалтов.
Он посмотрел на меня поверх очков и промолчал.
Ясное дело, прибалт. Белобрысый, голубоглазый…
Вдруг он поймал мой внимательный взгляд и усмехнулся:
— Что, моя национальность интересует?
— Нет, нисколько, — слукавил я.
— Допустим, — недоверчиво произнес он.
— Нет, правда, меня не интересует, — уже искренне сказал я: не все ли равно, кто он?
— Обрусевший швед устраивает? — вдруг спросил он.
— Вполне! — засмеялся я.
— Так вот, я швед.
Я пожал плечами: швед так швед, нашел чем пугать, тоже мне Карл Двенадцатый.
Но дальнейший разговор у нас как-то уже не получился.
Постепенно у меня отяжелели голова, ноги, стало неудержимо клонить ко сну. Возможно, самогонка подействовала, а возможно, сказалась усталость: все-таки целые сутки на ногах.
— Товарищ лейтенант, — ко мне подсел Дураченко, смененный на посту Козулиным, — тутечки е порожня землянка. Ходимте, покажу…
Милый наш великан! Как он догадался, чего мне больше всего не хватает? Он взял меня под руку и вывел наружу…
2
— Сколько я спал?
— Сейчас полчетвертого…
— Всего час? — я опустил все еще тяжелую голову на деревянный валик и сказал Лундстрему: — Ложись-ка тоже.
— Здесь?
— А что? Места тут достаточно.
— Я схожу предупрежу.
Они с Орлом молодцы! Когда я спал, прибыл паром с ранеными. Они решили не будить меня, а все сделать самим: и необходимую помощь оказать, и эвакуировать. Минут десять назад ушла в тыл последняя машина с ранеными. Правда, забыли записать их фамилии. Но как-нибудь выкрутимся…
Вскоре вернулся Лундстрем. И не один, а с Дураченко, который в качестве первооткрывателя считал землянку своей.
Только они улеглись, только мы обменялись впечатлениями о новом ночлеге, как у входа послышались чьи-то приглушенные голоса. Женский и мужской. По отдельным интонациям я узнал голос Саенкова. Значит, уже вернулся? И даже успел встретиться с Зиной?
Они долго о чем-то переговаривались. Похоже было, что старшина уговаривал Зину зайти, а она не решалась. Некоторое время они молчали. Потом я услышал тихие, осторожные шаги — парочка спускалась в землянку…
Лундстрем легонько дотронулся до моей руки. Его смущение мне понятно. Но какой выход? Лишь притвориться спящими. Я первый засопел носом. За мной начал негромко похрапывать Лундстрем. Последним в игру включился Дураченко — стал дышать ртом, присвистывая при каждом вдохе.
Естественно, едва Зина переступила порог, как испуганно отметила:
— Тут кто-то есть!
— Вот черт! Уже заняли! — вполголоса выругался Саенков.
— Пошли назад!
— Подожди… Да это же наши!
— Кто?
— Лейтенант… А это, — он наклонился над нарами, — новенький фельдшер и Дураченко.
— Ваня, я пойду.
— Да они без задних ног спят. Слышишь, как храпят да посвистывают?
— А может, они прикидываются?
— Еще чего! Ты что, спящих от неспящих отличить не можешь?
— А если они проснутся и увидят?
— Да я их знаю как облупленных. Они раньше девяти и не шелохнутся.
— А если проспим?
— Не проспим. Я тебя в полшестого как из пушки разбужу!
— Только ты ко мне спиной ляжешь.
— Лечь-то можно…
— А то еще подумают что-нибудь…
— Да они дрыхнут!
— Ты должен помнить, — назидательно произнесла Зина, — желание дамы — закон для кавалера.
— Это-то я помню.
— А теперь отвернись!
— То повернись, то отвернись, — проворчал Саенков.
— «Повернись» я не говорила…
Они примолкли. Но не прошло и четверти минуты, как послышались какие-то подозрительные шорохи и скрипы, какая-то подозрительная возня. Раза два Зина тихо хихикнула…
Я готов был провалиться сквозь нары — от всей неестественности и неприличия нашего присутствия. Но как отказаться от невольного подслушивания? Ведь ни уснуть, ни выйти, ни предупредить их, что не спим. Последнее было бы вообще не по-товарищески. Одно немного успокаивало, что за этими скрипами, возможно, ничего особенного и не скрывалось. Но, с другой стороны, не проверишь…
Не знаю, как Лундстрему с Дураченко, но мне было нелегко. Взбудораженное воображение рисовало всякие картинки, и мое тело наливалось тоской по бездарно упущенным неделю назад ласкам.
Господи, как все просто и как все сложно!
Неожиданно я с огромным облегчением обнаружил, что на той стороне нар уже тихо.
Я прижался щекой к шершавым и колючим доскам.
Понемногу любовные видения отступали, тускнели, вытеснялись другими, которые были порождены моими обычными заботами и тревогами. И незаметно в
этот быстрый и неяркий калейдоскоп вкрался сон — спасительный и глубокий.
3
Кого я меньше всего ожидал увидеть в нашей новой землянке, так это подполковника Балакина. Но это был он — неторопливый, немногословный, все с тем же цепким и колючим взглядом. Подозрительно взглянув на замусоренные нары, он кожаной перчаткой очистил себе место и сел на краешек. Без околичностей потребовал данные о работе санитарного взвода. Но только я принялся рассказывать ему о наших делах, как он прервал меня — его интересовали лишь цифры: количество раненых на переправе (отдельно по тяжести и характеру ранения), количество эвакуированных (отдельно отправленных на «санитарках» и попутных) и т. д.
Пришлось сходить за тетрадкой. Однако никаких общих данных там не было, и мы с Саенковым занялись подсчетами.
Когда наконец я назвал цифры, подполковник заглянул к себе в блокнотик и осуждающе проговорил:
— Я так и предполагал: цифры завышены.
— Как завышены? — недоуменно переспросил я.
— Вот это я бы тоже хотел знать, — сказал он.
Я стал объяснять:
— Товарищ подполковник, мы записывали каждого раненого, которому оказывали помощь. Можете посмотреть: фамилия, имя, отчество, воинская часть, домашний адрес, характер ранения и когда эвакуирован…
Балакин с недоверием взял тетрадку и принялся ее просматривать.
Уже вскоре он наткнулся на первую несуразность:
— Два раза записано — Сумкин Иван Тимофеевич, отдельная танковая бригада. Как понимать?
— Как? — ответил старшина, не сводя с подполковника своего обычного нагловатого взгляда. — Видать, тезки.
— А тут, пониже, тоже тезки? — не без иронии спросил подполковник. — Колосков Сергей Петрович и Колосков Сергей Петрович? Оба из одной части. Одинаково ранены и отправлены в один и тот же час. Кому очки втираете?
Саенков спокойно оправдывался:
— Так мы же запись эту ведем под непрерывным обстрелом. Когда, может, и лишний раз запишешь, а когда и вообще пропустишь. Сами понимаете, не в классе за партой сидим…
Подполковник встал и, натягивая тугие кожаные перчатки, торжественно произнес:
— Я приехал к вам по поручению начальника санитарной службы армии. Он приказал мне представить отличившихся медиков к правительственным наградам. Но пока я не вижу, за что можно было бы вас, лейтенант, отметить.
Я вскочил, собираясь возразить. Но понял, что бесполезно. Снова опустился на нары. Вот и лопнула моя мечта об ордене. Как я теперь покажусь на глаза Валюшке? Что она подумает обо мне? Как будто ничего этого не было: ни обстрелов, ни бомбежек, ни спасенных раненых, ни погибших санитаров. Ничего.
Ну пусть я не заслужил. А другие?
Только я открыл рот, чтобы спросить об этом, как на нашем берегу ударили зенитки. С потолка посыпался песок.
Подполковник взглянул на свои часы и сказал в пустоту:
— Мне — пора.
И, не попрощавшись, скрылся за порогом.
— Хотя бы перед людьми постеснялся, — заметил я.
— А ему начхать, что мы о нем подумаем, — сказал Саенков.
Землянка покачнулась.
Мы со старшиной пулей выскочили наружу.
Зенитные разрывы уже взрыхлили большую половину неба.
Мимо нас проскочил, подпрыгивая на ухабах, «виллис». Еще мгновение, и он с огромной скоростью мчался по дороге к лесу. Возле шофера, втянув голову в плечи, сидел подполковник Балакин.
И тут я увидел Зину. Она стояла на пригорке, закинув голову кверху.
Неужели ей не страшно? Уж ей-то, наверное, известно, что помимо бомб есть еще и осколки от разорвавшихся зенитных снарядов.
— Я сейчас! — крикнул мне Саенков и рванулся к Зине.
— Дура! Дура! — долетел до меня его голос — Живо — в укрытие!
Зина обернулась, увидела Саенкова и с хохотом пустилась от него наутек.
— Ох и доиграются! — вздохнул Орел.
Из-за хлопьев разрывов, сгустившихся над нами, вывалился первый «юнкерс». С пронзительным ревом он круто пошел вниз.
— Ложись! — заорал кто-то не своим голосом.
Все разом распластались на земле. Прямо в затылок врастал жуткий вой падающих бомб. «Все!» — коротко подумал я. Взрывная волна с необыкновенной легкостью перевернула меня в воздухе и швырнула на песок. Я открыл глаза, попробовал встать. Но в это время земля вновь осела и резко подвинулась вбок, словно хотела стряхнуть меня с себя. А воздух уже раздирался в звонкие клочья очередным «юнкерсом», входившим в пике. «Сейчас тебе будет орден!» — с тоскливым злорадством вспомнил я о своей недавней мечте, изо всех сил вжимаясь в песок. Но бомбы на этот раз упали где-то у берега…
И тут на меня накатились возбужденные голоса, крики, стоны…
Я с трудом встал — руки, ноги были как ватные…
— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — услышал я плачущий голос Бута. — Дураченка убило!
— Как?!
— Я думав: вин просто так сыдить, а вин вже не дыхае!
Я рванулся к ровику, в котором, склонившись на бок, сидел Дураченко. На солнце золотились его редкие светлые волосы. Я впервые видел нашего великана без кепки: он обычно даже спал в ней, надвинув на глаза или ухо.
Ноги у меня подгибались, но я обогнал и Орла, и Задонского, и Козулина и первым скатился в неглубокий ровик. Прижался к еще теплой груди санитара — ни звука! Мне помогли приподнять убитого. Осколок угодил ему под ложечку…
— Уже третий! — глухо произнес Козулин.
— У день по людыни, — скорбно добавил Задонский.
— Санитаров — на берег! — долетело до нас издалека.
К реке бежали люди.
— Оставим его пока здесь! — распорядился я.
Душа у моих санитаров прямо разрывалась на части: тут погибший товарищ, там — раненые…
Сразу под пригорком мы наткнулись на Лундстрема. Он сосредоточенно и аккуратно бинтовал раненому солдату плечо. Перевязка подходила к концу. Стало быть, пока мы мысленно прощались с жизнью, он делал дело.
— Там еще раненые! — крикнул он мне, показывая на берег.
Меня догнал Орел. Обеими руками он держал над собой носилки. Когда он успел сбегать за ними?
Бомба упала в нескольких метрах от парома из надувных лодок. Две автомашины с противотанковыми орудиями свалились в воду. Расчеты находились тут же, поэтому пострадавших было много.
Вдвоем с Лундстремом мы быстро справились с перевязками. Впрочем, с одним старшим сержантом пришлось повозиться. У него осколком раздробило нижнюю челюсть. Безостановочное кровотечение и рвота едва не привели к удушью. Если бы не Лундстрем, я бы совершенно растерялся. Ему же случалось дежурить в академической клинике челюстно-лицевой хирургии, и он видел, как обращаются с такими ранеными.
Тогда, во время перевязок, мне было не до Саенкова. Вспомнил я о нем, когда потребовалось записать раненых в тетрадку. В последний раз его видели с Зиной — она на бегу хохотала, а он пытался догнать ее.
Меня охватило сильное беспокойство. Если старшина не явился, значит, что-то случилось. Даже ради Зины он не стал бы пренебрегать своими обязанностями.
Поручив Орлу отправить раненых в госпиталь, я устремился к пригорку, с которого они оба пустились бежать. Взлетел на него, и у меня разом оборвалось сердце. Я увидел на лугу двух солдат, засыпавших свежую воронку. А рядом с ними в одеревенелой позе, прикрыв лицо руками, сидел Саенков.
Вот и Зины не стало…
Чей теперь черед?
4
Мы сидели на бугре и напряженно гоняли по кругу самокрутку. Сегодня я курил впервые в жизни. Едкий махорочный дым ел глаза, драл в носу и горле. Уже после первых затяжек неприятно кружилась голова, но на душе стало чуточку легче.
И тут прибежал ординарец начпрода зенитчиков:
— Ребята, вы не видели нашу повариху?
Ему сказали. Он не поверил:
— Уже убило и уже похоронили? Ну, даете!
— Ось могылка ее, — показал Задонский.
— Да будет вам заливать! — и ординарец поискал вокруг взглядом. — Ее видели: она где-то тут околачивается!
— Та хиба такымы речамы шуткують? — заметил Бут.
— А кто вас знает! — продолжал сомневаться ординарец.
— Як що не вирытэ, спытайте тоди у товарища лейтенанта, — сказал Задонский.
— Может, вы все заодно?
Я пожал плечами: не разрывать же могилу, чтобы этот чудак убедился, что мы не врем?
— Братцы, скажите правду, — взмолился он, — куда она подевалась? А то у нас уже вода в котлах закипела, пора продукты запускать!
— Старшина, у кого ее документы? — обратился я к Саенкову.
Он посмотрел на меня и ничего не ответил.
— Ну, Зинины документы?
Он снова поднял на меня взгляд и опять промолчал. И это его затянувшееся молчание подействовало на ординарца больше, чем все наши слова.
В последнем вопросе — последнее сомнение:
— А в дивизион почему не сообщили, чтобы похоронить пришли?
— Так хоронить-то почти ничего не осталось. Прямое попадание, — ответил за всех Орел.
Окончательно поверив в случившееся, ординарец побежал с печальной вестью в часть…
Я накурился до одурения. Попробовал встать, и меня тотчас же повело в сторону.
— Товарищ лейтенант, ось погляньте! — показал мне на берег Витя Бут.
Наконец-то артиллеристам удалось вытащить тягачом из воды последнюю из утонувших автомашин с орудием. Но едва понтонеры подогнали под погрузку новый паром из надувных лодок, как начался очередной минометный обстрел.
— По местам! — скомандовал я.
Мы сбежали по косогору в ближайшие укрытия. Из них был виден весь берег, и мы могли добежать до любого раненого за считанные минуты.
Хотя мины ложились поблизости от парома, артиллеристы не прекращали погрузку. Сейчас судьба явно благоволила к ним, точно хотела оправдаться в их глазах за свое прошлое упущение. Сердце у нас то и дело замирало. Но иптаповцы снова и снова поднимались среди разрывов и мчались к своим машинам и орудиям.
И все-таки какой-то шальной осколок не промахнулся. Один из бойцов побежал, сильно припадая на ногу. Его подхватил товарищ, помог сойти в щель.
— Орел и Задонский, с носилками — за мной! — приказал я.
Мы рывком поднялись и помчались к раненому. Ноги, как всегда, вязли в песке, проваливались в воронки…
— Мина! — крикнул я, услышав ее приближавшийся тонкий посвист.
Носилки покатились в одну сторону, а мои оба санитара — в другую.
Мина упала метрах в пяти или шести позади нас. Возьми она чуточку левее или правее, всех бы изрешетило. А так она угодила за небольшой бугорок, и он загородил нас от осколков.
— Вперед! — крикнул я санитарам.
Они подхватили носилки и побежали за мной. Поправляя на бегу пилотку, я дотронулся до чего-то твердого и бугристого. Шишка на голове? Откуда она взялась?
Но тут мы подбежали к раненому, и я позабыл о ней.
Ранение у младшего сержанта оказалось неожиданно тяжелым. Осколок попал в пах и, судя по всему, проник в нижнюю часть живота. Раненый с каждой секундой чувствовал себя хуже и все время спрашивал меня: «Товарищ лейтенант, неужто придется помирать?» Я как мог успокаивал его.
Наконец мы уложили раненого на носилки, и санитары понесли его к стоявшей на косогоре машине. Я же остался перевязывать молоденького ефрейтора, который при нырянии в воду с тросом сильно поранил руку.
И в этот момент я ощутил на голове какое-то неудобство. Потянулся рукой — и вспомнил. Бугорок, к моему удивлению, свободно передвигался под материей. Я сдернул с себя пилотку и увидел, что он скатился за подкладкой к звездочке. Я похолодел. Это был большой и острый, как бритва, осколок. Он пробил пилотку и спокойно улегся между складками. Он не мог быть на излете: мины рвались совсем рядом. Очевидно, когда я прижимался щекой к земле, его полет остановил какой-то камень или железка. Одно ясно — четверть сантиметра левее, и мне была бы крышка…
— Да, здоровая дура, — заметил ефрейтор. — Видать, товарищ лейтенант, вы в сорочке родились…
В сорочке? Пока как будто бы да. Но ведь каждому бойцу везет лишь до поры до времени…
— Сохраните ее на память, товарищ лейтенант, — сказал раненый.
— Если собирать все железки, которые чуть не попали в тебя, никаких вещмешков не хватит! — ответил я и, сильно размахнувшись, запустил осколок подальше в воду. И мне тут же стало не по себе: а вдруг это дурная примета?
— По местам!
Боевые расчеты заняли свои места на пароме, и он медленно отчалил от берега…
А навстречу ему с той стороны с большой скоростью шел катер с развевающимся над ним красным флажком.
5
Первым с катера, как снег на голову, спрыгнул на берег капитан Борисов. Все такой же высокий, худой и сутулый. Я его ожидал давно, но только не оттуда. Но, как бы то ни было, появление капитана для меня приятная неожиданность.
Одно смутило: он как-то странно на меня посмотрел, словно оценивал. Не хватало еще, чтобы между нами черной кошкой пробежал подполковник Балакин. Впрочем, они вряд ли виделись после той бомбежки. Уж больно разные у них сегодня пути-дороги…
Крепкое рукопожатие. Хороший признак.
— Ну как, достается?
— Есть немного, — поскромничал я.
— Пойдемте к вам, — сказал он и зашагал вверх по косогору. Видя, что я молчу, напомнил: — Докладывайте!
Первым делом я поставил его в известность о гибели трех санитаров. Он перебил:
— О Панько и Зубке мне уже сообщили. Кто третий?
— Дураченко.
— Это который?
— Здоровенный такой, в полупальто. Помните, вы еще спросили его, где старшина?
— Да, что-то припоминаю. Когда?
— Сегодня утром, при налете авиации.
— Четверть взвода.
— Товарищ капитан, ложитесь! — крикнул я и, падая, потянул его за собой.
На этот раз я перестарался. Мина плюхнулась от нас в нескольких десятках метров на песчаном и безлюдном месте.
— Обычно они бьют точнее, — сказал я.
— Ну, не будем их ругать за недолеты и перелеты, — вставая и отряхиваясь, заметил капитан.
— Пойдемте быстрее! — забеспокоился я. — Хотите верьте, хотите нет, но этот участок у них здорово пристрелян!
— Вы, я вижу, лейтенант, понемногу становитесь настоящим фронтовиком…
Сказал и быстро отвел взгляд. Но шаг прибавил.
— Скажите, Задорин, — глухо произнес он, — как новенький фельдшер?
— Лундстрем?
— Да.
— Знающий медик и, по-моему, смелый человек.
— Очень хорошо.
— Товарищ капитан, — спросил я, — а за что его отчислили из академии?
— За то, что скрыл свое немецкое происхождение.
— Как немецкое? Он ведь обрусевший швед. Он сам сказал!
— Кабы швед… Все дело в том, как я понял, что он не хотел иметь ничего общего с немцами. А это расценили как злонамеренный обман.
— А если и немец? — возмутился я. — Он же советский человек! Советский!
Капитан внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Его тонкие ноги в хромовых сапогах не очень были приспособлены для хождения по песку, проваливались по самую щиколотку.
— А вон и ваши! — обрадовался он, увидев над траншеей две штатские головы — Вити Бута и Козулина. Вскоре рядом с ними появилась и третья — в пилотке — Лундстрема. Похоже, что он разыскивал очки, слетевшие с носа.
— Лундстрем, можно вас? — не останавливаясь, позвал капитан.
Бывший слушатель академии молча выбрался из укрытия и поспешил за нами.
Мы спустились в нашу землянку. Там сидел Саенков. Один. За два часа, прошедшие после похорон Зины, у него даже лицо изменилось. И нос, и губы, и веки как будто стали другими — не то припухли, не то расплылись. Эту странную перемену заметил и капитан.
— Что с вами, старшина?
— Ничего, — ответил тот.
— Не хотите говорить — не надо…
Я промолчал, но пожалел, что заранее не предупредил капитана о горе, постигшем старшину.
— Садитесь, — сказал нам Борисов.
Мы уселись на нарах, он же пристроился на снарядном ящике.
— Я хочу с вами посоветоваться, — начал он, почему-то избегая встречаться со мной взглядом. — О том, что делается на плацдарме, вам, наверно, и без меня известно. Последняя новость. За один вчерашний день наши отбили восемь атак. Потери огромные. В частности и среди медиков…
И тут я почувствовал, что этот разговор затеян не случайно, что он имел прямое отношение ко мне.
— Сегодня я побывал в истребительном противотанковом дивизионе. За час до моего прибытия там был убит военфельдшер. Сейчас там вообще никого нет…
Теперь осталось узнать, кому из нас — мне или Лундстрему — предложат восполнить собой потери…
Капитан перевел взгляд на меня.
Мне!
— Голубчик, выручите нас…
Так и есть!
— Я должен послать кого-то из вас двоих, — продолжал он. — Но вы уже понюхали пороху, а Лундстрем только что прибыл на фронт.
— Да, конечно, — сдавленным голосом произнес я.
В наступившей тишине я услышал легкое пошмыгивание носом — от волнения у «академика» всегда усиливался насморк. Когда я теперь увижу Валюшку? Да и увижу ли ее вообще?
— Ну как, договорились?
Как будто спрашивал моего согласия. Как будто я мог отказаться от нового назначения. Уж лучше бы он прямо взял и приказал!
— Слушаюсь, товарищ капитан! — ответил я, не вставая с нар.
— Иного ответа я и не ждал, — одобрительно заметил капитан. — А вам, Лундстрем, придется взять на себя командование взводом.
— Есть! — вскочил тот, сверкнув треснутым стеклышком очков, — уже успел разбить.
— Ну вот и хорошо, все согласны, — подытожил наш разговор капитан и обратился ко мне: — Голубчик, вы сможете отправиться в дивизион сегодня?
— Хоть сейчас! — сказал я.
— Честно говоря, чем раньше, тем лучше, — извиняющимся тоном произнес он.
— Мне собраться одну минуту.
— Ну так торопиться незачем. Спокойно сдайте взвод, имущество и затем поезжайте…
Было б что сдавать! Имущества-то у нас всего полмешка перевязочных материалов да двое носилок. Пяти минут за глаза хватит!
— Товарищ капитан, разрешите обратиться?
Саенков? Он тяжело поднялся, в упор посмотрел на капитана.
— Я слушаю вас, старшина.
— Прошу откомандировать меня вместе с товарищем лейтенантом!
— Вот как? — капитан встал. — Не хотите расставаться? Другая причина? Может, скажете какая?
— Надо и делом заняться. — В глазах Саенкова впервые после гибели Зины промелькнуло что-то вроде усмешки.
— По-вашему, выходит, то, чем занимается взвод, не настоящее дело? — возмутился капитан. — Спасение жизни раненых, с вашей точки зрения, пустяк или забава?
— Никак нет. Дело полезное, — сказал Саенков. — Да не мое оно, товарищ капитан. Мое дело — стрелять.
Капитан внимательно посмотрел на старшину.
— Что ж, в этом есть свой резон, — проговорил он. — Хорошо, быть по сему!
Я чуть не подскочил от радости. С первой же минуты на передовой иметь рядом верного и испытанного друга! О чем еще может мечтать новичок в боевой обстановке?
6
Ну и денек выдался. Пятый и последний день моего пребывания на переправе. Едва мы с Саенковым собрались попрощаться со всеми, как в землянку вбежал взволнованный Задонский:
— Хлопци! Форму прывезлы!
— Какую форму? — удивился Козулин.
— Червоноармийську! Для нас!
Вся четверка во главе с Орлом выскочила из землянки. Я переглянулся с Саенковым. Теперь им будет не до нас. Но просто так взять и уйти мы тоже не могли — столько пережито вместе!
Узнав от нас, в чем дело, остался и Лундстрем. Он аккуратно укладывал в пустом снарядном ящике принятые от меня перевязочные пакеты, бинты и вату.
— Может быть, сходим посмотрим? — спросил я Саенкова.
— А нам-то зачем? — ответил он, застегивая вещмешок.
В сущности Иван прав: получили ли они форму или не получили, нам уже должно быть все равно. А на деле я еще по инерции продолжал интересоваться делами взвода.
— Я взгляну! — сказал я Саенкову и вышел из землянки.
Неподалеку стоял «виллис». Около него, прямо как в сельмаге, суматошились все четверо санитаров: разглядывали, примеряли на глазок, выбирали подходящие по росту и размеру гимнастерки, брюки, шинели и ботинки. Тянулись и извивались серпантином солдатские обмотки. А Задонский уже скинул с себя пиджак и нырнул с головой в широченную гимнастерку.
Я подошел к ним.
Кроме Вити Бута, встретившего меня своей обычной доброй улыбкой, никто и не посмотрел в мою сторону. Я обиделся. Конечно, какая-нибудь обмотка для них сейчас значила больше, чем мое расположение. Оскорбленный таким отношением, я хотел было повернуть назад. Но тут обратил внимание на водителя. Его румяное лицо с рыжими баками показалось мне знакомым. Ба, да это же шофер подполковника Балакина!
— Уже успели и начальника отвезти и за обмундированием съездить? — удивленно спросил я.
— А я и не ездил за ним. Оно у меня с утра в кузове лежит!
— Позабыли отдать нам?
— Как же! Будет подполковник из-за ваших шмуток рисковать жизнью! Мы с ним люди мирные, стрельбы не любим!
— Чуточку бы раньше приехали, захватили бы с собой капитана Борисова. А то он полчаса за попутными гонялся.
— Я его за полтора года всего раз или два возил. Нетерпеливый человек.
Я рад, что капитан всем нравился. На мое доброе отношение к нему не повлияло даже то, что он довольно круто распорядился моей судьбой. В конце концов, война есть война. Себя он тоже не жалеет…
— Товарищ лейтенант!
Ко мне было обращено крупное красивое лицо Орла, но его глаза смотрели буднично, без малейшего интереса ко мне.
— Захватите для первого отделения? — и он показал на лежавшие на траве кучки одежды.
— Можно, — сказал я. — Только много чего-то здесь…
— Да нет, — возразил он. — То кажется вам. Просто переворошили…
— А это? — кивнул я на комплекты обмундирования, сложенные поодаль.
Орел удивленно посмотрел на меня. Кровь кинулась мне в лицо. Господи, как я мог забыть о погибших!
Да, это была военная форма, предназначенная для Панько, Зубка и Дураченко. Форма, которую им так и не пришлось надеть…
С колотившимся сердцем я подошел к ней.
И вдруг она странным образом стала оживать. Точно ее недавно скинули с себя погибшие санитары. Я даже узнавал: вот эта — побольше — принадлежала Дураченко, а эта — с ботинками тридцать восьмого или тридцать девятого размера — низкорослому Зубку. Да и третья форма, сваленная в беспорядке в стороне, имела какое-то сходство с Панько — таким легкомысленным и несобранным. Я смотрел на одежду и никак не мог освободиться от сковавшего меня наваждения, хотя понимал, как это получилось: просто из разворошенного санитарами обмундирования ушло неживое складское единообразие, и ничего больше.
Я с трудом отогнал эту привязчивую картину.
Обернулся и увидел Лундстрема. Придерживая на носу треснувшие очки, он вылезал из землянки. За ним показался нагруженный вещами Саенков. С его плеча свисало все наше имущество: два вещмешка, два автомата с дисками, санитарная сумка…
Я шагнул к нему, чтобы забрать свое.
В этот момент снизу донеслось до меня:
— Гей, кому на той берег?
— Кому кричат? — спросил я.
Лундстрем смущенно сказал:
— Я просил предупредить нас, когда пойдет паром.
Вот так-то! Всего три дня назад я мечтал поскорее избавиться от опекавшего меня капитана Борисова, а сейчас мой преемник ждет не дождется отъезда некоего лейтенанта Задорина. Но я его ни капельки не осуждал — дело житейское…
— Ну что, будем прощаться? — проговорил я.
— Хлопцы, бросьте наряжаться! — крикнул санитарам Орел. — Товарищ лейтенант и товарищ старшина уезжают!
Сам отделенный успел натянуть на себя лишь новенькую, еще в складках гимнастерку и брюки. Босиком перешагнул через стоявшие на земле огромные ботинки.
Подошел ко мне и неожиданно обнял. Больно провел колючей щекой по моему лицу.
— Дай вам бог удачи! — сказал он, вздохнув.
Его место занял Задонский.
— Може, доведеться, товарищу лейтенанте, побуваты колысь у наших краях, заходьте до нас у гости. Ох и попьемо горилкы! — мечтательно произнес он.
Я притянул его к себе, чмокнул в висячий пшеничный ус.
Следующий — Козулин.
— Простите, товариш лейтенат, если я что не так. Я еще в первую мировую был вчистую освобожден, — сказал он мне. Его глаза — большие и неподвижные — смотрели на меня своим обычным невидящим взглядом. Я думал, что мы ограничимся рукопожатием, а он вдруг поцеловал меня прямо в губы.
Терпеливо дожидался своей очереди Витя Бут.
Стоило ему заменить старую пилотку новенькой, со звездочкой, а на плечи накинуть солдатскую шинель с погонами, как он стал похож на остальных бойцов.
Я шагнул к нему, подал руку.
— Ну, Витенька, духом не падать!
Сказал и сам удивился: почему он должен падать духом, если я перевожусь в другую часть? Так ли я ему необходим? А может быть, я успокаивал самого себя?
Он же ответил, как мне показалось, благодарной улыбкой…
Последним был Лундстрем. Я нисколько не сомневался, что через два-три дня мы бы стали большими друзьями и наше расставание было бы куда теплее. Но в настоящее время мы с ним прежде всего высокие договаривающиеся стороны. Я сдал взвод, он принял. Правда, в отличие от меня, он весь в заботах. Сейчас он не знал, что делать с лишними комплектами обмундирования. То ли сдать их на склад, то ли оставить у себя — а вдруг вернется заболевший Зюбин и появятся новые гражданские санитары? И все-таки он на минутку отвлекся от своих мыслей и взволнованно пожелал мне остаться живым и невредимым. Я пожелал ему того же…
— Через три минуты отходим! — напомнил голос с берега.
— А старшина где? — спохватился я.
Все санитары одновременно повернули головы к лугу. Саенков стоял, уткнувшись взглядом в свежий холмик.
— Ваня! — позвал я.
Он не спеша отошел от могилки.
— Побежали! — заторопил я его. — А то на паром опоздаем!
Орел подал мне тяжеленный узел с обмундированием для первого отделения. Меня сразу же перекосило на один бок.
— Товарищ лейтенант, дозвольте я вам допоможу! — подскочил ко мне Витя Бут.
Вдвоем мы легко донесли ношу до парома…
И вот транспорт отвалил от берега и под убыстрявшееся тарахтенье двигателя катера заспешил навстречу нашей судьбе.
Взбираясь по косогору, то и дело оборачивался и махал нам рукой Витя Бут…
А вдалеке, на пригорке, стояли и глядели нам вслед остальные санитары…
Первым потерял интерес к левому берегу Иван. Молча перебрался на нос.
Взглянув в последний раз на маленькие фигурки моих бывших подчиненных, я последовал его примеру…
Правый берег встречал нас близким грохотом орудий. Воздух был густо пропитан едким запахом гари. В низких полосах дыма быстро заваливалось по ту сторону круч огромное осеннее солнце. Словно и его в конце концов подбили и подожгли неприятельские снаряды…
Надвигался шестой день моей фронтовой жизни…
ЗАБЫТАЯ ДОРОГА
1
— Ну что, проявим бдительность? — спросил Крашенков у Рябова, метнувшись в одном нижнем белье к двери.
— Не надо… Старуха еще должна зайти, — хмуро подал голос с полу старшина. Сидя на носилках, служивших ему постелью, он, весь натужившись, стягивал с себя щегольские, в обтяжку, сапоги…
— Тогда сам запрешь! — сказал Крашенков и поспешил в кровать. Быстро забрался под одеяло и, поправив жиденькую подушку, под которой во всех подробностях прощупывалось стальное тело автомата, аккуратно уложил на нее голову. В таком положении ему предстояло спать всю ночь. Но он уже к этому за три дня приноровился.
Затем, лежа на боку, он с улыбкой наблюдал за старшиной, который все еще возился со своими шикарными хромашами. Самым комичным было то, что это повторялось из вечера в вечер. Вот Рябов стянул наполовину один сапог. Посидел, отдышался. Принялся за второй. Опять долго пыхтел и покряхтывал. Наконец сапог начал поддаваться. Но дотянул он его тоже только до половины. Сейчас сапоги свисали с обеих ног и волочились по земляному полу.
Некоторое время он сидел молча, потом разом поднял обе ноги и жалобно попросил:
— Товарищ лейтенант, помогите…
— Сам, сам, — безжалостно ответил Крашенков.
Тогда Рябов встал, одним спущенным сапогом наступил на другой и, придерживая его так, изо всех сил рванул вверх. Второй сапог он снял таким же живодерским способом.
— Чего смеетесь? — сердито бросил он Крашенкову.
— Ничего, — улыбнулся тот. — Просто меня разбирает любопытство, что будет с паном подлекарем, если объявят боевую тревогу?
Для того чтобы в полной мере оценить это опасение, надо было видеть Рябова и в другой позиции — натягивающим сапоги. С подобным самоистязанием Крашенков встречался впервые. При этом никакие шпильки, укоры и увещания на старшину не действовали. То есть действовали, но не настолько, чтобы он отказался от своих умопомрачительных, сшитых тютелька в тютельку, офицерских сапог. Это была каждодневная добровольная каторга, лишенная к тому же всякого смысла: жертвуя многим ради моды, старшина в то же время никуда не ходил и ни с кем не встречался. Он гордо и терпеливо ждал и надеялся, что она сама придет к нему — распрекрасная дивчина, привлеченная и ослепленная блеском его сапог. Впрочем, Крашенков смотрел на это бессмысленное модничанье как на единственный недостаток своего бравого санинструктора. Если не считать еще некоторой угрюмости характера.
Теперь Рябов искал место, где бы можно было посушить портянки.
— На свое окно. Вместо светомаскировки! — весело посоветовал Крашенков.
— На ваше! — огрызнулся Рябов.
— Давай! — миролюбиво согласился лейтенант. — Чтобы у бандитов, если они в окно заглянут, в глазах зарябило!
Вскоре портянки были пристроены на ветках хозяйкиного фикуса.
— Гениально, как колесо, — прокомментировал Крашенков.
Рябов промолчал. Он знал, что ему и пробовать нечего тягаться с лейтенантом в остроумии. По части подковырок тот кого угодно за пояс заткнет. И хотя старшине больше по душе были крепкие выражения, простые, незамысловатые шутки, в которых все говорится впрямую и над которыми не надо ломать голову, он понимал, что все эти интеллигентские штучки-дрючки рангом выше. В целом такое превосходство он считал в порядке вещей: человек родился и жил в самой Москве, там учился, ходил по разным МХАТам и планетариям, в метро ездил…
Рябов снял гимнастерку и аккуратно повесил ее на спинку стула.
— Чего-то бабки нет, — заметил Крашенков.
— Сейчас заявится…
И точно: спустя некоторое время неслышно приоткрылась дверь в комнату и на пороге показалась высокая сгорбленная старуха. Она вошла почти спиной, не глядя. Но когда поворачивалась, украдкой торопливым и холодным взглядом осмотрела помещение. Молча проследовала в угол за печкой, где у нее были какие-то дела. Каждый вечер она там несколько минут что-то двигала, чем-то звякала. Правда, сегодня за печкой она пробыла недолго. Так же молча, не глядя на своих постояльцев, вышла.
— Пришла поглядеть, не стибрили ли чего, — сказал Рябов.
— Удивительно, как она не заметила эти флаги на башнях? — кивнул в сторону фикуса с портянками Крашенков.
— Закон оптики.
— Что? Что?
— Закон оптики, — уже не так уверенно повторил старшина. И тут же принялся объяснять: — От дверей, ежели входить, прежде видать коптилку и вашу кровать. Остальное в темноту уходит…
— Да, ловко рассчитал.
— А то нет? — сдержанно похвастался Рябов.
— Ладно, спать буду, — натягивая на плечи одеяло, сказал Крашенков. — Дверь не забудешь запереть?
— Нет.
Рябов еще только складывал галифе. Делал он это не спеша, подгоняя стрелки, выравнивая и убирая лишние складки. Когда-то вся эта возня ужасно раздражала Крашенкова. Сейчас он к ней привык, стал снисходительнее. В конце концов, именно ей, этой дотошности, санчасть обязана своим порядком. Вспоминая о том, что было раньше, до прихода Рябова, Крашенков до сих пор мучился угрызениями совести. Так запустил, так захламил все, что старшина целую неделю с утра до вечера разбирал склянки и порошки. Словом, аккуратист, каких мало. Вот только со своими сапогами и портянками никак не может наладить нормальные отношения.
— Товарищ лейтенант! — вдруг услышал рядом Крашенков. Он открыл глаза и увидел близко скуластое, с наплывшими веками и по-детски пухлыми губами лицо санинструктора.
— А?
— Подозрение есть, — опасливо взглянув на дверь, сообщил Рябов.
— Подозрение? Какое?
— Чует мое сердце, неспроста она приходит, когда мы спать ложимся…
Крашенков хмыкнул:
— Ну, на взаимность у нас ей рассчитывать нечего. По крайней мере у меня…
Рябов на мгновенье задумался. Когда смысл последних слов дошел до него, он досадливо махнул рукой:
— Да ну вас! С вами нельзя всерьез разговаривать!
— Ну, если не это, — позевывая и поправляя одеяло, произнес Крашенков, — тогда остается предположить, что она действует по заданию фашистского командования. Пытается разведать систему обороны, которую мы занимаем в наших постелях.
— Вам все шуточки…
Рябов взял со скамейки автомат. Заменил диск. Щелкнул предохранителем. Положил оружие рядом с носилками.
Крашенков закрыл глаза. Все остальное он слышал сквозь подступающую дремоту. Вот старшина, шлепая босыми ногами по земляному полу, прошелся по комнате. К двери, чтобы запереть ее на крючок. К столу, чтобы погасить свет. Громко затрещало полотно носилок. Чтобы выдержать такого черта, нужно по крайней мере листовое железо. Еще ночь-другая — и его зад встретится с полом. Интересно, устранит ли он эту угрозу заблаговременно или отнесется к ней как к неизбежному злу? Так же как к тесным сапогам и влажным портянкам?..
Засыпая, Крашенков думал о многом. Мысли путались, повторялись. Но одна из них возвращалась чаще других. А может быть, и нет здесь бандитов, которыми их пугали? Мало ли кому это померещилось. Во всяком случае, уже четыре дня, как они сюда переехали, и ничего подозрительного… Тихое, очень тихое село…
2
— Товарищ лейтенант, вставайте!..
Крашенков попробовал было поднять тяжелую ото сна голову и тут же опустил ее…
И снова машина трогается… Он лежит на самой верхотуре — один на один с небом и солнцем. Ему так хорошо, так уютно, что он всю дорогу блаженно улыбается. Он чувствует, что это выражение сохраняется на лице даже тогда, когда он дремлет. Как бы то ни было, он просыпается в том своем сне с уже готовой блаженной улыбкой. Ему и в самом деле лучше, чем остальным. Кто бы мог подумать, что здесь, высоко на тюках, покрытых негнущимся брезентом и туго стянутых веревками, найдется местечко, которое стоит всех кабин на свете… Боже, как хорошо! Над ним между зелеными берегами бездонное голубое небо. Из-за верхушек сосен опять выскакивает солнце. Уже много часов оно играет с ним в жмурки. Он улыбается, он знает, куда оно прячется, где его искать. Но ему не хочется никаких усилий. Он боится нарушить то удивительное состояние покоя и полета одновременно, в котором сейчас пребывает…
А голос все настойчивее и настойчивее требует:
— Товарищ лейтенант, вставайте!
Но он лежит не двигаясь. Он уверен, что зовут не его: мало ли на фронте лейтенантов? И тут он узнает голос своего санинструктора. Откуда здесь Рябов? Ведь он должен быть в санчасти…
Крашенков пытается приподняться, посмотреть, где старшина — это еще во сне, — и не может — это уже наяву…
На подушке, у самого его носа, суетился зайчик. Четвертое утро он появлялся на этом месте — ранний вестник дня.
— Товарищ лейтенант! А товарищ лейтенант!
Вот так всегда: не дают поспать.
— А? — тихо и жалобно отозвался Крашенков.
— Больной пришел. Из местных.
— Прими его сам…
— Он говорит, что нужен лекарь.
— Ну и скажи ему, что ты лекарь.
— Да он знает, что я санинструктор!
— Что там у него?
— Говорит, с животом что-то. Только я не разобрал. То ли у него, то ли еще у кого-то…
— Ладно, — прогоняя остатки сна, сказал Крашенков. — Сейчас встану… А где больной?
— Во дворе…
Через некоторое время одетый и умытый Крашенков вышел из хаты. На бревне сидел старик в выгоревшем на солнце немецком солдатском френче и латаных-перелатаных крестьянских портках, в самодельных тапочках на босу ногу. При виде лейтенанта он встал и поклонился:
— Добрый день, пане ликар!
— Добрый день!.. Что, отец, захворал?
— Ни. Це не я, а братова жинка.
— Что с ней?
— С животом лышенько, пане ликар…
— Подожди минутку. Я сейчас сумку возьму…
Крашенков вернулся в хату.
— Где моя сумка? — спросил он у старшины.
Рябов бросил на Крашенкова осуждающий взгляд и пошел за санитарной сумкой, которая на этот раз оказалась за тумбочкой. В общем, его понять можно: сколько он ни приучал своего непосредственного начальника класть сумку на место, тот все равно швырял ее куда попало.
На ходу поправляя лямку, Крашенков подошел к старику:
— Где больная?
— Ось туточки… недалэко… — засуетился старик.
— Пошли!
Обойдя разросшийся у хаты цветник, Крашенков и его спутник вышли на улицу.
— Товарищ лейтенант!
Крашенков обернулся. На пороге стоял Рябов и украдкой показывал автомат.
— Да ну! — отмахнулся лейтенант…
Село, где расположился полевой армейский артиллерийский склад, в котором Крашенков служил старшим военфельдшером, было небольшим. Всего каких-нибудь пятнадцать — двадцать хаток, прижатых к дороге с обеих сторон высоким и густым лесом. Сверху деревья почти смыкались, и поэтому внизу даже в ясные солнечные дни стоял полумрак. Дорога, которая одновременно была и единственной улицей, и лесной просекой, одним концом упиралась в поросшую бурьяном крохотную железнодорожную станцию, а другим в новенький свежевыкрашенный шлагбаум, отделявший село от такого же густого и темного леса. Лишь в одном месте — как раз напротив санчасти — деревья несколько отступали от дороги и солнце по утрам заглядывало в окна…
Когда они прошли больше половины села, Крашенков поинтересовался:
— Далеко еще, отец?
— Ни, недалэко, — ответил тот, ускоряя шаг.
Но одна за другой хаты оставались позади, а старик все еще продолжал идти, никуда не сворачивая.
— Куда ты меня ведешь, отец? — не скрывая недоумения, спросил Крашенков. В двух последних хатах находился штаб и жили начальник артсклада и замполит. Гражданских там не было: всех их попросили перебраться к соседям.
— Ось туточки… блызесенько… с пивверсты, не бильше…
— Крашенков, вы куда? — раздался знакомый голос начальника артсклада.
Капитан Тереб стоял на крыльце штаба. Как всегда, грудь вперед, руки за спиной, голова вздернута. Страдая из-за своего маленького роста, капитан все время пыжился.
Крашенков подошел к нему, доложил.
— Только далеко не ходите, — предупредил начальник артсклада.
— Слушаюсь, товарищ гвардии капитан!
Когда-то капитан Тереб был начальником артснабжения отдельной гвардейской танковой бригады. Хотя пробыл он там недолго и звания гвардейца ему так и не успели присвоить, он требовал от своих подчиненных, чтобы они обращались к нему по всей форме, то есть называли гвардии капитаном. Из этой ситуации он, по мнению злых языков, извлекал тройную выгоду. Во-первых, его считали настоящим фронтовиком, гвардейцем. Во-вторых, так как он гвардейского значка почти не носил, а все знали, что он у него есть, то многие расценивали это как скромность. А в-третьих, к нему никто не мог придраться. Словесная же нагрузка при обращении никого ни к чему не обязывала… При всем этом он был человек добрый, тихий и незлопамятный. Вот и сейчас, зная или, вернее, догадываясь об истинном отношении к себе насмешника военфельдшера, он тем не менее еще раз предупредил его:
— И вообще, смотрите… Вы ведь слышали?
— Так точно, слышал, товарищ гвардии капитан! — сдерживая недоверчивую улыбку, ответил Крашенков.
В душе он давно подозревал, что разговорами о бандитах, якобы нападающих на одиночных солдат и офицеров, начальник и замполит пытались, с одной стороны, повысить бдительность личного состава, а с другой — запугать любителей самоволок. Конечно, какие-то основания для беспокойства у начальства были. Но настолько ли они серьезны, чтобы отказаться от сбора грибов и ягод, которых здесь видимо-невидимо? Во всяком случае, подобные разговоры были и раньше, на старом месте, да бандитов что-то никто не видел…
Понятно, что Крашенков об этом лишь подумал, и ничего не сказал. Внешне же он вел себя так, что капитан остался доволен: четко, по-уставному, попросил разрешения идти и, получив такое разрешение, круто повернулся и направился к своему странному спутнику, который, переминаясь с ноги на ногу, поджидал его на дороге. Лицо старика выражало явное беспокойство. Он, очевидно, боялся, как бы пан главный начальник не запретил лекарю оказывать помощь какой-то гражданской, не имеющей никакого отношения к армии жинке. Может быть, это было и не так, но Крашенкову уже не раз приходилось лечить местных жителей, и он не помнил, чтобы кто-нибудь из них считал себя вправе получать медицинскую помощь наравне с военнослужащими. Все они понимали, что это дело хоть и доброе, но не очень-то законное. Не исключено, что старика обуревали такие же чувства.
Но когда Крашенков подошел ближе, то увидел, что взгляд у того таит легкую усмешку. Неужели он все слышал? Еще не хватало, чтобы он думал, что советские офицеры боятся выходить из села.
— Ну, пошли! — не без вызова произнес Крашенков.
У шлагбаума он на минутку задержался. На посту стоял его постоянный пациент, сорокапятилетний солдат Гладков, «папаша Гладков», один из ветеранов караульного взвода. История его была не совсем обычной. От давней контузии, полученной еще в гражданскую войну, он плохо слышал и мучился сильными головными болями. Мобилизованный под горячую руку в сорок первом, он тем не менее все эти годы честно и безропотно нес нелегкую солдатскую службу. Никто никогда не слышал, чтобы он жаловался на свою судьбу. Все это вызывало к нему невольное уважение. Но по-настоящему только Крашенков знал, как тяжело старому солдату. Жалея его, он однажды даже приударил за тощей и унылой аптекаршей из армейского хирургического госпиталя — лишь бы достать дефицитные таблетки, от которых Гладкову становилось немного легче. А тот отвечал на эту заботу грубоватой и бесхитростной привязанностью. Выказал он ее и сейчас. Подошел почти вплотную и, заглядывая снизу в лицо Крашенкову, громко и требовательно поинтересовался:
— Ты куда?
Крашенков прокричал ответ прямо в его красное бесполезное ухо:
— Одна жинка заболела — лечить
иду!
— А-а!.. Ну, ну! — покивал головой Гладков. Однако по его глазам было видно, что он ни слова не понял.
— За таблетками приходи!
На этот раз Гладков проследил движение губ и догадался, о чем идет речь.
— Приду, приду! — обрадованно пообещал он.
Крашенков и старик подлезли под шлагбаум и оказались в лесу.
3
Это была лесная дорога, по которой когда-то ходили автомашины: местами из травы проступала старая, едва заметная колея. То, что сейчас здесь не ездили, не могло быть случайным. Или до станции добирались другим, возможно, более коротким путем, проходившим где-то в стороне. Или же вообще избегали ездить по ней. А может быть, в связи с передислокацией армейских тылов некоторые дороги стали не нужны?.. Сколько уже таких дорог, некогда оживленных, а потом опустевших и забытых, повидал он за эти годы. Дорог весенних — с подсохшими и застывшими следами колес, гусениц, солдатских сапог… Осенних — покрытых толстым слоем опавшей листвы… Зимних — с оледенелой, затвердевшей как камень, присыпанной снегом колеей… И вот таких, как эта, летних — с безбоязненно перебегающей дорогу травой, с мелькающими то там, то здесь ромашками и колокольчиками.
И все же того легкого чувства грусти, которое неизменно вызывали в нем покинутые дороги, на этот раз не было. Он заметил, что на него все больше и больше действует окружающая мрачность: и зыбкая полутьма между деревьями, и близкая, неотвязно следующая за ним по пятам тишина, и редкие лоскутки неба над головой, и непроглядная темнота дальних поворотов. И хотя он убеждал себя, что бояться нечего, что слухи, которые создали дурную славу этим местам, наверно, так и останутся слухами, все равно на душе у него было неспокойно. Он даже пожалел, что не взял с собой автомат.
Чтобы хоть немного отвлечься от тревожных мыслей, он догнал старика, шагавшего впереди, и завязал с ним разговор.
— Как у вас тут немец, здорово лютовал?
— Ох, дуже… Скилькы людей поугоняв. И хлопчикив, и дивчаток.
— Куда? В Германию?
— Туды. В проклятущую!
— Ничего, отец. Недолго еще им осталось ждать освобождения!
— Дай боже, дай боже…
В общем, так отвечали все. И в словах старика, сопровождаемых вздохами, тоже ничего не было нового. Но зато пришло спокойствие. Крашенков уже не так остро, не так тревожно ощущал здесь свое одиночество.
Вскоре темный туннель лесной дороги прошили длинные солнечные иглы. А еще через несколько минут деревья расступились, открывая светлую полоску поля.
— Это там? — с облегчением спросил Крашенков.
— Там, там! — закивал головой старик.
Они вышли из лесу. Свернув с дороги на тропинку, пересекли редкий орешник и очутились на поляне, сплошь изрытой старыми окопами. Крашенков обратил внимание, что глубина их от силы по колено.
— Отец, что здесь, бой был?
— Ни. Тилькы почалы копаты, як наказ прийшов видступыты.
— Без боя?
— Та ж вин з танкамы пидийшов. Що воны моглы с нымы зробыты?
— Когда это было?
— В сорок першому…
— А!..
Некоторое время они шли молча.
— Зараз прийдэмо, пане ликар!
Вскоре Крашенков увидел у самой кромки леса хуторок — две хаты с сараями. Окруженный с трех сторон подковкой леса, он вместе с огородом немного возвышался над всей местностью. Прямо под ним начиналось поле. Покрытое легкой зыбью пшеницы, оно уходило вниз. И далеко было видно, как оно перекатывалось по холмам, обтекало попадавшиеся на пути рощицы, легкие и прозрачные, как узоры по шелку.
До чего красивое и удобное место выбрали! И летом не жарко, и зимой ветры не дуют…
И вот они со стариком уже во дворе. Это большая зеленая поляна, обнесенная изгородью. А в остальном — двор как двор. Деревенский колодец с журавлем. Кормушки для кур и свиней. Штабеля мелко нарубленных дров. Сарай, в дверях которого промелькнули чьи-то голые пятки.
— Прошу, пане ликар! — старик открыл дверь в хату и, придерживая ее рукой, пропустил Крашенкова вперед.
В темной прихожей он, так же опередив лейтенанта, распахнул перед ним дверь в комнату.
В кровати, судорожно натянув по самый подбородок старое лоскутное одеяло, сидела пожилая женщина. Ее изможденное лицо выражало растерянность и испуг.
— Добрый день! — несколько удивленный этим, поздоровался Крашенков.
— Добрый день! — сохраняя то же выражение лица, ответила она.
— Дуся! Це ж пан ликар! — объяснил старик.
Недоверие, появившееся в ее взгляде, показалось Крашенкову забавным. Но когда он подошел к кровати, то увидел, что оно уже сменилось какой-то озабоченностью.
— Сидайте, пане ликар, — подал стул старик.
Крашенков сел и сказал больной:
— Руку, пожалуйста!
Та, придерживая одеяло, слегка приоткрывшее худое дряблое плечо, протянула руку. Крашенков привычным движением нащупал пульс.
Рука крестьянки. С узлами жил, со сбитыми и поломанными ногтями, в морщинах, похожих на шрамы, и в шрамах, похожих на морщины.
Да, пульс частый, даже очень частый. Но температуры, по-видимому, нет: кожа сухая, прохладная.
— А теперь ложитесь поудобнее и расскажите, что вас беспокоит.
Женщина послушно опустилась ниже. И по тому, что она уже больше не придерживала одеяло, Крашенков понял, что она поверила в его причастность к медицине. Поверила, несмотря на военную форму, несмотря на боевые медали с изображенными на них танками, винтовками и шашками…
— Ну, так что же у вас болит? — еще мягче спросил он.
— Ой, сыночку, всэ в сэрэдыни болыть, — жалобно ответила она.
— Где болит, покажите…
— От тут, сыночку, — показала она на живот.
— Дайте, я посмотрю, — сказал Крашенков и почувствовал, что лицо его наливается краской. Увы, его медицинское образование страдало серьезными изъянами. О терапии он имел лишь общее представление, полученное за несколько суматошных дней перед выпуском из училища, когда оставшееся время курсантам приходилось делить между подготовкой к параду, лекциями и подгонкой обмундирования. Названия некоторых болезней и с десяток-другой симптомов — вот и все, что ему дала учеба. Правда, с тех пор, как попал на фронт, он кое-чему научился. Но и это было лишь каплей в море. А жизнь между тем подбрасывала ему все новые и новые случаи. Вот как этот хотя бы. И все же он не пасовал. Карманный медицинский справочник, с которым он никогда не расставался, уже не раз выручал его и, надо думать, выручит и сейчас, если сам не разберется что к чему.
Женщина была в нерешительности. Она вопросительно посмотрела на деверя, и тот немедленно отозвался:
— Та вин же нэ зъисть тебе. Побачить, що и як, и ликив дасть…
Больная отогнула край одеяла и неуверенными, стесненными движениями подняла рубашку. Подавляя неприятное ощущение, Крашенков положил руку на мягкий и вялый живот и осторожно, чтобы не причинить лишнюю боль, начал прощупывать.
4
В комнате стояла полная тишина.
И вдруг ее нарушил легкий скрип двери. Крашенков услышал, как кто-то, осторожно ступая по полу босыми ногами, подошел к старику. Но, занятый осмотром, он не обернулся…
Постепенно напряженные и застывшие черты лица больной смягчились, а в глазах появилось любопытство.
— Не болит? — спросил Крашенков.
— Ни… — удивленно ответила она.
Еще несколько коротких вопросов о течении болезни, и Крашенков уже мысленно поставил диагноз.
— Хорошо. Теперь можете накрыться, — сказал он и повернулся к тем двоим за его спиной, чье присутствие он все время ощущал.
Вторым человеком оказалась девушка. По-видимому, та самая, чьи голые пятки он заметил еще со двора. В общем, ничего особенного: широкое, ничем не примечательное лицо, крупная, не очень складная фигура. Правда, в последнем он не уверен. На девушке старушечья кофта и длинная юбка, а они, ясное дело, не красят. Дальше разглядывать ее ему показалось неудобным. Большие черные глаза смотрели на него с тревожным и терпеливым ожиданием.
— Что я могу вам сказать? По-моему, у нее старый, запущенный гастрит…
Теперь уже оба — старик и девушка — в замешательстве. Молча переглянулись.
Крашенков спохватился: да они не знают, что такое гастрит! Не знают, то ли радоваться, то ли огорчаться…
— Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка, — объяснил он и, увидев в их глазах новую тревогу, поспешил успокоить: — Ничего страшного!
Что же ей дать?.. Заглянул в сумку. Где-то должны быть таблетки от желудочных болей. К счастью, гастрит принадлежит к числу тех немногих болезней, которые, как ему казалось, он знал досконально. Так уж получилось, что он набил руку на лечении изжоги и отрыжки, которыми страдали его основные пациенты — старые, прошедшие не одну войну караульные солдаты. Во всяком случае, он лечил их, не заглядывая в свой справочник.
Не испытывал он сомнений и в этот раз. Те же симптомы, то же течение болезни, несколько осложненное недавно перенесенным воспалением легких. Единственное, в чем он сомневался, — нет ли чего еще со стороны сердца: уж очень частый пульс и синюшные губы. Но за всю свою жизнь он всего раз прослушивал грудную клетку, да и то у Рябова, когда тот, наводя порядок в санчасти, в одном из «ПФ» нашел старый-престарый стетоскоп. Так что лучше и не пробовать…
Можно дать валерьянку — от нее еще никто не умирал… Впрочем, кажется, ни того ни другого нет…
Еще раз перебрав содержимое сумки, Крашенков с легким смущением обернулся к хозяевам.
Именно в этот момент старик что-то шепнул девушке, и та стремительно выбежала из комнаты. Что у них там стряслось?
— Отец, понимаешь, — начал Крашенков, — здесь у меня нет лекарства, которое нужно. Приходи завтра, я тебе дам!
— Дякую, пане ликар, — ответил старик с поклоном.
Крашенков встал. Теперь ему предстояло топать обратно. Снова пройти весь этот путь. К тому же — одному. Иными словами, стать тем одиночкой, за которым, судя по рассказам, и охотятся местные карабасы-барабасы. Конечно, он не сомневается, что благополучно доберется до дому. Но все же…
Не поэтому ли он не торопится?
Крашенков подошел к окну. Увидел тропинку, которой они шли со стариком. Потом внимание его привлекли фотографии в простенке. Узнал пожилую хозяйку. Молодая, красивая, она сидела рядом с усачом, с любопытством уставившимся в объектив: не в ожидании ли обещанной фотографом птички? Нашел старика. Он стоял, картинно опираясь на огромную саблю, в польской конфедератке, из-под которой блестели нагловатые глаза — куда они только подевались?
А на другой фотографии — девушка. Интересно, сколько ей тогда было? Не больше семнадцати. Она прямо вся светится счастьем. Ее можно назвать даже хорошенькой. Право же, в ней есть какая-то изюминка, которую он никак не может уловить. А это кто рядом с ней? Брат? Муж? Жених? Нет, только не брат. У парня неприятно мелкие, но при этом правильные и красивые черты лица.
Вернулась девушка. Похожа и не похожа на свою фотографию. Замужество, а может, и не замужество, не пошло ей впрок. Все — от медлительной, неуверенной походки до неулыбчивых черных глаз — выдавало в ней какую-то давнюю внутреннюю усталость.
В руках у нее узелок. Подошла, смущенно протянула Крашенкову:
— О це вам!
Ох уж эти деревенские подношения за медицинскую помощь! Они всегда сердили и расстраивали его: не так-то легко отказаться от всего этого соблазна — от бутылки сбивающего с ног самогона, от задравшей вверх лапки вареной курицы, от шматка домашнего, с желтинкой, сала. Но все-таки он держал марку. В отличие от Рябова, уговорить которого не составляло труда. «Подумаешь, — отвечал тот на упреки Крашенкова. — Дают — бери, бьют — беги». На этой почве у них то и дело происходили стычки. Правда, завершались они обычно тем, что оба противника, немного поломавшись друг перед другом, садились за стол и дружно приканчивали объект раздора.
Сегодня Крашенков ушел из дому не позавтракав и очень хотел есть. Ощутив в воздухе тонкий и терпкий запах меда, он с необыкновенной ясностью увидел перед собой краешек детства: ломоть белого хлеба с маслом, по которому ползут, готовые вот-вот скатиться, тяжелые янтарные капли.
Он проглотил слюну и, испугавшись, как бы кто-нибудь не заметил этого, непринужденно сказал:
— Большое спасибо, но у нас это не принято.
Старик выхватил у девушки узелок и пытался засунуть его в санитарную сумку.
— Не надо! Зачем? — отбивался Крашенков.
— Визьмы, визьмы, сыночку, — упрашивала его, приподнявшись в постели, больная.
И только девушка не принимала участия в этих уговорах. Молча стояла и робко, неуверенно улыбалась…
5
И снова над ним плотно сомкнулись деревья. Он вошел в темный и глухой туннель лесной дороги, напряженно прислушиваясь к звукам, ни на секунду не выпуская из поля зрения придорожное пространство. Шел, инстинктивно держась середины: словно те три-четыре шага, которые отделяли его от растущих по обочине кустов, давали ему в случае неожиданного нападения какой-то выигрыш во времени и расстоянии. Понимая, что этот выигрыш кажущийся, что, случись какая-нибудь петрушка, уже ничто его не спасет, все же так он чувствовал себя в несколько меньшей опасности.
Сейчас он уже жалел, что отпустил старика, который довел его только до орешника. Тот бы безропотно пошел и дальше, придержи он язык. И охотно провел бы до самой санчасти, пообещай он ему дать лекарство сегодня. Но когда они подходили к орешнику, Крашенков даже не успел сообразить, что к чему. Старик вдруг дотронулся до его локтя, и он почему-то решил, что тот не собирается идти дальше. И, конечно, сморозил глупость. Не дожидаясь, когда старик сам скажет о своих намерениях, заявил, что теперь он как-нибудь доберется один. А тот, оказывается, хотел спросить, верно ли, что немцев скоро погонят из Львова.
И теперь уже ничего нельзя было поделать. Только поблагодарить, попрощаться и топать одному. Впрочем, в тот момент он ничего, кроме легкого сожаления и досады на себя, не почувствовал. Мысль о том, что вдвоем было бы все-таки чуточку спокойнее, пришла позже, когда его со всех сторон обступила тишина. Не та неустойчивая и трепетная, которая встретила его, как только он вошел в лес. А другая — притаившаяся в полутьме, лишенная лесных звуков, как будто что-то знающая, но пока до поры до времени скрывающая это от него. Не столько враждебная, сколько равнодушная. Порой ему казалось, что эта тишина — огромная и неподвижная — существовала сама по себе, независимо от леса.
Чем дальше он погружался в сумрак, тем больше ему было не по себе. Но особенно это чувство усилилось после того, как он вдруг увидел, что не пройдена и четверть пути. Впереди оставалась почти вся дорога, с ее опасностями — мнимыми и настоящими.
А темнота все сгущалась: очевидно, где-то там, на свободе, солнце ушло в облака. Тишина, еще минуту назад равнодушно и насмешливо следившая за ним из-за кустов и деревьев, теперь придвинулась к нему вплотную. Ее неслышное дыхание он ощущал совсем рядом.
Крашенков прибавил шагу. В эти минуты он испытывал двойственное чувство. С одной стороны, решил: будь что будет! А с другой — надеялся на свое постоянное везение…
И вдруг — чуть слышные голоса…
Крашенков встал за дерево. Замер, прислушался.
Разговаривали как будто двое. Но вскоре удалось разобрать и третий голос. Похоже, он отдал какую-то команду.
Голоса приближались…
Крашенков осторожно перешел за другое дерево, подальше от дороги.
До него долетели отдельные слова: «хлопцы» и «зараз!». Это могли быть и свои, и бандиты.
Отчетливо донеслась знакомая хрипотца. Донцов?! Что он здесь делает? Ну конечно же тянет куда-то кабель…
Почувствовав огромное облегчение, Крашенков вышел из своего укрытия и увидел над кустами Сашкину кубанку с алым верхом.
— Э-ге-ге! — заорал он.
После короткой паузы последовал ответ:
— Э-ге-ге!..
Крашенков двинулся к приятелю напрямик через кусты. Отдав какое-то распоряжение солдатам, тянувшим катушку, Донцов пошел навстречу.
За несколько шагов он крикнул:
— Привет!
Прозвучало это у него как «откуда ты взялся?».
Друзья обменялись крепким рукопожатием.
— Здорово, Катушка!
— Здорово, Клизма!
Так обычно приветствовали они друг друга, когда не было свидетелей и позволяло настроение.
— Ты куда ходил?
— Да там к одной больной вызывали!
— Молодая? — Глаза у Донцова заблестели.
— Была когда-то.
— Очень старая?
— Взрослую дочь имеет.
— А дочь ничего?
— Почти с меня ростом.
— Ну? — Донцов метнул взгляд вверх. Крашенков был выше его чуть ли не на целую голову. — А на остальное как?
— А тебе-то зачем?
— Да так, интересно… Знаешь, а я вчера с одной познакомился… Закачаешься!
— В каком смысле?.
— А в любом!.. Хочешь, познакомлю?
— А не боишься?
— Что отобьешь? Да отбивай себе на здоровье!
— Слышала бы она…
— А она и не то слыхала!
— Я бы с такой и связываться не стал!
— Ну ты, известное дело…
В голосе приятеля Крашенков уловил нотку обиды. Легонько толкнул его плечом:
— Брось, Катушка!.. Ты куда тянешь связь?
— Да тут до сельсовета, — не глядя, ответил Донцов. — Просили, чтобы подсоединили их к какой-нибудь воинской части. Бандеров опасаются…
— А-а!..
— Ну, бывай!.. Поехали! — обратился он к своим связистам.
Те подняли катушку и двинулись за ним следом. «Сам же виноват, а еще дуется», — подумал Крашенков. Но ему стало жалко Донцова, и он окликнул его:
— Сашка!
— Чего? — обернулся тот.
— Я к тебе вечерком зайду!
— Заходи, — сдержанно ответил Донцов.
Крашенков слишком хорошо знал своего друга, чтобы придавать значение таким мелочам, как тон или даже отдельные слова. Нескольких часов тому достаточно, чтобы начисто позабыть об обиде.
Донцов и солдаты скрылись в чаще.
Несмотря на то что все было как прежде: и темный лес, и тишина, и еще немалое расстояние до села — страха как не бывало. Крашенков удивленно покачал головой и продолжил путь…
6
В тот вечер, однако, Крашенков никуда не пошел. Его неожиданно назначили дежурным по части. Старший техник-лейтенант Мхитарьян, чья очередь была дежурить, получил приказание срочно выехать в распоряжение командующего артиллерией армии. Давно поговаривали, что его метят на какую-то ответственную должность. Но куда и кем, никто не знал. Сам же Мхитарьян на все вопросы отвечал загадочной улыбкой на тонких и подвижных губах. В общем, его ожидало повышение, это понимали все. Но Крашенкову от этого легче не стало. Целые сутки он мотался по части: проверял посты, встречал и провожал машины с боеприпасами, бегал на кухню снимать пробу, вместе с шифровальщиком принимал телефонограммы и передавал сводки, а в свободные от беготни минуты тут же, в штабе, перевязывал фурункулы и порезы, давал лекарства, писал справки об освобождении.
При всем этом дежурство протекало спокойно, без происшествий, если не считать происшествием короткую телефонограмму, в которой командованию артсклада предписывалось, как там было сказано, «в связи с участившимися случаями нападения кулацко-националистических банд на военнослужащих и гражданское население, в кратчайший срок принять меры к усилению охраны оружия и боеприпасов». Крашенков немедленно поставил в известность капитана Тереба, и тот распорядился установить три дополнительных поста.
Но ночь прошла тихо.
На следующий день под вечер Крашенков сдал дежурство и вернулся в санчасть. Устало опустился на кровать, снял сапоги и с наслаждением ощутил босыми ногами прохладный земляной пол.
— Чай будете пить? — хмуро спросил его Рябов.
— Буду! — Массируя затекшие ноги, Крашенков весело добавил: — Только настоящий!
— Уж какой есть…
Не прошло и двух минут, как все было готово: сдвинуты на столе медикаменты, расставлены по ранжиру хозяйский чайник, две пол-литровые железные кружки, маленькая бутылка «витаминчика» — черносмородинового сиропа, которым они обычно подкрашивали кипяток.
Но едва сели за стол, как в дверь забарабанили.
— Гладков! — сразу определил Крашенков. — Вот черт! Он когда-нибудь дверь вышибет!
Встал, пошел открывать: если крикнуть, все равно не услышит. Но и без приглашения ни за что не войдет. Будет колотить до тех пор, пока кто-нибудь не откроет. Сколько ему ни говорили, чтоб входил без стука, он продолжал свое. И ничего с ним нельзя было поделать.
За дверью действительно стоял Гладков.
— Давай входи! — сказал Крашенков.
— В гости пришел! — радостно сообщил тот. Но, как всегда, чего-то выжидал за порогом, словно не решаясь войти.
— Ну, входи же!..
Гладков вошел и зачем-то снял пилотку. Громко спросил:
— Чай пьете?
— Самогонку, — буркнул Рябов.
— Тогды налей! — И Гладков, дурачась, подбежал к столу, схватил кружку и протянул ее к Рябову: — Ну, налей!
— А вы говорите, что он не слышит, — усмехнулся старшина. — Да у него слух получше нашего с вами…
— Эх ты! — с укором произнес Гладков и, не глядя, поставил кружку на край стола.
— Давай садись с нами пить чай, — пригласил его Крашенков.
— А и сяду! — снова оживился Гладков. С вызовом сел, придвинул к себе кружку и кивнул в сторону Рябова: — Ишь пристроился!
Старшина в ответ лишь презрительно усмехнулся. Он всем своим видом говорил: станет он еще препираться с этим вахлаком, слишком много чести.
С первой своей встречи невзлюбили они друг друга. Что было этому причиной, Крашенков только догадывался: ни тот ни другой на эту тему с ним не говорили. Скорее всего, Рябов взъелся на старого солдата за то, что тот медиком признавал одного Крашенкова, а его, бывшего санинструктора мотострелкового батальона, считал чем-то вроде ординарца при лейтенанте или, в лучшем случае, санитаром.
Крашенков же, которому эта тайная война порядком надоела, старался не обращать на нее внимания. Вот и сейчас он промолчал, хотя все видел. И то, как вызывающе-деловито приступил к чаепитию Гладков, и то, как злился, видя это, старшина, и то, как неумело изображал он на своем полудетском лице презрение.
Наконец Рябов допил чай и, напоследок окинув подчеркнуто пренебрежительным взглядом «папашу», с удовольствием прихлебывающего сладкий напиток, вышел из хаты.
Вскоре, взяв свои таблетки, ушел и Гладков.
А за окном уже слышались новые голоса. Мужской голос Крашенков узнал сразу. Женский же был незнаком. «Не удержался, хочет похвастаться своей милахой», — подумал Крашенков.
— Здесь приступочка, — услышал он воркующий Сашкин голос.
Донцов был сама учтивость.
— Прошу! — сказал он, распахивая дверь и галантно выбросив вперед руку.
На пороге показалась высокая девушка в белой, вышитой красными цветами блузке, в широкой темно-серой юбке с туго перетягивающим талию красным пояском. Платок на ее голове был повязан по-деревенски глухо. Если бы не выжидательный взгляд черных и безрадостных глаз, если бы не робкая и стеснительная улыбка — «вот, мол, я и пришла», Крашенков ни за что бы не узнал ее: принарядилась, и совсем другой человек. Да, недаром за ней с места в карьер принялся ухлестывать Донцов. В чем другом, но в женщинах он разбирался.
Прикрыв за собой дверь, Донцов со знакомой интонацией произнес:
— Привет!
А глаза насмешливо досказали: «…Клизма…»
— Привет!
И они встретились взглядами: обычный обмен любезностями состоялся…
— Мы за лекарствами пришли, — сказал Донцов. — Дай-ка что-нибудь от живота!
Девушка с благодарностью посмотрела на него. «Ну, ловкач, ну, ловкач! — с легкой завистью подумал Крашенков. — Ничего, сейчас ты у меня повертишься, донжуан скороспелый!»
Ответил:
— Сию минуту, пан лейтенант.
Поколдовав с минуту над столом с медикаментами, Крашенков насмешливо сообщил:
— А знаешь, от живота ничего нет.
В глазах девушки радостное нетерпение сменилось тревожной озабоченностью.
— Как нет? — удивился Донцов.
— Да так. Кончилось.
— Вкручиваешь?
— Можешь посмотреть… — Крашенков показал на стол.
Донцов шагнул к пузырькам и, наклонившись над ними, принялся про себя читать этикетки. Вскоре от всех этих мудреных названий у него голова пошла кругом. Но все же он не терял надежды встретить что-нибудь вроде: «От живота» или: «От желудка».
А пока он искал, Крашенков стоял сзади и молча посмеивался. Жаль вот, что девушка переживает. Даже подошла поближе, заглядывает через Сашкино плечо, ждет. Нет, она и в самом деле ничего. Один вздернутый носик чего стоит. Не говоря уже о глазах!
Таким расстроенным и растерянным Крашенков видел приятеля впервые.
— И в ящиках нет?
— Нет, — вздохнул Крашенков.
— А все-таки поискал бы. Может, где завалилось?
Крашенков прикрыл рукой улыбку. Поглядеть на Катушку, можно подумать, что от того, каков будет ответ, зависит судьба чуть ли не его родной матери. Ох, господи, даже выражение лица у него и у девушки одинаковое — трепетное ожидание приговора. Он — сама искренность, само сострадание. Не в этом ли секрет его успеха у женщин? Но на сей раз у него ничего не получится! Несмотря на весь этот спектакль, несмотря на отчаянную признательность, которую он уже успел заработать своей безотказно действующей донжуанской тактикой. Это будет ему хорошим уроком! Пусть знает, как волочиться за каждой юбкой.
— Ну что ты? Откуда? — безжалостно ответил Крашенков.
И снова в глазах девушки он увидел отчаяние. Ужасно нехорошо. Сделать бы ей какой-нибудь знак, чтобы зря не огорчалась. Но Донцов непременно заметит. Да и она может не понять. Остается одно — скорее его спровадить.
— Что же будем делать, а? — продолжал страдать Донцов.
— Не знаю, — пожал плечами Крашенков и осторожно добавил: — Хотя я где-то их видел…
— Где?
— Не то в штабной аптечке, не то у пожарников…
— Ну, вот и нашли! — живо обернулся Донцов к девушке.
— Знаешь, — сказал он Крашенкову, — мы тут с ней подождем, а ты сходи за таблетками.
— Нельзя мне.
— Почему нельзя?
— Здрасьте!
— Да никого больше сегодня не будет!
— А я в этом не уверен. Гладков же приходил.
— Я бы сам пошел, да я не знаю, какие там таблетки от уха и какие от брюха.
— А ты тащи аптечки целиком. Здесь разберемся.
— Смеешься?
— Ну что ты!
Донцов внимательно посмотрел на товарища и произнес:
— Ну, ладно.
У порога он обернулся и сказал:
— Смотри!
— Что смотреть? — усмехнулся Крашенков.
— Ничего, — пробормотал Донцов и вышел из хаты.
7
Девушка стояла неподвижно и старалась не глядеть на Крашенкова.
— Садитесь, — сказал он ей.
Она бросила на него короткий взгляд и села. Руки положила на колени. Большие, огрубевшие от работы руки.
— Ну, как мама себя чувствует?
— Як завше…
Это были первые слова, которые она произнесла сегодня. «Як завше» — как всегда. И как тогда на хуторе, ее голос поразил Крашенкова странным сочетанием чистоты и приглушенности звуков. Хотелось и дальше слушать. Но она оказалась на редкость молчаливой. К тому же и времени на разговоры нет. Катушке с его быстрым, натренированным шагом связиста достаточно минут двадцати, чтобы обернуться…
— Постойте! — несколько поспешней, чем надо, сыграл Крашенков. — Я еще раз посмотрю!
Он подошел к громадному сундуку, в котором хранились трофейные медикаменты. Поднял тяжелую крышку и, придерживая ее плечом, стал рыться внутри. Чего тут только не было! Навалом лежали всевозможные пилюли, таблетки, порошки с названиями, которых не встретишь ни в одном из медицинских справочников, какие-то патентованные немецкие средства, о назначении которых можно лишь догадываться. Конечно, их давно следовало выбросить. Но все попытки Крашенкова в этом направлении наталкивались на упорное сопротивление Рябова: «Зачем выбрасывать? Может, еще пригодятся…» И Крашенков не настаивал. Он и сам втайне надеялся, что рано или поздно удастся найти какой-нибудь немецкий рецептурный справочник, который поможет разобраться в этом хозяйстве. А пока запасливый санинструктор сваливал в сундук все новые и новые медицинские трофеи, тем более что недостатка в них — в связи с наступлением советских войск — не было.
Но вот несколько дней назад, готовясь к переезду, Крашенков в спешке сунул туда пузырек с желудочными таблетками. А теперь попробуй найти их… Здесь черт ногу сломит!..
— Пане ликар! — услышал он голос девушки. — Дайте я крышку подэржу!
— Подержите… если не трудно…
Едва крышка освободила его, он повел планомерные поиски и уже через минуту обнаружил злополучный пузырек.
— Вот они! Нашлись!
— Дякую, пане ликар! — смущенно поблагодарила девушка. Она стояла в неудобном положении: как-то боком, придерживая обеими руками тяжелую крышку.
— Сейчас закрою! — спохватился Крашенков.
Когда они опускали крышку, он вдруг щекой ощутил тепло, которое исходило от ее широкого лица с большими черными глазами. Он повернулся к ней. В глазах девушки взметнулось удивление. Неожиданно для себя он взял ее за плечи и притянул к себе. Почувствовал, как напряглись под блузкой мышцы. Он попытался поцеловать девушку в губы, но она отвела лицо. Он с силой повернул ее голову к себе, но она лбом уперлась ему в подбородок.
Оба молчали.
Первым заговорил Крашенков:
— Поцеловать-то, наверно, можно?
— Не можно…
— Почему не можно?
— Не можно, — повторила она.
— Не можно так не можно, — добродушно согласился Крашенков, отпуская ее. — Отложим до другого раза!
— Не можно, — в третий раз тихо произнесла она.
Крашенков отсыпал в бумажный кулек таблеток, отлил в пустые пузырьки немного валерьянки и нашатырно-анисовых капель, все это уложил в консервную банку из-под ленд-лизовской колбасы и подал девушке:
— Прошу, пани!
Она неуверенно взяла и неожиданно прижала банку к груди.
— Дякую вам, пане ликар!
— Желудочные таблетки, — сказал Крашенков, — принимать три раза в день перед едой. Валерьянку пить перед сном… Запомнили?
Она виновато взглянула на него и покачала головой.
— Подождите, я запишу вам…
Только закончил он писать, как кто-то громко постучал в ставню. Крашенков вскочил, подошел к окну. За стеклом неясно белело возбужденное лицо Рябова. Старшина энергично шевелил своими пухлыми губами и показывал рукой на дверь.
Крашенков вышел во двор. Его сразу, как черная вата, окутала густая плотная темнота.
— Товарищ лейтенант, срочно к начальнику артсклада!
— Что случилось?
— Старшего лейтенанта Мхитарьяна убили!
— Что? Где? Кто?..
— Бандеры!.. Только что нашли его мертвого!
— Где?
— Недалеко отсюда. В трех километрах. Его уже в штаб привезли!
— Как же так?
— Товарищ лейтенант, быстрее!
— Иду!..
8
Мхитарьян лежал на полу, покрытый с головой солдатской шинелью. Крашенков прошел мимо, превозмогая острое желание взглянуть на убитого.
В штабе было полно народу. Все мрачные и возбужденные. Одни чистили и приводили в порядок личное оружие, другие обступили начальника артсклада, который пытался связаться с кем-то по полевому телефону.
Увидев Крашенкова, капитан Тереб отставил трубку и сказал:
— Лейтенант, осмотрите…
В штабе стало так тихо, что был слышен каждый скрип и шорох. Провожаемый взглядами, Крашенков подошел к телу, опустился на колени. Обернулся, коротко сказал:
— Посветите!
Несколько коптилок и керосиновых ламп, встревожив и разогнав тени, сошлись у него над головой.
Отяжелевшими в мгновенье руками он отогнул край шинели. Лицо убитого было изуродовано до неузнаваемости. По-видимому, озверевшие бандиты били по нему тяжелыми сапогами и прикладами.
— Что же это такое? — чуть не плача произнес кто-то.
— А это он? — усомнился Донцов.
— В кармане остались кое-какие бумаги, — сказал замполит капитан Шишов.
— От гады! От гады! — простонали сзади…
За два года пребывания на фронте через руки Крашенкова прошел не один десяток раненых. Нагляделся он немало и на убитых. Среди тех и других были и близкие ему люди, и друзья, и просто хорошо знакомые. Казалось бы, он привык ко всему. Казалось бы, уже ничто не могло его поразить. И все же, осматривая растерзанного бандитами Мхитарьяна, он с трудом унимал дрожь в кончиках пальцев. Он знал, что стоит ему только дать волю своим чувствам, чуть-чуть ослабить вожжи, и его всего начнет колотить…
Закончив осмотр, он снова накрыл труп шинелью и вернулся к столу. Капитан Тереб как раз заканчивал разговор с майором Пономаревым, командиром зенитного дивизиона, охраняющего артсклад от налетов фашистской авиации. Зенитчики также решили принять участие в прочесывании леса.
— Когда будут? — спросил капитан Шишов.
— Говорит, через два часа, — прикрыв ладонью трубку, ответил капитан Тереб. — Начнем с рассветом…
— Итак, Пономарев, ждем твоих людей, — сказал он в микрофон. — Сам? Зачем? Мы и без тебя справимся!.. Ну, как знаешь, — пожал он плечами и положил трубку. — Пусть тогда он ими и командует!
— Так даже лучше, — заметил замполит.
Капитан поднял глаза на Крашенкова — дал понять, что готов слушать.
— Товарищ гвардии капитан, осмотр произведен. Старший техник-лейтенант Мхитарьян скончался от множественных пулевых ранений грудной клетки и живота…
— А голова?
— Ушибы лица?.. Это они потом… над мертвым.
— Надо оформить акт о смерти.
— Слушаюсь!
Никогда раньше Крашенкову не доводилось писать такие акты. Когда боец погибал на поле боя или умирал в батальонном медицинском пункте, его просто исключали из списка личного состава, а домой посылали похоронную. В медсанвзводе, где Крашенков служил после танкового батальона, на раненого заполняли эвакуационную карточку. В ней отмечалось все, что касалось его жизни и смерти. Конечно, где-то в медсанбатах и госпиталях писались истории болезни. Где-то, может быть, составлялись и акты о погибших. Но как это делается, Крашенков не имел ни малейшего понятия, хотя за последние два года он написал немало всяких актов. После каждой боевой операции приходилось списывать пришедшее в негодность и пропавшее медицинское оборудование. Но одно дело носилки или ножницы, другое — человек…
Конечно, он не хуже капитана Тереба понимал, что такой акт о смерти необходим. Не для них. Не для Гриши Мхитарьяна, которому уже все равно. А для суда. Именно для суда над фашистскими прихвостнями. В отличие от других убийств, которые совершались ежедневно на всем огромном, необозримом протяжении фронта и считались сами собой разумеющимися, это убийство, несмотря на свою прямую связь с теми убийствами, воспринималось как тяжкое уголовное преступление. И главным образом потому, что где-то поблизости находились пока еще не известные, но вполне конкретные и определенные убийцы, которых можно найти и покарать. Были и средства, чтобы осуществить это. Не было только одного — времени на раскачку.
9
Уже начало светать, когда к штабу подъехала машина зенитного дивизиона. Крашенков выглянул в окно. Никто из зенитчиков не спрыгнул вниз поразмяться. Они продолжали сидеть в кузове — суровые и молчаливые.
Зато их командир майор Пономарев, покидая кабину, поднял столько шума, что в соседнем дворе пробудился и спросонок заорал истошным голосом петух.
Капитан Тереб недовольно поморщился:
— Он так все село разбудит.
— Петух, что ли? — улыбнулся капитан Шишов.
— Петух…
Майор Пономарев, высокий здоровяк, с крупными, но вялыми чертами лица, с грохотом вошел в хату. Расстояние от порога до стола он преодолел в три шага. Крепко пожал руку маленькому, сразу потерявшемуся на его фоне капитану Теребу. Затем так же энергично потискал руку каждому из офицеров. После этого подошел к Мхитарьяну и, сняв свою старую помятую фуражку, молча постоял.
Отдав последний долг, заговорил о деле:
— На сколько назначена операция?
— Как договорились, на пять, — ответил Тереб.
— А может, раньше начнем?
— Теперь уже недолго осталось ждать. К пяти должны подойти проводники из местных. Да и в лесу еще темно.
— На черта тебе проводники эти?
— Они знают там каждый куст.
— Смотри, заведут они нас куда-нибудь!
— Не заведут. Это здешние активисты. Коммунисты.
— А!.. Ну ладно, давай сверим карты, — сказал Пономарев, доставая из планшетки двухверстку.
Крашенков, сидевший за столом сбоку (он в пятый раз переписывал акт), прибавил огня в лампе. Пономарев и Тереб склонились над картами. Район предстоящей операции они уточнили быстро: место гибели Мхитарьяна. Затем долго решали, как лучше прочесывать лес — с двух сторон одновременно или только с одной. В конце концов, остановились на последнем. А то, не дай бог, перестреляют друг друга. Ведь ходят слухи, что бандеровцы переодеваются иногда в советскую форму. Поди разгляди, свои это или чужие… Потом прикидывали, сколько еще нужно людей, чтобы охватить весь участок, и кто где станет в цепи. За спорами и обсуждением не заметили, как прошел почти час.
За окном уже был рассвет, если можно назвать рассветом те слабые и неяркие отблески утра, которые с трудом проникали сюда сквозь густой шатер леса.
В дверях показался дежурный по части младший техник-лейтенант Ковалев.
— Товарищ гвардии капитан, — доложил он, — пришли какие-то гражданские…
— Да, да! Пусть войдут!
Вошли двое. Один пожилой, почти старик. Другой по возрасту годился ему в сыновья. На старшем был старомодный, с накладными, в складках, карманами френч; штатские брюки заправлены в сапоги. На младшем — неопределенного цвета, изрядно поношенный костюм. У обоих за спиной карабины.
— Знакомьтесь: председатель сельсовета Паладийчук, — представил старика капитан Тереб. — А это — секретарь сельсовета… забыл вашу фамилию…
— Гнатенко, — щеки у парня покрылись румянцем.
— Товарищ Гнатенко…
Терпеливо подождав, пока Паладийчук и Гнатенко поздороваются за руку со всеми офицерами, капитан Тереб взглянул на часы и объявил:
— Без десяти пять. Пора.
Все, кроме младшего техника-лейтенанта Ковалева, оставшегося дежурить у телефона, вышли во двор. Там уже стояли три машины: одна с зенитчиками и две — артсклада. Кругом — на бревнах, ящиках, садовых скамейках, ступеньках крыльца — сидели вооруженные бойцы. Молча покуривали, перекидывались негромкими репликами.
Капитан Тереб вполголоса приказал:
— Построиться! Командирам доложить о наличии людей!
Старшие групп в полном молчании прошлись вдоль строя и по спискам проверили, все ли на месте. Приглушенными голосами отдали рапорта. Налицо все. Даже закоренелые сачки, которые всегда и от всего увиливали.
Новая негромкая команда «По машинам!», и вот грузовики с солдатами уже неслись по спящей улице-просеке.
Крашенков оглянулся на санчасть. Успел заметить во дворе длинную и тощую фигуру бабки, смотревшей им вслед.
Промелькнули последние две хаты.
Первый поворот… Отсюда до второго поворота — совсем как в ущелье…
За переездом у железнодорожной станции свернули на проселочную дорогу. Открылось плотное серое небо — утро заступало вяло. Трудно понять, то ли день обещал быть пасмурным, то ли теперь солнце всходило позже.
Свежий утренний ветер пробирал насквозь. В легкой летней гимнастерке Крашенков чувствовал себя как в майке… Бр-р! Жаль, что не надел безрукавку!
Впрочем, через десять минут они были на месте.
Вот здесь, в этом кювете, как раз напротив столбика, нашли Мхитарьяна. Трава как трава. Даже одуванчики не потревожены…
10
Несколько коротких команд — и цепь, растянувшаяся на полкилометра, вошла в лес. Бойцы ступали молча, держа палец на спусковом крючке автомата. Правда, их предупредили, что пускать в ход оружие они должны только в крайнем случае. Мол, надо попытаться захватить бандитов живьем. Но кто знает, как все обернется. Не исключено, что единственный выход будет — стрелять.
В лесу стоял полумрак. Но как бы густо ни сплетались раскидистые кроны дубов и буков, как бы плотно ни загораживали свет с дороги и просек кусты боярышника и дикой малины — и сюда проникало раннее утро. Пусть слабое, нерешительное, но все-таки утро. И глаз уже различал отдельные предметы на расстоянии пятнадцати — двадцати метров.
Чувства у всех обострены до предела. Но страха ни у кого не было. Сознание того, что ты не один, что тебе нужна лишь доля секунды, чтобы прошить очередью противника, делало каждого смелее и увереннее.
Шли довольно быстро, нормальным, размеренным шагом.
Справа от Крашенкова двигался Сашка Донцов. Слева — незнакомый лейтенант.
Крашенков на минутку опустил затекшую от напряжения руку с пистолетом. Куда ни глянешь — уходящий в темноту частокол деревьев. А ведь пройдено метров шестьсот, не больше. Конечно, где-нибудь на открытом месте это не расстояние. Здесь же имеет значение каждый метр. Враг может быть везде. За кустами, за деревьями, за штабелями аккуратно уложенных лесником дров, в лесных канавах, заваленных сушняком и дерном…
Но цепь шла дальше, а бандиты что-то не давали о себе знать. Мелькнула мысль: а не ушли ли они в самую чащу? Или, может быть, их кто-то предупредил и они вообще покинули эти места? Однако лес велик, и рано строить подобные предположения. Надо быть начеку…
Крашенков шагал в середине своей полосы леса и старался, чтобы от его взгляда не ускользнула никакая тень, никакое движение, никакая неясность…
Но ничто не выдавало присутствия чужих людей. Слышался только непрерывный треск валежника под ногами нескольких десятков солдат и офицеров…
Так прошли они, наверное, еще с полкилометра.
А что, если бандитов никогда здесь и не было? Убить Мхитарьяна они могли и в другом месте. А труп притащили сюда, чтобы замести следы. Ведь и такое возможно?
Словом, беда, коль пироги начнет печи сапожник… Ловить банду должны те, кто знает, как это делается. А не доморощенные шерлоки холмсы вроде капитана Тереба и майора Пономарева!
Крашенков посмотрел по сторонам. Оказалось, другие тоже скисли. Донцов шел, опустив автомат в землю. Встретив взгляд приятеля, он развел руками…
Неторопливо, как на прогулке, шагал и сосед Донцова — неправдоподобно длинный и тощий караульный солдат Файнштейн, или фон Штейн, как его в шутку называл Крашенков. Автомат у него был перекинут через плечо стволом вниз и болтался при каждом шаге. Сквозь деревья мелькали и другие участники облавы. Цепь почти распалась. Кто-то задержался у куста малины, кто-то наклонился за белым грибом, кто-то оставил свое место и шел рядом с приятелем.
Все это напомнило Крашенкову шахматные фигурки, разбросанные по всей доске. Короче говоря, был полный беспорядок. Крашенков даже забеспокоился: трудно найти более удобный момент для нападения на отряд.
Он подошел к Донцову, высказал свое опасение.
— Ни хрена не будет! — ответил тот. — Вон уже лес кончается!
И впрямь, здорово посветлело.
Вскоре цепь бойцов или, вернее, то, во что она превратилась, вывалилась на просторную — всю в красных и белых цветах — поляну.
Появилось и начальство: богатырь Пономарев и коротышка Тереб. Сейчас они, кажется, больше всего озабочены тем, чтобы никто не отстал, не заблудился. Главное для них — избежать нового ЧП.
— После такого блистательного похода не мешает устроить парад, — шепнул Крашенков Донцову.
— Внеси предложение, — не преминул кольнуть тот.
— Как-нибудь в другой раз, — усмехнулся Крашенков.
Капитан Тереб подозрительно покосился в их сторону. Но его внимание отвлекло восклицание замполита Шишова:
— А где эти двое?
И в самом деле, где председатель сельсовета и его секретарь?
Крашенков видел их в лесу всего раз, когда цепь уже распалась. Они промелькнули впереди и исчезли.
— Покричите их! — приказал капитан Тереб технику-лейтенанту Пайко, обладателю громового голоса.
Тот прошел на опушку, сложил ладони рупором и рявкнул:
— Па-ла-дий-чук!.. Гна-тенко!..
Все замерли, прислушиваясь.
Ответило только эхо:
— …дийчук!.. тен-ко!..
— Товарищи начальники! — обратился капитан Шишов к Теребу и Пономареву. — Давайте прочешем этот сучий закуток еще раз!
— Можно, — ответил за двоих Пономарев.
Капитан Тереб поднялся на бугорок и, став после этого на голову выше всех, кроме «фон Штейна», скомандовал:
— Старшие групп! Построить людей!
— Офицеры в цепь!
— Пошли на свое место! — сказал Крашенков Донцову.
— Вперед!..
С автоматами наперевес солдаты двинулись в обратном направлении. Но едва они вступили в лес, как по цепи прокатилось:
— Стой!.. Стой!..
Между деревьями бежал Гнатенко.
Оказалось, что они нашли бункер, в котором прятались бандиты.
— Тилькы зараз там никого нэмае… Якыйсь ворог попэрэдив их… Мабуть, воны в иншим мисци сховалысь! — с трудом переводя дыхание от быстрого бега, говорил он.
— Далеко бункер? — спросил капитан Тереб.
— Ось тут… блызько…
И все-таки это было не так близко, как обещал молоденький секретарь сельсовета… Они пробирались сквозь густые кусты боярышника и дикой малины, усыпанной недозрелыми ягодами. Перешли ручеек, глубоко и причудливо прорезавший землю. Обошли стороной высокий и длинный завал из сухостойных деревьев.
У разлапистой пихты их встретил Паладийчук с карабином в руках. Он показал на большую яму с разбросанным по краям дерном и валежником. Сбоку, в полуметре от поверхности, чернел лаз, закрепленный брусьями.
Отдав команду осмотреть лес вокруг, капитан Тереб обвел взглядом стоявших рядом офицеров и солдат.
— Ну, кто полезет?
Изъявило желание несколько человек. Среди них — незнакомый Крашенкову лейтенант.
Добровольцы спустились в яму и один за другим исчезли в лазе.
Ждать пришлось недолго. Уже через минуту оттуда выглянул один из солдат — бывший сапер — и радостно оповестил:
— Мин нет, а сало есть!
Капитан Тереб спрыгнул в яму.
— Передайте, слышите, чтобы никто ничего не трогал! Может быть, отравлено!
— Да лейтенант все одно уже опечатал!
Но вот из бункера вылез сам лейтенант.
— Товарищ капитан! — обратился он к Теребу. — Прикажите поставить часовых.
— Ладно, поставим.
— Ну, что там еще нашли? — спросил Пономарев, заметив в руке у особиста тоненькую пачку каких-то бумаг.
— Вот! — тот передал ее майору. — Не то забыли впопыхах, не то выронили.
Пономарев бегло осмотрел документы и передал их капитану Теребу. Тот молча взял и развернул первый листок. Крашенков стоял позади и все видел. Это была справка немецкой комендатуры о том, что некоему Дыру разрешается появляться на улицах Тернополя после восьми часов. Брезгливо оттопырив нижнюю губу, капитан просмотрел и другие бумаги. Среди них оказалось и удостоверение личности советского офицера. Первая мысль была: Гриши Мхитарьяна! Но когда капитан Тереб раскрыл корочки, Крашенков увидел фотокарточку другого офицера… капитана, летчика, кавалера трех орденов. Кто он? Одна из жертв хозяев бункера? Или ротозей, потерявший свои документы? Или переодетый бандит, вклеивший в чужое удостоверение свою фотокарточку? И вдруг Крашенкову показалось, что он уже где-то видел это фатоватое лицо. И к тому же совсем недавно. Не больше двух-трех дней. Но где? Где?..
С чувством смутного беспокойства, вызванного всей неопределенностью и незавершенностью этого страшного дня, Крашенков вместе с другими возвращался из леса.
11
Похороны Мхитарьяна состоялись на следующий день, в маленьком, очень зеленом городке, находившемся от артсклада в пятнадцати километрах. На центральной площади, где у двух пирамидальных тополей была вырыта могила, собралось почти все взрослое население городка. После председателя горсовета, который призвал всех помочь властям быстрее покончить с фашистскими недобитками, выступили замполит капитан Шишов, сказавший добрые слова о погибшем, и учительница местной школы.
Обратно в часть вернулись только под вечер.
Крашенков спрыгнул с машины у санчасти и, отряхивая с одежды пыль, пошел в хату. Сейчас он мечтал об одном — помыться с дороги и завалиться в постель. Никаких проб, никаких больных! Пусть этим занимается Рябов!
Но старшины в хате не было. На столе лежала записка. Корявыми буквами, разбегающимися в разные стороны, было написано:
«Ушол минять перевязку старшому сержанту Бураку Идуарду а так же снять пробу гвардии старшина сан инструктор Рябов».
Ошибок, конечно, многовато для человека, окончившего шесть классов и курсы санинструкторов, но зато коротко и ясно.
Крашенков скинул гимнастерку, направился к умывальнику.
Вошла старуха. По ее лицу Крашенков увидел, что она хочет что-то сказать. И точно, помедлив, она спросила:
— Поховалы хлопчика?
Крашенков удивленно взглянул на нее — до того неожиданным было все это: и жалость, и сострадание, и больше всего — осуждение убийц, которое таило в себе слово «хлопчик». Вот тебе и неприязнь! Вот тебе и прислужница дьявола!
— Схоронили, бабушка, схоронили, — тихо ответил он.
— Господи, прыйми душу раба твого… — перекрестилась она и двинулась в свой угол. Но, не дойдя до него, обернулась, проговорила как-то неохотно: — Та жинка з хутора, Вероника, приходыла до вас…
Все-таки жинка, замужем! И зовут — Вероника…
— А то як же? — проворчала старуха.
Неужели он произнес ее имя вслух?
— А зачем, не сказала?
— Казала, що з матерью дуже погано.
— А больше ничего не передавала?
— Просыла зараз прыйти.
Что же делать? Опять топать через этот чертов лес? К тому же на ночь глядючи, после того, что случилось? Но не идти тоже нельзя: а вдруг больная умирает и там ждут его прихода? Так что хочешь не хочешь, пан лекарь, а шагать придется…
Крашенков быстро вымыл лицо и руки, натянул гимнастерку.
Конечно, он пойдет не как в тот раз, почти без оружия, с одним пистолетом…
Хлопнула дверь в прихожей. В комнату вошел Рябов. Посмотрел внимательно на Крашенкова, возившегося с автоматом, спросил:
— Вы куда опять?
— На хутор, к бабушке! — сердито ответил Крашенков, утапливая патроны.
Старшина обиделся: ни за что ни про что облаять человека! Но если лейтенант не хочет отвечать, пусть не отвечает. Он, Рябов, как-нибудь переживет это.
— Ты не знаешь, где лимонки?
Рябов сделал вид, что не слышит.
— Ты не видел, где лимонки? — повторил вопрос Крашенков.
— Под кроватью, — буркнул тот.
«Что это с ним?» — удивился Крашенков. Но выяснять, что и почему, не стал: не до этого!
Заглянул под кровать. Лимонки действительно были там — лежали прямо на полу.
Крашенков взял две гранаты и сунул их в санитарную сумку.
У порога напоследок сказал:
— Я пошел на хутор. Сколько там пробуду — не знаю. Все зависит от того, что с больной. Но если долго меня не будет, то тогда… ну, сам знаешь…
Рябов обернулся. Крашенкову показалось, что его лицо выражало растерянность.
Он вышел из санчасти и двинулся в сторону штаба.
Но не прошел и десяти метров, как позади раздался срывающийся голос:
— Товарищ лейтенант!
Закидывая за плечо автомат, его догонял Рябов.
— Ты куда?
— Я с вами!..
Крашенкова тронула готовность старшины разделить с ним опасность. Он даже на мгновенье представил себе, как хорошо было бы идти вдвоем. Но это невозможно: кто-то из них всегда должен быть в санчасти. Пришлось отправить Рябова обратно.
По пути Крашенков зашел в штаб, чтобы доложить о предстоящей отлучке.
Дежурил по части техник-лейтенант Пайко, тот самый, что обладал громовым голосом.
— Один пойдешь? — с беспокойством спросил он.
— А что делать? Адъютанты и ординарцы мне не положены!
— Подожди, я позвоню Теребку. Может, разрешит взять кого-нибудь из солдат…
Но в хате, где жили начальник артсклада и его заместитель по политической части, никто не подходил к телефону.
Пайко с силой положил трубку.
— Черт бы их побрал! Наверно, ушли проверять посты!
Встал, подошел к окну.
— Может, все-таки подождешь их?
— Скоро совсем стемнеет. Надо торопиться.
— Ну, как знаешь!.. Смотри в оба!
— Постараюсь, — усмехнулся Крашенков и вышел из штаба.
С минуту он постоял на улице, сам толком не зная, почему остановился. Со стороны, разумеется, могло показаться, что он раздумывает, стоит ли идти или нет. Во всяком случае, так мог подумать Пайко, который видел его из окна. Еще не хватало, чтобы тот решил, что он сдрейфил.
Не взглянув на окно, Крашенков резко повернулся и направился к шлагбауму…
12
Время было детское — без четверти восемь. Детское, если не надо никуда идти. А так — позднее. Даже очень: темнота уже подбиралась к хатам, к палисадникам, к солдатам, стоявшим на посту у шлагбаума.
Оба часовых — «фон Штейн» и Гладков — его появление поначалу встретили шутками: «А… смена идет!», «Сменять нас пришли, товарищ лейтенант?», «А что без напарника?» Но когда они узнали, что он намерен следовать дальше, у них тотчас же пропало желание шутить. Так и остались стоять в молчаливой растерянности. Да и чем они могли помочь ему?
Отдаляясь от села, он испытывал вначале двойственное чувство. Отсутствие страха и ожидание его одновременно. И впрямь, с одной стороны, пока он знал, что его видно с поста и солдаты слышат его шаги, он как-то не чувствовал одиночества. И, естественно, страха тоже. А с другой стороны, он с тревогой ожидал момента, когда один на один останется с лесом…
Правда, он заранее подготовился ко всяким неожиданностям. Автомат снят с предохранителя. Палец — на спусковом крючке. При любых обстоятельствах, даже если на него нападет несколько человек, он успеет нажать. И выстрелы будут услышаны в селе. Но это — в худшем случае. Если же выскочившие откуда-нибудь бандиты хоть на долю секунды опоздают с выстрелами, он в одно мгновенье прошьет их очередью. Только бы сгоряча не промазать. А если у него окажется в запасе еще время — пусть те же доли секунды — он шарахнет по ним гранатой…
Главное — не прозевать и стрелять первым. Теперь это особенно важно. Он вдруг с ужасающей ясностью представил себе, какая глухая и плотная толща леса уже пролегла между ним и солдатами.
С этой минуты он шел медленно, мягко ступая, почти крадучись. Так он и сам производил меньше шума, и посторонние звуки лучше слышал…
Только так… шаг за шагом… полностью растворяясь в тишине и темноте… как разведчики в непосредственной близости от неприятеля…
Конечно, ему далеко до них… Он то и дело выдавал свое присутствие: то наступал на сухую ветку… то спотыкался о какой-нибудь пенек… Ему казалось, что под ногами его все время что-то трещит… хрустит… шуршит… осыпается…
Дорога различалась с трудом: надвигалась черная лесная ночь. Один раз он даже наткнулся на дерево.
Неожиданно ему в голову пришла ясная и простая мысль. А ведь здесь, на этой дороге, бандитам делать нечего! По ней же никто не ходит, не ездит. Может быть, от силы один или два человека в день, какой-нибудь старик или старуха. Кому нужно устраивать на них засаду?.. Разумеется, бандиты могут водиться и в этом лесу. Но сомнительно, чтобы они сидели всю ночь у забытой лесной дороги и поджидали тех, кто сюда не ходит. Если они и есть здесь, то где-нибудь подальше. Или отсыпаются в своем вонючем бункере, или же уходят куда-то на бандитский промысел. Встретиться с ними можно только случайно. Несомненно, они могут услышать его шаги. Но в данном случае они с ним в равном положении. Они могут услышать его шаги, а он — их. Важно, кто услышит первый…
И Крашенков остановился, весь превратился в слух…
А что, если изменить тактику? Перед тем как пройти какой-нибудь отрезок пути, скажем пятьдесят метров, постоять с минутку? Внимательно и не спеша, вот как сейчас, прослушать лес? И если ничего нет подозрительного, следовать дальше? И так каждые полсотни метров? Бесспорно, времени на дорогу так уйдет больше. Зато риска меньше…
Но если все-таки придется встретиться с бандеровцами, он уж постарается подороже продать свою жизнь. Не так, как Гриша…
Готовый ко всяким неожиданностям, он продолжал идти все тем же неторопливым и тихим шагом…
А потом стоял, вслушиваясь в тишину…
А потом снова шел…
А потом снова стоял…
И так до тех пор, пока вдруг не увидел перед собой в сотне метров огоньки хаты.
13
Первое его ощущение, когда вошел в хату: наконец-то дома! Как будто он был здесь много раз и между ним и этим домом, этими людьми существуют какие-то давние и прочные связи. И оттого, что все трое — и старик, и Вероника, и больная — обрадовались его приходу, это ощущение лишь усилилось…
— Как мама? — спросил он Веронику, вешая автомат и подсумок с дисками на гвоздь у входа.
— Дуже квола, — тихо и просто, как своему, сообщила она.
Он прошел в комнату.
Больная приветливо и сконфуженно улыбалась: вот, мол, опять вас из-за меня побеспокоили.
Выглядела она хуже, чем в прошлый раз. Землистый цвет лица. Впалые щеки. Спутанные седые волосы.
В ту ночь у нее были сильные боли в животе. А сегодня целый день «така слабисть, така слабисть», что поднимается только с посторонней помощью.
— Покажите живот, — сказал Крашенков.
Она сдвинула вниз одеяло, но никак не могла вытянуть из-под себя длинную ночную рубашку: плохо слушались ослабевшие руки.
— Да помогите же ей! — раздраженно бросил назад Крашенков.
Оба — и деверь, и дочь — бросились помогать больной.
— Щось задумалась, — пристыженно оправдывалась Вероника…
Перемогая уже знакомое неприятное ощущение, Крашенков положил руку на впалый, отливающий желтизной живот и быстро надавил… Слава богу, перитонита нет!.. Жалуется, что отдает в ногу? Он, хоть убей, не помнит, при каких это болезнях. Надо бы заглянуть в справочник. Но при всех неудобно: сразу поймут, что он за специалист. Конечно, можно что-нибудь придумать. Например, заявить: простите, я хотел бы посмотреть, что о таких случаях говорит профессор Икс-Игреков. Или же: надо проверить, стоит ли ей давать некипяченое молоко или нет. Неплохой ход. И он от этого будет в прямом выигрыше. Как же! Пан лекарь, чтобы помочь нашей больной, профессоров читает. И знает он немало, раз только насчет одного молока сомневается…
Может быть, раньше он и прибег бы к подобной уловке. Но сейчас ему не хочется вкручивать, да и все.
Однако надо что-то делать. Ведь они знают и надеются, что он поможет.
Но чем? Чем?..
Вспомнил: камфара! Можно будет сделать укол, поддержать сердце. Во всяком случае, хуже ей от этого не станет. А в справочник он заглянет сегодня же, при первом удобном случае. Он уже эту больную не оставит ни при каких обстоятельствах. Если потребуется, даже съездит в армейский терапевтический госпиталь и посоветуется с врачами…
Но где же санитарная сумка?.. Ах, вот где она! Сам же задвинул ногой под кровать.
Осторожно, чтобы никто не заметил лежащие сверху лимонки, достал из сумки стерилизатор со шприцем и иголками. Пошарив еще, вынул коробку с ампулами и маленький флакончик со спиртом.
Он не видел, но чувствовал, что все трое с любопытством и удивлением наблюдали, как он колдует в сумке.
Но вот все готово.
— Где можно вымыть руки? — спросил он Веронику.
— Ось тут, пане ликар! — она бросилась показывать.
Он прошел на кухню. Там было темно. Свет падал лишь узкой полоской у приоткрытой двери.
Где же умывальник?
— Зараз посвичу вам! — подала голос из темноты Вероника. — Сирныки кудысь подивалысь!..
В квадрате окна, обращенного к близкому лесу и едва выделявшегося на общем темном фоне, двигался ее силуэт.
И вдруг он замер.
Что с ней? То ли припоминала, где спички, то ли опять задумалась. Странная она какая-то…
Оказалось, умывальник находился за его спиной. Крашенков нащупал кромку таза. Нажал на сосок. На ладонь скатилось несколько теплых капель.
— Воды тоже нет, — с мягкой иронией заметил он.
— Прошу?
Так и есть, она ничего не слышала.
Он повторил, и ему самому стало противно: на этот раз та же фраза прозвучала как упрек.
Но Вероника, кажется, на это не обратила внимания. Ойкнула, схватила какую-то посудину и выбежала в прихожую.
Повинуясь бессознательной уверенности в том, что спички непременно лежат где-нибудь на видном месте, Крашенков подошел к окну и, действительно, увидел их лежащими тут же, на подоконнике.
Он улыбнулся и покачал головой. Достал из коробка спичку, зажег…
Вошла Вероника, зажмурилась на свет. Но оттого, что он не спешил убрать спичку, а руки у нее были заняты кастрюлей с водой, она не могла прикрыть глаза и нетерпеливо и сердито замотала головой. Это было что-то новое. Такой ее он еще не видел.
Крашенков погасил спичку и заметил:
— В конечном счете руки можно мыть и во тьме кромешной, не правда ли?
Вероника молчала. Она налила в умывальник воду и прошла в глубь кухни.
Крашенков мыл руки. Мыл тщательно, аккуратно, как его когда-то учили. Так же тщательно и аккуратно вытер их полотенцем, которое подала ему Вероника.
— Все! Пошли!
И вздрогнул: он ясно услыхал за окном чьи-то легкие и осторожные шаги.
— Кто там?
— Дэ? — Она резко повернулась к нему, как будто он знал больше, чем лес или ночь.
— Во дворе, — он подскочил к окну и стал всматриваться.
Она стояла сзади и убеждала:
— Та нэмае там никого!.. Мабуть, кинь в стайни!..
Похоже, что и впрямь ему послышалось. Он отчетливо представил себе: конь переходит из одного места конюшни в другое, ступая осторожно и легко. Почти как человек. Если не прислушиваться.
Да, скорее всего, лошадь…
— Никого, — тихо сказала Вероника, и в ее голосе прозвучала нотка облегчения. Странно, очень странно…
Спросил ее:
— Ну что, вернемся к маме?
И та, словно уходя от его взгляда, как-то неуклюже и торопливо сделала шаг назад. Всего один маленький шаг. Но именно в этот момент слабый, почти не существующий ночной луч скользнул по ее лицу, и оно на мгновенье стало загадочно красивым. Крашенков, пораженный чудом превращения, вдруг ощутил невыразимое желание схватить ее на руки и целовать эти черные, сливающиеся с темнотой ночи глаза…
Однако там, в нескольких шагах, лежала больная, дожидавшаяся укола камфары, и ему не оставалось ничего больше, как последовать за Вероникой.
14
Всего один не обязательный укол камфары, и они уже опять смотрели на него как на спасителя. Больная то и дело повторяла, что ей стало как будто легче. Старик мучился из-за того, что пан лекарь снова отказался от гонорара в виде трех десятков яиц и куска ветчины. Что-что, а это никак не укладывалось в голове отставного польского улана. А Вероника сидела рядом с матерью и гладила ее сухую и тонкую руку.
Крашенков не торопился уходить. Он даже не заикался об этом, хотя ни на минуту не забывал о том, что рано или поздно придется возвращаться. Один аллах знает, что ему сегодня еще предстоит…
— Як пане ликар видносытся к тому, щоб повечеряты з намы? — как всегда почтительно, заглядывая в глаза, спросил старик.
— Положительно, — ответил Крашенков.
— Про́шу? — не понял старик.
— Добре отношусь!
— Вероника, накрывай на стол!
Вероника вскочила, побежала на кухню. Хлопотали все. Даже больная. Подсказывала: принести это, принести то…
Лицо Вероники раскраснелось. Она старалась вовсю, хотя взглянула на него всего два или три раза.
Интересно, ради кого она так старается — ради пана лекаря или ради Сережи Крашенкова? Странная она какая-то, очень странная.
— Ласково просимо до столу! — обратился к нему старик.
Угощение было почти как в добрые старые времена. Тут и вареная курица, и сало, и соленые огурцы, и крутые яйца, и мед в сотах. И, конечно же, бутылка первача. Глаза у Крашенкова разбегались.
Старик встал, в руке у него был граненый стакан, до края наполненный самогоном.
— Выпьем за пана ликаря! За його здоровя и щастя! Щоб з ным прыйшлы радисть и краще життя в нашу хату!
— Вот за последнее я выпью с удовольствием! — воскликнул Крашенков и весело чокнулся с Вероникой и стариком.
— А больной почему не дали? — спросил он. Старик и Вероника растерянно смотрели на него.
— А мы думалы, що ий не треба пыты, — извиняющимся тоном сказал старик.
— Пить нельзя, а пригубить можно. Приложиться и сделать маленький, маленький глоток.
Хозяйке налили горилки, и она, довольная тем, что ее не забыли, чокнулась с каждым. Крашенков подумал, что, может быть, впервые за долгие месяцы болезни у нее поднялось настроение.
А потом они пили в основном вдвоем со стариком. Бывший польский солдат говорил заплетающимся языком, что таких хороших и простых офицеров, как в Советском Союзе, нет на всем свете. «А польски офицеры булы дуже гордые и важные. Кожный як круль!» И он с фасоном прошелся по комнате, подкручивая воображаемые усы.
Крашенков хохотал и все время подбивал старика на новые номера. Под конец сам не удержался и показал фокус, который знал с детства. Монетка вдруг сама по себе исчезала из рук и появлялась в самых неожиданных местах. Даже у больной под подушкой.
Глаза у Вероники блестели, и она потеплевшим взглядом неотрывно смотрела на разошедшегося Крашенкова.
Но тут старик обнаружил, что бутылка пуста.
Пришлось Веронике подняться и идти за горилкой.
— Я пойду помогу ей, — сказал Крашенков, направляясь следом за ней. Сердце его бешено колотилось. Он понимал, что ляпнул чушь — как будто ей одной не донести бутылку. Но сейчас его мало беспокоило, что подумают о нем старики. В конечном счете они тоже были когда-то молодыми и не будут строго судить их. Кроме того, последнее слово не за ним.
Он увидел Веронику, как только вошел в прихожую. Она стояла на коленях у старого сундука и доставала горилку. Он взял девушку за плечи, и она послушно встала и повернулась к нему лицом. Он прижал ее к себе, их губы соприкоснулись. Он ощутил холодок ее зубов и, уже ничего не соображая от охватившего его желания, поднял Веронику на руки.
— Не тут, — шепнула она.
Он метнулся в глубь прихожей, натыкаясь на какие-то ящики, стулья, палки…
— До горыща… — снова шепотом подсказала она.
На чердак? Он вспомнил, что где-то здесь была лестница, которая вела наверх.
Но где она, где?
Вероника пыталась освободиться, идти сама. Но он ее не отпускал, ему казалось, что она может убежать.
Наконец он наткнулся на лестницу.
Она держала его за шею, и он ступенька за ступенькой поднимался с нею на чердак…
А там, увязая по колено в густом и душистом сене, он сделал еще несколько шагов. И это было последнее, что еще подчинялось рассудку…
15
Они лежали, утопая в мягком и душистом сене: он на спине, она на боку, положив голову ему на грудь. Время от времени она пропускала пальцы в ворот гимнастерки и гладила, гладила. Ее легкие пушистые волосы щекотали ему лицо…
— Як тебе звуть?
— Сергей… Сережа…
— Сергей… Сережа… — медленно повторила она.
— А тебя как звали, когда была маленькой?
— Вероничкой…
Он по ее голосу понял, что она смущенно улыбнулась: «Вот, мол, как смешно и хорошо звали меня».
— Вероничкой? Забавно.
— А ще звалы Васылем…
— Мужским именем?
— Ага. Колы малэнька була, не хотила дывчинкою буты. Всим казала: хлопчик я, Васылем звуть…
— Скажи, а как по-украински Сергей?
— Сергий.
— Отец Сергий…
Вероника тихонько хмыкнула…
— Ты чего смеешься? Так называется повесть Льва Толстого об одном монахе… Читала?
— Ни. Зараз мало читаю.
— Почему?
— Да так. Николы. Маты хворие. Тепер всэ хозяйство на мени…
— А дядя разве не помогает?
— Яка вид нього допомога? Сам як мала дытына…
— А муж где? — наконец спросил Крашенков.
— Хто його знае, — помедлив, ответила она.
— На войне, что ли?
— Був и на вийни…
— Пропал без вести?
— Може, й пропав…
— А дети у вас были?
— Ни. Ни дитей, ни внукив…
Кто он, ее муж, не оставивший ей после себя ни радости, ни надежд? Не тот ли хмырь на фотографии? Крашенков вспомнил его лицо. Какое-то не мужское, с мелкими кукольно-красивыми чертами.
Постой, постой, где же он еще видел это лицо? Притом совсем недавно, прямо на днях…
И память вынесла на поверхность вторую физиономию. Те же мелкие черты, та же дешевая, фатоватая, немужественная красота…
Оба лица мгновенно сблизились и соединились в одно.
От неожиданности Крашенков даже приподнялся:
— Послушай! Твой муж не летчик? Не капитан?
— Ни. Нэ льотчик.
— А кто он?
— Да так — людына.
Пренебрежительный тон, которым она говорила о муже, не остановил Крашенкова. Он продолжал допытываться:
— Но в какой части он служил? Кто был по званию?
— Да на що тоби здався мий чоловик? Я ж тебе про твою жинку нэ пытаю?
— А ты спытай, — улыбнулся Крашенков, опять ложась на спину.
Да, сходство поразительное. Но судит он все-таки по памяти, а это дело ненадежное: могло и показаться…
— Казав: можно спытаты, а сам мовчит…
— Что?
— Яка у тебя жинка?
— А-а!.. Уродина!.. Страшна, как черт. Добра, как ангел…
— Нэмае у тебя ниякой жинки. — Она снова положила голову ему на грудь. — Прыдумав ты всэ!
— Не все… Вот тебя не выдумал… И этот чердак не выдумал… И эту ночь не выдумал…
— Це вирши? — удивилась она.
— Конечно. Стихи одного неизвестного великого поэта…
Она с нежностью смотрела на него своими большими черными глазами, и он, отзываясь всем существом на этот взгляд, уже опять не в силах был ничего ни говорить, ни думать…
16
Этот сон Крашенков видит впервые… Он поднимается по широкой крутой лестнице с одного этажа на другой. Он знает, что она во многих местах прогнила и в любую секунду может под ним провалиться. Поэтому он идет осторожно, держась за перила, выверяя свой каждый шаг. Но самые опасные участки — не лестницы, а площадки. Там нет ни перил, ни ограждений. Как после бомбежки, зияют в полу отверстия, через которые видны нижние этажи. Он шагает по уцелевшим паркетинам, и они время от времени прогибаются под ним. Порой ему кажется, что одно неосторожное движение, и он загремит вниз…
Ему страшно. Но это страх не за жизнь, а лишь перед теми первыми неприятными ощущениями, которые вызовет падение. А за жизнь он не беспокоится. Он знает — и это уже из других снов, — что в любое мгновенье может взмыть вверх и лететь столько, сколько захочет. Это его главная тайна, которую он давно скрывает от всех. И все же он испытывает некоторое сомнение: ведь с тех пор, как он летал, прошло много времени, год или два, и он не до конца уверен, сохранился ли у него этот скрытый дар или нет…
Он продолжает подниматься. Позади остаются одна за другой лестницы и площадки, переходы и залы. Но пройдена лишь часть пути. Серпантином уходит ввысь бесконечная гармошка этажей и лестниц.
Впрочем, этот подъем он совершает не бескорыстно. Мало кому известно, что огромный и ветхий дворец — его собственность. Как он ему достался, Крашенков не помнит. Да это и не столь важно. Сейчас он здесь хозяин. Возможно, он в ближайшее время переселится сюда жить. Только заранее отремонтирует.
Дойдя до верхнего конца одного из лестничных маршей, он неожиданно обнаруживает, что дальше пути нет. Там, где обычно бывает площадка, начинается небо. Он стоит на краю лестницы, чувствуя, что долго ему так не устоять. Но повернуть назад он тоже не может. Его пугают резкие движения. А тут еще лестница начинает медленно клониться в сторону. В этот момент он вспоминает о своем умении летать. И хотя по-прежнему немного сомневается — не разучился ли — он набирает в грудь воздуха и отталкивается ногой от отходящего куда-то выступа.
Падение длится всего мгновенье. Словно в начале полета встретилась воздушная яма. Сперва он часто и отчаянно машет руками. Но, оказывается, он зря беспокоится: тело управляемо!.. Взмахи рук становятся спокойными и уверенными. К нему возвращается сладостное ощущение полета, знакомое по прежним снам.
Он летит над лесами и реками, полями и селами. При желании то прибавляет, то убавляет скорость. Только одно смущает его — с какого-то момента в его бесшумное парение вкрадывается въедливый гул мотора. Наверное, где-то в стороне идет самолет. Может быть, он пройдет мимо? Но все неотвязнее и громче становится гудение. Вскоре оно заполняет собой все пространство — и сверху, и снизу, и сзади, и с боков. Ясное дело, самолет его преследует, чтобы сбить. Он изо всех сил машет руками, пытаясь оторваться от накатывающихся на него звуков, но не может. С мыслью о том, что вот-вот последует удар, он просыпается…
Первое, что он услышал, была тишина. Он с облегчением подумал: значит, все это сон…
Какое-то мгновенье недоумевал: где он?.. Огромная постель из свежего душистого сена напомнила о вчерашнем. Но где Вероника? Куда она ушла?..
Интересно, сколько сейчас времени? Взглянул на часы: стрелки показывали половину второго. Не может быть! Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим, сладко выспавшимся… Приложил часы к уху: так и есть, стоят!..
И тут он увидел вдалеке снопик света, проникавший через слуховое окошко: ого, уже утро!
Крашенков быстро поднялся.
Снаружи послышались взволнованные голоса и торопливые шаги каких-то людей…
Кто это? Коротко обожгла мысль: бандиты!.. Рванулся — где автомат? Вот черт! Внизу остался!..
Знакомый осипший голос:
— Где лейтенант?
Сашка Донцов!
Ответила Вероника. Но что, Крашенков не разобрал.
Зачем он им понадобился?
Тяжелые сапоги дробно застучали по ступенькам крыльца.
На ходу приводя себя в порядок, Крашенков кинулся к лестнице.
Громко хлопнула дверь. Слышно было, как в прихожую ввалилось несколько человек.
— Крашенков!
Ого! Вся честная компания: Сашка Донцов, Рябов и оба караульных солдата — Гладков и «фон Штейн». У всех на груди автоматы.
— Что случилось? — обеспокоенно спросил Крашенков, спускаясь по лестнице.
— Вот видите? — бросил Донцов остальным. — Жив-здоров! Я же говорил: ни хрена с ним не будет!
Значит, думали, что его уже нет в живых! Он, конечно, тронут таким отношением к себе. И все же ему неловко. Знали бы они, как он провел эту ночь…
Но поздоровался с приятелем, как всегда, насмешливо:
— Привет!
— Привет! — рассеянно ответил тот.
Другие также были чем-то озабочены.
Нет, все-таки что-то произошло.
— Что стряслось? Почему все такие невеселые?
— А с чего нам веселиться? — угрюмо проговорил Донцов. — Сегодня ночью убили секретаря сельсовета…
— Гнатенку?
— Его самого.
Этого паренька с карабином? Он еще так влюбленно смотрел на обоих командиров частей — Пономарева и Тереба…
— Где убили?
— Прямо в сельсовете, выстрелом в спину, — добавил Донцов и, обращаясь ко всем, сказал: — Поехали!
А Крашенкову объяснил:
— Там внизу нас ждет машина!
— Сейчас! Я только возьму санитарную сумку!.. Идите, я вас догоню!
Донцов с солдатами покинули хату.
Крашенков вошел в комнату. Старик, по-видимому стоявший у двери, отпрянул в сторону и сильно смутился. Больная сделала движение, чтобы приподняться, но у нее ничего не получилось.
— Доброе утро!
— Доброе утро, пане ликар! — ответил старик.
— Ну, как чувствуете себя?
Крашенков подошел к кровати.
— Трохи липше, сынку…
— Очень хорошо. Я еще попробую посоветоваться о вас со специалистами. Я уверен, они тоже что-нибудь подскажут…
— Дай боже тоби, сыночку, щастя и здоровя…
Старик пожелал ему много денег и генеральские погоны.
Крашенков перевел взгляд с него на больную. Знают ли они? Так, с ходу, не определишь. Но если даже догадываются, то, очевидно, относятся к этому спокойно. Впрочем, то, что произошло, касается только двоих: его и Вероники. И еще, может быть, этого хмыря…
Крашенков остановился у фотокарточки. Нет, что бы она там ни говорила, сходство поразительное.
— Ну, что ж, я пошел. Если что, вы знаете, где я.
Он взял санитарную сумку, положенную кем-то на видное место — на край стола, снял с гвоздя автомат с подсумком и, попрощавшись, вышел из хаты.
— Крашенков! — услыхал он.
— Сейчас!..
Где же Вероника?.. Он заглянул в один сарай, в другой, обежал вокруг хаты, прошел между поленниц дров… Куда она пропала? Ведь она знает, что за ним приехали, что он должен уходить. В конце концов, и ей, и ему, наверно, найдется, что сказать друг другу!..
— Крашенков! — опять долетело снизу.
Но, возможно, она избегает его? Или с ней что-нибудь случилось? Последнее сомнительно. Тогда старик не выглядывал бы как ни в чем не бывало из окна и не наблюдал бы так спокойно за его беготней!
Нет — и не надо!
Крашенков повернул к обрыву.
Внизу, у края поля, стоял «доджик» начальника артсклада.
— Долго тебя ждать? — крикнул Донцов.
— Иду!
— Ну что случилось? — спросил он у подошедшего Крашенкова.
— Да вот, никак не мог найти санитарную сумку, — ответил тот, забираясь в содрогавшуюся от нетерпения машину.
«Доджик» рванулся и запрыгал на неровностях полевой дороги.
17
Капитан Тереб просто разрывался на части. На него сразу навалилось множество дел. Прежде всего он пытался дозвониться до политотдела, чтобы узнать, выехала ли бригада актеров, которая, как его вчера предупредили, приедет к ним сегодня с концертом. Но если она еще не выехала, хотел он передать, то пусть и не выезжает: убит секретарь сельсовета и людям не до веселья. Попутно он без конца интересовался, как подвигается строительство эстрады. Ее с утра сколачивали — на случай, если актеры все-таки приедут — мастера на все руки, старые караульные солдаты. Одновременно с этим он подписывал наряды на боеприпасы и оружие представителям боевых частей и подразделений, давал указания начальникам служб и мастерам. К тому же успевал отбиваться от приехавшего ревизора, который нудно и бессмысленно докапывался, из какого брезента были пошиты летние сапоги офицерскому составу.
И все же приниматься еще и за Крашенкова, которого он пригласил для проработки, у него явно не хватало времени. Поначалу он попробовал было, но потом махнул рукой и велел подождать.
Крашенков сидел, закинув ногу на ногу, и ждал…
Постепенно Тереб разгружался. Наконец-то дозвонился до политотдела, где ему сказали, что задержать актеров невозможно: они уже час назад выехали. Прибежавший младший техник-лейтенант Ковалев доложил, что подмостки сколочены и успешно прошли свое первое испытание — выдержали «яблочко», которое отхватили сами строители. Удалось как-то избавиться и от ревизора.
Проработку капитан Тереб начал с приказания:
— Так вот, больше никаких походов за территорию части.
Крашенков быстро опустил ногу, встал.
— Товарищ гвардии капитан! А если меня вызовут к больному?
— Пускай обращаются к своим гражданским врачам.
— Которых нет и до конца войны не предвидится?..
— Поймите, Крашенков, — капитан вышел из-за стола. Теперь ему приходилось задирать голову. — Я не против, чтобы вы оказывали медицинскую помощь местному населению. Больше того, я готов отдуваться, один или вместе с вами, за перерасход медикаментов. Но я не хочу, чтобы ваш интеллигентный лоб был украшен венком из колючей проволоки…
— Каким венком? — недоуменно переспросил Крашенков.
— А таким, какой прибили сегодня ночью бандиты к голове секретаря сельсовета… — Капитан вернулся за свой стол, негромко сказал: — Принимайте гражданских, но здесь, в санчасти…
— А если больной не может ходить? Или жизнь его в опасности?
— Там видно будет. В каждом таком случае будем решать отдельно.
— Сейчас, товарищ капитан, именно такой случай.
— Что с больным?
— Сильное истощение на почве какого-то заболевания кишечно-желудочного тракта. Ее надо срочно показать специалистам.
— Где?
— В армейском терапевтическом госпитале.
В штаб опять влетел младший техник-лейтенант Ковалев.
— Товарищ гвардии капитан! Приехали артисты!
— Да? — Начальник артсклада оправил китель, фуражку. — Где они сейчас?
— Пошли переодеваться!
Выпятив грудь и придав своему лицу значительное выражение, капитан Тереб направился к выходу, Крашенков догнал его, зашагал рядом.
— Товарищ гвардии капитан, как же быть с больной?
— Что для этого требуется?
— Машина на завтра.
— Хорошо. Берите ЗИС Панчишного.
— Слушаюсь, товарищ гвардии капитан!
— И сопровождающего солдата с автоматом.
— Есть!..
Больше капитан Тереб не сказал ни слова. Он шел, как бы совершенно не замечая идущего рядом военфельдшера. До Крашенкова не сразу дошло, чем недоволен начальник артсклада. Потом сообразил: просто Тереба раздражало соседство любого высокого человека… Что ж, надо пожалеть его Он это заслужил сегодня, славный коротышка. И Крашенков незаметно отстал от него и присоединился к следовавшей позади группе офицеров.
Их обгоняли караульные солдаты, оружейные мастера, артиллерийские техники, зенитчики с расположенных поблизости батарей. Все, кто был свободен от дежурства и работы. Тянулись на концерт и местные жители. Они не были уверены, что их пустят, но желание посмотреть настоящих артистов перетянуло сомнение и нерешительность.
У новенькой эстрады было уже полно народу. Три скамейки, налаженные еще утром, не вмещали всех зрителей. Большинство сидело прямо на земле, заполняя все пространство от скамеек до подмостков.
Капитану Теребу принесли откуда-то табуретку.
Крашенков прошел позади скамеек и встал у плетня. Ничего, будет видно!
Вдруг кто-то дернул его за рукав. Гладков! Оказывается, он занял для него место на передней скамейке.
— Как голова? — спросил Крашенков, усевшись.
— Вон прислала! — радостно ответил Гладков, доставая из кармана письмо жены. — Младший-то в школу пойдет!..
Словом, поговорили по душам.
Послышались хлопки. Это выражали нетерпение заступавшие через час на пост караульные солдаты. Но остальные их не поддержали. Понимали, что актеры только с дороги, устали. Должны помыться, переодеться. Может, там еще чего подрепетировать. Все-таки артисты, а не свой брат солдат — шилом бреется, дымом греется.
В свою очередь актеры, очевидно, тоже пожалели солдат: все старички, папаши, молодых по пальцам сосчитать можно. Заждались старые.
Поэтому-то от первых хлопков до дружных аплодисментов, возвестивших начало концерта, и прошло так мало времени — пять минут.
Выступивший первым бойкий и забавный толстячок во фраке, с галстуком-бабочкой под двойным подбородком, рассказал историю, которая всех рассмешила и тронула. В общем, как один солдат приехал из госпиталя домой, зашел к себе в квартиру и увидел в прихожей чужое мужское пальто. «Ну, — подумал он, — люди кровь проливают, а тут…» Распахнул дверь, а там незнакомый мужчина. Только взял его наш солдат за грудки, а тот и спрашивает: «А вы, собственно, кто такой?» — «Я такой-то!» А мужчина и говорит: «Так ваша супруга за свой доблестный труд комнату поближе к заводу получила. На днях туда с детишками переехала…»
Пошлость рассказанного анекдота озадачила Крашенкова. Стоило ли ради этого актерам ехать сюда два часа лесом, рисковать жизнью?.. Но, как ни странно, большинству он понравился. Смеялись от души. Видимо, история с солдатом щекотала воображение и одновременно успокаивала…
Один Гладков не расслышал ни слова. Он то и дело обращался к Крашенкову:
— Что он сказал?.. Что он сказал?
Попробуй растолкуй глухому! Сказать бы ему, что он ничего не потерял…
Не смеялся почему-то и капитан Тереб.
Крашенков видел перед собой его профиль со вздернутым коротким носом и сильно выдвинутыми вперед лбом и подбородком. Улыбка так и не появилась и не смягчила высокомерного выражения его лица. Неужели ему тоже претит эта дешевка?
Любопытно, а как реагирует на подобную трепотню Донцов?
Крашенков оглянулся и увидел Веронику, стоявшую среди местных жителей. На ней была ее любимая белая блузка, вышитая красными цветами. Как и все гражданские, она, видно, чувствовала себя незваным гостем и тихо улыбалась очередному анекдоту толстяка. Каким-то шестым чувством Крашенков понял, что она уже видела его и сейчас, как бы и что бы ни отвлекало ее, ощущала его присутствие.
Он встал и сказал соседям:
— Я на минутку!..
С трудом пробираясь между сидевшими на земле зрителями, он время от времени поглядывал на Веронику. Она по-прежнему смотрела на сцену и, казалось, не замечала его приближения. Но когда он слишком засмотрелся себе под ноги, а потом снова взглянул в ее сторону, там ее уже не было.
Что ж, он понимал ее. Она боится, чтобы кто-нибудь на селе не догадался об их отношениях. Но ведь и он не собирается кричать об этом на каждом углу. Для всех он доктор, который лечит ее мать.
Да и вообще это какое-то детство. Неужели она думает, что он ее не найдет?.. Вот и она! Стоит, спрятавшись за спинами, полагая, что здесь ей удастся простоять незаметно для него до конца представления. Как бы не так…
— Добрый день!
Она вся залилась румянцем.
— Добрый день!
Он тихо спросил:
— Куда утром пропала?
— Та у
погриб лазыла!
Только и всего?
— Ну как, нравится? — поинтересовался Крашенков, меньше всего думая в эту минуту о толстячке и его кривляниях.
— А хиба вин погано грае? — осторожно осведомилась она.
Ну конечно же, она давно обратила внимание, что все хохочут, а он один… пардон, вдвоем с капитаном Теребом… нет, втроем, с капитаном Теребом и Гладковым, — ни разу не улыбнулся!
— Ну что ты! — произнес он, усмехнувшись. — Это один из лучших актеров нашего времени, Халтуркин-Беспросветный…
В этот момент грянула буря аплодисментов.
Когда толстячок откланялся и скрылся за занавесом, Крашенков с тоской подумал, что, наверно, и остальные номера будут на том же уровне.
Ему было жаль всех — и солдат, и местных жителей, и особенно Веронику, что им вместо настоящего искусства преподносится черт знает что…
Но имя актрисы, чье выступление было объявлено следующим, заставило Крашенкова насторожиться. Он помнил его по многочисленным афишам на московских улицах. Правда, побывать на ее концерте он так и не удосужился, но другие как будто бы ее хвалили.
На эстраду вышла маленькая крашеная блондинка с открытой и приветливой улыбкой на уже немолодом лице. Она просто, словно обращаясь к своим давним приятелям, сказала:
— Сейчас я спою песню, которую вы все хорошо знаете.
Песня, которую она пела, действительно, до войны была очень популярна. И так как с ней почти у каждого связывалось в памяти что-то хорошее, довоенное — какие-то встречи, свидания, знакомства, вечеринки, — то она взволновала всех. Одних больше, других меньше. Крашенкову эта песня почему-то напомнила о выпускном вечере. Точнее, не о самом вечере, а о вечеринке после него, когда они все собрались у кого-то из ребят, чтобы уже одним, без учителей, вдоволь повеселиться. Им и вправду было очень хорошо, все внове. И не потому, что они там выпили и до утра крутили Лещенко, а потому, что, играя в знаменитую «бутылочку», они все, во всяком случае большинство, в первый раз в жизни поцеловались. Впрочем, от того вечера и от того поцелуя в памяти у Крашенкова мало что осталось. Почти все выветрили военные годы. Он даже не помнил, с кем тогда целовался. А ведь это был первый его поцелуй и когда-то самое сильное впечатление школьных лет. Но девушки, увы, он не помнил. Песенка, как ветер, на мгновенье замерла над какой-то из страниц его жизни и снова пошла их листать то в одну, то в другую сторону.
Вот рядом с ним — одна из этих страничек. Пока она вся в настоящем и будущем. И никто на свете не знает, что там написано. Никто…
18
— Ты еще ни разу не пила нашего чаю, — произнес Крашенков, мучительно думая над тем, чем бы угостить Веронику.
Время было перед закатом. Сквозь густую и низкую листву в комнату проникали и постепенно исчезали один за другим где-то в углу последние лучи дня. Вероника сидела на кровати и поправляла сбившиеся волосы — Крашенков только сейчас заметил, какие они пышные и густые, с нежным золотистым отливом.
Она ответила:
— Другим разом, Сережа. Зараз треба иты до хаты…
— Но это одна минута на спиртовке!
Она встала и медленно, точно в ожидании обещанного чая, прошлась по комнате.
Торопливо, обжигая пальцы, Крашенков зажег спиртовку.
— Скоро вскипит! Здесь всего два стакана!
Вероника подошла к столу с медикаментами.
— Скильки ликив! — с удивлением отметила она. — И вси вид ризных хвороб?
— Ну, не обязательно от разных. Болезней, в общем, меньше, чем лекарств, — ответил Крашенков, доставая с подоконника остатки своего доппайка: полпачки печенья и кулек с фруктовыми помадками.
Она взяла со стола флакон с какой-то прозрачной жидкостью.
— А це вид чого?
— Это?.. Дай-ка посмотрю… Ликвор аммонии каустици, — прочел он на этикетке. — Нашатырный спирт. Лучшее средство от обмороков и перепоя.
— А це що?
— Покажи!.. Тинктуре конваллярие маялис. Настойка майского ландыша.
— А вона вид чого?
— От перебоев в сердце. Но нас с тобой это не касается, — добавил он, ставя на стол свое главное угощение — бутылочку «витаминчика».
Внимание Вероники привлекла плоская стеклянная баночка с крышкой из светлого металла.
— Це крем, мабуть?
— Нет. Крем у нас не водится.
— А що це таке?
— Борный вазелин. Средство для смягчения кожи лица и рук. А также сапог моего санинструктора.
— Сережа, можно, я помажу им руки?
— Конечно, помажь!
Она открыла баночку и кончиком пальца захватила немножко вазелина. Помазала тыльную сторону ладони.
— Бери больше!
Она взяла чуточку больше. Так же аккуратно и экономно нанесла на кожу.
— Да не жалей! У нас еще есть!
Взяв напоследок уже совсем немного, она закрыла баночку и поставила ее на место.
— Все! Давай чаевничать! — сказал Крашенков.
Разумеется, никакого сравнения с тем столом у нее. Но что поделаешь: чем богаты, тем и рады…
Она села на табуретку, но как-то неуверенно и стесненно, на краешек.
— Смотри, полетишь с табуретки! — заметил Крашенков, разливая кипяток.
Она, смутившись, села удобнее.
— Теперь мы берем эту бутылочку и ее содержимым облагораживаем твою водичку…
Тонкая темно-красная струйка побежала до самого дна кружки и там растеклась бурым пятном.
— То дуже богато!
— Нет. Это только так кажется!
— Сережа, досыть… — жалобно просила она.
— Вот сейчас будет в самый раз!
Затем он подержал «витаминчик» над своей кружкой. Но не дольше, чем это требовалось, чтобы подкрасить кипяток. Надо было что-то оставить и Рябову. Вероника тут же заявила:
— А соби мало!
— Зато у меня воды больше! — возразил он. — Можешь посмотреть!
И она посмотрела.
Он с трудом спрятал улыбку. Старый, испытанный, действовавший безотказно психологический трюк. Каждый понимал, что это всего лишь шутливая увертка, и все-таки смотрел.
Так же время от времени покупал он и Рябова. Стоило, к примеру, старшине упрекнуть его за то, что он опять что-нибудь положил не на место, Крашенков тут же отвечал: «Зато на улице прохладно. Смотри, даже окна запотели!» — или что-то в этом духе. И каждый раз старшина послушно смотрел.
Потом Рябов попробовал подражать ему. Но у него, откровенно говоря, ничего не получалось. Скажет, положим, ему Крашенков: «Почему ушел без предупреждения?» А тот отвечает: «Зато пешком пришел. Можете посмотреть». Смотреть же не на что…
Тягаться с Крашенковым в таких поединках было трудно. Наверно, поняла это и Вероника. Поняла и примирилась с тем, что у нее и чай гуще, и печенье с конфетами брать надо, хотя их и мало. И по тому, как она пила чай, как блестели ее глаза, как поглядывала она на него, чувствовалось, что он для нее теперь не просто мужчина, с которым вдруг так все неожиданно произошло, а уже нечто большее, что пока еще трудно обозначить словами.
И ему тоже с ней хорошо…
Как быстро стемнело. Похоже, они давно сидят в потемках, не замечая их.
— Зажечь свет? — спросил Крашенков.
— Ни. Так краще…
— Но я уже твоего лица не вижу!
— А я твое бачу…
— И что ты там бачишь?
— А все бачу… Сережа, я зараз пиду? — В ее голосе прозвучала просительная нотка.
— Куда ты торопишься? Ты знаешь, сколько еще времени в нашем распоряжении? Целых полтора часа!
Она колебалась. Он видел это по ее жалобному взгляду.
— Просто уйма времени!
— Ни, — наконец произнесла она и пообещала: — Я ще прийду…
— Конечно, придешь, — заявил Крашенков. — Никуда ты теперь от меня, Вероничка, не денешься!
— Та не денусь, — согласилась она.
— Ну, так як же? — продолжал гнуть свою линию Крашенков.
И трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не шаги во дворе — тихие и неторопливые…
— Хто там? — обеспокоенно спросила Вероника.
— Бабка, наверно…
Легонько скрипнула входная дверь.
— Ой, лышенько! Сережа, запалы быстрише свитло!
— А-а… ни к чему! Она все равно видела, что в хате темно!
Шаги приближались к двери в комнату.
— О, маты божья! — вырвалось у Вероники. Ожидая, что именно в этот момент войдет хозяйка, она быстро повернулась спиной к двери.
Но шаги проследовали дальше, к выходу.
— Пронесло! — сказал Крашенков.
— Сережа, а може, це твий солдат? — шепотом спросила она.
— Нет, мой солдат раньше, чем через полтора часа, не придет.
— Як тильки вона уйде, я тэж пиду, — Вероника подошла к окну и стала вглядываться в темноту.
— А она никуда не уйдет, — пошутил Крашенков.
— Як не уйде?.. От бач, и ушла вже!
— А ты не боишься одна идти? — вдруг спросил Крашенков: он живо представил себе ее идущей в непроглядной тьме по этой, столько раз проклинаемой им, забытой дороге, и его охватил страх за нее.
А она ответила бойко и как будто даже с вызовом:
— А чого мени боятыся? Я ж не солдат!
— Так и Гнатенко не был солдатом.
— Да кому я потрибна? — И опять в ее словах послышался легкий вызов.
— Знаешь, я пойду провожу тебя! — неожиданно для себя решил Крашенков.
Вероника встрепенулась:
— Ни! Сережа, мене не треба провожаты!
— Это еще почему?
— Я одна дийду.
Крашенков подошел к ней:
— Ты что, и вправду бандеровцев не боишься?
— А чого боятыся, чого нэмае?
— Как нэмае? — не понял он.
— То нэма по ций дорози. Зараз нэмае, — торопливо пояснила она.
— А ты откуда знаешь?
— Та люди говорять…
Скорее всего, так оно и есть. Он ведь и сам в прошлый раз пришел к выводу, что дорога заброшена.
Проводив Веронику до шлагбаума, Крашенков вернулся домой. Во дворе он увидел чью-то неподвижную фигуру в военной форме.
— Кто это?
Фигура шевельнулась и голосом Рябова ответила:
— Кому же тут быть, как не мне?
— Ты давно здесь?
— Минут десять.
— Почему в хату не заходишь?
— Время-то еще не кончилось. Вы сказали, чтобы два часа не появлялся…
19
Машину они подогнали прямо к хате. Крашенков, Панчишный и сопровождавший их в качестве автоматчика «фон Штейн» прошли в комнату. Больная уже была одета в дорогу. Сидела на кровати в длинном черном пальто, в больших мужских сапогах, в которых где-то затерялись истощенные палочки ног. На голове глухо повязан черный платок. На этом сплошном черном фоне выделялось белое пятно лица — бледного, без единой кровинки.
— Я зараз! Тильки щось одягну! — заторопилась Вероника и скрылась на кухне.
— У вас нет ничего такого, чтобы постелить на носилки? — спросил Крашенков у старика.
— Що небудь знайдэмо! — засуетился тот.
— Ну, берем больную, — сказал Крашенков и подошел к кровати: — Сможете дойти до машины?
— Зможу, сыночку, зможу…
Поддерживая больную с двух сторон, Крашенков и «фон Штейн» двинулись к выходу. Когда они подходили к порогу, из кухни выскочила и распахнула перед ними дверь в прихожую уже одетая по-дорожному Вероника.
Они вышли на крыльцо и, осторожно пройдя по откинутому на ступеньки заднему борту, поднялись в кузов, где стояли приготовленные носилки.
— Я поеду здесь, — сказал Крашенков.
— Иными словами, — вежливо уточнил «фон Штейн», — мне предлагается ехать в кабине?
— А вас разве это не устраивает? — Крашенков с любопытством смотрел на этого чудака.
— Лишь отчасти.
— Почему отчасти? — болтовня с «фон Штейном» доставляла ему немалое удовольствие.
— Потому что верхней части моего грешного тела все время пришлось бы завидовать нижней… Смотрите! — «Фон Штейн» сел на край борта и согнулся в три погибели: вот, мол, на какие муки вы меня обрекаете…
— Ах, «фон Штейн», «фон Штейн»! — рассмеялся Крашенков. — В общем, где хотите, там и поезжайте!
— Благодарю вас, товарищ лейтенант!
— Не за что.
Больная уже лежала на носилках. Под нее подложили свернутое вдвое ватное одеяло. Вероника стояла рядом на коленях и поправляла подушку.
— Ну, как дела?
— Можно ихаты, — тихо сказала Вероника. Сказала только эти два слова и посмотрела. Больше ничего. Сказала и посмотрела.
Но этого оказалось для «фон Штейна» достаточно, чтобы почувствовать себя третьим лишним.
— А все-таки, товарищ лейтенант, я пойду сяду в кабину…
Крашенков не стал допытываться, почему тот переменил решение, отнес это к странностям его характера.
Машина тронулась.
Крашенков уже бывал в городке, где стоял армейский терапевтический госпиталь. Дорога туда шла в основном лесом, хотя и не таким мрачным и глухим, как у забытой дороги. Затем километра два или три она петляла по полю, по обе стороны которого виднелись на холмах какие-то села и хутора. Потом снова начинался лес. Обрывался он как-то сразу — вдалеке уже видны были дома и улицы.
Самым опасным участком считался первый. Он составлял примерно половину пути и казался очень удобным для нападения. Густой же и темный лес в конце дороги находился слишком близко от городка. Идущая с большой скоростью машина проскакивала его за несколько минут. Конечно, все это знал и Панчишный, который в иные дни совершал туда по три или четыре рейса…
ЗИС шел медленно. Дорога мало чем отличалась от обычных лесных дорог — такая же ухабистая и неровная.
Крашенков сидел на передней скамейке и придерживал ногой носилки, которые все время уползали. Это требовало напряжения и внимания. А главное — отвлекало от леса. Он уже жалел, что не сел в кабину, где бы смог быть тем, кем был на самом деле, — командиром машины.
В конце концов решил пересесть в кабину. Остановил машину и поменялся местами с «фон Штейном», который был весьма удивлен таким неожиданным оборотом.
— Благодарю вас, товарищ лейтенант! — сказал тот.
— Пожалуйста, — усмехнулся Крашенков и коротко проинструктировал: — Придерживайте ногой носилки, чтобы не путешествовали… Если что — стучите!
Машина понеслась дальше. Теперь все внимание Крашенкова было обращено на дорогу. Проехав с километр и не заметив ничего подозрительного, он обернулся к окошку, чтобы посмотреть, как там дела наверху.
Когда он снова взглянул на дорогу, сердце его оборвалось. Прямо перед ним, метрах в ста, стояли три вооруженных человека в военной форме.
Крашенков и шофер схватились за автоматы. Сейчас Панчишный вел машину одной рукой. В другой был зажат ППШ.
Один из военных сделал знак остановиться.
Нет, на бандитов они не похожи. Те не стали бы выходить на дорогу, подставлять себя под пули. Полоснули бы из-за кустов автоматной очередью по кабине, и поминай как звали! А у этого на рукаве даже красная повязка.
Панчишный остановил машину.
Подошел лейтенант с повязкой.
Крашенков и Панчишный все еще не выпускали автоматы из рук.
— Куда едете?
— В госпиталь. Везем больную.
— Поезжайте другой дорогой. Эта перекрыта.
— Что случилось?
Но ответить лейтенант не успел. Впереди по дороге тишину вдруг разорвала трескотня винтовочных и автоматных выстрелов.
— Всем в укрытие! — приказал лейтенант. — Они могут выйти на нас!
Крашенков и Панчишный выскочили из машины.
— Файнштейн! Живо с автоматом за дерево! — крикнул Крашенков.
Того как ветром сдуло из кузова.
«Тьиу!.. Тьиу!»…
Пули!
Крашенков одним рывком взобрался в кузов. Увидел большие, невероятно большие от страха и растерянности глаза Вероники.
— Ты что, не понимаешь? Ложись!
Она опустилась рядом с матерью. Перепуганная насмерть стрельбой старуха тянулась рукой к борту, пытаясь встать…
— Лежите спокойно! — сказал ей Крашенков. — Сейчас перестанут стрелять!
— Лягайте, мама, лягайте… — уговаривала Вероника.
Крашенков спрыгнул на землю и бросился за ближайшее дерево.
Стрельба затихала. Раздавались лишь одиночные винтовочные и пистолетные выстрелы, изредка прерываемые короткими автоматными очередями. Потом все стихло. Или бандиты ушли в глубь леса, или с ними все было кончено.
— Лейтенант, вы кто, врач? — спросил Крашенкова лейтенант.
— Вроде…
— Поехали! Там могут быть раненые! Захватите их с собой в госпиталь!
Он вскочил на подножку. Его примеру последовали и те двое.
ЗИС рванулся вперед. Вскоре они увидели большую группу — человек двадцать бойцов. Разгоряченные только что закончившимся боем, они обсуждали какие-то подробности.
Лейтенант соскочил с подножки и подошел к офицеру в кожаной куртке без погон.
— Товарищ майор, у нас есть раненые? А то лейтенант едет в госпиталь, захватит их!
— Вон Сердюк!
На пне сидел старшина. Девушка-санинструктор бинтовала ему голову.
Подойдя, Крашенков спросил:
— Что с головой?
— Касательное пулевое ранение, товарищ лейтенант, — ответила девушка.
— А у них какие потери? — обратился к Сердюку лейтенант.
— Пока нашли одного. Вон лежит!
И тут только Крашенков увидел убитого. Он лежал в кювете, лицом вниз. Обе штанины у него были задраны. Видимо, его приволокли сюда уже мертвого…
— А остальные куда ушли?
— В глубь леса.
Девушка закончила перевязку. Крашенков и лейтенант взяли раненого под руки и повели к машине.
20
Откровенно говоря, Крашенков не ожидал, что все так удачно получится. Больную не только осмотрели хорошие специалисты, но и, в нарушение каких-то приказов, оставили в военном госпитале. Сказали, что обстоятельно обследуют ее и, если будет необходимо, прооперируют. «Что с ней?» — спросил Крашенков своего старого знакомого, начальника приемного отделения майора Розенбаума. «Боюсь, что рак. Только дочери не проговоритесь», — предупредил тот. «А для нее — что рак, что насморк, я думаю!» — заметил Крашенков. «Все равно не говорите». — «Есть не говорить!» — «Запомните, молодой человек, ничто так не способствует познанию всяких горьких истин, как несчастье…»
Они вышли на улицу и остановились: куда идти? Впрочем, этим вопросом задавался один Крашенков. Веронике же было все равно. Он догадывался, что она все еще сомневается, правильно ли поступила, оставив мать. И сейчас, и особенно тогда, когда от нее ждали согласия, она полагалась главным образом на него. Заглядывала ему в глаза — что он посоветует, уже зная, что будет так, как он скажет. И хотя он сказал: «Да, надо оставить», — сомнение все-таки продолжало мучить ее. А теперь, при прощании с матерью, оно еще усилилось.
— Ну, куда пойдем? — спросил он.
Вероника скользнула по нему рассеянным взглядом и попыталась улыбнуться. Да, мысленно она еще там, в палате, в ушах ее, наверное, звучат и те слова, которые были сказаны, и те, которых они с матерью не успели сказать.
Он ее хорошо понимал. Вот так вдруг, неожиданно оставить самого родного человека на чужих, незнакомых людей. Пусть даже врачей, которые сделают все, чтобы поставить ее на ноги. Но кто может знать, будет ли ей там хорошо или плохо? В подобных случаях и городскому человеку есть над чем поломать голову. А тут полнейшая неподготовленность к такой ситуации…
— Ничего, Вероничка, все будет в порядке, — произнес он, легонько дотронувшись до ее плеча.
Она благодарно улыбнулась.
— Ну, пошли вправо, — предложил он.
Почему вправо, а не влево, он и сам не знал. Просто у них была масса времени — машина пойдет обратно лишь к вечеру. Молчальник Панчишный только в городке сообщил, что капитан Тереб приказал ему заодно сгонять в штаб армии, расположенный отсюда в двадцати километрах, и забрать там дневную почту и еще какие-то бумаги. И «фон Штейна», если товарищ лейтенант не возражает, он возьмет с собой: бумаги все-таки секретные, мало ли что может случиться в дороге. Крашенков, конечно, не возражал, и машина уехала.
А они отправились бродить по городку. Вправо ли, влево ли, какая разница?
Крашенков от кого-то слышал, что городок этот был основан чуть ли не тысячу лет назад, еще во времена Киевской Руси, что им попеременно владели русские, украинцы, поляки, турки, австрийцы, немцы и еще кто-то, кого он не запомнил, и что каждый, кто приходил сюда, разумеется кроме гитлеровцев, оставлял после себя какую-нибудь любопытную постройку.
Они шли по улицам, мимо старинных зданий, и Крашенков рассказывал о каждом из них — в меру своих знаний — Веронике. Ему было приятно, что она слушала его с интересом и, видно по глазам, старалась запомнить…
Незаметно очутившись на другом конце городка, они некоторое время постояли у разрушенного фонтана с аллегорическими фигурами Любви и Смерти.
И тут их внимание привлекла старая, заброшенная колокольня. Они поднялись наверх. Оттуда был виден весь город и его окрестности. До самого горизонта тянулся лес. Изредка кое-где проглядывали серебристые поля и луга. Вдалеке белели крестьянские хатки. А за ними снова темнел лес.
Господи, сколько здесь леса!
И где-то там, в самой гуще, их село, забытая дорога, хуторок Вероники…
— Красиво?
— Дуже.
И нежно посмотрела на него.
У него перехватило дыхание. Он притянул Веронику к себе и прижался к ее растерявшимся губам долгим поцелуем.
Мелькнула мысль: господи, только подумать, на виду у всего города, на высоте сорока метров!
Он видел ее большие, полные непонятного страха глаза, но не мог уже оторваться…
Вдруг она вырвалась из его рук и попятилась к выходу, в ужасе повторяя: «Не можно… не можно…» И побежала от него вниз по лестнице.
Он догнал ее на нижней площадке.
— Что с тобой?
— Ни… Ни… Це ж храм божий…
Она задыхалась от бега и от пережитого волнения и, видя его, как ей казалось, виноватую улыбку, чуть не плакала от радости, что избежала столь великой опасности.
«Так вот в чем дело!» — с облегчением подумал он.
Но оба как-то разом обессилели…
Они спустились во двор, весь выложенный большими каменными плитами.
— Вероничка, ты не сердишься на меня? — спросил он, взяв ее руки в свои.
Она молча подняла его руку и прижала к своей щеке.
В этот момент их озорно окликнул чей-то голос. «Не господа ли бога?» — усмехнулся Крашенков.
— Эй!
Сашка Донцов? Опять он — никуда от него не скроешься! Верхом на своем, видно наконец-то отремонтированном, мотоцикле. Прямо-таки бог связи! Рядом с ним, в коляске, незнакомая девушка в военной форме. Она тоже смеялась, глядя на смутившуюся парочку. Крашенков мысленно ахнул: такого обилия орденов и медалей он давно не видел. Кто она?
— Привет!
— Привет!
— Ты как сюда попал?
— Да вот ее мать привез в госпиталь. А ты чего здесь?
— Видишь, — Донцов обвел мотоцикл хвастливым жестом, — как новенький! Весь залатали! Ни одной вмятины не осталось.
— Здорово отремонтировали! — согласился Крашенков.
Месяца три назад Донцов врезался в дерево. Машину сильно покорежило, но сам он отделался лишь синяками.
— Вы знакомы? — небрежно кивнул он в сторону улыбающейся девушки.
— Нет. Сергей.
— Нина! — Она протянула руку, маленькую и крепкую.
Нина? Ах, вот кто! Так звали девушку, о которой не единожды рассказывал ему Донцов. Когда-то он служил с ней в одной части. Она так все время и оставалась на передовой, а он после тяжелого ранения в голову угодил в артсклад. Поначалу он хвастал, что она без него жить не может. А потом как-то в минуту откровенности признался, что у них ничего серьезного не было. Просто хорошие друзья.
На Веронику Нина не смотрела: как будто ее здесь и нет. Крашенкова это задело: было и жаль Веронику, и обидно за нее. Тем более что та прямо пожирала глазами незнакомку. Ей, по-видимому, все нравилось в девушке-офицере: от тонкого, городского лица до красивой, ладно сидевшей формы с золотыми погонами и многочисленными боевыми наградами на груди. А главное — то, как Нина держалась, разговаривала, улыбалась.
— Ну, так как же? — Донцов в нетерпении отжал сцепление.
Ах, да, у них тут собирается веселая компания, и они его приглашают с собой. Естественно, его одного. Без Вероники. Ее они просто не замечают. Причем оба. Даже Донцов, который всего несколько дней назад рассыпался перед ней мелким бесом.
— Сережа, садитесь!.. Поехали! — торопила его Нина.
— Нет, братцы, не могу, — ответил Крашенков. — У нас тут дела есть…
Нина усмехнулась.
— Ну что ж… — И бросила Донцову: — Поехали!
Мотоцикл рванулся вперед, оставляя позади хлопья ядовитого дыма.
— Хорошо вам повеселиться! — крикнул вслед Крашенков.
— Постараемся! — не без вызова откликнулась Нина.
Когда мотоцикл скрылся за поворотом, Крашенков обернулся: Вероники рядом не было.
Потом он увидел ее. Медленно, спотыкаясь на каждом шагу, она пятилась в сторону колокольни. Ее лицо было искажено страхом.
Ничего не понимая, Крашенков бросился к ней. Она даже не взглянула на него.
— Что с тобой?
— Ничого… ничого… — говорила она, продолжая пятиться…
И тут метрах в ста, среди прохожих, он увидел мужчину в поношенной крестьянской одежде, в старой, помятой войлочной шляпе. Взгляд Вероники был устремлен именно на него и ни на кого больше.
— Кто это?
— Не знаю… не знаю… — в ужасе повторяла она.
Лица мужчины не было видно. Он шел, глядя себе под ноги. Но по его напряженной походке чувствовалось, что он уже видел их.
Крашенков быстро спустился к дороге, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Но того уже и след простыл.
Встревоженный случившимся, он вернулся к Веронике и спросил:
— Так ты не скажешь, кто это был?
— Скажу… потим… колы-небудь потим… — пообещала она, все еще дрожа как в лихорадке.
21
Крашенков взглянул на часы. Половина пятого. А в пять они условились встретиться там, где теперь обычно встречались, — на полпути между хутором и селом.
Навещать его в санчасти Вероника наотрез отказалась — каждое ее появление в селе вызывало пересуды местных жителей. Крашенков сам видел: когда она шла по улице, из многих окон на нее были устремлены любопытные взгляды. Поэтому-то они и решили встречаться в месте, удобном для обоих, — минутах в двадцати хода по забытой дороге.
После той, последней облавы и судебного процесса в районном центре над шестью схваченными изменниками Родины вокруг стало как будто тише. Почти прекратились слухи о нападениях и убийствах.
Еще первые несколько дней, идя на свидание, Крашенков брал с собой автомат. Но при его склонности во всем видеть смешную сторону так долго продолжаться не могло. Уже на четвертый день он пошел с одним ТТ.
Правда, приказ капитана Тереба, запрещавший выходить с территории части в одиночку, оставался в силе. Но Крашенков, чтобы не привлекать к себе внимания, делал небольшой крюк — прямо за санчастью пролезал под колючей проволокой и околицей добирался до забытой дороги.
То же самое он проделал и сейчас.
Был на удивление теплый, солнечный день. Крашенков шел окраиной леса, не упуская из виду ориентир — мелькающие сквозь деревья белые хаты. Кругом была такая веселая и живая сумятица бликов и лучей, что казалось, будто где-то над головой разом во многих местах прохудился доселе крепкий и плотный шатер леса.
В воздухе висела и летала паутина, и Крашенкову то и дело приходилось снимать ее с лица. Обычно угрюмый и молчаливый лес звенел и перекликался множеством птичьих голосов. И даже дятел, оказалось, водился тут. Крашенков остановился, поискал взглядом… Ах, вот ты где!.. Тот тоже замер, прислушался… Удовлетворив свое любопытство, застучал громче и усерднее — наверстывал упущенное. Ну-ну, работай, работай…
Бог ты мой, уже без четверти пять. Надо прибавить ходу!
Интересно, где сейчас Вероника? Тоже, наверное, спешит. Но она почти всегда на пять — десять минут опаздывает. Он словно видел ее перед собой: разрумянившуюся от быстрой ходьбы, в своем обычном синем платке, глухо повязанном у подбородка, в новой, строгой, «як у нашей вчительки», блузке.
Он уже привык к ее опозданиям и принимал их как должное, каждый раз вспоминая слова своего отца: «Заруби себе на носу, сынок, — сказал тот однажды полушутя-полусерьезно, — настоящий мужчина понимает и прощает женщинам их слабости». Со временем он постиг, насколько это верно.
Крашенков повернул вправо. Влево, метрах в двухстах, за деревьями, остался шлагбаум. Сегодня там дежурили Гладков и «фон Штейн». Конечно, он мог бы пройти мимо поста. Но он сам не хотел подводить напарников, если капитану Теребу вдруг станет известно о его походах. Оба так гордились, что за годы службы в армии ни разу не имели взыскания. Одни боевые награды и благодарности.
Вот и забытая дорога!
Чудеса! Потребовалось всего десять тихих и спокойных дней, чтобы он перестал относиться к ней как к страшной и жестокой необходимости.
Все здесь теперь привычно и знакомо. Он шел и узнавал отдельные кусты, деревья, пни, не говоря уже о поворотах и больших ухабах — прямо-таки загородная аллея для ежедневных прогулок.
И только неподвижная глыба тишины, которой лишь поверху касались и задевали птичьи голоса, напоминала о том времени.
Вдали показались три тоненькие березки. Отсюда они с Вероникой сворачивали на свою поляну, находившуюся шагах в тридцати-сорока от дороги. Защищенная со всех сторон высокими кустами боярышника, она тем не менее почти вся была залита солнцем, проникавшим туда между широкими лапами елей и пихт. Там, согретые солнечным теплом, убаюканные тихим шелестом листвы, они погружались в сладостную дрему.
Вероники, разумеется, еще не было.
Он стоял и всматривался в дорогу. Всякий раз в момент появления Вероники из-за поворота он испытывал живую радость. И хотя ничто не выдавало ее приближения, даже шагов и тех слышно не было, он всегда безошибочно предчувствовал, когда она появится. У нее тоже, наверно, было предчувствие, что он здесь, — выходила она из-за поворота с уже готовой улыбкой. Затем, увидев его, глазами договаривала о своей радости остальное.
Прошло еще несколько минут.
По-видимому, ее что-то задерживало… Хотя, если человек обычно опаздывает на десять минут, почему бы ему когда-либо не опоздать на пятнадцать или двадцать минут? Она знает, что он за это на нее не рассердится…
И все-таки он недоволен ею. Неужели нельзя выйти чуточку раньше, чтобы не заставлять его ждать? Он сегодня же ей скажет об этом!
В нетерпении Крашенков ходил взад-вперед.
Не случилось ли чего-нибудь с матерью? Не исключено, что ее уже прооперировали. А может, он зря нервничает? Мало ли какие дела задержали ее! С коровой что-нибудь. Лошадь в лес ушла. В огороде провозилась…
Эта мысль на какое-то время успокоила его. Он почти был уверен, что она вот-вот появится из-за поворота. Решил даже принять соответствующую позу — на нее не смотреть, недовольно поигрывать прутиком. Чтобы почувствовала, как он обижен.
Но время шло, а она не показывалась.
Тогда он не выдержал и дошел до поворота. Пустынно рябила от солнечных бликов забытая колея…
Идти дальше? Хватит и этого! Больше ждать он не будет!
Он повернул назад и зашагал по дороге к селу. Пусть придет и его не застанет! Это будет для нее хорошим уроком…
Проходя мимо берез, он неожиданно для себя свернул к поляне. Просто взглянуть. Ведь здесь был их дом, десять дней делили они здесь солнце и тишину…
И вдруг он увидел Веронику. Она лежала под высокой елью на спине. Лицо ее было прикрыто синим платком. Значит, не он, а она пришла первой! Неужели уснула, дожидаясь его?
— Веро… — хотел позвать, но передумал.
Осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить раньше времени, подошел ближе.
И тут страшная догадка оглушила его!
Он рванулся вперед. Упал рядом на колени и сорвал с лица платок. Вероника была мертва. Ее шею туго сдавливала просмоленная удавка…
Крашенков выхватил пистолет и, не помня себя от горя и ненависти, рывком поднялся и шагнул навстречу притаившимся теням.
И он увидел их.
Они стояли, держа перед собой автоматы, и все трое смотрели на него в упор одинаково тяжелым, усмешливым взглядом. Ужасаясь тому, что уже произошло и еще должно произойти, дорожа мгновеньями, он первым выстрелил в опрокинувшееся лицо бандеровца.
В ответ внахлест ударили бандитские автоматы…
Шло лето тысяча девятьсот сорок четвертого года…
БАЛЛАДА О ТЫЛОВИКАХ
1
Раю он увидел еще с машины. Она перебегала разбухшую от грязи дорогу, выбирая места посуше. Она была столь погружена в это занятие, что даже не заметила Бориса, на ходу спрыгнувшего с «газика» и бросившегося ей наперерез. И только когда он ее окликнул, она подняла глаза.
— Борька!
Теперь она уже не разбирала, где грязь, где сухо. Было слышно, как шлепали по лужам ее кирзовые сапоги. В нескольких метрах от него она вдруг поскользнулась, но не упала, а, с трудом удержав равновесие, одним махом преодолела оставшееся расстояние. Так и влетела к нему в объятия — вечно чужая зазнобушка!
Первый вопрос, конечно, о Юрке:
— Ну что там?
— Полный порядок. Передает привет.
— Я ужасно беспокоилась…
— Ну и зря!
— Знаешь, у нас только и говорят, как вам там достается.
— Как всегда, — пожал плечами Борис.
— За медикаментами?
— Разумеется. За чем же еще?
— Боречка, пошли быстрей! — заторопила она его. — А то можешь не успеть!
— Почему?
— Мы перебираемся на новое место!
— Куда?
— Не знаю… Куда-нибудь в тыл подальше. Боимся, что фрицы прорвутся…
Здесь и впрямь готовились к отъезду: на улице и во дворах стояли и грузились машины. Связисты сматывали провода. Из одного дома в другой перебегали озабоченные ординарцы.
Рая быстро шагала впереди, ведя Бориса за собой какими-то задворками. Наконец они вышли к длинному каменному сараю, около которого возвышалась гора пустых ящиков из-под медикаментов и стояли порожние бутыли.
У двери Рая протянула руку:
— Дай заявку.
Вошли в сарай. Рая решительным шагом направилась в дальний угол, откуда доносился мужской голос начальницы медсанбатовской аптеки Лиды Мухиной.
Лида была весьма заметной фигурой среди медиков корпуса. Огромная, с постоянно сердитым, и заспанным лицом, она производила на окружающих странное впечатление прежде всего своей суровостью. Было известно, что она закоренелая мужененавистница и всех до единого мужчин считает отпетыми негодяями. И соответственно вела себя. Поэтому Борис предоставил действовать Рае, а сам стушевался.
— Лидочка! — В голосе Раи зазвучала просительная, почти заискивающая нотка. — Вот тут приехали из сто тридцать первой. Им срочно нужны медикаменты.
— Раньше не могли прийти? — проворчала Лида. — У меня уже все упаковано.
— Лидунчик, но он же только что приехал!..
Прошла долгая минута, прежде чем Лида хмуро спросила:
— Заявка где?
— Вот! — протянула Рая.
Лида взяла листок, заглянула в него и молча шагнула к своему столу. Пристроилась на углу и пошла вычеркивать один медикамент за другим.
Борис рванулся к столу:
— Постойте, дайте посмотреть, что вы там вычеркиваете?
— Что надо, то и вычеркиваю, — огрызнулась Лида.
Борис и Рая склонились над столом, провожая взглядами каждый свирепый прочерк. Иногда Борис не выдерживал:
— А градусники зачем?
— А пирамидон зачем?
— А банки?
На это Лида отвечала:
— А затем, что они вам не нужны!
Закончив просматривать список, сказала санитару:
— Выдайте старшему лейтенанту перевязочные материалы!
Она и вправду оставила в заявке одни бинты и вату. Лишь то, что необходимо для перевязки раненых. Что ж, она права. Градусники и банки им сейчас без надобности. Так же как пирамидон. Как десятки других мирных лекарств. За неделю боев под Лауценом к ним, в медсанвзвод, не поступило ни одного больного. Зато число раненых растет с каждым днем.
Как стало известно, гитлеровцы перебросили сюда эсэсовскую танковую дивизию и еще какие-то части с Западного фронта и пытались любой ценой остановить наступление на этом участке. Конечно, если бы это было в начале боевой операции, фрицам бы задали такого жару, что они бы снова откатились к союзникам. А сейчас в бригаде Бориса после полутора месяцев боев осталось всего двадцать танков. Впрочем, для танковых частей это дело привычное: пока не подойдет новая матчасть, каждому приходится сражаться за троих!
Однако сегодня утром, когда Борис уезжал из бригады, положение было еще терпимым. Немцам не удалось сколько-нибудь продвинуться. Правда, в двух местах они слегка потеснили мотострелковый батальон Чепарина, но, судя по всему, не надолго. Заскочивший на минутку в медсанвзвод Юрка сообщил, что Чепарин дал слово Бате к вечеру вернуть утраченное.
Сказал Юрка и еще что-то важное. Но что, хоть убей, Борис не мог вспомнить. Он не совсем уверен, что речь шла о Рае. Скорее всего, нет. Последние дни Юрка почему-то избегал говорить о ней. Прощаясь, Борис не выдержал и спросил: «Привет передавать?» И Юрка, смеясь, ответил: «Разумеется!» И было в этом ответе и в этом смехе что-то такое легковесное и бездумное, что Борис растерялся. Неужели Юрка охладел к ней? После того, что у них было?
Это в основном и вывело Бориса из равновесия. Всю дорогу он видел перед собой их лица: Юркино, красивое и живое, с его обычным, слегка насмешливым выражением, и Раино, с ее странными, постоянно меняющими цвет глазами.
И все же, как ни значительна была для Бориса эта новость, он ощущал нарастающее беспокойство оттого, что никак не может припомнить что-то еще важное и существенное, сказанное Юркой. Но это продолжалось с ним лишь до тех пор, пока он не увидел Раю, перебегавшую дорогу.
Сейчас все усилия он тратил на то, чтобы скрыть от Раи свою растерянность. Не дай бог, если она догадается, что Юрка остыл к ней, поймет это по его, Бориса, глазам, в которых нет-нет да и промелькнет радость!
Но она ничего не замечала. Сразу принялась за дело. Принесла откуда-то пустой мешок. Борис держал его, а она с санитаром кидала туда бинты и вату. Иногда он встречал ее взгляд, тут же теплевший от дружеского расположения к нему.
А потом за ней прибежала санитарка:
— Товарищ старший лейтенант! Вас товарищ майор вызывает!
— Что там?
— Раненых привезли! Две машины!
Перевязочные пакеты, которые Рая держала в руках, просыпались обратно в ящик. Не взглянув на Бориса, девушка устремилась к выходу. И он понял, что в эту минуту она ни о чем, кроме Юрки, не думает: а вдруг он там, среди раненых? Неужели так, со страхом и надеждой, она встречает каждую машину?
У двери Рая все-таки вспомнила о нем и обернулась:
— Боря, мы тронемся не раньше чем через час! Обязательно приходи! Прямо ко мне, в приемное отделение! У меня к тебе дело есть!
— Хорошо! Приду! — крикнул ей вслед Борис.
2
И не пришел. Так уж сложились обстоятельства. Выходя из аптеки, Борис нос к носу столкнулся с капитаном Королевым, который был адъютантом комбрига до Юрки. С весны прошлого года Королев стал офицером связи корпуса, и они довольно часто встречались на фронтовых дорогах.
На этот раз Королев при виде Бориса почему-то удивился:
— Ты здесь?
— Да, а что? — насторожился Борис.
— А я думал, что ты тоже в окружении.
— В каком окружении?
— Ты что, с луны свалился, не знаешь, что ваша бригада попала в окружение?
— Как попала в окружение? Когда? Я только оттуда!
— Ты действительно ничего не слышал?
— Нет.
— Так вот, час назад немецкие панцеры вышли к Куммерсдорфу и перерезали дорогу на Лауцен!
Это было шоссе, которым Борис добирался сюда.
Значит, сейчас они все там, в окружении. И Юрка, и весь медсанвзвод, и добрый десяток его друзей! Они там, а он тут, в безопасности! Может быть, многих из них уже нет в живых…
Что же делать? Главное — как доставить туда перевязочные материалы? Когда он уезжал, бинтов и ваты в бригаде оставалось всего на полдня работы.
— Да, положение, — выслушав Бориса, согласился Королев. И вдруг оживился: — А ты попробуй сходить в штаб корпуса. Может быть, там что-нибудь придумают?..
— Попробую… Бывай!
— Бывай!..
Закинув за спину мешок с бинтами и ватой, Борис быстрым шагом двинулся к центру городка.
За какие-нибудь полчаса, пока он получал перевязочные материалы и разговаривал с Королевым, улицы неузнаваемо изменились. По ним потянулись колонны грузовиков и обозы, спасающие от возможного прорыва немцев различное военное имущество. Непрерывно сигналя клаксонами, в общий поток с немалым трудом втискивались штабные автобусы и легковушки второго эшелона, медсанбатовские «санитарки».
А на перекрестках уже стояли и следили за порядком суровые, не идущие ни на какие уступки регулировщики с автоматами — солдаты комендантского взвода. В отличие от девчат дорожного батальона, эти не остановятся, если потребуется, перед решительными действиями.
А в такой момент все может быть. Хотя командование корпуса и оповестило всех, что это никакое не отступление, а только передислокация тылов с танкоопасного направления, нервы у большинства взвинчены. Поэтому время от времени кто-нибудь да срывался. То пытался объехать — и неудачно, то поторопился — и врезался в идущую впереди машину. И тогда образовывалась пробка. Но даже матерная перебранка, вспыхивавшая при таких ситуациях, затихала, едва появлялись молчаливые и угрюмые регулировщики.
В общем, состояние людей понять нетрудно. Ведь все, что было до сих пор, походило на волшебный сон. И то, что ты уже на немецкой земле. И то, что до самого Берлина осталось всего двести километров. И то, что ты еще живой… А сон… а сон всегда может прерваться…
Борис шагал, не обращая внимания на машины, которые то и дело заезжали на тротуар, превращая его в густое и вязкое месиво Ясно одно: он должен во что бы то ни стало добраться до бригады! Где бы она ни находилась!
Не исключено, что в ближайшие часы она сама выйдет из окружения. Тогда придется искать ее где-нибудь поблизости. Борис убежден, что прорываться она будет к своим тылам, которые расположены отсюда в нескольких километрах. Так было, например, в конце прошлой операции, когда наступление в результате многодневных ожесточенных боев также выдохлось.
Борис потянулся за планшеткой, чтобы посмотреть все по карте, но тут вспомнил, что не взял ее с собой. Обычно он никогда не расставался с планшеткой, но сегодня, рассчитывая скоро вернуться, оставил ее в штабной «санитарке». Таким образом, ко всем его тревогам прибавилась еще одна. В планшетке находилось то, чем он особенно дорожил: Раины фотокарточки и фронтовые записи. Свои фотоснимки Рая подарила ему еще в училище. Откровенно говоря, он уже тогда был влюблен в нее по уши. Она, конечно, видела это и, чтобы не отставать от подруг, вовсю крутивших с ребятами из мужского фельдшерского батальона, тоже принимала его ухаживания. Впрочем, ей, как и ему, казалось, что она его любит. Но только после того, как они попали на фронт
и попросили, чтобы их направили в одну часть, они поняли, что не надо было этого делать. Ровно через месяц Рая перебралась в блиндаж к комбригу — высокому и стройному седоватому полковнику, в которого нельзя было не влюбиться. Ходили слухи, что они расписались в Киеве. А потом в ее жизнь и в жизнь полковника вихрем ворвался юный и прекрасный как бог Юрка…
Но эти фотокарточки принадлежали ему, Борису, и никому больше. И он бы не хотел, чтобы их кто-нибудь увидел. Даже Юрка, хотя тот и так все знал от Раи.
Неожиданно Борис усмехнулся. Боже, какая ерунда лезет в голову. Если и суждено кому-нибудь заглянуть в планшетку, то фрицам! А им плевать на все фотокарточки мира!
Другое дело — тетрадка с фронтовыми записями. Разумеется, он ничего такого не писал. Но кое-что немцы могут почерпнуть: он день за днем описывал все, что видел и слышал. «Тоже мне летописец Нестор!» — мысленно выругал он себя.
А вообще обидно: два года таскал с собой планшетку, а один раз оставил ее — и на тебе, окружение!..
— Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! — вдруг услыхал он позади.
Борис обернулся. К нему бежал, лавируя между машинами, солдат в новенькой офицерской шинели с подоткнутыми полами. Борис узнал его. Это был ординарец начальника обозно-вещевого снабжения капитана Осадчего, со странным именем Коронат.
В иное время эта встреча вряд ли вызвала бы какие-либо чувства. Теперь же, увидев знакомую физиономию, Борис обрадовался: кем бы тот ни был, а все-таки однополчанин.
Подбежав, Коронат взволнованно произнес:
— Товарищ старший лейтенант! Шагайте до ратуши!
— А что там?
— Зампотех собирает всех наших!
— А он разве здесь?
— Здесь!
— А зачем собирает, не знаешь?
Коронат быстро посмотрел направо, налево и, убедившись, что никто не подслушивает, тихо сообщил:
— Знамя спасать.
— Как, знамя спасать?
У Бориса перехватило дыхание. Неужели дела в бригаде настолько дрянь, что в самый раз подумать о спасении знамени? Несомненно. Иначе они не просили бы о помощи.
Но кто и как будет спасать его?
Он на мгновение увидел Юрку, комбрига, медсанвзводовцев, окруженных гитлеровцами. Горстку людей, оставшихся в живых. Последних защитников гвардейского знамени…
Затем очнулся. Спохватился — где Коронат? Только что был здесь и уже куда-то исчез.
А вон он где! Смешно, по-бабьи поддерживая подвернутые полы шинели, Коронат перебегал дорогу. Куда он? Наверно, увидел еще кого-то из их бригады…
3
Оно показалось издалека — самое высокое и самое старое здание городка. Около него стояло несколько машин, виднелись небольшие группки бойцов. Наконец Борис увидел и зампотеха бригады Рябкина. Маленький и кругленький, он носился вдоль колонны и отдавал какие-то распоряжения. Внешне подполковник меньше всего был похож на боевого офицера. Его комичная наружность многих вводила в заблуждение. Между тем о его отчаянной и озорной храбрости ходили по корпусу легенды. Рассказывали, например, что однажды в бою он в одной майке, смешно обтягивавшей животик, выкатил на своем «доджике» перед повернувшими было назад мотострелками, и те, одинаково ошарашенные его смелостью и видом, с гоготом и свистом снова двинулись на немцев и, неожиданно для себя, погнали их. При этом, по одной из версий, он играл на губной гармошке, а по другой — грозил фашистам кулаком и крыл их матом. Что правда, а что выдумка, знал, возможно, только он. Спросить же у него, как было на самом деле, новички стеснялись, а «старички» считали лишним. Им нравилось, что об их командирах ходили легенды. И чем неправдоподобнее, тем лучше.
— Мальцев! — долетал до Бориса хриплый голос зампотеха. — Сгоняйте на склад, привезите десять ящиков гранат! Семь противотанковых и три — лимонок!.. Суптеля! Да помогите же установить ДШК!.. Ромашко! Ну где же Горпинченко со своей командой? А ну-ка бегом за ними! Передайте им, что, если через десять минут здесь не будут, я сам приеду за ними… Кондратьев! Вы бы показали людям, как пользоваться фаустпатронами!
— Есть!.. Есть!.. Есть!..
Все, к кому он обращался, тотчас же бросались выполнять его приказания. Знали, что он все помнит и все видит. Вот и сейчас, распекая лейтенанта Фавицкого за опоздание, он вдруг обернулся и без передышки принялся пробирать артиллерийского техника Иванова, который в это время где-то за две-три машины от него допустил, по-видимому, оплошность. Порой он не выдерживал и сам показывал, что и как надо делать.
Борис поставил мешок на подножку ближайшей машины и направился к подполковнику. Но того уже несло в другой конец колонны. Многих Борис знал. Это были солдаты и офицеры различных тыловых служб: ремонтники, химики, кладовщики, музыканты, ездовые, короче говоря — вся тыловая братия, включая двух портных братьев Агафоновых и бригадного парикмахера Филиппа Ивановича. С неделю назад всех их, в связи с обострением обстановки на передовой, отвели в тыл корпуса. Сделано это было не потому, что так уж берегли их, — просто чтоб не путались под ногами. А они, выходит, снова понадобились…
Несколько обособленно от тыловиков держалась «черная пехота» — танкисты с подбитых и находящихся в ремонте «тридцатьчетверок».
Встречались Борису и раненые. Одни из них передвигались, опираясь на палку, и сильно прихрамывали. У других была забинтована голова или рука. Среди раненых попадались знакомые: в свое время большинство из них прошло через медсанвзвод. Видимо, зампотех обратился к выздоравливающим и легкораненым за помощью, и те откликнулись…
А подполковник опять исчез куда-то. Не во двор ли ратуши?
Ого! Старые знакомые! Все начальники служб!
— Привет гэсээмщикам! Ну как, горюче-смазочных материалов хватит только туда или на обратно тоже?
— Хватит! Горючих туда, а смазочных — обратно!
— Бог ты мой! И финансы с нами?
— А как же! Бить фрицев рублем!
— Салют трофейной команде! За новыми трофеями?
— Нет, за старыми! Что вы там побросали!
Это была их обычная манера разговора друг с другом, та легкая и беззлобная пикировка, которая не мешала им одновременно быть и серьезными. Конечно, никто так свободно не владел метким и острым словом, как Юрка. Но то был Юрка, дитя двух столиц — Киева и Москвы. В первой он родился, во второй — жил и учился…
Из-за ближайшей машины вынырнул подполковник. Чем-то озабоченный, он устремился к голове колонны. Но на полпути оглянулся и увидел следовавшего за ним Бориса.
— А… доктор!
Не останавливаясь, крепко пожал руку.
— И вы с нами? Очень хорошо! Садитесь в мою машину!
Борис закинул в «доджик» мешок и поднялся в кузов. Там уже сидели четыре офицера. Двоих Борис знал хорошо. Среднего роста, кряжистый, с ранними залысинами, начальник обозно-вещевого снабжения бригады капитан Осадчий был ему всегда несимпатичен. Может быть, тем, что казался сам себе значительной фигурой: как же, обувал и одевал целое соединение!
Со вторым офицером — капельмейстером бригады старшим лейтенантом Лелекой — Борис находился даже в приятельских отношениях. То есть при встречах они проявляли друг к другу чуть больше интереса, чем позволяли время и обстоятельства. Одно не нравилось в этом человеке — его улыбочки. Он и сейчас отметил появление Бориса одной из них — сладчайшей гримасой.
В кузове были еще два офицера. Оба в одинаково новых шинелях, в одинаково скрипящих ремнях, с одинаковыми брезентовыми полевыми сумками. И лицами — с одинаково легким пушком на щеках и верхней губе, с одинаково открытым и испуганным выражением — они были похожи. Борис взглянул на них с любопытством и жалостью:, таким же цыпленком два года назад начинал и он свою фронтовую жизнь. Он живо представил, каково им: прямо с корабля на бал!
Поздоровавшись за руку с офицерами и шофером зампотеха Хусаиновым, Борис сел рядом с капитаном Осадчим.
— Как дела там?
— Говорят, немцы Лауцен взяли! — хмуро ответил Осадчий.
— А наши как? — каким-то не своим, сдавленным голосом спросил Борис.
— До утра, сообщили, продержатся.
— Быстрее бы добраться туда!
— А что толку от этого? — насмешливо взглянул на Бориса капитан Осадчий. — Много с такими вояками, как мы, навоюешь…
Что ж, беспокойство его понятно. Действительно, трудно рассчитывать на боевые качества всей этой наспех вооруженной тыловой команды. Да и что могут сделать несколько десятков ремонтников, кладовщиков и музыкантов против целой вражеской группировки?
4
Похоже, что те же мысли одолевали большинство участников предстоящего рейда.
Бориса поразил капельмейстер Лелеко. Все началось с того, что он подсел к новичкам и, нервно поигрывая одной из своих улыбочек, стал пугать их предстоящими боями.
— Дай бог, чтоб из нас шестерых хотя бы один остался в живых, — заключил он.
Возможно, так и будет. И все-таки Борис с трудом удержался, чтобы не одернуть его. От этих бесконечных нервных ужимок и гримас даже простые слова приобретали какой-то зловещий оттенок. Кроме того, Лелеко с явным удовольствием и интересом наблюдал за растерянностью ребят. А это уже было совсем неблагородно. И главное — непохоже на него. «Тихий капельмейстер шумного оркестра», — как-то отозвался о нем Юрка, и Борису до сегодняшнего дня казалось, что этой оценкой исчерпывается характеристика Лелеки. И вдруг такая черточка. Во всяком случае недалекий и самодовольный Осадчий куда проще и понятнее.
— Эй! Принимайте! — раздалось за бортом машины, и старший сержант из трофейной команды перебросил к ним в кузов деревянный ящик.
— Что здесь? — спросил Борис.
— Ерши в масле! — подмигнул тот.
— Сейчас мы его распатроним, — сказал Осадчий.
Хусаинов достал из-под своего сиденья ломик. Осадчий поплевал на ладони и в один прием отодрал крышку.
— Лимонки? — радостно воскликнул один из новичков.
— Почти, — попробовал напустить туману Лелеко.
Паренек покраснел. Смущенно поднялся со скамейки, присел перед ящиком. Взял гранату и с обидой в голосе заметил:
— Обыкновенные лимонки. Мы их проходили в училище.
Капельмейстер послал одну из своих загадочных улыбочек Борису. Но тот ответил холодным взглядом и молча отвернулся.
В кузов перелез Хусаинов. Взял из ящика три гранаты и рассовал их по карманам. После этого сказал всем:
— Давай разбирай!
И с усмешкой добавил:
— Запалы не забудьте!
Естественно, для него, бывшего механика-водителя, горевшего в танке, они — жалкие тыловики, аники-воины. По-своему он прав: компания подобралась малогероическая.
Впрочем, и без него все это знали и видели. Все, кроме этих двух пареньков — младших лейтенантов, которые даже Лелеку считали бывалым фронтовиком. Хотя в данном случае ошибиться нетрудно. У него все как у строевого офицера — и погоны, и петлицы, и околыш фуражки. Никакой малости, говорящей о его причастности к военной музыке.
Борис хмыкнул. У него у самого медицинские эмблемы валялись где-то в чемодане. Но он хоть не строил из себя лихого фронтовика. Так же как не строил его из себя Осадчий. Только тот, в отличие от них с Лелекой, свои интендантские погоны носил с невозмутимым видом.
Вслед за лимонками в распоряжение Бориса и его товарищей по «доджику» поступил ящик с противотанковыми гранатами, шесть трофейных автоматов с запасными дисками, одно ПТР, а под конец — огромное количество патронов. Теперь они были вооружены до зубов. Оставалось немного — научиться всем этим пользоваться.
Но едва они принялись за противотанковое ружье, как послышались радостные голоса:
— Идут!.. Идут!..
Сквозь непрерывный шум автомашин прорвался гул танковых моторов и громкое лязганье гусениц.
Через несколько минут из-за поворота показались две «тридцатьчетверки», С передней машины соскочил офицер в черном комбинезоне. Твердой походкой он подошел к зампотеху и доложил о прибытии.
— Что это за танки? — спросил Борис Осадчего.
— Только что из ремонта, — ответил тот.
— По машинам! — раздалась команда.
Хусаинов обернулся. Его смуглое худощавое лицо с глазами-вишенками выражало нескрываемое презрение. Ну и солдаты! По меньшей мере десять минут ушло у всех этих кладовщиков, ремонтников, портных и так далее на то, чтобы занять свои места на машинах и танках. Сколько ненужной суетни!
Подошел подполковник Рябкин.
— Ну как, все на местах?
— Все, товарищ гвардии подполковник, — ответил Борис.
— Тогда поехали, — сказал тот, усаживаясь рядом с Хусаиновым.
«Доджик» рванулся вперед, объезжая встречные машины. А за ним двинулась и вся колонна.
5
Борис сидел на боковой скамейке спереди и неотрывно смотрел на дорогу, забитую отводимыми тылами. Чтобы ликвидировать пробку, часть машин направили в обход. По обочинам протянулись новые колеи. Но они быстро одна за другой затекали грязью и становились труднопроходимыми. В них, покрывая натужным ревом шум проходящих по дороге машин, буксовали «газики», ЗИСы и «форды». Доставалось даже «студебеккерам». Два из них на свой страх и риск свернули с колеи в чернеющую гладь пахоты и там безнадежно застряли. С шоссе было видно, как отчаянно метались затем их водители от машины к машине, упрашивая своих более осторожных товарищей помочь им выбраться на дорогу или хотя бы на ближайшую колею, но желающих искушать судьбу не находилось.
Был момент, когда Борису показалось, что нет такой силы, которая могла бы заставить отходящие тылы хоть чем-нибудь поступиться. И все же при виде маленькой колонны, спешившей к передовой, туда, откуда сами они еще недавно не чаяли и выбраться, те же шоферы молча и торопливо уступали дорогу. Потом провожали долгими взглядами.
И солдаты из тыловиков, уже мысленно прощавшиеся с жизнью, а потому притихшие и заскучавшие, под этими взглядами заметно приободрились и повеселели. Теперь они смотрели на себя как бы со стороны и видели героев и смельчаков, способных и готовых на подвиг. Хотя чувство обреченности по-прежнему не покидало их, меланхолия к ним уже больше не возвращалась.
Этих настроений, хотя и в меньшей степени, не избежали и остальные участники рейда. Но так как «черную пехоту» и выздоравливающих трудно было чем-либо удивить, а держать себя в руках они умели, то внешне у них это почти не проявлялось.
Не поддавался унынию и Борис. Просто голова у него была занята другим. Думая о себе, он в то же время не переставал думать о бригаде, о медсанвзводе, о том, хватит ли там до его возвращения перевязочных материалов и как они выйдут из положения, когда кончатся бинты и вата: займут ли у соседей или же пустят в ход простыни, реквизированные у местного населения. Второе более вероятно: соседей может не оказаться, а простыней… а простыней там сколько угодно. Надо будет только нарезать на ленты и продезинфицировать… И почему-то видел перед собой очень ясно Юрку — чистенького, аккуратненького, со сверкающими золотом погонами, с надраенными до блеска пуговицами. Не в меховой безрукавке, как обычно, а этаким пай-мальчиком, адъютантом с обложки журнала.
А машины все шли и шли…
Десятки машин — и ни одной из их бригады… Нет, прозевать, не заметить они не могли. Что-что, а отличительные знаки своего соединения — два раздельных полукруга и рядом единицу на дверце кабины и заднем борту — они бы увидели мигом.
У Лелеки в чемоданчике оказался театральный бинокль. Капельмейстер навел его на машины, застрявшие на пахоте.
— В театре военных действий. Акт первый, — усмехнулся Борис.
— Да в него ни хрена не видно, — сказал Осадчий. — Чего ты в него видишь?
— Все, милый.
— А эту дулю видишь? — показал кукиш Осадчий.
— Из всех дуль, которые мы видели от тебя как начальника снабжения, эта самая маленькая…
Ответ был не в бровь, а в глаз, и Борис рассмеялся.
Осадчий посмотрел на него и буркнул:
— Интеллигентки, мать вашу!..
Лелеко ответил улыбочкой. Вернее, тремя улыбочками в три адреса — Бориса, ребят и, наконец, самого Осадчего, который на этот раз демонстративно промолчал.
Рядом прошли две машины соседней бригады. Два раздельных полукруга и тройка.
Зампотех обернулся:
— Что, не видно?
— Пока нет, товарищ гвардии подполковник, — ответил, опустив бинокль, Лелеко.
— Странно, — негромко произнес Борис.
— Что странно? — быстро отозвался зампотех.
— Что нет машин…
— Они могут выходить из окружения и той дорогой! — кивнул подполковник головой куда-то в сторону. — Смотрите по карте.
Он вынул из кармана шинели сложенную в несколько раз двухверстку и развернул ее перед офицерами.
— Вот Лауцен. Вот наша дорога. А вот вторая. Сложнее, но короче! — Его толстый волосатый палец ничего не искал и был предельно точен. — Они вполне могут выходить здесь. А?
Он поднял на Бориса свои большие выпуклые глаза.
— Да, могут, — согласился Борис. — Если…
— Что если?
— Если осталось кому выходить.
С осуждением глядя на Бориса, подполковник заметил:
— Доктор, я бы не решился лечь на операцию к врачу, который всегда ожидает худшего. — И он медленно сложил карту.
Борис расстроился. Это был упрек и выговор одновременно. Обиднее всего — от командира, которого он уважал и чьим расположением к себе дорожил. И нисколько не становилось легче оттого, что сам пример вроде бы и не имел к нему прямого отношения: все-таки он был военфельдшером, а не врачом и, естественно, операций не делал. А с другой стороны, он никакой вины за собой не чувствовал, сказал лишь то, что тревожило его и о чем думали все, не исключая, возможно, и самого подполковника. Да и, честно говоря, он не видел серьезных причин сожалеть о сказанном и поэтому быстро успокоился. Но неприятный осадок все равно остался.
Вдруг зампотех воскликнул:
— Стой!
Хусаинов резко остановил «доджик». Подполковник спрыгнул на землю и бросился к встречной машине — шикарному «хорьху», густо заляпанному грязью.
— Наши? — спросил один из младших лейтенантов.
— Нет, чужие, — ответил Осадчий.
Оттуда тоже заметили Рябкина и остановили машину. В ней было несколько офицеров. Одному из них, сидевшему впереди, подполковник долго и крепко жал руку.
— Кто это? — поинтересовался Лелеко.
— Зампотех сто тридцать второй, — ответил Хусаинов, знавший всех зампотехов корпуса.
— Всего-то! — усмехнулся Лелеко.
— Герой Советского Союза! — ахнул один из младших лейтенантов.
— А ты откуда знаешь? — недоверчиво спросил у него товарищ.
— Он расстегнул шинель, и я увидел Золотую Звезду!
— Вам повезло, дорогой.
Опять Лелеко. Ему прямо не дают покоя эти два паренька. Тот, кто заговорил о Герое, покраснел — понял, что над ним подсмеиваются.
Но Лелеке все мало:
— Подумать только: встретить на фронте живого Героя!
Оба новичка готовы были провалиться сквозь землю. В самом деле — так опростоволоситься!
«Еще слово, и я его обрежу!» — решил Борис.
— Да их здесь не меньше…
Но фразу закончил уже Борис:
— …чем капельмейстеров, вы хотите сказать?
Быстрый удивленный взгляд в его сторону и неопределенная улыбка на тонких губах.
Лица у обоих пареньков вытянулись, и они молча переглянулись.
— Вы так думаете? — запоздало и кисло сыронизировал Лелеко.
— Разумеется, товарищ главный капельмейстер бригады, — сказал Борис, четко произнося каждое слово.
После этого разоблачения Лелеко моментально сник: снова стал «тихим капельмейстером шумного оркестра».
Вернулся подполковник. Стоя внизу, сказал:
— Последняя новость: час назад вышла из окружения сто тридцать вторая. И даже с расчехленным знаменем. — Помолчав, бросил Хусаинову: — Поехали…
И опять их маленькая колонна в пути…
6
Это было перед началом боевой операции… Рядом с ними стояли танки третьего батальона. Люки открыты. Перед машинами — их экипажи. Борис, находившийся на правом фланге медсанвзвода, при желании мог дотянуться рукой до левофлангового танкиста, круглолицего младшего сержанта с посиневшим от холода носом…
Наконец издалека донеслась команда:
— Под знамя, смирно!
Через некоторое время в безмолвной и морозной тишине раздались четкие и размеренные шаги знаменосца и его ассистентов. Перед строем бригады медленно проплывало знамя. Их прославленное гвардейское знамя. В уголке у древка сверкало золото и серебро орденов. Невольно все вглядывались в полотнище, во многих местах пробитое осколками…
Когда знамя поравнялось с Борисом, он почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Так было с ним всякий раз, когда выносили знамя. И это не поддавалось ни контролю рассудка, ни личным, не имеющим сейчас ровно никакого значения, настроениям.
Очевидно, то же испытывали и другие. Борис заметил, как подозрительно шмыгнул носом начсанбриг.
Но вот знаменный взвод приблизился к опушке, на которой застыли в положении «смирно» комбриг и старшие офицеры штаба. Среди них Борис увидел Юрку. Он стоял чуть в стороне, и его безукоризненное лицо казалось бледнее обычного.
Затем знаменосцы так же размеренно и четко прошагали мимо второго и первого батальонов к головной машине. Как они устанавливали на ней знамя, Борис, стоявший в конце колонны, разумеется, не видел.
Раздалась команда: «По машинам!», и экипажи в считанные секунды заняли свои места.
Вынос знамени продолжался недолго, всего несколько минут… Но и их вполне было достаточно, чтобы Борис ощутил свою слитность со всеми и каждым в отдельности…
И вот теперь над их знаменем — над прошлым, настоящим и будущим бригады — нависла смертельная опасность. Попади оно к немцам, и все пойдет насмарку: прошлое забудут, настоящее осудят, а будущее отнимут. Была прославленная гвардейская часть, и нет ее.
Можно понять зампотеха, в душе позавидовавшего соседней сто тридцать второй бригаде — самое страшное у нее позади. Пройдет неделя-другая, и она, пополненная новыми «тридцатьчетверками» и людьми, снова под своим знаменем пойдет в бой. Но не здесь, под каким-то плюгавым Лауценом, о котором они раньше и не слыхали, а там, где в скором времени начнется наступление на Берлин.
А у них… а у них все страшное еще впереди.
— Смотрите, как поредело, — заметил подполковник.
И верно, встречные машины уже не шли сплошным потоком, переливаясь, как прежде, через край на обочины. Между отдельными машинами появились разрывы. Шоферы прибавляли скорость. Начались обгоны. Были долгие минуты, когда на дороге никого не было.
Все чаще и чаще попадались на глаза следы недавних боев. Сгоревшие и подбитые немецкие танки, опрокинутые и покореженные орудия, брошенные и раздавленные автомашины, фургоны с пожитками, брички, покинутые беженцами, сельскохозяйственные машины, трупы лошадей и множество каких-то бумаг, разносимых ветром в разные стороны…
Может быть, и его записки где-нибудь так же втаптываются в грязь? Что ж, это не худший вариант. Во всяком случае, лучше, чем если они попадут к фрицам.
Чей-то радостный возглас:
— Наши!
Мимо проскочили два новых ЗИСа с каким-то грузом, накрытым брезентом. Их заметили поздно, потому что впереди шел огромный трофейный грузовик. Сомнений быть не может! Два раздельных полукруга и единица!
— Стой! — запоздало крикнул им вслед подполковник.
Но с других машин тоже увидели их и остановили. Оказалось, что они везли в бригаду хлеб, но с полдороги, узнав об окружении, повернули назад. Сопровождавший ЗИСы старшина Петряков из продснабжения не скрывал своей радости:
— Еще б немного, так бы к немцам и влетел!
— Значит, решили оставить бригаду без хлеба? — в упор спросил его подполковник.
— Так мы ж…
— Да там, мать вашу… — крикнул Рябкин, — десять дорог! Если даже девять перерезаны, то одна все равно осталась!
— Товарищ гвардии подполковник, да откуда нам…
— А мне плевать, откуда! Вы ведь не школьник младших классов, а старшина Красной Армии! Так вот, после рейда — пойдете в штрафную!
— Слушаюсь! Разрешите присоединиться?
— Присоединяйтесь.
Подполковник отходил медленно. Залезая в «доджик», он все еще вполголоса ругался:
— Вот гусь!.. Вот заячья душа!
Вскоре донесся непрекращающийся гул артиллерийской пальбы.
Теперь навстречу им двигались совсем редкие колонны автомашин.
Долго, минут двадцать, шли мужчины и женщины в гражданской одежде, незадолго перед этим освобожденные из фашистского плена. Сейчас они уходили вместе с тылами, чтобы снова не попасть в руки немцев.
Впереди показалась развилка трех дорог и в середине ее чья-то маленькая одинокая фигурка. Когда подъехали ближе, увидели девушку-регулировщицу. На ней была широкая, видно с чужого плеча, плащ-палатка и надвинутая на самые глаза, как у старого солдата, пилотка. За спиной у нее висел карабин.
— Стой! — закричала она, размахивая красным флажком.
— Что, дорогуша? — подъехав, спросил подполковник.
— Куда едете? — строго спросила она.
— Вот по этой дорожке, — ответил Рябкин, показывая на среднюю дорогу.
— Нельзя туда!
— Почему нельзя? — Подполковник вылез из машины.
— Бьет прямой наводкой.
— А откуда бьет?
— А отовсюду! Не разбери поймешь!
— Так уж отовсюду! — усмехнулся подполковник.
— Товарищ командир, проезжайте быстрее!
— Еще одну минутку, дорогуша. — Рябкин окинул взглядом местность и достал карту. Потом спросил регулировщицу: — Ты не сможешь показать на карте, откуда, по-твоему, бьет немец?
Девушка очень долго разглядывала квадрат, развернутый перед нею подполковником. Неуверенно ткнула пальцем, спросила:
— Я здесь стою?
— Чуточку левее возьми. Видишь развилку дорог?
Палец приблизился к развилке. Девушка вопросительно посмотрела на подполковника.
— Здесь, здесь, — подтвердил Рябкин и добавил: — Вон видишь маленькую точечку между дорогами? Это ты и есть.
— Вы скажете, — улыбнулась девушка.
— Так откуда он бьет?
— Оттуда, — уже уверенно показала она. — И отсюда.
— А может быть, нам удастся проскочить? — спросил зампотех.
— Не проскочите, товарищ подполковник. Они уже две колонны разнесли, — ответила она.
— Что ж, тогда придется… — но досказать фразу ему помешал чей-то громкий возглас:
— «Рама»!
Высоко в небе летела «рама» — немецкий разведывательный самолет, появление которого всегда предвещало какую-нибудь очередную каверзу гитлеровцев.
Все замерли, задрав головы.
— Ну гад! Ну зараза! — костила разведчика регулировщица. — Уезжайте быстрей, товарищ подполковник, — крикнула она, — а то засечет!
— Пусть лучше здесь засечет, чем после развилки, — ответил Рябкин. — Тем более уже поздно!
«Рама», ковыляя в небе, покружила над дорогой и полетела в сторону Лауцена.
— Куда?.. Стой! — вдруг встрепенулась девушка и бросилась за «санитаркой», мчавшейся к развилке.
Борис вздрогнул, ему показалось, что рядом с шофером Рая.
«Санитарка» проехала еще несколько метров и остановилась.
— Куда едете? — строго спросила регулировщица. Ответа слышно не было. — Туда нельзя!.. Туда нельзя, говорят!.. Вон они тоже хотели, — кивнула она на колонну, — да не отважились!
Из кабины «санитарки» выглянула Рая. Выходит, не ошибся! Неужели она едет в бригаду, к Юрке?
Борис поднялся, помахал ей рукой. Она увидела его и обрадовалась. Выскочила из кабины и направилась к ним.
Она шла, и ее серые-карие-зеленые-голубые глаза сияли при виде стольких знакомых лиц.
«С нами?» — взглядом спросил ее Борис.
Она поняла и на ходу закивала головой: «С вами!»
7
Колонна свернула на левую дорогу — пока еще свободную от обстрелов… Рая села рядом с Борисом. Прежде всего она упрекнула его: почему не зашел? Он был ей очень нужен. Она хотела, чтобы он сходил к начсанкору и сказал, что своими силами сто тридцать первая с эвакуацией раненых не справится. Она это точно знает, так как за весь день оттуда в медсанбат не поступило ни одного человека. Окружение окружением, однако другие части тоже отрезаны от своих тылов, а раненых все-таки вывозят. Между тем сто тридцать первая ведет ожесточенные бои. Раненых там, она уверена, больше, чем где бы то на было. Значит, все дело в том, что их не на чем вывозить. Конечно, если бы это сказал начсанкору Борис, никаких вопросов не возникло бы. А так… Но, слава богу, все обошлось. Майор приказал направить за ранеными медсанбатовскую машину и двух медиков — санинструктора и ее. Этого она, собственно говоря, и добивалась.
Борис не смотрел на Раю. Он-то понимал, что все это она затеяла ради Юрки. Знала бы она, что тот…
На душе у Бориса было муторно. Хорошо, что к ним подсел Лелеко. Несколько солдатских анекдотов, которые он рассказал без передышки, один за другим, на какое-то время отвлекли Бориса от грустных мыслей. И даже то, что капельмейстер, разговаривая с Раей, неотрывно смотрел на нее увлажненным взглядом, почему-то не задевало его. В конце концов, кто она ему? Да и какое ему дело, кто и как на нее смотрит?
К тому же и не до этого. Буквально с каждым метром все больше ощущалось приближение фронта. Слышна была артиллерийская перестрелка. Вдали над лесом стлался дым.
Тревожнее становилось и на дороге — начиналась неизвестность. Уже можно было проехать полкилометра, километр — и не встретить ни одной машины.
Но все-таки изредка они попадались. Зампотех останавливал их и расспрашивал водителей. Слухи о положении под Лауценом были самые противоречивые. Одни утверждали, что все уже вышли из окружения. Другие — что сопротивление продолжается. И каждый при этом клялся, что он сам только что оттуда и все, что там делается, видел своими глазами. О сто тридцать первой некоторые слышали, что она все там же, под Лауценом.
Борис заметил: если раньше при виде их маленькой колонны лица людей выражали любопытство и уважение, то в настоящее время одно удивление. Может быть, и в самом деле они похожи на сумасшедших — с такими силами против немцев?
Прошло еще несколько машин, и дорога впереди опустела. Сейчас они особенно остро чувствовали свое одиночество.
У поваленного столба с указателем «Нах Лауцен» подполковник Рябкин остановил колонну. Командиру танкового взвода Горпинченке он приказал выдвинуть «тридцатьчетверки» вперед. Всех, кто был в «доджике», попросил пересесть на другие машины, а туда посадил «черных пехотинцев». Они должны были следовать в голове колонны, на некотором расстоянии от переднего танка. Задача их — не допустить внезапного нападения, быть, как он сказал, ушами и глазами отряда.
Рая побежала к себе на «санитарку». Борис с остальными перебрался в «студебеккер».
Колонна тронулась. На броне переднего танка, среди солдат, стоял зампотех. Он показывал рукой вправо и что-то говорил выглядывавшему из башни Горпинченке.
Борис оглянулся. «Санитарка» шла последней, за машинами с хлебом. Видны были лишь край фургона и угол кабины. Борис приблизился к правому борту. На этот раз он увидел Раин локоть — один локоть. Если бы кто знал, как он устал от нее за эти два с половиной года! За полгода в училище и два года на фронте. Если бы кто знал! Кто-то навалился на него плечом. Лелеко?
Задышал в самое ухо:
— С кем она сейчас…
И произнес похабное слово.
Борис чуть не задохнулся от гнева. Он резко отодвинулся и увидел перед собой искаженное улыбкой лицо Лелеки.
— Эх ты, мразь!
И, вложив в ладонь всю силу, наотмашь, сверху, словно гася подачу мяча, ударил капельмейстера по лицу. Тот повалился назад, но его успели подхватить. Он вырвался и схватился за пистолет. Несколько человек набросились на него и отняли оружие. Затем он сидел на скамейке и, размазывая по лицу кровь из носа, осыпал Бориса угрозами.
Борис презрительно бросил:
— Шут!.. Капельдудкин!..
И повернулся спиной. Молчал, никому не отвечая на вопрос, почему они сцепились. Лелеко же бормотал что-то невнятное. Поэтому все, кроме Осадчего к младших лейтенантов, осудили Бориса.
— Подумаешь, сказал что-то!
— Если каждый будет давать рукам волю!..
— А еще офицеры!..
Но тут кто-то воскликнул:
— Воздух!..
Два «мессершмитта» вынырнули из-за леса и на бреющем полете, обстреливая колонну из пулеметов, пронеслись над дорогой. Это произошло так быстро, что все были застигнуты врасплох. Одни водители дали полный газ, другие затормозили. Многие бойцы не успели добежать до кювета и попадали где придется. Борис так и остался сидеть верхом на борту — одна нога здесь, другая там…
— Сейчас вернутся!..
Борис спрыгнул на землю и бросился к «санитарке». Небо над головой снова прорезал рев возвращающихся «мессершмиттов». Застучали пулеметы.
— Боря, сюда! — услыхал он голос Раи. Она лежала за небольшим бугорком и махала рукой. Жива, не ранена, больше ему ничего не надо. Он опустился в кювет. Где-то опять зацокали пули.
Наконец Борис поднял голову и увидел, что самолетов уже нет. Удивило одно, что «мессершмитты» скрылись, а пулеметы продолжали бить. До него не сразу дошло, что стреляют из крупнокалиберного пулемета с одной из автомашин.
Потом и он замолчал.
Поднимались и шли к машинам солдаты и офицеры, все перепачканные с ног до головы грязью.
— Где доктор? Вы не видели, где доктор? — взволнованно спрашивал кто-то.
— Я здесь! — крикнул Борис и быстро пошел на голос.
Из-за машины выбежал старший сержант Мальцев из трофейной команды.
— Доктор, там один ранен!.. И убит один!
— Раненый где?
— Там, у танка!..
У второй «тридцатьчетверки» прямо на дороге сидел солдат. Двое поддерживали его за спину. Раненый тяжело дышал и булькал во рту кровью. Борис расстегнул ему ворот: ранение в грудь! Срочно наложить тампон — и в госпиталь!
— Все равно придется снять шинель…
А, Рая! Он совсем не слышал, как она подошла.
— Дай я тебе помогу.
Вдвоем у них, действительно, дело пошло быстрее. За какие-нибудь пять минут они наложили на рану тугую повязку и ввели обезболивающее. Зампотех согласился с их предложением — оставить с раненым санинструктора. На первой же попутной машине тот отвезет его в госпиталь.
Затем они осмотрели убитого. Это был тот самый Коронат, который в городке собирал людей. Его так и похоронили — с подоткнутыми полами шинели.
— По машинам!..
8
Через километр их остановили. Молоденький майор-артиллерист, сопровождаемый автоматчиком, отозвал в сторону подполковника Рябкина и что-то долго говорил ему, показывая вперед на дорогу. И тут Борис заметил, что из-за кустов, обильно растущих в поле и на обочине, выглядывали тоненькие стволы противотанковых орудий. Около каждой пушки находились боевые расчеты. Иптаповцы! Да, это были они — истребители вражеских танков.
Вернувшись к колонне, зампотех собрал офицеров и проинформировал их о сложившейся обстановке. Дальше по дороге ехать нельзя. В четырех километрах отсюда, прямо за тем лесом, гитлеровцы сосредоточили большое количество танков и самоходок. Судя по всему, они попытаются прорвать позиции, занимаемые истребительным противотанковым полком, и выйти на главное шоссе. Если им это удастся, положение усложнится. Поэтому артиллеристы обратились с просьбой, если можно, поддержать их танками и людьми. Пришлось сказать о знамени. Они все поняли. Даже подсказали, как незаметней проскочить к Лауцену… Вон там начинается старая лесная дорога. Она ведет чуть ли не до Куммерсдорфа. А оттуда до Лауцена рукой подать… Только надо иметь в виду, что этой дорогой пользуются и немцы и наши. Вчера по ней просочились сюда вражеские мотоциклисты. Так что следует смотреть в оба.
В заключение подполковник Рябкин обратился к Горпинченке:
— Старший лейтенант, как рация?
— Радист как будто наладил.
— Очень хорошо. Постарайтесь связаться с бригадой, установить ее точное местонахождение!
— Слушаюсь!
Стоял серый пасмурный день. Поэтому, когда колонна свернула в темный лес, у Бориса появилось ощущение быстро надвигающегося вечера. Хотя было всего шесть часов, подполковник заранее распорядился, чтобы ни в коем случае не включали фары. Приказал он и приглушить моторы. Но последнее оказалось, трудновыполнимым. Рев от танковых двигателей был настолько силен, что порою не было слышно слов, сказанных рядом. Особенно на танке Горпинченки, куда Борис перебрался, чтобы не видеть Лелеку.
Дорога из-за подступавших к ней лесных сумерек казалась узкой, как туннель. Впрочем, она и была такой. Бойцам все время приходилось наклонять голову, пропуская над собой низко нависшие ветки. Танки шли под сплошной треск придорожных кустов, задевая и перемалывая гусеницами пни.
— Да, с немцами тут не разъехаться! — крикнул Борису стоявший рядом лейтенант Фавицкий, техник по ремонту танковых двигателей.
— Кому-то из двоих придется потесниться, — усмехнулся Борис.
— Регулировщиков бы сюда!
— Наших или немецких?
— Папуасских!
— Фавицкий, вам не надоело трепаться? — обернулся подполковник Рябкин.
— Треп скрашивает жизнь, товарищ гвардии подполковник.
— Уверяю вас, мою — ваш треп не скрашивает.
Фавицкий промолчал: то ли не нашелся что сказать, то ли счел неудобной дальнейшую пикировку со старшим по званию. Борис вспомнил: кто-то говорил ему, что зампотех недолюбливает Фавицкого. Похоже на правду. Но за что? Не за треп ведь, в конце концов…
Борису же Фавицкий симпатичен. Умный, красивый, подтянутый. Очень походит на Юрку. Странно, что он может кому-то не нравиться.
Впереди прыгал на ухабах «доджик». Он то появлялся, то исчезал за поворотом. Находившиеся на нем «черные пехотинцы» держали под прицелом автоматов дорогу и придорожное пространство. Если что, они первыми примут на себя удар. Правда, зампотех предупредил их — сразу же, по обстоятельствам, свернуть в сторону или повернуть назад, чтобы дать возможность действовать танкам.
Борис напрягал зрение: еще недавно можно было различить лица ребят с «доджика». Теперь они все покрылись сумеречной дымкой, смазавшей отдельные черты…
— Ни хрена не тянет мотор!
Это Горпинченко. Он высунулся из башни и доложил подполковнику о неполадках в двигателе. При первых же звуках его голоса Фавицкий оборвал фразу на полуслове и как-то моментально потускнел.
Подполковник посоветовал.
— Прибавьте обороты!
И обнадежил.
— Потерпите! На остановке посмотрит Фавицкий.
Еще раз чертыхнувшись, Горпинченко скрылся в танке…
Борис приблизился к зампотеху.
— Товарищ гвардии подполковник! А может быть, это хорошо, что от наших танков столько грохота? Подумают, что целый батальон, и побоятся напасть на нас…
— …ротой? — иронически продолжил зампотех. — И нападут батальоном? Нет, доктор, лучше нам не переоценивать мощь наших боевых сил.
Подполковник Рябкин прав. В первом же серьезном бою за какие-нибудь две-три минуты от их механизированного обоза останется мокрое место. Разумеется, это очень эффектно — на некоторое время обмануть противника, сбить его с толку. Но что пользы от этого? Так ни бригаде не поможешь, ни знамени не спасешь. В их положении главное — как можно меньше привлекать к себе внимание, постараться быстрее и незаметнее соединиться с бригадой. Все остальное лишено смысла.
Другое дело — если не повезет, что тоже может быть. Но это дело случая. А случай на войне…
— Товарищ гвардии подполковник!
Опять Горпинченко. Он чем-то сильно взволнован и обрадован.
— Что случилось?
— Кажется, поймали!..
Волнение командира танкового взвода передалось всем. Подполковник даже привстал на цыпочки.
— Где она? Что передает?
— Несколько слов не удалось разобрать… — Ну говорите же, что она передала?!
— Позывные… И три раза повторили: «Помните, мы здесь… Помните, мы здесь… Майнсфельд, Лауцен… Майнсфельд, Лауцен…»
— Майнсфельд — это же южная окраина Лауцена! Стало быть, они отошли туда и там дерутся… Больше ничего не разобрали?
— Сплошной треск…
— Тогда передайте им… Нет, ничего не передавайте. Пока работайте только на прием!
— Есть пока работать только на прием! — ответил Горпинченко и спустился в танк.
Подполковник сел на ящик, поставленный для него на броню, и вынул из кармана шинели свою помятую карту.
— Доктор, посветите, — сказал он, подавая Борису карманный фонарик. — И оба с Фавицким загородите свет.
После того как они прикрыли собой зажженный фонарик, зампотех принялся изучать карту. Потом провел ногтем линию и сказал:
— Вот здесь должны быть немцы.
9
Но первые немцы встретились им раньше. Их было двое. Два дезертира. Они шли по дороге и, увидев «доджик», сиганули в кусты. Чья колонна впереди, они не знали. Можно не сомневаться, что с не меньшей, если не с большей резвостью они спрятались бы, попадись им на пути немецкие машины. Но их заметили. Через несколько минут место, где они находились, было окружено «черными пехотинцами». Ни о каком сопротивлении немцы и не думали. Вышли с поднятыми руками и охотно дали себя разоружить. Вначале их приняли за разведчиков. Но с первых же ответов при допросе подполковнику стало ясно, что они обыкновенные дезертиры.
Высокий немец все время улыбался широкой, обнажавшей десны улыбкой и с готовностью отвечал на все вопросы. Второй — ростом пониже — поддакивал всему, что выкладывал его приятель, но сам говорил мало.
В результате они сообщили много интересного. Выяснилось, что кроме этой есть еще одна дорога на Куммерсдорф — значительно короче. Начинается она в километре отсюда и также идет лесом. Правда, кое-где есть участки, покрытые гатью. Но что один или два плохих участка дороги для таких замечательных танков! Высокий немец шагнул к «тридцатьчетверке» Горпинченки и даже похлопал ее, как коня.
Странное дело — и Борис это чувствовал, — ни тот ни другой дезертир не ожидал для себя от этой встречи с русскими каких-либо особо скверных последствий.
Между тем подполковник Рябкин не знал, что с ними делать. Он не мог ни отправить их в тыл, ни отпустить на свободу. В первом случае все упиралось в сопровождающих — не хватало, чтобы он разбрасывался людьми перед боем. Во втором случае он не имел права рисковать судьбой рейда. Если этих двоих схватит полевая жандармерия, то они, спасая свою шкуру, вымаливая прощение, не колеблясь сообщат о русской колонне.
Оставалось или взять их с собой, или… Подумав, зампотех решил, что первое все-таки лучше. В конце концов они могли пригодиться в качестве проводников. И тем, что не пришлось вот так просто, не в бою, пролить человеческую кровь, были довольны все. За исключением,
может быть, Осадчего, горевшего желанием отомстить за своего ординарца. Борис сам слышал, как он, подойдя к зампотеху, сказал: «Ну чего с ними валандаться?» Но подполковник никак не среагировал на эту реплику.
Одного дезертира забрали к себе на «доджик» «черные пехотинцы». Второго, что улыбался, посадили на танк старшего лейтенанта Горпинченки.
Дорога, о которой говорили немцы, действительно была в километре от того места, где их схватили. Судя по всему, по ней давно не ездили — колея старая, едва различимая. Кругом бугорки и ямки. Встречались и лежащие поперек дороги сухостойные деревья. И все-таки, несмотря на такое запустение, кое-где проглядывали следы машин и повозок.
Наступил вечер.
Колонна двигалась медленно, пробираясь сквозь темноту незнакомой лесной дороги.
— Включить подсветку! — после долгого колебания приказал зампотех.
Загорелись подфарники. Но теперь подполковник Рябкин не находил себе места от беспокойства — как бы их из-за этой подсветки не обнаружил противник.
Улыбчивый немец, догадавшись о состоянии русского командира, сказал, успокаивая:
— Дорт зинд кайне дойче зольдатен. Зи зинд ин Куммерсдорф!
[1]
— Доктор, скажите ему, что нам все равно, где их бить, в Куммерсдорфе или раньше.
Борис перевел.
— Я, я!
[2] — поспешил согласиться немец.
Дорога шла ровно — и вдруг покато устремилась вниз. И в ту же минуту вверх по косогору побежали деревья, оставляя колонну наедине с широким и темным небом.
Откуда-то издалека, из низины, долетала дробь автоматной и ружейной перестрелки. С короткими перерывами протяжно повизгивал немецкий шестиствольный миномет. Продолжали ухать орудия.
Время от времени из-за дальней черноты леса уходили в небо ракеты… Кто знает, может быть, среди них был и призыв о помощи: «Помните, мы здесь… Помните, мы здесь… Майнсфельд, Лауцен… Майнсфельд, Лауцен…» Не там ли Майнсфельд?
Борис спросил об этом пленного. Тот энергично закачал головой:
— Найн, найн. Дорт ист Куммерсдорф!
[3]
— Майнсфельд — левее, — заметил подполковник.
Спуск кончился. Снова у дороги замелькали частые тени деревьев. Ударило в лицо сыростью и прохладой. Стыли близкие камыши какого-то большого озера.
Под колесами захлюпала грязь.
Впереди подскакивал на жердях гати «доджик». «Черные пехотинцы» сидели и стояли в напряженных позах, держась друг за друга.
Тонкие бревна и хворост, не выдержав тяжести «тридцатьчетверок», глубоко уходили в топь. Танки двигались, увязая по самое днище. Каждый метр давался с огромным трудом. Старший лейтенант Горпинченко уже устал материться. Сейчас он надеялся лишь на чудо, сводившееся к одному — только бы вконец не запороть двигатель!..
— А вдруг этот фриц решил стать немецким Иваном Сусаниным? — не удержался от очередного трепа Фавицкий.
— Что ж, тогда у нас есть шансы попасть в оперу, — ответил Борис.
— Но прежде чем угодить в оперу, надо основательно застрять.
— Ну, за этим дело не станет…
Но «тридцатьчетверки» все-таки прошли. Зато завязли автомашины. Все, кроме «доджика», который проскочил первым.
— Будем вытаскивать тросами, — сказал подполковник Рябкин.
К Борису подошел капитан Осадчий.
— А фрицы где? — Присутствие пленных, по-видимому, не давало ему покоя.
— Вон один!
Немец с танка Горпинченки сидел на корточках у дороги и что-то советовал шоферам застрявших машин.
— Эй! Ком хэр!
[4] — позвал его Осадчий.
Тот встал и подошел к офицерам.
— Нихт гут,
[5] — многозначительно произнес Осадчий, кивая на буксовавшие машины.
— Их хабе дох гезагт! Их хабе дох гезагт! — стал оправдываться пленный.
— Что он тараторит? — спросил Осадчий Бориса.
— Он, мол, говорил.
— Говорил… сука! — выругался Осадчий и пошел к своему «студебеккеру», к которому в это время прикрепляли трос. У кормы танка нетерпеливо ходил взад-вперед Горпинченко.
— Ну как, зацепили?
— Давай! — крикнул кто-то из солдат.
— Поехали! — Горпинченко подал сигнал механику-водителю. Танк рванулся вперед, и «студебеккер» пробкой выскочил из топи.
Без особых затруднений были вытащены из грязи и остальные машины.
— Фавицкий, к зампотеху!
— Заставит этот гроб ремонтировать, черт пузатый! — бросил на ходу Борису Фавицкий.
Борис подошел к «санитарке». Рая сидела молча в уголке кабины, и нельзя было понять: то ли дремлет, то ли задумалась.
Он заглянул в кабину. Рая как-то отрешенно спросила:
— Боря, ты?
— Собственной персоной!
— Оттуда ничего нет?
— Ничего. Если что будет, мигом дам знать.
— Боря!
— А?
— Ты не обижайся на меня…
— А с чего я должен обижаться на тебя? — спросил Борис и отвел взгляд.
— Не надо обижаться, — тихо повторила она.
— Команда «по машинам»! — сказал Борис. — Я пошел!.. Не грусти, Рай!..
Танк Горпинченки уже тронулся. Борис догнал его. К нему протянулось несколько рук. Он ухватился и поднялся на корму.
10
Было около десяти вечера, когда колонна остановилась на окраине леса. От полей, залитых лунным светом, ее отделяло всего несколько рядов деревьев и мелкий кустарник.
Зампотех и начальники служб вышли на опушку. Перед ними как на ладони лежала вся местность. Отчетливо был виден Куммерсдорф. На окраине его догорало какое-то длинное здание, не то склад, не то казарма, и свет от пожарища тускнел прямо на глазах. Вдалеке, километрах в четырех от Куммерсдорфа, темнел Майнсфельд. Стояла тишина, прерываемая редкими пулеметными и автоматными очередями. Где-то двигались танки — был слышен рокот моторов и лязганье гусениц.
Подполковник поделился своими соображениями. Путь в Майнсфельд, это неплохо видно и отсюда, лежит через Куммерсдорф, захваченный немцами. Обойти последний невозможно: место открытое, хорошо просматриваемое лунной ночью. К тому же кругом грязь, передвигаться можно лишь со скоростью пешехода. Нет сомнения, что колонна будет расстреляна в упор, как мишень на полигоне. Еще хуже предложение старшего лейтенанта Агеева, командира второго танка, попытаться проскочить по дороге. Дальше центра Куммерсдорфа им не уйти.
— Запомните, — обратился он к офицерам, — от нас никто не ждет разгрома вражеской группировки. Задача, которая поставлена перед нами, имеет громадное значение только для нас, для нашей бригады. От того, захватят ли фрицы наше знамя или не захватят, ход войны не изменится… Наш долг, — многозначительно понизил он голос, — избегать встреч с противником. Но лишь до тех пор, пока мы не понадобимся.
Из-за деревьев вышел Горпинченко. Танкошлем был надвинут на брови. Таким мрачным Борис видел командира танкового взвода впервые.
— Ну что? — нетерпеливо спросил его зампотех. — Бригада не отвечает.
— Может быть, у вас опять что-нибудь с рацией?
— Я сам проверил: рация исправна.
— Передайте стрелку-радисту, чтобы продолжал работать на прием.
— Слушаюсь! — как-то вяло ответил Горпинченко и пошел к танку.
— Подождем еще полчаса, — сказал подполковник. — Не ответит — будем принимать решение сами…
Никому не хотелось говорить. Стояли и прохаживались молча. Смотрели в сторону уже скрытого под надвигающимися темными облаками Майнсфельда. С нарастающей тревогой думали: а что, если там уже все? Недаром город производил какое-то странное впечатление — ни признаков боя, ни признаков жизни. Стреляли же где-то рядом с Куммерсдорфом.
Молчание на опушке прервал хриплый голос зампотеха:
— Могут быть десятки причин, почему не отвечает бригада.
— И одна из них… — как будто стал возражать капитан Сапожнов, начальник службы ГСМ.
Но подполковник не дал ему договорить.
— Ее разгром, вы хотите сказать?
Борис покраснел: ему показалось, что подполковник покосился в его сторону.
— Капитан, вы давно на фронте?
— Уже год!
— А я четыре. И три из них в нашей бригаде. За это время ее пять раз окружали и два раза, по фашистским сводкам, полностью уничтожали. А она цела и, можете мне поверить, скоро будет в Берлине!..
Глухо и раскатисто прогремели орудийные выстрелы. И тотчас загрохотали ответные.
— Смотрите! — радостно воскликнул Борис. Он увидел, что темноту Майнсфельда прошили огненные трассы.
— Вот видите, — зампотех кольнул взглядом Сапожнова.
Некоторое время все молчали, ожидая возобновления перестрелки. Но больше выстрелов не было.
Снова подошел Горпинченко. Сказал:
— Глухо, как на том свете.
— Ну что ж, попробуем установить с бригадой связь другим путем… Где Срывков?
— Я здесь, товарищ гвардии подполковник! — Из-за широкой спины Осадчего выскользнул быстроглазый солдатик в шапке-ушанке, из-под которой выглядывала повязка. Это был Федя Срывков, один из лучших разведчиков бригады. Раненный еще в начале наступления, он почти два месяца провалялся в госпитале. Выписался он, как и все выздоравливающие, до срока, когда стало известно о нависшей над частью опасности.
— Срывков, у тебя нет желания прогуляться до бригады?
— Отчего ж, можно.
— Один пойдешь или с кем-нибудь?
— С кем-нибудь все ж лучше. А вдруг одного убьют или ранят?
— Кого возьмешь?
— Суптелю можно? — помедлив, нерешительно спросил он.
— Суптелю? Кого угодно, только не Суптелю…
Суптеля когда-то тоже был разведчиком. Потом его, как бывшего токаря-универсала, перебросили к ремонтникам, где поручали самые сложные работы. Естественно, зампотех им очень дорожил.
— Товарищ гвардии подполковник! — с решительностью, которой он и сам не ожидал от себя, сказал Борис. — Можно, со Срывковым я пойду?
Срывков даже присвистнул от удивления. Не меньше его удивился и зампотех:
— Вы?.. А зачем это нужно? У нас еще людей хватает!
— Разрешите, я объясню!
— Ну, объясните, — почти без интереса сказал Рябкин. Видно было, что для себя он решил: не отпускать, что бы Борис ни говорил.
И Борис, понимая это, а потому волнуясь и торопясь, выложил все, что мучило его. И то, что в бригаде скопилась уйма раненых, а перевязочных материалов уже утром, когда он уезжал оттуда, оставалось всего на несколько часов работы. И то, что если срочно не доставить туда бинты и вату, то раненые начнут умирать от заражения крови и гангрены. Подполковник заколебался. Чтобы окончательно убедить его, Борис заявил, что, если ему не разрешат пойти со Срывковым, он пойдет один, потому что это его прямой долг и обязанность.
Зампотех сдался:
— Ну, хорошо, доктор. Я вижу, что другого выхода у вас нет.
— Спасибо, товарищ гвардии подполковник.
— За что мне спасибо? Спасибо скажете немцам, если они вас не заметят…
Срывков фыркнул. Борис сердито взглянул на него.
— А теперь слушайте внимательно, — сказал зампотех. — Постарайтесь добраться до бригады к полуночи. После того как доложите комбригу о том, что мы здесь и ждем его приказаний, попросите его немедленно связаться с нами по радио. Если они почему-либо не считают нужным выходить в эфир, сразу возвращайтесь обратно. Я имею в виду одного Срывкова. Доктор может остаться там. О своем прибытии в бригаду известите нас тремя зелеными ракетами. У меня все. Вопросов нет?
— Все ясно! Разрешите идти, товарищ гвардии подполковник?
— Идите!
Срывков лихо козырнул и повернулся через… правое плечо. От неожиданности Борис даже рот разинул. Вот тебе и бывалый солдат! Но зампотех почему-то оставил это грубое нарушение строевого устава без внимания. Может быть, не заметил. Лишь напоследок предупредил:
— Десять минут на сборы!
— Есть десять минут на сборы! — весело ответил Срывков и позвал Бориса: — Пойдемте, доктор!
У колонны они разошлись. Срывков полез к себе, в кузов «газика». Борис зашагал к «санитарке». Заглянул в кабину. Раи там не было.
— Где старший лейтенант? — спросил он водителя.
— А внутри! — сладко зевнул тот.
Борис подошел к задней дверце, постучал. Никто не ответил. Он постучал сильнее.
— Кто там? — услышал он голос Раи.
— Это я!
— А, Боря, ты! — открыла дверцу Рая. — Я немного вздремнула… Заходи.
Борис поднялся в фургон, сел на табуретку у железной печурки. Рая опять залезла на носилки, которые служили ей постелью, села, поджав под себя ноги.
— Боря, хочешь есть?
— Знаешь, Рай, я сейчас иду туда.
— Куда? — не поняла она.
— В бригаду.
— В бригаду? Ты идешь в бригаду? — Она привстала на носилках.
— Ну да. Там, наверное, все простыни изрезали на бинты. Надо отнести им это. — Борис подтянул к себе мешок с перевязочными материалами.
— Боренька, возьми меня с собой! — Она вскочила на ноги и заглянула ему в лицо. — Ну, возьми, я тебя очень прошу!
— Как я могу тебя взять? Я ведь не командир отряда.
— Ну хорошо, я пойду к подполковнику! — Она стала сердито застегивать шинель.
— Все равно не разрешит!
— Почему не разрешит?
— Потому что он скажет, что тебе там нечего делать.
— А тебе есть что делать?
— Что тебе там нечего делать без машины, — поправился Борис. — А на машине туда не проехать…
Рая бросила застегивать шинель. Но ее, уже признавшую его правоту, неожиданно прорвало:
— Ты нарочно мне это говоришь, нарочно! Ты всегда не хотел, чтобы я была с ним! Ты всегда, всегда ему завидовал!
Борис побледнел. Да, она права, что он завидовал Юрке. Но разве он мешал им, стоял у них на пути, не желал им счастья?..
Он молча встал, поднял мешок на плечо и двинулся к выходу. У двери обернулся и спросил:
— Что передать Юрке?
Она ответила, помедлив:
— Чтоб поберег себя.
— Хорошо, — сказал Борис и спрыгнул на дорогу. Но он не сделал и десятка шагов, как его остановил взволнованный и как будто испуганный голос Раи:
— Боря! Подожди!
Что еще?
Она подбежала к нему.
— Ты тоже будь осторожен, — сказала она и взяла его руку.
— Постараюсь, — произнес он. У него мгновенно пропала обида.
Поправив мешок и автомат, висевший за спиной, он зашагал вдоль колонны к «газику».
— Ни пуха, ни пера тебе! — крикнула Рая.
— К черту!..
Откуда-то из темноты вынырнул Федя Срывков.
— Давайте поможем!
— Ничего, я сам.
— Самому-то зачем, коли подсобник есть?!
— Какой подсобник? — недоуменно спросил Борис.
— Эй, фриц! — крикнул куда-то назад разведчик.
Из той же темноты вышел и приблизился к ним высокий дезертир.
— А он куда?
— А с нами! Подполковник приказал. Говорит: раз дезертир, значит, все лазейки знает!
Улыбаясь открытыми деснами, немец взял у Бориса мешок и легко вскинул его на плечо.
— Так оно лучше, — подытожил Срывков.
11
Свет луны прямо-таки ослеплял. Их свободно могли увидеть издалека. Но до кустов, за которыми они рассчитывали укрыться, было не меньше трехсот — четырехсот метров. Первым ткнулся в грязь и пополз по-пластунски Федя. Его примеру последовал Борис. Немцу же мешал ползти мешок. Он то закидывал его за спину, то тянул волоком. Иногда он смешно вставал на четвереньки и так отдыхал.
Срывков покрикивал на него:
— Шнель!.. Шнель!..
[6]
Что другое, а немецкие команды он знал назубок.
И немец изо всех сил толкал ногами и руками землю, пытаясь догнать их. Ему изрядно доставалось. Но оба — и Срывков, и Борис — не испытывали ни жалости, ни желания помочь ему.
До кустов они доползли благополучно. Дальше им предстояло, маскируясь кустами, пробежать большой кусок до оврага, который шел в обход Куммерсдорфа слева. Этой дорогой несколько часов назад дезертировали из-под Лауцена высокий немец и его приятель. Они без происшествий прошли почти все расстояние и только в лесу случайно попались. Но пока им везло. Угоди они в руки эсэсовцев или полевых жандармов, их бы вздернули на первом же суку…
Федя и Борис условились: делать короткие перебежки между кустами и подольше осматриваться.
После двадцати минут такого бега они оказались у широкого и довольно глубокого оврага. Кубарем скатились на самое дно. Конечно, в том, что они шли внизу, был немалый риск. Если бы их увидели сверху, то ничего не стоило бы забросать гранатами. Зато и обнаружить было труднее.
Срывков и Борис двигались гуськом, держа перед собой автоматы. Немца они пустили вперед — на всякий случай: овраг сильно петлял, и за каждым новым поворотом их подстерегала неизвестность. Да и немец все время был у них перед глазами.
Через каждые пять минут Срывков вскарабкивался по склону и, высунув голову, осматривал местность. Один раз поднялся и Борис…
Расстояние до Куммерсдорфа заметно сократилось. Сквозь деревья проглядывали дома, сараи, какие-то сооружения. Резко выделялась водонапорная башня. Где-то справа постреливали из пулеметов. Иногда в тишину вгрызался нутряной звук немецкого шестиствольного миномета. Какие-то очаги сопротивления? Но пленный по-прежнему утверждал, что в Куммерсдорфе немцы и русских там нет. Странно и непонятно.
Когда овраг вышел к первым домам, дезертир остановился и сделал знак: внимание!..
Замерли… Услышали голоса. Немцы!.. Звуки приближались к оврагу. Уже можно было разобрать отдельные слова, смешки…
Борис быстро огляделся и одновременно со Срывковым увидел растущее на правом склоне раскидистое дерево. Ярко освещенное луной, оно отбрасывало в овраг густую сеть теней. Мгновение, и все трое скрылись в ветвях — настоящих и отраженных.
Федя шепнул Борису:
— Скажите фрицу, ежели вздумает сбежать, первая пуля — ему.
Борис перевел.
— Найн, найн!
[7] — испуганно заверил немец.
— Тише!..
Смеясь и громко разговаривая, солдаты подошли к краю оврага. Из их реплик Борис понял, что им зачем-то нужно перебраться на другую сторону. Но ширина и глубина оврага несколько охладили их пыл. Правда, один из солдат все время порывался съехать на заднице под горку, но остальные его удерживали.
Сцена над оврагом закончилась тем, что солдаты поспорили, кто дальше пустит струю.
— Сейчас потопают назад, — с облегчением шепнул Федя.
Борис усмехнулся. В логике Феде не откажешь. Эти четыре фрица достаточно откровенно выразили свое отношение к оврагу. Да и вряд ли они полезут в собственные брызги.
Так оно и было. Вскоре они пошли прочь от оврага.
— Хорошо, что не над нами, — сказал Борис.
— Для них-то уж точно хорошо, — заметил Срывков.
Высказался и пленный. Презрительно бросил:
— Шайсдрек!
[8]
Кто знает, может быть, впервые ему стало стыдно за своих товарищей по оружию.
— Ну, потопали! — сказал Федя и обратился к замешкавшемуся немцу: — Форвертс!.. Форвертс!..
[9]
Тот послушно занял свое место в голове цепочки.
На этот раз они прошли совсем мало — метров двести, не больше. Их остановили новые голоса. Опять немцы!.. Голоса звучали глуховато и приближались низом… Встреча была неизбежной! Что делать? Одно ясно: они не должны, не имеют права вступить в бой. Так же как возвращаться ни с чем.
— Быстро наверх! — приказал Срывков и первым бесшумно выбрался из оврага.
Мгновенно осмотрелся.
— Давай!
Подталкивая друг друга и мешок, Борис и пленный взобрались вверх по склону. Где-то на середине Борис весь внутренне замер — вот-вот, казалось, им в спину ударит автоматная очередь. Это было тогда, когда немцы шли, разговаривали и вдруг замолчали…
Наверху их ждал Срывков. В руке у него они увидели гранату. Значит, он готов был швырнуть ее, если бы гитлеровцы заметили их.
— Ложись!
Они легли.
Голоса приближались. Немцев было трое. Они тянули связь и ругали какого-то фельдфебеля, который сам завалился спать, а их погнал на линию. Вскоре голоса и шаги раздались прямо под ними, а затем стали отдаляться.
Обождали еще.
— Пошли! — сказал Срывков и спустился вниз. За ним съехали в овраг и Борис с пленным.
Метров через триста, как предупредил их дезертир, начинался самый трудный и опасный участок пути. Овраг подходил близко к домам, а так как правый склон постепенно сходил на нет, то их легко могли увидеть из окон. Кроме того, в одном месте над оврагом был перекинут мост, охраняемый пулеметчиками.
Срывков пошел рядом с пленным.
— Зовут-то тебя как? Фрицем?
— Ганс Клозе, — ответил тот и улыбнулся открытыми деснами.
— Ганс? Ганс так Ганс…
По тому, как Федя это сказал, Борис почувствовал, что он что-то задумал. И не ошибся.
— Товарищ старший лейтенант! — обернулся Срывков к Борису. — Переведите ему, что у меня к нему дело есть.
Борис перевел. Пленный рассыпался в любезностях: он, мол, всегда рад помочь господину унтер-офицеру.
— Ишь ты, рад! — усмехнулся разведчик. — Доктор, передайте ему, что ежели он жить хочет, а не гнить в земле сырой, то должен делать все, что я скажу.
Когда Борис перевел, немец в знак согласия бурно закивал головой:
— Я! Я!
[10]
— Стоп! — сказал Срывков, и они остановились. — Доктор, возьмите у него мешок и дайте мне свой автомат.
— Это еще зачем? — Борис даже отодвинулся.
— Да не бойтесь. Сейчас сами увидите!
— Ну, хорошо, — сказал Борис и подал автомат разведчику.
Тот вынул обойму и принялся ее разряжать. Патроны так и защелкали в его коротких пальцах. Разрядив обойму, он вставил ее в автомат и протянул его пленному:
— На! Цени доверие!
Дезертир растерянно улыбался одними деснами и не спешил брать оружие.
— На. Держи, говорят тебе!
Но тот все дальше отводил руки с мешком от автомата.
— Доктор, возьмите у него мешок!
Борис все понял. То, что придумал Срывков, было здорово, хотя и рискованно. Но это, пожалуй, единственная возможность добраться до своих.
Понял все и немец. Он отдал мешок и нерешительно взял автомат.
— Доктор, — сказал Срывков, — спрячьте пистолет и гранаты под шинель… А шинель расстегните…
С этой минуты им предстояло изображать из себя свежих русских пленных, а дезертиру — их конвоира. Договорились с Гансом: если спросят о них, сказать, что это захваченные в плен русские медики. Расчет был простой: вряд ли кого-нибудь особо заинтересуют санитар да фельдшер.
А если поинтересуются, что в мешке, говорить правду — бинты и вата. Часть пусть тоже назовет свою. За пять-шесть часов боевых действий не так легко установить, кто убит, кто ранен, кто в плен попал или пропал без вести, а кто дезертировал.
— А ежели не то вякнешь, — предупредил Срывков, многозначительно поводив под шинелью своим ППС, — быть тебе покойником!
На этот раз перевод не понадобился.
— Форвертс!
[11] — вдруг закричал на них Ганс, и закричал так натурально, что Борис даже вздрогнул.
И они зашагали…
12
Центральные улицы Куммерсдорфа были забиты боевой техникой. Отовсюду выглядывали танки, самоходки, бронетранспортеры, орудия, тягачи, грузовые и легковые машины. Вдоль оврага стояли, задрав в небо стволы, тяжелые минометы. Кругом сновали вооруженные солдаты и офицеры. Определенно что-то готовилось. И никому не было дела до двух русских пленных, бредущих в овраге в сопровождении служаки-конвоира.
А Ганс Клозе и впрямь старался вовсю:
— Шнель!.. Шнель!.. Ферфлюхте хунде!.. Шнель!
[12]
И это были далеко не самые крепкие ругательства, которыми он сыпал. Порой Борису казалось, что их «конвоир» вошел во вкус и забыл о своем положении. Как бы он еще не надумал поправить свои дела за их счет! Тогда бы ему простили и подозрительно затянувшуюся самоволку, и неожиданное исчезновение с поля боя. Кто бы в этом случае заподозрил его в дезертирстве и измене фюреру?
Неужели его останавливал лишь страх перед угрозой Срывкова, который, возможно, даже не успеет ее осуществить? Или неуверенность в том, что ему зачтут их «поимку»? Кто знает, когда придет к нему эта вполне естественная в его положении мысль. Во всяком случае Борис готов к любым неожиданностям…
И все-таки, несмотря на эти не очень приятные размышления, на душе у Бориса какая-то странная легкость. Если бы каких-нибудь два часа назад ему сказали, что он будет вот так спокойно, не испытывая особого страха, шагать под охраной липового конвоира перед вооруженными до зубов гитлеровцами, он бы ни за что не поверил. И не только шагать, но и с жестоким любопытством смотреть на них, радуясь тому, как они со Срывковым их обманули. Это было почти как во сне, в котором некого и нечего бояться, где никогда не поздно, при первой же серьезной опасности, проснуться.
Борис спохватился: пока он занимался самоанализом, Срывков не терял времени зря — подсчитывал, запоминал. Как разведчик он не мог упустить такую возможность. Досаде Бориса на себя не было границ, тем более что уже пошли улицы, где нечего было запоминать: с двумя-тремя машинами у домов. Чтобы как-то наверстать упущенное, Борис стал лихорадочно припоминать, где и что он видел три минуты назад.
— Федя, ты не помнишь, сколько было минометов, восемь или девять? — тихо спросил Борис.
— Двенадцать, — ответил Срывков.
— Швайгт ир, швайне! — продолжал орать на них Ганс. — Шнель!.. Линкс!.. Рехтс!
[13]
Впереди показался мост. Неужели тот самый, по которому он проезжал сегодня утром? Ну конечно же! Значит, здесь они должны повернуть на Лауцен.
Мост невысокий, деревянный. Но тем не менее он охранялся пулеметами. Посередине его прохаживался часовой с автоматом.
Срывков и Борис уже не сомневались в Гансе. Но полной уверенности все же не было. Мог же он там, в центре Куммерсдорфа, нарочно усыпить внимание своих «пленников», чтобы здесь, на окраине, неожиданно выдать их с головой?
Но как конвоир он по-прежнему был на высоте. Орал так, будто ему платили за каждое слово:
— Шнель!.. Шнель!.. Доннерветтер!
[14]
Услышав громкую брань, часовой шагнул к перилам. Когда они приблизились к мосту, он спросил Ганса, кого это он ведет и куда. Тот охотно ответил. И добавил, что из-за этих русских свиней должен не спать всю ночь. Но сочувствия в солдатах, охранявших мост, он этим не вызвал. Часовой сказал, что они сами третью ночь не смыкают глаз — по всей вероятности, русские вновь попытаются прорваться. Борису показалось, что немец смотрит на них со Срывковым с каким-то одобрением, словно радуясь, что из-за них еще кто-то не спит…
— Лос! Хинауф!
[15] — рявкнул Ганс.
Они полезли вверх по крутому левому склону, держа мешок за углы, но добрались только до середины и скатились снова в овраг. При этом у Феди широко распахнулась накинутая на плечи шинель и из-под руки блеснула сталь автомата. Борис с ужасом оглянулся на часового, облокотившегося на перила: разглядел или нет? Но разве проследишь за выражением лица с такого расстояния, да еще ночью, пусть даже лунной?
Между тем поза у солдата не менялась. Конечно, с какой стати ему тотчас же поднимать крик? Чтобы первому получить пулю? Можно не сомневаться, что он не подаст вида до тех пор, пока не будет уверен в своей безопасности.
А Ганс, похоже, ничего не видел. Он опять обрушился на них с руганью. Но сейчас она казалась Борису такой неестественной, такой наигранной, что он еще раз бросил тревожный взгляд на часового: надо быть слепым, чтобы ничего не заметить…
Все это длилось какую-то долю минуты. А дальше начиналось то, что могло быть уже следствием промаха. Часовой крикнул Гансу, чтобы он поднимался по другому, покатому, склону. Голос немца прозвучал как-то подозрительно спокойно. Возможно, это и была западня. Ведь теперь они должны будут пройти через весь мост под дулами пулеметов.
— Кажется, влипли, — быстро шепнул Борис Срывкову.
— Да подожди! — отмахнулся тот.
Они поднимались по склону, и на них в упор глядели, выжидая чего-то, семь… нет, девять вооруженных гитлеровцев. Ни реплик, ни шуточек. Одно настороженное молчание зверя, приготовившегося к прыжку.
— Русс, шнель!.. Шнель! — продолжал усердствовать Ганс. Но как неестественно и фальшиво звенел в тишине его голос.
Впрочем, ему еще не поздно сделать тот единственный шаг, который вернет его к своим. В нем всегда может пробудиться солдат вражеской армии. Да и что помешает ему, когда они окажутся под прицелом пулеметов, выдать их? Тем более что для него это не будет предательством.
Борис сунул свободную руку в карман шинели, сжал лимонку.
Нет, им нельзя, нельзя смотреть на немцев. Пока они со Срывковым не уверены, что их раскрыли, они обязаны продолжать свою смертельную игру. Они пленные. Они должны брести понуро, опустив взгляд. Надо, чтобы от каждого их движения веяло безысходностью. Они — пасынки войны, смирившиеся со своей страшной участью…
— Линкс!..
Они прошли мимо пулеметного поста, вступили на мост. Сейчас их в любое мгновенье могли прошить очередью. Сапоги скользили по грязи. Каждый шаг отдавался в сердце, ведь следующий мог стать последним.
Часовой, который оказался фельдфебелем и, судя по всему, командиром пулеметного взвода, шагнул к ним и сделал знак остановиться. Борис ощутил горячую бугристую поверхность лимонки. Но немец обошел их. Его интересовал Ганс. Он снова спросил, куда тот ведет пленных. Ганс ответил, как условились: в штаб, в Лауцен. «А там что, своих пленных нет?» — осведомился фельдфебель. И тут Ганс проявил самостоятельность. Начал хохотать. Смеялся он до того искренне, до того заразительно, что фельдфебель стал ему вторить — сперва сдержанно, а потом, все больше постигая смысл этого смеха, громко и открыто. Вскоре они хохотали оба. Уж они-то хорошо знали, какой ценой немцам удалось окружить в Майнсфельде русских гвардейцев и почему нет пленных.
Но этот неожиданный и дружный смех встревожил Срывкова: не над ними ли смеются фрицы? Встретив его вопросительный взгляд, Борис незаметно покачал головой: ничего опасного. Срывков опустил веки: мол, понял…
В этот момент фельдфебель резко оборвал смех: либо заметил, что они переглянулись, либо подумал, что дальнейший смех в присутствии пленных неуместен. А может быть, вспомнил о подозрительном блеске под Фединой шинелью?
Фельдфебель прошелся у них за спиной. Все! Борис почувствовал, как у него сдавило в груди. Краем глаза он увидел Срывкова. По его напряженной позе видно было, что он тоже весь как сжатая пружина. Первым он, бесспорно, срежет фельдфебеля. «А мне надо, — быстро соображал Борис, — одну гранату швырнуть в тот пулемет, а другую, если останется время, в этот…»
Где-то сзади застыл Ганс. В эти мгновенья решалась и его судьба. Отступать ему уже поздно.
Фельдфебель прошел вперед и остановился. И вдруг неожиданно заорал:
— Вег, руссише хунде!..
[16]
Борис и Федя переглянулись. Хотя смысл этих слов был им понятен, они все-таки усомнились: неужели пронесло?
И они так же, как это сделали бы настоящие пленные, только чуточку торопливей, чем им хотелось, обошли фельдфебеля стороной и зашагали по мосту.
Вскоре они услышали:
— Марш!.. Марш!
[17]
Это их догонял Ганс, у которого опять прорезался голос.
13
Понемногу противники угомонились. Стихла и без того редкая стрельба в Куммерсдорфе, который остался уже далеко позади. Ничем не тревожимая тишина лежала и над Майнсфельдом. Но дорога на Лауцен еще жила. Здесь-то Ганс и встретил шофера из штаба своего полка. А было это так. На обочине дороги, на половине пути между Куммерсдорфом и Лауценом, стоял камуфлированный бронетранспортер. В его моторе возился человек в кожаной куртке. Когда они проходили рядом и Ганс, по обыкновению, начал кричать на них, тот поднял голову и удивленно произнес:
— Ганс Клозе?
— Хальт!
[18] — остановил их Ганс и вроде бы радостно воскликнул: — А! Руди!..
Шофер не скрывал своего удивления, увидев Ганса в качестве конвоира в таком отдалении от части. Но после встречи с фельдфебелем тот был подготовлен и к этому вопросу: дескать, это медики из танковой бригады, окруженной в Майнсфельде. Их захватили в Куммерсдорфе и сейчас по приказанию командира дивизии переправляют в Лауцен.
— О, ферштанден! — закивал шофер головой и, вытирая руки тряпкой, предложил: — На, воллен вир фарен?
[19]
Хочет подвезти? Что же делать?
Ганс тоже растерялся. Кивнул головой приятелю, а сам, когда тот на секунду отвернулся, жалобно взглянул на своих «пленников».
— Вас штекст ду денн?
[20] — нетерпеливо проговорил шофер. Он смотрел на Ганса уже с любопытством и ждал.
Продолжалось это ожидание, может быть, мгновение, но всем троим оно показалось невероятно долгим. Наконец поняв, в чем дело, Федя усиленно заморгал.
— Вирд эс нихт кналль гебен?
[21] — быстро нашелся Ганс.
— А! Их пфайфе дарауф! — воскликнул шофер. — Штайгт айн!
[22]
Они втроем сели сзади — не мог же конвоир оставить пленных без присмотра?
Что задумал Срывков, Борис сообразил сразу. Но для того, чтобы все вышло, не провалилось, необходимы благоприятные условия. Хорошо, если до поворота на Майнсфельд они будут одни на дороге. Но стоит только появиться другим машинам, их со Срывковым как миленьких доставят в расположение немецких частей. Конечно, они постараются не допустить этого, но тогда придется вступить в бой и не выполнить задания. Кроме того, еще неизвестно, как поведет себя Ганс, который, похоже, обо всем догадывается. Вдвоем с шофером они могут оказать серьезное сопротивление. Так что Федина затея весьма рискованна.
Самое обидное, что они со Срывковым не имеют возможности ни посоветоваться, ни обговорить все. Остается следить за каждым жестом, каждым движением разведчика, быть готовым ко всему. И к тому, чтобы помочь Срывкову, который, по-видимому, возьмет на себя шофера. И к тому, чтобы нейтрализовать, если потребуется, Ганса. И к тому, чтобы отстреливаться…
Главное сейчас — неожиданность. Поэтому они ничем не должны выдавать своих намерений.
А пока Борис не пропускал ни одного слова из реплик, которыми перебрасывались Ганс и шофер. В целом разговор их был мало интересен. Вспоминали давние выпивки, драки. Были у них и какие-то общие любовные похождения, которые тоже заканчивались обильными возлияниями.
На Бориса и Срывкова шофер вообще не обращал внимания — как будто их и не было.
Вдалеке возвышались темные постройки Лауцена.
Скоро должен быть поворот на Майнсфельд. Борис хорошо помнил его — там стоял накренившийся столб с полуоторванным указателем.
Срывков сделал Борису знак. Все ясно! Его и Федины мысли работали в одном направлении. Что ж, он готов. Выхватить из расстегнутой кобуры пистолет и наставить его на Ганса — дело одной секунды.
Когда до поворота осталось каких-нибудь четыреста — пятьсот метров, на дороге из Куммерсдорфа показалась автоколонна.
Теперь их судьбу решали секунды…
Конечно, с машин не могли не видеть идущий впереди бронетранспортер. Но что в нем делается — с такого расстояния разглядеть невозможно. Только когда они свернут на Майнсфельд, там, может быть, заподозрят что-то неладное.
Но это еще в будущем, измеряемом метрами и секундами. Пока же они со Срывковым не могут ни прибавить скорости, ни убыстрить события. Единственное, что в их силах, — это терпеливо дожидаться поворота.
А шофер, как нарочно, не спешил. Дружески неторопливая и спокойная беседа с Гансом располагала его к такой же неторопливой и спокойной езде.
Расстояние же между ними и колонной сокращалось с каждой минутой. Борис сосчитал: восемь тяжелых машин, груженных, по-видимому, боеприпасами. Матово серебрились в лунном свете лобовые стекла…
Наконец впереди мелькнул наклоненный столб.
Все! Пора!
Они метнулись одновременно: Срывков к шоферу, Борис к Гансу, который даже не удивился. Очевидно, он давно ждал этого. Почувствовав у живота пистолет, он лишь сжался.
Срывков наставил на шофера автомат и приказал:
— Линкс!
Повторять не пришлось. Тот понял, что шутки с вооруженными пленными плохи…
Так по майнсфельдской дороге они проехали с полкилометра…
Но когда Срывков наклонился, чтобы взять лежащий на сиденье и все время мозоливший ему глаза автомат, шофер резко крутанул руль. Федя не устоял на ногах и отлетел к противоположному борту. Немец схватил одной рукой оружие и полоснул назад длинной очередью. На второй очереди у него заело автомат… Срывков покачнулся. Уже падая, он слабеющей рукой нажал на спусковой крючок. Пули прошли над немцем, не задев его. Борис вскинул пистолет. Но в этот момент шофер пригнул голову и стал бросать машину из стороны в сторону. Бориса начало швырять от борта к борту, и он никак не мог прицелиться в сидевшую за рулем фигуру. Когда же ему удалось немного подобраться ближе, шофер дал полный газ, и Бориса снова отбросило к заднему борту…
Там он опустился на одно колено и, держась рукой за прыгающее сиденье, выстрелил… Мимо!… Еще раз!.. Мимо!
На большой скорости бронетранспортер въехал на пахоту и стал разворачиваться…
Цепляясь за борта, Борис медленно продвигался вперед. Наткнулся на Ганса, державшегося обеими руками за скамейку. Странно, что он перестал думать об опасности, которая могла угрожать ему с этой стороны. Ведь Гансу ничего не стоило поднять автомат Срывкова и выстрелить в него сзади. Неужели тот и сейчас с ними?..
До шофера оставалось совсем мало, как вдруг сильный взрыв смешал все. Борис почувствовал, как что-то с огромной силой подняло его в воздух и оттуда швырнуло в глубокую черную яму…
Когда он очнулся, то мучительно пытался сообразить, где он и что с ним. Наконец понял: бронетранспортер наскочил на мину!.. Кругом было минное поле, преграждавшее путь к Майнсфельду с юга… Борис встал, и перед его глазами все поплыло. Тогда он опустился на колени и пополз. Первым, кого он увидел, был убитый Срывков. Уже мертвому ему взрывом оторвало обе ноги. Ганса он нашел в десяти метрах от бронетранспортера. Тот был ранен в живот и тяжело дышал. Борис спросил его: «Ганс, хёрен зи мих?»
[23] Но их бывший «конвоир» ничего не ответил. Борис наложил ему тугую повязку и накрыл шинелью. Вскоре тот умер, так и не приходя в себя…
Шофера нигде не было. Уйти он никуда не мог. Вероятно, его разнесло в клочья.
Мешок с перевязочными материалами оказался цел. Но в одном месте он был забрызган чьей-то кровью.
Борис нашел автомат Срывкова, вскинул на плечо мешок и двинулся по дико петлявшей колее бронетранспортера к дороге — как ни трещала у него голова, он сообразил, что так меньше шансов напороться на мину.
Вскоре его увидели мотострелки из батальона капитана Чепарина, находившиеся поблизости в боевом охранении. Один из них провел его через минное поле и показал дорогу.
Через четверть часа Борис был на командном пункте бригады, разместившемся в подвале полуразрушенного здания казармы.
14
Докладывал Борис сидя: у него неожиданно закружилась голова, и комбриг, узнав, в чем дело, разрешил ему сесть. За большим столом, освещенным двумя тусклыми коптилками из гильз, расположилось все командование бригады. Кроме полковника здесь были начальник штаба майор Шалимов, его помощник капитан Морозов, начальник политотдела подполковник Бурженков. Юрки почему-то не было. Где он и что с ним — спросить об этом Борису хотелось с того момента, как вошел в штаб. Но прерывать доклад не относящимися к делу вопросами он считал неуместным.
Комбриг встал из-за стола и прошелся по подвалу. По-прежнему высокий, стройный, красивый. По его виду ни за что не скажешь, что он командует частью, находящейся в окружении. Разве только покрасневшие веки и слегка осунувшееся лицо говорили о напряжении и усталости.
При его приближении вытянулся автоматчик, стоявший на посту у зачехленного знамени — знамени, которое они должны во что бы то ни стало спасти.
— Скажите, старший лейтенант, — обратился комбриг к Борису, — вы хорошо помните место, где остановился Рябкин?
— Хорошо, товарищ гвардии полковник, — ответил Борис и показал на карте: — Вот здесь.
— Нам необходимо это знать сейчас с большой точностью.
— Колонна находится здесь, — повторил Борис. — У самой окраины леса.
— Благодарю вас, — сказал полковник и крикнул своему ординарцу: — Макаров! Сбегайте за пилотом!
— Слушаюсь! — козырнул тот и скрылся за дверью.
Борис даже зарделся от удовольствия. Ему всегда нравилась в комбриге его несколько штатская привычка благодарить подчиненных за какие-то мелочи и говорить всем «вы». И это не была поза. Просто иначе он не мог — интеллигент второго или третьего поколения, старый кадровый военный. Не потому ли они так спелись с Юркой? И сохранили нормальные отношения, несмотря ни на что…
— Старший лейтенант, как вы себя сейчас чувствуете? — спросил комбриг.
— Намного лучше, товарищ гвардии полковник.
— Очень хорошо… Как вы смотрите на то, что мы хотим вас снова послать к Рябкину?
Что ж, он этого ожидал. Кому же еще идти после гибели Срывкова, как не ему?
— Готов выполнить любое задание командования! — ответил Борис и покраснел: надо было сказать как-то проще, скромнее…
— Мы на это и рассчитываем, — улыбнулся одними глазами комбриг. — Вот смотрите!
Он подошел к столу, взял лежащий на карте карандаш и придвинул коптилку.
— Немцы обложили нас со всех сторон. С запада и севера — в самом Лауцене. На востоке они перерезали основную дорогу и захватили большую часть Куммерсдорфа. На юге дорога блокирована «фаустниками». Их немного. Зато восточнее, — карандаш уперся в подкову леса, — сосредоточено около двадцати танков и самоходок.
— Я знаю это место, — воспользовавшись короткой паузой, вставил Борис. — Иптаповцы предупредили нас, что там немцы, и мы свернули в лес…
— Правильное решение, — заметил комбриг.
— Молодчина медицина! — похлопал по плечу Бориса начальник политотдела подполковник Бурженков и засмеялся, довольный своей неожиданной рифмой.
— Смотрите и запоминайте, — предупредил Бориса полковник. — Сегодня с рассветом, а именно в шесть сорок пять, мы предпримем новую попытку прорыва. На этот раз здесь!..
Карандаш провел южнее Майнсфельда невидимую линию.
— К пяти ноль-ноль будут готовы проходы в минном поле. Небольшие заслоны и «фаустники», которые встретятся у нас на пути, мы надеемся, будут опрокинуты с ходу… А вот дальше нас ожидают неприятности. Мы сразу можем попасть под удар этих
двадцати танков, а также тридцати танков, которые наверняка будут брошены на нас из Куммерсдорфа…
— Двадцать плюс тридцать… — начал почему-то вслух складывать Борис.
Где-то недалеко ухнуло орудие. Борис услыхал нарастающее сопение снаряда и близкий разрыв. С потолка посыпалась штукатурка.
— Да, пятьдесят, — сказал комбриг. — Против двенадцати… Задача Рябкина состоит в том, чтобы отвлечь на себя эти танки, тем более что он от них близко. В Куммерсдорфе аналогичная задача будет поставлена перед батальоном Яценко.
— Разве Яценко в Куммерсдорфе?
— Да. Сегодня днем он зацепился за северную окраину городка, и немцы ничего не могут с ним поделать.
— Так вот в чем дело, — протянул Борис. — А то мы никак не могли понять, что там за стрельба.
— И последнее, — продолжал комбриг. — Последнее по счету, но первое по важности. Передайте от меня подполковнику, что бой пусть начнет затемно — до начала прорыва. Мы дадим сигнал серией ракет.
— Есть передать!
— Товарищ капитан! — обратился командир бригады к помощнику начальника штаба. — Приготовьте пакеты для Рябкина и Яценко. И короткие радиограммы об отправке связных.
— Слушаюсь! — ответил тот и направился в дальний угол подвала, где стояли рация, телефоны и что-то стучал на машинке штабной писарь.
— Товарищ гвардии полковник, разрешите спросить? — Борис дал интонацией понять, что вопрос не имеет никакого отношения к предыдущему разговору.
— Я вас слушаю, — мягко насторожился комбриг.
— Где Коновалин?
— Выполняет мое задание.
И ни слова больше. Но Бориса это вполне устраивало. Лишь бы с Юркой ничего не случилось…
— Товарищ гвардии полковник! Прибыл по вашему приказанию!
Кто это? Летная куртка, унты, планшетка на длинном ремешке… Ах, да, пилот, за которым посылал комбриг. Неужели придали бригаде в связи с создавшимся положением?
— Придется опять лететь, лейтенант.
— Слушаюсь!
— Доставите вот его в отряд подполковника Рябкина. Обо всем остальном вы получите указания от начальника штаба.
— Слушаюсь! — и летчик отошел от стола.
— Товарищ гвардии полковник! — обратился к комбригу Борис. — Разрешите сбегать до медсанвзвода, отнести бинты?
— Хорошо. Только быстрее…
15
«Кукурузник» летел в кромешной тьме. Где-то над ним висела луна, прикрытая плотными и темными облаками. Хорошо, что ее уже нет, а то бы их запросто увидели с земли. Зато мотор слышно, наверно, за много километров. Шли они низко и, как сообщил пилот, выше пятисот метров не поднимались. Близость земли ощущалась буквально пятками. Но разглядеть ничего не удавалось: густо темнели какие-то неясные тени.
Несмотря на считанные минуты полета, Борис стал дремать: сказывались усталость и напряжение этого долгого и тяжелого фронтового дня, которому не видно ни конца, ни края.
А в полусне сегодняшний день дробился мелкими и неровными осколками. И только одна последняя стычка с начсанбригом всплывала целиком.
Началось же все с того, что Борис, радуясь предстоящей встрече со своими, спустился в длинный и низкий подвал, где размещался медсанвзвод, и увидел смутившуюся при его появлении врача Веру Ивановну.
— Вот привез бинты и вату! — сказал Борис, сбрасывая мешок на каменный пол.
— А у нас уже есть, — ответила она, поджав губы.
— Заняли?
— Боря, что случилось? — тихо спросила Вера Ивановна, покосившись на дверь в соседнюю комнату. — Почему вас так долго не было?
— Как почему? — Борис даже растерялся.
— Николай Михайлович вами недоволен, — шепнула она и опять оглянулась на дверь. Никого на свете, включая немцев, она не боялась так, как начсанбрига.
Борис вспыхнул:
— Только и всего?
— Боря! — упрекнула она его.
Борис с грохотом вошел в комнатку начсанбрига. Тот встретил его вопросом:
— Вы где шляетесь?
— Я вам могу дать адреса. Сходите.
— Люди воюют, а вы пользуетесь любым поводом, чтобы околачиваться в тылу! Мне не нужны такие военфельдшеры!
— В таком случае разрешите идти?
— Идите!..
Борис четко повернулся и направился к выходу. У двери обернулся, сказал с усмешкой:
— Позвоните комбригу. Он представит вам исчерпывающую информацию насчет моего времяпрепровождения…
Надо было посмотреть на Николая Михайловича. Этой фразе под занавес позавидовал бы даже Юрка.
Но когда Борис проходил подвальными отсеками, сплошь забитыми ранеными, и слышал, как те стонали, ругались, хрипели, звали санитаров и врачей, вся злость на Николая Михайловича у него пропала. Бесспорно, майор был груб и несправедлив. Но понять его можно. Он отвечал за жизнь и здоровье десятков людей, и вдаваться в какие-то частности у него просто не было времени.
А впереди его еще ожидала эвакуация раненых. И какая! Ведь мало погрузить всех этих покалеченных и страдающих людей на машины, которые в большинстве своем приспособлены для других целей. Самое сложное — надо будет выходить вместе со всеми из окружения. То есть делать, что и все: гнать на полной скорости, уходить из-под обстрелов, защищаться и защищать с оружием в руках. И кто знает, сколько уцелеет после этого раненых! Но не оставлять же их здесь!
В общем, Борис был так расстроен, что позабыл спросить о своей планшетке. В конце концов, ничего страшного не случится, если она и попадет в чужие руки. Мелочи жизни!..
Вдруг Борисом овладело смутное беспокойство. Оно явно не имело никакого отношения к видениям. Он сделал над собой усилие и окончательно проснулся…
Ах, вот в чем дело! Самолет шел с приглушенным мотором и, похоже, планировал…
Борис посмотрел вниз. Ни черта не видно! Тянулись лишь какие-то тени… А ведь совсем недавно все это пространство было залито ослепительным лунным светом и они втроем брели по нему, подвергаясь смертельной опасности. И вот двоих уже нет и никогда больше не будет…
Летчик сообщил:
— Сейчас будем садиться.
— Прилетели? — удивился Борис.
— Еще нет. Пакет просили доставить.
Самолет пошел на снижение. Но сел он не сразу, а некоторое время покружив в воздухе в ожидании сигнала с земли.
Наконец небо осветили две ракеты… Загорелись костры!.. Можно садиться!.. После короткого пробега самолет остановился.
Подошли двое.
Не выпуская из рук автомата, пилот потребовал:
— Пароль!
Ответил бас:
— Самара!
— Саратов, — сказал отзыв летчик. — Срочный пакет майору Яценко.
Чьи-то руки взяли пакет. Из темноты прогудел бас:
— Мигом доставим! — И добавил: — С вами адъютант полетит!
— Какой адъютант?
— Комбрига! — услышал Борис голос, который он узнал бы среди тысячи других.
— Юрка!
Коновалин подтянулся на руках и перевалился через борт Борису на колени.
— Борька, сукин сын!
Он и здесь, в немецком тылу, не забыл побриться и наодеколониться…
— Ну как, расселись? — спросил летчик.
— Полный порядок! — крикнул в переговорную трубку Юрка. — Выходи из облаков! Атакуй с тыла!
«Кукурузник» быстро поднялся в небо…
— Куда это он? — удивился Коновалин.
Борис рассказал о рейде тыловиков. Хотел сказать о Рае, но в последний момент передумал: «Потом скажу».
— Ловко придумано! — засмеялся Юрка. — Здесь Яценко нанесет отвлекающий удар, там Рябкин. Словом, прикройте нас, идем в атаку!..
В его веселых словах была горечь.
И тут Борису пришла в голову мысль: а почему бы, собственно говоря, не вывезти знамя на самолете? В этом случае немцам уж точно не видать его как своих ушей!
Он поделился ею с Юркой. Тот насмешливо произнес:
— Слушай, давай внесем предложение: хранить знамена в тылу, отдельно от частей. А?
Вот так всегда он — доводил не понравившуюся ему мысль до абсурда и еще ждал ответа.
— Иди к черту! — проговорил Борис.
— Спасибо!
Некоторое время они сидели молча.
— Юрка! — сказал Борис.
— Что?
— Не помню, говорил ли я тебе, что там Рая? — чуточку слукавил Борис.
— Где там? — всем корпусом повернулся тот.
— У Рябкина.
— Чего ей у него надо?
— Тебя.
Коновалин хмыкнул и отвернулся…
Скоро самолет стал снижаться. Неужели долетели? Так быстро? Пилот оповестил:
— Иду на посадку!
— Боря! Меня здесь нет, — торопливо проговорил Коновалин.
— Она будет убита, когда узнает.
— А она не должна знать…
— Что у вас произошло?
— Тебе непременно надо знать?
— Да.
— Она опять встречалась с Батей.
— Неправда!
— Ого! Как горячо ты заступаешься за нее!
— Что ты этим хочешь сказать?
— Ничего нового, милый Боря, — обнял Бориса за плечи Юрка.
— Интересно, что за сволочь накапала тебе на нее?
— Так я и скажу!
— Ну и держи эту гадость при себе!
— Значит, ни слова?
— Как хочешь.
Сигнальная ракета осветила кабину.
Через несколько минут самолет, подпрыгивая на ухабах, бежал по полю.
— Ну, ни пуха ни пера! — сказал Борис.
— К черту!..
Борис спрыгнул на землю и, положив пакет в карман, зашагал навстречу появившимся из темноты солдатам боевого охранения.
А самолет снова взял разбег и поднялся в воздух.
16
Около «доджика» выстроилось восемь бойцов. Шестеро из них — «черные пехотинцы». Двое — тыловики: проштрафившийся «хлебный» старшина Петряков и сержант Ромашко, ординарец начхима бригады Бондаренко. Этой группе дано задание незаметно подобраться к немецким танкам, находившимся отсюда в трех километрах, и забросать их противотанковыми гранатами. Все шестеро были добровольцами. О Петрякове же, которому так или иначе предстояло искупить свою вину, «позаботился» подполковник Рябкин. Один Ромашко попал в эту команду случайно. Кто-то сказал, что «хорошо бы еще человечка». И надо же чтобы именно в этот момент на глаза зампотеху попался начхим Бондаренко, который не стаи долго ломать голову и выделил своего ординарца.
Получив последнее напутствие командира отряда, группа двинулась в путь.
Затем зампотех и Борис, которого тот уже не отпускал от себя, подошли к соседнему строю. Там стояли так называемые «бронебойщики». Их было девять. Из них только двое имели опыт стрельбы по танкам. Остальные держали противотанковые ружья в руках впервые. Командиром «бронебойщиков» подполковник назначил капитана Осадчего: оружие тот знал слабо, зато его слушались и даже побаивались. Помощником себе Осадчий взял одного из младших лейтенантов, которого звали Миша Степанов. «Пусть учится», — сказал он зампотеху. Но у кого и чему тот будет учиться, так и осталось подполковнику Рябкину неясным.
«Бронебойщики» получили задание: в полутора километрах от того места, где сосредоточились немецкие танки и самоходки, скрытно занять на опушке леса огневую позицию. Кроме того, им было сказано: без приказа огонь не открывать. Помнить, что стрелять в лобовую броню бесполезно. Бить исключительно по гусеницам и бензобакам. Терпеливо ждать, когда танк или самоходка повернется боком.
Испросив у подполковника разрешения выполнять задание, Осадчий скомандовал своему отряду: «На-ле-во! Правое плечо вперед! Ша-гом марш!» — и повел его на огневую.
Наблюдая за явным несоответствием запоздалого строевого рвения всей обстановке, зампотех недовольно поморщился. Но отступать было поздно. Даже если назначение Осадчего — ошибка, ее уже так, за здорово живешь, не исправить.
Дальше шла самая многочисленная и, пожалуй, самая боеспособная группа — «мотострелки»: автоматом и гранатой умел пользоваться каждый. Для удобства ее разбили на три отделения. Командиром первого отделения стал начфин, второго — начальник службы ГСМ, третьего — начхим. Лелеко, которому не досталось отделения, стоял на левом фланге. На его лице стыла неясная ухмылка. К тому же всех его музыкантов без его ведома рассовали кого куда. Подполковник Рябкин обещал разобраться с этим, а пока приказал командирам отделений занять окопы и траншеи, вырытые в поле фольксштурмом.
Следующей была пятерка «фаустников» во главе со старшиной Кондратьевым, большим знатоком трофейного оружия. Рядом с ним стояли по стойке «смирно» и ели глазами начальство парикмахер Филипп Иванович, портные братья Агафоновы и старик ездовой, который появился в отряде неизвестно откуда. Но так как никому из них раньше не приходилось стрелять из фаустпатронов, то никакого особого задания зампотех им не дал. Просто сказал: бейте танки, когда подойдут очень близко. Впрочем, как пользоваться «хваустами», они знали — показал Кондратьев. А так все они были солдатами бывалыми и прежде чем стать тыловиками — вдоволь нанюхались пороху…
По-настоящему боевым подразделением считались пулеметчики — бывшие стрелки с подбитых танков. Они с полуслова поняли, что от них требуется и где им лучше занять позицию. Подняв ручные пулеметы, они двинулись следом за «фаустниками»…
Хмуро и молчаливо встретили подполковника экипажи «тридцатьчетверок». Они не сомневались: бой будет тяжелый.
Подполковник Рябкин хорошо понимал их. Поэтому и сказал то единственное, что еще имело смысл, — как избежать, оставаясь на поле боя, открытого и неравного столкновения с сильным противником. Во-первых, огонь вести из засад. Во-вторых, чаще менять огневую позицию. А в-третьих, заманивать вражеские танки и самоходки — пусть подставляют борта «бронебойщикам» и «фаустникам»…
Смотр своих боевых сил подполковник Рябкин закончил коротким напутствием медикам, выстроившимся в стороне у медсанбатовской «санитарки». В связи с тем что Борис фактически стал его адъютантом, обращался он в основном к Рае, которая к тому же была представителем медсанслужбы корпуса. Она принимала это как должное — видимо, и в самом деле считала себя главным медиком отряда. А ведь всего полчаса назад, казалось, ничто ее не интересовало — ни война, ни медицина, ни свое место в ней. Ничто, кроме Юрки… Узнав о возвращении Бориса, она сама разыскала его. И он вынужден был схитрить — сказать, что уже собрался идти к ней. А так, мол, у Юрки все в порядке, жив-здоров, тоскует. Хорошо, что она не видела в темноте его лица…
— Доктор, поехали! — окликнул Бориса подполковник.
Ничего не поделаешь, придется ехать, товарищ новоиспеченный адъютант!
«Доджик» рванулся и, объехав какого-то отставшего солдата, выскочил на опушку.
Вдоль окраины леса гуськом шли бойцы. Многие — согнувшись под тяжестью оружия. Временами они сливались с деревьями и пропадали во тьме. И только слышно было, как громко чавкала и хлюпала под ногами грязь…
Двигалась со своими «дегтяревыми» «черная пехота»…
Промелькнула пятерка с фаустпатронами под мышкой…
Довольно долго тянулись отделения «мотострелков»…
Остались позади «бронебойщики» с противотанковыми ружьями на плечах…
Не видно было одних «гранатометчиков». Их первых поглотили ночь да поле…
«Доджик» остановился. Дальше нельзя. Дальше — в километре отсюда — немцы…
17
Сразу же после взрыва небо над немецкой танковой частью исполосовали десятки ракет. Густо рассыпалась дробь автоматных и пулеметных очередей…
Но почему всего один взрыв? Неужели у остальных сорвалось?..
И вдруг снова вздрогнула земля. Из-за деревьев в небо плеснуло пламя…
Борис сжался, ожидая новых взрывов. Но время шло, а их не было. И уже, очевидно, не будет…
Кто же из восьми швырнул свои гранаты, а кто нет? Может быть, кто-то не успел и был схвачен, а кто-то просто струсил? И суждено ли им, взирающим на этот поединок со стороны, узнать больше?
Вверх пошла красная ракета. Это выстрелил стоявший в «доджике» подполковник Рябкин. Вслед за ним стали палить из ракетниц и остальные. Так договорились — чтобы привлечь к себе внимание противника.
Замешательство гитлеровцев продолжалось секунды. Вскоре на опушке, освещенной горевшей машиной, показались танки и самоходки.
Начало танковой атаки застало Бориса у «бронебойщиков». Он прибежал сюда с приказанием зампотеха немедленно поджечь сарай, стоявший неподалеку от них в поле: на фоне пожара лучше будут видны вражеские машины. Чтобы не выдать раньше времени бронебойки, поджечь решили бензином. Выбор Осадчего почему-то пал на младшего лейтенанта Степанова, который, повторив звонким юношеским голосом приказание, растворился в темноте. А через несколько минут началась атака. Танки и самоходки двигались осторожно, как бы на ощупь, и на ходу вели огонь по предполагаемой позиции противника — откуда поднялись ракеты…
Расстояние от «бронебойщиков» до танков сокращалось с каждой минутой, а сарай все еще не горел. Не случилось ли чего со Степановым?
— Слушай! Давай посылай второго человека! — крикнул Борис Осадчему, который переходил со своими занудными наставлениями от одного расчета к другому.
— Тебя, что ли? — буркнул тот.
— А меня не надо посылать, я сам пойду. У кого есть спички? — спросил Борис у солдат.
Ему подали коробок. Он молча взял его и побежал по пахоте…
Но тут вверх по стене сарая устремился огонек, за ним второй, третий…
Борис оглянулся — до танков было больше километра…
В стороне мелькнул «доджик». Борис кинулся к нему. Но его не заметили, и машина пронеслась мимо…
Где Рая? Зная ее, он уверен, что она будет там, где опаснее. Надо бы последить за ней, а то полезет в самое пекло или угодит к немцам. Но он связан по рукам и ногам своим неожиданным адъютантством! На кой черт оно ему? Он фельдшер и никто больше! Он непременно скажет об этом подполковнику…
— Товарищ старший лейтенант! — окликнули его.
К нему от горевшего сарая бежал Степанов. Что он так долго возился?
Низко над их головами пролетел снаряд. Оба одновременно упали на землю.
Лежа, младший лейтенант оправдывался:
— Спички отсырели… Товарищ старший лейтенант, мне не влетит за задержку?
— Пусть лучше влетит! — искренне пожелал пареньку Борис.
— Почему? — не понял тот.
— Потом поймете… Жмите во все лопатки к своим! Скоро у вас там начнется!..
Младший лейтенант, пригибаясь при каждом орудийном выстреле, побежал к «пэтээровцам».
Борис встал. Где же зампотех? Не у «мотострелков» ли?..
В это время справа началась беглая орудийная пальба. Оказалось, что «тридцатьчетверки» Горпинченки и Агеева неожиданно вышли во фланг немецких танков и первыми открыли огонь. Есть!.. Есть!.. Один за другим вспыхнули два фашистских танка!.. Ну и молодцы наши! Ну и молодцы!.. Стрелял, несомненно, Горпинченко. Немцы заметались… Что, съели?.. А это уже совсем здорово!.. Снаряд настиг еще одну машину! Три танка за три минуты — такое не часто бывает! Любо-дорого смотреть!
Ах, вот что! Немцы решили взять смельчаков в клещи… Ведя на полном ходу огонь из орудий, два фашистских танка двинулись в обход слева, а три справа…
Все! Немецкая болванка угодила в одну из «тридцатьчетверок». Машина рванулась, проехала немного и встала… Как же так?.. Чья она — Горпинченки или Агеева?.. Вторая «тридцатьчетверка» продолжала отстреливаться… И вдруг из нее вырвался сноп огня. Борис до крови закусил губу… Тотчас же немцы перенесли огонь на первый, уже подбитый ими танк. Его охватило пламя. Из люков выскочил экипаж, но его тут же скосили из пулеметов.
Немецкие танки разворачивались.
Борис побежал к темнеющим неподалеку траншеям и окопам. Рядом пронеслась и ушла веером в землю пулеметная очередь…
Свалился в первый попавшийся окоп.
Знакомый голос сказал:
— Теперь держись!
Филипп Иванович? Лучший брадобрей корпуса! Юрка называл его «сулинским цирюльником». Филипп Иванович был из Сулина, что возле Шахт. Он гордился тем, что первым из фронтовых парикмахеров стал вводить в своей части бакенбарды. Юрка и тот целых два дня ходил по бригаде этаким Васькой Денисовым!
Филипп Иванович держал в руках фаустпатрон и с отчаянной решимостью поджидал неприятельские танки и самоходки.
— Филипп Иванович, а где остальные ваши? — спросил Борис.
— Агафонычи, что ли? — так величал он портных, братьев Агафоновых. — А вон они!.. А чуток подальше сам Кондратьев!
— А пятый где?
— Ездовой-то?.. А кто его знает! Он не наш…
Борис замер. Танки и самоходки, которые первые минуты после боя двигались беспорядочно, снова выстроились и теперь приближались к позиции «бронебойщиков».
— Доктор, на цигарку не найдется? — спросил Филипп Иванович.
Борис не ответил… Три танка, вернее, два танка и одна самоходка, ворвались в полосу света, отраженного горящим сараем, и понеслись дальше, поливая из пулеметов темноту.
Неужели этот герой из каптерки пропустит их? Они же сами просятся, чтобы их подбили! Ну сколько можно выжидать? Господи, неужели проскочат?!
Но нет, одно за другим дробно защелкали противотанковые ружья… Самоходка, которая шла с краю, завертелась на месте и остановилась… Вот тебе и Осадчий! Если бы и дальше так пошло!.. Впереди идущий танк стал на ходу разворачиваться… Ну что же они медлят? Ну что же медлят?.. Но в это время опять ударили бронебойки. Подбитая самоходка задымила. Будешь знать, стерва!.. Второй танк задом попятился к горящему сараю и оттуда выстрелил из пушки. Вслед за ним открыли огонь и три новые вынырнувшие из темноты самоходки… Затем все пять машин, не прекращая стрельбы, устремились вперед на позиции «бронебойщиков»…
Но почему молчит Осадчий? Почему он молчит? Неужели все?
Едва разъяренные самоходки и танки ворвались на опушку леса, как ожило одно из противотанковых ружей. Оно сделало всего два торопливых и неметких выстрела и тут же замолкло, раздавленное танком.
— Доктор, уходите! — крикнул Филипп Иванович.
На окопы, занятые «фаустниками» и «мотострелками», двигалось шесть танков. К ним присоединилась пятерка, только что расправившаяся с «пэтээровцами».
Понемногу светало, и Борису отчетливо была видна каждая машина.
Когда танкам до «мотострелков» оставалось каких-нибудь семьсот метров, они прибавили ходу и открыли по окопам непрерывный огонь. Борис крикнул:
— Филипп Иванович, у вас нет противотанковых гранат?
— Нет. Вон у хлопцев полно!
Борис выбрался из окопа и, согнувшись в три погибели, метнулся к «мотострелкам». За спиной ударили две пулеметные очереди. Он спрыгнул в ближайший окоп. Там находился офицер с перевязанной головой.
— Иванов? — Борис узнал артиллерийского техника. — Ты не видел, где подполковник?
— Где-то там! — кивнул тот головой.
— Противотанковые есть?
Иванов достал откуда-то из-под ног гранату.
— Держи!
— А больше нет?
— Успей эту швырнуть!
— Ложись! — крикнул Борис.
Снаряд разорвался в нескольких метрах от окопа. Обоих окатило густой грязью.
— Санитар!.. Санитар! — услыхал Борис чей-то жалобный голос.
— Я пошел, — сказал он и, прижимая к груди гранату, вылез из окопа. Бросился к траншее, откуда доносились стоны.
И тут новый разрыв просыпал близко целую пригоршню осколков. Сгоряча Борис не обратил внимания на легкий удар в левое плечо. Когда же в этом месте стало горячо и мокро, он понял, что ранен. Но так как боли не было и рука двигалась, то он отнесся к этому довольно спокойно. Тем более что сейчас ему было не до себя: стоны раздавались еще в двух-трех местах.
Борис скатился вниз…
— Боря! — тихо позвал раненый.
— Кто это? — Борис подполз к нему. Зажег спичку. Узнать раненого было невозможно. Осколок снаряда срезал у него нос, губы, подбородок. Вместо лица одна сплошная рана.
— Это я, Фавицкий, — просипел горлом раненый. — Пристрели меня.
— Больше мне делать нечего!.. Сейчас наложу повязку. А в госпитале тебе сделают пластическую операцию. Физиономия не хуже прежней будет, можешь не сомневаться!
Сильный взрыв сдвинул стенки траншеи. На спину Борису скатился большой ком земли, но он не скинул его — продолжал перевязку.
Через несколько секунд раздался еще один сильный взрыв.
— Что там? — выдохнул Фавицкий.
— Дают фрицам прикурить! — ответил Борис, накладывая повязку.
Сквозь пальбу донесся слабый стон:
— Сестра!.. Сестра!..
— Ну, все! — Борис закончил перевязку. — Ты подожди меня здесь, а я пока сбегаю посмотрю. Там еще раненые!
Борис высунулся из траншеи… Вот так старики! Фаустпатронами подбили два танка! И не только подбили, но и заставили гитлеровцев отказаться от лобовой атаки! Сейчас немецкие танки и самоходки предпринимали какой-то сложный маневр — не для того ли, чтобы обойти отряд справа или с тыла?
Чем все это кончится?..
Борис вылез на бруствер и, согнувшись, побежал в направлении стонов.
Когда он спустился в большую воронку, сохранившуюся с давних времен, то увидел там Раю, которая перевязывала раненого солдата из музыкантской команды.
Она страшно обрадовалась Борису.
— Боренька, я сейчас!..
Закрепив повязку английскими булавками, она успокоила солдата:
— Ну все, милый. Через месяц снова будешь как новенький!.. Боря! Мне надо тебе что-то сказать.
— Там раненые…
— Я знаю… Если что со мной случится, — проговорила она, заглядывая ему в глаза, — мою полевую сумку передашь комбригу.
— Комбригу?
— Да, так надо.
— А Юрке что передать из шмуток?
— Господи, до чего же вы все, мужики, глупые…
— А яснее?
— Неужели тебе непонятно, что обо мне Батя будет помнить всю жизнь! А Юрка… Юрка быстро утешится!.. Ну как, передашь?
— Передам. Но при условии…
— Ты останешься жив, это я точно знаю!..
Борис услышал чье-то чертыхание, прерываемое стонами.
— Надо идти!
— Что это у тебя? — воскликнула Рая, заметив у него на рукаве шинели расплывшееся темное пятно.
— Так, пустяковина.
— Боря! Постой!.. Ты же ранен! Дай перевяжу!
— Потом, — сказал Борис, выбираясь из воронки…
В окопе, из которого доносились стоны, полулежал капитан Сапожнов, начальник службы ГСМ бригады. Одна нога у него была как-то странно отставлена. Преодолевая внезапно накатившую на него слабость, Борис боком съехал в окоп.
— Куда ранен? В ногу?
— Стыдно сказать — в пятку.
— Ого! В моей практике это первый случай.
— Вот именно. Будут теперь прохаживаться на мой счет.
— Это уж как пить дать, — согласился Борис, пытаясь снять с раненого сапог.
— Ой!
— Потерпеть придется.
— Давай!..
Борис вытер выступивший на лбу холодный пот. Собрав силы, он стянул с капитана сапог и приступил к перевязке. Раненый продолжал переживать:
— Скажут… показал немцам пятки… смазал пятки салом… только пятки сверкали…
— А все же как они тебя подстрелили? — полюбопытствовал, закончив перевязку, Борис.
— Вот видишь, — вздохнул Сапожнов. — Теперь всех это будет интересовать.
— Ну как, у тебя хватит терпения досидеть до конца боя? — спросил Борис.
— Хватит, — ответил тот. — Только придвинь ко мне поближе гранаты.
Борис переложил их.
— Ну, я пойду?
— Двигай.
Пока Борис занимался ранеными, обстановка изменилась. Фашистские танки, которые шли в обход, уже поворачивали — по-видимому, чтобы напасть с тыла.
Из оврага, находившегося сразу за рядами траншей и окопов, на короткое время показалась приземистая фигура зампотеха. Подполковника Рябкина поддерживали под руки два «черных пехотинца». Господи, неужели и он ранен?
Борис вылез из окопа и, зажав рукой уже сильно мозжившую рану, помчался к оврагу…
Это была скорее широкая и довольно глубокая канава, вырытая невесть для чего. По верхнему гребню обоих склонов тянулись траншеи и окопы. Бойцы могли переходить с одного склона на другой в зависимости от направления неприятельского удара. В настоящее время они держали оборону с тыла.
Здесь же, в овраге, укрылись от обстрела «санитарка» и «доджик». Около них прямо на земле лежали и сидели раненые. Борис увидел Лелеку. Тот пристроился на подножке. Левая рука у него была перевязана, и он бережно ее поддерживал. Встретившись взглядом с Борисом, капельмейстер как ни в чем не бывало состроил гримасу. Вот и пойми его!.. Раи у «санитарки» еще не было…
Борис подошел к группе офицеров, окружившей подполковника Рябкина, который, сидя на снарядном ящике, отдавал распоряжения. Он был очень бледен. На одной ноге у него топорщился разрезанный и перетянутый бинтом сапог.
— А, доктор! — сказал он, увидев Бориса. — Меня тут без вас и ранили, и перевязали… Ну что ж, товарищи, по местам.
Ему помогли встать на ноги, и он медленно, поддерживаемый не отходившими от него двумя «черными пехотинцами», начал подниматься по склону.
Борис добрался до свободного окопа. Там прижался раненым плечом к стенке и положил перед собой в нишу противотанковую гранату…
— Где он?
— Вон там!
Рая? Она съехала к нему в окоп, разгоряченная бегом и очень решительная.
— Борька, наконец-то я тебя нашла!.. Дай перевяжу!
— Ты что, не видишь? — кивнул он на приближающиеся танки и самоходки.
— А плевать! Давай руку!
Она заставила его снять шинель и принялась за перевязку.
Не удержалась от того, чтобы не отчитать его:
— А еще пятерку по хирургии имел!..
Она бинтовала, а рядом уже снова рвались снаряды.
— Рай, сойдет!..
— Еще немножко…
Они оба вздрогнули, услышав чей-то отчаянный выкрик:
— Фельдшера!.. Фельдшера сюда!
— Боря, я пойду! — сказала она и, воспользовавшись тем, что он никак не мог натянуть на раненую руку шинель, опередив его, выскочила из окопа.
Борис взял из ниши гранату. О боже, какая она тяжелая и неудобная. Ее докинуть можно, только когда танк всего в нескольких метрах…
18
А танки и не думали рисковать. Когда до оврага им осталось метров двести пятьдесят — триста, они неожиданно вытянулись в одну линию и, держась на расстоянии, начали в упор расстреливать окопы и траншеи.
Борис втянул голову в плечи и прижался горячей щекой к холодной и скользкой стенке окопа. В сплошном грохоте слились выстрелы и разрывы. Осколки с коротким свистом пролетали над затылком и вонзались где-то рядом. Как в ознобе, дрожала земля.
И вдруг какое-то неясное, но неодолимое побуждение заставило его приподняться и выглянуть наружу. Он не сразу разглядел в утренней дымке маленькую юркую фигурку, ползком пробирающуюся к танкам. Рядом поднимались разрывы, а боец все полз и полз. Кто это? На затылке белела повязка. Кто-то из выздоравливающих…
Из соседнего окопа выглянул начфин Зубрилин. На его огромной голове шишом торчала новенькая каска. Где он ее взял? Или предусмотрительно запасся перед рейдом?.. Зубрилин показал рукой вперед… И тут Борис увидел второго бойца, двинувшегося к танкам. Кто это — с такого расстояния разглядеть было трудно. Но что-то в этом человеке, в его узкой и подвижной спине, задевало и тревожило память.
Немцы тоже его заметили. Весь огонь они, казалось, перенесли на обоих смельчаков.
Когда первому бойцу до «мертвого пространства» оставался какой-нибудь десяток метров, он вдруг замер и уже больше не двигался. Было видно, как гитлеровцы послали в лежащего еще несколько длинных пулеметных очередей.
Но, может быть, он притворился мертвым, чтобы потом при первом же удобном случае швырнуть гранату? Такое тоже бывало.
Теперь все внимание было приковано ко второму бойцу. В отличие от первого он передвигался короткими перебежками. Правда, так больше риска, зато, если повезет, можно быстрее добраться до танков.
Немцы вели себя крайне нервозно — по-видимому, решили, что вслед за этими двумя двинутся и другие.
Затаив дыхание Борис следил за поединком человека с танками.
До поры до времени парню везло. Он преодолел добрую половину пути, когда его в первый раз слегка задела пуля или осколок. Во всяком случае он лишь споткнулся и чуть дольше обычного поднимался с земли. Но на этом кончилось его везение. Во время следующей перебежки он был снова ранен, упал на колени, а затем ткнулся лицом в землю.
О том, чтобы оказать медицинскую помощь первому бойцу, не могло быть и речи — он лежал рядом с танками. Да и, похоже, ему уже вряд ли что-нибудь поможет. Зато второй был жив. Борис видел, как он пытался незаметно подползти к ближайшей воронке. Вдруг раненый обернулся. Да это же Хусаинов, шофер зампотеха!..
Что же делать? Как добраться до него? В сущности, надо повторить его смертельный бросок.
В эту минуту Борис увидел в одной из траншей Раю. Наклонив голову, она торопливо закрепляла у ремня санитарную сумку — чтобы не болталась при беге.
На раздумье не оставалось времени. Значит, или он, или она… Боясь, что Рая снова опередит его, Борис быстро перевалился через бруствер…
Он пополз, превозмогая боль в плече, стараясь не думать о том, что его в любое мгновенье может разнести в клочья снаряд, прошить пулеметная очередь. Густой ядовитый дым тола стлался по земле, ел глаза, забивал горло. А кругом по-прежнему все громыхало, звенело, дрожало…
Борис оглянулся: видит ли его Рая? А то, не заметив его, поползет тоже… Кто-то отчаянно махал ему рукою: назад, назад!.. А вдруг он ошибся, неправильно понял Раин жест? Может быть, она всего лишь закрепляла санитарную сумку, чтобы удобнее было лазить по окопам?
Но даже если она не собиралась идти, назад он не повернет: все равно там, у воронки, раненый Хусаинов!
Борис решительно отвернулся и пополз дальше, загребая землю здоровой рукой.
— Доктор, назад! — долетел до него знакомый хриплый голос.
Но было уже поздно. Что-то огромное и тяжелое навалилось на голову, прижало к земле. И тотчас же наступила тишина. Борис пытался подняться, но не смог. Коротко обожгла мысль: «Неужели умираю?» Но пока в ярких и обрывочных видениях угасало сознание, тонкой нитью пульсировала надежда: «А может быть, я только ранен! И тишина эта не что иное, как конец боя?..»
А потом все исчезло…
Когда он пришел в себя, его еще окружала тишина. Затем в нее ворвались первые далекие голоса. Один был женский — как будто Раин…
— Осторожней!.. Осторожней!..
Кого-то они несут… Очевидно, кто-то еще ранен… И тут он ощутил легкое покачивание. Неужели речь шла о нем? Ну да, он же на носилках!.. Где он? Куда его несут?.. Перед ним вспыхнула узкая светлая полоска неба. Он не сразу понял, что лежит лицом вниз на щеке и видит только одним полузакрытым глазом… Когда и как кончился бой? И что с ним, куда ранен? Спросить бы у кого…
— Рая! — позвал он.
Но она почему-то не ответила, не подошла к нему.
Тогда он попробовал приподнять голову и тут же опустил ее — острая боль пронзила затылок, челюсти…
С земли повеяло сыростью и холодом. Расползался туман, зыбкий и прозрачный.
— Носилки поставьте здесь, — услыхал он снова далекий женский голос.
Санитары осторожно опустили носилки, и Борис увидел рядом с собой других раненых, сидящих и лежащих в тумане. Их было много, может быть, человек двадцать. Но среди тех, кто попал в его поле зрения, он заметил лишь две или три знакомые физиономии. Странно, где же остальные раненые — Рябкин, Фавицкий, Сапожнов, Лелеко?
— Комбриг! — донесся чей-то предупреждающий возглас.
Комбриг? Стало быть, бригада вышла из окружения и их отряд соединился с ней! Теперь понятно, отчего так много незнакомых лиц.
— Когда придут машины за ранеными?
— Если ничто их не задержит, то через полчаса, товарищ гвардии полковник! — ответил тот же женский голос.
— Не затягивайте эвакуацию. Постарайтесь отправить всех одним рейсом.
— Это невозможно.
— Постарайтесь, доктор.
— Хорошо, товарищ гвардии полковник.
Да это же Вера Ивановна! Как он ее не узнал! Одно неясно — почему эвакуацией раненых занимается она, а не начсанбриг, как обычно?..
Где Юрка? Где Рая? Не может быть, чтобы они не знали, что он тяжело ранен!
Обдирая нос и подбородок о жесткий брезент, Борис с большим трудом повернул голову. Там, у его изголовья, сидел немец с забинтованными обеими руками. Это был тот, второй дезертир, пониже ростом, молчальник, которого Борис потерял из виду. Он тоже ранен. К тому же — своими. Но сейчас он загораживал собой все на свете!.. Как сказать по-немецки, чтобы посторонился?.. Нет, начисто из головы вылетело! А, черт с ним, пускай себе обижается! И Борис произнес:
— Вег!
[24]
Немец посмотрел на него и отвел взгляд.
— Вег! — уже начал сердиться Борис.
Немец удивленно взглянул и наклонился к нему:
— Хабен зи етвас гезагт?
[25]
Борис видел перед собой его круглое небритое лицо и чувствовал, как опять погружается в тишину…
А потом, спустя какое-то время, тишина вновь отступила, и он услышал вдалеке голос — торжественный и красивый, как у дикторов московского радио:
— Они пали, отдав свои молодые прекрасные жизни за нашу победу…
Хоронят погибших? Но кого? Кого?.. С невероятными усилиями Борис согнул здоровую руку и просунул кулак под голову, подняв ее еще на несколько сантиметров. Но и по эту сторону сидели и лежали раненые. Стоял, держа на весу раненую руку, Лелеко — словно готовился взмахнуть перед невидимым оркестром дирижерской палочкой…
— Слава героям, павшим за свободу и независимость нашей великой Родины!..
Значит, братская могила там, через дорогу… Борис узнал голос говорившего. Это был начальник политотдела подполковник Бурженков.
— Мы никогда не забудем ваши имена…
И стал называть погибших… Смертью храбрых пали подполковник Рябкин, младший лейтенант Степанов, капитан Осадчий, Фавицкий, Хусаинов, Филипп Иванович, экипажи обоих танков… Где-то в середине этого скорбного списка шел Юрка. И последней, как прикомандированную к части, упомянули Раю…
Борис лежал пластом на носилках и тихо, почти беззвучно плакал.
Вскоре его погрузили в «санитарку» и отправили в госпиталь. И он уже не слышал, как гудели танковыми двигателями и гремели гусеницами дороги западнее Лауцена.
Это выходило в тыл гитлеровским войскам соседнее механизированное соединение.
А воздух вокруг дрожал от рева десятков «ильюшиных», волнами заходивших на штурмовку танков и пехоты противника.
Наступление продолжалось.
БЫЛА У СОЛДАТА ТАЙНА
1
— Морев, танцуй! Тебе письмо!
— От кого?
— От какой-то Евгении!
Морев, даже не взглянув на письмо, которое держал в поднятой руке дежурный по заставе старший сержант Бирюков, направился к выходу.
— Ты что, не слышал? Тебе письмо!
— Потом! — Морев махнул рукой и вышел.
Старший сержант Бирюков озадаченно повертел в руках письмо, которое не хотели брать, пожал плечами. Морев есть Морев! Солдаты томятся в ожидании писем, подсчитывают дни, загадывают, когда будет ответ, а этот чудак нос воротит. Даже если он спешил к машине, все равно взять письмо — дело секунды. Видно, причина в чем-то другом.
Но особенно раздумывать о странном поведении рядового Морева Бирюкову было некогда: у дежурного и без того хлопот полон рот. Вот и сейчас, только присел, как из канцелярии раздался зычный голос начальника заставы старшего лейтенанта Ревякина:
— Дежурный!
— Посиди за меня! — сказал Бирюков младшему сержанту Дубовцову, проходившему по коридору.
— Передайте прапорщику, что он остается за меня, — приказал старший лейтенант. — Я поехал в госпиталь!
— Есть передать прапорщику, что он остается за вас, — четко повторил Бирюков. — Разрешите идти?
— Идите!
Старший лейтенант взглянул на часы. Полдесятого. И тут он вспомнил, что они с Андрюшкой еще не завтракали. Такого обилия обязанностей у него никогда не было. Один в трех лицах. Приходится работать не только за себя, но и за своих обоих замов. Первый из них, заместитель по политической части старший лейтенант Пекарский, уехал вчера в Красноярск хоронить отца. Заместителя же по боевой подготовке лейтенанта Хлызова три дня назад с почечной коликой отвезли в гарнизонный госпиталь. Так что успевай только поворачиваться: при любых обстоятельствах застава должна быть на уровне задач, поставленных командованием. Хорошо еще, что прапорщик Трофимов вернулся на днях из отпуска.
— Но сперва — позавтракать! — бросил старший лейтенант старшему сержанту Бирюкову, проходя мимо дежурки.
Неожиданно что-то стряслось с замком дверцы, и надо было срочно наладить: через двадцать минут выезжать. А тут еще под руку лез пятилетний Андрюшка, сын начальника заставы.
— Морев, дай отвертку!
— Погоди, самому нужна.
— А другую?
— Другую некогда искать!
— Все тебе некогда, некогда!
— Потерпи немножко, сейчас дам.
— А ты в ту сторону крутишь?
— В обратную.
— А в обратную винтик выпадет!
— Знаешь, а спрашиваешь.
— Эх, Морев, Морев, — вздохнул Андрюшка.
Точно так же вздыхал старший лейтенант Ревякин, когда Морев допускал какую-нибудь оплошность. И в остальном Андрюшка попугайничал, подражал отцу. Даже солдат звал исключительно по фамилиям. Кстати, все свое свободное от сна и еды время Андрюшка проводил в гараже, где около машин возились их водители — Морев и Бакуринский. Он уже знал многие инструменты, мог принести, подать, унести. На удивление родителям, помнил основные технические данные «уазика» и понемногу подбирался к другим маркам.
— Дай-ка лучше плоскогубцы! — обратился Морев к мальчику.
Тот быстро нашел их среди инструментов и подал шоферу.
В гараж зашел старший лейтенант Ревякин. Увидев сына, иронически спросил водителей:
— Смену себе готовите? Ну, ну, готовьте!
— Это все Морев! — кивнул на приятеля Бакуринский. — Домой торопится!
— Не больше твоего, — огрызнулся Морев.
— Да, бежит время, — сказал старший лейтенант.
— Смотря у кого, — многозначительно произнес Бакуринский.
— Что смотря у кого? — отозвался Ревякин.
— Время бежит. Вам-то еще трубить да трубить!
— Да, ловко поддел меня, — усмехнулся старший лейтенант. — Андрей, пошли! А то они тебя тут научат.
— Не научат, — решительно возразил мальчик. — Можно, я еще немножко?
— А завтракать кто за тебя будет? Артист Пуговкин?
— Угу! — включился в игру Андрюшка.
— Так он в кино снимается, ему некогда!
Хочешь не хочешь, а надо подчиняться.
— Морев, я быстро! — сказал Андрюшка.
— Ты больно не торопись, а то не поймешь, чего ешь, — напутствовал мальчика Морев.
— Ладно! — обещал тот.
Старший лейтенант с Андрюшкой ушли. Некоторое время водители работали молча. И вдруг Бакуринский спросил приятеля:
— Что, опять послание получил?
— Опять, — удрученно сказал Морев.
— Что пишет?
— Не знаю, не читал еще.
— Может, чего новое?
— Навряд.
— Думаешь, еще не дошло твое?
— До нас письма долго ходят.
— Постой! Ведь уже полтора месяца
прошло! Даже до Камчатки письма идут не больше недели! — недоумевал Бакуринский. — А с другой стороны, пишет — значит, не получила. Непонятно!
— Поди затерялось где? — предположил Морев.
— Слушай, а вдруг это ее последнее письмо — ответ на то?
— Гадать-то чего? Вернусь, почитаю.
— Ну и терпение у тебя!
— Было бы куда торопиться…
— Тоже верно, — согласился Бакуринский. Потом глубокомысленно изрек: — Только помни: женщины любят, чтобы за ними последнее слово было.
Вернулся старший лейтенант один, без Андрюшки. В руке у него тяжело отвисал кожаный портфель с гостинцами для больного лейтенанта Хлызова.
— Наладил? — спросил у Морева.
— Так точно! — бодро ответил тот и в подтверждение хлопнул дверцей.
— Тогда поехали.
Через минуту маленький и верткий «уазик» уже накручивал на спидометр километры.
Сперва ехали молча. Но дорога дальняя — двадцать километров, — и старший лейтенант, чтобы не терять зря времени, принялся воспитывать Морева:
— Почистил бы бензином куртку.
— Да я чистил, товарищ старший лейтенант.
— Чем? Сапожной ваксой?
— Мыльной пеной.
— Что-то не видно.
— Въелось, — смущенно объяснил Морев. — Такая работа.
Что ж, отчасти он прав: попробуй выглядеть как огурчик, если целые дни в машине или под ней. Не переодеваться же каждый раз! И все же старший лейтенант не собирался идти на поводу у шофера, спросил:
— Не надоело выслушивать замечания?
— Даже не знаю, что вам ответить…
— А просто: пропускаю, мол, мимо ушей.
— Скажете такое…
Впереди показалась развилка. Синели обметанные хлопьями снега стрелки указателей.
— Заедем? — спросил Морев.
— Да! — резко ответил старший лейтенант.
«Уазик» с ходу свернул на дорогу, идущую влево. Там, в трех километрах отсюда, находился один из въездов в погранзону. У шлагбаума постоянно дежурил наряд. Участок считался ответственным, потому по обе стороны от дороги тянулась контрольно-следовая полоса и действовали сигнализационные устройства, предупреждавшие о появлении нарушителя границы.
Вскоре из-за поворота выскочили кирпичная будка и черно-белые полосы шлагбаума. Лавируя между сугробами, нанесенными за ночь, «уазик» подрулил к самому навесу. Старший наряда подбежал к машине.
— Ну как, порядок? — спросил, вылезая из кабины, старший лейтенант.
— Так точно! — вытянулся пограничник — ладный крепыш с насмешливыми живыми глазами. И доложил по форме: — На участке никаких происшествий не произошло. Докладывает старший наряда ефрейтор Игнатов.
— Вольно!
Младший наряда рядовой Синицын — высокий краснощекий парень — стоял чуть позади и украдкой что-то дожевывал.
Но от старшего лейтенанта невозможно было утаить даже эту малость.
— Эх, Синицын, Синицын, — добродушно проговорил он. — Когда ни посмотрю на тебя, все жуешь да жуешь!
Синицын поперхнулся и закашлялся.
— Вот видишь, — сказал старший лейтенант, — до чего доводит неурочный прием пищи!
— Это ржаные сухарики, — пришел на выручку товарищу Игнатов.
— Сухою бы я корочкой питался, — насмешливо произнес Ревякин. — Как там дальше, Игнатов?
— Водою ключевою запивал…
— Бедненький, бедненький, скоро совсем ноги с голоду протянет, — покосился на пышущего здоровьем Синицына старший лейтенант.
— Это я от нечего делать, товарищ старший лейтенант, — наконец проговорил тот.
— Ну-ну, на посту и нечего делать! — заметил Ревякин. И вдруг его взгляд остановился на снежных заносах у окон и крыльца будки. — Игнатов!
— Слушаю, товарищ старший лейтенант!
— Чтобы к концу смены было как летом!
— Есть чтобы было как летом!
Старший лейтенант и Игнатов зашли в будку. От железной печки несло теплом. Равномерно пощелкивали приборы сигнализации.
— Сколько прошло машин?
— Пятнадцать, товарищ старший лейтенант. Тринадцать грузовиков. Два автобуса с туристами.
— С документами у них порядок?
— Все в ажуре!
— Ну хорошо… Да, как со стенгазетой? — Перед отъездом замполит попросил Ревякина поторопить Игнатова, недавно выбранного редактором, с выпуском стенной газеты.
Ефрейтор смутился.
— Смотри, до праздников осталось всего пять дней!
— Успеем, товарищ старший лейтенант! — заверил Игнатов. — Уже заметки все собраны.
— Шестого чтоб висела!
— Есть чтоб шестого висела!
У порога старший лейтенант обернулся:
— Я сейчас к лейтенанту Хлызову. Что передать?
— Пусть быстрей поправляется.
— Хорошо, передам.
Старший лейтенант тихо вздохнул. Отношения между лейтенантом Хлызовым и Игнатовым были натянутыми. Как-то еще на первом месяце службы Игнатов совершил серьезный проступок. Помимо основной сигнализации — от нарушителей границы, им была разработана и освоена своя собственная система предупреждения — от начальства. Он натянул между деревьями проволоку и подвесил к ней пустые консервные банки. Стоило кому-либо задеть ее, как весь этот утиль начинал отчаянно греметь, предупреждая наряд о приближении проверяющих. Первым обнаружил эту хитрость лейтенант Хлызов. В тот же вечер была выстроена вся застава. Старший лейтенант Ревякин спросил, кто это сделал. Игнатов сразу вышел вперед и во всем признался. Начальник заставы даже не наказал его. Просто предупредил. С тех пор Игнатов нес службу честно и ничего такого больше себе не позволял. Один лейтенант Хлызов продолжал относиться к нему с недоверием, словно ожидал от него и впредь каких-нибудь каверз…
Когда Ревякин и Игнатов вышли из будки, оба одновременно зажмурили глаза: до того слепил свежий снег, белый-белый, без единой пылинки.
Высунувшись из кабины, Морев подшучивал над Синицыным:
— Сходил бы, посмотрел, а то опять несколько метров КСП украдут!
Это была извечная шутка над новичками. Только придут молодые ребята с гражданки, как им тут же начинают вкручивать.
Синицын, служивший на заставе чуть больше двух недель, конечно, уже знал, что такое контрольно-следовая полоса, и бойко отшучивался:
— А ее тут до конца службы хватит!
— Что, подсчитал уже? — но в этот момент Морев увидел старшего лейтенанта и передвинулся на свое место.
— А ты лучше гляди, чтобы у тебя колеса не отвалились! — крикнул шоферу Синицын.
Старший лейтенант втиснулся в кабину, и «уазик», ловко развернувшись у самого шлагбаума, запрыгал на неровной снежной колее…
— В госпиталь или на второй? — спросил Морев.
— На второй!
Оба КПП — и первый, и второй — в сущности, находились по пути в госпиталь. Каких-нибудь несколько километров в сторону для быстроходного «уазика» почти ничего не значат. К тому же задерживаться они там не собираются. Старшему лейтенанту достаточно одного взгляда, чтобы понять, как наряд несет службу.
— Ну что, Морев, как жить дальше будем? — неожиданно спросил Ревякин.
— Это в каком смысле, товарищ старший лейтенант? — Морев был явно озадачен.
— В самом прямом. После увольнения из рядов.
— Куда-нибудь определюсь, — облегченно вздохнув, ответил Морев.
— В шофера, что ли?
— Не знаю. Раньше в таксисты хотел податься, а теперь чего-то не тянет.
— Но все равно шоферить пойдешь?
— Не знаю. Все думаю, думаю…
— Значит, учиться?
— Навряд, — смутился Морев.
— Ты что, и учиться не хочешь?
— С памятью у меня, товарищ старший лейтенант, что-то делается. Прочту книгу, а через месяц уже не помню, что читал. А учиться, сами знаете, память нужна. В детстве я все время головой падал. Может быть, от этого?
— Так это не от головы, от книги зависит! — весело сказал старший лейтенант. — От книги!
А сам подумал: с парнем что-то неладное творится. Неужели растерялся перед будущим? Сомнительно. Обычно все ждут не дождутся демобилизации и не задумываются о трудностях. Радуются предстоящей встрече с родными, друзьями, любимыми. Здесь же явно что-то не то…
— А насчет книги, — продолжал старший лейтенант, — мы с Ларисой Емельяновной подберем тебе такую, что раз прочтешь — и никогда не забудешь.
— Какую? — оживился Морев.
— Хотя бы «Пряслины» Федора Абрамова.
— Я быстро прочитаю.
— Ну-ну…
За разговорами не заметили, как доехали до второго КПП. Здешний наряд, в отличие от игнатовского, не прохаживался взад-вперед вдоль шлагбаума. Ребята лихо орудовали лопатами, счищая снег с дорожек и подъездных путей. Но старший лейтенант Ревякин, вместо того чтобы порадоваться такому рвению, лишь рассердился. Он все понял. Впрочем, в подобной взаимовыручке ничего не было предосудительного. Только не очень приятно, когда тебя пусть даже в каких-то мелочах пытаются обвести вокруг пальца.
— Раньше надо было, умники! — сразу огорошил солдат Ревякин. — До звонка Игнатова.
Те смущенно переглянулись: что на это ответишь? Именно все так и было.
Старший наряда сержант Сухов, передав свою лопату товарищу, доложил начальнику заставы, что на участке происшествий не было.
— Если не считать… — неожиданно добавил он.
Старший лейтенант вздернул подбородок.
— …маленького инцидента…
Ох уж этот Сухов, или, как его называли солдаты, Незаконченное Высшее! Не может без эффектных концовок! Не от них ли все его беды? Сухов попал в армию после того, как был с треском отчислен со второго курса политехнического: запутался в многочисленных «хвостах». Но форс остался, потому и звали его так — Незаконченное Высшее.
— По просьбе пассажиров, — пояснил он, — высадили из маршрутного автобуса одного бухарика.
— Кого? — поморщился старший лейтенант.
— Бухарика. Приставал ко всем, матюгался.
— Документы у него в порядке?
— Так точно!
— Где он?
— В задержке. Я звонил в милицию, обещали забрать. Только не едут что-то, — по дороге в будку докладывал Сухов.
Комната для задержанных находилась как раз напротив входа, за окованной дверью. Это было узкое помещение с зарешеченным окном и тусклой лампочкой у самого потолка.
Задержанный сидел прямо на полу, рядом с опрокинутой табуреткой. Он поднял на старшего лейтенанта осоловелые глаза и заплетающимся языком произнес:
— З-д-дравия ж-ж-желаю, товарищ генерал!
— Пить меньше надо! — только и сказал старший лейтенант.
— Слушаюсь и повинуюсь!
Это был старый знакомец Ревякина — рабочий местной мебельной фабрики Огурцов, известный дебошир и пьяница. В сущности, его давно следовало лишить права проживания в погранзоне, тем более что он жил сейчас один: уже три года, как от него ушла и куда-то уехала с детьми жена. Но все упиралось в нехватку рабочих рук. Да и мастер он был, судя по отзывам, отменный.
Узнав Огурцова, старший лейтенант мгновенно потерял к нему интерес. Пограничникам всегда приходится быть начеку: нарушители нередко прибегают к самым неожиданным ухищрениям. И пьяными притворяются, и ненормальными, и кем угодно, лишь бы выкрутиться при задержании.
— Давно звонил в милицию? — спросил старший лейтенант Сухова.
— Да часа полтора будет.
Дверь в комнату для задержанных снова заперли на задвижку. Прошли к телефону. Старший лейтенант взял трубку, попросил соединить с милицией.
— Сазонов? Говорит Ревякин. Послушай, ты думаешь, у нас своей работы нет? Только и дела, что возиться с твоими подопечными? Вот именно, насчет Огурцова… Всегда у вас что-нибудь летит — то мост, то шатун, то еще что-то! — и хмыкнул, передразнивая: — «Выручай!» Могу предложить свой вариант. Пусть он тут полежит, очухается. А потом, протрезвевши, добирается до тебя своим ходом… Свернет в сторону, чтобы снова зарядиться? Ну, это уж твоя забота. Где праздники встречаю? На заставе, где же еще. Привет!
И спросил Сухова:
— Слышал?
— Так точно!
— К концу смены, когда окончательно протрезвеет, посадишь на какую-нибудь попутную машину!
— Есть посадить на попутную машину!
— Если сейчас отправить, еще замерзнет где-нибудь.
— Все же хомо сапиенс! — не удержался от демонстрации своих знаний Незаконченное Высшее.
— Ну-ну, — хмыкнул старший лейтенант…
Младший наряда рядовой Глазков продолжал воевать с сугробами возле будки. Его круглое деревенское лицо пылало ярким румянцем. Он, как и Синицын, прибыл на заставу недавно, после недолгого пребывания в учебном пункте. Вот кто не любил сачковать. Всегда чем-нибудь был занят. Одних дров на зиму переколол, наверно, кубометров двадцать. Посмотрел, как другие колют, молча взял топор и пошел с одного раза тюкать громадные поленья.
Сам родом из глухой тамбовской деревни, Ревякин любил вот таких безотказных деревенских парней. На них всегда можно было положиться.
Но внешне старший лейтенант не очень-то выказывал свое расположение к Глазкову. Знал: как только начнешь выделять любимчиков, добра не жди — коллектив изнутри разъест ржавчина. Поэтому и относился к Глазкову, как ко всем. Вот и сейчас, вместо того чтобы открыто похвалить за усердие, бросил насмешливо:
— Оставил бы хоть немного на развод!
— Еще около столбов пройтись надо, — ответил тот, вытирая со лба пот.
— Ну давай, пройдись! — сказал старший лейтенант. — Морев, поехали!
У того машина, как хороший конь, натянувший удила: не успел Ревякин опуститься на сиденье, как она уже понеслась…
Замелькали первые домики поселка. По тротуару шагали три статных молодцеватых солдата. Старший лейтенант невольно обернулся: сверкали надраенные пряжки, блестели лихо начищенные сапоги. Шли неторопливо, но все же по привычке — в ногу. С трудом оторвал взгляд — до того приятно смотреть на них.
Здесь в поселке была расположена воинская часть, «Советская Армия», как полушутя-полусерьезно называли пограничники пехотинцев, артиллеристов, танкистов и представителей других родов войск. Себя же они именовали чекистами. У них свое ведомство, свой хозяин, если можно так выразиться. И этим они немного форсили.
Но эту троицу словно перенесли с обложки иллюстрированного журнала. Ее хоть сейчас можно в почетный караул, встречающий на Внуковском аэродроме именитых гостей из-за рубежа. Не заводя в казарму. С помощью этакой волшебной палочки!
Впереди огромное объявление: «Новый художественный фильм «Мужчины в ее жизни». До и после танцы!» Стало быть, три солдата, получив увольнительные, топали на танцы. Наверно, интересовали их и «мужчины в ее жизни». Но еще больше — простые поселковые девчата. И в этом Ревякин не видел ничего плохого — ни для девчонок, ни для солдат.
Недавно он поспорил с начальником соседней заставы Луковым. Правда, тот был уже майор, и немолод, но должности у них были одинаковые, и поэтому разговор шел на равных. Так вот, майор считал, что солдат-пограничник должен выбросить из головы до конца службы всякие танцульки и свидания. Враг, мол, хитер и ищет всевозможные лазейки. По поводу вражеских козней Ревякин не стал спорить: чего только не бывает на границе! Но насчет танцулек и свиданий высказал свое мнение. Прежде всего не без подковырки напомнил майору, что тот, наверно, когда был моложе, вряд ли отказывался от встреч со своей Анной Ивановной только потому, что где-то не дремал враг. Да скинь им обоим с милейшей Анной Ивановной этак годков десять — пятнадцать, они с таким удовольствием покружились бы в вальсе или каком-нибудь другом тогдашнем танце, что их клещами бы не оторвать друг от друга. И ведь это нисколько не мешало честному несению службы! Наоборот, еще больше дорожил солдат увольнительной, знал: чуть что не так, и не видать ему ее в следующий раз как своих ушей. Конечно, два года срок небольшой, можно потерпеть и без танцулек. Но — зачем? Чтобы избегать контактов с местным населением? Так ведь требовалось совсем обратное: крепить связь с местными жителями, сколько нарушителей границы задержано с их помощью! А потом, если молодому человеку доверили службу в погранвойсках, то надо уж доверять ему до конца. Привел старший лейтенант еще один аргумент. Солдаты, которые встречались с девушками, всегда были подтянуты, аккуратны, у них уж не увидишь ни грязного подворотничка, ни кое-как почищенных сапог. А вот те, кто отсиживался в казарме, откладывал лирику на потом, и внешностью своей интересовались лишь постольку поскольку. Лишний раз ленились простирнуть носовой платок или портянки.
Взять хотя бы того же Морева. За полтора года он ни разу не ходил в увольнительную. Кроме «уазика», его ничего не интересовало. Теперь вот нового дружка завел — Андрюшку! А под ногтями чернозем развел, хоть репу сажай! А была бы у него девушка…
Но майора этими рассуждениями не прошибешь. У него своя позиция, тоже четкая, — как бы чего не вышло!
«Уазик» втиснулся между двумя «санитарками», стоявшими у входа в гарнизонный госпиталь. Ревякин взял с заднего сиденья свой тяжелый портфель, выбрался из тесной кабины на тротуар.
— Товарищ старший лейтенант, можно мне с вами? — спросил Морев.
— Нельзя!
— Я попрошу вахтера присмотреть!
— Разве в этом дело?
— А в чем, товарищ старший лейтенант?
— Я боюсь, что по внешнему виду отдельных лиц будут судить о заставе в целом!
Морев вспыхнул румянцем.
— А у лейтенанта Хлызова, — продолжал Ревякин, — усилятся колики!
— Мне-то что? — обиженно проговорил Морев. — Я только проведать хотел…
— Поэтому и должен был привести себя в надлежащий вид!
Морев покосился на запачканный рукав куртки.
— Вот-вот, — сказал старший лейтенант и шагнул к тяжелой резной двери госпиталя…
Морев думал, что придется ждать час или два, а оказалось, старший лейтенант уложился за двадцать пять минут. Да и Хлызов, наверно, не держал его, понимал, как тот замотался.
Опустевший портфель плюхнулся на заднее сиденье.
Тронув машину, Морев спросил:
— Товарищ старший лейтенант, ну как там товарищ лейтенант?
— Порядок! Пошел на поправку!
— А отчего такая болезнь бывает?
— Спроси что-нибудь полегче.
— Я подумал: может, от ушиба?
— Какого ушиба?
— Когда брали последнего нарушителя, ребята рассказывали, лейтенант спиной ударился о камни.
— Все может быть.
— Ну и здоровый же был, паразит! — вспомнил нарушителя Морев.
— А разве с тревожной группой был ты, а не Бакуринский?
— Я, — смущенно ответил водитель.
Ревякин в то время был в отпуске и поэтому не знал всех подробностей. Нарушитель около двух лет готовился к переходу границы: устроился на работу в геологическую партию, учился разбираться и ориентироваться на местности, где-то достал и вызубрил карту. Он рассчитывал перехитрить пограничников. Почти все время шел глухим лесом, держался подальше от населенных пунктов, старался не оставлять никаких следов. И все же его взяли. В годы войны, как это потом стало известно, он был фашистским прихвостнем, участвовал в массовых расстрелах советских людей. Два года назад состоялся суд над его дружками. Всех их приговорили к смертной казни. Он чувствовал, что не сегодня-завтра схватят и его, и поэтому торопился уйти за границу…
— Заедем?
— Как прикажете!
— Давай!
За полтора года они столько вместе поездили по этим дорогам, находящимся под контролем и наблюдением пограничных нарядов, что уже не придавали значения, кто первый спросит: «Заглянем?», «Свернем?» или «Заедем?». На этот раз сказал старший лейтенант.
«Уазик» покатил, подпрыгивая на колдобинах, под гору. Отсюда в четырех километрах находилась железнодорожная станция, на которой наряды, сопровождавшие поезда до границы и обратно, пересаживались из одного состава в другой. До отправления следующей электрички оставалось шесть минут.
— Прибавь газу!
— Успеем, товарищ старший лейтенант.
Ревякин промолчал: еще не было случая, чтобы по вине Морева они когда-нибудь опоздали. Его чувство времени порой казалось фантастическим. Не глядя на часы, на улицу, он мог с точностью до одной-двух минут сказать, сколько сейчас. Ему не надо было даже прикидывать в уме. Так что, если он говорил: «Успеем!» — можно было не сомневаться: «уазик» придет на станцию секунда в секунду. Во всяком случае, не позже…
Спидометр щелкал километры, как орехи. И вот из-за поворота выскочила станция. Вдалеке алым пятнышком мелькнула электричка. В запасе было добрых полминуты.
«Уазик» подскочил к путям и уперся в турникет у крохотного вокзала. С платформы, на которой стояли несколько пограничников и гражданских, сбежал большеротый, большеглазый солдатик.
Лихо козырнул, доложил:
— Товарищ старший лейтенант, на участке от Лихачей до Стукалова задержан неизвестный. Пытался соскочить с поезда. Документов не оказалось. Докладывает старший наряда сержант Ясеньков.
— Где задержанный?
— В милицейской комнате. С ним рядовой Спиваков.
— На заставу сообщили?
— Так точно! Обещали прислать машину.
— Можете отправляться с поездом. Спиваков поедет с нами.
— Есть отправляться с поездом! — опять лихо козырнул Ясеньков и побежал к платформе, к которой уже подходил состав.
— Ну что ж, пойдем поглядим на нарушителя, — сказал старший лейтенант…
Нарушитель сидел за дощатым барьером, за которым обычно сиживали пьяницы и дебоширы. У него была обычная, ничем не примечательная внешность. В первую минуту старший лейтенант подумал: встретишь этого парня через полчаса на улице, и уже начнешь сомневаться, он или не он.
По эту сторону барьера у окна с автоматом в руках стоял рядовой Спиваков — огненно-рыжий малый с небесно-голубыми глазами. Увидев начальника заставы, он вытянулся и шагнул навстречу:
— Товарищ старший лейтенант…
— Этот? — перебил Ревякин.
— Так точно!
Затем старший лейтенант подошел к столу и пожал руку младшему сержанту милиции Осипенко, бывшему пограничнику, женившемуся на местной девушке.
— Привет!
— Здравия желаю!
— Я позвоню?
— Пожалуйста! — Осипенко придвинул телефон.
— Заставу!.. Бирюков, Бакуринский выехал? Выезжает? Так пусть не выезжает. Я сам привезу нарушителя!
Положил трубку, весело сказал Осипенко:
— Занятно получается: ваши сидят у нас, а наши — у вас!
— Свои люди — сочтемся.
— Тоже верно, — и, вернувшись к барьеру, старший лейтенант обратился к задержанному: — Ну, так как же все было?
— А что? Ничего особенного! — вдруг оживился тот. — Забыл документы. Со всяким может быть!
— Со всяким-то со всяким, — усмехнулся старший лейтенант. — Только не всякий будет сигать с поезда при виде пограничного наряда.
— А я не сигал!
— Не успел?
— Испугался, честное слово, испугался! — парень смотрел старшему лейтенанту прямо в глаза. — Сел в поезд, вижу: нет документов. Не возвращаться же? Думал: пронесет. А тут они, — кивнул он на Спивакова. — Кому охота платить штраф?
— Разумеется, лучше попасть под поезд, — иронически заметил старший лейтенант.
— Так он только тронулся!..
— А почему решили, что штраф? — быстро спросил старший лейтенант.
— Люди говорят. А что? — забеспокоился нарушитель, который, по-видимому, почувствовал, что сказал что-то лишнее.
— Откуда и куда едете?
— Из Большеграда. — Это был крупный приморский город, находившийся в нескольких десятках километров от границы. — К приятелю. Он живет в Стукалове.
— Адрес?
— Чей? Мой?
— Приятеля!
— Советская, пять.
— Фамилия?
— Откуда мне знать? Мы с ним на рыбалке на заливе всего два раза виделись. Говорит: приезжай, порыбачим в наших озерах. Такие, говорит, щуки водятся! Или нет?
— Щук хватает, — и, помедлив, старший лейтенант насмешливо добавил: — Но и рыбаков тоже!
— Может быть, зря ехал? — обеспокоенно спросил задержанный.
— А это вы скоро узнаете! — сказал Ревякин и обратился к Спивакову: — Произвели обыск?
— Так точно!
— Что нашли?
— Ничего такого… Сигареты, спички, перочинный ножик, двенадцать рублей трешками, мелочь, билет на поезд в одну сторону, — и, кивнув головой на рыбацкий «баян» и коловорот, стоявшие в углу: — И вон снаряжение!
— Осмотрели?
— Так точно! Полный комплект! — и вдруг, как бы припомнив, сообщил: — А на ремешке часов у него компас.
Задержанный ожег солдата сердитым взглядом, и старший лейтенант отметил это про себя. Маленький ли компас, большой — какая разница, так же хорошо показывает запад. Только вот такими крохотными штучками фасонят многие, и вряд ли можно серьезно говорить о них как об улике.
Главное сейчас — установить, кто он, этот невзрачный парень, сидящий за дощатым барьером. Может быть, обыкновенный растяпа, по легкомыслию оказавшийся в пограничной зоне без документов. А может быть, и в самом деле собирался перейти границу? В зависимости от этого придется решать, что делать с ним: отправить ли домой, послав вдогонку протокол о нарушении правил пограничного режима, или передать дальше. Сосед, майор Луков, в подобных случаях не особенно ломает голову. Он считает: дело пограничников задержать, а разбираются пусть другие. Это понятно, когда речь идет о явных нарушителях границы. А если это один из тех наших дорогих соотечественников, которые во всем полагаются на авось: «Авось не задержат!», «Авось пронесет!», «Авось отболтаюсь!» Что, их тоже передавать дальше?
Но с другой стороны, ох как нелегко порой разгадать, кто настоящий нарушитель, а кто липовый. Конечно, помогают интуиция, опыт да и просто здравый смысл, основанные на знании пограничной службы. Однако и они иногда подводят.
Взять хотя бы этого парня. Многое против него: и то, что испугался и хотел спрыгнуть с поезда, и то, что сболтнул про штраф, — значит, хорошо знал, что полагается за нарушение правил пограничного режима, и то, что неплохо придумал (если придумал) историю с рыбалкой, и то, что билет взял в одну сторону. И даже компас при такой версии может стать вещественным доказательством!
Но, возможно, было и так, как он рассказал. И шапочное знакомство на рыбалке, и то, что впопыхах забыл документы, и то, что пытался улизнуть от пограничников… А билет в одну сторону?.. Не исключено, что он решил погостить здесь не день, не два, а больше.
Выход оставался один: ехать в Стукалово, благо оно недалеко, всего километров шесть.
— Ну что ж, поедем! — не спуская взгляда с задержанного, сказал старший лейтенант.
— Куда? — вздрогнул тот.
— А тут… В одно местечко! Спиваков! Выводите задержанного!
И опять «уазик» петлял по заснеженной колее проселочной дороги. Задержанному было невдомек, куда его везут, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Вздыхал, вертелся. Наконец не выдержал и обратился к сидевшему рядом Спивакову:
— Служба! Вернул бы хоть сигареты: курить зверски охота!
— Нельзя!
— А что я ими взорву вас, что ли?
— Не положено!
— Да, порядочки! — с осуждением произнес задержанный. — Это только в кино, видно, арестованным предлагают закурить. Смотрел «Следствие ведут знатоки»?
— Были бы свои — дал, а те нельзя! — ответил Спиваков и смущенно пояснил: — Некурящий я.
— Чего там? — обернулся старший лейтенант.
— Просит закурить!
— Морев, дай ему папиросу!
Морев достал из кармана и подал помятую пачку «Беломора».
— Вот спасибо! — обрадовался задержанный. Дрожащими пальцами вытянул папиросу, закурил. — И еще на одну разорю?
Морев взял пачку и положил в ящичек.
— И верно говорят: повсюду хорошие люди есть, — сказал задержанный, с наслаждением втягивая в себя дым.
— Есть немножко, — ответил старший лейтенант. — Но и плохие тоже водятся.
— А я понимаю, почему не отдаете мои сигареты. А вдруг там шифр какой засунут или ампула с ядом. Разгрызу — и все! Минус в работе!
— Да, грамотные теперь пошли нарушители, — бросил назад Ревякин.
— Ребята, ей-богу, отпустили бы? — неожиданно проканючил задержанный. — Ну какой я шпион?
— А это мы проверим! — сказал старший лейтенант.
— Думаете, наверно, что подослали разведать чего или взорвать?
— Бывает и это.
— Зря вы на меня… — произнес задержанный и уже помалкивал до самого Стукалова. Лишь изредка вздыхал и бормотал себе под нос.
Советская, пять оказался большим пятиэтажным кирпичным домом, с продовольственным магазином и пунктом приема порожней посуды.
— Квартира какая? — еще в машине спросил парня старший лейтенант.
— А он не сказал. Говорит: Советская, пять, и все!
— Какой он хоть из себя?
— Здоровый такой. С вас ростом. Только поширше в плечах.
— Молодой, старый?
— Да лет сорок — сорок пять.
— Брюнет, блондин?
— Вроде бы светлый…
— В лице ничего такого не запомнили? Ну, родимые пятна, бородавки, форма бровей, глаз, какие-нибудь шрамы?
— Взглянуть разок — я бы его сразу узнал. А так разве упомнишь?
— Ну хоть с бородой или бритый?
— Вот это помню — бритый! Складки глубокие у рта!
— Пошли!.. Спиваков, сопровождайте задержанного!
Они вышли из машины и двинулись вдоль витрины, заставленной горками консервов. Дом был обычный, типовой, и все подъезды выходили во двор. То там, то здесь возвышались штабеля ящиков, присыпанные свежим снежком.
Из крайнего подъезда, служившего, по-видимому, черным ходом в магазин, вышла полная немолодая женщина в белом халате. Увидев пограничников и робко шагавшего между ними человека в не очень опрятной гражданской одежде, удивленно уставилась на них.
— Можно вас на минутку? — крикнул ей Ревякин.
Она терпеливо подождала, пока они подойдут.
— Вот товарищ с поезда, — старший лейтенант кивнул на задержанного, — ищет приятеля, договорились идти на рыбалку, а квартиру не помнит. Вы не подскажете самых заядлых рыболовов этого дома?
— Ой, миленькие, не знаю, — заквохтала она. — Я сама из Вахрушей. Я здесь только работаю. Вот тут, в приемном пункте находится мужчина — он, кажись, со второго подъезда!
Поблагодарив женщину, Ревякин первым спустился в подвал. Окошечко было закрыто. Старший лейтенант постучал косточками пальцев:
— Есть кто здесь живой?
Из-за перегородки отозвался хриплый голос:
— Не видите — обеденный перерыв?
— Откуда же нам видно, через перегородку? — сказал старший лейтенант и властным голосом приказал: — Откройте. Пограничный наряд!
По ту сторону на какое-то время воцарилась тишина. Затем послышались осторожные шаги.
— Сейчас!
Окошечко слегка приоткрылось, и приемщик, убедившись, что его не обманывают, пошел открывать дверь.
— Проходите!
Старший лейтенант шагнул в узенький проход, образованный ящиками с пустыми винными и молочными бутылками. В подвале стоял полумрак.
— Вот сюда! — Приемщик провел Ревякина в свою конторку, освещенную большой настольной лампой без абажура. — Здесь посветлее.
Приемщик был не один. За столом сидел высокий широкоплечий мужчина с гладко выбритым лицом. Бросились в глаза глубокие складки у рта. «Он!» — подумал Ревякин.
Приятели приканчивали уже третью бутылку пива, закусывая вяленой рыбешкой.
«Внимание!» — мысленно сказал себе Ревякин.
И вот из-за ящиков показался задержанный, сопровождаемый Спиваковым.
Лицо у бритого вытянулось:
— Ты как здесь?
— Да вот в гости приехал!
— Стоп! — приказал обоим старший лейтенант. — Теперь спрашивать буду я. Спиваков, выйди-ка со своим приятелем погулять!
Те послушно скрылись в ящичном лабиринте.
— А вы останьтесь! — бросил Ревякин замешкавшемуся приемщику: немаловажно, как тот будет реагировать на ответы бритого. Небольшая дополнительная проверка.
— Чего он натворил? — спросил бритый.
— Ничего страшного: забыл дома документы, — ответил старший лейтенант. — Но мы люди недоверчивые, необходимо кое-что проверить.
— Я его плохо знаю.
— И все же мне хотелось бы получить от вас некоторые сведения о нем.
— Пожалуйста, — пожал плечами бритый.
— Где и когда вы с ним познакомились? — Ревякин сел на перевернутый ящик.
— В прошлом году на зимней рыбалке. Наши лунки рядом были.
— Где?
— На заливе… Чего-то он все-таки натворил! — опять усомнился бритый.
— Я сказал: ничего он не натворил. И часто вы виделись с ним на заливе?
— Да раза два-три…
— А точнее?
— Можно и точнее: два раза.
— Вы пригласили его сюда, на озера?
— Кажется, был такой разговор…
— И адрес дали?
— Не помню, может и дал.
— Только номер дома, а квартиру почему утаили?
— Да я и не думал, что он приедет. Думал, так, одна болтовня!
— Вы сами где работаете?
— В совхозе. Механиком.
— Документы у вас при себе?
— Да, пожалуйста.
Бритый вытащил из бокового кармана новенький паспорт в целлофане, подал старшему лейтенанту.
И вдруг Ревякин вспомнил: вчера в местной газете было напечатано сообщение о бойце, которого спустя тридцать пять лет нашла боевая награда. Фамилия та же.
— Скажите, это вас наградили орденом Отечественной войны?
— Его-его, вот обмываем! — подтвердил приемщик.
— Меня, — смутился бритый.
— Что ж, примите мои поздравления тоже, — сказал старший лейтенант.
— Может, составите компанию? — вдруг пригласил приемщик.
— Не могу, на службе. — Ревякин встал.
— Товарищ старший лейтенант, так и не скажете, что он натворил? — все еще допытывался бритый.
— Не скажу! — Ревякин натянул перчатки. — Потому что нечего сказать. Потому что все ясно. Извините за беспокойство!
Козырнув, он направился к выходу…
Выйдя из подвала, приказал Спивакову посадить задержанного на первый же поезд в Большеград, предупредил, что в следующий раз тот так легко за нарушение правил пограничного режима не отделается.
— Спасибо вам! — выпалил на прощание парень.
— На здоровье! — как всегда насмешливо ответил старший лейтенант. И тут же бросил Мореву: — Ну, поехали!
— Куда?
— На заставу!..
2
В маленькой столовой было всего четыре столика. Но больше и не надо: ели все в разное время, по мере того как возвращались из нарядов.
Проголодавшись в поездке, Морев влетел, когда ребята наворачивали уже второе. Он подошел к окошку раздаточной, взял полную тарелку рассольника и сел рядом с Глазковым, доедавшим свои макароны по-флотски. Ел тот неторопливо, даже с ленцой — видимо, приканчивал добавку. Письмо, которое Морев только что взял в дежурке, лежало в кармане брюк. Но он не торопился его вскрывать: все равно знал, что там накорябано. Да и не принято было читать письма во время еды — не дома.
На пороге выросла высокая и стройная фигура начальника заставы.
— Ну что, трудимся? — сказал он.
— Приходится, — подал голос Незаконченное Высшее.
— Да, сразу видно: работа по душе, не то что снег разгребать!
— Так ложка же чище берет! — заметил Игнатов.
— С тобой, Игнатов, у меня еще будет разговор!
— О чем, товарищ старший лейтенант?
— О том. Сам знаешь!
Незаконченное Высшее обеспокоенно посмотрел на Игнатова, который, потупив взор, продолжал ковырять вилкой макароны.
— Вот-вот! — заметив эту молчаливую игру взглядов, сказал начальник заставы.
— Товарищ старший лейтенант, пообедайте с нами! — вдруг пригласил Сухов.
«Хитрит Незаконченное Высшее, выручает приятеля!» — подумал Ревякин. Но в душе он не осуждал ни Игнатова, предупредившего соседний наряд о появлении начальства, ни Сухова за его теперешний ход конем. Нельзя ожидать от солдат взаимовыручки в бою, если каждый из них будет думать только о своей выгоде. Но короткое внушение Игнатову не помешает, пусть не думает, что все вокруг дурачки.
Однако на приглашение пообедать Ревякин ответил вежливо и серьезно:
— Спасибо, я дома поем.
— Дома, конечно, вкуснее, — изрек Синицын.
— Не знаю, не знаю, — несколько загадочно произнес старший лейтенант и отступил в коридор.
Морев ел клюквенный кисель и думал о своем. И вдруг его внимание привлек разговор за соседними столиками.
— Просто ума не приложу, что делать с этим чертовым псом! — сокрушенно вздохнул Сухов.
— Опять, что ли, задел сигнализацию? — спросил Игнатов.
— Ну, если бы раз или два, а то уже четвертый день гоняю Глазкова на место сработки!
— И все в одно время?
— Тютелька в тютельку! Хоть часы проверяй!
— А что это за пес? — поинтересовался Синицын.
— Да обыкновенная дворняга, — ответил Сухов. — Двули!
— Чего?
— Двули. Дворняжка уличная.
— А чего ей там надо?
— Вот это ты у нее сам спроси!
— У нее или у него? — полюбопытствовал Игнатов.
— Не заметил, — ответил Сухов.
— За три дня можно бы и заметить!
— Вам все смех.
— Больше не будем, — пообещал Игнатов и уже серьезно спросил: — Все на том же втором участке?
— Все там! Облюбовал себе местечко у самой системы!
— А старший лейтенант что говорит?
— Хмыкает. «Сами решайте! Еще не хватало, чтобы я за вашими тузиками гонялся!»
— Развивает у нас смекалку! — догадался Игнатов.
— Пристрелить ее, да и весь разговор! — вдруг сказал Синицын.
— Как пристрелить? — недоуменно переспросил Сухов.
— Дать короткую очередь…
— Ты это серьезно?
— А чего такого? Собака же, не человек!
— И ты бы мог?
— Ну чего привязался? — Синицын вспыхнул и вышел из-за стола. — Мог, не мог! А если бы это враг был? Ты бы тоже рассусоливал?
— Тебе не кажется, Синицын, что это сравнение хромает на обе ноги? — с убийственной вежливостью осведомился Сухов.
— Думаешь, раз из Ленинграда, то умнее всех?
— Думаю, но другое.
Синицын обернулся:
— Что другое?
— А вот этого я не скажу.
Синицын, сердито придержав взгляд на тонком лице Сухова, вышел из столовой.
— Морев! — обратился после паузы Игнатов. — Ты бы завез ее куда подальше.
— Ладно! — подумав, ответил тот.
— Что толку? — сказал Глазков. — Все одно вернется!
— Почему вернется? — возразил Игнатов. — Обычно собаки возвращаются к хозяину, а этот наверняка бездомный.
— Завезти бы его километров за сто, за двести, — мечтательно произнес Сухов. — А пятнадцать — двадцать километров для него всего на два-три часа ходу!
— Не разрешат далеко, — сказал Морев.
— Может, отвадить как? — спросил Игнатов.
— Все пробовали: и палки кидали, и камни, — признался Сухов.
— А если табаком или какой-нибудь другой дрянью? — предложил Игнатов.
— Махоркой бы, — сказал Глазков.
— Вспомнил, — насмешливо произнес Сухов. — Да ее уже давно никто не курит!
— В нашей местности курят.
— Ну, может быть, только в вашей, — подковырнул приятеля Незаконченное Высшее.
— Нет, не пойдет! — отказался от своего же собственного предложения Игнатов. — А вдруг в этом месте потом нарушитель пройдет? И собаки не смогут взять след? Вроде бы сами под собой сук рубим.
— Что же делать? — продолжал ломать голову Сухов.
— Послушайте, ребята! — вдруг загорелся Игнатов, — А что, если отдать его Лехе Крылову? Он давно хочет завести собаку!
— А ведь идея! — обрадовался Сухов.
Леха был местный школьник, семиклассник, давний друг пограничников. Славился же он тем, что стоило ему только заметить в поселке или поблизости подозрительного человека, как он сразу сообщал на заставу. Так с его помощью недавно был задержан опасный уголовный преступник, намеревавшийся перейти границу. Леха был свой в доску, и, если его о чем-нибудь попросить, он разобьется в лепешку, а сделает…
— Давно бы так, — одобрил такое решение Морев.
Морев устроился за угловым столом с подшивками центральных газет. Перед ним лежали два письма. Одно из них, то самое, что терпеливо поджидало его в дежурке, он уже прочел. Как и чувствовал, в нем не было ничего нового. Только чуть больше беспокойства.
Второе письмо — в помятом, потрепанном, уже местами подклеенном конверте — оставалось нераспечатанным.
В Ленинскую комнату заглянул вернувшийся с обеда старший лейтенант Ревякин. Ткнулся взглядом в худую костлявую спину Морева, в лежавшие на столе письма, но ничего не сказал. Только подумал, что в них, возможно, находился ответ на вопрос: почему тот в последнее время ходил какой-то унылый, раздраженный. Конечно, можно было бы тут же подойти к солдату и, как это всегда делал замполит, заговорив о чем-нибудь постороннем, как бы между прочим спросить, что пишут из дому. И Морев волей-неволей вынужден будет сказать правду. Или же хоть немного, но приоткрыть душу.
Но сейчас Ревякину было некогда — только что позвонили из комендатуры и потребовали немедленно связаться с ними. И поэтому разговор с Моревым он решил отложить на вечер. В конце концов, несколько часов ничего не решают.
Старший лейтенант и не подозревал, насколько был близок к истине. Лишь в одном он ошибался, считая, что у Морева нет девушки. А она была. И еще души не чаяла в молодом солдате. На свою голову…
Познакомился Морев с Женей за три месяца до призыва. Ехал как-то он на своем самосвале за цементом и вдруг, километрах в трех от города, увидел: стоит девушка в голубом платьице и голосует. Видно, давно пыталась сесть, замерзла — платьице летнее, тоненькое, а тут еще ветер!
Остановил. Села. Не знала, как благодарить. Все сигаретку предлагала. С фильтром. А он их терпеть не мог. Привык к «Беломору». Но взял, чтобы не обидеть. А она развеселилась, довольна, что в кабине тепло и не дует. И ему не так было скучно: все же живой человек рядом, девушка. Но внешность ее с самого начала ему не приглянулась. Правда, на фигурку ничего, но лицо уж больно некрасивое. Не то чтобы страшное или неприятное, а просто какое-то неинтересное.
Оказалось, что продавщица в обувном. В мужской секции. Сразу предложила: если ему чего надо… Вот ее телефон. Служебный. Домашний тоже есть. На всякий случай.
Скорее всего, больше бы они и не встретились, если бы не одно случайное совпадение: как раз в это время двоюродный брат Морева Сашка до изнеможения рыскал по обувным в поисках мало-мальски модерновых полуботинок.
Через три дня Сашка стал счастливым обладателем стильных «корочек», а Морев с кислым видом тащился со своей новой знакомой на какой-то фильм, даже вспоминать неохота. Потом еще встретились, и еще. То ли оттого, что не нравилась, то ли оттого, что опыта не хватало у него, между ними ничего такого не было. Правда, целовались. Но тут инициатива исходила больше от нее. А он боялся обидеть.
Так продолжалось около месяца. А потом в его самосвал врезалась «санитарка»: ее водитель, по-видимому, не спал всю ночь — гонял по вызовам — и вот на мгновение расслабился. Самосвал, конечно, пострадал меньше. Того водителя — уже при смерти — увезла другая «санитарка». Морев же отделался легкими ушибами и царапинами. Но
все равно его три недели продержали в больнице, пока не сняли многочисленные швы. Милиция его почти не беспокоила: как выяснилось, во всем виноват был погибший. Зато каждый день к Мореву наведывалась с гостинцами Женька. Чего только не носила: и апельсины, и бананы, и даже ананас где-то достала. Не говоря уж о конфетах, печенье и прочей ерунде.
А затем подошло время идти в армию. И обещали они, как это водится, переписываться. Раз в неделю. То была ее идея — чтоб писать раз в неделю, не реже. Он не возражал: раз так раз! Вначале и в самом деле шло по-задуманному: она писала, он отвечал. Только уже с третьего письма ему вдруг стало неинтересно читать. Ничего, кроме барахла да свадеб. И все с подробностями: какие сапожки себе купила, да на каких каблуках, да какую блузку достала. И замуж у нее подруги чуть ли не в каждом письме выходили. А для него все эти Ольги, Людки, Ленки — пустой звук, ни разу не видел их. Но тенденция чувствовалась — подтолкнуть его в должном направлении. И так тянули они эту бумажную волынку около года. А потом Морев понял: надо кончать, а не то увязнешь, как муха на липкой бумаге. И в один прекрасный день перестал ей отвечать. Подумал: может, сама поймет. А она, наоборот, еще чаще стала писать. Спрашивала, почему не пишет, не случилось ли чего с ним? И решил он тогда написать ей всю правду: мол, не люблю тебя больше («больше» — чтобы не так обидно было), так что давай не будем с тобой переписываться, для обоих лучше. Написать-то написал, а вот отправить духу не хватило. Каково ей будет читать? И с того времени носил он ответ в кармане, конверт уже черт знает на что похож стал, видно заново переписывать придется.
О его запутанных личных отношениях знал на заставе только один человек. Но и ему не было известно, что письмо-то не отправлено до сих пор…
И вот этот человек — водитель второго «уазика» Костя Бакуринский — стоял сейчас за спиной у Морева и спрашивал:
— Ну, что пишет?
— Свитер новый купила, — ответил Морев и незаметно прикрыл локтем свое неотправленное письмо.
— И ничего больше?
— Еще одна подруга замуж вышла. Тамарка какая-то…
— Так она получила от тебя письмо или нет?
— Затерялось, видно…
— Ну что будешь делать? — Бакуринский взял стул и сел рядом.
— Что? Новое напишу.
— Только не очень тяни. А то дождешься последнего гудка паровоза. Встретит она тебя там гвоздичками в целлофане, и уже не отвертишься!
— Завтра напишу.
— И отправляй авиа, заказным. Ты то простым послал?
— Ага!
— Странно, теперь письма редко теряются. Честно говоря, впервые слышу…
— Всякое в жизни бывает.
— Да, и на ровном месте голову ломают… Дай-ка «беломорку»!
Морев полез в карман за папиросами и в этот момент позабыл о своем письме. Спохватился, прикрыл локтем, когда уже было поздно.
— Постой! — загорелся Костя Бакуринский. — А это что за письмо?
— Какое? — Локоть пополз дальше, прикрывая светлую полоску конверта.
— Да под локтем!
— Да так — от одного…
— От одного — твоим почерком?
Обман был налицо. Морев смотрел на друга жалобным взглядом.
— Дай-ка! — Бакуринский вытащил из-под локтя злополучное письмо, прочел адрес. Вид у Морева был обреченный. — Так и не отправлял?
— Не…
— Почему? Ведь твердо решил?
— Угу! — кивнул Морев.
— Ну тогда ни черта не понимаю!
— Жалко ее…
— Ее жалко? А себя? Как потом жить будешь, не любя? А ей, думаешь, хорошо будет?
— После праздников отправлю.
— Это еще неделя! А там новые праздники!
— Ну чего тебе от меня надо? — простонал Морев.
— Мне от тебя? — выразил на лице удивление Бакуринский. — Это тебе от меня надо! Давай сюда письмо!
Морев отодвинулся:
— Зачем?
— Через десять минут я повезу прапорщика в Вахруши за новым кинескопом и сам отправлю это письмо! Ну? — протянул он руку.
Морев отдал письмо.
— Может, сменить конверт? — робко спросил он.
— Ничего, сойдет и этот! Помни: в бою и любви везет только решительным!
— Ладно! — нахмурил брови Морев. — Валяй, пока не отобрал!
После отъезда Бакуринского Моревым овладело странное двойственное чувство: с одной стороны, как бы гора с плеч свалилась, все оставалось позади, открывались новые прекрасные дали в любви, а с другой стороны, не давала покоя мысль: а каково ей будет читать это письмо? Правда, уговаривал он себя, она быстро утешится — к ней уже на другой день вернутся привычные заботы: тряпки, подруги, новые знакомые. Сколько их ежедневно вертится у ее прилавка — веселых и грустных, развязных и скромных, шумных и вкрадчивых, выбирай любого! Да и, честно говоря, не подвези он тогда ее на самосвале, она бы села в другую машину, и он почти уверен: полюбила бы не его, а кого-то другого. Так что он должен быть благодарен Косте Бакуринскому, решившему одним махом отрезать у него все пути к отступлению. Так-то оно лучше, вернее…
С этими мыслями Морев вышел из Ленинской комнаты и едва не угодил в таз с теплой мыльной водой. На него накинулся дежурный по заставе старший сержант Бирюков:
— Морев, ты чего спишь на ходу? А ну, бери тряпку, покажи первому году, как моют полы!
И хотя Морев заступал сегодня на пост — ему еще предстояло дежурить всю ночь у входа на территорию заставы, — он ничего не сказал Бирюкову. Молча взял тряпку и принялся намывать полы. Он даже был доволен — все это отвлекало от тяжких мыслей.
Рядом с Моревым пыхтели и другие ребята, в основном первого года службы. Где-то позади сопел Синицын.
А Бирюков, старавшийся во всем походить на старшего лейтенанта Ревякина, ходил следом за каждым и тыкал носом в малейшее упущение:
— В уголочке, в уголочке!.. Вот это убрать тоже!.. Воды, воды поменьше лейте, а то в подвале все мыши утонут!.. А ну-ка пройтись по плинтусам!.. Ребята, двери чище мойте!
Никто не возражал, не спорил. И только Синицыну вдруг показалось, что старший сержант к нему придирается.
— Уже чисто! — буркнул он.
— И это ты, голуба, называешь чисто? — сделал удивленное лицо Бирюков. — Еще три разика пройдешься мокрой тряпкой, тогда, может быть, и будет чисто!
— Придираешься, старший сержант!
— Что ты, голуба? Если я начну придираться, ты маму по ночам звать станешь! А ну давай еще разочек!
И пришлось Синицыну драить плинтусы до тех пор, пока они не заблестели как новые.
Досталось слегка и Мореву. Постоял над ним Бирюков и покачал головой:
— Ай, ай, Морев, уже второй год к концу подходит, а где полы мыть — не знаешь!
Что ж, прав был Бирюков: под столом, у барьера, отделявшего дежурку от коридора, всегда скапливался мусор — это знал каждый старый солдат.
И вот субботняя генеральная уборка подошла к концу.
Но старший сержант Бирюков еще по инерции продолжал распоряжаться:
— Давайте, давайте, мальчики! Еще немного! Наши давят, шведы гнутся!
И наконец облегченно произнес:
— Вот теперь вроде чисто!..
Дверь в канцелярию была открыта, и резкий голос начальника заставы разносился по коридору. Он разговаривал по телефону, как Морев сразу понял, с заместителем коменданта капитаном Грибовым — изрядным придирой и службистом. Судя по всему, речь шла о сегодняшнем нарушителе.
— Николай Иванович, я все сам проверил… То, что он рассказал о себе, подтвердили другие… Предварительно условились? Исключено. Пригласил его человек заслуженный, ветеран войны… Пытался спрыгнуть на ходу? Не совсем точно. Поезд, как я выяснил, только тронулся… Ну что делать, если я уверен, что он не собирался нарушать границу? Обыкновенный растяпа… Разумеется, я несу ответственность и не собираюсь от нее отказываться… Пожалуйста, проверяйте… Все данные записаны… Морев, закройте дверь!
Морев торопливо закрыл дверь в канцелярию. Но голос старшего лейтенанта легко пробивался сквозь дощатую преграду.
Морев сходил в умывальную комнату. Вымыл лицо, руки.
До боевого расчета оставалось сорок пять минут — можно было и отдохнуть. Морев прилег на койку. Только закрыл глаза, как сразу же задремал.
И вдруг его резко дернули за рукав. Он вздрогнул, открыл глаза. Рядом стоял Андрюшка.
— Морев, вставай!
— Чего тебе?
— Пошли в гараж!
— Завтра пойдем.
— А я хочу сегодня!
— Скоро боевой расчет, не успеем.
— А мы недолго!
— Ладно, только по-быстрому.
— Идет! — совсем по-взрослому ответил Андрюшка.
Они вышли во двор. Ранние сумерки уже притемнили заснеженные дорожки. Андрюшка старался идти в ногу с Моревым — как же, тоже мужчина!
В гараже было темно. Морев включил свет.
— Ну что будем делать? — спросил он мальчика.
Андрюшка обошел машину, постучал ногой по каждому скату. Потом спросил Морева:
— Можно я посижу в кабине?
— Можно.
Андрюшка мгновенно залез туда, дал несколько коротких сигналов.
— Не надо, — сказал ему Морев. — А то нам влетит от старшего лейтенанта. Скажет: делать вам больше нечего!
Тогда Андрюшка засигналил одним ртом.
— Так оно спокойнее, — заметил Морев.
Но Андрюшке было уже не до него. Ухватившись руками за баранку, он гнал свой «уазик» по крутой и узкой дороге, преследуя нарушителей. Время от времени он выхватывал пистолет и стрелял в убегавших врагов.
— Ну все! Убил наповал! — похвалил Морев.
— Нет еще!
— Как нет? Я сам видел!
— Не выдумываешь?
— Ну что ты! Можешь посмотреть: упал и не дышит!
Андрюшка выглянул из кабины. Лежавшее в углу гаража запасное колесо мгновенно в Андрюшкином воображении превратилось в поверженного врага. Но, может быть, тот притворился убитым? Как в кино?
Андрюшка выскочил из машины и, стреляя из пистолета, рванулся в угол, но его на бегу перехватил Морев.
— Будет на сегодня.
— А я хочу!
— Ну и оставайся один! — Морев отпустил мальчика.
Тот сразу же опомнился.
— А ты куда?
— На боевой расчет. И так уже опаздываю!
— Попадет?
— А ты думал как? Сам небось знаешь, какой старший лейтенант?
— Строгий?
— А то нет?
Морев и Андрюшка прибавили шагу: за ярко освещенными окнами заставы никого из ребят не было видно. Значит, все уже выстроились в коридоре. Опоздал-таки!
Морев взбежал на крыльцо и с силой толкнул массивную входную дверь. Молча выравнивая ряды, до самой сушилки тянулся строй.
К счастью, Морев опоздал на самую малость.
Но замечание старший лейтенант все-таки сделал:
— Те же и Морев!
Так как команды «Смирно!» еще не было, кто-то не без подковырки добавил: «Ну, Морев, известно, поспать любит!»
Каждый вечер в одно и то же время на заставе проводится боевой расчет. Это и полный глубокого смысла ритуал, и задание на следующие сутки. Голос старшего лейтенанта звучал, как всегда, резко и внятно:
— За истекшие сутки нарушений государственной границы на участке нашей заставы не было. Пограничные наряды службу несли бдительно и действовали по обстановке правильно. Наряд в составе сержанта Ясенькова, рядовых Спивакова и Мухаметшина, сопровождая поезд от Лихачей до Стукалова, задержал неизвестного, который вполне мог оказаться нарушителем границы. За проявленную бдительность этим товарищам объявляю благодарность. Сообщаю обстановку на завтра. В связи с приближением ноябрьских праздников…
Пограничники слушали с напряженным вниманием. Поступило сообщение, что на эти три дня студенческое спортивное общество запланировало массовые соревнования скалолазов. Находились же скалы всего в десяти километрах от границы, и это могло здорово облегчить задачу нарушителю. В прошлый раз, например, под видом скалолаза, заблудившегося в лесу, дошел почти до рубежа прикрытия и был задержан некто Носков. Он обокрал в Большеграде несколько квартир и предпринял отчаянную попытку уйти за рубеж. Не исключено, что и в этот раз кто-нибудь попытает судьбу. Кроме того, имеются сведения о том, что, возможно, попробует перейти границу опасный уголовный преступник, давно разыскиваемый милицией. Его приметы… пятьдесят пять лет… среднего роста… светлые волосы… серые, широко поставленные глаза… маленький подбородок…
Морев тоже запомнил. На всякий случай. Хотя знал, что у него мало шансов проявить себя на этом поприще. Его дело подвозить нарушителей на машине, уже готовеньких…
Впрочем, он уже привык, что слава обходила его стороной, но в душе продолжал мечтать об удаче, которая заставит притихнуть всех насмешников.
Боевой расчет сегодня несколько затянулся: сложная обстановка, праздники, из офицеров на месте один начальник заставы. Старший лейтенант Ревякин называл каждого, кто заступал на охрану государственной границы, определял время дежурства, участки, состав тревожных групп.
Морев вздохнул: его «уазик» должен быть готов к выезду по обстановке через две минуты после объявления тревоги…
Разговор снова зашел о праздниках. Бдительное несение службы, подчеркнул старший лейтенант, это их подарок любимой Родине. И тут Морев внутренне сжался. Он вдруг подумал о Женьке, которая получит письмо как раз пятого или шестого ноября. У всех будут радость, веселье, а у нее одной… Хороший подарочек, ничего не скажешь, ожидает ее в праздники. Зря поторопился он с отправкой письма. Можно было подождать еще с недельку. Даже три дня тут сыграли бы роль. Это все Костя Бакуринский, будь он неладен, благодетель чертов!
— Застава, равняйсь! — ударился о строй резкий голос старшего лейтенанта. — Смирно! Командирам отделений приступить к выполнению мероприятий согласно распорядку дня!
В Ленинской комнате яблоку упасть негде было. Незаконченное Высшее, который пришел чуть позже других, долго ходил со стулом в руках, искал, где бы приткнуться, но так и не нашел. Его пожалел, потеснился Игнатов. Некоторые стояли у дверей, тянули шеи. Только что по телевизору начался показ танцев на льду. Видимость была неважная, но этот недостаток возмещала хорошая музыка.
Как всегда, первыми вышли на лед самые юные и самые неопытные. Но и они танцевали прекрасно, потому что, прежде чем очутиться здесь, тоже где-то кого-то побеждали, считались лучшими из лучших, были отмечены и подавали большие надежды. Один танец сменялся другим, и с каждой новой парой росло мастерство.
Постепенно души солдат как бы раздвоились. С одной стороны, молодые парни просто любовались ярким и красивым зрелищем, а с другой стороны, чем прекраснее были танцы, чем сильнее действовала музыка, тем дальше уносило воображение. Как никогда хорошо мечталось и думалось им в эти удивительные минуты у экрана.
Думал о своем и Морев. Да, с Женькой он поступил нехорошо. Мало того, что испортил ей праздники, но и вообще, надо признаться, вел себя с ней неблагородно. Вспомнил он, как лежал в больнице и она иногда два, а иногда и три раза в день навещала его. Для нее не существовало никаких запретов: она прорывалась к нему даже в невпускные дни, даже когда отделение запиралось на ключ и попасть туда можно было только с разрешения главного врача. А ей удавалось. То черным ходом, то в чужом белом халате. Почти все свои короткие обеденные перерывы она проводила у него. А потом мчалась на работу, и он сейчас не уверен, успевала ли она поесть. Проторчать же целый день на ногах у прилавка — это не сидеть за рулем в теплой и уютной кабине. А сколько раз, бывало, его вдруг поднимало с постели какое-то чувство, он выглядывал в окно и видел внизу ее — улыбающуюся, некрасивую, энергично машущую ему рукой. И в записочках, которые она присылала, ни слова не было о тряпках и подругах. Все только о нем, о его здоровье…
Музыка оборвалась. Наступила тишина. Луч прожектора быстро проследовал за парочкой…
Он и она — оба в сверкающих нарядных костюмах, красивые и стройные — легко и изящно танцевали старинное танго, и огромный зал зимнего стадиона неистовствовал при каждой удачной фигуре. Парочке без конца аплодировали, и она снова и снова — послушная и счастливая — выкатывала на ледяное поле. На какое-то мгновение замирала в трепетном свете прожекторов. И когда сверху из динамиков проливались первые звуки музыки, юноша и девушка, прильнув друг к другу, делали вместе шаг и снова — в который раз — уносились в танце.
Лицо у Морева горело. Он вспомнил, как однажды они с Женькой поздно вечером гуляли в парке культуры и отдыха. Откуда-то издалека доносилась музыка. Возможно, даже эта самая. Сперва они бродили по центральной аллее, а потом свернули на боковую. Там была беседка, в которой днем посиживали старушки и старички, а вечером уединялись парочки. И вдруг Женьке взбрело в голову станцевать с ним под далекую музыку. Было так темно, хоть глаз выколи. Со всех сторон их окружали скамейки, а пол в беседке был покатый. Но они ни разу не споткнулись, не оступились. Темнота словно обволакивала их и защищала. Но больше всего его поразило то, что в этой непроглядной тьме он видел Женькины глаза. Они были огромны и прекрасны. Впрочем, это наваждение исчезло, как только оба очутились на свету. И подобные чудеса продолжались с ней все время, пока его не призвали в армию. То она казалась ему такой невидной, такой неинтересной, что он с трудом сдерживал себя, чтобы не отвернуться, а то вдруг глядел на нее и не верил своим глазам: откуда что бралось!
Тот вечер запомнился еще тем, что к ним привязались трое хулиганов. От них дико разило водкой. Вначале он пытался поговорить с ними по-хорошему. Но они вели себя нагло и все оттирали его плечами от Женьки. Тогда он набросился на них с кулаками. И трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы не Женька. Она заорала так, что переполошила весь парк культуры и отдыха. А попутно хлестала своей модной кожаной сумочкой по жестоким и глумливым рожам.
Морев опустил голову. Больше он не мог смотреть на экран. «Ах, какой я подлюга!» — стучало в висках.
Он встал и, наступая кому-то на ноги, с трудом пробрался к двери.
— Морев, ты куда? — услышал вдогонку.
Торопясь, он даже оттолкнул кого-то.
— Ты чего? — удивился тот.
Морев подошел к барьеру, за которым устроился уже новый дежурный по заставе, младший сержант Петревич.
Сказал с едва сдерживаемым нетерпением:
— Соедини с почтовым отделением в Вахрушах!
— А зачем оно тебе? — полюбопытствовал Петревич.
— Надо! — отрезал Морев.
Больше вопросов дежурный не задавал. Быстро соединил с коммутатором погранотряда, попросил дать местное почтовое отделение.
— На! — протянул он трубку Мореву.
— Почтовое отделение слушает! — зазвенел по ту сторону девичий голосок.
— С вами говорят с Ивановской заставы, — взволнованно произнес Морев. — Скажите, заходил ли к вам наш шофер, чтобы отправить заказное письмо авиа?
— Подождите, сейчас спрошу!
Очевидно, она тоже заступила на дежурство недавно.
— С Ивановской никого не было!
— Честное слово?
— Хоть два! — весело ответила девушка.
— Нет, правда? — все еще не верил Морев.
— А зачем мне врать? За вранье нам не платят!
— Послушайте, у меня к вам большая просьба. Если появится шофер с Ивановской, фамилия его Бакуринский, зовут Костя, скажите ему, что звонил Морев и просил не отправлять письмо!
— Хорошо, передам!
— Пусть вернет письмо! Понятно?
— А чего тут понимать? Передам!
— Очень прошу!
— Ну хорошо, хорошо, — ответила девушка и дала отбой.
Морев же продолжал вертеть в руках трубку, словно разговор прервался на самом интересном месте.
— А что это за письмо? — не унимался Петревич.
— Да впопыхах не тот адрес написал, — ответил, покраснев, Морев и с огромным облегчением на душе пошел досматривать танцы…
Экран лихорадило. Пока Морева не было, совсем исчезло изображение. Помехи катили свои нескончаемые волны сперва по горизонтали, потом по вертикали и, наконец, по диагонали.
Встретили Морева шутливыми репликами:
— А куда Морев ходил?
— Известно куда — на крышу!
— А зачем?
— Метлой помехи разгонял.
— Сразу видно — схалтурил!
— Сами слазили бы, посмотрел бы я, — в тон приятелям ответил Морев.
— Наверно, дырку в крыше сделал: уж больно быстро напряжение падает!
— Дайте ему ведро!
— А зачем ведро-то?
— Пусть за напряжением сбегает! Тут недалеко… всего пять километров до подстанции.
— Сейчас побегу, — ответил Морев. — Вот только портянки перемотаю.
В этой пикировке участвовали все доморощенные остряки: и Игнатов, и Незаконченное Высшее, и уж, конечно, старший лейтенант — сам большой любитель дружеских подначек. Поэтому-то и тянулись к нему молодые ребята: ничто так ие сближает в свободное время, как добрая шутка…
И вдруг изображение появилось снова, только уже не фигурное катание, а какой-то толстый и сонный дядя, равнодушно вещавший об успехах здравоохранения.
Сразу же застучали стулья, один за другим потянулись к выходу солдаты.
И в этот момент старший лейтенант увидел Андрюшку, который тихо сидел на коленях у Глазкова.
— А ты как здесь? — удивился он.
— Кино смотрел, — опасливо ответил тот, сползая на пол.
— А ну, живо домой!
Андрюшка молчал и не двигался с места.
— Я тебе что сказал?
— Боюсь, — ответил мальчик.
— Темноты, что ли? Морев, не в службу, а в дружбу, проводи его!
Морев шагнул к Андрюшке:
— Пошли!
— Я не темноты боюсь, — чуть не плача сказал тот.
— А чего?
— Мамули… Она сказала, чтобы мы с тобой больше домой не возвращались. Сказала: можете и жить, и ночевать на заставе!
Кто-то не удержался, прыснул. И впервые старший лейтенант густо покраснел в присутствии подчиненных. Сказал Андрюшке:
— Пошли домой!
Взял упиравшегося сына за руку и потянул за собой.
Вскоре в Ленинской комнате остались двое: дядя, позевывавший на экране, да Морев, которому нужно было как-то скоротать время до возвращения Бакуринского.
Но высидел он всего минуты две-три. Ему показалось, что приехал Бакуринский. Но это разговаривал по телефону младший сержант Петревич, голос которого издалека походил на Костин. В Ленинскую комнату Морев уже не вернулся: сердечно-сосудистые заболевания его интересовали ничуть не больше, чем лов креветок в Желтом море. Он не находил себе места. Посидел в сушилке и, выкурив подряд несколько папирос, вдруг ни с того ни с сего попросил у Сухова электрическую бритву и сбрил пушок на верхней губе, потом чуть ли не четверть часа простоял в одной гимнастерке на крыльце, прислушиваясь к шуму далеких машин.
Когда он как неприкаянный ходил по коридору, мимо него молча прошел старший лейтенант Ревякин — озабоченный и угрюмый. У двери в канцелярию Ревякин обернулся, внимательно посмотрел на Морева и спросил:
— Почему не отдыхаете перед дежурством?
— А я уже отдохнул, товарищ старший лейтенант! — соврал Морев.
— Дежурного — ко мне!
Морев крикнул младшему сержанту Петревичу, который в это время обрезал перочинным ножом ногти:
— Дежурный — к начальнику заставы!
Тот вскочил и попросил Морева:
— Посиди за меня!
Морев прошел за барьер и сел за стол с аппаратурой. Вдруг его осенила мысль. Он снял трубку и вызвал дежурного по погранотряду. Когда там ответили, он спросил напускным командирским баском:
— Говорят с Ивановской. Наш прапорщик у вас или уже уехал?
— Сейчас узнаем, — послышалось в ответ, и вскоре тот же голос сказал: — Слышите? Уже час как уехал!
Значит, скоро должны быть. Час на обратный путь более чем достаточно. Даже с учетом темноты и плохой дороги.
Подумал, что не мешало бы еще раз позвонить на почту, но постеснялся: сколько можно беспокоить людей?
К тому же, вернулся Петревич. А звонить при нем было уже совсем неудобно. Опять начнет выспрашивать, что за письмо.
— Приказал постелить себе в комнате для приезжих офицеров, — сообщил Петревич.
— Видно, опять поругался с женой, — вздохнул Морев.
— И зачем только люди женятся, а, Морев?.
— Будто не знаешь? Чтобы вместе в кино ходить!
— Старшему лейтенанту скажи, — усмехнулся Петревич.
— Ты сейчас дежурный, ты и скажи, — отпарировал Морев…
Морев выскочил на крыльцо, едва услышал шум подъехавшей машины. Бакуринский остановился у самых ступенек.
Держа в руках кинескоп, прапорщик даже не ступил на снежную дорожку — прямо на крыльцо.
— Ты чего, Морев? — удивленно спросил он.
— Я — к Бакуринскому! — смущенно ответил тот.
— Уже соскучился? — сказал прапорщик, зная о большой дружбе обоих шоферов.
Как только прапорщик с кинескопом скрылся за дверью, Морев сбежал к машине, заглянул в кабину.
— Ну все, отправил! — как радостную новость, сообщил Бакуринский.
— Как отправил? — убитым голосом произнес Морев.
— Как обычно отправляют. На, держи квитанцию! — протянул он клочок бумажки и тронул машину.
— Постой! Я же просил тебя не отправлять! — крикнул Морев, не отпуская дверцы.
— Ты просил меня? — Бакуринский дал тормоз. — Ты что, уже совсем свихнулся из-за своей Женьки?
— Тебе ничего не передавали?
— Нет! Никто и ничего!
— А ведь обещала.
— Кто?
— Девушка с почты.
— Какая девушка? Там никакой девушки не было. Только две пожилые женщины.
— А ты откуда отправил? — начал догадываться Морев. — Из погранотряда?
— Да нет, из Стукалова! Там прапорщик на секунду заскочил к теще. А почта как раз напротив. Слушай, а почему ты раздумал?
— Потому что потому, — ответил Морев и, махнув рукой, в совершенно подавленном настроении пошел в дом…
Он знал, что случилось непоправимое. Через два-три дня, перед самыми праздниками, она получит письмо, которое воспримет не иначе, как удар в спину. И будет права. Он живо представил себе ее лицо — еще более некрасивое от слез, жалкое и несчастное. Однажды он уже видел ее такой. Но это было в больнице, когда она думала, что не застанет его в живых. Тогда за эти слезы он испытал к ней благодарность, хотя видел, что они вконец портят ее и без того неинтересное лицо. Правда, слезы вскоре высохли, а в глазах ее было столько любви и преданности…
И тут Морев вспомнил, как остальные больные в палате завидовали ему. А ведь тоже видели, что она и некрасива, и недалека, и с хитрецой. Кто-то даже сказал, что главное в женщине душа. А лицо? Что лицо? С лица не воду пить. А фигурка, мол, у нее ничего. Ладненькая. Так и сказали: «Ладненькая».
Впрочем, и лицо у Женьки не всегда такое. Он заметил, что оно меняется в зависимости от настроения, от выражения ее больших — с косинкой — глаз. Вот как тогда, в парке культуры и отдыха…
А что, если посоветоваться со старшим лейтенантом — он уже не раз помогал ребятам добрым советом. С юморком, конечно, с его обычным похмыкиваньем. Но все равно не было случая, чтобы кто-нибудь ушел от него ни с чем.
Правда, дело делу рознь. Да и что тот может посоветовать насчет Женьки, если сам Морев до сих пор не знает, как к ней относится?
Так что обращение к начальнику заставы — отставить!
Ему хотелось побыть одному. Но всюду находились ребята. И в сушилке, и в бытовке, и в спальне, и в коридоре. И только в Ленинской комнате, в которой после вечерней поверки гасился свет и куда до самого утра никто не заходил, можно было уединиться. Особенно Морев любил сидеть у окна. Далеко-далеко тянулись огоньки поселка. Он знал каждый из них. Во всяком случае, большинство. Всегда долго горел свет в двух окнах комнатки, которую снимал с семьей начальник заставы. Жена старшего лейтенанта ложилась спать не раньше двух — читала книги или проверяла тетрадки: она преподавала английский язык в здешней школе. Мореву Лариса Емельяновна не нравилась, хотя смотреть на нее было одно удовольствие, до того красива. Но от ее красоты веяло холодом, она почти никогда не улыбалась и глядела как бы сквозь человека. Поговаривали, что она дочь какого-то генерала из Киевского округа. Будто старший лейтенант познакомился с ней на Юге, где она отдыхала в военном санатории, и вскружил ей голову. Наверно, так оно и было: уж очень она подчеркивала всем своим видом, что здорово продешевила. Отчасти ее можно было понять: какой женщине охота всю жизнь мотаться по дальним заставам — ни себя показать, ни людей посмотреть. Даже в театр надо ехать восемь часов скорым поездом!
Уж какое тут может быть счастье, если один недоволен своей судьбой? То-то все чаще и чаще старший лейтенант ночевал в комнате для приезжих офицеров. Стоило для этого жениться!
Зато красавица, не то что Женька. С такой по улице пройдешь, каждый подумает: не иначе артистка какая-нибудь!
Не старший лейтенант, так ее тут же другие отхватили бы. В старину из-за таких на дуэлях дрались…
Но лично Мореву сейчас Женька больше нравилась — простая, добрая, готовая ради него в огонь и воду. Окажись она здесь, попроси ее в шутку постоять вместо него на посту, возьмет автомат и пойдет. И всю ночь простоит в одном платьице!
А он…
Ослепив Морева, вспыхнул свет. На пороге, держа руку на выключателе, стоял начальник заставы.
— Морев, ты что здесь делаешь?
Тот встал.
— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?
— Обращайтесь!
— По личному делу…
— Ну, пошли в канцелярию…
Не сразу, но все-таки старший лейтенант добрался до сути: говорил Морев взволнованно, несвязно и поэтому понять его было нелегко. Поначалу было только удивление. Вот уж от кого Ревякин меньше всего ожидал подобных переживаний. Но перед ним сидел Морев, а не кто другой, и смущенно улыбался.
Одно было ясно: парень ждал от своего командира простой человеческой помощи. Но как помочь ему? Первое, что пришло на ум старшему лейтенанту, это сегодня же послать вдогонку новое письмо или телеграмму, в которых бы то первое письмо объявлялось неудачной шуткой. Но он тут же отказался от этой мысли — можно еще хуже запутаться. Да и вряд ли этим поправишь дело, на всю жизнь останутся обида и недоверие. Нет, нужно что-то другое.
Старший лейтенант невесело усмехнулся: самое время заниматься чужими любовными историями! Свои бы отношения с Ларисой наладить. Сколько месяцев он уже бьется, чтобы преодолеть ее нарастающее отчуждение, и никакого просвета впереди. Страшно подумать, что, возможно, придется расстаться. Сама уедет и еще Андрюшку увезет навсегда.
Может быть, поэтому ему так понятна чужая боль? И хочется невзирая ни на что помочь этому славному парню, запутавшемуся в своей первой и, похоже, настоящей любви.
А что, если…
— В котором часу отправил Бакуринский письмо? — спросил он Морева.
— Не знаю, — ответил тот. — Я сбегаю, спрошу у него!
— Сиди! — старший лейтенант снял трубку. — Дежурный! Бакуринского — ко мне!
Не прошло и минуты, как в дверь постучали.
— Входи!
Вошел Бакуринский. Бросил удивленный взгляд на Морева, встретившего приятеля растерянной улыбкой.
— Товарищ старший лейтенант, прибыл по вашему приказанию!
— В котором часу отправили письмо Морева?
Бакуринский на мгновение замялся. По-видимому, пытался понять, не навредит ли он Мореву своим откровенным ответом. Но лицо у того сейчас ничего, кроме ожидания, не выражало.
— Полдевятого, товарищ старший лейтенант!
— В полдевятого?
— Так точно! На обратном пути из отряда. Мы с товарищем прапорщиком торопились и все поглядывали на часы.
— Сейчас одиннадцать… Может быть, еще… — и старший лейтенант потянулся к телефону. — В каком почтовом отделении?
— В Стукалове, товарищ старший лейтенант!
— Идите!
И Бакуринский неторопливо, словно рассчитывая, что его еще остановят, вышел из канцелярии.
Старший лейтенант взял трубку, соединился с поселковым коммутатором.
Сердце у Морева бешено заколотилось.
— Девушка, попрошу стукаловское почтовое отделение! — В ожидании ответа старший лейтенант полистал перекидной календарь, еще раз проверил, сколько дней осталось до праздников. — Как не отвечает? Дайте еще звоночек, да подольше!.. Тогда соедините с квартирой начальника почты, да, да, в Стукалове. Вы не скажете, как ее имя-отчество? Нина Владимировна? Благодарю!.. Будьте любезны позвать к телефону Нину Владимировну. Это вы? Извините, что беспокою в столь позднее время. С вами говорит начальник Ивановской заставы старший лейтенант Ревякин. Слышали обо мне? Откуда? Меня все знают? Ну и ну! Так вот, у меня к вам небольшая просьба. Один из моих солдат сгоряча отправил своей девушке письмо, в котором незаслуженно наговорил ей много обидных вещей. Ясно, нехорошо. Но сейчас он опомнился и хочет вернуть письмо. Когда и как отправлено? Авиазаказным сегодня, в полдевятого вечера. Поздно? А почта далеко от вашей квартиры? Не очень? Нина Владимировна, я обращаюсь к вам от имени всех погранвойск Советского Союза: не смогли бы вы пройтись до почты и обратно? У вас сын пограничник? Ну, тогда вы совсем наш человек!.. Кому письмо? Быстро!
— Город Барнаул, Симуковой Евгении! — волнуясь, сказал Морев.
— Город Барнаул, Симуковой Евгении, от Морева! — повторил старший лейтенант в трубку. — Спасибо! Я позвоню вам минут через десять, хорошо? Вы сами? Договорились!
Старший лейтенант положил трубку, посмотрел на Морева, щеки которого с самого начала телефонного разговора покрылись красными пятнами.
— Ну что, заварил кашу? — спросил Ревякин.
Теперь у Морева запылали еще и уши.
— Словом, нашел работенку своему начальнику заставы. А то ему делать нечего.
Морев молчал, и только пятна продолжали путешествовать по его лицу.
— Эх, Морев, Морев!
Вскоре зазуммерил телефон. Старший лейтенант быстро взял трубку.
— Ревякин слушает!.. Есть? Не успели отправить? Большое вам спасибо, Нина Владимировна! Да, да, спрячьте его куда-нибудь подальше или лучше просто переадресуйте к нам на заставу. Разумеется, по обратному адресу. Спасибо! Спокойной вам ночи!..
Морев неторопливо прохаживался у входных ворот. Сквозь тонкие прутья решетки был виден поселок, который весь утопал в сугробах, — уже несколько часов подряд валил снег. Сопки с трех сторон подступали почти к самой заставе, и ночь от этого казалась еще темнее. Редко-редко где-нибудь в окошке мелькнет огонек. И только на столбах, раскинутых по поселку, мерно покачивались электрические лампочки. А вокруг них нескончаемо роились снежинки.
До конца смены оставалось три часа. Но это нисколько не тяготило сейчас Морева. Никогда ему так хорошо не думалось, как в эти тихие ночные часы. И на душе у него было удивительно спокойно и легко. Завтра, в крайнем случае послезавтра он заново напишет Женьке. Правда, он еще не знает что, но это уже будет другое, совсем другое письмо. Вот обрадуется она!
Морев осторожно подошел к окну комнаты для приезжих офицеров. За плотной занавеской ничего не было видно. Там на провисшей солдатской койке спал старший лейтенант Ревякин, у которого тоже нелады с женой. Помочь бы ему! Но как? Не возьмешь же его с Ларисой Емельяновной за руку и не подведешь их друг к другу!
Хорошо бы, сами помирились. Жаль, не понимает она, что такого человека, как старший лейтенант — доброго, красивого, умного, — любая полюбит. Только захоти он…
Громко хрустнула под ногами присыпанная свежим снегом ледяная корка. Морев вздрогнул и тихо, чтобы ненароком не разбудить старшего лейтенанта, отошел от окна…
РАССКАЗЫ
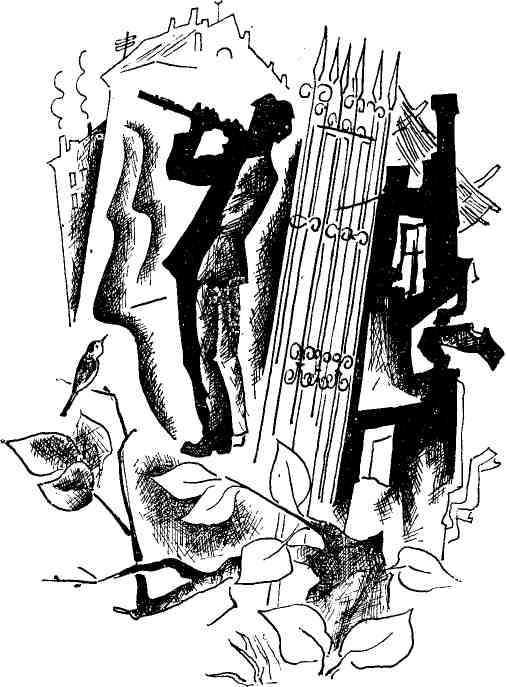
ПИЛОТКА
Уже больше часа Саша Близнюк сидит у перекрестка, что за селом, и ждет попутной машины. За это время прошли не останавливаясь только пять «студебеккеров» с боеприпасами. Хорошо, что дождь кончился. А то бы промок как цуцик.
И все-таки ему здорово везет. От штаба армии до Жаркова он добирался как бог — на новеньком «виллисе». От Жаркова до Красного его подбросила «санитарка». От Красного до бывшего заповедника он с ветерком прокатился на мотоцикле. А там, прямо за минуту до грозы, его подобрала автомастерская. И сюда он угадал в самый раз, когда перестало лить.
Вот только сейчас что-то заело. Но он не придает этому большого значения. Он все еще под впечатлением прежней удачи. Перед ним до сих пор стоят лица его добрых попутчиков… Старика полковника, который подвез его до Жаркова и там на прощанье, как равному, пожал руку… Длинного как жердь военврача, сразу согласившегося захватить его с собой… Веселых ремонтников, накормивших его рассыпчатой картошкой, которую они отварили тут же, в машине… Лейтенанта-мотоциклиста, за широкой и крепкой спиной которого он чувствовал себя в не меньшей безопасности, чем в кабине или кузове… И, конечно, Жорки Гукасьяна, с которым он неожиданно встретился в офицерской столовой и затем вместе проехал несколько километров. Надо было видеть Жорину физиономию, когда он узнал, что Саша получил назначение в прославленную танковую гвардейскую бригаду, которая только что первой форсировала Днепр. Он даже позеленел от зависти. Ведь его направляли в какую-то захудалую пехотную часть. Один трехзначный номер — и ничего больше!.. Саша насвистывает «Роземунде». Чешскую польку. Ее вчера без конца крутили писаря из штаба…
Настроение у него приподнятое. Приподнятое, несмотря на тревожное чувство, не покидавшее его все эти дни. Впрочем, мысль о том, что его могут скоро убить или тяжело ранить, сегодня его почти не беспокоила. Впервые за долгую дорогу на фронт он весело и безбоязненно думает о будущем. И все потому — и он это понимает, — что так складно получилось с назначением и поездкой, что с утра на пути ему попадаются одни хорошие, славные, добрые люди, что все эти везенья кажутся ему сплошным счастливым предзнаменованием…
Но все-таки почему так долго нет машин?
Саша выходит на середину перекрестка и всматривается в дорогу. Он близорук. Поэтому, чтобы лучше видеть, натягивает кожу на виске. И тотчас же, как из тумана, отчетливо выступают очертания разбитого машинами шляха.
Ничегошеньки!..
А над головой, похоже, снова начинают собираться темные грозовые тучи…
— Эй, друг!
От неожиданности Саша вздрагивает и резко оборачивается. На бугре, у крайней хаты, стоит незнакомый офицер с вещмешком, перекинутым через плечо.
— Тебе куда?
— Куда?.. К себе, в часть! — краснея, отвечает Саша.
— Да тут машины не ходят! Они там сворачивают! — показывает рукой в сторону села офицер.
— Где?
— Да там, за церковью!.. Пошли! Мне тоже туда!..
Когда до офицера остается несколько шагов, Саша обращает внимание на его глаза — бесцветные и нагловатые…
И вот они шагают рядом… На офицере выцветшая гимнастерка со следами орденов и медалей. По расположению и форме пятен и проколов Саша наметанным глазом бывшего курсанта определяет: Красная Звездочка и три медали.
И тут же удовлетворенно отмечает: на гимнастерке никаких следов гвардейского значка.
Конечно, четыре правительственные награды — это немало. Но принадлежность к гвардии тоже чего-нибудь да стоит!..
Немного воображения — и Саша чувствует себя таким же бывалым и заслуженным фронтовиком…
И все, разумеется, смотрят на них…
Для посторонних они, конечно, друзья-однополчане…
Что ж, он готов великодушно принять лейтенанта под свои гвардейские знамена…
— Сам откуда?
— А? Что?
— Откуда, спрашиваю?
И Саша не без гордости называет свою прославленную гвардейскую танковую бригаду.
— Я спрашиваю, родом откуда?
Саша краснеет:
— Из Ленинграда.
— В блокаду там был?
— Был, — неожиданно для себя говорит неправду Саша.
Лейтенант смотрит недоверчиво. Но сквозь это недоверие уже сквозит уважение…
А Саша тем временем ищет и находит оправдание своему вранью. Когда эвакуировали их семью, в магазинах уже почти ничего не было — одни соленые помидоры. Правда, и голод, и бомбежки, и обстрелы — все это пришло потом. Но кто знает об этом? А если учесть, что кое-что он все-таки испытал, то нет никаких оснований для угрызений совести. Во всяком случае это не такое уж большое вранье.
Итак, для лейтенанта он блокадник и гвардеец. И это, как сейчас кажется Саше, почти уравнивает их.
По дороге Сашин спутник кое-что выкладывает о себе. Артиллерийский техник. Сам с Кубани. Освобождая это село, познакомился с одной местной и с тех пор навещает ее. Правда, говорят, что она не только его привечала, но ему на это плевать, он ведь на ней не собирается жениться. К тому же их тоже скоро двинут в бой. А новое наступление — новые встречи…
Саша с уважением смотрит на техника-лейтенанта: ни слова об опасностях! Вот что значит настоящий фронтовик!..
Когда они подходят к церкви, между ними уже вполне приятельские отношения. Теперь они держатся друг друга. Вернее, держится Саша. Не отстает ни на шаг от техника-лейтенанта. Но и тот помнит, что он уже не один.
Спросив у какого-то старшины, когда пошла к фронту последняя машина, они подсаживаются к группе военных, также ожидающих попутной…
А там выдается очередная солдатская байка.
— Попал один сапер под понтон… — начинает старший сержант с пучками густых бровей на забавном лице клоуна.
Особенно долго и заразительно хохочет сидящий рядом с Сашей молоденький солдат. Глядя на него, и остальные никак не могут остановиться.
Смеются все, кроме одного. Это тонконогий капитан с медицинскими погонами. Он с осуждением произносит:
— Того, кто придумал этот анекдот, самого бы спустить под понтон.
— Кажись, машина! — восклицает кто-то из солдат.
Все вскакивают с места, выбегают на дорогу.
Обдав едким и густым дымом, грузовик проносится мимо. Вдогонку ему летят крепкие ругательства. Кто-то угрожающе машет вслед кулаком.
Затем все возвращаются на обочину. Но тут снова появляется машина. Ее атакуют так же дружно и решительно. Двум солдатам помоложе удается ухватиться за задний борт и на ходу перевалиться в кузов, в котором тяжело покачиваются бочки с горючим.
Третья машина останавливается по первому же сигналу. Но оказывается, что она дальше не пойдет…
— Пошли! — тихо говорит техник-лейтенант Саше.
— Куда?
— Тут… недалеко…
Ясно, что техник-лейтенант нарочно не отвечает прямо на вопрос, что-то скрывает от всех. Отойдя немного по дороге, он говорит:
— Там один подъем есть. Машины всегда сбавляют ход. Легко можно вскочить…
Последние слова он произносит совсем тихо.
Саша оборачивается: оставшиеся опять сидят у обочины и лениво о чем-то разговаривают. И ни один не смотрит в их сторону. Как будто их нет…
Техник-лейтенант знает в селе каждую тропинку. Пройдя с полсотни шагов по главной улице, он, кивком головы поманив за собой Сашу, вдруг сворачивает в расщелину между двумя деревянными сараями. Затем ведет его по каким-то огородам, мимо хат и амбаров. Мокрая трава, скользкая
липкая грязь превращают Сашины кирзовые сапоги в неповоротливые и непослушные чудовища.
Саша с завистью поглядывает на своего ловкого спутника: умеет же ходить по грязи! Только задники чуть-чуть запачканы.
К подъему они выходят совершенно неожиданно для Саши.
По обилию глубоких и неровных следов видно, что автомашинам здесь приходится нелегко.
А вот и машина!..
Пока это еще серое пятно. Но оно растет так быстро, что Саша уже начинает различать возвышающиеся над кабиной человеческие фигурки.
— Давай выше! Там легче сесть! — кричит техник-лейтенант.
И они бегом поднимаются еще на несколько десятков метров. Тут и впрямь самое крутое место подъема. Саша пока не знает, как он будет вскакивать на ходу — раньше он никогда не прыгал. Конечно, он не раз видел, как это делают другие, хотя бы те два солдата. У них это здорово получилось. Но сумеет ли он так же? А почему бы и нет? Чем он хуже?..
Машина уже совсем близко. Саша видит широкое лицо шофера, пилотку, низко нахлобученную на лоб…
Внезапно техник-лейтенант перебегает на другую сторону…
Саша отступает к кювету…
Почти у самого его лица проносятся окованные железом доски. Саша хватает правой рукой задний борт и, тщетно пытаясь уцепиться за него второй рукой, которую все время относит в сторону, бежит за машиной. Краем глаза он видит, как ловко взобрался наверх техник-лейтенант. Теперь он понимает, почему тот перебежал на другую сторону. Оттуда удобнее залезать: выше и с руки… Наконец Саша последним усилием хватается второй рукой за борт и упирается коленом в какой-то выступ. Затем с отчаянием на лице подтягивается и, едва не запутавшись в собственных ногах, переваливается в кузов…
А техник-лейтенант уже сидит у кабины. Рядом с ним капитан-медик. Тут же старший сержант с клоунской физиономией и молоденький солдат.
Саша проходит вперед и садится на свободное место у самого борта.
Как только он чувствует себя снова пассажиром, к нему возвращается прежнее благодушное настроение. Этому способствует и привычное окружение, по всему видно, добрых и славных людей. Он с нежностью смотрит на своих новых попутчиков и с нетерпением ждет таких же нежных ответных взглядов. И не очень-то огорчается, что их пока нет: внимание всех приковано к единоборству машины и подъема. К тому же из своего уже солидного дорожного опыта он знает, что всему свое время. Не пройдет и получаса — и все, кто здесь, станут приятелями. А может быть, и раньше…
Но вот машина въезжает на пригорок и, пройдя какой-нибудь десяток метров, неожиданно останавливается.
Что там случилось?
Сердито распахивается дверца кабины. Над передним бортом появляется хмурая физиономия.
— Кто сейчас сел?
От интонации, с какой сказаны эти слова, несет недобрым. Саша вопросительно смотрит на техника-лейтенанта, но тот делает вид, что его это не касается.
Саша встречается взглядом с капитаном. Ему кажется, что в глазах у того мелькнула усмешка.
— А?..
Сейчас шофер в упор глядит на него.
— Ну, я, — краснея, признается Саша.
— Давай сходи!
Саша возмущен. Но не столько тем, что его хотят согнать с машины, сколько тем, что какой-то младший сержант позволяет себе так с ним разговаривать! С каким наслаждением он наорал бы на него, но тогда уж точно придется сойти, снова месить грязь, ловить машины, а в довершение всего промокнуть до нитки — опять стало темно… Поэтому он старается говорить сдержанно и с достоинством, так, чтобы не обидеть и в то же время поставить этого типа на место. Но голос у него все равно дрожит от волнения:
— Во-первых, прошу не тыкать, а во-вторых, я никуда не пойду…
Шофер в один прием перемахивает через борт и подходит к Саше — рыхлый детина с огромными кулачищами.
— А ну вытряхайся!
Саша вконец теряется. Он чувствует, что словами шофера не проймешь, что тот не отвяжется, пока не добьется своего. Но уступить ему — это значит на глазах у всех опозорить себя и свои погоны. Положение — хуже не придумаешь! Если бы в училище ему сказали, что на фронте он когда-нибудь попадет в такой переплет, он бы ни за что не поверил. Он мог допустить все: и ранение, и смерть, и даже плен. Но только не это…
— Долго буду ждать?
Но почему все молчат? Может быть, они считают, что такого, как он, новоиспеченного офицерика нечего принимать в расчет? Или каждый думает только о себе? Даже техник-лейтенант, который по справедливости должен сейчас отдуваться вместе с ним, лишь молчит да хвастливо подмигивает: а я-то, мол, выкрутился… Неужели ему не совестно перед ним, Сашей, не стыдно перед остальными?
— Оглох, что ли?
Наконец Саша собирается с мыслями и говорит:
— Никуда я не пойду.
— Не пойдешь? — И шофер, неожиданно содрав с Сашиной головы пилотку, швыряет ее на землю.
Теперь Саша окончательно теряет контроль над собой. Он вскакивает и кричит плачущим мальчишеским голосом:
— Вы не имеете права!.. Вы не смеете поднимать руку на офицера! На гвардейского офицера! — «О, господи, зачем я это говорю?!» — Я доложу о вас вашему командиру!.. Вас отдадут под трибунал!..
Между Сашей и шофером просовывается худенькое плечо с капитанским погоном.
— Послушайте, оставьте младшего лейтенанта в покое.
Шофер медлит. Но, очевидно, прикинув в уме, что так и в самом деле можно нарваться на крупные неприятности, тяжело поворачивается и, не глядя ни на кого, спускается на землю. А капитан молча возвращается на свое место.
Громко хлопает дверца. После короткой и сердитой возни в кабине машина рывком подается вперед.
До Саши долетают слова:
— Со мной бы у него этот номер не прошел. Схлопотал бы по морде…
Это несколько запоздало комментирует происшествие техник-лейтенант.
Саше так стыдно, так стыдно, что дальше некуда. Стыдно за истерику, которую он только что устроил, за то, что не смог дать отпор этому хаму, за свое жалкое, немужское поведение.
И вдруг он спохватывается: а пилотка? Что же делать? Он же не может явиться в часть без пилотки. Да и вообще его задержит первый же патруль в первом населенном пункте!.. Ни постучать, ни спрыгнуть… А машина все дальше и дальше удаляется от того места, где осталась пилотка.
На Саше, который нервно суетится и дергается, останавливается недовольный, вопрошающий взгляд капитана.
Саша кивает на уходящую дорогу:
— Пилотка!
И хотя первая реакция Сашиного спасителя весьма неопределенна, он все же поднимается и, с трудом удерживая равновесие, пробирается к кабине. Стучит, но не очень сильно. Сперва косточками пальцев, а потом кулаком.
Машина сворачивает к обочине и останавливается. Показывается знакомая физиономия.
— Чего вам?
— Мне — ничего, — отвечает капитан. — Просто пилотку забыли поднять.
В этой реплике Саше слышится ирония по своему адресу. Но сейчас он принимает ее как должное. Впрочем, на свой счет относит ее и шофер.
— Возвращаться не буду, — делая ударение на слове «возвращаться», отрезает тот.
— Ну, зачем возвращаться? — замечает капитан. — Сами сбегаем…
— Только пусть побыстрее. А то долго ждать не буду!
— Ну уж это как удастся обернуться. Ведь ее еще найти надо!
Саша подается к борту.
— Подождите, младший лейтенант! — останавливает его капитан. — Сбегает старший сержант.
— Слушаюсь! — с готовностью откликается тот, и его густые брови на прощанье — уже специально для Саши — смешно сходятся к переносице. У заднего борта он еще раз оборачивается к Саше и неожиданно корчит новую рожу.
Краска заливает лицо Саши. Он чувствует, что теперь над ним могут смеяться все кому не лень. У него даже появилось острое желание дать этому кривляке хорошего пинка.
Но по мере того как бегущая фигура отдаляется от машины, это чувство постепенно сменяется беспокойством. Сашу начинает волновать, успеет ли старший сержант сбегать за пилоткой. В том, что шофер в любую минуту может исполнить свою угрозу, он не сомневается. Такой человек способен на все.
Саша совершенно не представляет, что он будет делать в этом случае… Появиться в таком виде перед командиром прославленной бригады, которому он должен доложить о своем прибытии, — это значит с самого начала попасть в число нарушителей дисциплины. Ведь правду не скажешь — тогда вообще не примут: кому нужен такой офицер? А соврать, придумать что-нибудь… ну, скажем, ветром в реку сдуло или при бомбежке на станции потерял — тоже мало что даст. Главное — сам факт. А факт этот явно не в его пользу.
И при мысли, что из-за какого-то пустяка, мелочи, которая выеденного яйца не стоит, и кончится вся его карьера, на душе становится совсем грустно… Только бы успел… Только бы успел…
Но хотя старший сержант бежит быстро — этого у него не отнимешь, — все-таки расстояние между ним и тем местом, где начинается спуск, почему-то сокращается медленно…
Впрочем, это может быть и обман зрения…
От непрерывного натягивания кожи на висках у Саши устают руки, саднят уголки глаз, натертые грязными пальцами… Но он все равно продолжает напряженно следить за мелькающей вдали одинокой фигуркой.
И вдруг Саша весь внутренне сжимается… Все время думать о себе и ни разу не подумать о том, другом человеке! Ведь если шофер не захочет больше ждать, то старший сержант останется… Правда, ничего страшного нет: уйдет эта машина — сядет на другую, до фронта он уж как-нибудь доберется…
Но вещмешок его здесь. Если что, то не видать ему мешка как своих ушей…
А главное — было бы хоть из-за чего оставаться, а то из-за чужой пилотки!
Теперь Саша переживает за старшего сержанта тоже…
Только бы успел!
А тот уже далеко-далеко…
Наконец наступает момент, когда Саша почти не различает, где старший сержант, а где пятна тени на дороге. С этой минуты единственный источник информации для него — реплики попутчиков.
— Да он не туда пошел!
— Почему не туда? Туда.
— Ищет…
— Да ее не там надо искать!
— Отседова разве увидишь, там или не там?
— Солдат все должен видеть, — с шутливой интонацией замечает техник-лейтенант, обняв за плечи молоденького солдата и Сашу. На его лице, как ни в чем не бывало, все та же нагловатая дружеская улыбка… Саша осторожно, чтобы не было заметно, убирает плечо…
— Долго чего-то ищет…
— На зеленом не видать…
— Гляди-ка, чего-то нашел!
— Ишь как ногой поддал!
— Может, где на кустике висит?
— Надо бы самого водителя послать…
— Он те пошлет!
— Снова на дорогу вышел.
— Стоит чего-то…
— Траекторию полета высчитывает…
Сашу уже не на шутку беспокоят затянувшиеся поиски. Он то и дело поглядывает на кабину, на окошко, за которым затаилась чужая, недобрая воля. Он чувствует, что она вот-вот даст себя знать…
— Опять повернул в кусты, — спокойно комментирует кто-то.
— Куда это он?
— Побрызгать!
— Ну, теперь дело на лад пойдет!..
Наконец это мгновение, которого так боится Саша, наступает: скрипнула дверца, качнулась под тяжестью огромного нетерпеливого тела машина… Тут же стихает разговор, повисают в воздухе реплики… Все ждут последней и завершающей вспышки шоферского гнева… Но тот молча хлопает дверцей и выходит на середину дороги.
Сашу вдруг осеняет. Если шофер не согласится больше ждать, то придется сойти, захватив с собой сержантский сидор. Тогда все станет на место: он разыщет пилотку, к старшему сержанту вернется его вещмешок, а машина уйдет с остальными. И все будут более или менее довольны. Странно вот только, что эта простая и ясная мысль не приходила ему в голову раньше.
Но шофер почему-то молчит. Постояв на середине дороги, он принимается проверять скаты. Глухо раздаются удары кованого сапога о колеса.
Или он вообще собирается обойтись без предупреждения? А заодно поиграть на нервах у своих пассажиров?
Бросив короткий и колючий взгляд в сторону старшего сержанта, все еще занятого поисками пилотки, он круто поворачивается и решительно направляется к кабине.
— Товарищ капитан! — говорит Саша. — Я сойду!.. И это захвачу!
— Подождите. Я попробую его уговорить… Товарищ младший сержант!..
Но дверца захлопнулась, и тотчас же взревел не отключавшийся ни на минуту мотор. Машина трогается…
— Стой! Стой!
Саша хватает сержантский вещмешок и бросается к заднему борту.
— Товарищ младший лейтенант! Постойте! Машина разворачивается! — останавливает его чей-то возглас. И в самом деле Сашу, сидящего верхом на борту, начинает заносить в бок. Он не без усилий перебирается снова в кузов и смотрит на остальных: правильно ли он понимает происходящее? Конечно! Недаром лица у всех довольные, торжествующие!
— Сдрейфил! — подытоживает техник-лейтенант.
И хотя Саша понимает, что, возможно, так оно и есть, он недолго радуется поражению противника — ровно столько, сколько требуется машине времени на то, чтобы развернуться и проехать первые десятки метров…
К моменту, когда Сашины глаза снова начинают различать старшего сержанта, он уже думает о шофере, что тот, наверно, человек неплохой, только очень нервный и вспыльчивый. И оттого, что он так думает, у него заметно поднимается настроение. В эту минуту ему кажется, что опять сомкнулась разомкнувшаяся было цепь везений и уже дальше непременно все пойдет как по маслу.
Впрочем, он знает, что все это самообман. И что главное — другое…
А старший сержант уже бежит навстречу машине, размахивая палкой с надетой на нее пилоткой.
И все вокруг горячо обсуждают это событие.
В ЧАС, КОГДА ОСТЫВАЮТ ПЕЧИ
1
Нас было трое. Трое случайных попутчиков, добиравшихся до своих частей, которые наступали в одном направлении, по одним и тем же дорогам. Судьба свела нас на рассвете, и с тех пор мы не разлучались: вместе голосовали на обочине, вместе тряслись в кузове, вместе брели по рыхлому снегу, когда не было машин. Майор, черноусый крепыш цыганистого типа, оказался командиром танкового батальона, а капитан, с простого курносого лица которого открыто глядели на мир усмешливые плутоватые глаза, — начальником артснабжения полка. Оба долго находились на излечении в разных госпиталях. Только капитана выписали, а майор удрал сам — досрочно: стосковался по своим гаврикам.
Я же был лишь военфельдшером и лейтенантом, то есть ниже их и по званию, и по должности, не говоря уж о возрасте, — мне только-только исполнилось двадцать. В дороге со мной приключилась беда. Машина, на которой я отвозил раненых в госпиталь, на обратном пути врезалась в телеграфный столб. Делать нечего — пришлось оставить ее вместе с водителем в кювете, а самому возвращаться на попутках. Правда, шофер обещал быстро все отремонтировать и нагнать меня в дороге, но я в этом очень сомневался — радиатор смяло так, что даже я, ничего не смысливший в машинах, понял: полуторка свое отъездила.
Вскоре в дорожных хлопотах я и вовсе позабыл о ней. Однако, как мы ни старались, но в первый день так и не догнали свои части — они опередили нас по меньшей мере на сорок — пятьдесят километров. За это время мы почти подружились. Ели из одного котелка, делились скудными пайками. И этим выручили майора, у которого по понятной причине ничего из еды с собой не было. Зато, как зовут друг друга, так и не поинтересовались. Обращались больше по званию или по должности.
И вот поздно вечером, напрасно протомившись у деревенской околицы в ожидании очередной попутки, мы решили заночевать. Закинули за спины вещмешки и двинулись на поиски ночлега.
Деревушка, в которой мы застряли, только утром была освобождена от немцев. Повсюду виднелись следы короткой и ожесточенной схватки: опрокинутые и покореженные грузовики, раздавленные легковушки, подбитые бронетранспортеры.
Я задумался и споткнулся о что-то твердое и круглое, припорошенное свежим снежком. Если бы не капитан, успевший подхватить меня под руку, я бы растянулся на обочине.
— Что это? — чертыхнувшись, спросил я.
— Дохлый фриц, — равнодушно сказал майор.
И тут я увидел две голые ступни, торчавшие из-под снега. Вернее, одну голую, другую в рваном носке. Сапоги, по-видимому, снял кто-то из местных жителей, не без основания полагая, что мертвому они уже без надобности.
— А вон еще один!
Да тут их, наверно, под снегом тьма — мертвецов в ненавистной форме.
— Лихо проутюжили! — одобрительно заметил капитан, оглядывая разгромленную колонну.
— Слышишь, — обратился к нему майор, — а вдруг это мои гаврики раскатали? Узнать бы у кого?
— У кого узнаешь? Эти, — капитан кивнул на убитых немцев, — уже не скажут, а для местных жителей все наши танки одинаковы. Так что придется, комбат, потерпеть до завтра. До встречи со своими. Хотя до завтра, как говорится, еще дожить надо.
— До завтра-то доживем, — усмехнулся в усы майор. — А вот дальше — не обещаю.
— Тоже верно, — согласился капитан…
Ближние избы оказались нежилыми: хозяева, видно, временно перебрались к соседям. Не было и смысла заглядывать внутрь: выбитые стекла, сорванные двери, продавленные стены и крыши говорили сами за себя. Похоже, здесь немцы оказали наибольшее сопротивление.
Вскоре мы поравнялись с первой хатой, в которой были целы все окна и из трубы тянулся дым. Но во дворе стояли две крытые машины, а возле них солдат в одной нижней рубашке, не обращая внимания на валивший снег, колол дрова. Опознавательные знаки на бортах и дверцах никому из нас не были знакомы. Однако, как солдат ни крепился, оберегая военную тайну, уже через полминуты мы знали, что его часть переброшена сюда с другого фронта. О том же, кто брал это село, он не имел ни малейшего представления. Зато он подсказал нам, что ночлег надо искать не здесь, где дома или разбиты, или заняты солдатами, а на том конце села, на самом спуске к реке.
Но и там нам повезло не сразу. Прошло добрых полчаса, прежде чем мы наконец наткнулись на этот домик, стоявший в стороне от дороги. Как сейчас помню, возле него возвышалась молоденькая березка, в ветвях которой — еще по-зимнему голых и черных — приветливо светилась совсем новенькая скворечня. Да и сам домик был славный, располагающий к себе — из трубы вился дымок, на окошках белели кружевные занавески.
Мы поднялись на невысокое крыльцо и очутились в сенях. Капитан постучал в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел.
Не очень молодая, как мне тогда показалось, женщина стирала в корыте белье.
— Здорово, хозяюшка! — произнес капитан.
— Здравствуйте! — ответила женщина, улыбаясь и поправляя тыльной стороной руки платок на голове.
— Пустишь переночевать?
— А много вас?
— Да вот трое!
— И до вас было трое. Часа два как съехали!
— И после нас будет трое, — пошутил капитан.
— Так и ходите все по трое? — улыбнулась она.
— Так и ходим, — в тон ответил капитан и кивнул на приколотую к стене репродукцию васнецовских богатырей. — Вон и на картинке у вас трое!
— А… вещий Олег и его два помощника! — заметил майор.
Я удивленно посмотрел на него. Может быть, пошутил? Нет, не похоже: он сказал это как что-то само собой разумеющееся. Но как можно не знать таких простых, элементарных вещей? И тут я вспомнил, что до войны он работал начальником автотранспортной колонны, перевозившей с юга фрукты и овощи. Надо думать, и общался он в основном с грузчиками да шоферами.
— Чего-то не то, — почесал затылок капитан. — Вот этого, в середке, я знаю — Илья Муромец. А этих двух позабыл!
«Это уже лучше», — подумал я. Но только собрался внести полную ясность в этот вопрос, как хозяйка сказала:
— Проходите до горницы. Я — сейчас!
Мы разделись и прошли на другую половину, отделенную от кухни длинной ситцевой занавеской.
Здесь все было, как в обычной деревенской избе: и ничем не прикрытый стол, и деревянная кровать со взбитыми подушками, и комод с какими-то самодельными шкатулками, и семейные фотографии на стене.
От печи к стене протянулась вторая ситцевая занавеска, образуя в избе еще один закуток.
В горнице стоял полумрак: немного света проникало сюда лишь из кухни.
И вдруг до нас долетело всхлипывание — короткое и жалобное.
Капитан шагнул к закутку и отогнул занавеску. Я тоже заглянул туда. На большом сундуке со свисающим тюфяком, под лоскутным одеялом не то спал, не то просто дремал мальчик лет шести-семи. Он лежал на боку и тяжело дышал. Наверно, у него была высокая температура.
— Привет! — игриво произнес капитан.
— Папка! — встрепенулся и сел в своей неудобной постели мальчик. И тут же сильно раскашлялся.
— Ну какой я тебе папка? — переждав кашель, сказал капитан. — Похож, что ли?
— Похож, — с тихим вздохом ответил мальчик.
— Темно, вот ты, брат, и спутал.
— А в скворечне еще нет скворцов? — неожиданно спросил мальчик.
— В скворечне? — капитан на мгновение растерялся. — Нет, брат, пока нет.
— А дядя Вася где?
— Какой дядя Вася?
— Который скворечню делал.
— Чего не знаю, брат, того не знаю. А ты здорово простыл, погляжу.
— Да, здорово.
— Ну ничего, мы тебя вылечим. Вот доктор у нас! — кивнул он в мою сторону.
Мальчик безучастно посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. Я подошел к изголовью и положил руку на лоб. Горячий, но в меру. Ничего страшного. Потом, на ночь, дам аспирина. У меня, кажется, где-то есть несколько таблеток.
— Спи, — сказал я и вышел из закутка.
Майор тем временем пытался зажечь керосиновую лампу, стоявшую на столе. Вполголоса чертыхаясь, никак не мог вытащить глубоко запавший фитиль.
Капитан порывался помочь ему:
— Дай-ка я!
— Сиди, Муромец!
— Кстати, — заметил я, — в середине действительно Илья Муромец, а по бокам Добрыня Никитич и Алеша Попович.
— Вот-вот, Алеша Попович! — обрадовался капитан.
— Ну и хрен с ними! — отозвался майор. — Нет английской булавки?
— Сейчас! — ответил я и полез под гимнастерку. Вчера только у меня оборвались тесемки кальсон, и я скрепил все английской булавкой, взятой из перевязочного пакета.
— Не свалятся? — полюбопытствовал майор.
— Не беда, — заметил капитан. — Свалятся — так недалеко.
— Не беспокойтесь, не свалятся, — ответил я, завязывая кальсоны узлом на тощем животе.
С моей булавкой дело сразу пошло на лад. Вскоре огонек спички лизнул фитиль и робко пополз дальше. Словно опасаясь, что он может вдруг исчезнуть, майор быстро накрыл его стеклом с отбитым верхом и закопченными боками. Наша половина постепенно пропитывалась тусклым ламповым светом.
— А я-то думала, что вы в темноте сидите! — промолвила хозяйка, появляясь в горнице.
Мы разом обернулись и встали. Хозяйка приоделась. На ней было городское платье с короткими рукавами и оборками. На несколько толстоватых ногах чернели туфли на высоких каблуках. В новом наряде она и похорошела, и помолодела.
— А мы-то думали, что вы еще стираете! — в тон ей произнес капитан. Я заметил, что с женщинами и детьми он разговаривал каким-то деланным игривым голосом.
— Да успею! Завтра докончу, — сказала она. — День-то сегодня какой!
— Да, второго такого у вас уже не будет, — подал голос майор.
— Даже не верится, — призналась она. — У меня ведь муж тоже командир. Как в первый день ушел на войну, так и пропал.
— Может, еще вернется, — сказал капитан.
— Где уж вернется, — вздохнула она. — За два года, пока еще тут наши были, ни письма, ни весточки какой.
— Эх, хозяюшка, чего только не бывает с нашим братом фронтовиком!
— На меня на самого два раза похоронка приходила, — усмехнулся майор. — И оба раза на имя моей бывшей жены. Так сказать, единственной родственницы. Ничего, пережила и это…
— Один из наших говорил, — продолжала хозяйка, — будто видел его у самой границы.
— Ну, значит, в плен попал, — сказал капитан.
— Дай-то бог! — отозвалась она. — Лишь бы живым остался!
— Н-да, — произнес майор и переглянулся со мной. Что такое плен у немцев, мы были достаточно наслышаны. Удивительно, что этого не знала хозяйка, прожившая в оккупации, судя по всему, не меньше года.
И тут ей пришла в голову мысль показать нам фотокарточку мужа: а вдруг кто-нибудь из нас видел его? С надорванного квадратика на нас глянул широкоскулый курносый парень в красноармейской форме с треугольничками в петлицах. Всего-то сержант! Внешность обычная, такие лица встречаешь на каждом шагу. Может быть, и попадался где.
Но ответили: видим впервые…
— Все равно день особый! — воскликнул капитан. — Жаль только, что отметить его нечем!
— Подождите, я быстро! — хозяйка метнулась на кухню.
— Намек понят, — подмигнул капитан и, понизив голос, добавил: — А она ничего!
— Тише! — кивнул я в сторону закутка.
— Хвалим же, не ругаем.
— Лейтенант прав, — поддержал меня майор. — Все равно мать.
— Согласен, — сразу же признал свою неправоту капитан.
Хлопнула сперва кухонная дверь, затем — вторая, весело проскрипели ступеньки крыльца: значит, хозяйка побежала за самогонкой к соседям.
Мы слышали ее торопливо удаляющиеся шаги.
И вдруг наступившую тишину расколол долгий и мучительный кашель. Наконец требовательный и капризный голосок произнес:
— Мамк!
Я подошел, отодвинул занавеску. Мальчик сидел на краю сундука свесив ноги и по-прежнему дышал тяжело.
— Ты чего?
— На двор хочу… Мамк!
— Мамка вышла. Она сейчас вернется. Потерпи немножко.
— Я давно терплю.
— Тебе по-маленькому или по-большому?
— По-маленькому…
— Есть тогда о чем разговаривать. Посиди, я сейчас принесу тебе какую-нибудь посудину.
— Не надо, я сам!
Он спустился на пол и, сделав всего один шаг, пошатнулся.
— А ну живо в постель! — свирепо сдвинул светлые брови капитан. — Я тебе что сказал?
Я вышел на кухню и в углу, под умывальником, увидел таз с грязной водой. Осторожно поднял его и понес в горницу. Мальчик уже стоял на коленях в постели.
— Давай! — сказал я ему.
Он обнял меня за шею и пустил в таз тонкую и долгую струйку. Оба моих попутчика с умильным интересом смотрели на нее.
— А теперь ложись!
От слабости у мальчика плохо слушались руки, но он все-таки лег сам и натянул на себя одеяло.
Майор вдруг стукнул кулаком по столу и показал на меня:
— Вот за это я его люблю!
У капитана тут же возникла идея:
— Давай, лейтенант, переходи к нему в батальон! Любовь комбата — это, брат, три четверти успеха!
— А что? Я бы взял его, — подхватил майор. — Вместо своего коновала.
— Я тоже не против, — сказал я.
— Ничего, может быть, что-нибудь и придумаем, — пощипывая усы, пообещал майор.
Я отнес таз на место. Ничего майор не придумает. Все эти красивые и приятные для моего слуха слова так и останутся словами. Даже очень захоти он, никто не отпустит меня в чужое соединение: у нас у самих не хватало медицинских работников, особенно фельдшеров.
Где-то близко снова захрустели по снегу быстрые шаги. Хозяйка? Я выглянул в окошко: так и есть! Она торопилась и даже не стала надевать пальто. Просто накинула на плечи платок. Я заметил, что рукой она что-то придерживала на груди — по-видимому, бутылку. И вот уже забукали по ступенькам тяжелые валенки. Туфли же, как часовые, стояли у порога, дожидались ее.
— Несет! — крикнул я своим попутчикам и быстро ретировался из кухни: а то еще подумает, что мы места себе не находим от нетерпения.
— Пацан еще, — кивнул в мою сторону майор.
— Немного есть, — согласился капитан.
Если бы кто другой назвал меня пацаном, да в иных обстоятельствах, я бы наверняка обиделся. Ничего себе пацан! В свои двадцать лет я уже был два раза ранен и имел несколько правительственных наград. То есть одну «Звездочку», одну «За отвагу» и две «За боевые заслуги». Я давно потерял счет раненым, которым оказал помощь на поле боя. Во всяком случае, их было уже далеко за сотню. Но сейчас я действительно вел себя по-мальчишески и сам это почувствовал.
Пока хозяйка приводила себя в порядок на кухне, мы вылезли из-за стола и прохаживались по своей половине — проявляли, так сказать, скромность. И перекидывались по той же причине какими-то необязательными, случайными репликами.
— На твоих, Муромец, сколько сейчас? — спросил майор.
— На моих-то? На моих, на моих, — наконец капитан вытащил из карманчика брюк огромную луковицу часов, — полвосьмого.
— На десять минут спешат, — заметил комбат.
— На семь, — уточнил я.
— За полмесяца — на полминуты, — похвастался капитан. — Павел Буре!
— Были и у меня до войны такие, — сообщил майор.
— И куда подевались?
— Ловкие люди вытащили. Одесские урки.
— Наверно, тоже подарок отца?
— Да нет, у одного пижона в карты выиграл, — маленькие черные глаза майора откровенно смеялись. — Как говорится, остался при собственных интересах.
Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент вошла хозяйка и, смущенно улыбаясь, поставила на стол бутылку с мутной синеватой жидкостью.
— Угощайтесь!
— Спасибо, хозяюшка, — поблагодарил майор. — Угостимся, не откажемся.
— Что другое, а это мы умеем! — процитировал я одного своего приятеля — балагура и выпивоху.
— Ну, хозяюшка, ну, хозяюшка! — похаживал вокруг стола и потирал руки капитан.
— Сейчас принесу стаканы, — заторопилась хозяйка и вдруг сконфузилась: — Только закуска у меня — картошка и капуста.
— А нам больше ничего и не надо! Лейтенант, — обернулся ко мне капитан, — давай-ка тащи все, что у нас там осталось!
Не прошло и нескольких минут, как все было готово: открыта свиная тушенка, нарезан хлеб, наполнены стаканы, в блюдечко высыпано печенье — остатки нашего с капитаном доппайка. Каждый положил себе в тарелку хозяйкиной картошки и квашеной капусты.
Хозяйку, которая вначале не хотела садиться за стол, капитан чуть ли не силой усадил рядом с собой, поставил перед ней полный стакан.
— С освобождением вас! — сказал он и первым чокнулся с ней. — Пить до донышка!
Чокнувшись также с нами, хозяйка закрыла глаза и долго пила маленькими глотками.
Самогонка была довольно крепкой и отдавала денатуратом.
— Сильна, чертяка! — сказал капитан, накладывая своей соседке на хлеб тушенку.
— Как освободили нас, — разговорилась мгновенно захмелевшая хозяйка, — так все бросились гнать самогонку. Чтобы вас, наших освободителей, как дорогих гостей встретить!
— А сама-то чего не гнала? — как-то не по-хорошему поинтересовался капитан.
— Ты это брось, Муромец! — вмешался майор. — Не всякому с руки заниматься этим делом.
— Ай и правда: вы еще подумаете, что я меньше других ждала вас? — хозяйка растерянно оглядела нас.
— Поверьте, никто из нас так не подумал! — горячо возразил я.
— Правда?
— Честное слово!
— Видим, видим, ждала, — примирительно заговорил капитан и потянулся за бутылкой.
— А мне и гнать-то ее не на чем! — вдруг призналась хозяйка. — И не до этого было. Игорьку вон опять хуже стало. Он уже поправляться начал, а позавчера все на крыльцо выскакивал, смотрел, не идут ли наши и папка с ними. Ну и прохватило его, видно, насквозь. Вон как тяжело дышит.
— Дети все болеют, — заметил майор. — Такой это народ.
— Ничего, хозяюшка, мы тебе его вылечим! — заверил капитан, разливая самогонку — на этот раз по полстакана, чтобы растянуть на дольше.
— А вы не доктор? — с надеждой спросила она.
— Я-то? Мы с майором больше наоборот. А вот он, — капитан подмигнул мне, — почти светило медицины.
Хозяйка недоверчиво посмотрела на меня.
— Никакой я не светило! — рассердился я. — Простой… — и тут мой язык спасовал перед правдой, несколько приукрасил действительность, — военный медик!
Лицо женщины просветлело.
— Настоящий?
— Настоящий, — ответил я.
— Официально подтверждаю, — заявил капитан.
— Уж больно молоденький.
— Других, увы, нет! — развел руками капитан. — Предлагаю тост за лучшую из хозяек!
— Так уж лучшую, — зарделась она, чокаясь с капитаном.
— Установлено визуальным способом. Мы же до вас все село обошли.
— Что верно то верно, — подтвердил майор. — Многих повидали.
— Вы нам очень, очень понравились, — включился я в общий хвалебный хор.
— Батюшки! А к капусте и не притронулись! — вся красная от похвал, хозяйка попробовала перевести разговор на другое.
— Еще притронемся, — пообещал капитан.
— Даже добавку попросим! — поддакнул я.
Мы выпили до конца, хозяйка же только пригубила. Капитан, как бы забывшись, обнял ее за плечи:
— Нет, нужно до дна!
— Я выпью, — она выбралась из-за стола и пошла к сыну.
И опять в наступившей тишине мы услыхали тяжелое дыхание мальчика.
— Игорек, тебе чего-нибудь надо? Может, подать чего? — долетело до нас из закутка.
Ответ мы не разобрали.
— Пить хочет, — предположил капитан.
— Чаю бы ему с лимоном, — вздохнул майор. — В госпиталь как-то пришли посылки из Грузии — несколько тысяч лимонов. Даже кисели варили из них. Только добро переводили.
— А нас однажды апельсинами завалили, — вспомнил капитан. — Ешь сколько хочешь…
— Печеньица дать? — продолжала допытываться хозяйка.
Мы переглянулись. Я схватил со стола блюдце с печеньем и метнулся к закутку. Откинул занавеску:
— Вот, берите! Нам не надо!
— Куда ему столько? — сказала хозяйка. — Двух печеньиц хватит…
Она взяла два надломленных квадратика и вложила в руку сыну. Но тот лишь взглянул на них, есть не стал.
— Молока бы ему горяченького, — раздался за моей спиной голос капитана. — Хорошо прогревает.
— Товарищ капитан прав: чудесное средство! — Я вспомнил, что в детстве при простуде меня тоже отпаивали горячим молоком, правда подслащенным до приторности.
— Да где его взять, молоко-то? — ответила хозяйка. — Немцы весь скот угнали.
— Неужели во всем селе не осталось ни одной коровы? — спросил капитан.
— Где уж коровы, козы и той не встретите!
— Я посмотрю, может чего найду от температуры, — сказал я и пошел в кухню, где оставил на лавке свою санитарную сумку.
Я не был уверен, что в эту поездку захватил с собой аспирин и другие «мирные» лекарства. Зачем они мне? За две недели боев к нам, в медсанвзвод, не поступило ни одного больного. И это зимой, когда простыть пара пустяков. Зато раненых перевалило за сотню.
В сумке и впрямь ничего лишнего. Перевязочные пакеты, бинты. Еще шприцы, ампулы, жгуты. А это что? Бесалол! Значит, где-то поблизости должны быть аспирин и таблетки от головной боли. То, что у мальчугана голова раскалывается на части, я не сомневался. То-то он все время постанывал. Ах вот они, мои голубчики!
Я налил в стакан кипяченой воды из чайника и пошел давать лекарство.
— Ну что, нашел? — спросил майор.
— А как же!
— Минутку, лейтенант, — остановил меня жестом капитан.
По ту сторону занавески хозяйка поудобнее укладывала сына.
— Сейчас Игоречек ляжет повыше, ляжет повыше… Так Игоречку лучше?
— Само собой лучше, — ответил за мальчика капитан.
— И одеяльце поднимем, — продолжала хозяйка.
— Давай лекарство, — обратился ко мне капитан.
Я отдал стакан с водой и таблетки.
— Сразу две?
— Не имеет значения.
— Вот таблетки и вода, чтобы запить, — капитан передал все хозяйке.
Он лез из кожи вон, чтобы завоевать расположение молодой женщины, но я нисколько не сомневался, что ему жаль мальчика тоже.
— Игоречек у нас уже большой. Скоро в школу пойдет, — ворковала хозяйка.
— Да ну? — принялся подыгрывать капитан.
— А вот и правда. Он сейчас проглотит лекарство и не поморщится.
— Я бы и то поморщился.
— А он — нет… На, на, запей быстренько!
Давясь и проливая воду, мальчик через силу проглотил таблетки. Но первыми словами, когда он отдышался, были:
— Скворечня не упала?
— Ну что ты! — воскликнула хозяйка. — Висит, ждет скворушек!
— А дядя Вася придет?
— Придет, придет… А сейчас Игоречек пусть спит. Завтра он поправится, здоровеньким будет! — приговаривала хозяйка, выходя к нам и задергивая за собой занавеску.
— Что это за деятель? — заинтересованно спросил капитан и, встретив ее удивленный взгляд, пояснил: — Дядя Вася?
«Уже ревнует», — подумал я.
— А до вас был, — ответила хозяйка. — Тоже с двумя приятелями. Он Игорьку скворечню сколотил.
— Вот теперь ясно!
В этот момент капитан увидел патефон. Он стоял на табуретке за комодом, прикрытый какой-то старой немецкой газетой. Окажись там ящик с минами, капитан, наверно, удивился бы меньше.
— Патефон? Откуда?
— Дачники оставили. Немцы подходили. Куда с ним тащиться?
— А пластинки есть?
— Одна вот осталась, — хозяйка достала с самодельной полки пластинку.
У капитана загорелись глаза: это было очень популярное довоенное танго «Цыганская скрипка».
— Поставим?
Хозяйка пожала плечами. Капитан даже не стал крутить ручку до отказа — до того велико было его нетерпение. Едва раздались легкие и щемящие звуки старого танго, как он решительно повернулся к хозяйке.
— Станцуем?
— Ой, я плохо! — воскликнула она.
— Сейчас проверим…
Хозяйка виновато посмотрела на закуток и положила руку на плечо капитану. Он крепко и уверенно обнял ее за талию. С первой же фигуры, которую он начал и закончил с неожиданным изяществом, мы поняли, что он когда-то много и хорошо танцевал. Хозяйке, конечно, было далеко до него, но все-таки она ни разу не сбилась с такта и всегда угадывала, чего от нее ждут в следующей фигуре.
Когда музыка кончилась, капитан сделал мне знак перевернуть пластинку. Там был уже фокстрот. Кажется, «Рио-Рита». И на этот раз капитан показал себя великолепным танцором. Я бы никогда не поверил, что в таком крохотном пространстве — между столом и комодом — можно было так изощряться. Простое и курносое лицо капитана преобразилось, стало каким-то значительным и красивым. Хозяйка с каждым шагом чувствовала себя увереннее и уже не скрывала своего удовольствия от танца с таким опытным и ловким партнером. И не отодвигалась, когда он прижимал ее к себе.
Мы же с майором отчаянно завидовали капитану, легко и непринужденно завоевавшему расположение хозяйки. В конце концов, на нас тоже действовали и красивая задорная музыка, и выпитая самогонка, и присутствие молодой и приятной женщины.
И вдруг, когда, казалось, им еще танцевать и танцевать, хозяйка неожиданно выскользнула из рук партнера. Произнесла сдавленным голосом:
— Все. Сейчас постелю вам. Только уж извините, что на полу.
— Ничего, мы привыкшие, — ответил я.
— Что ж, будем спать, — сказал, вылезая из-за стола, майор.
2
Я долго не мог уснуть. Сперва потому, что было жестко: единственный тюфяк мы положили под голову. Правда, его хватило еще и на верхнюю часть туловища. Зато все, что было ниже талии, соприкасалось с голыми досками: не спасли и сложенные вдвое чистые половики — они сразу сбились и оголили пол.
А потом мешал спать капитан. Дождавшись, когда я и майор в полудреме закрыли глаза, он осторожно поднялся и скрылся в горнице. Мы мгновенно проснулись и затаили дыхание. Громко заскрипела кровать. Донеслись приглушенные голоса. И вдруг мы явственно услышали твердое: «Нет, нет!» Капитан еще какое-то время поупрашивал ее и затем не солоно хлебавши вернулся к нам на кухню. Майор бросил ему с упреком: «Разве не видно, что она все еще ждет мужа?» — «Ну и пусть ждет!» — обиженно произнес капитан, поворачиваясь к нам спиной и накрываясь с головой своей щегольской шинелью.
Но и после бесславного возвращения капитана сон долго не шел. Мне было слышно все, что делалось в горнице: и тяжелое дыхание мальчика, и отрешенная от всего работа ходиков, и тихое поскрипывание кровати. Похоже, хозяйка тоже не могла уснуть. Раза два или три она подходила к сыну: поправляла одеяло, давала попить…
Вскоре захрапел капитан, а за ним стал посапывать и майор.
Я лежал, лежал и тоже незаметно уснул…
Разбудило нас жалобное причитание хозяйки:
— Игоречек, Игоречек, что с тобой? Что с тобой?
Я сел в постели.
— Сыночек мой!
Я вскочил, быстро натянул галифе и босиком прошел на ту половину. Хозяйка стояла на коленях у сундука и заглядывала сыну в лицо.
— Что с ним? — растерянно спросил я.
— Уже заговаривается…
Мальчик и в самом деле бредил. Я с трудом разобрал отдельные фразы:
— …Папка, ты добрый, добрый… папка, возьми меня с собой, ну, возьми…
Он весь горел. Температура у него, наверно, была не меньше сорока. Странно, что до сих пор не подействовал аспирин. Но, может быть, недостаточно прошло времени?
Я зажег спичку, чтобы взглянуть на часы.
Хозяйка ойкнула и прикрылась занавеской — спохватилась, что в одной нижней рубашке.
Я отвернулся.
— Не бойтесь, я не смотрю!
Она прошмыгнула к кровати, быстро натянула платье.
— Да можно уже.
Я снова чиркнул спичкой. Всего полпервого. С того момента, как мальчику дали лекарство, прошло около двух часов. И все-таки я не был уверен, что аспирин уже не подействует. На всякий случай посоветовал хозяйке приготовить сухое белье…
Тяжело дышащего Игорька мы усадили повыше. Так ему вроде легче.
— Если что — будите, — сказал я хозяйке и вернулся на кухню.
— Что с ним? — спросил майор. — Очень высокая температура.
— Не помогли таблетки? — поинтересовался капитан.
— Еще нет…
— На черта нас понесло сюда? — проворчал капитан.
Его раздражение нам было понятно, и мы с майором никак на него не отреагировали.
Сейчас мы не слышали ничего, кроме тяжелого дыхания мальчика. Все остальные звуки уже не воспринимались нами, хотя по-прежнему поскрипывала кровать, вставала и ходила по комнате хозяйка, громко тикали ходики.
— Теперь уж не уснуть, — сердито проговорил капитан.
— Считайте до тысячи, — сказал я.
— Считай, лейтенант, сам, — добродушно огрызнулся капитан.
— Кто как, а я попробую все-таки уснуть, — заявил майор, натягивая на голову шинель.
— Давайте тоже? — обратился я к капитану.
— Не выйдет. Я себя знаю. До утра промыкаюсь…
Конечно, нам здорово не повезло с ночлегом. Но оба моих попутчика не боялись прямо говорить об этом. Такая откровенность нисколько не исключала жалости к мальчику. Впрочем, большего от них и не требовалось. Я же был медиком (пусть не врачом, пусть всего фельдшером, ничего не понимающим в детских болезнях) и не мог не думать о том, чтобы как-то помочь больному. Я мучительно припоминал все, что знал о воспалении легких у взрослых, о его лечении. Наконец ясно увидел перед собой страничку из блокнота, на которой с пятого на
десятое записал лекцию военврача второго ранга Светлова о легочных заболеваниях. Там были в основном одни названия: плеврит сухой, плеврит гнойный, бронхит острый, бронхит хронический, пневмония катаральная… В то время я был уверен, что знание этих сугубо «мирных» болезней вряд ли пригодится на фронте. Так думало большинство из нас. Поэтому вместо того, чтобы слушать лекцию, курсанты строчили письма домой, кемарили после ночного дежурства, с интересом глазели в окна, за которыми старательно печатали строевой шаг наши боевые коллеги — девчата из фармацевтической роты. А некоторые ребята, забившись в дальние уголки огромной аудитории, вели ожесточенные «морские бои» — были у нас любители и такого времяпрепровождения.
В результате мне припомнились всего два-три симптома и общие указания по уходу за такими больными: строгий постельный режим, несколько приподнятое положение грудной клетки, обильное питье. Все это у Игорька было. Хозяйка, которая не имела никакого медицинского образования, сама сообразила, что лучше.
А вот какие лекарства давать при воспалении легких — я так и не вспомнил. Впрочем, кроме аспирина и таблеток от головной боли у меня все равно ничего не было. Да и те почему-то не помогали…
Оставалось последнее — надежда на то, что организм мальчика сам справится с болезнью. Я знал немало случаев, когда дети выздоравливали, несмотря на весьма неблагоприятные прогнозы. Порой и лечения-то никакого не было. Поправлялись сами по себе. Тысячи мальчишек и девчонок болели воспалением легких, и ничего — не умирали.
Не исключено, что к утру ему тоже станет легче.
Мне надо только уснуть и проснуться, когда все страшное будет позади.
Но легко сказать — уснуть. Напряженное дыхание мальчика по-прежнему заполняло низкое и тесное помещение. Оно состояло из одних и тех же неизменно чередовавшихся грудных и горловых звуков. Правда, время от времени я улавливал какие-то странные перебои. Словно мальчику не хватало воздуха. Однако он тут же справлялся с этим, и звуки снова следовали друг за другом в обычном порядке…
— Скорее бы утро, — простонал капитан.
Оказалось, майор тоже не спал. Он молча поднялся и вышел в сени покурить. Это была его первая закрутка после долгого перерыва: еще в госпитале он, по требованию врачей, «завязал» с куревом. И вот сейчас не выдержал. Наскреб по карманам шинели табачной пыли на цигарку — так прямо с хлебными крошками и свернул.
Мы же с капитаном и вовсе не курили — редкий, крайне редкий случай среди фронтовиков. А поначалу вообще было удивительно и неправдоподобно: из троих попутчиков — трое некурящих. Как по заказу постояльцы.
Вскоре майор вернулся, лег. Сообщил, отплевываясь:
— Ну и пакость!
— Зря вы, — сказал я.
— Все равно б долго не выдержал. В первом же бою закурил бы…
Некоторое время мы лежали молча, по-прежнему придавленные тяжелым дыханием ребенка.
И вдруг я заметил, что перебои, насторожившие меня еще в самом начале, уже следовали один за другим с небольшими перерывами. Всякий раз воздух заглатывался с невероятными, почти судорожными усилиями. Мальчик задыхался..
До меня долетело приглушенное рыдание хозяйки: наверно, она боялась нас разбудить.
Я разом перемахнул через лежавшего майора и, накинув на плечи шинель, пулей влетел на ту половину.
Хозяйка сидела на полу у сундука и тихо выла. Она даже не обернулась в мою сторону. Меня обожгла мысль: неужели она поняла абсолютную бесполезность и никчемность моего присутствия?
И в этот момент хозяйка вскочила, бросилась ко мне.
— Товарищ командир! Помогите! Он умирает!
— Зажгите свет, — сказал я, стараясь быть спокойным и уверенным.
Она метнулась к столу. Но прежде чем зажечь лампу, переломала, наверно, с десяток спичек…
Наконец тусклый и жидкий свет медленно добрался до закутка. В широко раскрытых глазах мальчика проглядывал ужас.
Я стоял и не знал, что делать. По-прежнему было бессмысленно уповать на знания внутренних болезней, полученные мною в училище. До всего я должен был дойти своим умом. Не теряя головы, в считанные минуты найти то, что знал самый плохонький врач, даже не врач, а студент старших курсов медицинского института. Первое — пытался я рассуждать — надо понять, отчего задыхался мальчик. Может быть, у него все внутри забито мокротой? А может быть, сузился просвет в горле? Скорее всего последнее, почему-то решил я. Достаточно послушать, с какими усилиями проходит туда и обратно воздух: на его пути почти осязаемая преграда, которую он всякий раз должен преодолеть. И вдруг откуда-то из глубин памяти выплеснулось короткое и резкое, как немецкая воинская команда, слово — круп! Круп истинный, круп ложный. Крупозное воспаление легких? Нет, я что-то путаю. А если у него не крупозное воспаление легких, а дифтерия? Та самая дифтерия, за которую я получил двойку по инфекционным болезням? Она часто сопровождается отеком гортани. Неожиданно одно потянуло за собой другое. Я вспомнил, что в записках какого-то врача, ставшего потом писателем, не то Вересаева, не то еще кого-то, приводился подобный случай. Там также задыхался ребенок, металась в отчаянии мать, а молоденький и неопытный врач стоял в растерянности перед кроваткой и мучительно припоминал все, чему его учили в институте. Но он все-таки был врач и кое-что знал. Он сделал мальчику разрез горла и вставил трубку. И тот остался жить. Боже, как же называется эта операция? Трахео, трахео… Впрочем, зачем мне название? Да, легко сказать — разрезать горло. Правда, скальпель у меня есть. И простерилизовать его недолго. Можно найти и резиновую трубку. Но взять и разрезать вот эту тоненькую, худенькую, наболевшую шейку? И где, в каком месте? На какую глубину? А вдруг там, где я разрежу, проходят важные кровеносные сосуды и нервы? Разумеется, мы тоже изучали анатомию человека, но не до таких тонкостей. Только самое главное, самое основное. Артерию сонную, височную, бедренную… Кажется, и все? Нет, нет, даже и думать нечего. Не хватало еще, чтобы я своими руками зарезал ребенка. Но все-таки что же делать? Стоять и смотреть, как он умирает в муках? Слушать, как рядом тихо и обреченно всхлипывает его мать?
Я стал искать у Игорька пульс. Зачем? Не знаю. Лишь бы не стоять без дела. Наконец после долгих и отчаянных поисков я ощутил очень редкие и слабые толчки.
Но я и без того видел, что состояние мальчика быстро ухудшалось. Он уже не бредил. Сейчас его организм из последних сил боролся за каждый глоток воздуха.
— Ну что, лейтенант? — раздался позади взволнованный голос майора.
— Сейчас сейчас, — растерянно твердил я, но по-прежнему не знал, что делать.
Впрочем, я мысленно хватался то за одно, то за другое средство и тут же отказывался от них: о, если бы была хоть малейшая уверенность, что они помогут! Даже самые обыкновенные банки, разумеется если их удастся найти или, на худой конец, заменить чем-нибудь, например стаканами, представляли для меня уравнение со многими неизвестными: можно ли их ставить или нет, а если можно, то куда, и не будет ли упущено, пока вожусь с ними, драгоценное время: каждая минута, каждая секунда могли стать последними…
— Врача бы сюда, — почти простонал я, признаваясь в своем бессилии.
— Чему вас только учили? — хмуро бросил в мою сторону майор. — Капитан! Сходил бы…
— Все, понял! — мгновенно отозвался тот, натягивая у порога сапоги. — Сейчас разведаю!
Майор прав. Не может быть, чтобы во всем селе, где большинство домов забито до отказа заночевавшими солдатами и офицерами, не оказалось ни одного военного врача. Пусть это будет самый неопытный, самый несведущий, самый недетский доктор. Надо думать, что знаний у него хватит, чтобы разобраться в состоянии умирающего от удушья мальчугана…
Вскоре громко хлопнула за капитаном входная дверь, торопливо проскрипели ступеньки крыльца.
Теперь я страшился одного — как бы врач не пришел слишком поздно. За два года своей фронтовой жизни я немало нагляделся на тяжелораненых и хорошо понимал, что означала синева, проступившая на лице мальчика. Я с ужасом вслушивался в его беспорядочное дыхание, которое могло оборваться в любое мгновение…
Я мог лишь ждать, ничего больше. Я прильнул к окну, за которым уже занимался рассвет.
А за моей спиной хозяйка в полный голос уже оплакивала сына:
— Игоречек, что ты со мной сделал? Что я скажу твоему папке, когда он вернется?
Меня трясло как в лихорадке. Если можно было бы отдать свое легкое, беспрепятственное дыхание ребенку, изнемогающему от удушья, я бы, не задумываясь, это сделал.
— Может, чего-нибудь все-таки придумаешь, лейтенант? — сказал майор.
— Трахеотомия, — вдруг вспомнил я. — Так называется эта операция. Ее делают только врачи.
— Не справишься?
— Нет, — жалобно ответил я.
— Тогда подождем врача, — и добавил с горькой усмешкой: — Если он еще понадобится пацану…
Я прижался лбом к холодному стеклу. За окном медленно раскручивалось новое утро.
Почему так долго нет капитана? А вдруг не нашел? Или же высунув язык все еще бегает из одной избы в другую: село большое, почти поселок. И найдет врача где-нибудь на том конце?
В любом случае ему пора вернуться…
Но если он не приведет врача и мальчуган умрет, мне останется одно…
Многое может простить себе человек. Многое, но не все. Я вспомнил старшего лейтенанта Егуличева, красивого, самоуверенного парня, любимца всей бригады. В бою под Тихоновкой он все свои три танка сгоряча загнал на минное поле. Из двенадцати человек в живых остались двое — сам Егуличев и его заряжающий. У сержанта была перебита нога, содрана кожа с затылка. Старший лейтенант перевязал раненого, перетащил его на шоссе и только после этого, отойдя в сторонку, застрелился. Я не помню, чтобы Егуличева кто-нибудь осудил за самоубийство. Наверно, на его месте многие поступили бы так же. Я давно понял, что самый строгий судья над человеком он сам…
— Капитан идет! — Майор стоял у второго окна на кухне, и ему было лучше видно.
— Один?
— Один…
Капитан, увидев нас в окне, удрученно развел руками. Не нашел. Неторопливо — куда теперь спешить? — поднялся на крыльцо…
Вот и все. Как только умрет мальчуган, умру и я. Под каким-нибудь предлогом выйду во двор и спущу курок…
Капитан виновато оправдывался:
— Честное слово, обошел все дома. Санинструктор, правда, встретился…
Изо рта у него вылетал пар. Мы и не заметили, что за ночь остыла печь и в избе было довольно холодно…
На той половине все так же убивалась, причитала хозяйка.
— Пора ехать! — проговорил майор.
— Да, пора, — отводя взгляд в сторону, согласился капитан.
Я даже не шевельнулся…
Мальчик умер через несколько минут. Сделал два-три усталых вздоха и затих. Я вышел в сени. Но мои попутчики, заподозрив неладное, бросились за мной вслед и отобрали оружие…
После войны я стал детским врачом. Пожалуй, это единственное, что я не мог не сделать, даже если бы очень захотел. У меня могли быть другая жена, другие дети, я мог жить в другом городе, мог совершить массу поступков, которых по разным причинам и соображениям не совершил. И только одно не ушло бы от меня — это мое призвание, моя специальность. Я должен был стать детским врачом, хорошим детским врачом, и я стал им.
Да, треть века прошло с того времени, когда люди с необыкновенной легкостью убивали друг друга. Уже целое поколение успело появиться на свет, прожить больше половины отпущенного ему срока и, породив себе смену, само задуматься о быстротечности человеческой жизни.
Чего только ни повидал я с тех пор — и хорошего, и плохого, но та ночь, определившая мою жизнь, помнится вся — от первой до последней минуты, как будто она прошла вчера, всего несколько часов назад…
И НЕТ ЭТОМУ КОНЦА
Ваня лежал в дальнем углу палаты и молча из темноты смотрел на меня. И, конечно, видел все. Что-что, а зрение у него как у кошки.
Он был ранен в живот, и спасти его могла только срочная операция, которую у нас, в медсанвзводе, обычно не делали. Везти его также было опасно.
Командир медсанвзвода обвела взглядом комнату и повернула обратно. Я догнал ее и, страшась отказа, сказал:
— Я возьму Долгова!
— Долгова? — переспросила она и, подумав, согласилась: — Ну что ж, берите…
Я побежал отдавать распоряжения.
Во дворе было черно, хоть глаз выколи. Где-то у кладбища по-прежнему перестреливались автоматчики. В противоположной стороне отрывисто стучал пулемет. То там, то здесь пощелкивали одиночные винтовочные выстрелы…
Наше наступление выдохлось. Пройдя с боями немалое расстояние от Вислы до Нейсе и потеряв почти половину боевой техники, наш танковый корпус последним усилием захватил город Лауцен и неожиданно оказался лицом к лицу со свежими немецкими дивизиями, срочно переброшенными сюда с Западного фронта. Силы были настолько неравны, что уже в первые два дня гитлеровцам удалось уничтожить больше половины оставшихся «тридцатьчетверок» и почти окружить наше соединение. Лишь одна-единственная дорога, по которой мне сейчас предстояло везти раненых в госпиталь, связывала остатки корпуса с куда-то вдруг исчезнувшими и притихшими тылами. Если бы не она, эта дорога, упорно обороняемая горсткой гвардейцев, окружение можно было бы считать полным…
Ко мне подбежал санитар.
— Товарищ лейтенант! Вас просят зайти товарищ майор!
Чего ему еще надо?
Я взбежал по лестнице в дом. Осторожно ступая между ранеными, которыми были забиты все коридоры и проходы, с трудом добрался до кабинета начсанбрига.
В комнате стоял полумрак. Лишь слабо светил огарок свечи на тумбочке — подальше от затемненных окон. Начсанбриг ждал меня. Теперь он походил на настоящего окруженца. Лицо заросло бородой, глаза воспалены.
— Товарищ майор! Вы вызывали меня?
— Да… Так вот. Все-таки постарайтесь затемно сделать кроме этого еще один рейс.
— Есть!
— Мы должны вывезти больше раненых…
Этого он мог бы и не говорить. Мы ведь только и думали о том, как бы отправить побольше раненых: немцы в любую минуту могли ворваться в Лауцен. Между тем в нашем распоряжении осталась одна санитарная машина. Вторая «санитарка» была в упор расстреляна немецким танком при попытке проскочить по дороге. Третья машина — огромный «стударь», выделенный командованием в помощь медсанвзводу, ушел с ранеными еще утром и до сих пор не возвращался. А раненые все прибывали и прибывали…
— Разрешите выполнять?
— Да, — не глядя на меня, ответил он…
Санитары быстро погрузили раненых. В том, что командир медсанвзвода отбирала только сидячих, был свой нехитрый расчет: поместить как можно больше людей. Ваня был единственный лежачий. Когда носилки с ним уже были в «санитарке», командир медсанвзвода вдруг сказала:
— Давайте лучше оставим вашего друга.
— Почему? — Я ухватился за носилки, которые санитары уже начали вытаскивать из машины.
— Можете не довезти. Ведь вы же будете гнать, а его надо везти осторожно, не трясти. А вместо него мы двоих сидячих поместим.
— Товарищ капитан! — взмолился я. — Разрешите мне взять Долгова…
— Ну, смотрите, — проговорила она, и носилки снова въехали в кузов. Несмотря на темноту, я заметил в лице Вани какую-то настороженность, странную скованность, словно он только что начал постигать что-то очень и очень важное для себя. Смутная тревога охватила меня. Я заглянул в глубь кузова и в свете зажженной кем-то спички отчетливо увидел напряженное лицо друга. Сердце у меня сжалось…
Путь от центра Лауцена, где находился медсанвзвод, до начала простреливаемой дороги был короток: только сели в машину, развернулись, немного проехали — и вот уже оказались у последнего дома, за которым, кроме густой черноты, ничего не было…
— Стой! Стой!
Нам наперерез бросились какие-то солдаты.
Шофер резко затормозил.
Это были танкисты с подбитых «тридцатьчетверок», или «черная пехота», как они сами себя называли. Один из них вскочил на подножку.
— Вы куда?
— Раненых везем.
— Главное — постарайтесь проскочить второй поворот. Там уже одну вашу «санитарку» накрыли.
— Знаем.
— Ну, тогда — ни пуха ни пера!
Танкист спрыгнул.
— А после поворота как?
— После поворота? Кто его знает!
Машина тронулась.
— Счастливого! — донеслось из темноты…
Последний каменный амбар. Впереди простиралась ночь, сразу навалившаяся на нас и подступившая неизвестностью со всех сторон. Мы въезжали в нее с ощущением своей полной беззащитности и действительно беззащитные, прикрытые от пуль и снарядов тонкой фанерой и стеклом. Ожидая, что вот-вот в нас влепят снаряд или с десяток пулеметных пуль, мы невольно жались к спинке сиденья. Каждая секунда тишины и движения, отвоеванная нами у ночи и дороги, приближала нас к цели, но вся эта ночь состояла из секунд, и невозможно было предугадать, что принесет нам следующая…
Зрение наше настолько обострилось, что второй поворот мы увидели издалека. О том, что это именно тот поворот, можно было догадаться по очертаниям разбитых машин, в том числе и «санитарки», чей высокий кузов был хорошо виден даже в темноте…
— Теперь держись! — сказал шофер.
Но с нами ничего не случилось — ни когда мы проскочили мимо «санитарки», ни позже, когда проезжали мимо других покореженных и сгоревших машин, ни даже тогда, когда последние метры поворота остались позади. Нас выручала ночь, страшная и добрая… Но кто знает, что она приготовила нам впереди?..
— Ну, как? Все живы-здоровы? — крикнул я в заднее окошко.
— Все! — послышался ответ.
— Посмотрите, как Долгов?
— Ничего. Привет передает.
— Передайте ему тоже!..
Я ясно увидел перед собой его хитрющую физиономию, которая столько раз вводила меня в заблуждение и которую я в конце концов так хорошо изучил, И хотя она никак не вязалась с тем напряженным и настороженным лицом, которое промелькнуло на носилках, именно она-то и стояла перед моими глазами все время…
Наша дружба началась с того, что он здорово меня «купил». Это было в один из первых дней моего пребывания в части, когда я еще никого, за исключением двух-трех штабистов, не знал. Он как раз удрал из госпиталя и потихоньку, разными кружными дорогами, добирался до бригады. И надо же было нам встретиться в тот момент, когда я в ельничке, подальше от глаз человеческих, сажал из пистолета по пустым консервным банкам. Но так как я стрелял всего второй раз в жизни, то большинство пуль послал «за молоком», а одну чуть не всадил в прохожего, которым оказался Ваня Долгов. Конечно, это не доставило ему большого удовольствия, и он тут же проучил меня. Но не с ходу, а так, играючи, как кошка мышку. Сперва отругал, а потом, когда я, заметив на его лице первую — короткую — улыбку, подумал, что с инцидентом покончено, он вдруг спросил:
— Где сто пятьдесят четвертая?
— Сто пятьдесят четвертая? Она тут, за бугорком! — охотно и радостно сообщил я.
А ему этого только и надо было. Со словами: «Ты знаешь, кто я?» — он скорчил страшную рожу. И не успел я опомниться, как он рывком поднял меня в воздух и швырнул в снег. За какую-нибудь минуту он заткнул мне рот кляпом, обезоружил, скрутил руки. И при этом еще приговаривал: «А я немецкий шпион и диверсант!» Я был слишком новичок, чтобы заподозрить в этом поучительный розыгрыш…
Нашу «санитарку» обогнал броневичок. Из люка высунулся человек. Я разглядел: он сделал нам знак следовать за ним. Наверно, это был офицер связи из штаба армии, который, как я слышал, днем проскочил в Лауцен, а теперь, по-видимому, возвращался обратно.
С появлением броневичка исчезло, хотя и не полностью, сознание нашей беззащитности. И пусть у него была тонкая, очень тонкая броня и один жалкий пулемет, все равно настроение у нас поднялось. Кроме того, мы теперь были не одни, а это уже само по себе кое-что да значило…
Чтобы не отстать от него, мы прибавили газу. В нескольких местах нас сильно подбросило: очевидно, шоссе было разбито танками.
— Осторожней! — заорал я.
Шофер моментально убавил скорость.
Я поднялся к окошку. В кузове было тихо и спокойно…
От броневичка мы отстали. Он шел примерно метрах в трехстах от нас, и расстояние между нами продолжало увеличиваться. Мы уже начали беспокоиться, как бы не потерять его из виду и не остаться одним на черной наковальне дороги…
«Санитарка» стала осторожно набирать скорость…
Я снова потянулся к окошку.
— Как Долгов?
— Мы тут под него еще шинель подложили.
— Здорово тряхнуло?
— Было.
— А сейчас спросите, как он себя чувствует?
— Просит пить.
— Он же знает, что ему нельзя пить.
— Он спрашивает: «А выпить можно?»
Уж я-то знаю, с какой интонацией произнесены эти слова. Он не только поддразнивал меня, но и производил разведку, хитрюга. Он всегда был не дурак выпить…
— Когда выздоровеет! — ответил я.
У меня отлегло от сердца, росла уверенность, что и на этот раз он выскочит. Он был удачлив. Только при мне он три раза ходил в тыл к немцам и возвращался оттуда без единой царапины…
Броневичок мелькнул в темноте. Вдруг где-то впереди застрочили автоматы. Взлетела и осветила дорогу ракета.
Дергаясь от волнения, наш шофер стал разворачивать машину. Не успела ракета погаснуть, как раздались один за другим несколько орудийных выстрелов и рядом с броневичком начали рваться снаряды. Из него плеснуло пламя…
Мы неслись по полю к черной полосе леса. Позади все осветилось. Вторая ракета! Немцы явно искали нас, но на дороге, кроме подбитого броневичка, теперь ничего не было…
Ломая кусты и ветки, «санитарка» влетела в лес и остановилась. Я вышел из кабины. Стояли глубокая темнота и тишина. Слышен только хруст сучьев под моими ногами. В этом месте лес был пуст. Я пошел посмотреть раненых. Первое, что я увидел, открыв дверцу, были щегольские носки Ваниных сапог. Их неподвижность насторожила меня. Но вид остальных раненых, занятых собою и обсуждавших обстоятельства обстрела, успокаивал. Я уже смелее спросил о Ване.
— Да он тут как у бога за пазухой! — ответили мне.
Надо было быстрее принимать решение. Но какое? Попытаться проскочить? Нет, даже и пробовать нечего!.. Добираться другим путем?.. Я углубился в лес и, продираясь сквозь темноту, осмотрел все поблизости. Ничего похожего на дорогу…
Вернуться? Отказаться от последней попытки спасти Ваню? И этих двенадцать, и тех, кто остался в медсанвзводе?..
Карту бы! Но для нас, нестроевиков, карт вечно не хватало!
— Товарищ лейтенант! — сказал шофер. — А ежели попробовать через Кайзерсвальдау?
— Кайзерсвальдау? Где это?
— Отсюда километрах в десяти. Шофера говорили: тут где-то лесная дорога есть. Только по ней, мол, никто не ездит. Сплошь колдобины…
— Такая дорога не для нас.
— Один говорил: местами будто ничего…
— А где она?
— Где-то тут…
— Ну, тогда поехали.
Шофер запустил мотор.
— Только на малой, — предупредил я.
— Знаю, — ответил он, трогая машину. — Лишь бы нам на фрицев не напороться…
«Санитарка» медленно ползла, осторожно выбирая дорогу между деревьями. Мне ничего не оставалось больше, как положиться на интуицию шофера. В конце концов, он, наверно, уже не раз попадал в какие-нибудь передряги. Правда, он у нас недавно, дней десять, но до этого он возил на легковушке начальника политотдела, а еще раньше шоферил не то в автобате, не то в саперном батальоне. И по всему чувствовалось, что шофер он опытный…
Поначалу я почему-то решил, что мы забираемся в глубь леса. Но когда справа, из-за деревьев, явственно донесся гул моторов и лязг гусениц, я понял, что мы едем вдоль шоссе. С замирающим сердцем вслушивались мы в звуки, которые то отдалялись, то приближались. В эти мгновения нам казалось, что нас также могут услышать: на неровностях и поворотах «санитарка» вся дребезжала, исходила скрипом. Это был старый заслуженный ЗИС с солидным довоенным стажем, драндулет, ежегодно представляемый к списанию и, возможно, уже списанный, о чем мы могли и не знать…
Мы уже довольно долго пробирались по ночному лесному бездорожью, а дороги все не было. Напрасно мы оба вытягивали шеи, отыскивая хоть какие-нибудь признаки колеи…
— Может, дороги и вовсе нет? — спросил я.
— Как же нет? — не очень уверенно возразил шофер.
Будь на моем месте Ваня, он бы сразу сориентировался. Посмотрел бы в одну сторону, в другую, а потом бы только дирижировал: прямо, влево, прямо. Помню, однажды точно в таком же темном и чужом лесу он гнал машину и с легкостью брал один за другим крутые повороты. И, глядя на него, на его размашистые и точные движения, трудно было поверить, что он пьян. Впрочем, тогда все поднабрались. Такой уж был день — всеобщий выпивон по случаю награждения бригады орденом Красного Знамени. Сперва банкет у комбрига. Затем ужин у комбата-два. Потом пригласили к соседям, которых тоже чем-то наградили. А под конец — госпитальная аптека, где в довершение всего Маша поднесла нам по стакану кагора. Она была слишком рада нашему появлению, чтобы придавать значение тому, что мы изрядно под мухой… Из госпиталя мы выехали по дороге, хорошо знакомой нам по прежним поездкам. Но она вдруг привела нас в лес, который вообще неизвестно как очутился в этих местах. Пока я пытался сообразить, где мы, Ваня, не говоря ни слова, направил опелек между сосен. Как мы не врезались в одно из сотен деревьев, которые то и дело выскакивали нам навстречу, уму непостижимо. Это был захватывающий дух, бесконечно долгий цирковой номер… Когда наконец мы выехали из леса, Ваня остановил машину и долго не мог открыть дверцу. Затем вышел и, пошатываясь, пошел отыскивать дорогу. Не прошло и пяти минут, как он, так же пошатываясь, вернулся обратно. Он по-прежнему молчал, словно не желал тратить остаток сил на ненужные разговоры. Через полчаса мы были дома… Сейчас он бы тоже не долго ломал голову…
— Ну, где же дорога? — спросил я.
— Поищем в глуби, — ответил шофер. В его голосе прозвучала виноватая нотка.
Мы повернули в глубь леса…
Теперь-то мне было ясно, почему его сняли с легковушки. В нем почти ничего не было от фронтового шофера. Это был редкий, чудом уцелевший экземпляр доисторического мирного племени водителей городского автотранспорта…
Лес густел. Повсюду пни, кочки, кусты. Мы едва тянули. Я взглянул на часы: полпервого. Уже сорок минут мы плутали в поисках дороги…
— Товарищ лейтенант! Там кто-то есть!
— Где? — Я взялся за автомат.
— Вон там!
— Останови.
Машина стала. Я вышел из кабины и направился к густому кустарнику, за которым застыла, угрожающе притаившись, темнота.
Я споткнулся о пенек и упал на колени. И тут же услышал треск кустов и увидел, как что-то легкое и быстрое промелькнуло впереди. Я вскочил и бросился к ближайшему дереву. Стал за ним.
Стояла напряженная тишина… Нет, на фрицев не похоже. Скорее всего, гражданские немцы или репатриированные, которые пережидали здесь, пока кончатся бои…
Я начал осторожно продвигаться вперед. И вдруг наскочил на груду чемоданов, узлов и еще какого-то барахла. Хозяева, наверно, находились поблизости.
Я негромко подал голос:
— Кто здесь?
Никто не откликнулся.
Я повторил. Молчание. Теперь я твердо знал, что это гражданские немцы. Но как заставить их выйти и показать дорогу? Не обшаривать же все кусты! Ваня бы сообразил…
Я с трудом припомнил немецкие слова и спросил темноту:
— Во ист ди вег ам Кайзерсвальдау?
Но и на этот раз ответа не последовало.
— Во ист дер вег нах Кайзерсвальдау?
[26] — поправился я.
Темнота упорно молчала. В третий раз я крикнул громко и раздраженно. Ни звука. Но они были здесь. Не могли же они уйти далеко от своих шмуток… Что ж, посмотрим, смолчите ли вы сейчас или нет. Я выбрал два чемодана побольше и понес их к машине. Меня никто не окликнул… Я остановился, посмотрел на чемоданы и со злостью швырнул их.
— Товарищ лейтенант? — Из-за деревьев показался шофер с автоматом. — Там чего упало?
— Ничего. Поехали…
И «санитарка» так же медленно, на ощупь, продолжала путь…
На лесную дорогу мы выехали совершенно неожиданно. Мы даже не поверили, что это и есть та самая дорога на Кайзерсвальдау, на которую мы возлагали столько надежд. И хотя она сразу встретила нас колдобинами и ухабами, мы в первые мгновенья почувствовали облегчение: все-таки она брала на себя если не все, то часть наших забот…
Шофер чуть прибавил газу. При каждом толчке я поглядывал на окошко, но там было тихо… Главное — довезти до госпиталя. А там сделают все, чтобы его спасти. Маша немедленно поднимет с постели самых лучших хирургов, притащит самых опытных операционных сестер, из-под земли достанет самые дефицитные медикаменты…
Было время, когда ей нравился я. Оказывается, еще в училище она обратила на меня внимание. Тогда на меня все обращали внимание: я был длинный и тощий и в силу этого всегда находился на виду, на правом фланге мужского фельдшерского батальона. Но в то полуголодное-полудетское время меня не очень интересовали девчата из фармацевтической роты. К тому же их было слишком много, чтобы серьезно к ним относиться… Познакомились мы с ней только на фронте. Это была встреча столь неожиданная и радостная, что мы сразу стали друзьями. Но вот однажды с тайной целью похвастать своим приятелем я взял с собой Ваню. Я руководствовался немудреным расчетом: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты…». В тот вечер он был молчалив и предупредителен и, возможно, поэтому понравился Маше. Я почувствовал это, и меня забрала ревность. Сидя с ними за столом, я дал волю своему настроению и глушил стаканами слабый рислинг… Потом я целую неделю избегал Долгова. Когда мы все-таки попадались друг другу на глаза, я делал вид, что его не замечаю. И он понимал мое состояние. Но продолжал ездить в госпиталь…
Стрелка на спидометре застыла на цифре «10». «Санитарку» мягко подбрасывало. Тихо, словно опасаясь, что его могут услышать, поскрипывал кузов…
А вот теперь я везу его к тебе, Маша, Машенька, может быть, на последнее свидание…
Тишина в кузове уже не успокаивала меня. Я не доверял ей. Могло быть и так: умрет человек, они и не заметят.
Я потянулся к окошку.
— Как вы там?
— Далеко еще? — послышалось в ответ.
— Доберемся до Кайзерсвальдау, а там уж близко…
— Быстрей бы…
— Потерпите. Вот выедем на хорошую дорогу…
— А на хорошей немцы, — насмешливо заметил кто-то.
— А на плохой душу вытряхнет! — так же насмешливо возразили ему.
— Посмотрите, как Долгов, — наконец спросил я.
— Дышит…
— Что-то говорит…
— Что?
— Еще, мол, живой я…
— Ваня, ты слышишь меня? — крикнул я в кузов. — Мы скоро будем в госпитале, а там тебя сразу положат на операцию!..
Только бы добраться до Кайзерсвальдау!
Вдруг я вспомнил. Именно так назывался городок, в котором мы проучили того горе-мстителя…
Наши танки ворвались в этот самый Кайзер и, не задерживаясь, пошли на Лауцен. С полдороги начсанбриг повернул меня обратно. Он узнал от пленных, что в городке есть большой склад медикаментов. Там могли быть сульфамиды, которых нам не хватало… Склад я нашел скоро. Набрав полный рюкзак, я потащился в центр городка, где легче было поймать попутную машину… Я шел по безлюдным узким улицам, мимо безмолвных домов. Стояла мертвая тишина. Только мои шаги гремели по мостовой… И вдруг прямо над моей головой раздался выстрел. Я отскочил к стене и вытащил пистолет. Откуда-то сверху донеслась русская речь.
— Эй! Кто там дурака валяет? — крикнул я.
В одном из раскрытых окон третьего этажа показался офицер. На груди у него поблескивала единственная медаль. Он долго искал меня взглядом.
— Эй! Ты чего людей пугаешь?
— А… давай ко мне сюда! Я тут фрицев поймал! — радостно сообщил он.
Я поспешил в дом. Все двери в квартирах были распахнуты. Повсюду, даже на лестнице, валялось барахло. Я поднялся наверх. И здесь все было настежь. Шагая по тряпкам, я переходил из одной комнаты в другую и наконец увидел их: капитана и сидевшую на диване немецкую семью — пожилую женщину, старика и двух девушек. Все четверо со страхом посмотрели на меня. Очевидно, они не ожидали от моего появления ничего хорошего, одни лишь новые осложнения. Какое-то странное возбуждение охватило меня. Ведь это были первые гражданские немцы, с которыми я встретился, — обыкновенные люди в обыкновенной одежде…
— Садись, будем судить их, — сказал офицер.
— Как судить? За что? — не понял я.
— За зверства. Садись.
— Их — за зверства? А откуда вы знаете, что именно они совершали зверства?
— Откуда? Я все знаю! Я всех немцев насквозь вижу! Садись, будем судить их!
Я подошел к нему и тихо сказал:
— Уходите.
Он схватил меня за погон и потянул к стулу:
— Давай садись!
Я отшвырнул его руку и повторил:
— Уходите!
— Брысь, медицина! — махнул он рукой.
Я вынул пистолет:
— Уходите!
От неожиданности он растерялся и даже испугался.
— С оружием на старшего по званию?! — проговорил он. — Ну, ладно, — добавил он угрожающе и скрылся за дверью. Я слышал, как он тяжело и неуклюже сбегал по лестнице.
Я обернулся к немцам. Они со страхом и ожиданием смотрели на меня. Ах, черт! Я забыл, что в руке у меня пистолет. Я спрятал его, взял вещмешок с медикаментами и двинулся к выходу. У двери я напоследок оглянулся на девушек и, ничего не сказав, вышел…
Улицы по-прежнему были пустынны. Никого. Даже не верилось, что здесь еще утром ходили немцы, разъезжали немецкие машины, шла торговля в этих магазинах…
— Вот он!
Из-за угла выскочил капитан. За ним показались Ваня и два его разведчика. Ваня увидел меня, сплюнул и пошел шагом. То же самое сделали солдаты.
Капитан подбежал ко мне. Он далее не заметил, что я что-то чересчур спокоен.
Он схватил меня за рукав:
— Я держу его!
Я оттолкнул его с такой силой, что он чуть не влетел в витрину магазина.
— Вот, видели! На старшего по званию!..
Подошел Долгов с солдатами. Все трое сделали вид, что я для них такой же посторонний, как и капитан.
— Что здесь у вас происходит, товарищ гвардии лейтенант? — спросил Ваня.
— А то, что эта тыловая хрюшка предпочитает воевать с немцами всюду, только не на передовой!
Ваня посмотрел на капитана и тихо приказал:
— Взять его!
Капитан ринулся в сторону, но разведчики быстро схватили его.
— Пошли к коменданту, — распорядился Ваня, — Надо быть круглым идиотом, чтобы не понимать, что те немцы, которые остались, не убежали, — нам не враги. Может быть, все эти двенадцать лет они ждали нас и верили в нас…
Шофер резко затормозил.
— Что такое?
— Кажись, дорога кончилась.
— Как кончилась?
— Сейчас погляжу, — сказал он, вылезая из машины.
Я последовал за ним. Мы не прошли и десяти метров, как перед нами оказался овраг с торчащими сваями недостроенного моста.
— Говорили, что проехать можно, — оправдывался шофер.
Я спустился с обрыва сперва в одном месте, потом в другом, в третьем… Нет, здесь машина не съедет!
— Надо искать объезд, — сказал я.
— Товарищ лейтенант! А может, мост был, да его разобрали? — с надеждой спросил шофер.
— Ну, сейчас нам это все равно. Куда повернем?
— Кайзерсвальдау вроде бы там… — Он неуверенно показал куда-то влево.
— Поехали!..
И вот, свернув с дороги влево, наша «санитарка» снова пробиралась между деревьями, но уже вдоль оврага. Хорошо, если эта непредвиденная задержка отнимет у нас… ну, десять, пятнадцать, двадцать минут. Но, возможно, на поиски объезда уйдет и больше. Тогда может быть поздно. Подумав о Ване, я почувствовал, что меня гнетет и другое: ведь до рассвета надо сделать еще один рейс…
Я прильнул к боковому стеклу, вглядываясь в черную ленту оврага, которая то расширялась, то сужалась так, что ее почти не было видно. Тогда я на ходу выбирался из машины и бежал к обрыву. Но там по-прежнему было глубоко и широко: обманывали ночные очертания. Уже прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, а овраг все еще тянулся непреодолимым препятствием…
Я сидел как на иголках. К тому же наши часы показывали разное время. На моих было полвторого, у шофера — без четверти два. Он заверил меня, что его часы идут точно: «поставил по московскому».
Скоро будет час, как мы свернули…
Сзади забарабанили кулаками.
— Что случилось? — крикнул я.
— Надо перевязать одного…
У меня отлегло от сердца.
— Сейчас!.. Останови! — приказал я шоферу.
Я перебрался в кузов.
— Здесь! — сказали где-то впереди.
Раненые подвинулись и подобрали ноги, пропуская меня ближе к кабине.
— Подождите, — сказал я бойцу, который обеими руками держался за грудь…
Я склонился над Ваней, нащупал его руку. Она была прохладна и безжизненна. Я лихорадочно начал искать пульс. Глубоко, под сухожилиями, наконец уловил слабые толчки.
Я придвинулся вплотную. Он дышал тихо и неровно.
— Ваня! — позвал я.
— Сережа? — одними губами спросил он.
— Я.
— Сколько осталось?
— Километров пять, не больше. Скоро будем.
— Скоро… — прошептал он.
— Скоро, — повторил я, и горький ком подкатил у меня к горлу…
— Что у вас? — спросил я бойца.
— Кровь течет, — сообщил его сосед, танкист с забинтованной головой.
— Посветить есть чем?
Откуда-то взялся ручной фонарик. Свет от него упал на обнаженную рану. Я посмотрел: бинты сползли на живот. Я не стал их перематывать, а наложил новую повязку…
— А у остальных все в порядке?
— Быстрей бы, доктор. А то не доедем, — ответил один из раненых.
Я еще раз со щемящей болью в сердце взглянул на Ваню и покинул кузов…
Шофер ждал меня.
— Куда? — спросил он.
— Еще немного проедем. Если не будет дороги, повернем обратно.
— Как обратно?
— Да не назад, а вправо! — заорал я.
Этому чертову оврагу, действительно, конца-краю нет. Придется все-таки вернуться и попытать счастья там, справа. Но я еще чего-то ждал. Мне все казалось: вот сейчас мы повернем, а где-нибудь неподалеку, может быть совсем рядом, долгожданный объезд…
Но теперь дорога каждая минута. В моих ушах звучал слабый, уже потерявший знакомые мне нотки, голос друга. Но Ваня верил и надеялся… Нет, дальше ехать нет смысла!
— Стой!
Шофер как будто даже обрадовался: охотно и торопливо затормозил.
— Я на всякий случай схожу, посмотрю! — сказал я, выбираясь из кабины.
— Мне развернуться?
— Да подождите!..
Я почти все время бежал. Продирался сквозь кусты, спотыкался, падал, порвал шинель. Но объезда не было… Я продолжал бежать. На мне уже не было живого места. Лицо и руки были исколоты, исцарапаны. При падении я подвернул кисть левой руки, и она при каждом резком движении напоминала о себе. Но мне некогда было ни прислушиваться к боли, ни оберегать себя от новых ушибов и царапин…
Когда я порядком удалился от машины и уже начинал подумывать о возвращении, вдруг ясно увидел дорогу. Светлая, с каким-то необыкновенным голубоватым отливом, она проходила через весь овраг и четко просвечивала между деревьями на той стороне. Я кубарем слетел вниз и только там, на дне оврага, увидел, что все кругом залито лунным светом. В то мгновение я лишь удивленно отметил это про себя, не больше. Я торопился к дороге, которая светилась впереди своим ровным грязновато-снежным покровом.
Главное — посмотреть, пройдет ли машина. В крайнем случае, раненые сойдут и переберутся на ту сторону пешком. Идти им придется не больше пятидесяти метров. Ну, а тех, кто не в состоянии передвигаться, мы перенесем на носилках. Таких пятеро. Ваня и еще четверо с ранениями в грудь и ноги…
Только все это надо быстрее!.. Мы еще можем уложиться в ночное время. Отвезти Ваню с ранеными и уже по знакомой дороге сделать второй рейс. Только не терять ни минуты!
Теперь я уже различал отдельные подробности. Крутой подъем. Сверху дороги не было видно, от меня ее загораживал обрыв с подступившими к самому краю деревьями. Колея книзу расширялась и треугольником упиралась в берег обрыва. Спуск, очевидно, скрадывался тенью…
И вдруг очертания колеи, казавшиеся издали такими четкими, при моем приближении стали расплываться и тускнеть. Странным образом изменился и цвет. Теперь это уже не было похоже на грязный лежалый снег — проступали серые, притемненные деревьями и кустарником краски песка…
Дороги не было! Это была лишь широкая песчаная промоина, пересекавшая дно оврага. Утопая в глубоком песке, я метался по ней, словно еще надеялся разыскать пропавшую колею. Я уже знал, что ее нет, и в то же время не хотел поверить в это…
Я опомнился. Одним духом вскарабкался на обрыв и, не переведя дыхания, побежал обратно… Сейчас времени оставалось только на то, чтобы добраться до госпиталя…
Как же быть со вторым рейсом?.. Нет, не успеть!.. Я не боялся, что мне может попасть за невыполнение приказа. Я сделал все возможное. Даже больше, чем другие. Те вообще не проскочили. Два рейса за ночь — это предел, о котором мы только мечтали. Меня мучило другое. Меня неотвязно преследовала одна и та же картина: эсэсовцы метр за метром продвигаются вперед и, сломив сопротивление, врываются в Лауцен. Отыгрываясь за все, они первым делом приканчивают раненых, И тех, кто еще не успел попасть в медсанвзвод, и тех, кто уже находится там и до самого последнего момента надеется, что за ними придет машина… Нет! Я должен сделать два рейса. Гнать «санитарку»? Нет, это исключено! Но другого выхода нет… А может быть, все-таки успею?.. Я бежал, подхлестываемый этими мыслями, еще не зная, что я должен делать…
Где-то близко раздался треск кустарника и послышался голос:
— Товарищ лейтенант!
Голос показался знакомым, Я бросился к краю обрыва и увидел шофера. Ухватившись за куст, он пытался взобраться наверх.
— Что случилось?
— Я искал вас!
— Говори, что произошло?
— Невтерпеж стало ждать… — сказал он, с моей помощью поднимаясь на обрыв. — Поскорее узнать захотелось, есть ли объезд…
— Здесь нет. Придется поискать справа. Далеко отсюда машина?
— Нет, недалече…
— Побежали!..
Через несколько минут мы были у «санитарки». Я с трудом сдержал себя, чтобы не заглянуть в кузов. Когда я забрался в кабину, я услышал позади негромкий голос:
— Товарищ доктор, скоро госпиталь?
В окошке торчали, тесно прижавшись друг к другу, две головы. Одна — забинтованная — принадлежала танкисту.
Я замялся:
— По ту сторону… всего несколько километров… от этого… ну…
Кайзерсвальдау…
— Ребята просят: поскорее бы. А то тут троим совсем плохо…
В моем распоряжении оставались считанные часы. От силы два с половиной, три часа…
«Санитарка» мерно покачивалась на ухабах. Шофер уже вполне освоился с ночной дорогой. Он будто предчувствовал приближение очередной рытвины и уверенно и нерезко преодолевал ее…
Я не выдержал:
— Прибавь… немножко… немножко…
Сейчас во мне не было ни одной клетки, которая не трепетала бы от нетерпения: скорее, скорее!!!
Но и теперь машина шла со скоростью пешехода или чуточку быстрее. И вдруг я обнаружил, что луны уже нет, а чернота, заполнявшая все пространство от края обрыва до верхушек деревьев на той стороне, как-то сама вся поблекла: на ней лежал едва заметный сероватый отсвет. Если мы и дальше будем так ползти, то до госпиталя доберемся только к утру…
Но вот наконец и старая дорога. Мы въезжаем в ту часть леса, с которой связывались наши последние надежды. И хотя я не очень верил, что объезд может появиться тут же, сразу, я до боли в глазах всматривался в тускло-серые просветы между деревьями, за которыми по-прежнему виднелись темная впадина оврага и панорама подернутого грязновато-матовой дымкой леса…
Мое нетерпение передалось и шоферу. Он уже не сидел, как раньше, спокойно за рулем, а часто привставал или открывал дверцу и выглядывал из кабины…
Приближался рассвет, а дороги через овраг все не было…
Не было и через десять минут…
И через двадцать…
И через тридцать…
Если объезда не будет еще через пятнадцать-двадцать минут, то все полетит к черту!
Но прошло еще четверть часа, а кругом было все то же.
И этот проклятый овраг, который, наверно, тянется через всю Германию; и этот бесконечный лес на той стороне; и такой же бесконечный лес по нашу сторону.
И все это спокойно и открыто дожидается рассвета…
Я опять не выдержал.
— Я побегу вперед! — сказал я шоферу. — Не останавливай!
Я соскочил с подножки и, обогнув спереди едва ползущую машину, добежал до края обрыва. Отсюда было лучше видно. Овраг уже просматривался до самого дна. Я различал отдельные кусты, камни, ручеек, петляющий между ними, и вдалеке поваленное или упавшее дерево. За ним еще стоял полумрак. Но с первого же взгляда мне стало ясно, что ничего похожего на дорогу на всем протяжении нет, и мною с новой силой овладело чувство беспомощности…
А может быть, она все-таки есть? И скрыта полумраком? Грязная, темная, невидная? Такая, которую ночью можно увидеть, только случайно наскочив на нее?..
Я бежал по самой кромке, а справа от меня, за деревьями, неотступно урчал мотор. Я слышал, как трещали под колесами кусты… Иногда ноги у меня соскальзывали, и я стремглав летел вниз. Но потом взбирался и снова продолжал путь…
Я понимал, что если не чудо — дорога тут же за поворотом, — то я уже не знаю, что тогда делать…
Неожиданно меня охватило такое нетерпение, что я готов был выскочить из самого себя. Меня гнало предчувствие, что там, за поворотом, непременно находится дорога. И когда до него осталось совсем немного, это предчувствие перешло в уверенность…
Я добежал до выступа и, действительно, увидел ее. Она спускалась по нашему склону в овраг и, наискось перерезав его, некруто взбиралась на тот берег… Это мне не снилось, не казалось. Это была самая настоящая дорога…
Я все еще не верил своим глазам, потому что я мечтал о чуде, и чудо свершилось. Я готов был кричать от радости.
И я закричал. Что? Не помню. Мне даже не пришло в голову, что меня не услышат…
На какое-то мгновенье мне представилось, что я без задержки добираюсь до госпиталя и, сдав Ваню и остальных, сразу же возвращаюсь за новыми ранеными в медсанвзвод. Десять минут на погрузку, и если нас не накроют вначале, то через полчаса мы будем снова в лесу. И не беда, что в нем нас застанет утро. Здесь оно нам не страшно…
Я сбежал к дороге и по ней спустился до дна оврага. Потом понесся обратно, навстречу машине, которая только что показалась из-за деревьев.
— Дорога! Дорога!
Шофер уже и сам видел ее. Он неотрывно смотрел вниз и был озабочен лишь тем, как бы ловчее и аккуратнее съехать.
— Лево! Право! Сюда! — орал я.
Он выбрался на дорогу и медленно, на тормозах, стал съезжать. Я на ходу залез в кабину.
— Теперь жми!
В мгновение ока мы проскочили овраг…
И вот машина снова заурчала на подъеме…
Нас подбросило. Это могло быть и случайно. Но через некоторое время последовали еще два сильных толчка. Я насторожился. Колея уже довольно отчетливо проглядывалась, и я заметил, что она вся в мелких неровностях…
Какое-то чувство, похожее на тоску, сдавило мне горло. Я увидел, что по правую руку, как раз там, где склон был пологий, все вдоль и поперек изрезано десятками колес. Очевидно, здесь проходило большое соединение. Кроме частых следов от шин повсюду виднелись глубокие отпечатки гусениц — еще свежие страшные раны… «Санитарка» взобралась наверх. С первых же метров под нашими ногами мелкой рябью заходила земля. Самые худшие предчувствия не обманули меня. Все кругом было разбито машинами. Не было буквально ни одного клочка дороги, который бы не исковеркали, не изуродовали колеса…
Машина двигалась не спеша, опасливо преодолевая и объезжая ухабы…
Я уже не смотрел на часы. Я знал, что сейчас без двадцати шесть. Ровно в девять немцы пойдут в атаку. Я не сомневался, что сегодня они будут так же пунктуальны, как всегда. Через два часа сорок минут они со всех сторон полезут на нас, и если им и на этот раз не удастся прорваться к центру Лауцена, то они все равно потеснят наших на несколько десятков метров. Это в лучшем случае.
Я обязан сделать второй рейс. Невзирая ни на что…
Ваня, ну подскажи, что мне делать? Как бы ты поступил на моем месте? Их без тебя двенадцать. Все они измотаны дорогой. У двоих начинается гангрена. Большинству необходимо срочное переливание крови. Если мы и дальше будем так ехать, то не досчитаемся еще двух-трех. Потом — их двенадцать. И еще четырнадцать доставим вторым рейсом. Всего двадцать шесть…
Двадцать шесть и один…
Но один — это ты…
Он стоял перед моим взором, каким я его видел всегда: с прищуренным взглядом хитрющих глаз, которые бесконечно менялись выражением. Я помню его всяким — внимательным… грустным… разгневанным… холодным… растерянным, как в первый день ранения…
Передо мной промелькнули давние полузабытые картины нашей дружбы… Вспомнилось, как однажды он вызвался мне помочь перевязывать раненых, и как он старался, и как неумело у него это получалось. Он удивлялся тому, что у меня все это выходило быстро и основательно. И еще припомнил, как он, уходя в разведку, передал мне на хранение свои ордена и медали и я, не удержавшись, нацепил их и в таком виде предстал перед незнакомыми офицерами из истребительного противотанкового дивизиона, стоявшего по соседству. Потом мне было стыдно, нехорошо. И я никогда не говорил ему об этом. Но осталось ли это для него тайной, я так и не уверен… А потом в памяти почему-то всплыло, как в один из вечеров он допоздна засиделся в медсанвзводе и я предложил ему переночевать. Но свободных коек не оказалось, и мы легли на одну. Дома, когда у нас бывали гости, я часто спал вдвоем со Славкой. И в ту ночь, прислушиваясь к спокойному и ровному дыханию друга, ощущая на своем плече его тяжелую горячую руку, я понял, как он мне дорог… А совсем недавно… Я с трудом отогнал воспоминания.
Итак, пришел этот момент…
— Я туда, посмотрю, — сказал я шоферу.
— Остановить?
— Не надо…
Он взглянул на меня настороженно-вопрошающим взглядом.
Я взобрался в фургон.
— Товарищ лейтенант! Ну когда же будет госпиталь? — встретил меня недобрый голос танкиста.
— Теперь скоро, — ответил я, наклоняясь над Ваней.
Одни из раненых тяжело спали, пристроившись на плече у соседа или упираясь затылком в зыбкую стенку борта, другие стонали, третьи перекидывались репликами по поводу этой проклятой ночи, дороги и своих сопровождающих. Но я не прислушивался. До меня долетали лишь отдельные слова: «…Подохнешь, пока…» — «…Не знает дороги…» — «…Кайзерсвальдау…» — «…Остаться бы…»
Ваня дышал. Часто и неглубоко. Я провел рукой по его лицу, и под моими пальцами выступили знакомые черты: открытый лоб, широкие скулы, короткий нос, морщины у глаз…
Слегка дотронулся до век — они были плотно прикрыты…
Никогда я его так не любил, как сейчас…
Я подождал еще с минуту, затем, пошатываясь, направился к выходу. Вслед мне кто-то что-то сказал, но я уже ничего не слышал. Я открыл дверцу и свалился на подернутую инеем дорогу. Потом поднялся и догнал машину. Взобравшись в кабину, сказал:
— А теперь жми…
Через сорок минут мы добрались до госпиталя. Ваня был мертв. До девяти часов мы сделали второй рейс, вывезли еще группу раненых. За это я был награжден орденом Красной Звезды. Но его я никогда не носил. Даже спустя двадцать лет, когда особенно торжественно отмечался День Победы.
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РАНЕНОМ
Я встречался с ним дважды. В апреле сорок пятого, когда его ранило. И вскоре после войны, в немецком городке Вюнсдорф, где стоял наш полк. Он шел рядом, плечо в плечо, с такой же огромной, как он сам, молодой женщиной. Может быть, это была его жена. А может быть, и не жена. На груди его горели, ослепляя встречных, две Золотые Звезды. Впрочем, то, что он дважды Герой, я узнал вскоре после той, главной встречи. Но это так, к слову.
Потом я его видел множество раз — на экранах телевизоров и кинотеатров, на страницах журналов и газет — советских и иностранных. Шли годы, сильно покрупнели звезды на его погонах, прибавилось орденов на груди. Только он сам почему-то почти не менялся. Те же резкие черты, то же немного хмурое выражение лица, та же крепкая, борцовская посадка головы. Словом, выглядит он — дай бог каждому! Самое большее под пятьдесят. А ведь тогда, в сорок пятом, когда я тащил его на себе, он казался мне стариком. Между тем ему было в то время — страшно выговорить! — всего тридцать два года. Совсем нежный возраст, по нынешним моим представлениям. Правда, в свои восемнадцать я считал вдоволь пожившими даже двадцатитрехлетних…
Интересно бы с ним встретиться. Узнает ли он меня?
В одном не сомневаюсь: тот день он не мог забыть. Разве какие-нибудь подробности, которые, честно говоря, и я не все помню. Но главного он, конечно, не забыл. Ни своей раны, ни своей обиды. Вот только я не очень уверен — остался ли у него в каком-либо из дальних уголков памяти черноглазый паренек, лейтенант медицинской службы? Хотя бы зыбко и смутно, как во сне…
Я везу раненых. Широкая автострада сплошь забита боевой техникой, направляющейся к фронту. Мы же ползем против течения. Это мой четвертый рейс с ранеными со вчерашнего вечера.
Дорога обстреливается. Откуда бьет немец, неизвестно. Одни говорят, что огонь ведут батареи, установленные где-то в окрестностях Берлина. Другие — что это бродячие танки, не успевшие пробиться к своим. Во всяком случае, вчера, когда возле нас стали рваться снаряды, мы с Яхиным носились как сумасшедшие, не зная, куда спрятаться: разрывы следовали за нами буквально по пятам. Казалось, что все четыре угла сарая, за которым мы пытались укрыться, у немцев на виду.
Сегодня, во время третьего рейса, тоже был обстрел. Но на этот раз снаряды пролетели над нами и разорвались где-то за лесом.
Судя по всему, немцы бьют наспех, а порой и наугад. Но попадания все-таки есть. Глаз нет-нет да и натыкается то на разбитую машину, то на свежий могильный холмик. Попасть в общем-то несложно. Всюду люди, машины…
Но, несмотря на обстрелы, движение почти не прекращается. Только там, где уж очень близко начинают рваться снаряды, солдаты на короткое время покидают машины и разбегаются по кюветам…
До медсанбата двенадцать километров. Я чертовски устал: все-таки четвертый рейс. Но распускаться нельзя. Когда везешь раненых, надо быть начеку. Ведь если начнется обстрел, то мы с Яхиным первым делом должны искать укрытие для них, а потом уж думать о себе. За то же время нам нужно успеть вдвое больше, чем другим. Правда, в этот рейс мы везем всего троих раненых. Точнее, двоих раненых и одного больного катаральной ангиной. И все ходячие. Так что если придется нырять в кюветы, то большой задержки не предвидится.
Но все равно я настороже…
И, оказывается, не зря!
Раздается протяжный шорох снаряда — и сразу же взрыв! Прямо на капот машины падает веточка, срезанная осколком. Второй и третий снаряды разрываются далеко позади.
Следующий снаряд мы ждем уже сидя в придорожных траншеях, приготовленных для нас фольксштурмом. Мысль у всех одна: только бы пронесло… Но немцы почему-то не торопятся с четвертым снарядом… Или они решили ограничиться теми тремя, или терпеливо ждут, когда все вылезут из укрытий, чтобы снова шарахнуть?
Проходит несколько долгих минут. Поднимаем головы, осматриваемся.
Все! Пора двигаться!
Мы с Яхиным вылезаем из траншеи и помогаем выбраться нашим раненым.
И тут видим: бежит к нам солдат. Спешит, машет руками:
— Эй! На «санитарке»!.. Стой!.. Стой!
За ним серой змейкой тянется размотавшаяся на ноге обмотка.
Подбегает, переводит дыхание:
— Товарищ лейтенант! Ваша «санитарка»?
— Наша. А что?
— Там полковника ранило!
— Какого полковника?
— А кто его знает! Начальник какой-то!.. Шел я мимо ихней машины, а мне и говорят: «Сбегай-ка, солдат, узнай, чья «санитарка»… Скажи им — то есть вам, значит, — чтоб подбросили полковника до санбата».
— Куда ранен?
— Куда? — смущается солдат. — Больно торопился. Не спросил куда…
— Где он?
— Да тут, за поворотом!
— Давай разворачивайся! — говорю я шоферу.
Яхин ворчит:
— Хрен тут развернешься!
И в самом деле, машины идут впритык: несколько рядов в оба направления. Между ними не то что «форд», но и собака не проскочит. А с дороги съехать тоже нельзя: кругом окопы…
Словом, если уж такой виртуоз, как Яхин, расписывается в своем бессилии, значит, лучше и не пытаться.
— Ладно. Выше себя не прыгнешь, — говорю я. — Пошли, Яхин, сходим за полковником…
Обычно Яхин недоволен, когда к нему обращаются с подобными просьбами, огрызается: «Я вам не санитар». Но сейчас он молча вылезает из кабины и идет со мной. Я понимаю: это наш первый раненый полковник. До сих пор наше общение с полковниками ограничивалось лишь обменом воинскими приветствиями. Полковник для нас почти генерал. А генерал — это нечто из надзвездных сфер.
Но ни я, ни Яхин ни за что не признались бы друг другу, что слегка взволнованы предстоящей встречей.
Внешне это никак не проявляется. Просто мы делаем свое обычное дело — спешим к раненому, которому нужна наша помощь. Впереди с санитарной сумкой на боку шагаю я, за мной топает Яхин.
Носилки мы решили не таскать с собой. Если потребуются, кто-нибудь сбегает за ними. «Кто-нибудь» — так я сказал Яхину. Но побежит, разумеется, он. И мы оба это знаем. Зато его самолюбие пощажено. А оно у него болезненное. Не очень-то приятно, когда тобой, бывалым солдатом, командует мальчишка, недавно окончивший военное училище…
У поворота нас нагоняет солдат — оказывается, он до сих пор возился со своей обмоткой.
— Вон они! — показывает он на «виллис», стоящий метрах в двухстах от нас у самой дороги.
С «виллиса» тоже замечают нас. Один из офицеров почтительно наклоняется к другому, сидящему у ветрового стекла, и что-то говорит ему, кивая в нашу сторону. Тот медленно поворачивается к нам.
— Пошли быстрей! — говорю я.
Мы ускоряем шаг.
Через некоторое время Яхин окликает меня:
— Товарищ лейтенант!
— Что?
— Там трое полковников!
— Ну?!
Как всегда, зрение не обманывает его: в «виллисе» и впрямь целых три полковника! А кроме того, капитан с шофером, которые, судя по всему, Яхина мало интересуют.
«Нашего» полковника мы узнаем сразу. Это с ним почтительно разговаривал капитан. Увидев нас, он пробует подняться, но у него ничего не получается, по-видимому, мешает рана. Остальные с приходом «медицины» развивают бурную деятельность. Лишь он один сидит и, нахохлившись под своей папахой, присматривается к нам колючими глазами.
Мы тоже не сводим с него глаз. Особенно поражает нас его огромный рост, его богатырская фигура. Даже лицо у него не как у других — одни прямые линии, прямые углы, без закруглений. Только вот взгляд у «нашего» полковника, несмотря на колючесть, какой-то неуверенный, что ли…
— Здравия желаю… — произношу я и осекаюсь: не очень-то уместно лейтенанту обращаться ко всем полковникам чохом — «товарищи полковники…» А кто из них старший по должности — так, с ходу, не установишь. Тем более что и у тех двоих вид довольно представительный.
— Здравствуйте, — отвечает кто-то из них. Но кто, я даже не замечаю. И это несущественно. Во всяком случае, не «наш». «Наш» лишь морщится. Не от моего нескладного приветствия, конечно, а от боли, которая — нетрудно догадаться — поднимается откуда-то снизу, из неестественно и напряженно отставленного в сторону хромового сапога.
— Товарищ полковник, разрешите посмотреть? — спрашиваю я.
Раненый снова пытается встать и спуститься на землю, но резкая боль останавливает его на полпути. На этот раз все четверо, толкаясь и мешая друг другу, помогают ему выйти из машины и усаживают его на подножку.
Я опускаюсь на колено и вижу: внутренняя сторона голенища, чуть повыше лодыжки, пропорота осколком. Впечатление такое, как будто по коже полоснули ножом. Хорошо, если ранение касательное — только задело мышцу. А что, если осколок сидит глубоко?
— Разрешите? — спрашиваю я и, осторожно подведя ладонь под каблук, пробую снять сапог.
Даже на миллиметр не подвигается!.. Не поддается он и тогда, когда я начинаю тянуть на себя сильнее: очевидно, там все набрякло и слиплось от крови.
Натягиваются и бледнеют сухожилия на огромных полковничьих руках… Быстро поднимаю глаза: все прямые углы и линии лица смещены от боли…
— Товарищ полковник, придется разрезать сапог, — говорю я.
— Не надо, — коротко отвечает он и обращается к водителю «виллиса»: — Сержант, помогите снять сапог!
— Слушаюсь, товарищ гвардии полковник! — лихо козыряет тот. Вот бы у кого поучиться Яхину. А то совсем распустился. Даже пилотку задом наперед надевает.
— Только сразу, — предупреждает полковник.
— Подожди! — останавливаю я сержанта, уже ухватившегося за сапог, и обращаюсь к раненому: — Товарищ гвардии полковник, сразу нельзя. А то можно повредить осколком какие-нибудь сосуды или нервы. Надо потихоньку…
— Что ж… Потихоньку — так потихоньку…
Вроде бы ирония. Слабая, едва заметная, но ирония. Только над кем? Надо мной? Что-то не похоже. Его взгляд даже не задерживается на мне. И лицо у него хмурое и сосредоточенное.
Но вот меня осеняет: просто он побаивается предстоящей боли и готовит себя к ней…
— Потихоньку, — прошу я сержанта.
Тот пыхтит мне в самое ухо.
Особенно неподатливы первые сантиметры.
Наконец сапог медленно освобождает ногу.
Я с облегчением разгибаю спину.
В лице полковника ни кровинки. Весь лоб в мелких капельках пота. Ничего не скажешь: досталось ему крепко. Но он даже звука не издал. Был момент, когда я совершенно позабыл о нем. Видел перед собой ногу — и только!
Что ж, в терпеливости ему не откажешь… Но ради чего он все это терпел? Чтобы сохранить сапог? Свои последние хромовые сапоги. Смешно!..
Начинаю осмотр. У полковника ранение средней тяжести: рана небольшая, но глубокая. Осколок, очевидно, при движении задевает кость. Приступаю к перевязке. Да, такого терпеливого раненого я встречаю впервые. Даже когда я неосторожно задеваю ножницами рану, он только на мгновенье застывает от боли. Ни стона, ни упрека. Да и вообще он молчальник. С начала перевязки он задает мне всего два вопроса. Первый обычный: «Что с ногой?» Второй же заставляет меня открыть рот от удивления: «А нельзя ли вынуть осколок сейчас?» Пришлось объяснить, что даже такие, не очень сложные операции делаются только в госпитальных условиях. К тому же я не врач, а военфельдшер.
На это он неопределенно усмехается:
— Военфельдшер, говоришь?
Что означает эта усмешка, я так и не понял. Но от нее остается неприятный осадок. И с этого момента меня начинает интересовать, кто он… Кое-что я узнаю из реплик, которыми перекидываются полковники. Все трое едут из штаба армии. Где-то неподалеку отсюда у «нашего» поломалась машина, и он пересел в «виллис» к приятелям. Дальше я уясняю, что они служат в разных дивизиях, и, в общем-то, не зависимы друг от друга. Но то, что у раненого полковника более высокая должность, видно сразу. В их отношениях нет той непринужденности и простоты, которая существует у людей, занимающих равное положение…
Однако все трое обуреваемы одним чувством. Они не скрывают, что главное для них сейчас — это быстрее добраться к себе, в свои части, которые вот-вот должны ворваться в Берлин. И хотя мне неизвестно, что они там делают в своих соединениях, но по всему видно — их там ждут, они там крайне нужны.
Правда, на лицах тех двух написано: разумеется, одному из нас здорово не повезло, но что поделаешь? На то и война. Сегодня его ранило, а завтра, может быть, нас. Конечно, мы понимаем, до чего обидно получить осколок в такое историческое время. Но могло быть и хуже. Уж мы-то знаем, что способен натворить порой один-единственный снаряд. Как тут не радоваться, что и тебя не задело, и другие живы остались…
Мне кажется, что раненый догадывается об этих мыслях. Возможно, на их месте он бы и сам так думал. Но сейчас, очевидно, ничего, кроме острой зависти к своим удачливым спутникам, он не испытывает. И не нужны ему ни их сочувствие, ни их радость по поводу избавления от большей опасности. Именно это и выражает его хмурый взгляд.
Кто он, «наш» полковник, так и остается для меня пока тайной. Если бы меня спросили о нем, я бы ответил, как тот солдат: «Начальник какой-то…»
И вдруг шепот Яхина:
— За носилками сбегать?
Ну и ну! Яхин-то! Проявляет инициативу!
— Давай, — говорю я, разрезая конец бинта пополам.
Вскоре Яхин скрывается за поворотом. Да, такой прыти я от него и не ожидал. Вот что значит первый полковник!
Обрезаю ножницами кончики узла, спускаю засученную штанину полковничьих галифе, натягиваю носок…
— Все, товарищ гвардии полковник… Сейчас принесут носилки, и мы отнесем вас в машину.
А у самого мысль: надорвемся мы с Яхиным, пока дотащим его. Может быть, капитан с водителем «виллиса» помогут?
Но тут подходят те два полковника, и один из них смущенно говорит:
— Ты уж, Иван Иванович, не посетуй, что покидаем тебя.
А второй добавляет:
— Сам понимаешь, каждая минута дорога.
«Наш» сдержанно отвечает:
— Счастливого пути.
И не очень торопится обмениваться рукопожатиями. Сидит, упершись кулаками в колени, и перед собой смотрит. Потом, не глядя, подает руку. Те смущенно пожимают ее и залезают в машину, где их уже поджидают капитан и шофер.
Я помогаю полковнику подняться. Мне подают его полевую сумку. Едва подножка освобождается, как «виллис» рывком подается назад, затем вперед, на дорогу, с ходу вклиниваясь между идущими машинами.
— Иван Иванович! Скорее поправляйся! — доносится с него.
Но полковник оставляет это пожелание без ответа. Молча провожает взглядом своих бывших попутчиков.
И вот мы остаемся одни. Он стоит в неловкой и нелепой позе, на одной ноге, обняв меня за шею — большой, одинокий и беспомощный. А у наших ног так же одиноко и бесприютно темнеет его хромовый сапог…
Сколько можно так стоять? Куда бы его посадить?.. Ни черта нет! Ни пня, ни камня! Не сажать же его на голую землю. Хотя солнце и греет, она все еще сырая, обильно напоенная холодными весенними ручьями…
Один выход — подстелить шинель.
— Подождите, товарищ гвардии полковник! — говорю я, расстегивая шинель.
— Не стоит…
Этот ответ неожидан для меня. В нем слышится какая-то новая, доверительная, почти дружеская нотка. Я чувствую, что постепенно он перестает видеть во мне только фельдшера… А я… а я уже сейчас готов разбиться в лепешку для него!
Но легко сказать — «разбиться в лепешку»! Я даже отойти от него не могу, чтобы посмотреть, нет ли где ящика из-под снарядов или мин.
Попросить бы кого-нибудь… Но пеших почему-то давно нет, а машины идут сплошным потоком, не останавливаясь.
Конечно, не так уж часто встречаются раненые полковники, стоящие на одной ноге у дороги. И действительно, многие смотрят на нас с любопытством. Но мы никаких знаков проходящим машинам не подаем, и они проезжают мимо…
Наконец показывается долгожданная «пехота»: четверка солдат, идущих гуськом по обочине.
— Эй, братцы! — окликаю я их.
Они молча переглядываются. Неторопливо и настороженно подходят.
Старший из них по званию и возрасту — сержант — рапортует по всей форме:
— Товарищ полковник! Группа выздоравливающих в составе четырех человек возвращается из госпиталя в часть. Старший группы сержант Савченко.
— Значит, с новыми силами на врага?
— Так точно, товарищ полковник!
— Ну, фрицам теперь несдобровать, — шутливо замечает полковник. — Можете вести свою группу дальше, сержант Савченко.
— Слушаюсь, товарищ полковник! — И к своим: — Пошли!
Нет, дудки! Что я, для этого их останавливал?
— Подождите, братцы! — восклицаю я. — Посмотрите, нет ли где поблизости какого-нибудь ящика, чтобы товарищу полковнику сесть…
— Отчего ж, можно и посмотреть, — отвечает сержант и обращается к выздоравливающим: — Давай, инвалиды, расползайся! Только по-быстрому! А то, пока искать будем, наши Берлин возьмут!
При этих словах полковник больно сжимает мое плечо, которое все целиком умещается в его кулачище. Я начинаю ерзать, и только тогда он ослабляет пальцы.
А солдаты разбредаются по опушке. Заглядывают за кусты и деревья. Кое-кто спускается в траншею. Углубляется в лесок…
И вот они уже возвращаются с добычей: двумя порожними снарядными ящиками и телефонной катушкой, на которой также вполне можно сидеть.
Мы с сержантом осторожно усаживаем полковника. Когда он наконец находит удобное положение и боль в ноге, очевидно, стихает, его лицо принимает прежнее нетерпеливое и сердитое выражение.
— Разрешите идти, товарищ полковник? — спрашивает сержант.
Раненый поднимает глаза, смотрит на того непонимающе-вопросительным взглядом…
Наконец смысл сказанного доходит до него.
— Да, да, идите.
Слегка удивленный, сержант делает своим спутникам знак головой: пошли, хлопцы, бог знает, что у этого странного полковника на уме…
Но полковник ничего этого не замечает. Он нетерпеливо спрашивает:
— Долго еще?
— Нет, товарищ гвардии полковник! Он вот-вот должен подойти!
— Ты уж постарайся, лейтенант. А то к вечеру мне надо быть в дивизии…
— К вечеру? — удивленно переспрашиваю я. Ведь только на то, чтобы добраться до медсанбата, нам потребуется по меньшей мере два часа. А там его положат на операцию. Даже если все пройдет без осложнений, его продержат в госпитале не одну неделю. А он говорит: «к вечеру»…
Но сказать ему об этом у меня не хватает духу.
А он, уловив в моем голосе сомнение, тут же подтверждает:
— Да, да, к вечеру… — И опять доверительным тоном: — Сам понимаешь, Берлин…
Последнего он мог бы и не говорить. Я давно догадываюсь, что у него на душе… Но что я могу сделать? Поскорее доставить в медсанбат — и все?
Где же Яхин?..
А вот наконец и он. Плетется с носилками на плече. Маленький, худенький, он издалека смахивает на подростка.
— Давай быстрей! — кричу я.
Он сбегает с дороги к нам.
Я выговариваю ему:
— Сколько можно ходить?
Раньше он бы огрызнулся. Теперь же бросает на меня лишь косой сердитый взгляд. Молча раскладывает на земле носилки.
Я отмечаю про себя: прямо на глазах растет человек!
Полковник смотрит на нас с Яхиным с нескрываемым недоверием. Он явно сомневается, что мы при нашей жалкой комплекции справимся со своей ношей. Но сказать нам это в глаза не решается. Чтобы нас не обидеть, как мне кажется, он ту же мысль выражает по-другому:
— А может, я сам пойду?
Откровенно говоря, мы и сами знаем, что нам достанется крепко. Но ни я, ни Яхин не сомневаемся, что дотащим его. Только придется как следует попотеть. Но это наша работа.
— Не положено, товарищ гвардии полковник, — отвечаю я. — Разрешите, мы поможем вам лечь на носилки.
Обняв нас за плечи, он поднимается со снарядного ящика. С нашей помощью опускается на носилки. Но лечь на спину отказывается. Сам выбирает себе положение — на боку, опираясь на локоть. Этим он как бы говорит всем, и нам в том числе: я вам не тяжелораненый и изображать умирающего не собираюсь. Мы не возражаем: в общем-то, так оно и есть…
Беремся за ручки. Как всегда, я впереди, Яхин сзади.
— Взяли? Пошли!
Но едва нам удается с огромным трудом оторвать носилки от земли и сделать первые шаги, как раздается громкий треск.
— Эй, друзья, авария! — восклицает полковник.
Господи, только этого не хватает! А тут еще Яхин по инерции никак не может остановиться.
Я кричу в отчаянии:
— Стой!
Я слышу, как трещат чуть ли не все швы провисшего под тяжестью огромного тела полотнища. Краем глаза вижу: полковник пытается удержаться на носилках…
— Ставь быстрей!
Опережая падение раненого, мы быстро опускаем носилки на землю. Но все равно он почти наполовину проваливается в образовавшуюся прореху.
Смущенные и расстроенные, мы стоим в ожиданий заслуженного нагоняя…
Но полковник даже не упрекает нас. В глубине его глаз, по-моему, прячется улыбка. И говорит он скорее всего самому себе:
— Да, для меня нужна танковая броня.
Просто здорово, что он чувствует комизм положения и не очень на нас сердится. Мы благодарны ему за это. Помогаем ему выбраться из носилок и встать на ноги, Вернее — на ногу.
— Далеко машина? — спрашивает он.
— Нет, всего метров сто за поворотом, — отвечаю я, с трудом ворочая шеей, зажатой его пудовой чугунной рукой… Хотя, действительно, расстояние до «санитарки» не больше, щеки мои начинают гореть, как от неумелого вранья. Одно маленькое слово «всего», но в нем столько трусливой неправды, поспешной неискренности. Надо быть глухим, чтобы не расслышать все его гаденькие оттенки… и, дескать, не такая уж это беда, что порвались носилки… и, мол, машина недалеко… и дойти до нее — пара пустяков…
Но он или не замечает этого, или, что более вероятно, не придает значения какому-то словечку. Во всяком случае, по его ответу не скажешь, что оно его как-то задело. Даже наоборот…
— Поехали, доктора! — говорит он и первым, не дожидаясь нас, подается вперед. Покачнувшись от неожиданного толчка, сбиваясь с ноги, мы следуем за ним… Так мы делаем наши первые общие шаги…
Наверное, наша группа производит странное впечатление. Она весьма живописна. Огромный, почти в два метра ростом, полковник, совершающий короткие прыжки на одной ноге, и мелькающие где-то у него под мышками две маленькие головки в пилотках. Особенно проигрывает на этом фоне Яхин. Можно представить, как это все выглядит, если он даже мне по плечо.
Вскоре мы забываем, что на нас смотрят с проходящих машин. Теперь все наше внимание сосредоточено на его шагах и на оставшемся расстоянии…
Отсчитываем про себя: еще шаг… еще шаг… еще шаг…
Каждый пройденный метр достается ему ценой невероятных усилий… Но и мы скоро выбиваемся из сил. Иногда мне кажется, что еще шаг-другой, и я свалюсь у его ног. Яхину как будто немного легче. Просто моя шея — более удобная точка опоры, чем его, расположенная гораздо ниже…
Еще один шаг… Еще…
Порой я перестаю воспринимать нас троих по отдельности. Временами мне представляется, что мы какое-то одно, странное, вконец разладившееся существо. То пятиногое, то шестиногое. Последнее потому, что полковник постоянно меняет ногу. Вернее — положение ног. Проскачет немного на одной ноге, затем, когда устанет, переходит на ходьбу: здоровой ногой — на полную ступню, раненой — на носок. Сделает так несколько шагов и уже снова ищет спасения от боли в прыжках. При перемене положения он давит на мои плечи с такой силой, что я удивляюсь, как он еще не сломал мне шею.
Так же, как и я, молча несет свой крест Яхин. В общем, ему тоже достается.
Согнутые в три погибели, мы невольно смотрим не вперед, а себе под ноги. И в этом есть большой плюс. Здесь столько траншей и окопов, что запросто можно сковырнуться вниз. Но пока судьба милует нас. Мы их благополучно один за другим обходим.
Но расстояние до «санитарки» сокращается не так быстро, как хотелось бы полковнику. Он все время пытается или спрямить дорогу, или же прибавить ходу.
— Поднажать, медицина! — то и дело доносится сверху.
И «медицина» жмет. По шагу в минуту.
Чтобы как-то облегчить свою участь, прибегаю к самообману. Мысленно разбиваю видимое расстояние на несколько отрезков: вон до той сосны… затем до того бугра… затем до поворота… А там, от поворота до «санитарки», будут свои вехи…
Где-то сзади на высокой ноте замирают тормоза.
Вскоре до нашего слуха долетает топот бегущего человека и его голос:
— Товарищ гвардии полковник!
Подбегает. Старший лейтенант. На щеках румянец. Не то от быстрого бега, не то от природы такой.
— Кружков? — удивляется полковник.
— Так точно, Кружков, товарищ гвардии полковник!
— Как там у вас?
— Полный порядок! Жмем на Берлин!
— Ну, ну, жмите… — В голосе полковника явственно звучит зависть.
Старший лейтенант как-то странно опускает глаза.
— Товарищ гвардии полковник!
— Что, Кружков?
— Вас опять ранило?
— Да вот немного задело…
— Лейтенант, — обращается ко мне Кружков, — там не ваша «санитарка»?
— Наша.
— Товарищ гвардии полковник, разрешите, я подброшу вас до нее? — И он, не дожидаясь ответа, круто поворачивается на каблуках и подается к своей машине.
Что он собирается делать? Не будет же он останавливать движение на дороге, сотни машин, танков, самоходок, орудий, только для того, чтобы самому развернуться?
— Кружков!
Снова крутой поворот на каблуках.
— Слушаю, товарищ гвардии полковник!
— Отставить эту затею!
— Но почему, товарищ гвардии полковник? — Краска заливает все его лицо.
— Потому что даже ради своего бывшего командира полка не стоит задерживать движение на Берлин.
Эта фраза, похожая на чье-то знаменитое изречение (вроде запомнившегося еще с детства: «Вы ранены?» — «Нет, сир, убит!»), мне очень нравится. Для меня приятная неожиданность, что «наш» полковник умеет так красиво и благородно выражать свои мысли. И все же я чувствую, что главная прелесть сказанного — в иронии, в той мягкой и неопределенной иронии, которая обращена неизвестно к кому. То ли к себе, то ли к старшему лейтенанту, то ли еще к кому-то. Все дело в интонации. Не будь этой иронии, фраза показалась бы несколько напыщенной.
Впрочем, последнее соображение, возможно, пришло мне в голову позднее. Вероятнее всего, после нашей второй встречи в Вюнсдорфе. А в тот момент, когда это изречение только родилось, я не видел в нем никаких изъянов, ни явных, ни скрытых. Таким красивым — сплошь благородной чеканки — оно и остается в моей памяти.
Такое же сильное впечатление оно производит и на старшего лейтенанта. Он смотрит на своего бывшего командира откровенно влюбленными глазами.
— Товарищ гвардии полковник, разрешите тогда помочь им? — спрашивает он.
— Ну, помоги…
Кружков обращается ко мне:
— Давай, лейтенант, сменю!
Но я уже немного передохнул и готов идти дальше. Показываю головой на Яхина:
— Нет, лучше его.
— Отдохни, ефрейтор!
Яхин послушно уступает старшему лейтенанту свое место. Оказывается, ему надо бежать к машине. Он придумал, как сократить расстояние. Все очень просто. Если проехать над окопом, а затем все время давать задний ход, то можно подогнать «санитарку» еще метров на сорок. А для нас это не так уж и мало…
— Что ж, попробуй, — разрешаю я.
Яхин поднимается на дорогу и, отчаянно лавируя между идущими машинами, перебегает на ту сторону…
У нас тоже дела идут веселее. Старший лейтенант старается вовсю.
Полковник сверху нахваливает нас:
— Добре… Добре… Так темп держать!
Я вижу, что Кружков так же, как и я, хочет в один прием добраться до машины. И это нам почти удается: за все время мы отдыхаем всего два или три раза.
А Яхин тоже выполнил задуманное. Но подогнать «санитарку» на полсотню метров — еще не все. Ее отделяют от нас несколько рядов непрерывно движущейся техники.
Мы видим маленькую фигурку Яхина, которая то появляется, то исчезает на той стороне. Он бегает вдоль дороги, высматривая для нас просвет между машинами. Но какая польза от его подсказки, если нам все равно не поспеть за ним?
А он досадует на нас. Его злит наша неповоротливость и наша непонятливость, как он считает…
Но у старшего лейтенанта свой план. Он пропускает огромную колонну автомашин с боеприпасами. Несмотря на то что полковник продолжает сердито поторапливать нас, мы терпеливо дожидаемся, пока проедет мотопехота. И только когда появляются громыхающие коробки тяжелых танков, Кружков говорит мне:
— Пора!
Подхватив полковника, мы бросаемся через дорогу… С переднего танка замечают нас и сбавляют ход… Следующее препятствие — бронетранспортер. Но и он вскоре остается позади… Так, совершая броски от одного ряда машин к другому, мы за какую-то минуту оказываемся на той стороне.
— В темпе!.. В темпе!.. — продолжает подгонять нас и себя полковник.
Из фургона «санитарки» выглядывают наши раненые и больной. Они несколько возбуждены и озабочены предстоящим подселением: был бы это свой брат солдат или, куда бы еще ни шло, младший офицер, а то полковник!
Но они напрасно беспокоятся. Поколебавшись, я принимаю решение: полковник есть полковник, и место его в кабине…
У подножки он отпускает наши плечи и хватается обеими руками за дверцу.
— Ну, все… Теперь я сам!
Но сказать легче, чем самому взобраться на подножку. К счастью, мы рядом и вовремя приходим на помощь.
Кабину он заполняет собой почти всю. Яхин выглядывает откуда-то из-под его локтя.
— Поехали! — говорит раненый шоферу.
И тот, даже не поглядев, сел я или нет, рванул с места!
Я едва успеваю вскочить на подножку.
Мы выезжаем на дорогу и занимаем место между двумя трофейными итальянскими грузовиками.
Я держусь обеими руками за дверцу с опущенным стеклом.
Хотя нас разделяет всего несколько сантиметров, полковник совершенно не обращает на меня внимания: как будто на подножке никого нет…
— А нельзя ли побыстрее? — вдруг обращается полковник к Яхину.
Я вижу, что им с новой силой овладевает нетерпение… Но как «побыстрее»? Обгонять идущие впереди машины? Это невозможно. Справа от нас бесконечный кювет и траншеи с окопами, а слева половодье машин, направляющихся навстречу — к передовой. Некоторые из них проходят так близко, что едва не задевают нас бортами. Узенький коридор, в который мы зажаты с обеих сторон, не дает нам возможности не только обогнать кого-то, но и вообще проявить даже малейшую самостоятельность.
И все же иногда, очень редко, чаще всего на стыке колонн, когда интервалы немного увеличиваются, можно обогнать одну, от силы две машины.
Первая же попытка объехать трофейный грузовик кончается у Яхина неудачей. Дело в том, что точно такой же обгон предпринимает машина из встречного потока. Но она несколько опережает нас, и мы вынуждены снова пристроиться в хвост грузовику.
Яхину ничего не остается, как помахать кулачком вслед своему более удачливому сопернику.
Новая возможность попытать счастья появляется только через четверть часа. На этот раз Яхин не зевает. Ему удается обогнать грузовик и идущую перед ним легковушку. Конечно, пара десятков метров — успех не ахти какой. Но даже такая малость поднимает у полковника настроение: начало положено! А может быть, тут капелька азарта? Ведь невозможно участвовать в подобного рода обгонах и не загореться чисто спортивным интересом.
И в самом деле, не успели мы занять новое место в колонне, как он уже теребит Яхина:
— А ну, ну, ну!.. Быстрей, быстрей!
А тот, окрыленный своей первой удачей, гордый тем, что к нему так просто обращается полковник, бросает «санитарку» в отчаянно короткий просвет между машинами. Надо было видеть, с какой точностью и быстротой он проскочил мимо «газика», который пытался опередить его, и обогнал тягач, тянувший за собой на буксире подбитую «тридцатьчетверку»…
Полковник аж крякает от удовольствия, глядя на эти яхинские курбеты.
А через несколько минут мы производим новый бросок. И еще одна машина остается позади.
То, что Яхин первоклассный шофер, и говорить нечего. Но сейчас он к тому же в ударе…
И тут неожиданно мне приходит в голову недобрая мысль: скорее всего, он лезет из кожи, чтобы угодить полковнику. Только для чего? Чтобы тот взял его с собой? Или запомнил на будущее? Во всяком случае, усилия его не пропадают даром. Полковнику он явно нравится.
Не то что я. На меня тот вообще не обращает внимания. Разумеется, это не значит, что я ему неприятен или он имеет что-нибудь против меня, я бы это почувствовал. Здесь что-то другое. Но что? Может быть, все дело в том, что я ему сейчас не нужен? Сейчас ему нужно яхинское умение — и ничего больше?
Но осуждать его за это просто глупо. У него единственное и глубоко понятное мне желание — быстрей обернуться. Удастся ли ему это — другой вопрос. Он даже не подозревает, что ему придется «припухать» в госпиталях по меньшей мере месяца два. Но об этом известно лишь мне. Он же еще на что-то надеется. И в первую очередь на лихие яхинские обгоны…
Только пользы от них мало. За это время мы обогнали всего восемь машин. Восемь из сотен растянувшихся на многие километры.
И вдруг полковник обращается ко мне:
— Медсанбат в Оберхаузе?
— В Оберхаузе, товарищ гвардии полковник!
— Сейчас посмотрим, — говорит он и достает из полевой сумки карту. Разложив ее на коленях, принимается искать Оберхауз. Наконец находит его. Оказывается, кроме нашего шоссе туда ведет и узкая полевая дорога.
— Она километра на три короче, — сообщает полковник. — И движение там, надо думать, не столь плотное.
Действительно, от шоссе ответвляются несколько проселочных и полевых дорог. Две или три мы уже
проехали. Которая наша?
— Товарищ гвардии полковник, а мы, случайно, ее не проехали? — спрашиваю я.
— Нет. Случайно мы ее не проехали, — отвечает он с обычной для него мягкой и неопределенной иронией, которая мне так нравится…
— А вот и она! — вскоре объявляет он.
Дорога упрятана между двумя рядами фруктовых деревьев и уходит вдаль, петляя в холмах… По ней движутся редкие, очень редкие машины… При желании их можно сосчитать по пальцам.
— Ну что, лейтенант, будем сворачивать?
Я понимаю, что этот вопрос больше для проформы, чтобы соблюсти приличие: все-таки за рейс отвечаю я, а не он. Но тем не менее я тронут: он как бы спрашивает моего согласия. И я тут же с готовностью отзываюсь:
— Как прикажете, товарищ гвардии полковник!
А он принимает мой ответ как само собой разумеющийся:
— Добре.
Свернув с шоссе, мы оказываемся в компании еще двух машин, также решивших сократить путь.
— А теперь, ефрейтор, гони! — распоряжается полковник. Яхин и рад стараться. Шпарит так, что я едва удерживаюсь на подножке…
Через несколько минут мы обгоняем одну за другой две машины и продолжаем жать вовсю, несмотря на изъяны полевой дороги, весьма разбитой отступающей немецкой и наступающей нашей боевой техникой.
От толчков на ухабах больше всего достается полковнику. На какое-то мгновенье он замирает от боли, а потом весело чертыхается. Я вижу, быстрая езда искупает для него все неудобства, включая боль…
Кстати, на меня он по-прежнему обращает мало внимания, впрочем как и на все остальное, кроме километров, оставшихся до медсанбата. Он даже не замечает усилий, которые я затрачиваю на то, чтобы не сорваться с подножки. Я его понимаю, ему сейчас не до меня. Но Яхин мог бы гнать поосторожней. Так и о дерево шмякнуть недолго… Вот ненормальный!.. Ну ничего, я ему это припомню!.. А не перебраться ли, пока не поздно, в фургон? Но для этого надо остановить машину. Да тогда полковник из меня бифштекс сделает!.. Поэтому и приходится прижиматься к дверце, перехватываться руками то за борт, то за боковое зеркальце — только бы устоять на подножке, не загреметь вниз… Никогда бы не подумал, что мои конечности окажутся такими ловкими.
Но вскоре появляется и вторая причина, удерживающая меня на подножке. Хотя с тех пор прошло почти тридцать лет, я очень ясно и отчетливо помню свое тогдашнее состояние…
Мы въезжаем в деревушку, обыкновенную немецкую деревушку с каменной мостовой, с кирпичными домами и амбарами. Местных жителей не видно. Кругом одни солдаты. А вон и группа девушек в военной форме. Судя по всему, здесь осела какая-то тыловая часть.
Наше появление не проходит незамеченным. На нас удивленно смотрят, с любопытством оборачиваются. Я понимаю: привлекает всех не «санитарка» — за день их тут, наверное, проходит достаточно, — а некоторые сопутствующие обстоятельства. Это и большая скорость, с которой мы несемся по улице, и огромная фигура в полковничьей папахе, восседающая в кабине, и стоящий на подножке лейтенант неизвестно какой службы… какого рода войск. Ведь ничто, кроме самой «санитарки», не выдает моей принадлежности к медицине. Ни погоны, ни петлицы. Три рода войск при желании могли бы заспорить обо мне.
Скорее всего, меня можно принять за адъютанта полковника. Тем более что погоны у меня защитного цвета, как у строевика.
Я начинаю смотреть на себя глазами вон тех военных девушек, провожающих нас взглядом… Глазами всех этих несчастных тыловиков, вряд ли когда-либо по-настоящему нюхавших пороху…
«Полковник и лейтенант, — красноречиво говорят их взгляды, — только оттуда, с поля боя… Там, в ожесточенном сражении за Берлин, полковник был ранен… А этот красавец лейтенант вытащил его из-под пуль и сейчас везет, истекающего кровью, в госпиталь. Они всегда вместе, полковник и его верный адъютант. Вот кто настоящий фронтовик — не то что мы…»
Мне почему-то кажется, что такие же мысли и чувства, только в другом варианте — «раненый полковник и его верный шофер», — обуревают Яхина. Во всяком случае, вид у него в эту минуту на редкость самодовольный…
Впрочем, полет фантазии обрывается сразу же, как только мы выезжаем из населенного пункта и исчезают прохожие. Без них мы моментально скисаем и превращаемся в самих себя: я в зауряд-фельдшера, он — в обыкновенного водителя санитарной машины. Но стоит лишь показаться каменным постройкам новой деревушки и снова появиться прохожим, как все начинается сначала…
Но вот из-за поворота выскакивают первые дома Оберхауза.
Полковник уже весь напрягся. Он с трудом досиживает последние секунды пути.
Его нетерпение передается нам. Я даже встаю одной ногой на крыло — все-таки, хоть ненамного, но продвижение вперед.
А Яхин еще за два квартала начинает жать на клаксон, предупреждая о нашем приближении…
Не удивительно, что медсанбат встречает нас уже задранным до предела шлагбаумом.
Мы влетаем во двор, останавливаемся у приемного отделения. Я соскакиваю и бросаюсь к сбегающему с крыльца эвакоотделения главному хирургу. Длинный и тощий, с очень некрасивым толстогубым лицом, он давно вызывает во мне безотчетную неприязнь. Но слава о нем как о прекрасном хирурге заставляет всех, в том числе и меня, относиться к нему с уважением. Особенно когда он бывает нужен…
Я подбегаю к нему и взволнованно сообщаю:
— Товарищ майор, я привез раненого полковника!
А он, вместо того чтобы тут же броситься оказывать помощь, лишь резко спрашивает:
— Куда ранен?
— В голень осколком снаряда.
— Сдайте раненого в приемное отделение. — И, потеряв ко мне всякий интерес, продолжает свой путь.
Я следую за ним:
— Как сдать?
— Как сдаете всех раненых, — на ходу отвечает он.
Я готов провалиться сквозь землю. Еще никогда в жизни меня так не обрезали. Даже в училище, где над тобой столько командиров.
Понурый, я возвращаюсь к «санитарке». Около нее уже стоят и ждут меня все наши раненые, включая полковника, которого поддерживают Яхин и солдат с ангиной.
Полковник настороженно спрашивает:
— Кто это?
— Главный хирург медсанбата.
— Что он сказал?
Я отвожу взгляд в сторону.
— Что сперва надо в приемное отделение… — И, сменив больного солдата, говорю: — Пойдемте, товарищ гвардии полковник.
И вот мы заходим в приемное отделение. Это бывший спортивный зал, сплошь заставленный койками с сидящими и лежащими на них ранеными. Снуют санитары. Одним они дают пить, другим — лекарства, третьим подают утку. Кого-то уносят на носилках, кого-то приносят…
К нам подбегает девчонка-санитарка:
— Товарищ полковник, минуточку, сейчас мы вас примем!
И тут же исчезает.
Мы ждем десять — пятнадцать минут, к нам никто не подходит.
Лицо полковника выражает растерянность. Я его понимаю: когда столько раненых, даже как-то неудобно напоминать о себе…
Постепенно растерянность все же сменяется нетерпением. Полковник раздраженно спрашивает:
— Ну, где же ваши врачи, лейтенант?
И в самом деле, куда они подевались?
— Я сбегаю, позову их! — говорю я.
Но в этот момент появляются главный хирург и врачиха приемного отделения. Она недавно окончила медицинский институт, и ей еще не успели присвоить звание. Нас она замечает сразу. Но главный хирург торопливо ей что-то выговаривает, и она молча следует за ним мимо нас…
Останавливает их обоих голос полковника:
— Товарищ майор!
Главный хирург какое-то время раздумывает, словно решая, стоит подойти или нет.
Подходит, но с недовольным выражением на длинном лице.
— Слушаю вас, товарищ полковник!
— Товарищ майор, я прошу вас срочно прооперировать меня, — негромко произносит полковник.
— Ну, разумеется, вам срочно, а тяжелораненые пусть подождут! — вдруг вскипает главный хирург.
Полковник вспыхивает. Я чувствую, что ему стоит огромного труда сдержаться, не сказать майору что-нибудь такое же резкое и гневное. Отвечает он сдержанно, с достоинством и с неприкрытой обидой в голосе:
— Я просил вас о срочной операции только потому, что к вечеру мне надо быть в дивизии…
В лице главного хирурга что-то меняется. Но говорит он строго и, как мне кажется, чуть-чуть похваляясь:
— В нашем медсанбате неукоснительно соблюдают правило: первым оказывают помощь тем, кто в ней больше нуждается. И никаких исключений, товарищ полковник…
— Тогда простите, что побеспокоил вас, — странным голосом произносит полковник и, обняв меня за шею, говорит: — Пошли, лейтенант!..
И мы все втроем ковыляем к выходу. В эту минуту мы с Яхиным испытываем к главному хирургу самую что ни есть лютую ненависть. Будь на то наша воля, мы на месте полковника раз пять поставили бы его по команде «смирно». Чтобы знал, как разговаривать со старшим по званию! Чтобы знал, как строить из себя борца за справедливость!
Мы идем и слышим, как позади нас воцаряется напряженная тишина. Неожиданный поступок полковника вызывает у врачей растерянность.
Открываем дверь, выходим на крыльцо…
И вдруг нам в спину ударяет голос врачихи:
— Вернитесь, товарищ полковник!
Но мы, не обращая внимания на оклик, продолжаем спускаться по ступенькам.
— Вернитесь!
Она догоняет нас в самом низу лестницы.
— Товарищ полковник, вы напрасно обижаетесь… Вы же видели, как у нас забито… На каждого хирурга только тяжелораненых по тридцать человек… Мы совсем не управляемся… А раненые все прибывают!
Но он не отвечает ей. Добравшись до «санитарки», он хватается обеими руками за дверцу и рывком, почти без нашей помощи, поднимается в кабину. По его побледневшему лицу, по остановившемуся взгляду все видят, какой ценой достается ему этот показательный прыжок.
— Товарищ полковник, остановитесь! — взволнованно говорит врачиха. — Я попробую уговорить главного хирурга…
— Не надо уговаривать, — задумчиво произносит он и, помедлив, добавляет: — Он прав.
И еще, помедлив:
— К тому же мне к вечеру нужно быть в полках. Штурм Берлина, доктор, не такое уж частое мероприятие, чтобы им можно было пренебречь…
А последнее звучит совсем как гром среди ясного неба:
— Особенно для легкораненых товарищей, вроде вашего нового командира дивизии…
— Что? — одновременно вырывается у меня и у врачихи.
…Этим эффектным признанием в общем-то и закончилась наша первая встреча. Яхин повез его в дивизию, а я задержался, чтобы сдать остальных раненых. По-разному восприняли неожиданную новость молоденькая докторша и главный хирург. Она долго причитала и охала. Он даже не изменил выражения своего длинного толстогубого лица. Сказал лишь:
— Ну и что?
Где и когда полковника оперировали, я не знаю. Одно ясно, что с ногой у него уже в Вюнсдорфе был полный порядок. Все-таки, когда он шагал мне навстречу, я имел достаточно времени разглядеть его.
А он прошел мимо и даже бровью не повел. Может, просто не узнал, а может, устыдился того, чему я был свидетель. Минут слабости и обид? И не подозревает, что именно они, эти мгновения, сказали мне о нем, о силе его, больше, чем все остальное…
ОДНАЖДЫ В ПОЛЕТЕ
1
Обычно самолет этого рейса не в состоянии забрать всех желающих. Всегда оставался десяток-другой пассажиров, которые улетали на следующий день. Но сегодня было продано лишь восемь билетов. Недобор составлял тринадцать человек. Правда, перед самым объявлением посадки в зал ввалилась, загородив все проходы узлами и чемоданами, очень шумная и нарядная толпа цыган. Но они оказались провожающими. Улетала молодая цыганская пара: оба красивые и бойкие, по-видимому молодожены.
С ними пассажиров стало десять.
Когда все вышли на летное поле и двинулись к ЛИ-2, от него отъехали порожний ГАЗ-66 и почтовая машина — грузы и почта в Ытыган доставлялись преимущественно воздушным путем.
Хотя трап был спущен, пассажиров попросили пока не заходить. Но ожидание почему-то затянулось. То ли перекладывали груз, то ли еще что. Люди стояли на солнцепеке и томились от жары. Тогда кто-то зашел в тень от самолета и присел на чемодан. Его примеру последовали остальные. Но едва все десять расположились в тени, как их пригласили в самолет.
Чтобы как-то загладить очевидную вину «Аэрофлота» перед пассажирами, которых заставили столько ждать, бортпроводница — высокая, сухопарая девушка в потертой форме — даже не стала проверять билеты. Впрочем, в этом и не было необходимости. Налицо присутствовали все десять. Одиннадцатый — бесплатный — пассажир сладко спал на руках матери, завернутый в тонкое пикейное одеяльце.
Кроме того, большинство пассажиров она знала в лицо — ничего удивительного, когда столько лет работаешь на местных линиях. Например, этого толстяка, легко поднимающегося по трапу, она помнит еще со своего первого рейса. Сейчас она знает, что он не то профессор, не то доцент. Каждое лето он летает в Ытыган, где проходят производственную практику его студенты. Маленького роста, широкоплечий, большеголовый, с крупными и добрыми чертами лица, он уже одной своей несуразной внешностью снискал ее симпатию. К тому же о нем говорили, что для студентов он как отец родной. И это делало его в ее глазах еще значительнее.
А вот его спутника бортпроводница терпеть не могла. Пусть он какая-то важная шишка. Пусть молодой, всего на несколько лет старше ее. Пусть красиво и модно одет. Но есть в нем что-то такое, что не понравилось ей еще в прошлом году. Возможно, холодный, высокомерный взгляд. Возможно, редкие гладкие волосы, искусно прикрывающие широкую лысину. А может быть, так не гармонирующее с этой ранней плешью довольно моложавое и тонкое лицо.
Знаком ей и красавец цыган. Он работает трактористом в леспромхозе под Ытыганом. Всего две недели назад он летел в этом самолете до краевого центра и все время острил по поводу своей предстоящей женитьбы. И вот он уже возвращается с молодой женой. Интересно, знали ли они друг друга раньше или были сосватаны стараниями многочисленной цыганской родни? Почему бы ему не жениться на русской девушке? За такого красавца любая пошла бы…
Примелькалась ей и эта соплюшка. За какой-нибудь месяц она дважды летала до Красноярска. Там институт, куда она пытается поступить. Но всякий раз у нее не хватает то одной, то другой справки, и она с ходу садится в самолет и летит домой за очередной «липой». А заодно похвастаться перед подругами новым костюмом. Сейчас на ней сногсшибательный итальянский брючный костюм и белые лакированные босоножки. А личико у нее детское. Наверное, одна у родителей. Избаловали на свою голову.
Распространяя вокруг себя крепкий запах дорогих духов, прошла в самолет жена председателя Ытыганского райпотребсоюза. С каждым годом она все больше раздается вширь. Скоро одного кресла ей будет мало. Что ж, у муженька денег куры не клюют — купит для нее и два места.
Похоже, что эта женщина с ребенком тоже из Ытыгана. Но лицо у нее такое неприметное, что его и с двух-трех раз не запомнишь. Вот и ломай голову: то ли летала с ней, то ли нет.
Зато остальных троих она определенно видела впервые.
Среди них внимание бортпроводницы привлек высокий худощавый немолодой мужчина с совсем седой головой. Его лицо, стянутое множеством рубцов от ожогов, выдавало в нем бывшего танкиста или летчика, горевшего в своей боевой машине. Около него вертелся, проявляя чрезмерную услужливость, молоденький паренек в ярко-желтой велосипедной шапочке. То, что они киношники, бортпроводница поняла сразу. Из расстегнувшегося чехла выглядывали ноги штатива. Кроме того, у них было пять или шесть кофров, в которых, как она сообразила, хранилась киноаппаратура.
Последним в самолет поднялся человек в несвежей майке и солдатских галифе, заправленных в покоробленные сапоги. Он был немного навеселе. По татуировке, густо покрывавшей его грудь и руки, можно было догадаться, кто он и откуда.
— А ну, покажи билет! — вдруг строго спросила у него бортпроводница.
Но он не обиделся, что проверить билет решили только у него одного. С готовностью ответил, доставая корявыми пальцами проездные документы:
— Это мы можем. Это нам как бутылку ситро выпить.
Дата, номер рейса, место — все было в порядке.
— Хотя бы рубашку надел. Все-таки люди кругом, — проворчала бортпроводница.
— Ишь ты, строгости какие. Как на земле, — подытожил человек в майке…
Предложив всем застегнуть ремни, бортпроводница прошла в кабину пилота…
Вскоре заработали моторы, и самолет неторопливо вырулил к взлетной полосе…
2
«Ах, изменщик! Ах, изменщик!» — Федор Федорович проводил добродушно-насмешливым взглядом Валеру, который в последний момент перед взлетом пересел от него к очень молоденькой девушке в белом костюме. Через несколько секунд он уж показывал ей, как правильно застегивать ремни, что нужно делать, когда закладывает уши. Федор Федорович вздохнул. Он знал, что будет дальше. Первым делом Валера как бы нечаянно проговорится, что они едут снимать фильм. Фильм? Какой? Пока это секрет. Мэтр не любит преждевременной рекламы, чрезмерной шумихи. Мэтр — это он, Федор Федорович Сорокин. У него, как у каждого уважающего себя мэтра, есть ученики. Разумеется, лучший из них — Валера Семидевкин. Он же кинооператор Валерий Добров. Этим псевдонимом он пользуется пока в сугубо личных целях — знакомясь с девушками. И впрямь звучит неплохо — кинооператор Валерий Добров. На самом деле Валера никакой не оператор. Числится он мастером по светотехнике. Оклад у него восемьдесят восемь рублей пятьдесят семь копеек. Приработка никакого. Но живет он вдвоем с матерью-пенсионеркой, и им как будто хватает. Недавно Валера упросил Федора Федоровича, чтобы тот в характеристике ему написал «ассистент оператора», хотя в их штате такой должности нет. Это ему нужно для поступления во ВГИК, куда он уже третий год пытается прорваться. На съемках Валера делает все, что прикажут. Он и ассистент режиссера, и ассистент оператора, и осветитель, и вспомогательный рабочий. Впрочем, такой же «многостаночник» и сам Федор Федорович, который одновременно является и режиссером, и оператором, и директором картины. И это для них привычно. Потому что работают они в малюсенькой ведомственной киностудии, выпускающей небольшие инструктивные киноролики по технике безопасности.
Но о последнем ни Валера, ни Федор Федорович не любят распространяться. Для посторонних они — настоящие кинематографисты. Поглядывая на них, на их современную киноаппаратуру, каждый, наверно, думает: а может быть, их ленты широко идут на экранах страны, участвуют и побеждают на международных фестивалях? Гран-при и всякая такая штука! И возможно, чем черт не шутит, эти двое знакомы со многими кинозвездами и среди их друзей знаменитые кинорежиссеры, сценаристы, продюсеры. «Особенно продюсеры», — усмехнулся Федор Федорович.
Он обернулся. Так и есть! Валера набрал высоту раньше, чем самолет. Лицо девушки пылает. Как же, познакомилась с взаправдашним кинооператором! А вдруг он и его патрон пригласят ее сниматься в своем фильме? Пусть не в этом — в следующем! Ведь такие случаи бывают сплошь и рядом. Она сама читала и слышала о них. Ей вспоминается одна знаменитая киноактриса, другая, третья, которые тоже начинали с нуля. К ним — это она хорошо помнит — так же неожиданно подсаживался парень киношного типа и предлагал роль в какой-нибудь кинокартине.
Сквозь рокот моторов до Федора Федоровича долетают слова, которыми обмениваются Валера и его юная соседка. Теперь Валеру не остановить. Теперь будет разводить турусы на колесах до самого Ытыгана. Откуда у него столько слов, когда болтает с девицами? Федор Федорович не замечал, чтобы он был столь же красноречив с приятелями. Конечно, в Валерином поведении ничего нет предосудительного. Молодость, темперамент и так далее. И все же Федор Федорович предпочел бы, чтобы тот вел себя несколько серьезнее. Но попробуй за восемьдесят восемь рублей пятьдесят семь копеек найти работника, который бы устраивал тебя во всех отношениях. И за вдвое больше не найдешь. К тому же, по совести говоря, Валера не так уж и плох. Главное — не пьет и от работы не отлынивает. Не то что его предшественник…
Федор Федорович расстегнул ремни: подъем продолжался минут двадцать, не меньше. Сейчас самолет шел на высоте четырех с половиной тысяч метров. Федор Федорович пересел к иллюминатору и посмотрел вниз. Между белыми островками облаков темнела необозримая сибирская тайга…
3
Игорь Светликов с трудом скрывал раздражение. Он рассчитывал во время полета обстоятельно и неторопливо ознакомиться с отчетом рудника, чтобы там, на месте, с первой же минуты быть готовым к весьма трудному и сложному разговору с его руководителями. А вместо того приходится отвлекаться на соседей. Ну, Самарин — это, так сказать, зло неизбежное. Еще в аэропорту, заметив издали хорошо знакомую приземистую фигуру, Светликов машинально спрятался за чьи-то спины. Но потом сообразил, что встречи все равно не избежать и лучше сделать вид, что рад, чем предстать перед бывшим шефом с кислой и недовольной физиономией. Все произошло так, как он предвидел. Старик здорово обрадовался: как же, столько лет вместе проработали! Когда-то «мой лучший студент», затем «мой лучший аспирант» и, наконец, «мой лучший сотрудник кафедры». А теперь — молодая восходящая звезда: заместитель главного инженера всего комбината, кандидат наук. Плюс неожиданный попутчик, интересный собеседник, благодарный слушатель. Особенно последнее. Самарин и раньше любил поговорить. Но сейчас, казалось, только это в нем и осталось. Хотя на сей раз старческое любопытство взяло верх над старческой болтливостью. Светликов едва успевал отвечать на его бесконечные где, что, почему, откуда…
Когда же Самарин отпустил его душу на покаяние, к нему привязался этот тип в грязной майке, сидевший как раз перед ним.
— Извиняюсь, гражданин, вы случайно не юрист? — спросил тот, дохнув перегаром.
— Нет, — отрезал Светликов.
— А почему не юрист? — Человек в майке казался озадаченным.
— Потому что у меня другая профессия.
— Другая?
— Да, другая. И вообще, — решительным тоном заявил Светликов, — я попросил бы вас оставить меня в покое.
— Слушаюсь, гражданин начальник, — неожиданно покорно ответил тот.
Но через минуту он уже забыл о том, что его одернули, и снова стал докучать Светликову такими же идиотскими и бессмысленными вопросами.
А потом вниманием всех завладели цыган и его жена, которые не находили себе места от переполнявших их чувств. Чего только они не вытворяли! Обнимались, пели, курили, грызли яблоки, пили из одного горлышка пиво, устраивали легкие и шутливые потасовки, которые заканчивались тем, что она запускала обе пятерни в его густую черную шевелюру и теребила ее до тех пор, пока он не просил пощады. Где уж тут сосредоточиться! Первым порывом Светликова было напомнить этой не в меру развеселившейся парочке, чтобы она не забывала, где находится. Но, увидев вокруг себя одни по-доброму улыбающиеся лица (поведение молодоженов явно забавляло всех и чем-то трогало), он раздумал делать замечание. Все равно бы его никто не поддержал. Даже Самарин — он уверен — упрекнул бы: «Ну, зачем же так, Игорек?»
Им-то что? Чем быстрей и незаметней пройдет время в полете, тем лучше. Можно, вот как сейчас, поглазеть. А можно при желании вздремнуть, или перекинуться в картишки, или почитать «Огонек», или просто смотреть в иллюминатор. У него же на счету каждая минута. За два часа он должен не только проштудировать толстенный отчет и другие бумаги, но и в общих чертах продумать свое выступление на производственном активе. Хоть ватой уши затыкай!
Что это? Оказывается, еще есть недовольные цыганской самодеятельностью. Конечно, ему нисколько не симпатична эта расплывшаяся баба с пудовыми коленками, возмущенно требующая от бортпроводницы призвать цыган к порядку. Но в данном случае она права. Те двое и впрямь ни с кем не считаются!
Однако в остроумии и находчивости им не откажешь.
Крикнула, например, эта надушенная тетка бортпроводнице: «Мне из-за их вещей здесь не повернуться!» — так цыган ей тут же со смешком: «А ты садись ко мне на колени!» — на что молодая жена, конечно, возразила: «Ничего, там потерпит! — и прыснула. — Нам недалеко… до самого Ытыгана!» И все тоже засмеялись…
Или стоило толстухе возмущенно заявить: «Возят всяких!» — как цыган с ходу подал ответную реплику: «Зачем на себя самокритику наводишь?» А его жена весело добавила: «Значит, совесть замучила!»
Все так и грохнули. Светликов и тот мысленно улыбнулся.
Бортпроводница явно благоволила к цыганам. Поэтому и разнос им устроила больше для виду — сквозь смех. А дородной жалобщице не очень вежливо предложила пересесть на другое место. Когда та, шествуя по проходу, нечаянно дотронулась рукой до огромного тюфяка, цыганка не удержалась, чтобы еще раз не кольнуть: «Осторожно! Не запачкайтесь: цыганская постель!»
И тут же, не переводя дыхания, запела итальянскую песенку из кинофильма «Вернись в Сорренто».
«Когда же они утихомирятся? — тоскливо подумал Светликов. — Не пересесть ли мне тоже? Вон туда, рядом с тем, с обожженным лицом? Там, кажется, поспокойнее. Но обидится Самарин…»
Но тот понял с полуслова. «Ну, конечно, конечно, Игорек, перебирайтесь!»
Подхватив тяжелый кожаный портфель, Светликов перешел на левую сторону самолета.
С начала полета прошло час десять. Если взять себя в руки и постараться ни на что не обращать внимания, то можно еще успеть.
4
Самарин не любил Светликова. Разумеется, так было не всегда. Когда-то он в нем души не чаял. Еще бы! Такой способный, такой перспективный!.. Обидно только, что со временем все эти способности были направлены на далеко не благородные цели. Да и мог ли он предположить, что этот тихий, скромный, нежный мальчик, с поминутно наливающимся краской лицом, превратится в ловкого и расчетливого честолюбца. И что самое удивительное, для этого не потребовалось десятилетий! Год, два, и все было кончено. Первым он свалил заведующего своей лабораторией, милейшего и добрейшего человека, который якобы «не отвечал возросшим требованиям» и что-то там «не обеспечивал». Затем с легкой его руки полетел еще один сотрудник. Возможно, очередь дошла бы и до него, Самарина. Как же, завкафедрой — и не доктор! Не профессор! Да и годы запенсионные! Словом, «поблагодарим же, товарищи, нашего дорогого и уважаемого коллегу за тот большой вклад, который он внес в дело воспитания и обучения подрастающего поколения. Уходя на заслуженный отдых, он не должен забывать, что здесь его родной дом, его старые друзья». Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг Светликову не предложили лучшее место…
Но вот что странно. Как плохо сейчас ни думал Самарин о своем бывшем ученике, при встречах с ним он почему-то забывал о его настоящем лице и видел перед собой лишь того милого и славного Игорька, которого когда-то любил и выдвигал. Стоило тому знакомо улыбнуться, заговорить со своими обычными интонациями в голосе, как Самарин сразу теплел, добрел к нему сердцем. И ничего не мог с собой поделать. Так уж, очевидно, он был устроен. Он — Николай Николаевич Самарин. Вечный доцент и вечный кандидат.
Так было и сегодня. И наверно, будет еще много раз, пока Светликову не надоест с ним здороваться.
— Не сотвори себе кумира, — грустно произнес вслух Самарин.
Ровный гул моторов убаюкивал. Один за другим умолкали голоса. Уже похрапывал человек в застиранной майке. Он все время скатывался на бок и никак не мог найти удобного положения. Уютненько, как кошечка, устроилась на плече у мужа цыганка. Его тоже разморило, и он сладко позевывал. Заполнив собой все кресло, клевала носом жена начальника Ытыганского райпотребсоюза. Где-то рядом растворилась худенькая женщина в ситцевом халате. Ребенок спал в подвесной люльке, выпростав из-под одеяла ручонки. Сидел с закрытыми глазами высокий седой мужчина с изуродованным лицом. И не понятно было, спит ли он или задумался. О чем-то шептались, переглядываясь, девушка в белом костюме и паренек в велосипедной шапочке.
И лишь Светликов был занят делом — что-то высматривал своими быстрыми и острыми глазами в пухлом отчете.
«Не вздремнуть ли?» — подумал Самарин и тоже откинул спинку кресла…
5
Бортпроводница направилась в хвост самолета. Она шла по проходу осторожно, чтобы не задеть спящих. Командир попросил ее посмотреть, не оставил ли он там свою паркеровскую ручку, подарок какого-то друга, тоже пилота, летавшего на международных линиях. Он помнил, что последний раз держал ее, когда расписывался в накладной на доставленный груз. Может быть, он положил ее на один из ящиков.
— Девушка, можно вас? — из густой сетки рубцов на нее смотрели усталые, с покрасневшими веками глаза старого киношника.
Она подошла.
— У вас не будет чего-нибудь попить? — спросил он.
— Вам лимонад или минеральную?
— А минеральная у вас какая?
— Наша, местная. Я погляжу, кажется, осталось несколько бутылок нарзана.
— Тогда одну нарзана.
— А нам, синьорита, бутылку лимонада! — потянулся к ней молодой киношник, на минутку оторвавшись от своей белоснежной финтифлюшки.
— Сейчас принесу, — сказала бортпроводница. И уже на пути в хвост самолета обернулась и неприязненно повторила: — Сейчас.
Последнее прозвучало у нее, как «ничего, потерпите», и относилось исключительно к этой стихийно возникшей парочке. К старому киношнику у нее претензий не было.
В багажном отделении некуда было ногу поставить. Бортпроводница включила свет. Пропавшую ручку она увидела сразу. Та действительно лежала на ящике. Ну и обрадуется командир! Все-таки память…
Бортпроводница двинулась в сторону салона, и вдруг все под ногами заходило ходуном. Девушка ухватилась за ручку дверцы…
Что это? Неужели что-то с двигателями?
Затем самолет резко накренило, и бортпроводница едва удержалась на ногах…
Господи, что это такое?
Она должна бежать туда, к ребятам!
Но тут же опомнилась. Мчаться через весь салон сломя голову? Да одним этим она вызовет панику!
И девушка медленно, неторопливо, словно ничего не произошло, слегка балансируя в проходе, двинулась в обратный путь…
К ней обращались, ее спрашивали встревоженные пассажиры:
— Что случилось? Что там стряслось?
Она отвечала, стараясь казаться спокойной:
— Ничего страшного. Попали в воздушный поток.
Она чувствовала, что ей верят и не верят. Молча переглянулись сидевшие рядом седой киношник и молодой начальник. Внимательно смотрел на нее старик профессор. Конечно, мало-мальски сведущий человек сразу сообразит, что воздушный поток тут ни при чем. А ведь это люди не простые — ученые…
Когда до кабины осталось всего несколько шагов, она поняла, что самолет идет на одном моторе…
Неужели это ее последний рейс? После стольких лет спокойной и удачливой работы в небе? И не только ее, но и всех этих людей, и ее товарищей по экипажу? Даже этого крохотного существа?
Но она по-прежнему шла не торопясь. Она не имела права торопиться…
6
Конечно же, бортпроводница сказала первое, что ей пришло в голову. Нет, он нисколько не осуждал ее. Наоборот. Даже мысленно похвалил. Она говорила заведомую неправду, чтобы они раньше времени не прощались с жизнью. А времени им, возможно, отпущено не так уж и много. В чем другом, а в моторах он разбирался. Почти так же, как в кинокамерах. Ну, не так же, но достаточно хорошо. Два года водить «тридцатьчетверку», год — тяжелый ИС-1 и двадцать лет собственный «Москвич» — это что-то да значит! Во всяком случае, он ясно слышал хлопок отключенного двигателя…
На его стороне мотор работал. Следовательно, «вырубили» правый. На одном двигателе самолет далеко не уйдет. Но и посадить его почти невозможно. Кругом сопки и тайга. На многие сотни километров. Все теперь зависит от пилота. Найдет правильное решение — они будут спасены. Растеряется — хана!..
Впрочем, он пожил достаточно, чтобы предаваться излишнему отчаянию. Так уж устроена жизнь. Рано или поздно человек должен уйти. Где же произойдет это — дома ли, в постели, или в небе, на высоте четырех с половиной тысяч метров, — не столь важно. Жаль только, что так и не удастся пожить в свое удовольствие — еще не дряхлой развалиной выйти на пенсию и вволю побродить по родным местам. Поснимать разных зверушек, птичек, жучков. Восход и заход солнца. Какие-нибудь бытовые сценки. Детские мордашки крупным планом. Просто так, для себя. Чтобы ничего такого не ждать. Ни о чем таком не думать.
Но и этой малости, очевидно, ему не суждено.
Он, в общем, спокоен. Но, может быть, это спокойствие в нем, пока есть надежда? А не станет ее, не случится ли как тогда, в сорок первом, когда он, семнадцатилетний мальчишка, маменькин сынок, потеряв голову от страха, забился в угол траншеи и сидел там, пока другие ходили в контратаку? Правда, этого не заметили: контратака сразу захлебнулась и в его траншею уже никто не вернулся. Но едва до него дошел весь ужас содеянного, он бросился искать своего командира отделения, чтобы признаться ему во всем. Тот молча выслушал и сказал: «Ладно, пойдем вместе!» И когда снова прозвучала команда: «Вперед! За Родину!» — они побежали с винтовками наперевес рядом. Командира отделения тогда убило, а его только ранило. И хотя он вроде искупил свою вину, он еще долго в госпитале скрипел зубами от ненависти и презрения к себе…
А потом были десятки боев. И каких! Чего стоило одно великое танковое побоище под Прохоровкой. Все было: и его подбивали, и он подбивал. Но уже никогда больше он не поддавался страху, хотя порой и не чаял выбраться из боя живым…
Казалось бы, с этим покончено навсегда. Но вот однажды, уже после войны, в ночном экспрессе его снова охватила знакомая жуть. Он не мог уснуть до утра. Движение и темнота слились в его воображении в одну какую-то огромную и неясную враждебную силу. Не вернется ли страх и в этот раз! Кто знает…
А как другие? Ведь у всех у них одна участь…
У большинства лица напряженные, сосредоточенные…
Бросились в глаза острые, худые коленки молодого соседа. Он их почему-то придерживал руками. Не для того ли, чтобы унять дрожь? Его старший коллега, сидевший по ту сторону прохода, все время почесывал лицо. То лоб, то подбородок, то щеки. По-видимому, на нервной почве. Красавец цыган был явно озабочен. Он что-то говорил молодой жене, но она слушала невнимательно. Когда кто-нибудь оборачивался, она тут же ловила его взгляд. В ее черных и живых глазах всего один вопрос: «А это опасно, что происходит с самолетом?» Странно реагировала на случившееся толстуха, повздорившая с цыганами. Через каждые пятнадцать — двадцать секунд она, как радиомаяк, прорывалась одной и той же фразой: «Небось перепились, чмурики! Вот у них самолет и болтается туда-сюда!» Ее соседка, с ребенком на руках, сперва молчала, потом тихо возразила: «Что вы? Разве им можно пить на работе?»
Но больше всех удивили Федора Федоровича Валера и его новая приятельница. Они как ни в чем не бывало продолжали свою нескончаемую окололюбовную игру. Сейчас «ход» был ее: похоже, что перед этим Валера чмокнул девушку в щеку или что-то в этом роде. Во всяком случае, лица у обоих горели.
И совсем спокоен был спавший сном праведника человек в майке. Сильная встряска самолета лишь помогла ему найти наиболее удобное положение в кресле. Тем лучше для него. Пусть спит.
Все эти мысли промелькнули в голове Федора Федоровича за то короткое время, пока бортпроводница добиралась до кабины. И еще какую-то минуту после того, как зашла к пилотам.
Но вот она снова показалась в двери. Проглотив слюну, произнесла деланно бесстрастным голосом:
— Граждане пассажиры! Как вы уже, наверно, заметили, у нас не все благополучно с одним из двигателей. Не исключена возможность, что нам придется сесть, не доходя до пункта назначения. Прошу строго выполнять все мои команды. При посадке точно по моему сигналу отстегнуть ремни и быстро перейти в хвост самолета. От вас мы требуем только спокойствия и дисциплины… А сейчас прошу всех застегнуть ремни.
Федор Федорович щелкнул застежкой. И вдруг поднял голову, насторожился. Что это? Запах гари? Только этого им не хватало!..
7
Валера и в самом деле поначалу как-то не беспокоился. Ну, тряхнуло. Ну, вбок наклонило. Есть о чем волноваться! К тому же сказано ясно, русским языком: попали в воздушный поток. Сколько раз его уже болтало в самолетах — и ничего! Кроме того, он как-никак занят. Конечно, все эти трали-вали — ерунда по сравнению с вечностью. Но все же Наташа не такая дура, как показалась сперва. Так что с ней надо держать ухо востро!..
Но спокоен Валера был лишь до тех пор, пока не услышал о неполадках в двигателе, о предстоящей вынужденной посадке. Тут уж надо быть повернутым, чтобы не подумать о будущем. Другие пассажиры — по лицам видно — только об этом и думали. Даже Наташа, которая всего минуту назад подравнивала себе ногти и болтала всякую чепуху, и та здорово приуныла. И улыбалась какой-то не своей, жалкой, улыбкой.
Кому охота помирать? Старикам и то не хочется. Ни тому толстяку ученому, ни вот Федору Федоровичу. Вроде бы и пожили достаточно, и все же на тот свет не торопятся. Ясное дело, каждому своя жизнь дорога. И молодому, и старому, и хорошему человеку, и плохому.
А вообще, конечно, обидно, если они грохнутся. Что он видел в жизни? Сорок рублей в аванс. И столько же под расчет. От матери пятерку заначивал на кино. А для души? Один раз лицезрел Анастасию Вертинскую и два раза Евгения Леонова. И все. А впереди, может быть, его ждет завидное будущее. И опять замелькали перед ним знакомые картинки. Столько раз он их уже видел, что от воображения не требовалось никаких усилий. То он знаменитый кинорежиссер, при появлении которого стихают голоса и расступается толпа, заполняющая многочисленные холлы и просмотровые залы московского Дома кино. Гремят аплодисменты. Еще бы! Его фильмы получили всемирное признание. То он талантливейший кинооператор, чьи ленты давно стали вершиной операторского мастерства. Его кадры воспроизведены во всех учебниках. О них говорят на лекциях, по ним учатся молодые операторы. То, наконец, он прославленный киносценарист. У него на сберегательной книжке столько, что дух захватывает!
И, как всегда в его видениях, чуточку в сторонке стоял молчаливый и старенький Федор Федорович — его первый учитель…
И все это коту под хвост?
Прощай, дольче вита!..
Что это?.. Пахнет горелым? Веселенькое дело, ничего не скажешь!
У Валеры запершило в горле. Он закашлялся.
— Товарищи, где-то что-то горит! — услышал он потерянный голос старого ученого.
Запах быстро усиливался.
Первым не выдержал сидевший перед Валерой молодой деятель с широкой лысиной. Отстегнув ремни, он бросился к дверце в кабину пилота. Забарабанил. Никто не отозвался. Тогда он рванул на себя дверцу, и она открылась. Но зайти в кабину ему помешала выскочившая бортпроводница.
— Нельзя сюда!
— Почему вы не сажаете самолет? У нас уже не продохнуть от дыма!
— Успокойтесь, гражданин! — лицо у девушки стало белее полотна. — Экипаж принимает необходимые меры.
— Какие меры? Мы все хотим знать, что нас ждет!
— Скоро узнаешь, — спросонья буркнул, подняв и тут же опустив голову, человек в майке. Когда он перешел из лежачего положения в сидячее, никто не заметил.
И вдруг в уши ударил отчаянный крик цыгана:
— Самолет горит!
С исказившимся лицом он показывал в иллюминатор.
— Там! Там!..
Отбросив ремни, Валера, старый ученый и человек в майке вместе с молодым деятелем устремились к правым иллюминаторам. И сразу же отпрянули: из гондолы двигателя вырывалось яркое пламя!
— Граждане! Займите свои места и застегните ремни! — бросилась к ним бортпроводница.
Но ее никто не слушал.
Тогда она кинулась в кабину, к пилотам.
— За что, друг? — схватил Валеру за рукав человек в майке. — Ведь семь лет отсидел… Детишек еще не видел…
В этот момент самолет стал резко падать на левое крыло. Душераздирающе закричала женщина в ситцевом халате. Валера увидел, как она вместе с ребенком, которого держала на руках, вылетела из кресла…
«Все! Конец!» — подумал Валера, скатываясь к кабине.
На него навалились чьи-то руки, ноги, туловища. Влажная пятерня опустилась на его лицо и пыталась оттолкнуться.
— Отпустите! — боданул он головой.
Ладонь сползла с его лица. Деятель с широкой лысиной выбрался из кучи и ухватился за ближайшее кресло.
— Игорек, дайте руку! — взмолился к нему старый ученый.
Но тот даже не обернулся. Цепляясь за кресла, он начал судорожно карабкаться в хвост самолета. Глядя на него, пополз вверх и человек в майке.
— Вы смешны, Светликов! — крикнул вдогонку старый ученый…
Самолет падал, с каждой секундой набирая скорость…
«Неужели сейчас все? — лихорадочно размышлял Валера. — Удар, короткая сильная боль и полное исчезновение? Был Валера и весь испарился? Боже, как страшно!»
— Мамочка! Как страшно! — долетел до него плачущий голос Наташи.
«Сказать бы ей, — неожиданно подумал он, — что это одна секунда. Раз, и нет!»
Валера поднял голову и увидел в нескольких метрах черные с сумасшедшинкой глаза цыгана. И рядом — мокрое от слез, потемневшее от страха лицо его молодой жены. Размахивая руками, цыган громко прощался со всем белым светом:
— Эх, жизнь! Вот она, смерть наша цыганская! Держись, родная!
На другой стороне от прохода причитала Наташа:
— Господи, спаси меня! Мне страшно! Мне страшно!
Скатываясь и снова взбираясь, карабкались вверх молодой деятель и человек в майке.
Что-то орала, запутавшись в ремнях, толстая тетка.
И вдруг Валера увидел Федора Федоровича с «адмирой» в руках. «Зачем ему кинокамера?» — безучастно подумал он.
Голос Федора Федоровича дрожал от затаенных чувств:
— Послушайте!.. Включаю камеру! Буду снимать! Это последнее, что останется от вас родным и близким.
И объектив стал медленно переходить от одного искаженного страхом лица к другому…
Прикрывая физиономию рукой, кричал молодой деятель:
— Уберите кинокамеру! Это подло! Это низко!
Но Федор Федорович не обращал на его крики ни малейшего внимания. Снимать ему было невероятно трудно, кинокамера прыгала в руках, он стоял в немыслимой позе, чудом держась на ногах.
Решение пришло неожиданно. Валера перевалился через одно кресло, через другое, крепко ухватил Федора
Федоровича руками, помогая ему удерживать равновесие.
— Спасибо, — тихо сказал Федор Федорович.
Сердце Валеры наполнилось невыразимой сладостной болью. Так, как они с Федором Федоровичем, еще не снимал никто, ни один оператор на свете…
Теперь слышался гул работающего мотора, и кто-то негромко выл, но нельзя было определить, кто именно. Одно за другим менялись лица тех, кто еще мгновение назад видел перед собой лишь конец всему. Непостижимое окончание всего… Смерть… Перестала плакать Наташа, перестала она и взывать к господу богу, — сидела теперь в кресле прямо и смотрела перед собой куда-то очень далеко, гораздо дальше, чем позволяло видимое пространство. Молча прижалась к мужу, молодая цыганка, а он продолжал негромко повторять: «Смерть наша цыганская». Кое-как поднялся и пристегнул себя к креслу старый доцент. Только молодой лысый деятель все время ускользал от объектива и не прекращался чей-то прерывистый вой. В ужасе смотрела в объектив жена начальника потребкооперации. По выражению ее губ Валера понял, что выла она. Человек в майке теперь тоже сидел в кресле и неотрывно смотрел в иллюминатор. Молча прижав к себе ребенка, ждала своего последнего часа женщина в ситцевом халате. Еще через мгновение прекратился и вой. Установилась страшная, скорбная тишина и неподвижность.
Первый раз в жизни Валера почувствовал, что он по-настоящему кому-то нужен. Они снимали. Они работали. Одним — возвращая достоинство. Другим — скрашивая последние минуты…
8
Но самолет не разбился. Экипажу удалось сбить пламя, машина прекратила скольжение на крыло и приняла горизонтальное положение. Но продолжать полет до Ытыгана на одном работающем моторе было очень рискованно. Поэтому командир, доложив по рации о случившемся, принял решение о немедленной посадке на первой же удобной поляне.
После тех страшных минут, когда пассажирам казалось, что самолет вот-вот врежется в землю, неожиданно наступило успокоение. Непреодолимое и, как все понимали, явно преждевременное. Но они ничего не могли с собой поделать: они были убеждены, что главная опасность уже позади. И в самом деле, что может быть страшнее того, что им пришлось испытать?
Так, подбирая посадочную площадку, самолет пролетел над тайгой еще около пятидесяти километров.
И вот наконец он пошел на посадку. Внизу замелькали извилистые берега какой-то широкой реки, островки, покрытые лесом и кустарником, застывшие протуберанцы оврагов, отдельные деревья…
В момент приземления пассажиры по команде бортпроводницы послушно и дружно, как дети, переместились в хвостовую часть. Подпрыгивая на ухабах, самолет пробежал метров четыреста — пятьсот и благополучно остановился…
Конечно, можно было остаться в самолете и там ждать прибытия спасательного вертолета, но пережитый страх тянул всех на воздух, на солнце, на поляну, яркую и пеструю от луговых цветов.
Через несколько минут все десять пассажиров, включая молодую мать с ребенком на руках, стояли на твердой земле. Их шатало, как после долгой и тяжелой болезни.
А потом все разбрелись по лугу…
Федор Федорович расположился в сторонке. Достал из кармана металлический футлярчик. Долго выбивал из него застрявшие таблетки валидола.
К нему подсел Валера.
— Федор Федорович, что мы будем делать с отснятой пленкой? Кое-кто интересуется.
— А ее не было.
— Как не было? — Валера от удивления даже привстал.
— Так и не было, — сказал Федор Федорович и положил под язык таблетку.
— Значит, вы все… — разочарованно протянул Валера. — Да ладно. Главное — живы остались, правда?
— Правда, Валера, правда, — устало ответил Федор Федорович…
А вдалеке, за самолетом, уже кто-то из женщин — не то Наташа, не то цыганка — заливался смехом. И незнакомый мужской голос, очевидно пилота, доносившийся оттуда, рассказывал какую-то смешную байку…
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ
Это было несчастье — очутиться в совершенно чужом городе без денег. Мишаня-Мишуля-Мишуня все еще на что-то надеялся. Время от времени он судорожно хлопал себя по карманам, и его лицо становилось до смешного серьезным и сосредоточенным. Галя хохотала. До нее еще не доходил драматизм их положения. Пока что во всей этой истории она видела только комичное. Действительно, надо быть вот таким Мишунчиком, чтобы оба кошелька — ее и свой — сунуть в карман болоньи, а болонью, как будто их у него по меньшей мере десяток, небрежно, по-пижонски, швырнуть на стойку у входа в эту паршивую забегаловку, где, кроме теплого пива, конфет «Озеро Рица» и двух подозрительных типов, ничего не было. И вот болонья исчезла. Вместе с кошельками. А пока они гонялись за ворами, ушел и теплоход. Конечно, если бы у них были часы, они бы не опоздали. Но Мишаня-Мишуля-Мишуня свои отдал в ремонт, а у Гали их вообще не было. То есть были, но еще мамины, допотопные, которые она стыдилась носить. Модные же ей обещали купить, когда она поступит в университет. Но так как она приехала издалека, а зачислена была только на днях, то, естественно, пока обходилась без часов.
Миша (Мишаня-Мишуля-Мишуня) тоже приехал в университетский город издалека и тоже, как Галя, удачно сдал экзамены и был принят на первый курс истфака. А познакомились они только вчера на теплоходе. Оказалось, что оба, независимо друг от друга, на радостях, что их зачислили в университет, решили в оставшиеся до начала учебы дни прокатиться по Волге. Имя девушки он вспомнил сразу: на одном из экзаменов они сидели рядом. А она — откуда? — знала даже прозвище, которым его наградили в общежитии. Потом он ей рассказал, как это получилось. Оставил на тумбочке письмо от мамы, а кто-то из ребят случайно заглянул в него. Вслух она посочувствовала, а мысленно продолжала его называть так…
И вот они в чужом городе. Кругом незнакомые лица. Где-то на горе развалины старинного женского монастыря, которые они хотели осмотреть, и еще несколько достопримечательностей, о которых они уже сейчас не вспоминали. Больше всего девушку забавляло то, что они со вчерашнего вечера ничего не ели. Потащив ее за собой в ближайшую забегаловку, Мишаня-Мишуля-Мишуня заверил, что здесь им удастся наскоро перекусить и тогда они смогут до отплытия теплохода не спеша походить по знаменитым развалинам.
Было субботнее утро. Нежаркое, ленивое. Отчаявшись найти пропажу, они вышли на набережную и сели на скамейку.
— Что теперь будем делать? — растерянно спросил Миша.
— Грабить прохожих, — весело предложила Галя.
Миша быстро окинул взглядом редких прохожих и кивнул в сторону толстячка с портфелем, выскочившего из такси.
— Вот этого!
— Что там у него в портфеле? — поинтересовалась Галя. Миша заметил, что у нее даже заблестели глаза.
— Деньги. В пачках.
— Больше одной пачечки нам не надо, — твердо заявила девушка.
Но толстячок не стал ждать, когда его ограбят. Через секунду-другую он уже был далеко и скрылся за поворотом.
— Зря свернули в эту забегаловку! — в который раз пожалел Миша.
Галя хохотала. Как будто в том, что произошло с ними, виновата эта забегаловка! С таким же успехом можно было подарить жуликам кошельки в любом другом месте! Все дело в нем — в этом двухметровом Мишунчике!
Если бы не так хотелось есть, можно было бы примириться со случившимся!.. Галя вдруг почувствовала, что внутри у нее все провалилось и что в сущности их положение гораздо серьезнее, чем это казалось вначале. А тут еще стали одолевать запахи: свежего хлеба (справа, через два дома, находилась булочная)… домашнего борща (из открытого окна слева)… чего-то жареного с луком (это уже точно из того двора)…
— Мишу… Миша! — поправилась она. — Давай посмотрим по карманам. Может, где-нибудь что завалилось!
— Давай! — без большого энтузиазма согласился тот.
И они приступили к поискам. У Гали было четыре кармана — два в куртке и два в брюках. С первого же захода она нашла четыре копейки — четыре крохотные монетки… Она вытряхнула из карманов все содержимое, но больше ничего не обнаружила. Другое дело у Миши. У него было шесть или семь карманов, и искал он планомерно: вначале в передних карманах, потом в задних, вначале в наружных, потом во внутренних… Девушка даже забыла о голоде и с азартом следила за поисками. Советовала, подсказывала. Порой ей казалось, что он недостаточно тщательно ищет…
Наконец одна за другой были извлечены несколько монет… Сперва копейка, потом три копейки, затем снова три копейки… Одну копейку они обнаружили за подкладкой брюк, и им пришлось тут же ее подпороть…
Итак, весь их капитал состоял из двенадцати копеек.
Галя быстро прикрыла рукой медяки: ей показалось, что на них с Мишей смотрят прохожие.
Двенадцать копеек! Что на них можно купить?
Галя и Миша поднялись со скамейки и смущенно направились в булочную. Первой вошла девушка. Она бросила быстрый и короткий взгляд на хлебные полки, на усатую продавщицу и решительно подошла к прилавку.
— Пожалуйста, на двенадцать копеек черного хлеба! — В ее голосе не было и тени смущения.
Миша готов был провалиться сквозь землю. Он не знал, куда деть свои большие неловкие руки, и смотрел, ничего не видя, куда-то в сторону. Он не сомневался, что сейчас они с Галей представляют собой жалкое зрелище — наверное, все в булочной уже заметили голодный блеск в их глазах. Надо быть круглым идиотом, чтобы не понять, что, когда человек берет хлеба на двенадцать копеек, то они у него последние.
— На двенадцать?
Галя и усатая продавщица перекинулись взглядами, каждая принялась решать в уме одну и ту же задачу. Если четырнадцать копеек стоит килограмм, то сколько можно купить-отпустить на двенадцать копеек?
Галя не успела сообразить, как продавщица решительным жестом взяла с полки кирпич хлеба и швырнула его на прилавок.
— Спасибо, — удивленно произнесла Галя. Затем, схватив хлеб, не глядя ни на кого, стремительно пошла к выходу. Миша смущенно последовал за ней…
А она ждала тут же за дверью. Довольная, улыбающаяся, она протягивала хлеб. Но Миша уже не смотрел на него, хотя он был мягкий, с хрустящей коркой, пахнущий теплом и еще чем-то, чем пахнет хлеб только в деревнях и маленьких городах…
— Ладно, пойдем! — сказала Галя.
— Куда?
— Куда-нибудь! Только чтоб не на глазах у всех. Дай что-нибудь…
Миша достал из кармана мятую газету «Водный транспорт», и они быстро, заговорщически поглядывая по сторонам, завернули в нее хлеб. Теперь они могли спокойно, как ни в чем не бывало, на виду у всего города и в то же время не привлекая к себе внимания, искать укромное местечко, где бы можно было съесть буханку.
В парке им не повезло — было многолюдно. Они пытались спрятаться за деревянной эстрадой, но по соседству оказалась уборная, и они со смехом ретировались… Потом они снова спустились к реке и там, у самой воды, оберегаемые от любопытных взоров кустарником, набросились на буханку. Они ломали хлеб, и ели его с таким аппетитом, с такой жадностью, что через несколько минут от него ничего не осталось.
Когда с хлебом было покончено, они удивленно переглянулись, и им стало немного не по себе. Оба они почувствовали, что все-таки было бы лучше, если бы они не выказывали друг перед другом так свой голод. А был ли вообще голод? Ведь они не ели только со вчерашнего вечера… Это даже меньше суток… Случалось же и раньше, когда по тем или иным причинам им приходилось долго не есть — и ничего, на еду так не набрасывались. Что же произошло с ними сейчас?
Они думали об одном и том же, только Миша думал чуть дольше, чем Галя, которая тут же себе внушила, что они действительно были чертовски голодны и вели себя так, как должны вести нормальные голодные люди. Она неожиданно для Миши рассмеялась и, вскочив на ноги, тонкая и стройная, пошла по мокрым камням, уходящим далеко от берега в воду. Она шла легко, не ощущая, как казалось Мише, ни скользкой поверхности камней, ни расстояния между ними. И только там, уже далеко, она вдруг забалансировала руками. Миша вскочил, готовый броситься ей на помощь. Она на мгновенье обернулась, и он встретил ее взгляд — совершенно спокойный и внимательный. Она тотчас же неторопливым и уверенным движением рук вернула телу равновесие и, весело поглядывая на Мишу, пошла обратно…
— Куда двинем? — спросил Миша.
— Помолиться в монастырь, — ответила она. — Чтоб боженька помог нам!
И, не дожидаясь ответа, стала подниматься по откосу…
— Монастырь был построен в семнадцатом веке при царе Алексее Михайловиче, отце Петра Первого. По гипотезе писателя Алексея Толстого, настоящим отцом Петра Первого был патриарх Никон. Просто царица Наталья Кирилловна не любила мужа и любила Никона. Никон был огромного роста… И вообще сильный и умный человек. По национальности он мордвин. Значит, и Петр Первый был наполовину мордвин. Никон, конечно, бывал здесь, — шагая по темным переходам монастыря, рассказывал Мишаня-Мишуля-Мишуня.
— А царица тоже бывала здесь? И они здесь встречались?
— Здесь? — в свою очередь удивился юноша. — Возможно.
— Это была ее келья! — вдруг заявила девушка.
— А там, в углу, его, — нерешительно подхватил ее спутник.
— Они оба приезжали сюда в сопровождении большой свиты…
— И поэтому были на виду…
Хотя Миша и сомневался — не слишком ли смело они расправляются с историей? — сама мысль о том, что здесь, на этом месте, когда-то тайком от всех, с риском для жизни, возможно, встречались молодая царица и молодой патриарх, ему понравилась. Это было поэтично. Это сразу наполнило гулкую пустоту полуразвалившихся сводов тихой и славной грустью. И делало значительнее то, что, по-видимому, начиналось у них. Неожиданно потеплели, засветились изнутри слова, жесты, взгляды. И они оба, встревоженные и обрадованные, с трудом сдерживая и скрывая волнение, продолжали говорить о тех двух и, побежденные своей же выдумкой, очарованные ею, уже не в силах были оборвать этот волнующий разбег фантазии…
— …и за каждым их шагом следили враги… Их у него было более чем достаточно…
— А у нее?
— У нее? Тоже.
— Они должны были скрывать свои чувства и быть очень осторожными, — сообщила Галя.
— И когда они встречались на людях, они почти не говорили…
— Только по делу и на божественные темы.
— Он старался не смотреть на нее. Это стоило ему немалых усилий…
— Так же, как ей.
— Он хотел говорить с ней тихо и ласково, а говорил сурово и сердито…
— Ему так казалось, — усмехнулась Галя.
— Он, как и все священники, был хорошим актером, — возразил Миша.
— Может быть, он не только в эти минуты был хорошим актером? — усомнилась в искренности молодого патриарха Галя.
— Нет, он ее любил больше жизни, — уверенно сказал Миша.
— А она его больше, чем бога.
— Нет. Только чем царя, — поправил ее Миша.
— Царя она вообще не любила.
— А он и не знал этого, — усмехнулся Миша.
— Кто?
— Царь.
— Нет, знал. Она была искренна в своих чувствах.
— Если бы он знал, он прогнал бы ее! — жестко сказал Миша.
— Но он любил ее.
— Если бы он знал, он бы ревновал ее. А он был лопух, — с горечью добавил Миша. — Ему даже в голову не приходило, что его обманывают.
— А как они его обманывали? — вдруг спросила Галя.
Сердце у Миши бешено заколотилось. Сдавленным голосом он произнес:
— Иногда она приходила к нему исповедоваться…
— И?
— И тогда они оставались вдвоем…
— И вслух читали «Библию… для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского! — фыркнула Галя и, скользнув по Мише насмешливым взглядом, подалась к выходу.
Помедлив, он пошел за ней…
Галя лежала на животе и болтала ногами в воздухе. Миша сидел рядом и смотрел, как она без конца грызет травинки.
— Галя, что будем делать? — наконец спросил он.
— Не знаю, — ответила Галя. Она была сыта, и ей не хотелось думать. Кроме того, она уже успела внушить себе, что рано или поздно они все равно вернутся домой, а раз так, то стоит ли по этому поводу ломать голову? Но вскоре она догадалась, что вся эта вялость чувств и мыслей в ней — после того волнующего разговора о царице, который вдруг так скучно оборвался на полуслове. Но кто больше виноват в этом — она или Мишаня-Мишуля-Мишуня — ее уже не занимало. Просто ей стало неинтересно.
Миша видел, что Галя чем-то раздражена. Он чувствовал, что причиной тому разговор в коридоре. Но он не улавливал никакой связи между плохим настроением девушки и той чудесной сказкой, которую они вдвоем сочинили. Казалось, все должно быть наоборот. Вот как у него. Особенно в тот момент, когда они, еще ощущая в себе трепетанье недосказанных слов, выбежали наружу и вдруг увидели кругом небо и солнце, а под ногами небольшой выступ — вознесенную почти до самой крыши насыпную террасу, всю поросшую разнотравьем. Все остальное — и река, и сады, и городок — было где-то внизу…
А теперь настроение начинало портиться и у него.
— Миша! Пить хочется! — подала голос Галя.
— Это от сухого хлеба.
— Потрясающая догадливость!
— Пойдем вниз. Там где-нибудь напьемся.
— Курочка или петух? — спросила она, сорвав травинку.
— Петух, — буркнул Миша.
— Курочка!.. А это?
— Курочка.
— Петух! — прыснула Галя.
— А ты знаешь, как эта трава называется?
— Нет.
— Костер безостый.
— Да? — удивилась Галя. Она сорвала еще травинку и с интересом осмотрела ее. — А я думала, она никак не называется.
— А вот это полевица!.. Вот это пырей ползучий!.. А эта ежа сборная…
— Ежа?
— Ежа сборная.
— Правда, на маленьких ежиков похожи…
«Ужасно, как он много знает, этот Мишаня-Мишуля-Мишуня», — уважительно и насмешливо подумала Галя.
Миша потянулся еще за какой-то травинкой.
Галя поднялась на колени и застыла, к чему-то прислушиваясь.
— Ты чего? — удивленно спросил Миша.
— Где-то вода течет…
Миша в тот же момент уловил тихие и тонкие голоса невидимого источника.
— Где-то недалеко, — определил он.
Они встали.
— А я вижу! — воскликнула Галя и бросилась в дальний угол выступа. Миша в несколько прыжков догнал ее, и они, весело толкаясь и переругиваясь, добежали до изогнутой трубы.
Это была самая обыкновенная водопроводная труба, торчащая из земли, забытая всеми, ржавая, но еще сочившаяся водой. Откуда в старинном монастыре водопровод? Кто его провел и зачем?
Они с недоумением и опаской смотрели на трубу. А вдруг что-нибудь не то?
Но вода была чистая и прозрачная. И очень холодная.
— Натуральная вода, — сказал Миша и, повернув кран, первым подставил рот под струю.
На вкус вода тоже была обыкновенная. Миша пил с подчеркнутой жадностью, и вода текла у него по подбородку, по шее, попадала под рубашку и уже подбиралась к трусам.
— Миша! Ну, быстрее! — торопила его Галя, провожая взглядом почти каждый глоток.
Мише вдруг стало отчаянно хорошо и просто. Он обратил к Гале свое мокрое улыбающееся лицо, с каплями, висящими на щеках, на подбородке, и, отфыркиваясь, сказал:
— Проверено. Можно пить!
Галя подошла к трубе, но прежде чем наклониться над ней, приказала:
— Не смотри!
Миша недоуменно уставился на нее, стараясь понять, почему нельзя смотреть. Но девушка уже забыла о сказанном и, вытянув губы, чтобы не замочить одежду, смешно ловила воду. Миша вдруг испугался, как бы она не заметила, что он все-таки смотрит, и быстро перевел взгляд на старую железную бочку из-под горючего, которая тоже неизвестно как очутилась здесь, на такой высоте. Он глядел на бочку, а сам слушал, как Галя пьет воду. Теперь она пила уже из ладошки. По два тихих глотка. Первый чуть потише, второй погромче.
Но вот ладошка перестала прерывать струю, и вода снова тихо защебетала о чем-то своем…
Миша выждал еще немного и осторожно оглянулся… Галя стояла и задумчиво водила мокрой ладошкой перед глазами, пропуская сквозь пальцы острые солнечные лучики. Она настолько была поглощена этим занятием, что даже не обернулась, когда Миша шагнул к ней.
— Галя! — позвал он.
Ладошка застыла в воздухе.
— Знаешь, если здесь установить солнечную батарею, то можно осветить все близлежащие улицы…
Галя опустила руку и вежливо попросила:
— Миша! Не нужно меня больше просвещать. Ладно?
Миша вспыхнул, но ничего не ответил…
Они вышли из монастыря через ближайшие ворота — верный признак того, что у них ко всему пропал интерес. Настроение у Миши было вконец испорчено. Он сделал вид, что вытряхивает из сандалий песок, и отстал от Гали. А она не стала дожидаться. Пока они спускались с холма, она обернулась всего раз — вначале — и больше не оглядывалась. Шла впереди и что-то вполголоса напевала. По-видимому, хотела показать ему, что ей и одной неплохо, что она и одна не пропадет. «Пожалуйста… пожалуйста…» — с обидой думал Миша. Он даже еще убавил шаг: если она обойдется без него, то и он как-нибудь без нее доберется до дому.
Он старался вообще не смотреть в ее сторону. Тем более что оттуда прямо в глаза хлестало запутавшееся в редких деревьях предзакатное солнце. Он глядел или себе под ноги, или в высокое бескрайнее небо и сознательно отключал взгляд всякий раз, когда мог увидеть ее, идущую где-то там, внизу…
— Мишуня! — послышалось откуда-то сзади.
От неожиданности Миша вздрогнул, резко обернулся. Галя сидела, обхватив руками коленки, на пригорке, под которым он только что проходил. И хотя в голосе ее прозвучал явный вызов, похоже было, что это первый шаг к примирению.
— Я и не заметил, — просто сказал он.
Она в упор смотрела на него насмешливым взглядом, дожидаясь, пока он поднимется к ней.
— Ну, что будем делать? — холодно спросила она.
Так вот для чего он ей понадобился! На себя, видно, она не очень полагается…
— Есть несколько способов добывания денег, — небрежно начал Миша. — Один из них — что-нибудь загнать.
— Вот возьми и продай, — Галя скинула с себя куртку из плотной непромокаемой ткани и подала Мише. Сейчас она даже не смотрела на него.
Миша растерялся. Он держал в руках куртку и ощущал, как из нее уходит тепло. Но ничего взамен он не мог предложить. Вся его одежда состояла из рубашки, брюк и сандалий, из того минимума, без которого нельзя появляться даже студенту-первокурснику.
— Ну, иди!
— Куда? — не понял Миша.
— Продавать.
— Кому?
— Кому хочешь…
Так грубо и пренебрежительно она еще с ним не разговаривала. Чем он провинился перед ней? Он лихорадочно перебирал в памяти события сегодняшнего дня и ничего не находил, что бы могло объяснить такую странную и резкую перемену. Были одни мелочи, на которые дико было бы обижаться. В конце концов, не он ей, а она ему наговорила неприятностей. Не она, а он должен обижаться. Но он хоть сейчас готов забыть об обиде, вести себя так, как будто ничего не случилось… Нет, а что все-таки случилось? Что она имеет против него? Ей-богу, он не очень бы удивился, если бы она вдруг подняла голову, улыбнулась и, как ни в чем не бывало, предложила своим обычным мальчишеским голосом: «Ну, побежали!» И засмеялась…
Но она молчала, уставившись перед собой в одну точку.
— Ты что, не пойдешь? — недоуменно спросил он.
— А зачем двоим ходить? Я здесь подожду.
— Ну, как хочешь! — разозлился Миша. Круто повернулся и быстрыми шагами спустился с пригорка.
Он взбежал на шаткие мостки, соединяющие в грязные месяцы город с монастырем. Теперь он не сомневался, что между ним и Галей все кончено. Единственное, что их связывало, — это необходимость вместе выбираться отсюда.
И вдруг он внутренне сжался. Он вспомнил монастырь. Там они уже понимали друг друга с полуслова и даже без слов. И все это неожиданно куда-то пропало…
Неужели (Миша даже остановился)… неужели она угадала его мысли… его гнусные мужские мысли… и решила быть от него подальше? Но ведь он никогда не позволил бы себе ничего такого… Да, но это знает он, а не она…
Ну, а если не это, а что-нибудь другое?
Он осторожно оглянулся. Галя сидела на том же месте. Но сейчас почти всю ее скрывал кустарник — видны были лишь голова да белое пятнышко блузки. Не двигаясь, она смотрела куда-то в небо, и в этой необязательной и напряженной позе Миша почувствовал новый вызов. Словно она решила не опускать глаз до тех пор, пока он окончательно не скроется из виду.
Итак, от него требуется только одно — продать? Что ж, он окажет ей такую услугу. Продаст и даже купит ей билет. Но купит он всего один билет. Сколько бы ему ни удалось выручить за куртку! Пусть знает, что ему от нее тоже ничего не надо… Интересно, как она поведет себя? Во всяком случае, ей придется повертеться, прежде чем что-нибудь решить.
Правда, ему еще было неясно, как он выберется отсюда. Но сейчас ему не хотелось ни думать об этом, ни давать волю своему воображению: стоит только представить себе одно, как за ним потянется другое…
Мостки кончились. Прямо за ними, буквально в десяти — пятнадцати метрах, начиналась небольшая редкая рощица, сквозь которую проглядывали многоэтажные дома: город все ближе и ближе подбирался к монастырю…
Показались первые прохожие. Миша прошел в рощицу и встал у перекрестка. Через минуту с ним поравнялась немолодая женщина с тяжелой хозяйственной сумкой.
— Здравствуйте! — смущенно произнес Миша.
Женщина взглянула на него («Вроде бы знакомый…») и приветливо ответила:
— А… здравствуй!
Миша шагнул к ней:
— Вы не купите у меня эту куртку?
Она лишь скользнула по куртке взглядом и сказала:
— Нет, милый, мы теперь с рук ничего не покупаем…
— Почему? — растерялся Миша.
— Теперь мы ученые.
Миша покраснел. Шагая рядом с женщиной, он сбивчиво и торопливо объяснил ей, почему он продает. Она не перебивала его и не смотрела в его сторону. Но когда он кончил, ехидно заметила:
— И те тоже так говорили.
— Как так?
— Да так.
— Ну, ведь этого не может быть!
— Э… милый, теперь все может быть…
Начало было явно неудачным. Оно обескуражило Мишу, но не настолько, чтобы он отказался от дальнейших попыток продать куртку. Впрочем, другого выхода у него и не было.
Следуя за женщиной, Миша вышел к каким-то ларькам. Там он осмотрелся. Здесь были две овощные палатки, пивной ларек и пункт для приема посуды от населения. За овощами стояло всего несколько человек. Зато к пивному «фонарю» и будке, где принималась посуда, сплетаясь хвостами, тянулись длиннущие очереди.
Крепко и неудобно зажав под мышкой куртку, Миша, подняв одно плечо, прошелся около овощных палаток. Он заглянул внутрь, и голова снова налилась от голода пустой тяжестью. Там была капуста… огромные, белые, полные сока и хруста кочаны… Залежи картошки… Всего каких-нибудь полкилограмма, ну, килограмм, и у них был бы классный ужин!.. Возвышались пирамидками всевозможные банки, на которые он, щадя себя, старался не смотреть. Но, в общем, это мало помогало. Он успел заметить знакомые этикетки фаршированного перца, маринованной цветной капусты, баклажанной икры, венгерского лечо, еще каких-то супов и борщей. Ужаснее всего, что здесь они будут стоять месяцами, покрываясь пылью. И никому в голову не придет, что кто-то смотрел на них и облизывался.
Миша круто повернул к толпе, окружавшей «Пиво — воды». Решительно вытащил из-под мышки куртку и двинулся вдоль очереди. Но идти просто так, открыто предлагая купить вещь, у него все-таки не хватило духу. Поэтому он шел, заглядывая в лица, делая вид, что кого-то ищет.
Вдруг кто-то потянул за куртку. Миша резко обернулся. На него глядел жуликоватый парень с заплывшим глазом.
— Загоняешь?
— Да! — обрадовался Миша.
— Отойдем в сторонку.
Отошли.
— Покажь!
Парень взял куртку и, не разворачивая, быстро осмотрел ее.
— Из дому увел?
— Нет… Одна знакомая просила продать.
Парень недоверчиво покосился на Мишу, но промолчал. Затем еще раз посмотрел на куртку и сказал:
— Тут ее нам не загнать. Пошли!
Обойдя ларьки с тыла, они вышли в узкий переулок, сплошь застроенный бараками. В большинстве из них размещались какие-то строительные службы, а в некоторых, очевидно, жили. К одному из таких бараков, с кружевными занавесками и цветами на окнах, и направился парень. Он неуверенно поднялся на крыльцо и, пригласив Мишу кивком головы следовать за собой, вошел в дом. Пройдя в конец темного коридора, парень тихо постучал в дверь.
— Ну, кого там несет? — раздался недовольный женский голос.
В тесной низкой комнатке, заставленной вещами, за столом, перед зеркалом, сидела и делала начес молодая женщина с недобрым холодным лицом. На Мишино «здравствуйте» она даже бровью не повела.
— Ну, чего пришел? — буркнула она.
— Гражданин вот продать желает…
Продолжая глядеться в зеркало, она спросила:
— Чего там?
— Дамская куртка. Из импортной непромокаемой ткани. — Голос парня звучал довольно подобострастно.
Женщина поглядела на куртку, молча взяла ее и, держа за плечики, принялась осматривать.
— Первый сорт! — поспешил заверить парень.
— А это что? — Она показала рукав.
— Где?
— Вот. Заплата на локте.
Всмотревшись, парень воскликнул:
— Ишь! А я и не заметил! — И, взглянув на Мишу, добавил: — Придется сбавить.
— Хорошо, — ответил Миша.
— И это не заметил? — усмехнулась женщина, выворачивая куртку наизнанку.
— А там чего? — забеспокоился парень.
— Вся подкладка сношена…
И вдруг Миша поймал себя на том, что он уже не думает, купят ли у него куртку или нет (скорее, не купят). Его внезапно охватило чувство неловкости и обиды за Галю, которую он бросил на «съедение» этой спекулянтке. Бесцеремонность, с которой та принялась выявлять недостатки, так тщательно скрываемые Галей от окружающих, придавала всей сцене характер чего-то крайне унизительного и нечестного. И он понял, что если сейчас не покончит с этим мерзким осмотром, то никогда не сможет смотреть Гале прямо в глаза.
А парень вздыхал и сокрушался, что придется еще сбавить цену…
Миша резко шагнул к столу и протянул руку:
— Дайте!
— Ты чего? — удивился парень.
Миша молча взял куртку и так же молча двинулся к двери.
— Эй, погоди!
Но Миша даже не обернулся. Он вышел из барака и зашагал по дороге к ларькам.
Когда он подошел к ларькам, там уже никого не было. На столбе у овощной палатки тускло горела крохотная электрическая лампочка. И эта лампочка, именно она, а не сумерки, которые Миша даже не заметил сразу, напомнила ему о том, что время уже вечернее — еще каких-нибудь полчаса, и станет совсем темно. Тут же он подумал о Гале: как она там? По-прежнему сидит на пригорке и смотрит неподвижным взглядом в темнеющее небо? Или ходит взад-вперед, злится, что его так долго нет? А он разве виноват, что никто не хочет купить куртку? Конечно, если бы она была новая, можно было бы еще на что-то надеяться. А так…
Но попытаться все-таки надо. Хоть сколько-нибудь дали бы за нее! Лишь бы хватило на один билет!
Тропинка, проходившая по запущенному, вытоптанному газону, вывела Мишу на одну из новых улиц… Прохожих было мало. Миша подумал, что это даже к лучшему. Можно остановить человека, поговорить с ним, не привлекая лишнего внимания.
Вот приближалась парочка. За ней виднелась еще одна. А там шли еще люди…
Когда между ним и парочкой осталось всего пять-шесть метров, вдруг раздался знакомый голос:
— Ты куда пропал?
Парень вынырнул из-за угла.
— Еще не продал?.. Дай-ка!
Миша отдал куртку.
Парень повесил ее через руку и уверенно двинулся к прохожим… Но, как и предчувствовал Миша, желающих купить куртку не оказалось. Одни говорили «нет» и шли дальше. Другие нехотя приценивались, но, узнав, что им готовы уступить, неожиданно теряли интерес к вещи. Миша начал подозревать, что его спутника здесь хорошо знают.
У питейного заведения, над которым горели неоном, веселя всех, остатки вывески «…сторан» (сто ран!), парень вдруг сказал Мише:
— Ты побудь тут! Я сейчас!
Миша хотел попросить его оставить куртку, но, пока он собирался сказать, того и след простыл.
Что ж, можно подождать несколько минут. Только бы не пропил куртку…
Миша прошелся взад-вперед вдоль фасада, задерживая дыхание всякий раз, когда оказывался рядом с распахнутой дверью: зачем терзать себя запахами пищи? Потом, чтобы как-нибудь не прозевать парня, мужественно встал против входа и встречал взглядом каждого, кто выходил оттуда… Но тот почему-то не появлялся. Конечно, можно было бы самому подняться… Но с него хватает и тех танталовых мук, которые он испытывает внизу.
Попить, что ли? Пока это единственный способ заморить червяка.
Миша вошел в вестибюль и заглянул за лестницу. Там сидел старик гардеробщик и ел суп.
— Отец, у вас есть тут где-нибудь вода? — спросил Миша.
— Минеральная? — Ложка в руке старика застыла в воздухе.
— Нет, простая, водопроводная, — краснея, ответил Миша.
— Там, в коридоре… Не туда, влево!
В коридоре было темно. Миша попробовал отыскать выключатель, но не нашел… И вдруг его кольнула мысль о Гале. Как ей там одной?.. Темнота в коридоре расширилась и слилась с темнотой на пригорке. От страха, может быть, не знает, куда деваться?.. И в самом деле… Кругом ни души… Только слышатся то там, то здесь непонятные ночные звуки… Белое пятнышко блузки… Одно в темноте ночи… Чувствовать себя так, как будто тебя видят все, а ты никого…
Миша распахнул дверь и вышел к гардеробу. Теперь он знал, что делать!
— Отец! Парень с курткой не выходил?
— Не знаю. Может, и выходил.
Подняться наверх? Но если он вышел, то только упустишь время…
Миша выскочил из ресторана и быстро осмотрелся — не видно!
А вдруг уже смотался?
Миша взобрался на штакетник и заглянул в ближайшее освещенное окно: в нем вызывающе меланхолично жевали какие-то физиономии. Дальше виднелись еще столики. Но и там его не было.
Не слезая со штакетника, Миша двинулся ко второму окну. Тоже нет!
Только у третьего окна вздохнул с облегчением: увидел знакомый синяк!
Миша взбежал по лестнице, свернул в зал и прямо направился к дальнему окну. Он шел, не глядя по сторонам, и те запахи, от которых у него раньше кружилась голова, теперь его почти не волновали. Правда, было бы преувеличением сказать, что он не помнил или не думал обо всех этих мелькающих справа и слева жующих и пьющих людях. Но относился он уже к ним так, как относятся, например, к дождю, идущему где-то рядом.
Уже издалека он заметил куртку. Она лежала на батарее, и никто из компании не обращал на нее внимания.
В то же мгновенье Мишу заметил парень. Он вскочил, радостно замахал руками:
— Эй, студент! Давай сюда!
Молодые ребята переглянулись и с интересом уставились на Мишу.
Миша подошел, молча взял куртку и повернул назад. Краем глаза увидел, как переглянулись ребята и заерзал парень.
Отходя от столика, услышал:
— Вот привязался! Продай да продай кому-нибудь куртку! А кто ее возьмет?
Миша вспыхнул, хотел сказать что-то резкое, но сдержался: не это сейчас главное… Главное — Галя! Главное — скорее к ней!.. Он знает, он в этом уверен, что она будет недовольна. Недовольна тем, что столько заставил ждать… тем, что не продал куртку… тем, что еще не придумал, как выбраться из этого чертова города… Он все это знает, но беспокойство о ней сильнее.
Что это? Свободный столик с неубранными грязными тарелками. И горкой белого хлеба в вазе!
Миша оглянулся: официантов не видно, а соседи не обращают внимания. Бешено забилось сердце… Спокойно. Спокойно. Подойти с равнодушным и безучастным видом…
Миша медленно подошел к столику, сел и, еще раз убедившись, что никто на него не смотрит, быстро распихал хлеб по карманам… Посидел немного… Потом встал и, стараясь не спешить, неловко прикрывая руками карманы, направился к выходу.
Только на лестничной площадке он почувствовал облегчение. Одним духом спустился по ступенькам и вышел на улицу. Остановился, соображая, куда идти… Наконец вспомнил: когда шли сюда, светящиеся буквы были над ближним углом… Зашагал туда… Скоро кончилась освещенная у ресторана часть тротуара… Дальше простиралась темнота, лишь местами чуть разбавленная светом от высоких и редких домов.
И тут Мишу охватил страх за Галю. Он подумал, что, пока он ходил, там могло что-нибудь случиться… И он сразу же представил себе, как на нее напали хулиганы… Она вырывается, бежит, и ее крик теряется в далеком и темном безмолвье…
Все это Миша увидел настолько ясно, что не выдержал и рванулся вперед. Он бежал, думая только о том, чтобы вовремя поспеть на помощь Гале…
Первое, что поразило Мишу, когда он выбежал к мосткам, была тишина. Застывшая, без единого звука… С ужасом подумал: опоздал!.. Или она притаилась и ждет?.. Но там, где он в последний раз видел белое пятнышко блузки, стояла густая непроглядная темнота. Впрочем, как и повсюду.
Миша поднялся на мостки и, не выпуская из рук тяжелую палку, которую он на всякий случай подобрал на улице, затанцевал на неровных и пружинящих досках. И хотя он часто ступал мимо, ушибаясь и сдирая кожу с ног, весь путь по мосткам он проделал быстрее, чем в тот раз.
Наконец он взлетел на пригорок — белой блузки не было!..
— Галя!.. Галя!..
Было так тихо, что он услышал, как с ветки на ветку перелетела и теперь возилась, устраиваясь на новый ночлег, потревоженная им птаха.
Куда же она ушла?.. Но, может быть, это не тот пригорок?.. Нет, вроде бы тот… Ну, конечно, тот. Вот даже те кусты, за которыми она сидела. А по этому склону он тогда сбежал… А вдруг она где-нибудь поблизости?
Миша спустился с пригорка и снова позвал Галю.
Молчание.
А что, если она забралась повыше, чтобы не так быть на виду?
Миша быстро зашагал вверх по дороге. Через каждые пятнадцать-двадцать шагов он подавал голос:
— Галя!.. Галя!..
Но ничто не обнаруживало человеческого присутствия… Иногда у Миши замирало сердце: он принимал за белую блузку то дорожный столбик, покрытый мелом, то старую газету, то могильную плиту, зачем-то перенесенную сюда с монастырского кладбища.
Понимая, что Гали здесь нет, а то она обязательно бы откликнулась, он все же продолжал идти дальше… А вдруг с темнотой она перебралась в монастырь? Какие ни есть, а крыша и стены, хотя страху там можно натерпеться ничуть не меньше, чем под открытым небом.
Но вот и высокое монастырское крыльцо. Осторожно, почти на ощупь, поднялся он по ступенькам и остановился перед черным и мрачным колодцем, из которого несло холодом и затхлостью. Он помнил, что вниз ведет широкая пологая каменная лестница (чтобы, как заметила Галя, монахиням не надо было высоко поднимать ноги), но тем не менее туда не торопился. Некоторое время стоял, прислушиваясь к раздававшимся где-то в темноте скрипам и шорохам.
Послышались чьи-то тихие и осторожные шаги.
— Галя! Это ты? — На всякий случай добавил: — Ну, давай выходи! Я вижу тебя!
Но пока он говорил, шаги пропали…
Миша зажег спичку и осветил лестницу. Метнулись за колонны черные тени. Миша отскочил назад. Прижимаясь спиной к косяку, он попятился к наружным ступенькам. О палке, которую он, доставая спички, прислонил к косяку, он даже не вспомнил. Еще бы немного, и он бы дал тягу.
Но тут он вспомнил о Гале. Ему не стоило большого труда представить, как долго и безжалостно хохотала бы она, увидев все это, и сколько неприкрытого презрения было бы в ее смехе… Ах ты Мишаня!.. Ах ты Мишуля!.. Ах ты Мишуня!..
И, стыдясь своей минутной трусости, он вернулся к проему. Снова зажег спичку и, внутренне готовый ко всему, кроме отступления, двинулся по широким и пологим ступенькам вниз. На середине лестницы он вспомнил о палке, которую оставил наверху, ню возвращаться не стал… Будь что будет!.. То, что Гали здесь нет и не может быть, он уже не сомневался. Скорее всего, она пошла ему навстречу, и они разминулись. Но вернуться вот так просто он уже не мог. Если бы он это сделал, он бы окончательно перестал уважать себя: когда ноги только и ждут команды, чтобы повернуть назад, не так уж трудно разобраться в своих ощущениях.
У самого входа в галерею с кельями Миша вдруг обнаружил, что спичечная коробка пуста. Тогда он отодрал от стенки тонкую сухую дранку и последней спичкой зажег ее. С этим самодельным факелом, высоко поднятым над головой, он вошел в коридор.
По обе стороны узкого прохода тянулись кельи. Все было как будто в том же положении.
Неожиданно Мише пришла в голову странная мысль, что сейчас вторая половина семнадцатого века и что он не кто иной, как сам патриарх Никон, совершающий ночной обход монастыря. Он даже ощутил, как замедлились его шаги, уверенной и значительной стала походка. И одежда на нем соответствующая эпохе — золоченые ризы и клобук… А может быть, не обязательно ризы и клобук? Мог же тот иногда себе позволить ходить в легком и простом одеянии, с неприкрытыми темными и вьющимися, как у будущего царя Петра, волосами? И шагать не так, как приличествует его высокому сану — торжественно и степенно, а быстро, отсчитывая своими длинными и сильными ногами сажень за саженью.
Но независимо от того, как он ходил, попритихли, заслышав его шаги, монахини в своих каморках. Разбежались по углам ближние боярыни и боярышни, сопровождавшие царицу на богомолье. А некоторые из них даже крестились: изыди, сатана! Знали, что берут на душу великий грех, даже вот так, сквозь каменную стену, по-женски любуясь молодым и красивым патриархом… И только одна царица не двинулась с места в своей келье. Ни один мускул не дрогнул на прекрасном лице Гали. Лишь побелели, стали восковыми ее тонкие, длинные девичьи пальцы.
А он пошел дальше…
Перед ним неожиданно раскинулось необъятно-бездонное небо. Выбросив догоревшую дранку в темнеющий оконный проем, Миша спрыгнул на землю. Это была та самая насыпная терраса, где у них произошла размолвка. Теперь это в прошлом. Теперь он другой, очищенный от скверны страха за себя.
Из-под террасы выплеснуло тысячи огней… Но где же она?.. Бродит ли среди этих огней — крохотная, микроскопическая точечка? Или находится где-то здесь, на дне этой необозримой черной впадины?
О, если бы можно было в мгновенье ока перенестись туда к ней! Как во сне или в сказке!
И Миша, тяжело вздохнув, тронулся в обратный путь.
— Ми-и-и-ша!..
Это было так неожиданно, что он усомнился — могло и послышаться. Только когда далекий Галин голос позвал его во второй раз, он, не помня себя от радости, сорвался с места и побежал ему навстречу. Он не замечал ни темноты, по-прежнему окружающей его со всех сторон, ни дороги, которая круто спускалась вниз и петляла. Его
охватило удивительное ощущение легкости и невесомости: порой ему казалось, что он вообще не соприкасается с землей — почти как в полете. Ему даже не приходила мысль об опасности. А она была рядом: притаились, подстерегая каждое неосторожное движение, валуны и ухабы, корни и пни. Все вытеснила радость. Радость, что все страхи уже позади, что она там, внизу, живая и невредимая.
А голос звучал все ближе и ближе:
— Ми-и-и-ша!.. Ми-и-и-ша!..
Мелькнуло белое пятнышко. Оно то появлялось, то исчезало. Миша не сразу разглядел, что Галя бежит в гору, бежит тяжело, то и дело переходя с бега на шаг…
Наконец и она увидела его. Остановилась, замахала рукой:
— Миша! Ну, быстрее!
Он в несколько огромных прыжков оказался рядом, даже проскочил немного вперед.
— Ты где пропадала?
— А ты где?.. Побежали!
— Куда?
— Там машина стоит!.. Идет в наш город!.. Сказали, что подождут!.. Побежали!
И они устремились под гору. Пока дорога шла вниз, Галя почти не отставала от Миши, который старался держаться к ней поближе, все время замедлял шаг и поглядывал в ее сторону. Вскоре он услышал, как она тяжело дышит. Он хотел взять ее за руку, чтобы помочь бежать, но она сердито отстранилась:
— Не надо.
Когда под ними заходили мостки, Миша обернулся, чтобы предупредить ее: то там, то здесь чернели вместо досок провалы. И надо же, чтобы именно в этот момент, когда он оглянулся, она вдруг вскрикнула и, всплеснув руками, растянулась на мостках.
Миша бросился к ней:
— Больно?
— Нет, ничего, — ответила она, поднимаясь с Мишиной помощью и отряхивая с себя пыль. — Побежали!
Но, пробежав всего несколько метров, она снова ойкнула и остановилась.
— Что с тобой? — не на шутку перепугался Миша.
— Что-то с ногой.
— Что? Ушибла? Растянула?
— Не знаю… — Галя осторожно шагнула. — Больно!
— Можно посмотреть? — нерешительно спросил Миша.
— Все равно ничего не увидишь… — И, сделав еще один шаг, призналась: — Нет, не могу!.. Что же делать?
— Я сбегаю, предупрежу их, чтоб подождали. Где стоит машина?
— Во дворе дома. В одном из дворов. Только я не знаю, как эта улица называется…
— А ты скажи, как туда пройти?
— Как? — Галя на секунду задумалась. — Надо дойти до переезда…
— До переезда? — удивленно переспросил Миша.
— Да. А там свернуть налево, а потом… Нет, все равно ты ее не найдешь!.. Пошли! — Галя взяла Мишу под руку.
— Куда ты пойдешь с такой ногой?
— А что нам делать? — И она, держась за Мишу, молча превозмогая боль, дошла до середины следующей доски и встала.
— Галя! — вдруг сказал Миша.
— Что?
— Дай я тебя понесу!
— Еще чего!
— Но другого выхода нет, — жалобно произнес он.
Галя бросила на Мишу короткий непонятный взгляд и снова двинулась вперед. Но на этот раз она не прошла и половины доски. Остановилась и тихо сказала:
— Я тяжелая…
— Чепуха какая! — воскликнул Миша. — Я на воскреснике мешки по восемьдесят килограммов ворочал!
— По восемьдесят? — не то удивляясь, не то оценивая, повторила Галя.
— А некоторые мешки были даже по девяносто килограммов!
— У меня пятьдесят два…
— Ну, тут и нести нечего! — Миша сделал шаг в сторону и примерился взглядом, — Только как лучше взять?
— Ну уж этого я не знаю, — усмехнулась она в темноте.
— Положи мне руку на плечо…
Галя послушно положила.
Затем, пугаясь собственной решительности, Миша обнял Галю и неловко поднял ее. И хотя она и в самом деле не была тяжелой, первые метры дались ему нелегко. Он шел, стараясь держать ее как можно дальше от себя, затрачивая на это массу лишних усилий. Ему казалось, что стоит ему только опустить ее себе на грудь, как она тут же заподозрит его в нечистых мыслях. Но такое напряжение было чрезмерным даже для его сильных и длинных рук. С каждым шагом они слабели. И вот это случилось. Галя лежала на его руках, обняв его за шею, плотно прижавшись к нему всем телом. Но совесть Мишу уже не мучила. Он сделал все, чтобы этого не было. И Галя не могла не знать, каких усилий ему это стоило!
Осторожно ступая по доскам, едва различимым в темноте, Миша шаг за шагом продвигался вперед. Несмотря на то что нести теперь стало легче и удобнее, он ощущал, как постепенно тяжелеют, наливаются свинцом руки и ноги… Хорошо бы устроить хотя бы короткую полминутную передышку!.. Но сказать об этом у него язык не поворачивался: пройдено всего каких-нибудь тридцать-сорок метров, а он уже скис!.. И надо же было ему хвастать, где и какие мешки он ворочал!
А Галя, догадавшись о его состоянии, уже говорила:
— Миш! Дай я лучше пойду пешком!..
И даже сняла с плеча руку.
Но Миша лишь крепче обнял девушку и молча, не глядя на нее, продолжал идти.
— Миш! Тебе ведь тяжело… — жалостливо убеждала она, сознавая в то же время, что никакие уговоры уже ни к чему не приведут.
Перед ее глазами плыл Мишин профиль. В нем было все незнакомое. Напряженное, резкое, мужское. С тревожным недоумением она вглядывалась в изменившиеся черты Мишани-Мишули-Мишуни, и сердце сжималось от томительных предчувствий…
МОЙ ЧЕРТОВ ЗАМ
Почти детектив
С чего начинается день в нормальной редакции? Непременно с каких-либо неотложных дел, связанных с выпуском газеты. У меня же — с очередной выходки моего заместителя.
Вот и сегодня. Только я зашел к себе в кабинет, как тут же влетела Зина с грудным на руках. Вид у нее взъерошенный. Все надето на скорую руку. Блузка и юбка съехали набок.
— Что случилось?
— Володька пропал!
— Как пропал? Он же в доме отдыха!
— Нет его там.
— Как нет?
— Да так и нет! Позвонила я утром, хотела его попросить, чтоб съездил в Ленинград, купил мне три метра тюля. А мне отвечают: «Не знаем, где он. Его уже второй день нет. Наверно, домой уехал!»
— А может быть, он уже дома? — несмело предположил я.
— Ты что, Петр Петрович, смеешься надо мной?
В общем, она и Макаров два сапога пара. Будь Зина моей женой, я бы и дня не вытерпел. Разве можно так жить — чуть что, бежит жаловаться на него? А он не только терпит, но еще и процветает при ней. Одну другой хлестче шутки отмачивает.
— Петр Петрович, помоги найти его. — В ее голосе появились жалобные нотки.
— Сейчас все брошу, побегу искать!
«Вот он у меня где, твой Володька!» — так прямо черным по белому и написано на моей физиономии. А она заметила это и сказала:
— Все-таки два дня, может, случилось чего?
— Ах, мы еще сомневаемся! Разве был хоть один день, когда с ним ничего не случалось? И вообще, — продолжал я, — Макаров сейчас в отпуске. Мне не подчиняется. Где он там ходит, где он там бродит, меня не касается!
Выпалил и тут же пожалел. Я забыл об одной Зининой особенности: она могла приходить в ярость лишь на общем спокойном фоне. Когда же еще кто-нибудь начинал кипятиться, она становилась холодной и ироничной.
Она сунула Ниночке в рот выпавшую соску и этаким невинным голосом спросила меня:
— Ты это кому говоришь, мне или себе?
— Тебе! А кому же еще? — разозлился я.
— Не плаць, Нинок. Дядя сютит! — посюсюкала она над дочкой.
А Ниночке-то всего шестой месяц, и понимает она ничуть не больше, чем ее чокнутые родители.
И, окинув меня своим особым взглядом, который я знаю уже двенадцать лет, вышла из кабинета.
Иди-иди!
Может быть, у него и началось все с семейной жизни? Хотя, говорят, он и до женитьбы был с приветом…
Я снял трубку, заказал междугородную.
— Это Шнырьков. Примите два заказа. Дом отдыха «Красные зори». Директора. И второй — Управление внутренних дел. Силантьева. Сперва — дом отдыха, а потом Управление. Жду.
Минуты через две меня соединили с домом отдыха. Все было правда. Вот уже два дня, как Макаров тайком, ничего не сказав администрации, уехал из дома отдыха. Не исчез, не скрылся, не пропал, а уехал. Что ж, пусть будет так — уехал. Но если уехал — то куда? Этого они сказать не могут. Может быть, знают соседи по комнате? Нет, все в один голос заявляют, что он никому ничего не говорил. Просто забрал вещички, и был таков. Ах, все-таки забрал вещи? Ну, мыльницу, зубную щетку, книжки. Чемодан, который хранится в кладовке, он не взял. Значит, рассчитывал вернуться? Возможно. Но назад они его уже не примут. Сегодня будет подписан приказ об его отчислении из дома отдыха. Чемодан он, конечно, может взять. Вот и все сведения, которыми они располагают. Не густо. Увы, больше ничем не могут помочь. Тогда всего доброго. До свидания…
Управление дали сразу после дома отдыха.
— Майора Силантьева!
— Кто спрашивает?
— Его товарищ, Шнырьков.
— Одну минутку. Он где-то здесь. Сейчас посмотрим.
По-видимому, он был где-то близко.
— Майор Силантьев у телефона.
— Юрка, привет!
— А, Шнырек! Ну как ты там живешь?
— Как всегда, от одной макаровской выходки до другой.
— А сейчас что он у вас там отколол?
— Ни больше ни меньше как исчез.
— Ну и радуйся! Хоть отдохнешь без него!
— Все-таки живой человек. Первый зам!
— Ты что хочешь, чтобы я объявил всесоюзный розыск? Ни черта, побродит день-другой и придет!
— Уже два дня прошло.
— Он что, от семьи умотал?
— Нет, из дома отдыха.
— Ну, тогда все понятно! Я и сам однажды дал деру оттуда! Скучища страшенная!
— Но ты хоть домой вернулся. Или тоже куда подался?
— Ну ладно, — оборвал пикировку Силантьев. — Чего тебе от меня надобно?
— Помоги разыскать его.
— Прости, Шнырек, но я сейчас очень занят.
— Я понимаю. Но Зина в отчаянии. Чуть ли не вдовой себя считает. Ты же понимаешь: трое детей…
— Ну, давай выкладывай. Где, когда, что?
Записав необходимые данные, Силантьев сказал:
— Когда что-нибудь выясню — позвоню…
Я положил трубку. Тихо звякнул телефон — отключилась междугородная…
В сущности, мне следовало давно распроститься с Макаровым. На этом настаивали сверху, да я и сам понимал, что рано или поздно нам придется расстаться. И все же я не торопился. А порой даже вступался за него. При этом особенно нажимал на то, что он с отличием окончил партийную школу, обладал несомненными журналистскими способностями, был весьма знающим и начитанным человеком. И это действительно так. Но все эти достоинства становились недостатками, как только Макаров рьяно принимался за какое-нибудь дело. Он все портил, потому что никогда ни в чем не знал меры…
Когда он кого-нибудь критиковал, то читатели недоумевали: почему никто еще не осужден и даже не снят с работы? Случалось, давали опровержение в газете. Макарову же я ставил на вид, и все возвращалось на круги своя. Хвалил он тоже без удержу. Не раз бывало, что на его восторженные очерки о людях, об их делах, как мухи на мед слетались журналисты областных газет. И тотчас не солоно хлебавши поворачивали обратно.
И жили бы мы тихо-мирно, если бы все его материалы, прежде чем попасть в номер, проходили через мои руки. В одних я убирал чрезмерную резкость, в других чрезмерные восторги, и все вставало на свои места. Но стоило мне только уйти в отпуск, отправиться в командировку или заболеть, как мой чертов зам засучив рукава принимался наводить порядок в районе. Пыль столбом стояла! Стояла до тех пор, пока не возвращался я. И тогда начинались разговоры о том, что я распустил подчиненных и не занимаюсь воспитательной работой в коллективе. Мне ничего не оставалось, как время от времени признавать критику справедливой. Макаров же ни с чем не соглашался, горячился, хлопал дверью, требовал создания авторитетных комиссий для проверки напечатанного. Словом, вел себя как мальчишка. После этого, естественно, ставился вопрос о его незрелости и даже несоответствии…
Не составляло большого труда от него избавиться. Но я терпел его. Возможно, дело было вовсе не в нем, а в Зине, с которой я когда-то вместе учился в юридическом институте. Правда, она была на курс младше. Но это не мешало нам поддерживать самые дружеские отношения. А Юрка Силантьев даже был влюблен в нее, но безответно.
Встретились мы все только через три года после окончания института. Она была уже замужем. Двое детишек превратили ее в убежденную домохозяйку. Макаров был инструктором райкома комсомола где-то в глубинке и только собирался поступать в партийную школу. Мне он очень понравился: белобрысый, белозубый, подвижный как ртуть. Серьезный и легкомысленный одновременно. Тогда меня это не пугало. Я и сам был немножко такой — увлекающийся, что ли. Признаться, именно в тот момент я впервые подумал, что неплохо бы заполучить его после учебы сотрудником.
Настораживали лишь какие-то мелочи, которым я, в общем, не собирался придавать значения. Однажды, например, я зашел к ним домой. Зина возилась на кухне. Детишки играли в продавца-покупателя. А Макаров сидел за столом и что-то очень старательно и аккуратно переписывал из книжки в небольшую самодельную тетрадку. «Шпаргалки готовим?» — подмигнул я. «Да так», — слегка смутился он. Но, поторопившись встать из-за стола, он нечаянно взмахнул пером и посадил в тетрадке кляксу. Пока он, расстроенный и огорченный, искал промокашку, я придерживал страницы, чтобы больше не испачкать. Моему удивлению не было границ. Макаров каллиграфическим почерком переписывал «Евгения Онегина»! Его труд уже подходил к концу. Клякса замыкала собой строчки из седьмой главы: «Вот отошел… вот боком стал… — Кто? толстый этот генерал?» Это никак не укладывалось в голове. Переписывать Пушкина, когда его произведения имеются в каждой библиотеке и переиздаются миллионными тиражами? Для чего? С какой целью? Я спросил его об этом. Он ответил: «Да так. От нечего делать». Но это была явная отговорка. Помню все оттенки своего тогдашнего недоумения. Может быть, рассуждал я, таким способом он учится писать без ошибок? Но зачем тогда перерисовывать все виньетки и рисунки, так тщательно выводить бисеринки букв? Что это даст? Еще одну книгу? Сверх миллионов изданных? Или, кто знает, переписывая, он испытывал какое-то особое удовольствие от пушкинского стиха? Или же так он вырабатывал усидчивость, которой ему не хватало, занимался самовоспитанием?
Это была первая, поначалу неучтенная загогулина, за которой потянулись другие — большие и малые, теперь уже учтенные и переучтенные множество раз. Последним, вернее, предпоследним художеством моего зама (последним будем считать его внезапное исчезновение) была история с иконами. Произошла она буквально на следующий день после моего отъезда на семинар редакторов районных газет. Часов в десять утра одна из сотрудниц, привлеченная шумом на улице, выглянула в окно и ахнула. По мостовой шагали Макаров и четверо рабочих в касках. В руках они держали листы из жести с изображением каких-то фигур. Гремя сапогами, вся эта компания поднялась на второй этаж, где находились основные помещения редакции. «Товарищи, смотрите, что я нашел!» — радостно сообщил всем Макаров. Оказалось, что эти почерневшие от времени и сырости листы были содраны со стен и выброшены на свалку при ремонте бывшего собора. Вскоре все святые висели на самых видных местах редакционных кабинетов. Совсем нетрудно представить, какие пошли разговоры среди населения. Ответственный секретарь потом рассказывал мне, что он своими глазами видел, как украдкой отвешивала поклоны и крестилась в кабинете Макарова курьерша тетя Таня. Разумеется, я ничего не имею против работ талантливых богомазов. Я сам готов часами смотреть на «Троицу» Андрея Рублева. Меня волнуют иконы новгородских и псковских мастеров. Но вся эта живопись хороша на своем месте. В музеях, в частных коллекциях, наконец в церквах. Но зачем тащить их в учреждение, призванное заниматься антирелигиозной пропагандой?
Спасло Макарова от выговора то, что он ушел в отпуск и уехал в дом отдыха. И вот тебе — новое коленце!..
— Петр Петрович, я вам давно говорил: хлебнете вы с Макаровым…
Это наш отсекр, Виктор Алексеевич Баландин. У него давняя и устойчивая неприязнь к моему заму. Старый газетный волк, он воспринимал Макарова как инородное тело, как шишку под носом у алжирского дея. Он открыто осуждал меня за либерализм и считал, что в создавшемся положении виноват я один. Что ж, отчасти он прав. Но за десять лет работы редактором я уволил всего двоих. Шофера редакционного «козлика», нагло левачившего на глазах у всего района, и девчонку-корректора, пропускавшую в газете столько грамматических ошибок, что нам было стыдно выходить на улицу…
Нервно зазвонила междугородная.
— Редакция? Будете говорить с городом!
— Самого главного редактора! — и короткий смешок.
— Юрка?
— Шнырек? Слышишь, ты имеешь довольно солидные шансы встретиться со своим живым и невредимым замом.
— Где он?
— Ишь ты, какой быстрый! Пока я еще такой информацией не располагаю. Но кое-что уже прояснилось…
— Что?
— Что ему крупно повезло. За эти два дня его никуда не доставляли. Ни в морги, ни в больницы, ни в вытрезвители, ни в стол находок. Словом, готовься к торжественной встрече!
— Ты что, дальше его искать не собираешься?
— Ну что ты! Как говорил один мой знакомый: «Рази можно? Мундир обязыват!» Жди звонка. Адью!..
Отсекр, который слышал только мои вопросы, сделал вид, что, несмотря ни на что, обеспокоен судьбой сослуживца:
— Что с ним?
— Спросите, Виктор Алексеевич, что-нибудь полегче, — ответил я.
Отсекр не без укора покачал головой и вышел из моего кабинета…
И вдруг меня как током ударило. А что, если Макаров уже дома? Ведь прошло добрых два часа, как Зина ушла к себе. Вот будет водевиль, если позвонит Силантьев и с обычным своим ехидством скажет: «Слышишь, Шнырек, ты бываешь когда-нибудь на квартирах у своих подчиненных? Нет? Ай-ай-ай, как нехорошо! Не поленись, зайди в одну из квартирок в доме напротив! Сделай милость!» Юрка — мастак на такие нокауты.
Так что лучше, пока не поздно, сходить проверить…
Первый непорядок: дверь не заперта. Заходи кто хочешь. Второй: из большой комнаты доносятся сердитый Зинин голос и детский плач во всех диапазонах — от хныканья до рыдания. Явно Макарова нет. Иначе она воевала бы с ним, а не с детьми.
Плакали все трое. Но основную партию вел старший, семилетний Гошка. Рыдая, он то и дело восклицал:
— Папки нет!.. Папка пропал!
— Слышишь? — кивком головы показала мне на него Зина, пеленавшая Ниночку. Это у нее получилось как напоминание о несчастных «сиротках».
— Слышу, слышу, — пробурчал я.
— Ну, узнал что-нибудь?
— Вся милиция поставлена на ноги. Во главе с Юрой Силантьевым.
— Ну и что он? — Ее большие карие глаза блеснули нездоровым интересом: наверно, она считала, что Юрка до сих пор по ней сохнет.
— Рад до пят, что наконец дело ему нашли.
— Да перестань жилы из меня тянуть! — набросилась она на Гошку.
Тут захныкал средний, пятилетний Бориска:
— Папки нет!.. Папка плопал!..
Зина не выдержала:
— Да пропади он пропадом, макрорус несчастный! — и выбежала из комнаты.
— Не хочу моклоус! — с ходу переключился Бориска.
— Ну, хватит плакать, ребята! — сказал я обоим макаровским чадам. — Никуда ваш папка не денется! Скоро придет!
— Не придет! — проплакнул Гошка.
— Почему это не придет?
— Мамка его домой не пустит!
— Не пустит, — плача поддакнул брату Бориска.
— И не пущу! — сказала вошедшая Зина. — Пусть катится туда, откуда пришел!
Мальчишки дружно заревели.
— Ох, господи! — воскликнула Зина. — Если вы сейчас же не прекратите выть, я тоже уйду и никогда больше не приду!
Оба мгновенно перестали плакать. Только шмыгали носами.
— Н-да! — произнес я.
— Что «н-да»? — резко обернулась она ко мне. — Думаешь, меня все это устраивает? — и сокрушенно добавила: — Если бы ты знал, Шнырек, как я устала от всего.
Что я мог ответить на это? И тут, очень кстати, я услышал тонкий голос нашей редакционной курьерши, тети Тани:
— Петр Петрович! Город!..
— Я зайду еще! — пообещал я Зине…
Так и есть — Силантьев!
— Где бегаешь? — проворчал он.
— Да тут дела всякие… Ну что?
— Ты можешь сейчас приехать ко мне?
— Да. Где он?
— По полученным сведениям, топает пешком в Москву.
— Как пешком в Москву?
— А чего тут удивительного? Ходят же некоторые пешком вокруг света?
— Зачем в Москву? И зачем пешком?
— Вот это ты у него сам спросишь.
— Слушай, Юра, — меня снова начала брать злость на моего зама, — главное мы узнали. Он жив-здоров. А так — человек в отпуске. Может топать куда угодно. Хоть в Москву, хоть в Ташкент. И мне неясно, зачем я тебе срочно понадобился?
— Видишь ли, в последний раз его видели сегодня утром. Потом он как сквозь землю провалился.
— Ну, с ним, я вижу, мы не соскучимся.
— А я о чем говорю? Так что давай приезжай. Съездим, посмотрим. Далеко он уйти не мог. Я со своим начальством договорился. До завтра меня отпускают.
— Никак не могу. Мне надо газету подписывать.
— Неладно получается, товарищ главный редактор! Втравили меня в эту историю, а сами в кусты?
— Послушай, Юра. Я одного не понимаю: зачем это нам? Мне, тебе? Ну, я скажу Зине, что он жив-здоров, идет в Москву пешком. И все. Еще не хватало, чтобы я гонялся за ним по дорогам. Достаточно я здесь из-за него побегал.
— Все сказал?
— Все.
— Так слушай. Я никогда никакого дела не бросал на полпути. Если хочешь — поедем вместе. Нет — поеду один… Ну, так как же?
Юрий обидчив и самолюбив. В конце концов, ничего страшного не случится, если номер подпишет Виктор Алексеевич. В чем в чем, а в этом на него можно полностью положиться. И я пошел на попятный.
— К утру вернемся?
— А как же! У меня со своим начальством отношения серьезные!
— Ну хорошо.
— Так жду к двум в Управлении…
Я вызвал Виктора Алексеевича, сказал ему, что уезжаю. Он весь напрягся от любопытства.
— Пока одна туманность, — ответил я на его вопрос о Макарове и попросил зайти к Зине, передать ей от моего имени, чтобы не волновалась. Мол, звонили из города, сказали, что благоверный ее жив-здоров и выполняет срочное задание областной газеты.
— Передать, конечно, можно, — с явным неодобрением произнес отсекр.
— Ну, я поехал…
От нас до города добираться тридцать пять минут на электричке. За четверть часа такси доставит к Управлению.
Но на такси была большая очередь. Пришлось сесть в трамвай. В пять минут третьего — на пять минут позже установленного времени — я входил в Управление.
Юра как раз спускался по главной лестнице. Увидев меня, он показал на свои часы. Будь я его подчиненным, он бы за опоздание на пять минут продраил меня с песочком.
— Пошли! Машина уже ждет!..
Обыкновенный милицейский «Москвич». Силантьев сел рядом с шофером — младшим сержантом. В силу служебного положения другого места он не признавал. Я же просунулся на заднее сиденье.
— Никаких новостей? — спросил я.
— Новостей навалом… Правда, Сергеев? — обратился он к водителю.
— Чего-чего, а этого добра хватает, — ответил тот, трогая машину. — Только успевай поворачиваться!
— Слышишь? — обернулся ко мне Юра. — У нас кроме твоего повернутого зама еще есть над чем голову поломать.
— Ну и ломайте! Для этого вы и существуете! — огрызнулся я.
— Вот так, Сергеев, все и рассуждают. Никакой благодарности! — усмехнулся Силантьев.
— Темный народ, — заметил младший сержант.
— Вот именно темный, — скосил на меня свой веселый, насмешливый глаз Юрка.
Я промолчал. Если реагировать на все силантьевские подначки, они никогда не кончатся. Да и пикироваться мне неохота. Не то настроение. Честно говоря, я до сих пор не знаю, зачем я поехал. Чтобы еще раз поглядеть на своего ненормального зама, затеявшего пеший переход из Ленинграда в Москву? Как будто мне больше делать нечего!..
Я хотел снова высказать все это Юре, но раздумал. Зачем? Все равно бесполезно. Сейчас им движет азарт сыщика: во что бы то ни стало найти пропавшего человека! А тот, может быть, и не пропадал никуда. Просто свернул с шоссе на проселочную или лесную дорогу. Чтобы шагать не по пыли, а по травке.
Интересно, как Силантьеву стало известно, что Макаров где-то на пути к Москве? Причем за какие-то считанные часы, пока я сидел в кабинете и ходил к Зине.
Я спросил Силантьева.
— Скажем ему, Сергеев? — как всегда, поиграл он со мной. — Может, очеркишко о нас напишет?
— Обо мне чего писать? — сказал шофер.
— Скромность украшает человека, а милиционера особенно. Раз нет возражений, раскроем секрет фирмы…
И оказалось все настолько просто, что даже удивительно. Стоило лишь по душам поговорить с соседями моего зама по комнате в доме отдыха, как выяснилось, что у одного из них он спрашивал, на чем лучше добраться до Московского шоссе, а у другого — сколько налегке можно сделать километров в сутки. Отсутствовал он два дня. Подсчитали, где он примерно должен находиться. Сообщили туда приметы. И через некоторое время поступило первое донесение…
— И это все? — не поверил я.
— А ты небось думал: электронно-вычислительные машины, вертолеты…
— Уж очень быстро.
— Просто мы умеем, когда это требуется, резво двигать ножками…
Неожиданно подала голос рация.
— Третий! Третий! Я — сорок восьмой! Я — сорок восьмой! Гражданин, которым интересовался майор Силантьев, проследовал по шоссе на Тосно! Ответьте, как поняли?
— Я третий! Я третий! Понял вас хорошо. Спасибо! — положив трубку, Силантьев обернулся. — Вот видишь, еще часок, и несть конца объятиям!
— Может, повернем назад? — робко спросил я.
— Без проверки и установления личности никак нельзя, товарищ наиглавнейший редактор!
— Почему нельзя?
— А ежели это не он? Ведь документов у него не спрашивали. А по приметам и ошибиться недолго. Так что, товарищ главный редактор, еще надо посмотреть, ваш ли это зам или чужой?..
Наконец мы выбрались из города. Стрелка на спидометре уже подбиралась к восьмидесяти. При виде нашей мигалки водители встречных машин лезли из кожи вон, чтобы показать, какие они примерные.
Сотни раз я проезжал по этому шоссе и мог с закрытыми глазами, только по ощущению прошедшего времени, по едва уловимым особенностям самой дороги, с точностью до нескольких сот метров распознать место, где проносится машина…
Вот здесь или чуточку дальше — определил я не глядя, — по правую руку, выстроились в ряд жилые корпуса совхоза «Шушары».
Сейчас мы пролетаем над железной дорогой. Иногда в этом месте выскакивают со своей непрошеной подсказкой паровозные гудки…
А тут начинались поля и фермы другого пригородного совхоза — «Ленсоветовского»…
Скоро будет поворот на Пушкин. Так оно и есть! Я ошибся всего на каких-нибудь сто метров…
Километровые столбы так и мелькали один за другим…
— Ну как там Зина? Здорово изменилась? — В глазах моего старого друга затаенное любопытство. Все-таки, наверное, у него что-нибудь там, на донышке сердца, осталось. Ведь столько лет вздыхал по ней.
— Как тебе сказать, — неопределенно произнес я. — В общем, как женщина ее возраста. Жизнь у нее нелегкая.
— Да, не повезло ей, — твердо сказал Юра и тут же посмотрел на меня: не заподозрил ли я его в пристрастии?
— Нелегкая, но, как говорится, содержательная, — усмехнулся я. — Каждый день что-нибудь новенькое…
Ого! Уже Тосно!..
По обе стороны шоссе замелькали домишки, утопающие в густой зелени…
За каких-нибудь десять минут мы проскочили городок и очутились у поворота к совхозу «Ушаки».
И тут я увидел его. Он бежал по пешеходной дорожке, но не прямо, а странными зигзагами. До меня не сразу дошло, что он гонит перед собой какой-то предмет. Тощий рюкзак, перекинутый через плечо, болтается при беге.
— Он? — спросил меня Силантьев. Макарова он видел всего два раза, и то четыре года назад.
— Он, — ответил я.
— Хорош, ничего не скажешь… Остановим?
— Зачем? Он же в отпуске! Пусть делает, что хочет!
— Проезжай мимо! — приказал водителю Силантьев. — Там дальше развернем!..
Когда, Макаров остался позади нас, я осторожно обернулся. Мой чертов зам самозабвенно гнал перед собой порожнюю консервную банку. На нас он даже не обратил внимания…
— Слушай, по-моему, он задался целью перегнать эту банку из Ленинграда в Москву, — весело предположил Силантьев.
— Все возможно. Я уже ничему не удивляюсь…
Проскочив еще метров шестьсот, мы развернулись и поехали обратно…
Расстояние между нами и Макаровым быстро сокращалось. Я уже ясно видел его раскрасневшееся от бега, удивительно моложавое лицо со светлыми, почти бесцветными бровями. Быстрыми и короткими пасами он вел консервную банку по пешеходной дорожке, время от времени резким ударом посылая ее далеко вперед…
Я отвернулся. На всякий случай. А губы мои шептали: за что мне такое наказание? У всех замы как замы, а у меня сплошной ребус. Без ответа на последней странице…
Вернувшись через две недели из отпуска, Макаров положил мне на стол большой очерк. Назывался он несколько странно: «Если бы вдруг воскрес Радищев». И короткий подзаголовок: «Пешком из Ленинграда в Москву». Очерк рассказывал о новой жизни старой дороги. Не знаю, кто как, а я прочел его с огромным удовольствием.
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ
СОЛОВЕЙ И ФЛЕЙТА
Какой задушевный и певучий голос у флейты. Как-то услыхал ее игру соловей. И подумал: наверно, и сердце у нее такое же прекрасное — нежное и доброе. Захотелось ему познакомиться с флейтой. Да отпугивал своим видом человек, с которым она почти никогда не расставалась. Но однажды она осталась одна. С замирающим сердцем подлетел к ней соловей. Робко свистнул. Молчание. Свистнул погромче. Опять молчит. Что с ней? Может быть, не хочет с ним разговаривать? И тогда соловей запел. Как только он не заливался, чтобы пробудить интерес к себе! Но она так и не отозвалась — черная неподвижная дудка. А потом подошел человек, и она снова запела своим нежным, чарующим голосом. «И что она в нем находит, в этом некрасивом толстяке?» — удивился соловей.
ПРЕЛЮД ШОПЕНА
Порой наша память необъяснимо избирательна. Я не знаю, почему иногда напрочь забываются вещи, которые когда-то были для тебя важными и существенными, и помнится какая-то частность, какая-то случайность. Взглянуть бы и забыть. Ан нет, самому себе на удивление зарубцевалось на всю жизнь.
Около небольшого скверика, прислонившись к решетке, стояла девушка. Она была красива своей юностью, своим нежным, милым и чистым обликом. Одета она была по моде тех лет, кажущейся сейчас смешной. Помню пальтишко из простенького материала, розовый батистовый шарфик, который она задумчиво перебирала тонкими пальцами, а на голове — венок белокурых кос, прикрытый крохотной шляпкой. Девушка стояла, чуть склонив голову набок. Возможно, она слушала прелюд Шопена, который доносился откуда-то издалека. В руке у нее я заметил изрядно потрепанный самоучитель игры на фортепиано. Кого она ждала? Подругу? Родителей? Паренька, которому нравилась? Не знаю. Тогда меня это не интересовало. Я торопился к другой девушке, которую считал своей невестой и которую давно и основательно забыл. А вот ее, стоящую у ограды сквера, помню. Но почему? Почему? Может быть, она ждала меня?
ПОДАРОК
Я был на волосок от смерти. Все началось с того, что я самым банальнейшим образом нарушил правила уличного перехода. Дорога с обеих сторон была сужена автобусными остановками, к которым как раз подходили автобусы. И в этот тесный просвет, в середине которого неожиданно оказался я, неслись навстречу друг другу с большой скоростью две машины — огромный «МАЗ» и «Волга». Они уже не могли ни свернуть, ни остановиться. Только пройти совсем рядом, с крохотным запасом в несколько сантиметров. Но там — в этом запасе — находился я. И тогда я закрыл глаза и целиком положился на случай. Я был совершенно спокоен. Сердце у меня билось не чаще обычного. Я не думал ни о смерти, ни о своей роковой опрометчивости. Я вообще ни о чем не думал. Я был уверен, что ничего не случится. Я постиг эту важную, очень важную для себя тайну не рассудком, не опытом, которые уже ничем не могли мне помочь, а всем своим существом, каждой своей клеточкой. Я не знаю, на что я рассчитывал: на искусство ли шоферов, на свою ли везучесть или просто на чудо — не знаю. Но случилось невероятное. Машины прошли, не задев меня. По лицу лишь больно ударил тугой и хлесткий воздух от промчавшегося «МАЗа», и где-то совсем близко за спиной прошуршала «Волга».
Так — в который раз (если вести отсчет с далеких военных лет) — мне подарили жизнь!
ХОББИ
Ах, об этом уже столько писали! Да, да, у каждого человека должно быть хобби — увлечение каким-нибудь посторонним делом. Например, коллекционирование. Но чем глупее и бесполезнее оно, тем добрее и снисходительнее к нему окружающие. И вот один рыщет повсюду в поисках значков, другой — ресторанных меню, третий — винных этикеток. Как на дрожжах растут коллекции, которые уже загодя объявляются газетчиками, падкими на сенсацию, достоянием народа. Ох как многолик мир мещанина! Человек, не нашедший себя в главном, определяющем его как личность, сломя голову бросается утверждать себя на боковых дорожках жизни. И тратится время, и тратятся силы на совершенно пустое занятие.
Я не против собирателей книг и картин, пластинок и нот, которые нужны им для работы. Перед лучшими из них я преклоняюсь. Впрочем, я знаю библиофила, собравшего огромную — в пятнадцать тысяч томов — библиотеку, но прочитавшего из нее всего двести — триста книг. Человек маленький, жалкий, он, стремясь компенсировать неудачу всей своей бессмысленно и мелко прожитой жизни, задался целью хоть в этом переплюнуть других.
Как мало отпущено времени каждому из нас, чтобы раскрыть себя в главном, сделать что-нибудь стоящее, — и страшно отдавать часы, дни, годы на оглупляющие детские забавы.
ПОЧЕРК ЧЕЛОВЕКА
Почерк человека. Как он формируется? Думаю, меньше всего на него влияет школа. В первых классах дети учатся правильно писать буквы и пишут почти все одинаково, так, как того требует Нинпална. Спустя некоторое время, когда написание букв становится машинальным, на почерк начинают влиять темперамент ребенка, его отношение к труду и обязанностям, общий культурный уровень семьи. Значителен элемент подражания лучшим ученикам, любимым учителям, родителям, друзьям. Идет заимствование отдельных понравившихся букв, манеры. Я уверен, что почерк детей зачастую повторяет почерк родителей, и совершенно не удивлюсь, если мне скажут, что какие-то особенности письма унаследованы мною, например, от деда или даже прадеда. Когда мне на глаза попадается почерк, в котором слишком много завитков и украшений, я не ошибусь, если скажу, что в жилах автора течет кровь еще дореволюционных писарей и чиновников. Там же, где почерк прост, стремителен и экономен, — ищите военную косточку!
Говорят, стиль — это человек. То же можно сказать и о почерке. Несколько лет я собирал материалы о Дмитрии Лизогубе — одном из самых загадочных героев «Земли и воли». И каково было мое удивление, когда я впервые увидел его почерк. Этот почерк я знал с детства. Я узнавал каждую букву, каждую линию. Это был почерк моего родного дяди, человека совсем не героического, весьма далекого от треволнений эпохи. Казалось бы, никаких общих точек. День и ночь. Лед и пламя. И вдруг постепенно я стал находить сходство. Мягкость. Доброта. Скрытность. Твердость.
Впрочем, эта загадка еще ждет своего ответа — для меня, естественно…
БЕДНЫЕ ТОПОЛЯ
Отцвели тополя. Все вокруг бело от пуха. Один прохожий взглянул на мостовую: «Точно иней!» Другой возразил ему: «Нет, снег!» А вот третий брезгливо бросил: «Как перхоть!»
Из всех человеческих пороков я больше всего ненавижу беспричинное озлобление…
О ЧЕМ ДУМАЮТ ПТИЦЫ
Рассказ первый
ЖИЛ-БЫЛ СКВОРЕЦ
Я опаздывал на работу, а трамвая все не было. На остановке скопилось много народу. Предстоял штурм, у которого уже намечались и свои победители, и свои побежденные. Чтобы не бросаться сломя голову вместе со всеми, а трезво и спокойно оценить обстановку, я отошел в сторонку. Отсюда я мог в мгновение перенестись к тем дверям, которые осаждались меньше других. И вот вдали зазвенел трамвай. Толпа спрессовалась, сгрудилась у самых рельсов. Я тоже весь внутренне подобрался. И в этот момент кто-то резко дернул меня за шнурок ботинка. Я посмотрел и от удивления раскрыл рот. У ног моих топтался скворец. Он мотал головой, стараясь вытащить шнурок. Я наклонился — он тотчас же отбежал. Разогнул спину — он снова был тут как тут и норовил ухватиться за металлический кончик. Так повторялось много раз. Казалось, протяни только руку и бери его. Но он все время был начеку, мгновенно отскакивал. Вокруг нас собралась толпа. Люди забыли о работе, о подошедшем трамвае. Смеялись надо мной и моими ухищрениями освободить шнурок. Восхищались скворцом, высказывали разные предположения. Большинство сошлось на том, что птица ученая, привыкшая к людям, что ее надо как-то изловить и дать объявление. Так за живым обменом мнений пропустили и второй трамвай. А скворец все не унимался, с поразительным упорством старался разуть меня. И только когда появился милиционер со свистком и мегафоном на груди, скворец вдруг взмахнул крыльями и, сказав: «Здрасьте!», взмыл над толпой.
Рассказ второй
ТРИ СИНИЦЫ
Один месяц в году я отдыхаю под Ленинградом. Отдыхаю — это только называется так. На самом деле с утра до ночи сижу в своей комнатке и килограммами перевожу бумагу. С природой же общаюсь преимущественно через единственное окно. Иногда просто стою и созерцаю, что делается по ту сторону стекла. Но бывают счастливые минуты, когда природа сама наведывается ко мне. Она появляется в виде трех синичек, с которыми я крепко подружился. Первая из них напугала меня до смерти. Я не заметил, когда она влетела в комнату. Увидел ее уже на подоконнике на стопке исписанных листков. Мое появление нисколько не напугало гостью, Как будто мы уже виделись с ней до этого и она знала, что я ей ничего плохого не сделаю. Даже когда я взял ее в руки, она не шелохнулась. И тогда я испугался: а вдруг она смертельно больна или уже устала жить, как это иногда бывает и с людьми? Чего только я не делал: и хлеб крошил на рукопись, и чистую воду в блюдечке приносил. Все было напрасно. Я грустно подумал: наверно, часы ее сочтены. И тут кто-то — я уже не помню кто — посоветовал отнести синичку в сад и посадить на ветку повыше: чтобы кошки не сожрали. Так я и сделал. Несколько минут птица чувствовала себя на ветке как неопытный циркач на проволоке. Казалось, вот-вот сорвется и упадет. Но постепенно она начала осваиваться на новом месте. Ее крохотные коготки все крепче и крепче сжимали ветку. Мало того, она даже принялась чистить перышки. И вдруг моя синичка взмахнула крылышками и полетела. Я успел проследить ее полет только до ближайших веток, а затем она и вовсе пропала из виду. Что с ней тогда было в комнате, я и по сей день ломаю голову. Может быть, просто притворилась несчастной, чтобы ее пожалели? Со мной такое тоже иногда бывает, когда долго не пишется.
Второй синичке, по-видимому, поручили приглядывать за мной. Чтобы не бездельничал, раз получил льготную путевку. С первыми лучами солнца она уже стучала своим крепким клювиком в оконную раму: «Хватит спать! Пора вставать!» И не переставала барабанить до тех пор, пока я не откидывал одеяло. А потом — улетала. Однажды стекло сильно запотело, и ей не было видно, встал я или еще нежусь за казенный счет. Она пулей влетела в форточку и, обнаружив меня в постели, искренне возмутилась: «Ну сколько можно спать? Ну сколько можно спать? Время вставать, время писать!» Как ни лень было подниматься, а пришлось. А синичка сделала еще несколько кругов по комнате: очень уж ей было интересно, как я живу. Сами понимаете: одно дело снаружи подглядывать, другое — изнутри видеть.
А вот третья синичка мало считалась с тем, что я все-таки делом занят. Ее все тянуло поиграть со мной в пятнашки. Иногда по пять-шесть раз подряд она влетала ко мне в комнату и, весело покружив надо мной, снова ныряла в форточку. Ее, наверно, нисколько бы не удивило, если бы я вдруг тоже взмыл над казенным столом и полетел за ней вдогонку. Видно, считала, что я могу это, но почему-то не хочу. Задаюсь, что ли.
Вот так и навещали меня три синички. Но, может быть, это была одна — та, первая? А я этого и не знал?
Рассказ третий
СТО ПЯТЬ КОМАРОВСКИХ ДЯТЛОВ
В Комарове позапрошлым летом жило и работало сто пять дятлов. Не верите? Проверьте! И, пожалуйста, не спрашивайте, откуда у меня такие данные. Раз говорю — значит, знаю. Я могу ошибиться только на одного дятла. А именно — на Гошку. Было время, когда он трудился на территории Дома творчества писателей. Потом, говорят, ему надоел перестук пишущих машинок, который мешал ему сосредоточиться, сбивал с привычного и осмысленного ритма. И тогда он перебрался в Репино. Деревья, облюбованные им, подступали к самому Дому композиторов. Но каждый из отдыхавших там сочинителей музыки мнил о себе больше, чем следовало, и это соседство быстро обрыдло Гошке. И он снова вернулся в Комарово. Правда, стали замечать, что после Репина у него не все в порядке с психикой. Вместо того чтобы по-прежнему выдалбливать вредителей из живых деревьев, он принялся простукивать один за другим телеграфные столбы вдоль железной дороги. Предполагают, что этим он внес немалую путаницу в работу телеграфного ведомства. Я сам однажды получил телеграмму, в которой все говорилось шиворот-навыворот: «Не жди не приеду не воскресным не поездом не целую не жена не дети». Не будучи до конца уверен, что это Гошкина работа, я все же в душе считаю, что ему не следовало приниматься за телеграфные столбы, не овладев основательно азбукой Морзе. Потом я потерял Гошку из виду. Возможно, он опять перебрался в Репино. Остальных комаровских дятлов я знаю всех. Могу даже составить поименный список с указанием, кто где работает. Честное слово!
КЛЯНУСЬ, ЭТО — ПРАВДА!
Я не знаю, чем я заслужил такой подарок. Именно подарок, иначе я не могу расценивать то, что мне довелось увидеть. И даже не один подарок, а два.
Я видел двух счастливых влюбленных. Это были молоденький черный кот и такая же молоденькая серая кошечка. Они долго гуляли по парку бок о бок, мордочка к
мордочке и даже хвостами и то помахивали согласно. Им было так хорошо вместе, и они ни на кого не обращали внимания. Господи, а мы-то считаем кошек куда ниже себя и даже куда ниже собак, — на каком основании?
А вот в Павловске я как-то встретил воробушка, который с добрый час, не меньше, следовал за мной. У меня ничего не было с собой, и я его ни разу не покормил. И все же стоило мне остановиться, как он тут же опускался к моим ногам. Оттуда заглядывал мне в глаза и раскрывал клюв — просил чего-нибудь поесть. Я снова и снова принимался шарить по карманам и не находил ни единой крошки. От стыда, что я то и дело обманывал его ожидания, я вскоре уехал из Павловска. А ведь собирался пробыть там весь день. Вот так-то…
ЖИВАЯ ЛОШАДЬ
Дачный поселок. Рядом с кафе к новенькой изгороди привязана лошадь. Одна, без подводы. И все же у нее какой-то усталый, безучастный ко всему вид. Затрещит ли по дороге мотоцикл, прогудит ли где-то поблизости автомашина, поругаются ли подвыпившие ханыги — она даже головы не поднимет. И хотя ей до старости еще далеко, видно — она уже достаточно поработала и повидала на своем веку. А сейчас у нее одна забота — лениво отгонять мух и слепней.
В дверях кафе появляется немолодой мужчина в дорогом, но уже изрядно помятом костюме и такой же помятой шляпе. Некоторое время он стоит, покачиваясь, на пороге. И вдруг замечает лошадь. Его широкое простоватое лицо расплывается в радостной улыбке. Едва не загремев с крыльца, спускается вниз и нетвердой походкой, с протянутыми руками, идет к лошади. Еще издалека начинает разговор: «Ну, здравствуй, саврасушка! Ну, здравствуй, моя хорошая!» Подойдя, пытается обнять лошадь за шею. Та снисходительно косится на него и деликатно отворачивается. «Ну, чего ты, моя хорошая, отворачиваешься? Ну, выпил немножко. Всего-то стакан портвейна. Сам бы я ни-ни. А как откажешь, если товарищ Коростылев поднес? Ты бы и то не отказала, нет, скажешь?» И она снова с поразительной осторожностью, чтобы не сбить с человека шляпу, переносит свою тяжелую голову на другую сторону. «Опять отворачиваешься? Хочешь, поцелую тебя? Жену два года не целовал, а тебя поцелую!» Лошадь легонько и как будто недовольно встряхивает головой. «Ну, не буду, не буду…»
Мужчина еще долго ласкается к лошади, а затем подставляет под ее голову плечо и так стоит, блаженно улыбаясь. Привлеченные забавной сценкой, собираются люди. Добродушно посмеиваются: «Сфотографировать бы их!» — «Жена скажет: хорош был!»
А мужчина, прижимаясь щекой к горячей лошадиной шее, продолжает свой нескончаемый ласково-пьяный разговор: «Ну что, моя рыженькая? Заждалась хозяина? Ничего, придет он, никуда не денется. И булочку принесет вкусненькую — мы с товарищем Коростылевым подскажем ему, нет, скажешь?» И тут саврасая, вконец утомленная человеческой речью и разморенная духотой, сладко-сладко зевает…
А толпа между тем комментирует: «В городе разве увидишь живую лошадь?» — «Да и на селе тоже!» — «Отблагодарили, одним словом, конягу за верную службу!» — «Что и говорить, отблагодарили…»
Впрочем, лучше не скажешь…
КАК МНОГО МЫ ТЕРЯЕМ
Есть люди, которые даже в толпе никого, кроме себя, не замечают. Как много они теряют, что не любят и не умеют наблюдать. Сколько интересных сценок — веселых и грустных, забавных и серьезных, трогательных и безобразных — разыгрывается вокруг нас только на ближайших подмостках жизни. Сотни персонажей — один другого занятнее — совершенно бесплатно, сами того не подозревая, потешают, веселят, а иногда и огорчают затаившегося хитреца зрителя. А талант, а мастерство, с которыми они исполняют свои неповторимо-прекрасные роли! Их искренности и высокой технике могут позавидовать самые прославленные актеры страны. Тут нет ни на йоту фальши. Ведь сама жизнь здесь и драматург, и постановщик, и исполнитель. Не ленитесь только наблюдать. Имеющий уши да слышит!
ГЛАВНЫЙ МАЛЬЧИК
Сегодня чуть ли не с первыми солнечными лучами на меня обрушивается ребячий гвалт со двора. Под самым моим окном дворовая ребятня строит свой дом. Спасаясь от шума, я, несмотря на изнуряющую жару и духоту, плотно закрываю форточку, опускаю тяжелые двойные шторы. Не помогает. Звонкие голоса подростков без труда проникают через стекло и ткань. Конечно, можно еще заткнуть ватой уши. Однако к этому радикальному, но несколько унизительному средству я прибегаю только в тех крайних случаях, когда минута промедления грозит утратой вдохновения — ненадежного и капризного, как молоденькая продавщица. Но сейчас я занимаюсь делом, не требующим высокого горения. С ожесточением и упорством крестьянина перепахиваю уже написанные страницы. И вдруг меня словно свежим ветерком обдает мысль: надо полагать, ничего страшного не случится, если я эту работу отложу на завтра или даже на послезавтра? В конце концов, я, как и все советские люди, имею право на отдых. С этой освежающей мыслью я решительно встаю из-за стола, снова поднимаю шторы и распахиваю окно. Впускаю в свою обитель все до единого звуки и голоса нашего огромного двора. Итак, внизу, всего в каких-нибудь пяти — семи метрах от моего подоконника, строится дом. Одни пацаны тащат откуда-то, по-видимому со строительной свалки, фанеру, жесть, толь, другие очищают свои собственные кладовки и радостными голосами возвещают о каждой находке, третьи — самые умелые — возводят стены, укладывают крышу и даже настилают полы из дощечек. Работают дружно, хотя и спорят по малейшему поводу. Сколько ребят — столько и мнений. Но есть среди них и свои вожаки, к голосу которых прислушиваются все. Один из таких вожаков — важный и деловой — прохаживается рядом и распоряжается. Похоже, он действительно много знает. Но я что-то не видел, чтобы он хоть раз наклонился и собственноручно вбил гвоздь. Наконец дом готов. Пусть фанерный, пусть картонный, но уже имеющий и стены, и крышу, и даже одно окно и одну дверь, в которую можно пролезть только на четвереньках. Теперь предстоит самое главное — вселение. И опять все заботы решительно берет на себя деловой мальчик. Он загораживает собой вход и по одному пропускает внутрь бывших строителей. Его голос, как всегда, категоричен и строг. «Теперь ты!.. Теперь ты!» — отбирает он счастливцев. И один за другим тощие мальчишеские зады мелькают в низком дверном проеме. «А ты куда? — вдруг останавливает он лопоухого большеглазого мальчугана. — Как работать, так пальчик болит? А как вселяться, так первый?» Тот принимается канючить. «Ну ладно, иди!» — снисходительно разрешает главный мальчик. Обрадованный пацан тут же опускается на четвереньки и ползет вслед за другими.
И лишь маленький прораб не спешит входить в дом. Он пробует на прочность одну стену, другую и только после этого с трудом пролезает внутрь.
Я давно понимаю, как рискованно делать прогнозы о человеческих судьбах. И все же этот дородный мальчик меня настораживает: уж очень он уверен в своем превосходстве над остальными.
ПЯТЬ МИНУТ
Спорим, что даже за те несколько минут, пока поезд идет до Кушелевки, что-нибудь да привлечет внимание наблюдательного пассажира? Итак, начнем. Уже объявлена посадка. На перроне огромная толпа. Особенно много лыжников, рыбаков, дачников, цыган с их увесистыми торбами. Вместе со своей учительницей едет куда-то за город целый класс. По виду трех- или четырехклашки. Медленно подходит поезд. В распахнувшиеся двери первыми втискиваются молодые и сильные лыжники. За ними, распихивая всех своими торбами, лезут цыгане. Учительница взывает к толпе: «Товарищи, пропустите детей!» Наконец образуется узкий коридор, который в мгновение ока заполняется мальчишками и девчонками. Последними в вагон входят рыбаки со своими коловоротами и «баянами». Им уже негде сидеть. Но они не унывают. «Ничего, у нас места при себе!» — говорит кто-то из них. И действительно, вскоре все они восседают на своих «баянах». Учительница пробует сосчитать школьников. Около нее вертится шустрый мальчонка. Весело подначивает ее: «А я остался на перроне, а я остался на перроне!»
Рядом со мной сидят несколько молодых парней-лыжников. Поезд еще не отошел, а они уже достают карты. Один из лыжников — красивый, улыбчивый, самоуверенный — щелкает колодой и обращается к стоящей рядом незнакомой девушке: «Хотите, уступлю место?» — «Уступите!» — говорит та. «Если выиграете!» Он тщательно тасует и протягивает ей колоду. Помедлив, она снимает. Он, озорно поглядывая на нее, принимается сдавать карты. «Козыри — буби!» Начинается игра. Парень сыплет прибаутками. Коронная из них: «Трусы в карты не играют!» Это и комплимент, и подначка одновременно. Девушке решительно не везет. Все козыри, как назло, идут к парню. Вскоре к нему перекочевывает и последняя козырная десятка. У девушки же в руках целый веер карт. Со смущенной улыбкой возвращает их парню. Тот подмигивает и спрашивает: «Играем до последнего обморока?» Девушка не отвечает и отводит взгляд. Парень снова тасует карты и, мурлыча что-то, начинает сдавать приятелям.
Поезд сбавляет ход. Кушелевка…
БАБУШКА С СОБАЧКОЙ
Очередь за квасом подвигалась медленно, и я имел достаточно времени приглядеться к своим соседям. За мною, через одного человека, стояла старуха с молоденьким фокстерьером. Она принадлежала к тому довольно распространенному сейчас типу деревенских бабушек, которые, живя в городе, тем не менее сохранили все свои вкусы и пристрастия. Даже в одежде — серовато-унылой, без единого яркого пятнышка — она не позволяла себе ничего лишнего. Зато фоксик, который крутился у ее ног, был настоящий аристократ и денди. Чего стоила его бархатная, обшитая бисером попонка!
До того они не подходили друг другу — бабушка и песик, что я поначалу принял за хозяйку одну солидную разнаряженную даму, стоявшую неподалеку. Вот кто был бы прекрасной парой — эта нарядная дама и этот франтоватый, балованный и капризный фокстерьер.
Но собака была все-таки бабушкина. Непослушная и своенравная, она делала, что ей вздумается: лаяла на прохожих, путалась под ногами, заглядывала в чужие сумки, убегала. Наконец старухе удалось изловчиться и надеть на нее поводок. Но и после этого фоксик еще долго выкручивал руки своей хозяйке. Та же неумело и робко пыталась его приструнить: «Сидеть! Сидеть!» Тщетно. И только когда она пригрозила кончиком поводка: «Я вот тебе!» — он удивленно посмотрел на нее и уселся у самой старухиной ноги, прижался головой.
— Это что за порода? — спросила подошедшая девочка.
— А я уж запамятовала какая, — произнесла старуха и со слезами на глазах добавила, обращаясь к своей нарядной соседке: — Собака-то не моя, а дочки. С неделю как похоронили. От рака желудка померла. Сорока семи лет не было…
— Я представляю, как тяжело вам, — сказала дама.
— И не говори, милая.
— Дети остались?
— Нет у нее никого. Вот одна собачка осталась.
— Тоскует, наверно?
— Как не тосковать? Тоже живая душа…
Фокстерьер, догадавшись, что речь шла о нем, поднял голову и, довольный, замолотил по земле коротеньким хвостом…
КОПЕЕЧКА
Сплошь и рядом в городском транспорте можно наблюдать такую картину: человек опускает в кассу крупную монету, а потом сам собирает себе сдачу. Пятачок от одного, три копейки от другого, копеечку от третьего…
Я стою возле кассового аппарата. В автобус через разные двери входят девочка и старушка. Девочка достает из кармана десять копеек, опускает их. И остается дежурить у кассы, чтобы взять у кого-нибудь пятачок. Подходит старушка. У нее в кулачке зажаты какие-то монеты. Девочка говорит:
— Бабушка, дайте мне ваш пятачок, я бросила десять копеек.
Старушка опасливо косится на девочку и торопливо раскрывает кулачок над кассовым отверстием. Но девочка успевает подставить ладошку, и на нее падают две монетки — три и копеечка. Теперь девочке ясно, почему эта бабушка вела себя так странно: у нее не хватало копеечки на билет. И обе испытывают ужасную неловкость. Старушка — потому, что попалась на мелком жульничестве, девочка — потому, что невольно раскрыла бабушкину тайну.
Я делаю вид, что ничего не заметил. Девочка, оглянувшись, прячет деньги в карман и отходит. Старушке уступают место, и она всю дорогу сидит с пылающими щеками…
СТРОКИ ЖИЗНИ
Я, наверно, никогда не напишу воспоминаний. Там, где воображению нечего делать, я не способен связать и двух слов. Все, что я более или менее правдиво рассказываю, кажется мне настолько нехудожественным, что я готов выть на луну от собственного бессилия. Я бесконечно завидую тем литераторам, которые умеют рассказывать о себе, ничего не сочиняя. Мне этого не дано. Я вру напропалую, даже тогда, когда, пожалуй, и врать-то нет смысла: пиши, как было, и у читателя дух захватит.
И все же соблазн велик. От одной мысли, что не боги горшки обжигают, что не так, вероятно, и сложно писать, ничего не выдумывая, я начинаю испытывать какое-то странное сладостное томление. В эти минуты мне кажется, что надо только сесть за стол, взять бумагу, карандаш и написать первое слово…
Итак, проба пера. Раннее детство.
Рассказ первый
ЛЯГУШКА
Я стою, облокотившись на подоконник, и слежу за лягушкой. Она часами сидит на одном месте и тоже наблюдает за мной. Иногда от тяжелого лягушечьего взгляда мне становится не по себе и я кричу на нее и стучу по оконному стеклу, разделяющему нас. Это не очень пугает ее. Она делает лишь один коротенький прыжок, и все остается по-старому. И неподвижность, и взгляд, и загадочность наших отношений.
Она исчезает так же неожиданно, как появляется. Я осматриваю каждый уголок, каждую вмятину узкого каменного колодца, в которое упирается наше окно. Тщетно. Может быть, она заколдованная царевна из сказки?
Я испуганно озираюсь. Отовсюду на меня надвигаются тени. Огромные, страшные.
Я с плачем забираюсь под кровать. Оттуда меня вытаскивает вернувшаяся с работы мама…
А утром, едва продрав глаза, соскакиваю на холодный пол и бегу к окну. Лягушка уже сидит на своем обычном месте. Как будто никуда и не исчезала…
Рассказ второй
ХОРОШО БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ
Мы живем в деревянном догнивающем флигельке. Даже я в свои четыре года понимаю, что здесь не очень-то разгуляешься. Полдома занимает огромная русская печь. И хотя топят ее каждый день, за ночь на подоконниках нарастают длиннущие сосульки. По утрам я загребаю к себе в постель всю свою одежду и уже там, сидя под теплым одеялом, с немалыми трудностями натягиваю ее на себя. И только потом высовываю наружу нос. Папа и мама считают, что нам повезло с жильем: до этого мы жили в подвале, что самым пагубным образом, как они утверждали, отражалось на моем здоровье. Здесь хоть воздух здоровый.
Воспоминание того же периода. Мы втроем — папа, мама и я — идем в гости к папиному начальнику. Он живет где-то возле городского театра в большом каменном доме. Мы поднимаемся по широкой красивой лестнице на третий этаж. Меня поражает обилие звонков на входной двери, и я тут же прихожу к выводу, что это, наверно, не случайно: чем больше начальник, тем больше звонков. Через всю квартиру тянется длинный коридор, по которому вполне можно носиться на велосипеде или бегать вперегонки. По обе стороны прохода темнеют двери. «Хорошо быть начальником», — думаю я. Память хранит об этом визите еще просторную светлую кухню, где шумит с десяток примусов и над множеством кастрюль поднимается пар, возвещая о скором обеде. «Когда папа станет начальником, — окончательно решаю я, — у нас тоже будет столько примусов и кастрюль».
За свою не очень долгую жизнь отец так и не походил в начальниках, зато коммунальных квартир мы сменили немало…
Рассказ третий
ИГРАЛ ЦАРЕВИЧ В ТЫЧКУ
Вопрос о том, что общего между автором этих строк и царевичем Дмитрием, скорее похож на зачин какого-нибудь непритязательного анекдота. И все же общее есть. Он погиб, а я едва не погиб во время старинной мальчишеской игры в тычку. Ножик, неловко брошенный кем-то из пацанов, вошел мне в спину. Обливаясь кровью, я с трудом добрался до дому. Чтобы замести следы чужого преступления, я закинул окровавленную рубашку на печку и сел читать Жюля Верна. Когда пришли с работы родители, я уже был без сознания. Нетрудно представить, что они пережили. Я же, в отличие от царевича, уже через две недели снова носился с ребятами по улице. И вот тут-то было положено начало одной из самых удивительных историй моей жизни. У хозяев флигелька, в котором мы жили, было пятеро взрослых сыновей и дочерей. После того случая с ножичком они жалели меня и всячески выказывали расположение. Как-то к ним пришли ребята с соседней улицы. Немножко выпили, закусили и потом пошли в сад фотографироваться. И тут им подвернулся я. Захватили с собой и меня. Со временем я позабыл, что сфотографировался с ними. Эта фотокарточка нашла меня спустя тринадцать лет на фронте, в тысячах километрах от родного города. Однажды я познакомился и разговорился с одним старшим сержантом. И вдруг выясняется, что он мой земляк и был в числе тех ребят, которые в тот день приходили в гости к моим хозяевам. И больше того, что у него есть фотокарточка, где вместе с другими запечатлен и я. Он написал домой письмо, и вскоре оттуда прислали снимок. На нем действительно был я — восьмилетний мальчонка, только что оправившийся от своего первого ранения…
Рассказ четвертый
ВЫСТРЕЛ ВО ДВОРЕ
Мы стояли у окна трое: я, мама и… Вернее, стояли я и мама. Младший братишка, которому еще не исполнилось годика, сладко посапывал на ее руках. Маме было что-то около тридцати, и она с не меньшим интересом, чем я, наблюдала за тем, что делалось на дворе. Несколько, взрослых пятнадцатилетних ребят, включая Женю и Витю, сыновей хозяев флигелька, в котором мы жили, устроили под нашими окнами стрелковые соревнования. Пуляли они из мелкокалиберки по доморощенной мишени — торцу огромного бревна, приготовленного для распилки. Стреляли ребята примерно с десяти метров, и поэтому редко когда кто мазал. Правда, в яблочко, подрисованное красным карандашом, попадали тоже не часто. Шум стоял невероятный: как стрелков, так и зрителей, привлеченных выстрелами из соседних дворов, охватил спортивный азарт. Желающих помериться с другими меткостью становилось все больше и больше. И тут появился папа. Он шел от ворот и приветливо махал нам рукой. Мама помахала ему в ответ. Я обрадовался: обычно отец возвращался с работы поздно. Проходя мимо стрелков, он вдруг замедлил шаги и остановился. Проводив взглядом несколько не очень удачных выстрелов, папа попросил у ребят ружье и, подмигнув нам с мамой, прицелился. Раздался выстрел. Звякнуло тоненько стекло. Мама ойкнула и одной рукой (в другой она держала брата, который проснулся и заревел) схватилась за грудь. В окне зияло круглое отверстие со множеством отходящих от него трещин. Такое же круглое пятно, наливавшееся темной кровью прямо на наших глазах, выступило на маминой груди. Бледный как смерть отец бросился домой. Случилось невероятное. Пуля ударила в срез бревна и рикошетом угодила в маму. Отец побежал вызывать «скорую помощь», а мама сидела на табуретке и радостно твердила: «Как хорошо, что в меня… Как хорошо, что в меня…» И в самом деле, возьми пуля правее, и она бы попала в брата, прямо в его мягкую, еще не окостеневшую голову, левее — в меня…
Это была первая пуля, которую она, как ей казалось, отвела от нас. Когда я девятнадцатилетним мальчишкой попал на фронт, я был преисполнен глубочайшей уверенности, что если я и останусь жить, то только благодаря маминой любви, незримо сопровождавшей меня по всем фронтовым дорогам…
Перед боями, в момент величайшей опасности для себя я доставал из кармана письмо мамы, ее первое письмо на фронт, и украдкой целовал его.
Вот это письмо, которое я, как самую дорогую реликвию, берегу по сей день.
«Дорогой сынок!
Милый мой, не знаю, дойдет ли мое письмо к тебе. Но мои мысли и мое сердце полны тобою. Мой страх очень велик за тебя. Умоляю бога, если он есть, чтобы ты и твой отец перенесли все нарастающие опасности спокойно и благополучно, чтобы мы могли встретиться еще с вами. У меня нет больше слов, мое сердце рвется к вам, молюсь день и ночь за вас. Я уверена, что мы встретимся еще и будем вспоминать вместе дни тревоги и страха. Сын мой, целую тебя традиционно три раза, и верь, что везде тебя будет защищать любовь матери! Целую, целую, целую. Мама».
В местах, где я когда-то прикасался губами, бумага со временем пожелтела, и слова, написанные простым карандашом, стерлись. Стерлись на бумаге, но в памяти остались. Я много чего позабыл, но это письмо знаю наизусть…
Рассказ пятый
ИСТОРИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ
Из школьных предметов я больше всего любил историю. Даже то, что ее у нас преподавали люди, начисто лишенные воображения, не повлияло заметно на мое к ней отношение. Мир далекого прошлого, неодолимо влекущий меня к себе своими яркими, буйными и пестрыми красками, существовал как бы сам по себе, независимо от школьной программы, от преподавателей, в поте лица изгонявших из него все, что составляло его душу — поэзию. Дороги, которые вели к нему, проходили по страницам исторических книг, поглощаемых мною в невероятных количествах. До чего прекрасны и упоительны были эти дороги! Короткие и прямые в школьных учебниках, они в моих книгах долго и медленно петляли в веках, раскрывая одну тайну за другой. И их неторопливый ход давал счастливую возможность не спеша осмотреться, подумать, помечтать. Ах, как хорошо болело сердце за чужие и далекие беды! Как живые, проходили передо мной герои и мечтатели, философы и тираны, воители и пророки. И постепенно я, сам того не подозревая, начинал отличать соль истории от ее накипи…
Только когда я подрос, я открыл для себя истину: история, от которой я был без ума, величественный храм, но храм с широко распахнутыми для всех дверями. Каждый, кто хочет, может в него войти. И входят, конечно. Кто с толпой, кто в одиночку. Не знаю, как другие, но я вступил под его высокие своды с волнением, обжигающим душу, вступил чуть ли не после первой прочитанной исторической книги. Уже тогда моему воображению было тесно и неуютно в четырех стенах школьной программы. Душа рвалась в прошлое не меньше, чем в будущее. Я хотел быть не только благодарным зрителем, но и участником, полноправным участником давно прошедших событий. И я был им, и был не раз…
Помню наше окно, подернутое легким морозом. Я один дома. Родители ушли не то в гости, не то в кино. Я вскакиваю на табуретку и кричу, размахивая кулаками: «Долой самодержавие! Долой войну! Хлеба! Хлеба!» Мой крик подхватывают сотни и тысячи голодных и оборванных людей, вышедших на улицы Петрограда, чтобы требовать для себя и своих детей лучшей жизни. Сейчас не могу вспомнить, почему из всех революций я в тот день облюбовал Февральскую. Возможно, что-нибудь прочел… Но вернемся в семнадцатый год. Выполнив свой долг перед рабочим классом, я слезаю с одной табуретки и залезаю на другую. На мои плечи опускается тяжелая горностаевая мантия, а на голову — корона. Ненавидящим взглядом смотрит царь из окна своего дворца на проходящих мимо петроградских работниц. На транспарантах, которые они несут, требования, чтобы он покончил с войной, дал людям хлеба и отрекся от престола. Мне невдомек, что я грубейшим образом искажаю историческую правду. Но откуда я мог знать, что царь в это время находился в Могилеве?.. Впрочем, отрекаться ему и в самом деле не хочется. «Позвать ко мне главного генерала!» — приказывает он, и я мгновенно спускаюсь с табуретки и пулей лечу на кухню. Возвращаюсь оттуда я уже генералом. Печатая шаг и держа руку у козырька, он подходит к царю и говорит: «Ваше величество, вы меня вызывали?» Я снова взбираюсь на табуретку и царским голосом спрашиваю: «Долго будет это продолжаться?» Так говорит мама, когда я капризничаю за едой. «Не долго», — отвечает генерал, прикрывая рот ладошкой: в конце концов, чтобы произнести эти два слова, необязательно слезать с табуретки. «Покажите им кузькину мать!» — Царь, сам того не зная, цитирует нашего директора школы, у которого «кузькина мать» не сходит с языка. На этот раз генералу приходится спуститься на пол. Придерживая рукой шашку из чистого золота, он направляется к солдатам, которые длинной шеренгой стоят вдоль дворца. «По унутренним врагам — огонь!» — командует генерал. Пока он договаривает фразу, я успеваю перебежать к окну, стать по стойке «смирно» и всем своим видом показать, что ни я, ни мои товарищи стрелять в народ не будем. Сейчас в моей груди колотятся сотни, а может быть, и тысячи солдатских сердец. С криками «Ура!» мы присоединяемся к колонне демонстрантов и, подняв ружья, открываем пальбу по дворцу.
Я в последний раз вскакиваю на табурет и, внося существенную поправку в историю, картинно валюсь с него, сраженный солдатской пулей…
Было это, насколько помню, в тридцать первом году. Я только пошел в школу. Играли тогда дети в основном в красных и белых, царя и революционеров. Еще не вышел на экраны «Чапаев» и не совершили своих ошеломляющих полетов Чкалов и его товарищи. Еще не стреляли в Испании и только подбирались к власти немецкие фашисты. Еще молодыми людьми были участники революции и гражданской войны…
Затаив дыхание я слушал обстоятельный и неторопливый рассказ отца о том, как он попал в плен к бело-полякам и чудом избежал расстрела. Теперь я понимаю, что он был очень талантливым рассказчиком. Во всяком случае, все, о чем он мне поведал, я видел ясно, как будто смотрел кинофильм.
Потом я часто исполнял в лицах «папино пленение».
Кем только я не побывал в те годы: Кутузовым и Наполеоном, Робеспьером и Маратом, Ворошиловым и Буденным…
Мне было двадцать девять лет, когда я в последний раз бескорыстно побывал в чужой шкуре. Теперь же если я и превращаюсь в других, то исключительно в интересах дела. Чтобы лучше представить себе, а затем отобразить своих героев. Но это уже особый разговор…
Рассказ шестой
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Я уже не помню, то ли я упросил его взять меня с собой в лес, то ли он сам предложил. Скорее всего, первое: дорога предстояла дальняя, десять километров туда и десять обратно, велосипед же был старенький, со стертыми, вечно спускавшими колесами, на нем не столько разъезжали, сколько клеили резину. Так что лишних тридцать килограммов вряд ли вызвали у Жени большой энтузиазм. Но, как бы то ни было, он прихватил меня с собой. Накрутив на верхнюю часть рамы какую-то тряпку, чтобы не очень резало, он усадил меня перед собой а пулей выехал со двора на улицу. И тут у меня екнуло сердце: я вспомнил, что не отпросился у мамы. А тем временем мы уже неслись по мостовой в сторону кладбища.
Чтобы не мешать Жене, я подобрал ноги и ухватился руками за самую середину руля. Из-за кладбищенских деревьев показались пропеллеры, установленные на могилах летчиков. Мы с ребятами часто бегали сюда. Другие покойники нас не интересовали. Зато погибших летчиков мы всех знали по фамилиям.
Проскочив небольшую, нарядную, залитую солнцем поляну, мы вихрем влетели в лес. Один за другим гасли солнечные лучи. Деревья нехотя расступались перед нами. Со всех сторон надвигалась глубокая и угрюмая тишина. Будь я не один, я бы, наверно, натерпелся страха. Но с Женей я ничего не боялся. Правда, он был старше меня всего на пять лет. Но в свои пятнадцать он считался вполне взрослым человеком. Учился в ФЗО и даже зарабатывал деньги. За то, что он был ко мне добр, я его любил не меньше, а может быть, и больше своих двоюродных братьев и сестер.
Конечно, ехать верхом на раме — удовольствие ниже среднего. Вскоре я отсидел обе ноги, отбил себе, несмотря на подстилку, мягкое место. Я бы не возражал, чтобы спустило какое-нибудь колесо и я бы получил короткую передышку.
Но сегодня Женин велосипед как будто подменили. Чешет как новенький!
Когда мне стало уже совсем невмоготу, на мое счастье, из чащи вынырнула избушка лесника, дальнего хозяйского родственника, к которому у моего приятеля было какое-то поручение родителей.
Пока Женя разговаривал с лесником — стариком с огромной окладистой желтой бородой и живыми темными глазами, — я осторожно разминал ноги.
Потом лесник подозвал меня и угостил нас с Женей сотовым медом. Отрезал он нам его столько, что мы еле управились, далее челюсти устали жевать.
Обратно поехали мы только часа через два, потому что в последнюю минуту решили сбегать по малину, которой здесь росло видимо-невидимо, а добравшись до нее, уже не могли остановиться.
Гроза застала нас в пути. Началась она почти без предупреждения, если не считать нескольких капель, скатившихся на нас, как мы поначалу решили, с листьев. Женя в бешеном темпе крутил педали, а вокруг уже вовсю трещало, гремело, гудело и сверкало. Такого обильного дождя я еще не видел в жизни. Словно Десна стоймя встала. Через мгновение мы промокли до нитки.
Все наши запоздалые попытки укрыться под каким-нибудь деревом, казалось, только еще больше разъяряли дождь. Вода вымывала нас отовсюду, как мышат из норы.
В сущности, нам терять было нечего, и мы под ливнем заторопились домой…
И вдруг я увидел вдалеке шагавшую нам навстречу человеческую фигуру. Расстояние между нами быстро сокращалось. И тут внутри у меня все оборвалось: я узнал папу. Как и мы промокший до нитки, он грозно надвигался на нас, размахивая огромной суковатой палкой.
Велосипед трусливо завилял. Я прижался всем туловищем к рулю и от страха едва не соскользнул с рамы.
Но первым делом разъяренный папа напустился на Женю. Палка то приближалась к носу моего приятеля, то отдалялась.
Память моя не сохранила слов, которыми костил отец Женю. Но помнится — за что… Только подумать, тайком от всех увезти бедного ребенка в лес и там его, еще не оправившегося от воспаления легких, несколько часов держать под проливным дождем! Краски, конечно, были сильно сгущены: чувствовалась рука мамы, которой всегда рисовались всякие страхи.
Женя ни слова не произнес в свое оправдание: всю вину принял на себя.
Так бесславно кончилась моя первая прогулка в глубь леса.
А был это Брянский лес, ставший потом легендарным. В нем многие мои земляки и товарищи по школе сражались с гитлеровцами, уничтожая их сотнями в лесной глухомани. Кто-то мне говорил, что в партизанах были и Женя со стариком лесником…
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
Миллионы людей кружат по улицам и площадям нашего города. Мы можем часами ходить и не встретить ни одного знакомого человека. Редко попадается на глаза лицо, которое почему-либо задержит на себе взгляд. Перед нами, проваливаясь куда-то в бездны памяти, движется одно нескончаемое лицо толпы. Но как ошибочно это впечатление. Мы просто, говоря словами поэта, ленивы и нелюбопытны. Мы даже не представляем, что кругом нас ходят люди, которых видели уже десятки, сотни раз. Если бы наш взгляд мог ставить отметины, видимые только нам и невидимые другим, нам оставалось бы лишь припомнить, где и когда встречал этого человека. Не знаю, как другие, но я всматриваюсь в лица людей с неослабевающим с годами интересом. И запоминаю их так же легко и свободно, как дышу воздухом. Одного немолодого мужчину, примерно моих лет или чуть старше, с крупноватым носом над аккуратно подстриженной щеточкой усов, с серыми, красивыми, почти женскими глазами, я встретил еще пятнадцать лет назад. Он стоял на тротуаре у трамвайной остановки на площади Тургенева. Я переходил дорогу с мамой, держа ее под руку. Я сразу заметил его: у отца была такая же щеточка усов и такой же крупноватый нос. Я сказал маме: «Посмотри, вон мужчина, очень похожий на папу!» Она неодобрительно фыркнула: «Ни капельки!» Что ж, у нее был свой — женский — угол зрения на мужа. Проходя рядом, она даже не посмотрела в сторону незнакомца.
Мама умерла, а я все время продолжал встречать этого человека. Встречал на улицах, в городском транспорте, в театре. Он почти не менялся. Чуть прибавилось седины, морщин. Кто он, я не знаю до сих пор. Может быть, врач, инженер, ученый. Мне кажется, ему и в голову не приходило, что за ним давно и упрямо наблюдают. Сколько раз мы ни попадались друг другу на глаза, он неизменно смотрел сквозь меня. Я был для него частицей толпы — одноликой и безбрежной…
Как мало иногда надо, чтобы человек запомнился. Лет десять назад в электричке метро у самых дверей стояла девушка. Она удержалась у меня в памяти своей странной, очевидно оставшейся еще с детства, привычкой — закусывать щеку. По этой примете я узнавал ее всегда, как бы она ни менялась с годами. Она абсолютно не замечала, что издавна обращает на себя мое внимание, и продолжала закусывать щеку.
Очень интересно, а чем запомнюсь я какому-нибудь внимательному прохожему? Наверно… Но нет, лучше промолчу, слово не воробей…
А У ДВОРНИКА СПРОСИТЬ НЕ РЕШИЛИСЬ
Никто не знал, откуда взялась эта тихая дворняга. Может быть, желая избавиться, ее завезли в Купчино — подальше от дома. А возможно, забрела сама, легкомысленно и самозабвенно гоняясь за волнующими запахами. И здесь заблудилась, натыкаясь своим совершеннейшим обонянием на одинаково и равномерно дышащие смрадом мусорные баки. Уже по одному ее жалкому, затравленному, нездоровому виду можно догадаться, что на нее свалилась какая-то большая и неожиданная беда. Даже если ей удалось чудом вырваться из собачьего ящика, куда ее пытались загнать заматерелые, озверевшие с тоски по водке собакари, она уже никогда не оправится от испуга. Услышав человеческий голос, она, словно в ожидании удара, пригибает голову и смотрит на проходящих мимо людей своими испуганными умными глазами. Похоже, она больше всего боится, чтобы ее не выгнали из теплого подъезда на мороз. Полежав у одного порога, она деликатно переходит к другому. За те несколько дней, что она жила в нашем подъезде, она обошла все пороги. Разумеется, никому неохота разводить грязь у своих дверей, поэтому ее или вообще не кормят, или кормят от случая к случаю. Один раз я видел неподалеку от нее сухую хлебную корку.
Да, я ничем не лучше других. Так же прохожу мимо, так же смущенно отвожу взгляд в сторону. Мне страшно жалко ее, и все же я палец о палец не ударяю, чтобы позаботиться о ней. Хороший, по-настоящему хороший человек, наверно, взял бы ее к себе, накормил, отогрел, подлечил. Ведь и месяца не прошло, как я прочел великолепную повесть Троепольского «Белый Бим Черное ухо». Умилялся, украдкой смахивал слезу. В ту минуту, мне казалось, я был способен приютить всех бездомных и голодных псов. Вероятно, то же испытывали и другие читатели. Я не думаю, чтобы в нашем подъезде нашелся хоть один человек, который бы не читал этой книги или, на худой конец, не видел фильма по ней. И все же ни у кого из ста пятидесяти жильцов не хватило духу проявить доброту на деле. Одних, наверно, пугали заботы, других удерживало нежелание возиться с непородистой собакой, третьих настораживало то, что она, по всей видимости, чем-то больна: когда дворняга поднималась, у нее подгибались задние лапы и плетью висел хвост…
Выходя по своим собачьим делам во двор, она потом долго стояла у дверей, ждала, когда кто-нибудь пустит ее обратно. Нет, никто ее не отталкивал, не пинал, не гнал прочь. Просто большинство делало вид, что не замечают ее. Однажды мой сосед — краснощекий, широкоплечий, коротконогий майор, — возвращаясь с работы, не дал ей прошмыгнуть мимо в подъезд. Сделал он это совершенно беззлобно и добродушно. Широко улыбаясь мне, он сказал псу: «Ну что, дружище, выгнали хозяева?» И собака, словно почувствовав обидный смысл этих простых слов, стремительно забилась под скамейку, стоявшую у самого входа в подъезд. И там, на морозе, в крохотном пространстве между каменной стеной и железными ножками скамейки, пролежала, как мне потом рассказывали, всю ночь. И больше ее никто не видел, а у дворника спросить не решились…
В СИБИРСКОМ ПРИГОРОДНОМ
1
Напротив меня сидят две немолодые женщины в теплых платках. Одна груба и насмешлива. Все время подтрунивает над своей соседкой, которая, торопясь на поезд, едва не попала под машину. «Как же это ты? На середине дороги хрястнулась и лежишь, ногами дрыгаешь?» От души смеется, припоминая, как ее приятельница дрыгала ногами. Но больше всего ей понравилась реакция шофера. Тот в ответ на благодарность упавшей стал орать на обеих: «На кой… мне ваше спасибо! Десять лет получил бы за вас!» Вторая женщина вздыхает: «Бедненький, бедненький, десять лет получил бы из-за меня, старой дуры!»
2
Неподалеку уселась молодая парочка. Оба буряты. Он низкорослый, коренастый, широкоплечий. Полушубок на груди распахнут, видна солдатская гимнастерка. Очевидно, недавно демобилизовался. Она очень миловидна. Живые черные глаза, ямочки на щеках, на пухлых молодых губах все время играет довольная улыбка. На пальце у нее тоненькое девичье серебряное колечко.
Оба сидят, положив рядом на спинку сиденья головы. Без конца о чем-то шепчутся. Вскоре она платком закрыла почти все лицо, оставив открытым один глаз — черный и счастливый. Им она то и дело постреливает в своего спутника…
Ясно, что свадьба у них не за горами.
3
В вагон входит слепой гармонист, которого бережно ведет за руку мальчик лет девяти-десяти.
Помедлив, слепой спрашивает пассажиров:
— Хотите, поиграю?
В основном он исполняет шуточные песни: «Как баба мужика испытывала», «Как девка гуляла с медведем». Содержание первой такое. Упала баба на пол и притворилась мертвой. А мужик стал блины печь, весь маслом и тестом перепачкался. Не выдержала баба, вскочила, стала мужа ругать. Кончилось все тем, что он убил жену и больше не женился.
Кто-то из женщин заметил:
— У вас все бабы виноваты. А вы про мужика спойте, а то все про бабу…
Голос у слепого хриплый, пропитой. Но слушать его приятно. Все от души смеются веселым куплетам. Мне нравится, что его исполнение свободно от занудной слезливости вагонных бродяг центральной России.
Кончив песню, непременно спрашивает:
— Играть дальше или прекратить?
Ушел слепой с мальчиком, так и не протянув ни к кому шапку. Кто-то дал ему рубль. Он молча положил его в карман и ничего не сказал. Всем бы такое достоинство!
4
Откуда-то из середины вагона долетела до меня фраза:
— Ни за что зимой не буду помирать, а только летом! Цветы-цветики кругом!
Я приподнялся: увидел вдалеке веселые старушечьи глаза. Как просто и хорошо сказано о смерти!
НЕБО
Я редко когда ездил в кабине грузовика. Не то чтобы не любил или не хотел, а так уж получалось: машины-то чужие, попутки. Зимой в кузове до костей промерзнешь, минуты считаешь. Зато летом — и наглядишься, и надышишься, и позагораешь. А если еще и попутчики попадутся разговорчивые, то и время пройдет незаметно. К концу поездки чуть ли не друзьями становятся. И переночевать к себе пустят, и накормят, и напоят. Много хороших и занятных людей повстречал я на верхотуре.
Но есть еще одно достоинство у такой езды. Перед тобой как на ладошке все четыре стороны света. Хоть вместе их созерцай, хоть по отдельности, как получится. В кабине же, как в кино, — что покажут на экране, то и смотри.
Мороз в тот день, видно, был не очень силен, раз я мог красотами любоваться. Как ударит градусов под шестьдесят, то уж не до пейзажей. Весь с головой залезешь в доху и дышишь одним кончиком носа, чтобы зря тепло не расходовать.
Выехали мы утром. Только выбрались на окраину села, как справа над избами показалось темное пятнышко. Оно быстро набухало и росло. От него стали отпочковываться еще пятна. Как в сказке, прямо на глазах, в молочно-белом воздухе поднимался лес дымков. И каждый из них был словно подернут инеем. Это отошел от станции и потащил свой длиннущий состав леспромхозовский паровоз.
День только начался, а облака уже нежатся в лучах солнца, подставляя теплу то один бок, то другой. И, немного отогревшись, нехотя уступают место соседям и медленно плывут дальше, за сопки.
Впрочем, сопки здесь всюду: большие и малые, крутые и пологие, утопающие в снегу и зияющие чернотой скал.
Заметил одну странность: если на машине подниматься в гору, а затем, быстро съехав с нее, тотчас же взлететь на другую, то первая из них начинает расти и надвигаться на тебя…
К обеду погода переменилась. Теперь облака плывут совсем низко. У них темные, мрачные морды. Они словно что-то высматривают на земле. Прямо-таки соглядатаи небес.
А на земле за ними покорно следуют такие же темные и мрачные тени.
Проходит около двух часов. Мы съезжаем в долину и видим впереди две высокие сопки. Над ними темнеют и горбатятся облака. Издали они похожи на еще один ярус гор. А между кажущимся и настоящим хребтами тянется светлая и чистая полоска неба. Мне видится там спящее горное озеро, в котором догорает закат…
Вскоре откуда-то из-за леса осторожно всплывает первая звездочка. Сопки, которые еще какое-то время вырисовываются на фоне неба, постепенно сливаются с сумерками.
И вдруг появляется огромная луна. Она смахивает — да простят мне читатели — на куриное яйцо, которое просвечивает невидимой электрической лампочкой недоверчивая хозяйка.
Затем я замечаю, что к луне подкрадывается облако, похожее на человека. Через несколько минут это странное человекоподобное существо с интересом заглядывает в совершенно круглый лунный иллюминатор.
Временами луна, скользящая в облаках, напоминает огромный, загадочно подмигивающий глаз…
Я подремываю, укрывшись дохой. Иногда я выглядываю из-под нее и с радостью отмечаю приближение рассвета. Еще недавно было совсем темно, а уже сейчас приоткрылось и глянуло с востока своим сонным глазом предутреннее небо: ох как не хочется вставать, а надо…
А можно и так сказать: приподняло свое огромное темное веко ночное небо. Приподняло и глянуло на землю искристым солнечным взглядом. Глянуло и удивилось: «Красотища-то какая! Теперь уж не уснешь!» И все выше и выше поднимается тяжелое небесное веко.
С добрым утром, сибиряки!
ВООБРАЖЕНИЕ
Человек шел по лесу. И вдруг на какое-то мгновение он вообразил себя великаном: травинки — деревья, муравейники — города и села, ручейки — реки. И всюду неведомая
напряженная жизнь.
Теперь человек до рези в глазах всматривался в разом отдалившуюся от него на сотни метров землю. И у него неожиданно закружилась голова. Он перевел дыхание и уже старался не смотреть вниз. Но это нисколько не помогало. Продолжая идти, он с ужасом думал о том, что с каждым шагом — осторожным ли, неосторожным, все равно — обрывались чьи-то существования…
Счастливы те, кто умеет умерять свое воображение. У меня это не получается…
Примечания
1
Там нет немецких солдат. Они в Куммерсдорфе.
(обратно)
2
Да, да!
(обратно)
3
Нет, нет. Там Куммерсдорф!
(обратно)
4
Эй! Иди сюда!
(обратно)
5
Нехорошо.
(обратно)
6
Живо!.. Живо!..
(обратно)
7
Нет, нет!
(обратно)
8
Дерьмо!
(обратно)
9
Вперед!.. Вперед!..
(обратно)
10
Да! Да!
(обратно)
11
Вперед!
(обратно)
12
Живо!.. Живо!.. Проклятые собаки!.. Живо!
(обратно)
13
Молчите вы, свиньи!.. Живо!.. Налево!.. Направо!
(обратно)
14
Живо!.. Живо!.. Черт побери!
(обратно)
15
Наверх!
(обратно)
16
Прочь, русские собаки!..
(обратно)
17
Бегом, бегом!
(обратно)
18
Стой!
(обратно)
19
Понял! Ну как, поедем?
(обратно)
20
Ну что ты там застрял?
(обратно)
21
А не влетит за это?
(обратно)
22
А плевал я на это! Садитесь!
(обратно)
23
Ганс, вы слышите меня?
(обратно)
24
Прочь!
(обратно)
25
Вы что-то сказали?
(обратно)
26
Где дорога на Кайзерсвальдау?
(обратно)
Оглавление
ПОВЕСТИ
ТОЛЬКО ПЯТЬ ДНЕЙ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ ВТОРОЙ
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
ЗАБЫТАЯ ДОРОГА
БАЛЛАДА О ТЫЛОВИКАХ
БЫЛА У СОЛДАТА ТАЙНА
РАССКАЗЫ
ПИЛОТКА
В ЧАС, КОГДА ОСТЫВАЮТ ПЕЧИ
И НЕТ ЭТОМУ КОНЦА
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РАНЕНОМ
ОДНАЖДЫ В ПОЛЕТЕ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ
МОЙ ЧЕРТОВ ЗАМ
Почти детектив
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ
СОЛОВЕЙ И ФЛЕЙТА
ПРЕЛЮД ШОПЕНА
ПОДАРОК
ХОББИ
ПОЧЕРК ЧЕЛОВЕКА
БЕДНЫЕ ТОПОЛЯ
О ЧЕМ ДУМАЮТ ПТИЦЫ
КЛЯНУСЬ, ЭТО — ПРАВДА!
ЖИВАЯ ЛОШАДЬ
КАК МНОГО МЫ ТЕРЯЕМ
ГЛАВНЫЙ МАЛЬЧИК
ПЯТЬ МИНУТ
БАБУШКА С СОБАЧКОЙ
КОПЕЕЧКА
СТРОКИ ЖИЗНИ
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ
А У ДВОРНИКА СПРОСИТЬ НЕ РЕШИЛИСЬ
В СИБИРСКОМ ПРИГОРОДНОМ
НЕБО
ВООБРАЖЕНИЕ
*** Примечания ***