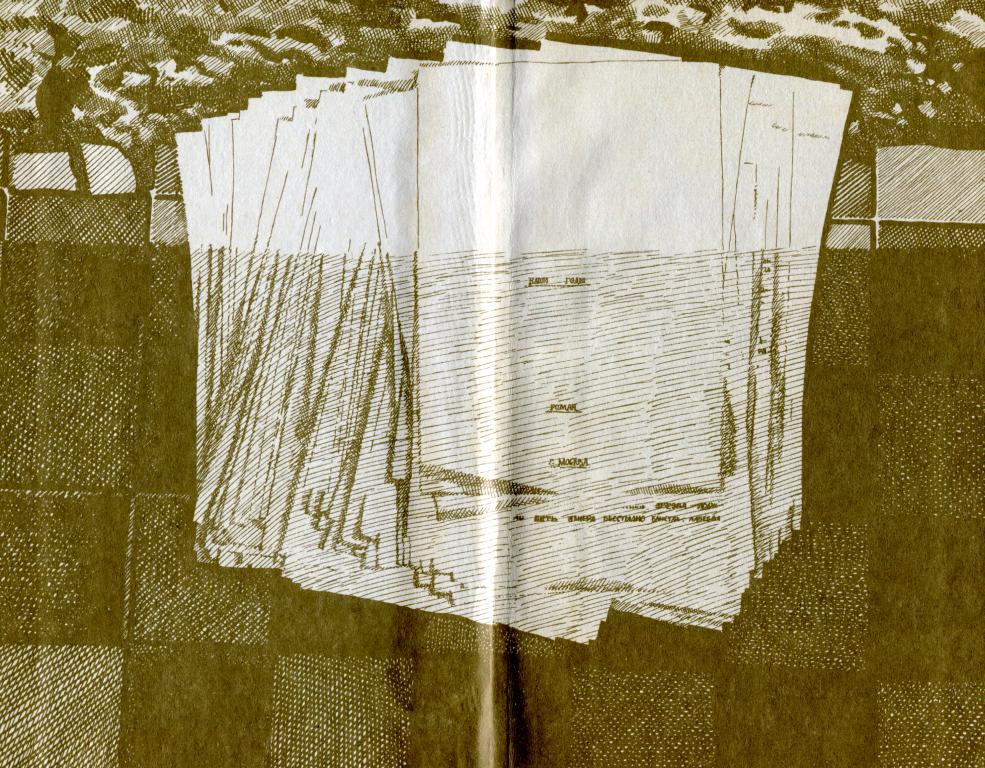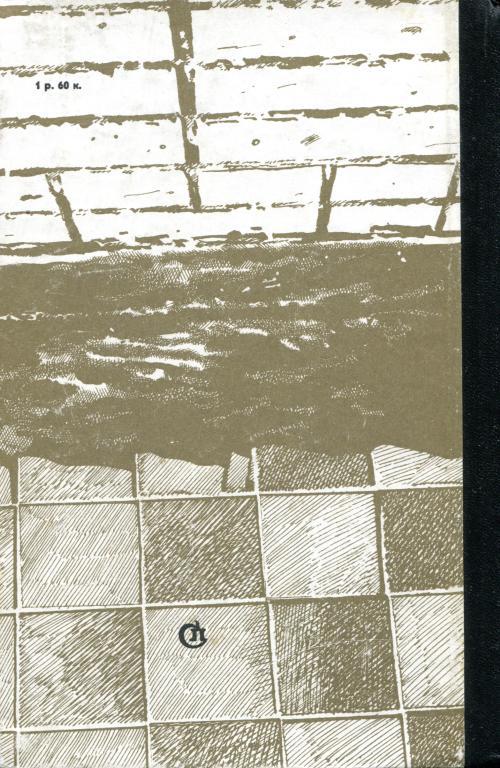Наши годы
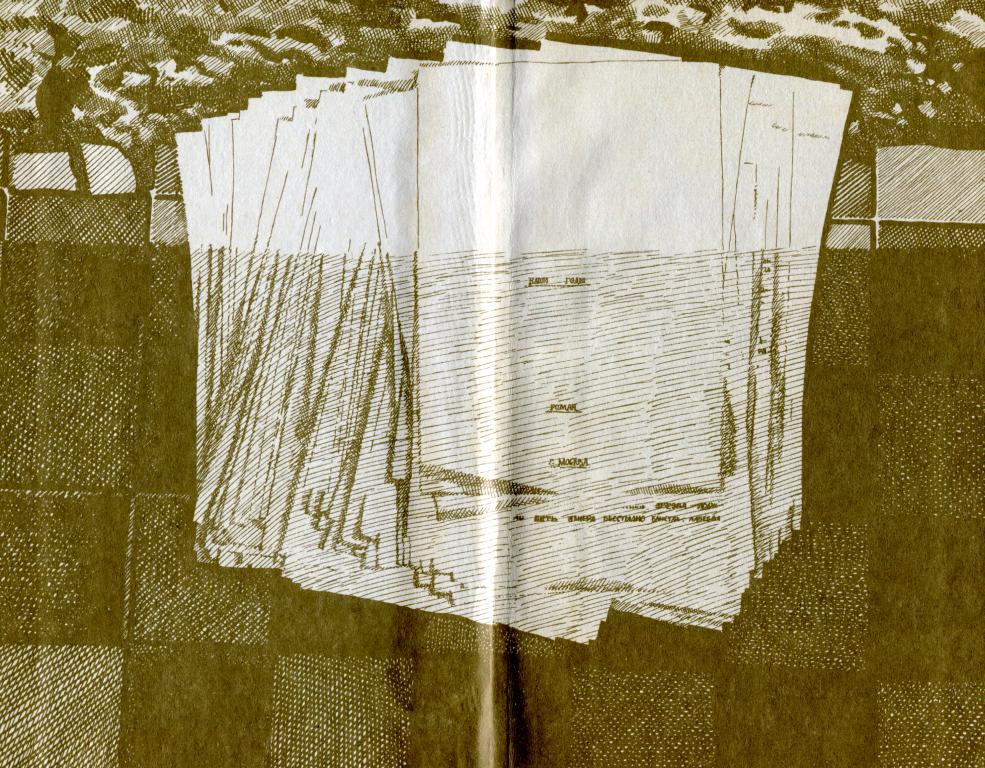


Часть первая. КРУГ
МОСКВА
Ночью мне приснился великан. Он тоже спал, и будто бы мне, существующему во сне, необходимо было его разбудить. На руке у великана синела блатная наколка — изречение на латыни, русский эквивалент которого «Все едино суть». Это утверждение подвигало в средние века алхимиков на поиски философского камня и эликсира юности. Все едино суть, следовательно, свинец при определенном на него воздействии может превратиться в золото. Следовательно, освобожденная энергия атомов может смести с лица земли все живое, и нет в этом ничего противоестественного, ибо все едино суть. Суть — гнусный миф о птице Феникс, об извечном стремлении человечества обновиться через пепел, а попутно превратить свинец в золото, дабы пожить в неправедном богатстве.
Поднимать великана явились бог и таракан. Лик господа остался в тайне, а вот нахальный таракан развил бурную деятельность. В этом было что-то противоестественное, непристойное, ведь великан не был мертв. Господь и таракан сосуществовали во «Все едино суть», но даже во сне я не мог с этим примириться. В результате они исчезли, я остался с великаном один. Спящему не дано пробуждать спящего. Через мгновение я проснулся, чтобы вновь и вновь входить в этот сон, как в реку, которая, в отличие от классической, всякий раз оставалась неизменной.
Не стоит думать о вечном, когда ложишься спать. Человек устраивается в кровати параллельно земле, следовательно, и мысли его летят параллельно действительности, уносятся в бесконечность, в несуществующий мир, где человек все может, все решает. Душа облетает землю быстрее, нежели секундная стрелка совершает свой круг. Днем подобный полет не дарован человеку. Ночные мысли неприменимы к действительности. Утром о них не хочется вспоминать.
Чтобы вовремя заснуть и хорошенько выспаться, лучше всего вообще ни о чем не думать или же думать о самом что ни на есть земном: погоде, давлении, отношениях с девушками. Иначе — бессмысленные полеты вокруг земли, сны-вещуны, в которые возвращаешься как в реку. А утром — тяжелая, дурная голова, мысли — обратно противоположные ночным.
Все лето мне удавалось не думать о вечном, и я просыпался в шесть, как бы поздно ни ложился. Будильник не требовался. Даже в командировках, в незнакомых городах, где не было никакой надобности просыпаться так рано, все равно просыпался в шесть и бродил по сонным светлым улицам, провожаемый подозрительными взглядами дворников.
«Кто рано встает, тому бог подает», — объяснил однажды, уходя чуть свет, гостиничному швейцару, «папаше», охраняющему стеклянные двери, промышляющему ночной винной торговлей и еще кое-чем.
«Подожди, родной… — склонный к философии, как большинство жителей Востока, папаша поведал притчу: — Рано утром к сыну в комнату заходит отец. Как, восклицает, ты еще спишь, ленивый? Я встал вместе с солнцем, вышел на улицу, взгляни, что я нашел! Показывает набитый деньгами кошелек. Послушай, отец, ответил ленивый сын, согласись, тот, кто потерял кошелек, встал еще раньше! И повернулся на другой бок».
Осенью я уподобился ленивому сыну, который ничего не нашел, однако и не потерял. Мудрые притчи существуют на все случаи жизни. Странная летняя бодрость канула. Земные мысли не помогали заснуть. Все начиналось с того, что я мысленно давал клятву проснуться в восемь утра, сделать зарядку, потом нарядиться в спортивный костюм и — бегом по асфальту, усыпанному желтыми листьями, — до ближайшего метро «Университет». Гоп-гоп! Коварная бессонница заставляла меня, лежащего в кровати, живо воображать прелесть грядущего утреннего бега. Прелесть, которую. — побеги я в самом деле — никогда бы не почувствовал за тяжким дыханием и коликами в боку.
Не ко времени был этот спортивный азарт. Казалось, в ногах дрожат пружинки. Хотелось подняться и бежать к метро немедленно. Нисходила пугающая ночная ясность, когда сама мысль о сне кажется дикой. Грандиозные замыслы романов, повестей, рассказов и даже очерков громоздились, как скалы во время землетрясения. «Что, если, — хватался я за наиболее воплотимый журналистский замысел, — свести в беседе самого молодого в стране директора завода и, допустим, столетнего, если только такой сыщется, математика — активнейшего долгожителя. Пусть они поспорят о смысле жизни, о работе. Молодой директор расскажет, как он работает, а старикан математик — как надо перестроить жизнь для того, чтобы трудиться до ста лет. И тогда узнаем, надолго ли хватит нашего директора! Работать, чтобы жить! Жить, чтобы работать! — мгновенно придумывался пошлейший заголовок. В ночной горячке, однако, я не замечал этого. Словно древний философ мог думать о двух предметах сразу. Например, о том, что есть мироздание, и об этимологии слов. — Мироздание, — примирял великое и малое, господа и таракана, — значит, здание мира. Медведь — значит ведать, где мед. Подушка — значит класть что-то под ушко. Подушка, подушка…» — вжимался в нее головой, тщетно пытаясь остановить хаос мыслей.
Засыпал, когда небо начинало бледнеть и яркая звезда, должно быть, Венера блистала, насылая любовные сновидения.
Утром же проснуться было невозможно, хотя будильник звенел и прыгал на столе, солнце светило в окно (я специально не задвигал занавески), на подоконнике гремели жестью голуби, а старуха с нижнего балкона горестно восклицала вслед убегающему внуку: «Марик! Ты опять оставил дома скрипку!»
Был конец сентября. На прудах и реках плавали заплаты из красных и желтых листьев. Над Москвой-рекой, точно чугунные ядра, летали тяжелые сытые утки. Осенние закаты сжигали город, как библейскую Гоморру. Синие ситцевые дымы, как паруса, надулись над парками. Дворники скребли метлами по сухому асфальту. По утрам тончайший лед образовывался на прозрачных черных лужах.
Может, я спал, может, грезил наяву, когда считал до десяти, до ста, до двухсот, лишь бы только окончательно не проснуться. «Сосчитаю до пяти и встану!» — врал себе и снова приникал к подушке.
Несказанно сладкими были утренние видения, совсем как клубника, которая когда-то росла на даче у Ирочки Вельяминовой. Рядом стояли наши деревянные дощатые дома, одна земля была под грядками, но какая сладкая крупная клубника росла на участке у Ирочки и какая ничтожнейшая у нас. Наша клубника вырождалась, Ирочкина же стремилась вверх по лестнице эволюции. Тогда я не задумывался, каких трудов стоит вырастить такую клубнику. Мне виделась Ирочка — стриженая, худая, с обгоревшими на солнце плечами, какой я впервые увидел ее сквозь выпавшую доску в заборе. Она собирала в миску клубнику, морщилась, когда ягода оказывалась перезрелой. Казалось, Ирочке не двадцать два, как мне было известно, а от силы четырнадцать лет.
— Девочка! Где твой пионерский галстук? — приблизился я к забору.
Мне было семнадцать. Неделю назад я получил аттестат об окончании средней школы. Три дня, как переехал из Ленинграда в Москву, где у меня не было еще ни друзей, ни знакомых. В первую московскую ночь я плакал от тоски, кусал зубами подушку, изнывая от внезапного несправедливого одиночества. Здравый смысл нашептывал, что со временем все наладится, но прежние дружбы и привязанности болели во мне. Новых же пока не было. Следовательно, не утолялась боль. Утром, бледный, с синими полукружьями вокруг глаз, я бродил по дачной лужайке, подтягивался на турнике, баловался с гантелями. Ирочкино явление на клубничных грядках чрезвычайно меня взволновало. Начиналась новая жизнь.
— Сразу на «ты»… — Ирочка повернулась, и я увидел, что губы у нее перепачканы клубникой и что улыбка по ним скользит какая-то неопределенная, в то время как Ирочкины глаза — светлые и холодные — смотрят на меня строго и оценивающе. Я выпятил грудь, заиграл мускулатурой. — Здравствуй, обломок разбитой семьи, — сказала Ирочка.
— Чего? — опешил я.
— Мы соседствуем дачами уже десять лет, — ответила Ирочка, — я все про тебя знаю, хоть и вижу первый раз.
— Я не обломок! Мне уже… Я… Я давно сам по себе…
Ирочкины глаза были весами. Каждое мое слово, каждый жест — легкой или тяжелой гирькой. В основном гирьки оказывались легкими, как одуванчики. Я понял это, сразу стало тоскливо, как прежде.
— Чего ты все время стучишь на машинке? — спросила Ирочка. — Сочиняешь роман?
Это было сокровенное. Об этом я ни с кем на свете не говорил.
— Цитируешь Гамсуна, — сказал Ирочке. — Это у него в каждом романе бездарный студент сочиняет на каникулах роман. Может, я просто учусь печатать на машинке?
— Подойди-ка поближе, — Ирочка приблизилась к забору. Тень от панамки делала ее лицо загадочным. Темные губы казались непропорционально большими на худеньком матовом лице. — Поближе… — загадочно прошептала Ирочка, раздвигая заборные доски.
Затаив дыхание, я нагнулся. Ближе было некуда.
Ирочка сильно дернула меня за ухо.
— Вот! Чтоб не хамил!
Я отскочил от забора.
— Иди сюда! — снова позвала Ирочка.
— Я хамлю, потому что ты хамишь.
— Иди-иди, не бойся, — засмеялась Ирочка. — Возьми, — протянула ягоду. — И совет тебе на будущее: ответное хамство неэффективно хотя бы потому, что ожидаемо.
Я жевал сладкую ягоду, Ирочка гладила меня по голове.
— Ну… Так чего ты там стучишь?
— Тебе-то что до этого? — ответное хамство затянуло меня, как трясина.
— Ты прав, — не обиделась Ирочка. — Действительно, какое мне дело? Ладно, еще увидимся.
…Потом я услышал сквозь сон, как застучали по лестнице каблуки соседки Антонины. Этой осенью она вторично провалилась в институт иностранных языков и работала машинисткой в НИИ. Антонина иногда перепечатывала мои труды, возвращала их с улыбкой, которую я был склонен считать издевательской. «Сочтемся, Петя, славою!» — говорила всякий раз, но тем не менее рассчитывались мы рублями. Впрочем, к деньгам Антонина была равнодушна.
Стук каблуков затих, я вспомнил, что завтра надо лететь прочь от осенней московской благодати в дальнюю командировку, в столицу Чукотки Анадырь. Зеленый хвостатый самолетный билет уже несколько дней лежал в столе, вызывая разные чувства.
Там другая осень. Трава в тундре костенеет от инея, ветер свищет средь белых сопок. Закаты узкие, как лезвия. Близится осенний забой оленей — кораль. Песцы еще не сбросили серые грязные шкурки, шныряют по окраинам поселков, роются в помойках.
В каменном Анадыре есть дома над обрывом. Внизу Берингово море. У кого туда выходят окна, видят волны до горизонта, чаек, корабли, дельфинов, нерп, серые гибкие тела китов. После университета я работал год в местной газете. У меня была комната в таком вот доме — над обрывом. Отполированные куски мамонтовых бивней — мал мала меньше — стояли на этажерке. Стекла трещали от ветра, как орехи.
Уж там-то, в Анадыре, я буду просыпаться чуть свет. Хотя бы потому, что разница во времени с Москвой десять часов. Хорошо стоять над обрывом, по-наполеоновски скрестив руки на груди! Праздное ожидание порождает внешнюю значительность. Столовые в Анадыре открываются в восемь.
Все это было знакомо.
Все это было пережито.
Все это было как сон про господа и таракана, как река, которая вопреки всем законам остается неизменной.
ПРО ИРОЧКУ
Сновидения мистически влияют на действительность. В прихожей зазвонил телефон. Я уже давно не бегал сломя голову на звонки, не переживал, если вместо голоса заставал в трубке равнодушный гудок. Мимо окон пронеслась стая голубей, следом стая ворон. Осенью страннический инстинкт просыпается даже в оседлых городских птицах. Воробьи, голуби, вороны — чирикают, бубнят, каркают, машут крыльями, перелетают с дерева на дерево, словно и впрямь собираются в далекие страны. Вскоре, однако, ложные эти сообщества распадаются. Птицы, коим положено улетать — улетают, коим положено оставаться — остаются.
— Петя, привет! — сняв трубку, услышал голос Ирочки. — Не разбудила?
— Вообще-то нет. Видишь ли, ты мне снилась. Так что все нормально.
— Вот как, снилась?
Пауза.
Я почувствовал, что слегка смутил Ирочку сентиментальным сообщением. Теперь ей, бедненькой, придется перестраиваться.
— Надеюсь, это был приличный сон?
— Да. Как и все, что является из подсознания.
— Какой сегодня день? — спросила Ирочка. Заглядывать в темные глубины моего подсознания она явно не желала.
— Воскресенье, а, собственно, что?
— Воскресенье, — вздохнула Ирочка, — до зарплаты неделя. Петя, дружочек, ты меня не выручишь? Пятьдесят рулей до пятницы, а?
Все-таки я ее недооценивал!
— Я завтра улетаю в командировку.
— Да-да, в командировку… — любезно пропела Ирочка.
Какую рожу, должно быть, она состроила. Занятная была у нее привычка — говорить ангельским голоском и одновременно строить рожи на своем конце провода, выражать истинное отношение к словам собеседника.
— Но вдруг, — подбодрил я ее, — внезапное наследство, клад в сортире, или перевод из Йошкар-Олы. Я сразу дам знать.
— Спасибо, Петя, ты всегда был настоящим другом. Клад в сортире — дело верное! — Она, должно быть, морщила лоб, перелистывая записную книжку: кому следующему звонить? Была у нее еще одна занятная привычка — шевелить губами, как бы помогая мыслям. Ирочка и ручкой водила по бумаге непременно высунув кончик языка. — Счастливо!
Меня когда-то изумляла Ирочкина способность мгновенно становиться чужой. В этом смысле она была женщиной без прошлого. Она сама о себе говорила: «Я женщина, у которой всегда все впереди». Сегодняшняя Ирочка не то чтобы была для меня тайной. Просто я не представлял, не ведал, как она живет.
«А когда, собственно, ведал?» — вдруг посетила неожиданная мысль. Припомнились случайные строчки из прочно забытого стихотворения: «Что вспомнил ты в саду осеннем — лето? Зачем? Что минуло, не возвратишь — ни блеск очей, ни суету теней, ни мокрую листву нагих воспоминаний».
Именно давнее лето я и вспомнил, когда забирался на чердак, смотрел в круглое, похожее на иллюминатор, окошко, как Ирочка копошится в огороде, рыхлит землю под кустами и цветами. Она всегда была труженицей, но в то лето меня волновали другие ее достоинства. Как я ликовал, когда замечал, что она бросает взгляды в сторону нашего забора! В те дни в каждой Ирочкиной фразе, в каждом жесте, движении я видел тайну, которая и казалась совершенством.
В то лето над Расторгуевом бушевали грозы, как перед великим потопом. После каждого удара грома хотелось падать на колени перед Ирочкой. Яркая молния, как фотовспышка, освещала Ирочкину веранду, стекла, по которым бежала вода, трясущиеся яблони в саду, ржавую плюющуюся бочку на крыльце, где частенько тонули несчастные птицы. А потом снова все проваливалось в ночь — шум дождя, капельная дробь в стекло, белое Ирочкино лицо, черные губы. Почему даже сейчас я ощущаю вкус клубники, когда думаю об Ирочке?
Хорошее было лето. В перерывах между грозами воздух изумлял ночной прозрачностью. Я одурел от счастья, встречаясь с Ирочкой, нес околесицу. Стихотворение написал, где были строчки: «Люблю тебя, как ветер, что сбивает с ног и тащит по земле лицом о камни». Кажется, хотел дать прочесть Ирочке, но случайно оставил под яблоней на скамейке. Прошел дождь, листок размок, расползся.
Асфальтовые дорожки дачного поселка были усыпаны белыми лепестками. Я жил в жасминовом удушье. Нервничал, переживал, когда Ирочка задерживалась на работе, приезжала поздно.
Каждый вечер поджидал ее на перроне. Было темно, только в подъезжающих электричках горели окна, желтые квадраты света ложились на перрон. Ирочка бесшумно шла, наступая на желтые квадраты, я курил под перекидным мостом, руки дрожали, сердце билось. Ибо уже было доверено Ирочке сокровенное, уже прочитала она рассказ, где описывалось, как девушка не пришла ко мне на свидание, как я печально и одиноко иду по Невскому, загребая ботинками лужи.
— Детский лепет, — поморщилась Ирочка. — Ты не представляешь себе, как это плохо, а главное — пошло.
Я угрюмо забрал листочки.
— Пиши-ка лучше заметки, — посоветовала Ирочка. — Сунься на факультет журналистики. Вдруг проскочишь? Дурачкам иногда везет. Займись чем-нибудь, это лучше, чем страдать, что никто не приходит на свидание. Тем более… Сейчас-то тебе чего страдать, а?
Она позволяла себе такой тон, потому что, во-первых, была на пять лет старше, во-вторых, давно работала в журнале, публиковала там уже не заметки, а статьи и очерки. А мне недавно исполнилось семнадцать, я был никем и ничем, да и не сказать чтобы очень уж к чему-то стремился. Этого-то Ирочка в людях, особенно в мужчинах, не переносила. Но я понял это позже.
— Так! — говорила она, изучив очередную заметку.
Я трепетал, словно воробей в лапах кошки. Не было пока надо мной иного судии, кроме Ирочки.
…Я выходил из-под перекидного моста, Ирочка ласково брала меня под руку. Мы долго шли по поселку, потом по лесу, сворачивали на дачную улицу, усыпанную белыми лепестками. Целовались всегда под одной и той же веткой, висящей над забором. От нее до нашей калитки было шестьдесят три шага.
Днем по заданию молодежной газеты я бегал по Москве, собирал материалы для заметок. Вернувшись, сразу же садился писать. Все путалось в башке: обрывки недавних разговоров, странные впечатления от редакции, туманные мысли о будущем, недоступный, как Эверест, факультет журналистики, куда надо идти непременно с рекомендацией от газеты и с ворохом опубликованных заметок. Словно в бреду, сочинялись проклятые заметки. Не знал я: хорошие они или плохие. А раз не знал, значит, плохие. Впрочем, я это понял позже.
Ирочка переписывала их заново. Ей доставляло удовольствие учить меня, высмеивать за беспомощность и бездарность. Это была новая для нее игра. Она зачитывала вслух предложение, делала паузу. Будь у меня при себе пистолет, я бы, наверное, застрелился в первую же из пауз.
Вечерами мы сидели у Ирочки в комнате, ночные бабочки мягко роились вокруг сиреневого абажура. Ирочка, склонив голову, высунув кончик языка, старательно писала свои профессиональные строчки поверх моих дилетантских. Я сидел рядом, мучился от стыда и думал: неужели сегодня опять осмелюсь поцеловать эту девушку? Нет, позволит ли она мне осмелиться? Мне одновременно хотелось уйти и остаться. Мир в присутствии Ирочки становился неуютным, почти враждебным. Однако другой мне был не нужен. У меня не было свободы, все решала, всем командовала Ирочка. Но исчезни она, я бы сделался ненужным сам себе. Не было у меня жизни без Ирочки.
Рано утром под радостный щебет птиц я перепечатывал заметки набело. Только это были уже не мои, а ее заметки. Мне хотелось их разорвать, но изредка всплывала на бумаге собственная строчка. Потом заметки появлялись в газете, под ними стояла моя фамилия. Ирочка удовлетворенно рассматривала газету: «Петя, ты настоящий газетный волк!»
Я до сих пор не могу забыть фотографию к одной из заметок: девочка-младшеклассница пишет что-то в тетрадь, совсем как Ирочка склонив голову набок. «Ах, если бы все мальчишки стали девчонками, — такую подпись сделала Ирочка, — какими аккуратными были бы тогда тетрадки!» — «И заметки!» — чуть не заорал я.
Вскоре редактор газеты подписал мне рекомендацию и направление на факультет журналистики. «Не знаю, — сказал, — как у тебя все сложится, но рекомендацию себе сам заработал. Даже никто ни разу не звонил, странно».
В этот же день произошло другое событие. Ирочка уехала в командировку в город Нальчик. Я робко целовал ее на перроне. Ирочка смотрела на меня совершенно спокойно: как на брата, на товарища по работе, может даже, как на мужа. Один раз она зевнула.
— Когда ты вернешься? — спросил я.
— Через две недели, — ответила Ирочка. — Хочешь, напишу письмо? Вечером в гостинице делать нечего, обязательно напишу!
— Это в Нальчике-то? — усомнился я. — Вечером, в гостинице?
— Такой юный и такой испорченный, — усмехнулась Ирочка. — Сдавай экзамены, Петя. Зря, что ли, писали заметки? Мне почему-то кажется, ты поступишь… — Ирочка пристально смотрела на меня, однако весы в ее глазах не колебнулись. Я по-прежнему был легче пуха. — А может, и не поступишь, — вздохнула Ирочка.
— Да какое это сейчас имеет значение? — я прижал ее к себе.
— А что сейчас имеет значение? — удивленно спросила Ирочка.
— Для меня?! Ты! Одна ты! Я…
— Ладно-ладно! — Ирочка приложила к моим устам холодный как лед палец. — Пойду в купе, минута осталась.
На ней была желтая звездная косынка. Поезд тронулся. Я побежал за поездом. Усатый джигит любезно помог Ирочке открыть окно. Ирочка лениво помахала мне желтой косынкой. Она так и не написала.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В кухне на холодильнике я обнаружил записку и белый конверт. «Петя, милый, — было сказано в записке. — Ты опять уедешь в командировку и не сможешь отметить день рождения как полагается… Через неделю тебе исполнится двадцать шесть лет, а ты почему-то не женишься… Ты бы женился, а, Петя? Только детей сразу не заводи… Поздравляю с днем рождения, мама». В конверте лежало тридцать рублей.
Три многоточия в такой коротенькой записке. Не в почерке, видимо, зашифрован характер человека, но в знаках препинания.
Тихо было в кухне. Кукушка выскочила из часов, прокуковала девять раз. Потом сунулась обратно, но двери в часовую избушку ходили туго, кукушка застряла.
Последнее время меня частенько охватывал страх, что вот, скоро двадцать шесть, а до сих пор ни кола ни двора, живу с матерью, чужой в ее новой семье, все, что написано, — лежит без движения, печатаются лишь обязательные материалы, где так много праздных слов.
Во время бессонницы пространство комнаты иногда казалось замкнутым, непреодолимым. Все, о чем бы я ни задумался, немедленно возвращалось ко мне в виде сомнения. То был отвратительный пинг-понг. Безвольный, неуверенный, я был противен сам себе.
Эта временами подчиняющая меня, временами отступающая неуверенность во многом определяла мою жизнь. Я не любил праздновать дни рождения, быть в центре внимания хоть какой, но компании. Однако и в этом не был последователен. Стоило посильнее надавить — праздновал как миленький.
Довольно лихо отмечал шестнадцатилетие. Я учился тогда в девятом классе, по вечерам сочинял странную-престранную повесть про тринадцатилетнюю девочку, к которой является ее ровесница — голубая марсианка Матилла. Девочка никому, естественно, не говорит про голубую подругу. Окружающим кажется, девочка не в себе. Мать знакомится с психиатром, под видом знакомого приводит его домой. Девочка влюбляется в симпатичного молодого доктора, но ночью к ней является Матилла, шепчет: «Не смей его любить! Он любовник твоей матери! Твоя мать изменяет отцу». Девочка просыпается в слезах. Она не знает, что делать. И я не знал, как вывести повесть из фрейдистского тупика. Так она и оборвалась на самом захватывающем месте. Я жил тогда в Ленинграде в длинном белом доме на Московском проспекте. Отец у меня — художник, самая большая, высокая комната в квартире — мастерская. Здесь помещается невообразимо длинный стол. За него усаживается весь класс. Мать уносит пустые тарелки, приносит полные. Отсутствием аппетита никто не страдает. Как, впрочем, и излишней вежливостью. Мать челночит между кухней и столом одна. Она недовольна, что никто не помогает, губы поджаты. Отец занимает красивых надменных одноклассниц глупыми разговорами: «Я так хотел, чтобы Петька научился рисовать, но через месяц его выгнали из художественного кружка. Хорошо бы хоть из школы не выгнали!» Те слушают снисходительно, не удостаивая ответом. Потом родители уходят в кино, начинаются танцы. Исступленные, они восполняют природную стеснительность и робость. В танце все одинаковы, а следовательно, равны. Пол визжит под ногами, как живой, стекла в окнах дрожат от музыки, длинные волосы на плечах у девушек шевелятся как змеи. Вот какие подросли у нас Медузы-Горгоны! Мы каменели под их огненно-ледяными взглядами. Блистала Надюша Стрельникова. Хоть и танцевала как все, зато заканчивала танец не как все. Замирала, как подстреленная, резко поворачивала голову, и лавина темных волос перелетала через плечо — и словно чалма закручивалась вокруг Надюшиной головы. В тот предпоследний ленинградский день рождения я неловко обнимал Надюшу на кухне. Горели свечи. Язычки отражались в черном окне, а на другой стороне улицы вдоль лиловых витрин универмага бежал неоновый кант, вспыхивала и гасла надпись: «К вашим услугам большой выбор товаров». Мы, помнится, поцеловались. Недоброе предчувствие, однако, мешало моему счастью. Я снова и снова целовал Надюшу, а думал почему-то об отце с матерью. Все, что говорил один, для другого заранее было неприемлемо. Чем сильнее я о них задумывался, тем крепче прижимал к себе Надюшу. Тогда я впервые подумал: как легко с девушкой, когда не только не любишь ее, но и не мучаешься тем, что не любишь, когда на душе совсем другое.
Припомнился и еще один день рождения. Мне исполнилось девятнадцать, я перешел на второй курс. Не столько был озабочен, как бы научиться писать правду, сколько тем — достаточно ли красив, умен, независим? В дешевом, отраженном свете, следовательно, виделась профессия. Романтикой были окутаны верхняя полка в купе, перестук колес. Любой незнакомый город казался желанным, любое задание выполнимым. Газетный подвал, мнилось, враз может изменить людей, сделать их чище, честнее. Впрочем, никуда тогда я не ездил, никаких подвалов не писал. Мы выкапывали картошку в подмосковном поселке Костино. Голубое небо, картофельные поля. Тракторы ползают вдали оранжевыми букашками. Девушки задумчиво смотрят в небо, где угадываются едва заметные паутинки. Бабье лето. Так в безделье и задумчивости и завершается рабочий день. Все вдруг затягивает серым. Под дождем идем по полю. Позади страшно гремит гром, словно рушится мир. С утра я помнил, что сегодня у меня день рождения, днем, придремав на сене, забыл и опять вспомнил только вечером, когда народ потянулся в кино. Тут же позвали каких-то случайных девочек. Девочки, конечно, не поверили, что у меня день рождения, однако сидели с нами долгонько. Вообще праздновали на удивление благостно и мирно. Приходили и уходили люди. Никто не сомневался, что наше будущее прекрасно. Даже обидно становилось, что надо терпеть еще несколько лет, как минимум до окончания университета.
А свой двадцать второй день рождения я попросту не мог не праздновать. Председатель месткома вручил мне книгу Дарвина «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». На тринадцатом этаже стеклянного газетно-журнального корпуса в крохотном, закуточном холле началось незаслуженное чествование. Именно тут в шести комнатах разместился научно-популярный журнальчик, мое первое место работы. Сам главный редактор предложил тост за молодого сотрудника Петра Апраксина, вчерашнего студента. Повезло ему, сказал редактор, что он попал в наш коллектив, можно сказать, в семью единомышленников, где все как мушкетеры за одного, а один за всех. Охрана природы сейчас на земле дело важнейшее. Лишь в чистой воде плавает рыба, в чистом небе летает птица, в чистом лесу живет зверь. Следовательно, по закону Дарвина, лишь в чистом мире может родиться и вырасти чистый человек. Чистота спасет мир! Так будем же защищать природу, нашу вторую Родину! Мы все надеемся, сказал редактор, что Петру будет легко и хорошо работать в нашем издании, что он найдет свою тему, определится как журналист. Ему в этом поможет Ирина Ильинична — молодая, но опытная наставница. Уж для нее-то защита природы давно сделалась главным делом жизни.
И в тот день светило солнце. Вместе с новым коллегой, толстым Костей, я покуривал у открытого окна в смехотворном холле. Солнце задом садилось на неправдоподобно далекие, низкие крыши. Дома, машины, крохотные деревья, люди на асфальте как рассыпанный бисер — все словно провалилось в сверкающий солнечный чулок.
Все шло отлично, вот только настроение у меня было скверное.
— Слушай, — стряхнул мне под ноги пепел толстый Костя, — чего это ты все время жрешь глазами свою молодую, но опытную наставницу? Она тебе понравилась? Или у вас старинные отношения?
— Где, кстати, наставница? — я стал оглядываться. Как-то тихо она ускользнула.
— Мы для нее не компания, — усмехнулся Костя.
— А кто для нее компания? Иосиф Кобзон?
— Итак, у вас старинные отношения…
— Не ломай ты себе над этим голову, — мне показалось, я дал Косте неплохой совет, но он им не воспользовался.
— Сколько дней ты уже у нас работаешь?
— Дней двадцать, а что?
— Только не говори, что до сих пор не понял, какая дрянь твоя наставница! Ей, видишь ли, очень захотелось сделаться заведующей отделом! Куда ты лезешь? — дыхнул Костя почему-то водкой, хотя водку не пили. — Зачем ты ей нужен? Ты для нее — тьфу! — он выразительно плюнул, растоптал плевок.
— Стоп! — я легонько отпихнул толстого Костю, он подался, как большая подушка, несильно ударил в подбородок. Лязгнули зубы. На всякий случай я отступил на шаг. Но по тому, как вытаращился на меня Костя, понял: давненько он не дрался. Если вообще когда-нибудь дрался.
— Дурак! — потер Костя подбородок. — Я могу тебя убить! Выбросить в окно!
— Чего ты там несешь?
— Скажи этой… что она всем надоела в конторе! Что бог рано или поздно ее накажет! Бог, он видит все! — Костя ткнул пальцем в форточку, словно именно оттуда бог вел наблюдение за Ирочкой. — Скажи ей…
— Сам скажи! Иди лучше поспи в кабинете, — я вдруг заметил, что Костя едва держится на ногах.
— Скажу! Все скажу! Мне плевать, я ее ненавижу! — Костя рухнул в кресло и через секунду захрапел.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
— Ах ты, милый мой моралист… — засмеялась Ирочка, обняла за шею. Холодные пальцы скользнули за воротник. Ноготь на одном был сломан, царапался. — Ах ты, мой маленький моралист, — повторила уже без смеха.
Была ночь. Мы ехали по длинному эскалатору на вершину Ленинских гор. На эскалаторе было тихо. Желтый свет защищал стеклянный, устремленный вверх туннель от тьмы. Ирочкины пальцы возились у меня за воротником. Наверху нас ожидала асфальтовая пешеходная дорожка, яблоневая аллея.
— Закончил университетик, да? Превратился в нравственную личность. Пришла пора глаголом жечь сердца людей, — усмехнулась Ирочка.
— О чем ты?
— Пока что только о тебе!
Что-то между тем со мной происходило. Я уже не был тем мальчуганом, который когда-то давно на даче испуганно смотрел, как Ирочка пишет свои профессиональные строчки поверх его дилетантских. Я к этому времени кое-чему научился, да и поездил немного, посмотрел. Но как раньше хотелось опуститься перед ней на колени. Хоть и не сказать, чтоб момент был подходящим. Все у нас шло шиворот-навыворот.
— Неужели ты думаешь, мне есть дело, что там болтал этот толстяк?
— Зачем тогда завел разговор?
Действительно. Дела не было, а разговор завел. Или все-таки было дело?
Одна Ирочка в данный момент смотрела на звезды. Про другую толстый Костя говорил мне гадости. Я соединял двух Ирочек, и получалась третья. Я любил всех трех, даже окажись их сто, я бы всех любил.
— Не это меня сейчас волнует, Петя, — вздохнула Ирочка.
— Что же тебя волнует?
— А тебе интересно? — вдруг разозлилась она.
Я пожал плечами. Что бы я ни ответил, все было бы плохо.
— Помнишь, я рассказывала тебе про мою мать?
— Да. — Но на самом деле не помнил.
— Так вот, она опять приволокла домой какого-то мужика. Мне негде ночевать!
— На даче, что ли, нельзя? — Опять не то! Я вспомнил: уже год как они продали дачу.
— У тебя, у такого большого нравственника, когда нибудь было так, чтобы негде ночевать?
— Поедем ко мне.
— Ага! Твоя мама с этим… адмиралом ждут меня не дождутся! Я так мечтала, — всхлипнула Ирочка, — учиться на дневном, мне так хотелось учиться и ни о чем не думать, не считать каждую копейку. Не занимать деньги, чтобы купить джинсы! Не завтракать в забегаловках! Я с семнадцати лет работаю. Я все время одна, одна! Что я видела в жизни? Одни командировки, да всякую… Петя-Петя! Да разве я боюсь этого толстяка, пусть болтает что хочет. Неужели мне опять придется снимать комнату? Зачем ты напомнил про этого идиота?
Мы уже не стояли под яблоней. Мы бежали по асфальту, словно опаздывали куда-то.
— У тебя есть брат, Петя? — спросила Ирочка на бегу.
— Ты же знаешь, нет.
— Значит, ты не копишь ему деньги на велосипед?
— Значит, не коплю.
— А я, представь, коплю! О сколько, сколько, — Ирочка схватилась руками за голову, — у меня ушло сил на то, что вот таким счастливчикам, как ты, дается изначально! Скажи, Петя, чем я хуже тебя?
— Ты лучше! — убежденно ответил я.
— Не вам, — вдруг остановилась Ирочка. — Не вам с толстым Костей судить меня!
— Подожди. Поехали ко мне на дачу. Дед спит. И вообще ему плевать…
— Отстань! — устало сказала Ирочка. Она не то постарела, не то осунулась за эти минуты. — Ты дурак! Такую ночь испортил! — выбежала на дорогу, остановила такси. — Счастливо, дачник!
Дальше я пошел один.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я медленно брел по улице в сторону Ленинских гор, вспоминая, как однажды рыдала на даче Ирочка, когда из номера вылетел ее материал. Вылетел материал, значит, не будет гонорара. Не будет гонорара, не на что будет купить зимние сапоги. Не будет зимних сапог — в чем ей ходить? Любая школьница сейчас имеет возможность все себе купить за папины деньги! А у нее где этот самый папа? Неизвестно! «Ты меня никогда не поймешь, Петя, — сказала тогда Ирочка, — я плачу не по материалу, не по гонорару, не по сапогам, а по бездарной своей жизни!»
Внизу показалась Москва-река. Открытая шашлычная доживала последние дни на одном берегу, летняя пивная «Старт» — на другом. Скоро их закроют, и только голуби с воробьями будут бродить по голым столам, заглядывать в солонки.
Рыбаки на набережной забрасывали удочки в мутную воду, но не очень-то одаривала их река. Чуть выше начинались холмы, усыпанные желтыми и красными листьями. Там гуляли с собаками. Ветер разносил по сторонам собачий лай.
Крохотный, как скрепка, самолетик тянул в небе белую инверсионную линию. Я вдруг подумал о другом самолете, который, должно быть, уже вылетел из Анадыря и в данный момент болтается во Внукове, а завтра утром я буду в нем сидеть, смотреть в круглое окошко, ждать, когда заработают турбины.
Каков он, новый анадырский аэропорт?
Когда четыре года назад я впервые прилетел в Анадырь, в старом деревянном здании шныряли огромные крысы. Серый слой опилок гасил шаги, на изрезанных лавках вповалку спали люди. Я выглянул наружу и не увидел ничего, кроме серого неба над заснеженными сопками.
Некоторое время спустя я писал критический материал, что строительство нового здания недопустимо затягивается. Зима на носу, а отделочные работы внутри и не начинались. Сидел ночью в своей комнатке с окном на Берингово море, на письменном столе горела лампа. Вдалеке в снежном мельтешении угадывались елочные огоньки последних пароходов. Заканчивалась навигация.
Интересно, получила ли типография новые линотипы? Линотипистка Олимпиада сидела за допотопным высоким линотипом, словно в соборе за органом. Я диктовал информации о том, что в бухте Провидения на берег выбросился кит, в Певек пришел последний в эту навигацию транспорт. Прямо с рукописного листа диктовал, потому что у машинистки болел сын, она не ходила на работу. Национальный ансамбль северного танца дал еще один концерт, на сей раз на мысе Шмидта, наибольшим успехом у зрителей пользовалась солистка Татьяна Ранаунаут (всякий раз Олимпиада сажала в этой фамилии ошибку). Линотип-орган тихо гудел, что-то в нем постукивало, свежеотлитые, еще не измазанные в типографской краске строчки звенели, выстраиваясь в серебристые колонки.
«Как они там? Кто сидит собкором в Уэлене?»
Кукушка в кухне больше не куковала. С детства у меня портилось настроение, если какая-нибудь вещь ломалась, когда я был дома один. Я почему-то чувствовал себя виноватым, хотя был абсолютно ни при чем. Вот и кукушка. Она будет молчать, пока муж матери — медицинский генерал, любитель классической музыки — не починит ходики. Я мало понимал в часах. Как, впрочем, и во всем остальном.
Вечером я позвонил Ирочке. Со своим вторым мужем она жила в коммуналке в двухэтажном доме напротив Госплана. Да и был ли муж? Слишком уж вольно располагала Ирочка временем.
— Привет. Чего это ты в такой вечер дома?
— А ты хотел, чтобы меня не было? Хотел перемолвиться с соседушками?
— Есть тридцать рублей.
— Да, не скажешь, что раньше в вашей квартире жили миллионеры. Могли бы и побольше спрятать в сортире!
Я понял: финансовый кризис Ирочка каким-то образом уже разрешила.
— Я думала, ты улетел… — она тянула время, прикидывая, как со мною быть.
Женщина, у которой все впереди, не должна отказываться от тридцати рублей. На всякий случай.
— Вот что. Смотайся-ка ты в магазин, раз тебе деньги некуда девать. Мы подъедем!
— Да кто это «мы»?
— Не жмись. Тридцать рублей все равно тебя не спасут. А как приятно посидеть в хорошем обществе.
— В чьем именно обществе?
— Не бойся, не бойся, всё дорогие и близкие тебе люди. Ты сам виноват. Хотел сделать доброе дело — получай!
— Притащишь какую-нибудь рвань.
— Такую же рвань, как ты сам, — неожиданно обиделась Ирочка.
И гудки.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Неприкаянность водит по жизни людей беспорядочными маршрутами. Объединяет в компании вне зависимости от взаимных симпатий и антипатий. Отсюда скандалы, мордобой. Мне оставалось только ждать и гадать: кто пожалует?
А в прежние годы нравилось сиживать с товарищами за столом, вести пустые разговоры, блистать остроумием. Сидение за столом перемещало в веселый интересный мир, где собственная персона обретала значительность, слова — смысл и весомость.
Но так было раньше. На Чукотке у меня было время читать, я набрел на слова, что следует быть жестоким к себе, если не хочешь, чтобы к тебе были жестоки другие. Претворение в жизнь этого совета, однако, потребовало ответа на вопрос: а во имя чего, собственно, надо быть жестоким к себе? В те дни это было ночное сочинение романа, но оно, к сожалению, не спасло от жестокости других. Напротив, укрепило в мысли, что жизнь — слепая железная птица — бьет клювом по черепу кого попало. Ей совершенно плевать, жесток ты к себе или нет.
Звонок в дверь. Пожаловали гости. Ирочка привела с собой моего начальника Жеребьева и моего друга Клементьева. Кое-что они с собой даже принесли. Я умилился.
Длинные, как хворостины, тени ложились на скатерть. Солнце лезло в стаканы. Нашу компанию охватило радостное возбуждение, как и большинство компаний в подобные мгновения. Вдруг подумалось: ничего ведь в сущности нет плохого, чтобы вот так посидеть, расслабиться перед дальней командировкой. К тому же в обществе друзей.
Андрей Жеребьев, мой нынешний начальник, был совершенно сед в сорок лет. Я ни разу не видел его в костюме. Он любил носить джинсы, кожаные пиджаки, ботинки на толстых узорчатых подошвах. Резные следы тянулись за Жеребьевым, когда он шел по снегу или по грязи. Временами мне казалось, и в жизни Жеребьеву узорчатость милее прямого затертого следа. Он до сих пор влюблялся в молоденьких девушек, встречался с ними в парках, вел какие-то странные романтические беседы. При этом изображал из себя образцового мужа и отца. Случалось, пошвыривал деньги на ветер, однако не был пьяницей и гусаром. Мог написать за ночь очерк, но при этом не помышлял о серьезной каждодневной работе. Работоспособность не была его постоянной чертой. Она накатывалась на него волнами, когда отступать было некуда. Как и стремление заниматься спортом. Как и все остальное. То он вдруг начинал ходить на ипподром или на корт, то внезапно бросал. Раз в неделю являлся в редакцию в дурном настроении ни свет ни заря, делал разом все, что нужно было делать в течение месяца. Потом вел рассеянную жизнь с бессмысленными телефонными разговорами, рандеву за столиками, участием в делах, столь же далеких от него, сколь ему ненужных. Быть жестоким к себе Жеребьев не желал.
Игорь Клементьев, мой друг, был родом из Подмосковья, из Орехово-Зуевского района. Мы учились в одной группе. Пять послеуниверситетских лет Игорь прожил гораздо целеустремленнее меня. Он, например, женился, получил квартиру. Сейчас заведовал отделом в газете. Если для Жеребьева пребывание в нашем обществе было очередным необязательным узором, продолжением беспечного фланирования, то для Игоря это был срыв. Причина была всем известна — Игорь разводился с женой.
Ирочка замерла перед зеркалом, рассматривая себя, как незнакомого человека. Вздохнув, полезла в сумочку за расческой. Из сумочки выпали сложенные машинописные листки. Жеребьев подхватил их на лету.
— В последнюю четверть двадцатого века будут внедряться в жизнь все достижения науки нашего времени, — громко прочитал он. — Альберт Эйнштейн говорил, что воображение не ограничено, оно охватывает все на свете, оно дает возможность составлять самые смелые планы. Вы, ребята, будете жить в двадцать первом веке, и вам осуществлять эти планы. Помните, что будущее начинается сегодня!
— Ай-яй-яй! — сказала Ирочка. — Вдруг это зашифрованное любовное послание Петеньке?
— В таком случае его воображение воистину неограниченно, — усмехнулся Игорь.
— А главное, оно не приемлет казенных слов, подавай ему свеженькие, — добавил Жеребьев.
— Увы! увы! — вздохнула Ирочка. — Каждый сам себе печет хлеб. Я не виновата, что у меня получается подгорелый. Наверное, я остановилась в развитии. Пишу лет десять уже одинаково. А без Эйнштейна вообще ни шагу. Кто мне объяснит, в чем хоть эта теория относительности? Кстати, Петенька, у тебя есть хлеб? Мы принесли колбасу.
— Кажется, есть.
Некоторое время мы обменивались значительными и, как нам казалось, убийственно-остроумными репликами. Лаконичные — в двух словах — уничижительные характеристики, парадоксы, каламбуры, смелые, едкие мысли сыпались, как из дырявого мешка.
Мне надоело сидеть за столом. Это было немедленно замечено.
— Хочешь — скажу, почему мрачный? — спросила Ирочка. — Потому что все еще на что-то надеешься, да, Петенька?
Я пожал плечами.
— Завтра рано лететь.
— Роман, наверное, пишешь?
— Нет.
— Чего ты пристала к человеку? — сказал Игорь. — Романы писать не запрещено. Я тоже,
может, пишу роман.
— Нам нельзя собираться вместе, — задумчиво произнесла Ирочка. — Мы все друг про друга знаем, а если не знаем, догадываемся. Петенька пишет роман. Ты, Игорь, разводишься с женой. Жеребьев…
— Что Жеребьев?
— Жеребьев делает вид, что что-то делает.
— Да не пишу я никакой роман! — сказал я. — Не пишу!
— А ты сама-то чего? — спросил Игорь. — Кроме того, что изучаешь теорию относительности?
— Я хочу развестись со своим режиссером народного театра, выйти замуж за богатого старика, забросить к чертовой матери журналистику, ездить на собственной машине и писать, как Петенька, роман!
— Помнишь, — спросил я, — какая клубника росла у тебя на даче?
— Это намек, что нам с Игорьком пора? — ухмыльнулся Жеребьев.
— Да-да, конечно, — мертвым голосом ответила Ирочка. — Но дачу давным-давно продали.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
А было время, я пытался отыскать логику в отношениях с Ирочкой, не спал ночами, переосмысливая бытие в свете новых, высказанных ею истин. Собственная жизнь казалась жалкой, растительной — как же я существовал, не ведая тайных пружин, влекущих человека по предначертанной траектории, не зная, что в каждом поступке, движении должно быть два, три, а то и больше смыслов! Припоминался князь-колдун Всеслав из «Слова о полку Игореве». Как этот Всеслав бился оземь, оборачивался то волком, то человеком. Так и наши отношения с Ирочкой были то такие, то такие.
Поначалу она была снисходительной. Должно быть, чувствовала себя Пигмалионом, под руками которого оживает бессловесная статуя. Совместное писание заметок сблизило нас и одновременно отдалило. Она была старше на пять лет, однако то были исключительно важные в жизни человека годы самоопределения. Я ничего не умел, по всякому поводу отчаянно комплексовал, впадал в уныние. Ирочка знала и умела больше.
Как я любил и боялся Ирочку в то лето! Пусть это было не вполне осознанно. Возможно, живи поблизости другая симпатичная девушка, все равно возникла бы любовь. Только страха бы не было!
Я безумно любил Ирочку в то лето, однако о близости с ней не помышлял. Когда же это произошло — в ночь перед тем как Ирочка уехала в Нальчик, — все неожиданно встало на свои места. Вопреки всему я почувствовал себя счастливым, уверенным в себе человеком. Все сомнения улетучились как дым. Неизвестно почему я вдруг уверился, что сдам вступительные экзамены, буду учиться в университете. В последней заметке Ирочка поменяла местами две фразы да придумала неубедительную, на мой взгляд, концовку. Я взял листочек, все восстановил.
— Вот как? — удивилась Ирочка.
Я поцеловал ее.
Луна то появлялась, то проваливалась в серую тьму. В небе над станцией наблюдалось желтое свечение, и я, как маньяк, уставился в тот небесный угол.
Мы ушли с веранды в сад, где шумели яблони, где по траве бегала мокрая овчарка Альда и гладиолусы смотрели белыми глазами. Ирочка словно читала мои нехитрые мысли.
— Первая женщина, первая сигарета, да? — спросила она.
— Насчет сигареты ты ошибаешься. И потом, я где-то читал эту фразу.
— А ты никогда не повторяешь то, что где-то читал?
— Повторяю, конечно. Куда денешься?
— Очаровательная непосредственность, — усмехнулась Ирочка. — Ты, верно, решил, что отныне я буду безропотно выслушивать всю твою галиматью?
— Мою галиматью? — растерялся я.
— Не мальчик пойдет завтра сдавать экзамены, но муж! — Ирочку по-прежнему разбирал неприятный мне нервический смех. — Ах, Петенька, как это скучно, когда все знаешь наперед! Ты, верно, думаешь, что будешь сочинять романы, что заметки это так, мелочи, да?
— Да! Но, ей-богу, не понимаю, чего здесь смешного?
— Не смотри на меня с таким укором. Я только с виду молодая да простенькая. Как же ты можешь меня любить? Ведь смотришь сейчас на меня и думаешь: ах, какая она старая, подлая, циничная!
— Старая — нет. Что старая, не думаю.
— Ты… индюк! — чуть не задохнулась Ирочка. — Разве можно быть таким самодовольным? Да что, собственно, изменилось?
— А ты не знаешь?
— Знаю, — поморщилась она, — только почему после этого надо становиться таким тупым, самоуверенным индюком?
— Индюком? Почему именно индюком?
— Только на секунду, на секунду я поверила…
— Во что?
— Так. Неважно. Видишь ли, Петенька, женщине самой природой предназначено видеть свет даже там, где его нет. Иначе бы род человеческий давно закончился. Она всегда летит как бабочка на свечу, хотя на самом деле никакой свечи нет.
— Может, это называется по-другому?
— Все правильно, — устало обняла меня Ирочка, — говоришь как мужчина. Только я уже видела таких мальчиков. Они тоже надеялись перевернуть мир, но ни у кого ничего не получилось. Я буду счастлива, если ошибусь насчет тебя.
— А сейчас, стало быть, свечи не видишь?
— Не вижу.
Я молчал. Мне могло показаться, что она сошла с ума, если бы я наверняка не знал, что она в полном рассудке.
— Ладно, — махнула рукой Ирочка, — не обращай внимания. Ты меня любишь?
— Да. А ты чего-то меня не очень.
— А почему ты тогда не спрашиваешь, кто у меня до тебя был? Ты же меня любишь!
— Да какое мне до них дело?
Мы по-прежнему сидели на скамейке обнявшись, любя и ненавидя друг друга. Я видел голубые глаза Ирочки, стриженые черные волосы и пухлые губы, словно кто-то только что ее обидел. И еще я чувствовал, что впервые за время нашего знакомства Ирочка не понимает меня, и это почему-то сообщало мне некое моральное превосходство, хотя не сказать чтобы я сам себя хорошо понимал. Комары стонали в ночи, жалили нас. Я притянул Ирочку к себе, погладил по голове, поцеловал в темя. Волосы ее пахли сеном.
— Ты что? Жалеешь меня? — Ирочка оттолкнула мои руки, вскинула голову.
Я молчал, но это было утвердительное молчание. Я подумал, она мне его не простит, но что было делать, если я ее действительно жалел?
Пришла пора прощаться, потому что светло стало в саду, заорали петухи, а это означало, что вот-вот возникнет на пороге Ирочкина мать — она уезжала на работу чуть свет. Ирочка спросила:
— Проводишь меня в Нальчик?
— Провожу, конечно, — торопливо ответил я, но не избавиться было от чувства, что что-то произошло и нет у меня ни воли, ни решимости это «что-то» переиначить.
Мы поцеловались и разошлись.
ВПЕРЕД
В половине девятого утра я был во Внукове. За ночь погода испортилась, низкие облака ворочались в небе, грозя дождем, но опыт старого путешественника подсказывал, что самые дальние рейсы, как правило, не задерживают. А рейс Москва — Амдерма — Хатанга — Анадырь был самым далеким. Дальше уж некуда. Покуда до Амдермы самолет долетит, погода сто раз переменится.
По громкой трансляции объявили регистрацию билетов и багажа. Потом зачем-то повторили это по-английски. Я сомневался, что хоть один иностранец летит в Анадырь, но неожиданно около стойки зашевелились и заговорили люди в пушистых шапках, в красных куртках, в невиданных еще у нас надутых сапогах. «Интурист» почему-то не принимал в них участия.
— Кто такие? — солидно и строго поинтересовался я у парня, видимо сопровождающего, который озабоченно крутился поблизости.
— Канадские зоологи, — автоматически ответил он. — Летят на мыс Шмидта встречать овцебыков.
— А где овцебыки?
— Летят навстречу из Фэрбенкса. А вы, простите, кто?
— Человек.
Это объяснение парня не удовлетворило. Он смотрел на меня недружелюбно, хотя, судя по всему, тайны в сообщаемой им информации не заключалось.
Занятный материалец тепло дышал под рукой, сопел, как овцебык, но браться за него не хотелось хотя бы потому, что у парня насчет меня не было никаких инструкций и вряд ли бы он поощрил мое знакомство с канадцами.
— И что дальше будет с овцебыками? — спросил все же по инерции.
— Полетят на остров Врангеля. А вам, собственно, что…
— А, собственно, ничего!
…Я был на этом милом островке три года назад. Писал о метеорологах со станции в поселке Ушаковское. Тогда я был романтиком, потому запомнил отчаянный утренний холод, похожую на спицу серебристую мачту, два шара-зонда, улетающие в стеклянное небо. Один был оранжевый, другой — голубой, и полетели они почему-то не вверх, а вбок — над прибрежными сопками, усыпанными камнями. Стая уток, испугавшись, дружно поднялась, пронеслась, свистя крыльями, над нашими головами. Голубой шар быстро пропал из виду. Я сидел в теплом помещении метеостанции. Сотрудники говорили, что мне повезло — я попал на остров в замечательное время, когда относительно тепло и птицы еще не улетели. Птицы весьма оживляют здешний пейзаж, говорили они. Зимой же над островом бушуют метели и невидимые магнитные бури, которые не лучшим образом сказываются на психике. За одним пришлось даже вызывать вертолет.
Именно тогда от метеорологов я и услышал об овцебыках. Будто бы намечается какое-то международное соглашение.
Значит, так оно и есть.
Через несколько дней я улетал с острова. Метеорологи пошли проводить. «Ан-2» вгрызся в стеклянное небо. Внизу волнами ходила холодная голубизна. Пять фигурок стремительно уменьшались у взлетно-посадочной полосы и вскоре стали не больше шахматных.
Помнится, я писал, что легко представить себе зиму на станции: за окном ночь и пурга, метеоприборы гудят в соседней комнате, регистрируя магнитные бури, книги все прочитаны, обо всем переговорено, вертолет с почтой придет, только когда утихнет пурга, а когда она утихнет — неизвестно. Как уже объяснялось, я тогда был романтиком, а романтикам издавна свойственно излишне драматизировать жизнь. Наверное, так же, как женщинам видеть свет там, где его нет, лететь не на свечу, а во тьму.
Редактор велел переделать материал.
— Это одна сторона медали, — сказал он. — Никто силой их там не держит. Огромаднейшие, между прочим, деньжищи огребают люди. Без машины оттуда редко кто отваливает.
— А что это меняет?
— Ничего, конечно, не меняет. Просто я не верю, что они там такие нежные и сентиментальные. Ты! Ты сентиментален, а не они! Если бы ты писал о себе, о собственных, так сказать, переживаниях — пожалуйста! — а, извини меня, видеть экзотику там, где люди просто-напросто, — он пошевелил в воздухе пальцами, изображая шуршание банкнот, — работают, делают свое дело, — это, извини меня, вводить читателя в заблуждение. В Москве, может быть, и съели бы, здесь нет. Из-за одной этой твоей песни письмами завалят. Извини меня, ведь эта баба поет какой-то бред, — он отыскал отчеркнутые красным карандашом строчки: — «Какой большой ветер напал на наш остров. И снял с домов крышу, как с молока пену». Так, извини меня, туристка может петь у костра. А с чьим домом такое в действительности может произойти, тот так петь не будет!
Я молчал, потому что он был прав: никто эту песню не пел. Но и я был прав. Только моя правда была как воздух. Его — как земля под ногами.
— Тебя случаем девица в Москве не бросила? — вдруг спросил редактор.
— На свете нет человека, которого не бросила бы девица, — сказал я, — но спрашивают почему-то об этом только меня.
— Переделай, переделай материал, а песенку оставь для художественного произведения, — редактор уткнулся в гранки, мгновенно забыв про меня. Была у него такая манера.
Мой романтизм терпел поражение на всех фронтах.
…Регистрация багажа тем временем неспешно продолжалась. Моя красная сумка на ремне, впрочем, относилась к ручной клади. Заняв очередь, я поднялся в буфет, взял зачем-то бутылку лимонада. Потом почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Оглянулся и увидел Ирочку.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
— Что ты здесь делаешь? — изумленно и тупо спросил я.
— Встречаю самолет из Тбилиси, — усмехнулась Ирочка. — Хотя в моем возрасте уже так не шутят.
— Не прибедняйся. Ты отлично выглядишь, у тебя как всегда все впереди.
— Ты не находишь, есть что-то гнусное в этой присказке?
— Самое время тяпнуть лимонада, — сказал я. — Эти самолеты из Тбилиси всегда задерживаются.
— Всю дорогу, пока неслась сюда на такси, мечтала о лимонаде! У тебя, дружочек, дар отгадывать желания женщин.
— На такси? — Я пожал плечами. Об Ирочкиной прижимистости ходили легенды, в которых, однако, заключалась изрядная доля истины. — Ладно, обратная дорога за мной. Что хоть случилось? Забыла вчера у меня удостоверение? Печать от сейфа? — Кажется, Ирочка была в своей редакции председателем месткома.
По громкой трансляции объявили, что вылет задерживается на час.
— Еще одна задержка, — усмехнулась Ирочка, — и будут кормить завтраком. Как на иностранных линиях. Печать, Петенька, на месте.
— Неужели просто решила меня проводить?
Объявили, что задержку дали ошибочно. Регистрация заканчивается, начинается посадка.
— Не хотят кормить завтраком, — вздохнула Ирочка.
— Спасибо, что проводила, — сказал я, — это столь же мило, сколь неожиданно. Привет мужу. Вообще всем привет. — Вытащил из бумажника пятерку, справедливо полагая, что этого Ирочке вполне хватит на обратный путь.
Она спокойно разорвала ее пополам, бросила на пол.
— Извини меня, ладно? — вдруг дернула за рукав совсем как прежде — девять? пять? — лет назад. — Я опускаю горестную середину.
— О чем ты?
— Ты знаешь. Ты — ведь это тоже немножечко я. Если бы я четыре года назад вот так же появилась в аэропорту, ты бы ведь никуда не улетел?
— Тогда мне не так везло, как сегодня. Пять раз рейс откладывали.
— Вот за это и извини. И закончим. И я поеду.
— Конечно, езжай. Только зачем все это?
— Петенька! — она снова ухватила меня за рукав. — Я далеко не ангел, но сознательно зла никому не делала. А… в тот раз получилось… сознательно. Я все знала. Что ты в аэропорту, что собираешься лететь куда-то. Знала и не пришла. Мне с этим как-то неуютно жить.
— Неужели это сейчас тебя волнует?
— Старею, Петенька, — из-под съехавшей на лоб косынки выглянули голубые Ирочкины глазки в черепашьей сетке морщин. — Должны же у меня быть на склоне лет хоть какие воспоминания?
— Считай, мы квиты! — я вскинул на плечо красную сумку с надписью «Спорт». — Тогда не пришла — улетел, сейчас пришла — все равно улетаю. Пятерку зря порвала. — И пошел вниз.
— Дело даже не во мне и не в тебе, — тихо, словно про себя, произнесла Ирочка, — дело в том, что я тогда убила в тебе веру. Это страшный грех, Петенька, его отмаливаю.
— Веру во что? — остановился я.
— В душу, — одними бледными губами улыбнулась Ирочка, — всего лишь в прекрасную человеческую душу.
— У тебя мания величия, — сказал я, — не взваливай на себя столько! — Хотел улыбнуться, помахать рукой, но не смог.
Вдруг в самом деле вспомнил, как несколько лет назад околачивался в этом же самом аэропорту, полдня ждал посадки на этот же самый рейс. Только тогда в буфете вместе с уволенными в запас матросами я угощался не лимонадом. Каждый раз, когда мелькала в зале девушка, напоминающая Ирочку, — а мне напоминала ее едва ли не каждая вторая, — я срывался с места, догонял, хватал за руку. Потом не выдержал, устремился к телефону-автомату. «Иры нет, она на работе», — ответила ее мать. Я позвонил на работу — на тринадцатый этаж газетно-журнального комплекса, в комнату, где сам еще недавно сиживал за письменным столом, тюкал на раздрызганном «Рейнметалле» ответы на письма. Трубку поднял толстый Костя. «Позови», — попросил я. Костя прикрыл ладонью трубку, но так, чтобы я слышал: «Петя спрашивает. Будешь говорить?» — «Пошел он… Скажи, что я оформляюсь в Антарктиду! Вернусь через пять лет!» — злобно ответила Ирочка. Я повесил трубку. Глупо было — лететь на край света без копейки, но я тогда об этом не думал. Объявили наконец-то посадку. Друзья-матросы пихнули в руку смятый четвертак: «Не переживай из-за какой-то жалкой суки, — сказали они. — Сам не заметишь, как все наладится. На Севере много девчат хороших». В самолете я, естественно, заснул, проснулся, когда приземлились в Амдерме.
Вот что я вспомнил, второй раз улетая в Анадырь.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Самолет взлетел ровно и, я бы даже сказал, тихо. Лететь предстояло долго, спешить было некуда. Земля в сером тумане исчезла внизу, голубое утреннее небо лишь угадывалось то сбоку, то сверху.
До Амдермы лететь часа четыре. Вторая посадка в Хатанге. Потом столько же до Анадыря. Время убегает от самолета. Буду на месте примерно через сутки.
В салоне было довольно свободно. Рядом со мной ближе к окну сидела симпатичная девушка-метиска.
Самолет тем временем выбрался из тумана, стало светло, от окон потянуло холодом.
Девушка-соседка читала «Анну Каренину». Вместе с ней я прочитал: «Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осины с омытыми, ярко блистающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что всё и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень. И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться. «Не надо, не надо думать, — сказала она себе. — Надо собираться. Куда? Когда?..»
Девушка читала увлеченно.
А у меня в ушах стояли олений топот, шум другого ветра. Вместо осин другая картина: летняя разноцветная тундра от горизонта до горизонта, утреннее солнце — красный матовый шар. И лезли в глаза рыжие мохнатые комары, колыхались вокруг лица, как живая вуаль, их все время приходилось отодвигать. Неодолима была моя ненависть к комарам, только на урезе берега, где дул ветер с океана, находил я, помнится, от них спасение.
Впереди, впрочем, было достаточно времени, чтобы познакомиться с девушкой, перебросить мостик от «Анны Карениной» в тундру или наоборот.
Ночью я плохо спал. Всегда плохо сплю в ночи перед отъездом. Снятся кошмары, будто опаздываю, будто смотрю на часы, а время отъезда давно минуло.
Самолет гудел надежно, усыпляюще…
Вдруг показалось, не девушка-метиска сидит рядом, читает «Анну Каренину», а Ирочка Вельяминова, из чьих реестров я, как мне казалось до сегодняшних проводов, был вычеркнут окончательно и навсегда, смотрит на меня голубыми холодными глазами, однако еще не в черепашьей сеточке морщин, а на коленях у нее номер детского научно-популярного журнала. Зеленеют на обложке леса, синеет небо, добрейший лось растопырил невиданные рога. Вот какой должна стать наша планета!
Мне приснилось событие пятилетней давности: распределение в славный журнал.
…Сидели в актовом зале. Заместитель декана поочередно выкликал нас на сцену, вручал направление — кому куда идти работать.
Распределению предшествовало долгое благодушное время написания диплома. Впервые я встретился со своим руководителем — доктором наук, специалистом по русской литературе XVIII—XIX веков, маленьким, белоснежно-седым человеком без возраста, — кто утверждал, что ему восемьдесят, кто — восемьдесят пять, — в крохотном кафе на улице Пятницкой, неподалеку от Третьяковки. Розоволицый, похожий на засушенного рачка, старик совершенно не запоминал имен студентов, однако говорил всем разное. Мы позванивали ложечками в кофейных чашечках, размешивая сахар, и беседовали о поэте-юноше Веневитинове, умершем двадцати одного году от роду, оставшемся романтической загадкой российской словесности. Белинский назвал его прекрасной утренней зарей, Блок же почему-то усомнился в гениальности его задатков.
— Вы невежественны! — сурово заявил ученый, хотя я и рта не успел открыть. Должно быть, невежество было написано у меня на физиономии. — Вы, может быть, нахватанны, но все равно невежественны. Можете ли вы вообразить себе Москву того времени, людей, с которыми общался Веневитинов? Сядь вы с ними за стол, заговори, не вытолкали они бы вас в шею? Вы, конечно, не знаете, как пользоваться столовым прибором, я заключаю это из того, как вы помешиваете кофе.
— Ну почему же… Кое-что я…
— Окажись вы лучшим из студентов, с которыми мне приходилось иметь дело, вам, возможно, на несколько дней после нашего разговора захочется сказать собственное слово о Веневитинове. Вы побежите в библиотеку, перечитаете все сорок его стихотворений, философские этюды, критику, вообразите какую-нибудь чушь, которая покажется вам открытием, и… все! Ваш пыл угаснет, потому что всякий чистый пыл гаснет в холодном пространстве необразованной души! А вскоре вам покажется, что диплом — это досадная формальность, впереди красивая журналистская жизнь, да? Как же у вас достанет упорства сказать собственное слово? Надеюсь, вы догадываетесь, почему любомудры со страстью алхимиков искали так называемую основную мысль сущего, полагая ее началом начал, условием условий. Вы думаете, они непременно надеялись отыскать ее? Конечно, не без этого, но Веневитинов считал, что более всего пагубны не заблуждения, не образ мыслей, а бездействие мысли! Легче действовать на ум, когда он пристрастился к заблуждению, нежели когда он равнодушен к истине. А между тем холодное пространство необразованной души — я подчеркиваю, именно души, даже не ума! — есть наилучшая среда для равнодушия к истине. Вы со мной согласны?
— Безусловно. Только помните, он еще писал, что всякому человеку, одаренному энтузиазмом, знакомому с наслаждениями высокими, представляется естественным вопрос: для чего поселена в нем страсть к познанию и к чему влечет его непреоборимое желание действовать? Помните, как он ответил?
— К самопознанию! — воскликнул старик. — Но, черт возьми, это заводь! Заводь посреди быстрой реки, и вы хотите в ней укрыться, вместо того чтобы выплыть к неведомым берегам! Это ложь, что самопознание может изменить мир к лучшему. Оно немо, понимаете, немо! Даже Толстой не сумел… — он махнул рукой. — Послушайте, — доверительно заглянул мне в глаза, — вам не кажется, что человеку в одно прекрасное мгновение необходимо раз и навсегда решить: как жить, как работать, произносить собственное слово всегда, при любых обстоятельствах, или не произносить никогда? Понимаю-понимаю, вы считаете, диплом — это чепуха, главное впереди. Ну, а вдруг? Начните с диплома! Надо же с чего-то начинать, рискните. А вот вам, кстати, и эпиграф, его слова: «Как пробудить ее от пагубного сна? Как возжечь среди этой пустыни светильник разыскания?» Знаете, о чем он? — спросил вкрадчиво.
— Да. Но я вспомнил и другое: «Он сеет для жатвы, но жатв не сбирает…»
— «Три участи», — вздохнул старик. — Одна из них — моя. Я тоже сею для жатвы, но… Вот вы какие, нынешние студенты. Катитесь-катитесь, словно колобки. Впрочем, довольно. Сначала я думал, вы не знаете о нем ничего, кроме того, что в желтом доме в Кривоколенном переулке, где он жил, Пушкин читал главы «Бориса Годунова». Однако к вам вполне применимо суждение, что ложные мнения хоть и не могут всегда состояться, тем не менее порождают другие, таким образом вкрадывается несогласие и самое противоречие производит некоторого рода движение, из которого наконец возникает истина. Будем надеяться, что мои старания призвать вас к движению остались небезуспешными. Странное время, — покачал он головой. — Как обезличилось высшее образование! А между тем вся прелесть, весь блеск образования — когда оно личностно! Когда оно окрашено в единственный, неповторимый цвет души! Я не хочу сказать, что мне было скучно с вами, однако вы меня не обнадежили. М-да… Наверное, уже напечатали кучу заметок в газетах? И, поди, на разные темы? Ну ладно, — продолжил буднично, — давайте-ка посмотрим ваш планчик… — но вдруг прихлопнул его ладонью, словно ненавистное насекомое, уставился на меня белесыми, безумными глазами. — Отгадываю, не читая! А: перстень-талисман, положенный по завещанию Веневитинова с ним в могилу. Б: неразделенная любовь к Волконской. В: рефлексия и сомнение. Г: переживание одиночества. Д: конфликт со светским обществом. Е: обманчивость мечты и жизни. Ж: отказ от счастья и стремление к нему. А из всех его стихотворений вам ближе всего то, где говорится, что их поколению суждено выкипеть шампанским в праздном споре. Я отгадал? Вот этот набор банальной чепухи вы собираетесь положить в основу диплома?
Я молчал, мне нечего было возразить. Но стыдно мне тоже не было, потому что я не считал это банальной чепухой.
…Рядом со мной на распределении сидел Игорь Клементьев. Он опоздал, примчался прямо из редакции газеты, где крутился последние три месяца. Недавно он ездил в командировку на Дальний Восток, привез очерк. Очерк напечатали, похвалили на летучке. Игорь ликовал, его брали на работу.
— Я женюсь! — шепнул он.
— Когда?
— Через месяц. Мы подали документы. Свидетелем будешь?
— А я хоть знаю ее?
— Нет, но это не имеет значения. Она прекрасная девушка.
— Прекрасная? — я не понимал: разыгрывает он меня или говорит серьезно? В последнее время мы редко виделись. Пятый курс — диплом, Веневитинов, предварительное распределение, окончательное распределение. Хаос. Все меняется как в калейдоскопе. — Ты в самом деле женишься?
— Да кто там женится? — не выдержал заместитель декана.
— После поговорим, — шепнул Игорь.
— Апраксин! — позвал заместитель декана.
Я поднялся, прошел на возвышение.
— Вот направление в научно-популярный журнал, — сказал он. — Трудитесь на славу. Охрана природы — прекрасное и благородное дело. Ты, что ли, женишься?
— Нет, Герасимов женится.
Он назвал следующую фамилию:
— Герасимов!
Игорь толкнул меня в бок, призывая к вниманию.
— Едете на Чукотку, — сказал заместитель декана. — От души завидую вам, Сережа. Я был там на обратном пути… из Америки. Славный край. Впечатлений наберетесь на всю жизнь. Вы что, туда… с женой?
— И с женой, и с детьми, — мрачно подтвердил Сережа.
— Уже и дети? Вот как?
— Да. Вчера родила двойню.
— Эй! — шепнул Игорь, когда Сережа уселся на место. — Когда крестины и отвальная?
— Сразу после твоей свадьбы! — ответил Сережа.
После окончания церемонии я сразу позвонил Ирочке.
— Все в порядке, — сказал я. — Распределили в ваш журнал, как мы и добивались. Первого августа упаду в твои объятия!
— А ты не хочешь упасть в них раньше? — засмеялась Ирочка.
— Хочу! — ответил я. — Но мечтать об этом не смею. Нам надо для этого как минимум встретиться.
— А мы возьмем и встретимся, — сказала Ирочка. — Возьмем да и встретимся немедленно, да, Петенька? Что может нам помешать?
— Только атомная война.
— Подходи к моей работе через час, — сказала Ирочка. — Там и встретимся.
Тогда я не мог представить себе, что удачное распределение, возродившаяся любовь, гениальный поэт-юноша Веневитинов, познавший безысходную рефлексию, не находящий ни выхода, ни практического применения мысли, а потому выкипающий шампанским в праздном споре, предстоящая поездка на юг, два месяца работы в журнале, первые принятые большие очерки — все закончится Чукоткой, снегом, комнаткой с окнами на Берингово море, местной газетой.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Через час я был на месте. Тополиный пух летал в воздухе, вызывая у людей аллергию. Каждые три дня над Москвой гремели грозы, в промежутках между ними стояла сушь. Дома играли чистыми окнами, а высокое здание газетно-журнального комплекса прямо-таки переливалось на солнце, словно прямоугольный космический стакан. Из этого закатного стаканного великолепия и вылетела Ирочка в коротеньком платьице, с сумкой через плечо. Конечно же зачем-то она сразу полезла в сумку, оттуда, как водится, выпорхнули исписанные мятые листочки. Сколько я знал Ирочку, она всегда писала бог знает на чем. «Это оттого, — однажды объяснила она, — что я пишу где попало. Размер бумаги определяется у меня размером сумки, которую я таскаю с собой».
— Откуда такой загар? — поинтересовался я у Ирочки.
— Была в Кавказском заповеднике, — ответила она. — Там море.
— И грузины.
— Да. Где ж им еще быть. А по вечерам я…
— Не продолжай, мне страшно.
— Ходила смотреть, как распускаются ночные цветы, дурак! Представляешь себе, они как будто хлопают в ладоши.
Мы шли по улице обнявшись. Веневитинов был забыт, распределение тоже. Все было забыто. Это я сам выкипал бессмысленным шампанским пятилетней выдержки. Давняя обида на Ирочку была забыта. Хотелось скорее обнять ее, загорелую, и к свиньям рефлексию! Эдаким кретинистым петухом, должно быть, вышагивал я, грозно посматривая по сторонам. Как кавалер Бюсси был готов драться сразу с сотней негодяев. Пусть увидит Ирочка, пусть поймет, какого орла она обманула пять лет назад. Уехала в Нальчик, не ответила на письмо! Пусть поймет, глупая!
Мы неожиданно завернули в убогий скверик — там стояли вбитые в землю обшарпанные скамейки, покосившийся фанерный стол для игры в домино. Сели, как подкошенные, на скамейку, поцеловались. Потом еще, еще… Редкие прохожие посматривали на нас с интересом.
То было какое-то безумие. Пять лет мы с Ирочкой не целовались. Я никогда ей не звонил. Если вдруг встречал на даче, не то чтобы отворачивался, но пристально, словно Мичурин, смотрел, скажем, на кусты смородины или крыжовника. Ирочка пожимала плечами, не без оснований считая меня идиотом. Я так и не спросил, почему она не написала мне из Нальчика, почему не ответила на мое письмо, почему, вернувшись, повела себя, словно меня нет и вообще ничего не было. Сама же Ирочка объяснить это не пожелала.
А между тем прошло пять лет. За пять лет были строительные отряды, осенние поездки на картошку, была практика в областной газете, зимние и летние каникулы и много всего другого. Может, и не было в эти пять лет сильной любви, однако девушки были. Я полагал, пять лет — это много. Но, оказавшись с Ирочкой на скамейке в убогом сквере, унимая в пальцах дрожь, в голове — горячку, усомнился в этом. Пять лет, оказывается, ничто.
Что делала все это время Ирочка? Как жила? Я не интересовался из принципа. Однажды, правда, встретил ее на улице. Здоровенный такой бородатый парнище, похожий на Илью Муромца, обнимал Ирочку за плечи, совсем как я несколько минут назад. Они зашли в магазин. И мы тоже сейчас зайдем в магазин!
Я понял: еще немного — и я спрошу у Ирочки, почему она бросила меня, когда вернулась из Нальчика. И нынешнему весенне-летнему возрождению любви не то что придет конец, но пришьется некий драный хвост.
— Нальчик… — чуть слышно произнес я.
— Нальчик? — повторила Ирочка. — Ты туда едешь? Смешной город, у меня там подруга в обкоме комсомола. Или ты сказал «мальчик»? Тогда я отказываюсь тебя понимать.
Ирочка забыла про Нальчик.
…Полгода назад она позвонила сама. Падал снег, деревья стояли, как белые рога. Я сидел дома, готовился к экзамену по политэкономии.
— Петенька, — спросила Ирочка. — У тебя грядет распределение, где ты собираешься работать, дружочек?
— Понятия не имею, — ответил я, — во всяком случае, не ищите меня в Вашингтоне. Почему тебя это волнует?
— Иди к нам в журнал?
— Вот так прямо бери и иди, да? Думаешь, мне доставит удовольствие смотреть на тебя? Ладно, как-нибудь с божьей помощью устроюсь сам.
— Я, собственно, потому звоню, что летом у нас точно будет место. Ты бы зашел к нам, покрутился, написал бы чего-нибудь. Организовали бы запрос. Заодно посмотришь на меня.
— Почему ты мне звонишь? — спросил я тогда. — То есть почему именно мне звонишь? У тебя что, мания устраивать судьбу всех своих…
— Юмор, достойный Вольтера! — усмехнулась Ирочка. — А может быть Свифта. Сколько раз зарекалась делать добрые дела, потому что от всех одна благодарность — в рожу! Да кому ты нужен? Катись в какую-нибудь заводскую многотиражку! Жил бы, как я, своим горбом, а не на всем готовеньком, ценил бы, когда ему хотят помочь, а он… Придешь?
— Не знаю. Подумаю.
Все-таки я наведался в тот журнал, написал заметку про мальчиков и девочек, которые лютой зимой делают в лесу кормушки для птиц. Вместе с ними я трясся холодным воскресным утром в загородном автобусе, потом шел по лесу, проваливаясь в снег. Мы шли, вокруг летали синицы, воробьи, какие-то другие птицы покрупнее. Они возбужденно чирикали, пищали, садились на плечи. Деревья стояли по колено в снегу. Мохнатое солнце, как рыжая шапка, поднималось над лесом. Я хорошо запомнил все это. Птицы клевали с моих скрюченных ладоней. Охрана природы предстала не как что-то отвлеченное, умозрительное, а как живая, естественная забота об этих беззащитных на морозе, пушистых, летающих клубочках. «Большое начинается с малого, — бубнил я детям. — Надо по-настоящему полюбить птиц, представить себе, как им холодно и страшно зимой в лесу…» Заметка получилась достоверной.
Ирочка встретила меня в редакции, как доброго знакомца, не более того. Сообщила о прохождении материала по инстанциям. Помогла сделать запрос. Чем-то это напоминало давнее писание на даче под стук дождя. И это было неприятно. Однако теперь-то я сам писал. Ирочка не правила ни слова. Когда запрос отправили в университет, мы вовсе перестали перезваниваться.
Тем меньше понимал я, что же происходит в убогом скверике, где кружится тополиный пух. Почему я весь дрожу, прижимаю к себе ту, которая пять лет назад меня бросила? Что лепечет Ирочка? Неужели она плачет?
Мы вышли из дворика, пошли по вечерней улице. Бедный Веневитинов с его неразделенной любовью.
— Я люблю тебя, — сказала Ирочка на улице Чехова возле кинотеатра «Россия», где мы намеревались смотреть какой-то фильм.
Я посчитал деньги, остановил такси, и мы поехали в Расторгуево. Когда приехали, окна в домах уже не светились.
Я долго стучал, пока дед не открыл дверь.
— Это хорошо, что ты приехал, — произнес он, белея во тьме кальсонами и рубашкой. — Будем завтра окапывать яблони.
— Да, — ответил я, — то есть чего? Какие, к черту, яблони? — Дед был похож на привидение, а дай ему в руку косу, мог бы вполне сойти за смерть. — Ты спи, я еще чай буду пить.
Дед ушел, а я впустил Ирочку, притаившуюся за водосточной трубой. Мы поднялись на так называемый второй этаж, где доживал продавленный кожаный диван, похожий на носорога. Там же в шкафу хранилось белье. Попасть сюда можно было по узкой лестнице через люк, совсем как на корабле. Я закрыл люк, чтобы утром сюда нельзя было проникнуть.
В окно светила луна. Шумели деревья, и шум их был такой же монотонный, как дождь.
— Скоро земляника поспеет… — прошептала Ирочка.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Самолет тем временем бежал по бетонной полосе, ревя турбинами. В Амдерме конечно же лежал снег, люди ходили в тулупах, в унтах, в валенках. Резвая аэропортовская девушка ворвалась в самолет, звонко крикнула: «А ну все на выход! Только у кого маленькие дети, могут остаться!»
В буфете продавали черствые пирожки, отвратительного вида вино в стеклянных графинах. Началась метель. Сколько ни смотри в окно, ничего не увидишь.
…В то расторгуевское раннее утро я, естественно, не окапывал яблони, совершенно не думал о Веневитинове. Мы шли с Ирочкой по лесу, под ногами шуршали прошлогодние листья. Сквозь них пробивалась свежая трава. Была в этом некая символика. Мы проснулись в шесть утра и ушли с дачи. Голубой дом быстро скрылся за ветками. Мы спешили на станцию, на электричку.
— Нельзя сказать, чтобы с утра ты был нежен и разговорчив, — заметила Ирочка. — Ведешь себя, как настоящий мужчина.
Я загребал ногами прошлогодние листья. Утренний лес был неестественно тих. Вставало солнце. Однако все было разрозненно: утренний лес, солнце, прошлогодние листья, я, загребающий их ногами, Ирочка. В мире не было единства.
— Я должен с утра болтать как попугай?
— В чем дело? — Ирочка тревожно взяла меня под руку. — Чем я тебе на сей раз не угодила?
— Помнишь, — спросил я, — мы сочиняли заметки под стук дождя. Вода лилась из бочки, ты еще сказала, будто там какая-то сволочь плещется. Потом мы ходили по участку, у вас еще росли здоровые белые гладиолусы. Потом я проводил тебя в Нальчик, ты сказала, что напишешь, и не написала. Почему?
— Из Нальчика? Да когда это было? — Ирочка пожала плечами.
— Но ты хоть помнишь дождь, бочку, когда мы стояли у забора? Ты хоть вспоминала там обо мне?
— Где? В Нальчике?
— Да, да! В Нальчике, будь он проклят!
— Нет, дружочек, я там о тебе не вспоминала. И давай закончим этот разговор.
Показалась станция. Я накупил в киоске газет, словно год их не читал. Подошла электричка.
В электричке мы почти не разговаривали. «Бирюлево-товарная, Нижние Котлы, Речной вокзал, Москва-товарная», — объявлялись остановки.
— «Вот она, модель, — цитировал я Ирочке вслух статью из газеты, — когда герои якобы мучительно решают свои «нравственные проблемы», трудно налаживают личные отношения. В прямо-таки хрестоматийной формуле дана суть происходящего: «Маша любит Сашу, но Саша эгоист, а сама-то Маша приобретательница». То они мучаются, замечая недостатки друг друга, то осознают собственные. То они «еще не помирились», но дан намек, что помирятся и т. д. и т. п.».
— Это не про нас, — сказала Ирочка. — Чем человек живет, тем и мучается. Это жизнь, никуда от нее не денешься. Что с того, что она порой пошла и скучна. Выше самого себя не прыгнешь.
— Но надо стремиться к этому, как ты думаешь?
— Возможно, — усмехнулась Ирочка, — да только не за счет других, как это делаешь ты. Ты, Петенька, нравственник на чужой счет!
— Я? Я, значит, уехал в Нальчик, вернулся оттуда с каменной рожей?
— Знаешь что, — Ирочка вырвала у меня из рук газету, швырнула на скамейку. — Надоел ты мне с этим Нальчиком, дурак! Иди ты…
На Павелецком вокзале простились, Ирочка больше не держала меня под руку.
— Позвони мне, — вдруг сказала она. — Слышишь, я прошу. Я очень редко прошу. Позвонишь?
— Конечно. Извини меня.
Ирочка пошла в метро, я на трамвай. На утреннем звенящем трамвае приехал к Чистым прудам, потом ходил по улицам, как бы заснув на ходу.
Поздним вечером, уже дома, я тупо смотрел на телефон, но Ирочке не звонил!
Весь день я думал о ней, представлял себе ее день. Вот она сидит за столом на работе задумчивая, бледная, с синими кругами под глазами, поглядывает искоса на телефон. Он время от времени звонит, но все не те люди. Конец рабочего дня. Вечерняя духота наполнила космический стеклянный стакан. Ирочка неспешно собирается, выходит из комнаты, идет, опустив голову, по коридору. Вдруг слышит звонок, летит обратно, поднимает трубку… Это ее мать звонит, интересуется, не задержится ли Ирочка сегодня. И где, спрашивает мать, она была вчера? Неплохо было бы, говорит она, предупреждать, когда она не приходит домой ночевать. Она конечно же понимает, что у нее своя жизнь, но все же, все же…
Ирочка идет по коридору, спускается вниз на лифте, выходит на улицу. К лицу жарко липнет тополиный пух. Она идет к троллейбусной остановке, смотрит по сторонам, но нет, нет, нет меня!
Незаметно настала ночь. Я как парализованный сидел около телефона, не поднимая трубку, когда он звонил.
Он звонил в час, потом в два. Третий звонок раздался в половине третьего, когда самая тьма была за окном.
— Вторую ночь не сплю! — весело сказала Ирочка.
— Чем же ты занимаешься?
— Учу наизусть стихи, Петенька!
— Неужто современных поэтов?
— Нет, дружочек, всего лишь древнюю восточную лирику. Слушай: «Запутана любовь, подобно косам ив. Любимый мой, вернись, не углубляй разрыв! За мною нет вины, как нет и за тобою. Зачем же врозь любить, сердца о боль разбив?» — И повесила трубку.
Через несколько минут я ей перезвонил.
— Знаешь что: чтобы не быть как Саше с Машей, нам надо с тобой пожениться. Выходи за меня замуж, я совершенно серьезно.
— Хоть ты мне и симпатичен, Петенька, — ответила Ирочка, — ты идиот. Ты ничего не понял. Испортил такое стихотворение. Никогда больше не звони. Ау, я уезжаю в город Нальчик.
…Вскоре я получил диплом об окончании университета. Вместе с будущим москвичом Игорем Клементьевым мы собрались ехать на юг.
Перед самым отъездом я позвонил Ирочке:
— Я не хочу работать с тобой в одной редакции. Скажи, чтобы искали другого сотрудника.
— Не дури, — устало ответила Ирочка. — Мы-то найдем сотрудника за пять минут, ты же будешь искать место год. Кому ты нужен, Петенька?
— Так уж и никому?
— Так уж и никому! — подтвердила Ирочка, повесила трубку.
…А в Амдерме метель разыгралась не на шутку. Я купил архангельскую газету, выпил стакан отвратнейшего пива, пожелавшего сохранить свое название в тайне. «Пиво» — вот и все, что было написано на бутылке. Только пассажиры с нашего рейса тосковали в зале ожидания. Да еще подвыпивший ненец — сын Севера — дремал на скамейке около двери. Под скамейкой лежала лохматая собака, искала блох.
Резвая девушка — аэропортовский работник — крикнула на весь зал: «Эй! С московского борта! На посадку!»
Канадцы в красных куртках азартно играли на изрезанной затертой скамье в покер. Я остановился, увидел, сколько джокеров собралось у одного на руках.
— Вы что, оглохли? На посадку! — крикнула им в уши девушка.
Мы шагали по бетонным плитам к самолету, метель гнула спины.
— При таком ветрище самолеты сами взлетают, — проворчал кто-то рядом.
Моя соседка спала в своем кресле, подобрав длинные ноги. «Анна Каренина» свалилась на пол. Я поднял книгу. Из нее выпорхнула закладка — программа выступления ансамбля северного танца. «Так вот почему эта особа так симпатична и стройна! — подумал я. — Вот почему она одета в заграничное. Она танцовщица из этого ансамбля! Она должна знать Таню Ранаунаут…»
ЧУКОТКА I
Когда четыре года назад я сошел с самолета в анадырском аэропорту, вокруг лежал рыхлый снег, в здании аэропорта была слякоть. Меня, естественно, никто не встречал. В кармане — матросский четвертак, направление в здешнюю газету.
«Вот она, азиатская северная оконечность», — вглядывался в заснеженные мрачные сопки. На краю земли довелось испытать чувство случайности, необязательности собственной жизни. Вдруг исчезни я — ничего не изменится в холодном равнодушном мире. Экзотика присутствовала лишь в мохнатых собачьих шапках на головах встречных.
На автобусе добрался до десятого причала, переправился на барже через лиман. Анадырь оказался удивительно маленьким городом, я обошел его за час. Почему-то я оттягивал время действий. Слоняясь по улицам, я как бы принадлежал сам себе. Действуя же — привходящим обстоятельствам, иной воле.
Однако пришлось отыскать редакцию, постучаться в кабинет к редактору.
— Да-да, я в курсе. Только… — редактор полистал календарь. — Должен был прилететь Герасимов, а у вас другая фамилия.
— Какая разница? Я точно такой же выпускник.
— Разницы, конечно, никакой, — редактор внимательно разглядывал исправленное направление. — В последний момент все перерешилось?
— Да.
— Ладно, — сказал редактор. — Пока поживете в
гостинице. Дальше видно будет. — Набрал номер, переговорил с администратором. — Комната — два пятьдесят в сутки. Сегодня уже поздно, а завтра я вам выпишу аванс.
Я поблагодарил.
— Вы вообще как… Выпиваете? — неожиданно поинтересовался редактор.
— Когда как, — ответил я.
— Здесь многие увлекаются.
— Постараюсь быть исключением, — пообещал я.
— Мы начинаем работать в половине десятого.
Мне оставалось только выразить сдержанный энтузиазм по этому поводу.
— Скажите, а с этим Герасимовым вы что, как говорили в старину каторжане, обменялись участью? Почему?
— Да как-то так вышло, — пробормотал я, сознавая, что никакого доверия ко мне редактор не испытывает и не может испытывать.
Должно быть, считает истеричным избалованным идиотом, который так же внезапно, непостижимо сбежит отсюда, как и приехал. Я подумал: в сущности он недалек от истины. Если изъять каким-нибудь образом все многообразие мыслей, чувств, переживаний, все, что, так сказать, составляет жизнь внутреннюю, остановиться на внешнем ее воплощении — делах и поступках, каким бледным, немощным предстанет человек! Кто я, что представляю без поправки на жизнь внутри себя? Да никто, ничего. Кто, собственно, должен знать об этой жизни, принимать во внимание мой, так сказать, сложный внутренний мир? Никто ничего не должен.
Новая суровая реальность прочитывалась на хмуром лице редактора, на тусклых стенах его кабинета. Даже газетная полоса на письменном столе казалась слишком уж сморщенной и желтой.
Внутренний мир протестовал против новой реальности.
«Не надо протестовать, — подсказывал здравый смысл. — Это жизнь, ее следует принимать спокойно. Никто здесь передо мной ни в чем не виноват. Зачем дразнить людей злобной своей физиономией, мнимой неприкаянностью? Засмеют, затопчут!»
— Вы не волнуйтесь, — обернулся у двери. — Я буду хорошо работать.
— Что-что? — изумился редактор, но я уже вышел.
На следующее утро в половине десятого был в редакции.
За неделю сделал три собственных, два авторских материала.
Слетал в первую командировку на мыс Шмидта.
Через две недели был зачислен в штат корреспондентом отдела информации.
Через полтора месяца переселился в маленькую комнатку в квартире с окнами на Берингово море. Две другие комнаты занимали фотокорреспондент газеты Сережа Лисицын с женой.
Вскоре начались метели. Я выходил из дома, когда еще было темно. Снег плясал в лучах прожекторов, редкие машины светили фарами сквозь снег. Заходил на почтамт, у входа как собака отряхивался, потом прямиком к окошку, где выдавали корреспонденцию «До востребования». Я получал письма от матери и отца, которые к тому времени уже шесть лет жили врозь, от своего друга Игоря Клементьева, от бывшего коллеги по научно-популярному журналу толстого Кости. Костя писал, что все в редакции неприятно удивлены моим неожиданным отъездом, но тем не менее похваливают мои материалы. Как только выйдут номера, Костя непременно их пришлет и скажет, чтобы перевели деньги, хотя, конечно, писал Костя, — и мне виделась сквозь строчки его ехидная усмешка, — теперь я миллионер-северянин, получаю многочисленные надбавки и деньги для меня, должно быть, все равно что прошлогодние листья.
Прошлогодние листья.
Я перевел почту на новый адрес. Каждое утро, спускаясь по темной, заставленной шкафами, тумбочками, мусорными бачками лестнице, заглядывал в почтовый ящик, но писем от Ирочки не было.
Прошлогодние листья.
Меня частенько определяли дежурить. Я сидел в крохотном кабинетике ответственного секретаря, дожидался задержавшейся полосы, смотрел в окно на качающийся в снежном вихре фонарь. Скрипел фонарь, словно горько плакал. Желая ускорить дело, я спускался в типографию, где томилась линотипистка, она же верстальщица, Олимпиада — красивая сорокалетняя женщина с длинной русой косой, по-старинному уложенной на затылке. Мы пили черный, как деготь, чай. Я, помнится, недоумевал: зачем такой пить? Олимпиада смеялась: зачем пить другой, когда можно такой? И действительно, от крепкого чая наступала ясность, подозрительная бодрость, жизнь начинала казаться интересной, исполненной смысла.
— Не горюй, Петюнчик, — говаривала Олимпиада. — Выпустим газету, люди завтра прочитают. Пей чаек!
Простая мысль, что мы томимся здесь вечерами, чтобы люди прочитали утром газету, снимала гамлетовские сомнения. Все реже я задавал себе коварный вопрос: «При чем я здесь?»
Случались и тихие вечера. Возвращаясь домой, я видел в небе звезды. Кружил вокруг дома, прятал лицо в шарф, но он все равно леденел, становился твердым, как рыцарское забрало. Я медленно ходил вокруг пятиэтажного белого дома с толстыми стенами, потому что, только устав и замерзнув, понимал прелесть своего жилища — комнаты, где вся мебель — стол и этажерка, между рамами мерзнут продукты, на подоконнике стоит электрический чайник.
В Анадыре, кроме работы, у меня не было особенных дел, кроме сослуживцев почти не было знакомых. Не было жены, родственников, я нигде не учился заочно, ни на что не претендовал. Довольно быстро я сделался в редакции своим парнем, с романтическим, однако, как подозревали, прошлым.
— Дурак ты, Петюнчик, — пожалела меня во время очередного дежурства Олимпиада. — Девка, наверное, тебя бросила, или с батькой поругался, вот и сбежал из Москвы, ох, дурак… Ну да ничего, хоть деньжишек подкопишь…
Романтическое прошлое, таким образом, упростилось до чрезвычайности.
Я ходил на работу, ездил в командировки, писал материалы, дежурил. По вечерам читал книжки, которые брал в окружной библиотеке. Именно тогда впервые явилась мысль писать роман. Ни больше ни меньше — роман! О некоем молодом человеке, уехавшем из Москвы на Чукотку, о некоем запоздавшем во времени и пространстве романтике, короче говоря, о себе самом.
В странном упорядоченном покое, в обдумывании романа прошла осень, половина зимы. Плохое обслуживание в столовой на мысе Шмидта, подготовка приисков к промывочному сезону, традиционные гонки на оленьих упряжках, беседа с чукотской поэтессой Антониной Кымытваль, строительство нового аэропорта в Анадыре, выступление национального ансамбля северного танца — вот о чем я писал, не переставая думать о романе. В феврале меня повысили, я сделался корреспондентом при секретариате. Как-то, поднимаясь по лестнице, услышал разговор сослуживцев. «Тебе не кажется, — спрашивал один, — что все у него слишком легко выходит?» — «Он кропает, — возражал другой. — Кропает, как крот, на любые темы. Будто и не живет, не пьет, будто и бабы у него нет. Такие работники для редакции клад!» Придя домой, я достал пачку бумаги и на верхнем листе жирно вывел: «Роман».
А вскоре с осенне-зимним покоем было покончено.
…Я сидел в третьем ряду концертного зала, смотрел выступление ансамбля северного танца. Сначала не верилось, что девушки в пятнистых костюмах — олени, парень в кухлянке и с палкой в руке — пастух. Обыкновенные девушки пляшут, обыкновенный парень бегает с палкой. Машинально записывал банальные сравнения, посматривал на часы. Танец, признаться, надоел. А потом вдруг что-то произошло. Я на секунду закрыл глаза, а когда открыл, понял: что-то произошло. Разноцветные мигающие прожектора превратились в небо и солнце. Послышался шум ветра, тяжелый, исступленный бег оленьего стада. Но куда они так обреченно бегут? Исчезли со сцены девушки — пятнистые олени. Одна — самая красивая, самая грациозная, в белом костюме, — осталась. Белый, мифологический, стало быть, олень. И белая лента в руке. Закружился белый олень, лента закружилась. Девушке хочется освободиться от зловеще кружащейся ленты, но не получается. Все безысходнее вьется лента! Парень в кухлянке закричал, сломал о колено палку, рухнул на пол. Девушки — пятнистые олени — выбежали из-за кулис, тихо опустились рядом. Белый олень — последним. Лента взмыла вверх, опустилась, как бы всех сразу перечеркнув — пастуха, оленей.
Это был довольно тягостный танец.
Потом — сольный номер девушки. Назывался он не то «Невеста Севера», не то еще как-то бодренько. Зрители аплодировали, вызывали танцовщицу на бис.
После концерта я подошел к девушке, договорился встретиться на следующий день, у нее как раз была репетиция. Мне захотелось написать очерк о грациозной юной танцовщице. Уже и название придумалось — «Невеста Севера». Звали девушку Таня Ранаунаут. Я бежал домой, посвистывая. Утром, уходя на работу, впервые не заглянул в почтовый ящик.
ЧУКОТКА II
— Удивительно, — сказал я девушке, когда мы на следующий день встретились. — Вчера, когда ты танцевала, со мной что-то произошло. Не знаю, как назвать. Словно стеклянный колпак разбился, и я почувствовал, что живу, понимаешь, живу! Впрочем, это не имеет отношения к нашему разговору.
— Почему? Разве можно знать, что имеет отношение к разговору, а что нет? Это, по-моему, глупо. — Она смотрела на меня как-то уж слишком серьезно. Мне стало стыдно. Вот они, плоды одинокой сосредоточенной жизни, чтения книг, ночных дежурств, обдумывания романа. Перестал следить, что говорю.
Мы сидели в последнем ряду концертного зала. Тут было тихо и темно. Только красный прожектор вполсилы горел над сценой. Репетицию, оказывается, отменили, у ансамбля начались каникулы.
— Какой же это был танец? — спросила Таня.
— Про оленей.
— Это древний танец, — сказала Таня, — он вообще-то называется «Белые олени смерти», но в программу нельзя вносить такое мрачное название, его назвали как-то по-другому.
— А почему «смерти»?
— Это о том, как умирает от копытки оленье стадо. И пастух не может его спасти. Олени ведь часто умирают.
…Я пришел к концертному залу в половине одиннадцатого утра. Февральские метели замели маленькие домики на склонах по самые крыши. Зима, как маятник, раскачивалась над Анадырем: сначала страшные морозы, когда плевки замерзают на ветру, потом могучий, как судьба, холодный ветер, потом пурга. В пургу передвигаться по городу можно было только короткими перебежками от одного столба к другому. Вместо десяти минут я добирался до редакции за час. И сегодня, боком, чтобы ветер не свалил с ног, надвинув шапку на глаза, подняв как парус воротник, я брел по воющим улицам к концертному залу. Долго отряхивался в вестибюле, стучал валенками, смотрел в зеркало на свою красную рачью физиономию. Гардеробщица сказала, что репетицию отменили, но я упрямо устремился в зал и в последнем ряду увидел Таню. «Привет! — сказал я. — Спасибо, что пришла». Деловито вытащил блокнот и ручку. Обложка блокнота намокла, ручка была как сосулька.
— Сколько тебе лет? — спросил я, удивляясь, что эта симпатичная, стройная девушка пришла сюда в пургу, хотя репетицию отменили. Я не льстил себя надеждой, что из-за меня. Скорее всего по собственным делам. Разве мало дел у молодой танцовщицы?
— Восемнадцать, — ответила Таня.
— Сколько лет танцуешь в ансамбле?
— Недавно.
— А училась где?
— Я и сейчас учусь в хореографическом училище.
— А потом чем думаешь заниматься?
— Пока молодая, буду танцевать.
— Ну, а потом?
— Танцевать можно долго, — засмеялась она. — Кто знает, что будет потом. Ты задаешь странные вопросы.
— Действительно, — согласился я. — Где ты родилась? Где жила?
— В Иультине. Потом жила в интернате. Танцевала в самодеятельности. Приехала комиссия, меня взяли в хореографическое училище. Недавно вот приняли в ансамбль.
— А не страшно танцевать этих «Белых оленей»?
— Да нет. Это работа. Чего тут страшного? С лентой только трудно. Это уже почти художественная гимнастика.
— Ты замужем?
— Нет, — она засмеялась. — Я пока не замужем.
— А жених есть?
— И жениха нет.
— Почему ты смеешься?
— Так.
— Я спросил что-то смешное?
— Да нет. Только… Ты ведь сам еще молодой. А спрашиваешь, словно старик. Я бы сама сказала, есть жених или нет.
— А какая разница: я спрошу или ты скажешь?
— Если у нашей девушки есть жених, но новый знакомый ей нравится больше, она отвечает, что нет жениха. А если новый знакомый ей не нравится, она отвечает, что есть жених, хотя, может, его и нет.
— А тот, веселый танец тебе больше нравится, чем про оленей? Как он называется, «Невеста Севера», что ли?
— Не знаю. Я видела, как умирают олени. А вот невестой еще не была.
— Ты серьезно?
— Я всегда говорю серьезно. А если нет, то смеюсь. Ты, наверное, по-другому?
— Да. Но теперь буду стараться как ты.
Мы поговорили еще немного. Я узнал и записал все, что хотел. Потом стали собираться. Я подал Тане шубку, шапку-магаданку с длинными ушами. Вышли на улицу. Пурга стихла. Дул сильный ветер, однако без летящего игольчатого снега.
— Куда идешь? — спросила Таня.
— Домой, — сказал я, но спохватился: — Я тебя провожу, конечно.
— Ты сам где живешь?
— На улице Рультытегина.
— В каком доме?
— Семнадцатом.
— Где магазин «Электротовары»?
— Да.
— Какая квартира?
— Шестая. Ты хочешь прийти в гости?
— Мне восемнадцать лет. Я хожу в гости к кому захочу.
— Не сомневаюсь… — растерялся я.
— И потом, у меня ведь нет жениха! — она засмеялась и свернула на улицу Отке.
Я бросился следом, но порыв ветра свалил с ног, затолкал в сугроб на обочине. Когда поднялся, в глазах было бело и мокро от снега. Таня уходила, я хотел ее догнать, но между нами стеной стоял ветер. Сколько раз возникало у меня желание пуститься в незнаемое, броситься очертя голову за недоступным, которое сделается доступным, если достанет сил попрать здравый смысл, пропустить мимо ушей холодный ленивый голос: «Это не для меня!» Слишком многое в этой жизни пока что было не для меня. Растерянный, я стоял на углу улицы Отке, сгибаясь под ветром.
Ветер, ветер. На всем божьем свете.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
…Пятнадцатого августа, вернувшись с юга, красивый и загорелый, — так во всяком случае мне казалось, — я сидел за письменным столом в редакции научно-популярного журнала, выстукивал на раздрызганном «Рейнметалле» вводку к материалу о горе-мелиораторах, загубивших чистую маленькую речку в Калужской области. Буквы в «Рейнметалле» по самые уши заросли грязью. Предварительно я вычистил их остро заточенной спичкой. Временами охватывала настоящая ярость: зачем эти сволочи сгубили реку? Почему равнодушие и глупость человеческие обрели в нашем веке силу катастрофы? Если одно из мерил прогресса — зло, которое причиняет человечеству человеческая же глупость, то прогресс достиг немыслимых вершин. Однова живем! После нас хоть потоп! Неужто же не преодолеть людям подобную психологию? Вот где необходим прогресс! Об этом думал я, стуча на «Рейнметалле». До слез было жалко задохнувшейся, превратившейся в болото речки.
Жалость и ярость — то были чувства, весьма созвучные моему тогдашнему состоянию.
Я смотрел на Ирочку, которая сидела за столом напротив, внимательно вчитывалась в кляузное письмо пенсионера Н. Кошечкина. Тот саркастически писал, что недавно журнал опубликовал «хвалебную» статью о сыне лесника. Сейчас мальчишка испортился, исхулиганился, его уже «и пионером-то назвать никак нельзя». Украл у товарища велосипед и единственно по малости лет не был привлечен к ответственности. «Да и отец его, знаменитый лесник, не такая уж бескорыстная личность, как написано в статье. Через день пьян, а на какие такие средства?» — недобро любопытствовал Н. Кошечкин, требовал немедленно прислать другого корреспондента, «порядочного, не склонного к поборам и зеленому змию», дабы он подготовил другую статью, где «восторжествовала бы истина». У первого же корреспондента Н. Кошечкин советовал выяснить «чего и сколько» получил он от лесника. Ирочка покусывала кончик шариковой ручки, думала, как бы половчее ответить пенсионеру. Сначала она поручила это мне, но я извел десять листиков — и всякий раз получалось не то, что надо. «Послушайте! — обращался я к Н. Кошечкину. — Журнал не Библия, в нем пишут о живых людях, а люди, как и всё на земле, меняются. (Это в том случае, если вы пишете о леснике и его сыне правду, в чем лично я, например, крепко сомневаюсь.) Что же касается ваших подозрений насчет нашего корреспондента, то это плод вашего больного воображения. И вообще бросьте вы вынюхивать, кляузничать, лезть в чужие дела. Вы — пожилой человек, каждый день жизни должен быть для вас праздником. Живите честно, открыто, поверьте, и вам и окружающим станет от этого только легче!»
— Это смешно, — поморщилась Ирочка, — ты словно вчера родился. Ты, Петенька, не кавалер Сен-Пре, а гражданин Кошечкин не Юлия. Он тебя не поймет. Ладно, отвечу сама.
Я смотрел на Ирочку и ненавидел себя. Хотел сделать одно, а все вышло по-другому. Поклялся не идти в редакцию, где Ирочка, а вот, сижу с ней в одной комнате. Самым невыносимым было то, что я опять, совсем как пять лет назад, любил Ирочку. Ловил глазами каждый ее жест, следил за выражением лица, но Ирочка была как ледяная кукла. Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы повторилось прошлое, но день без Ирочки уже казался глухой ночью. В первое свое рабочее утро я подкараулил ее у метро, крался всю дорогу до редакции сзади, словно восьмиклассник. В редакции попытался притушить безумие, но, видно, плохо получилось. Во всем этом: нашем сидении в одной комнате, Ирочкином смертельном равнодушии, ухмылочках толстого Кости — ощущалась некая замкнутость, которую мне было не преодолеть. Казалось, само время разладилось, — оно тянулось в отсутствие Ирочки, летело, когда я ее видел, — распалась связь вещей, нарушился ход событий, составляющих жизнь. В Ирочкиной власти было все исправить, но она только становилась угрюмее. Ей было плевать на меня, что-то другое волновало ее.
Толстый Костя — третий человек в комнате — в данный момент пил, причмокивая, чай. Ирочка кривилась как от зубной боли.
— Ты новый человек в редакции, — напутствовала она меня перед началом рабочего дня. — Первые впечатления обманчивы. Друзей по ним не выбирай. Приглядись к ребятам. Толстый Костя, сразу предупреждаю, будет говорить гадости про меня. Он бездарь и ничего не умеет, а потому завидует всем на свете. Напишешь чего-нибудь хорошее, он и тебя невзлюбит. Чужие способности для него — как личное оскорбление.
— Вдруг я тоже бездарь?
— Поживем — увидим, — не стала разубеждать Ирочка.
Она была в новом, странном для меня, облике. Коротко стриженные волосы собрала в строгий пучок. Ресницы не подкрашены — глаза кажутся пустыми ложками. Губы не подведены — кажутся белыми. Словно новую жизнь вела Ирочка, где не было места кокетству, легкомыслию, не говоря о прочих грехах. Очки сидели у нее на носу. В них она выглядела старше своих лет. Длинная черная юбка довершала новый Ирочкин облик.
Но я любил ее и такую.
— Да-да! Вот так-то! — отреагировала Ирочка на мой недоуменный взгляд. — И вообще, Петенька…
Я догадался, что означает «вообще», но все же попытался обнять ее.
— Ты мне противен! — как кобра прошипела она.
Обедали за разными столиками.
…Ирочка заставила переделывать вводку к материалу о горе-мелиораторах пять раз. На шестой молча положила ее себе на стол. Я тупо смотрел на пишущую машинку и думал, что двойной гнет — собственно Ирочки и Ирочки-начальницы — мне не вынести. Хотелось немедленно позвонить новоявленному москвичу, молодожену Игорю Клементьеву, поинтересоваться, нет ли у них там в газете захудалой должностишки: курьера, учетчика? Но я, как всегда, не делал того, что мне хотелось.
Ирочка читала мои мысли:
— Я заставляю тебя работать, Петенька, не потому что я такая вредная. Ты должен учиться. Смотри, какая хорошая получилась вводка на шестой раз. Значит, можешь. В принципе. Только надо шевелить мозгами, не быть бараном! — Ирочка хотела продолжить воспитательную беседу, но в этот самый момент дверь распахнулась, на пороге возник высокий стройный мужчина в сером модном костюме. Серовато-стальные тона преобладали в его внешности, придавали ему ускользающую расплывчатость. Он был бы похож на элегантную спортивную крысу с блистающим часовым браслетом на лапе, если бы крысы были ростом с человека, занимались спортом, носили часы «Сейку». Впрочем, возможно, дурное мое настроение было причиной такому сравнению. Запоминался не он сам, не его лицо, а лишь глаза — стылые, точно подернутая льдом прорубь. Я не знал, кто он и что он, а уже представлял себе его, упруго поднимающегося по лестнице дипломатического или внешнеторгового офиса.
Он поцеловал руку Ирочке, кивнул Косте, дружелюбно взглянул на меня.
— Наш новый сотрудник, — сказала Ирочка.
— Владимир Антонович, — назвался он. — Я работаю в соседнем здании.
Там как раз и располагался внешнеторговый офис, точнее, целое их сообщество. Наши черные и всевозможные иностранные машины вечно подъезжали и отъезжали. Жизнь там била ключом.
— Как на Кубе, Владимир Антонович? — поинтересовался Костя.
— Погода как в Москве, — ответил Владимир Антонович. — Танцевать, правда, стали меньше. Ром не подорожал, но чего-то мне не понравился. Может, отвык? Ирина, можно тебя на минуту?
Они вышли.
Вскоре Ирочка вернулась, и некоторое время мы сидели молча, занимаясь каждый своим делом. Вдруг Ирочка, совершенно не обращая внимания на нас с Костей, смахнула с лица очки, ликвидировала мерзкий пучок на затылке, выхватила из ящика стола зеркальце, карандаш, помаду — стала подкрашивать ресницы и губы. Лицо ее разрумянилось, глаза заблестели. Это была другая — прежняя — Ирочка. Как ведьма вылетела она из комнаты.
— М-да, — потянулся Костя, — эко ее шарахает.
Я молчал, стиснув зубы, понимая, что Костя обязательно продолжит.
И он продолжил:
— И отделом хочется заведовать, и Владимиру Антоновичу нравиться. Тяжеленько ей на два-то фронта.
— Да кто такой этот Владимир Антонович? — заорал я.
— Кого она искала всю сознательную жизнь. Молодой, разведенный, средней руки пока, но, видимо, растущий внешнеторговый работник, обеспеченный, с квартирой и машиной, в перспективе может осесть где-нибудь в посольстве и — до пенсии. Если снова женится, естественно. По счастью, он никакого отношения к журналистике не имеет. Так что она все просчитала. Ситуация как в романе, да? — ухмыльнулся Костя. — Интересно, что будет дальше?
— Дальше? Дальше… — я едва сдержался, чтобы не бросить в него стакан с карандашами. Промахнуться было почти невозможно.
— Да мне-то что? — вдруг обиделся Костя. — Идите вы все…
Я смотрел в окно, однако ничего там не видел.
— Как ты думаешь, — нарушил тишину Костя, — вернувшись в редакцию, она опять смоет тушь? Какое презрение к нам. Она нас за мужиков не считает! Слушай, — в его голосе звучала смертная тоска завистника, — и эта дама сделается заведующей отделом, нашей начальницей. Да она нас со свету сживет!
…Самолет влетел в ночь. Из окна можно было разглядеть сонные белые пространства далеко внизу, красные мигающие огоньки на крыле. Я воровато закурил. Соседка опять уронила «Анну Каренину». Я поднял книгу, внимательно изучил закладку — программу концерта ансамбля северного танца. Имени Тани Ранаунаут там не было. Танца «Невеста Севера» тоже. «Наверное, она вышла замуж, — подумал я. — У нее другая теперь фамилия».
ЧУКОТКА III
О Анадырь! Белый город моей юности. Я прожил там снежную зиму, оплывающую льдами весну, стремительное комариное лето и осень, которая спешила превратиться в зиму.
Когда летом во время белых ночей подплываешь к Анадырю, город ступенчато белеет на сопках, над ним прозрачное, как стекло, небо, звезды теплятся будто свечи. Вечером закат забирает город в красное кольцо. В три часа ночи стемнеет ненадолго, поярче разгорятся звезды, а потом опять рассвет.
В конце зимы я начал писать роман. Писал после работы перед черным окном, где, как в зеркале, отражалась лампа и моя бледная физиономия. Продолжал писать весной, которая поначалу не отличалась от зимы, разве дни постепенно становились длиннее, лампу можно было зажигать на час позже. Писал летом, когда пароходы вереницами ходили мимо окна, море угрюмо шумело, сквозь закрытую форточку в комнату просачивались комары, свирепо жужжали над ухом. Собирался писать и осенью, когда море засинеет до невозможности, последние корабли исчезнут за горизонтом, замельтешит белая шуга, сопки над городом покроются снегом.
Весной попросил зайти редактор.
— Разведка донесла, — сказал он, — пишешь роман?
— Да. А разве нельзя?
— А как закончишь, наверное, сразу уедешь? Пожинать, извини меня, славу?
— До славы далеко. Я только начал.
— Мне нравятся твои материалы.
— Спасибо.
— Знаешь чем? Стопроцентной выверенностью, ты пишешь именно так, как в каждом конкретном случае надо, знаешь, что можно, что нельзя, не переступаешь невидимой границы.
— По-моему, это сомнительный комплимент.
— Ты исполнительный сотрудник.
— Ей-богу, вы меня переоцениваете. Или в ответ я должен начать вас хвалить?
— Странно, — сказал редактор, — как же ты, обладающий столь развитым инстинктом самосохранения, извини меня, газетная работа — зеркало, оказался здесь у нас? Может, это понадобилось тебе для карьеры? Или, как сейчас говорят, для биографии?
— Ну вот, — ответил я, — то девица меня бросила, то с батькой поругался, теперь еще, оказывается, и тайный карьерист. Как я понимаю, роман — это тоже плохо?
— Роман-роман, — вздохнул редактор, — все правильно, роман. Это, извини меня, так знакомо.
— Что знакомо? Или вы думаете, из-за того, что я что-то там пишу, я стану хуже работать для газеты?
— Для газеты все, в принципе, работают одинаково. Не в этом дело. Видишь ли, — он вдруг как-то беззащитно улыбнулся, и я словно впервые разглядел его: сорокалетнего, лысеющего, в японской кожаной курточке на молниях, в рыжих унтах, на носу очки в тонкой иностранной оправе. — Видишь ли, — повторил он, — дело в том, что я тоже пишу роман. Уже лет пятнадцать… Нет-нет, — замахал руками, — я не хочу проводить аналогий, мол, я тоже когда-то писал, да вот вышел в редакторы, облысел, успокоился в мещанстве. Человек не может быть ничьим повторением. Извини меня, молодость вспомнил. Вдруг приходится решать: что делать дальше? Мечтать или жить? Сколько, сколько нас вот так… Искренне желаю, чтобы у тебя получилось. Дерзай! — он мгновенно стал прежним — деловитым, энергичным, в минуту разрешающим зависящие от него вопросы. — Как говорится, жизнь есть жизнь. Если надумаешь уезжать, предупреди хотя бы за месяц. Может, замену найдем.
— Я пока не собираюсь уезжать.
— Имею печальный опыт на сей счет, — редактор положил руки на стол, внимательно на меня посмотрел. — Ты, извини меня, много о себе думаешь.
— Не в этом дело, — сказал я, почему-то вдруг почувствовав к нему доверие.
— А в чем?
— Вы не то чтобы мне симпатизируете, себя жалеете. Смотрите сейчас на меня, а видите себя, каким когда-то были. Считаете, у вас уже нет выбора, как жить дальше, все предопределено, а у меня, мол, есть. Но все по-другому.
— Сложновато, — заметил редактор. — Так с ходу и не разберешься. Ты, оказывается, не только карьерист, но и психолог. Извини, шучу. Мы еще поговорим на эту тему. Что ты вообще сейчас делаешь?
— Очерк пишу о танцовщице.
— Давай пиши! — редактор стал вычитывать гранки.
— Большой получается, почти на полосу.
— А ты не бойся, — усмехнулся он, — понравится — дадим и полосу. Мы ценим таких психологов.
Я вышел из кабинета.
На лестнице встретилась Олимпиада.
— Новость слыхал? — спросила. Все новости первой узнавала Олимпиада, потому что обожала слоняться по кабинетам.
— Какую еще новость?
— Северный собкор от нас намылился. Тебе, наверное, предложат.
— Только что от редактора, он ничего не предложил.
— Кого еще они туда сосватают? Только тебя, дурака. Чай придешь пить?
— Приду, — сказал я, — только попозже.
В тот вечер я был «свежей головой», чаю мы попили вволю.
В начале одиннадцатого вышли из редакции. Мне было холодно, Олимпиаде жарко. Она расстегнула тулуп, взяла меня под руку.
— Петя, родненький, пойдем ко мне, а? Такая ночь, спать совсем не хочется. Ты посмотри, как звезды светят. А зачем, кому? Нам, что ли? Хрена! Пойдем, а? Я выходная завтра, чего весь день делать? Одна опять, мужика нет… Пойдем?
— Пойдем! — Я просунул руки в ее расстегнутый тулуп. Там было так тепло, что все у меня поплыло перед глазами.
— Ой! — оттолкнула Олимпиада. — Не слушай меня… Это от тоски. — И пошла куда-то в расстегнутом тулупе.
В безмолвном небе неизвестно зачем и кому светили звезды. Второй раз за последние дни от меня уходила женщина, а я не догонял.
Тихо было на улице. Лишь в ресторане «Чукотка» горели окна, ярилась музыка. Я миновал ресторан, свернул на свою улицу. Поднялся по темной, заставленной лестнице, открыл ключом дверь.
В прихожей меня встретил зевающий Сережа Лисицын.
— Привет! — приложил палец к губам. — Тебя какая-то красавица дожидается. Не знаю, может, уже ушла?
Я толкнул дверь. В комнате была Таня Ранаунаут.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В день, когда в редакции появился Владимир Антонович и Ирочка, напудрившись и накрасившись, побежала за ним следом, я пораньше ушел с работы, хотя, наверное, делать этого не следовало. Я сказал, что мне надо в библиотеку.
Прям и короток был путь — в ближайшую пивную, где за треснувшими мраморными столешницами толкались, гомоня, люди, ломали воблу, где окна были распахнуты по причине теплой погоды, в пивных кружках плавали нетрезвые солнечные зайчики.
«Не в библиотеку, значит, а в пивную, — мрачно ухмылялся я, — не книжной мудростью утешаться, а пьяной тупостью».
Я вспомнил, что последний раз пил пиво в городе Ялта в пивном баре «Краб» вместе со своим другом Игорем Клементьевым. Игорь был весел, я мрачен. По-разному мы прощались с вольной студенческой жизнью.
— Как же так? — приставал я тогда к Игорю. — Через две недели у тебя свадьба, а ты прохлаждаешься на юге? Дуешь пиво, пристаешь к загорелым девушкам.
— Я последний раз в жизни отдыхаю один, — ответил Игорь. — Будь милосерден.
— А если, допустим, во время этого одинокого отдыха ты встретишь девушку, которая покажется тебе более достойной, нежели невеста? Ты влюбишься в нее и поймешь, что только с ней будешь счастливым…
— Охота тебе издеваться надо мной? — злился Игорь. — Или читал на ночь книгу про любовь до гроба? Семейная жизнь — это жизнь, понимаешь, жизнь, а не любовь. Иначе бы ее так и называли — «семейная любовь»! — Игорь выдал это с некоторым самодовольством, которого прежде я в нем не замечал.
Он выковывал по ходу дела свою жизненную философию, казался сам себе уверенным и сильным. Ему было в радость опробовать ее свеженькие сверкающие лемехи на вечных, а потому беззащитных понятиях: «любовь», «долг», «честь», «совесть». Я понимал, все мои возражения Игорь отметет с жизнерадостным цинизмом уверенного в себе человека. Он находился в эйфории исполнения желаний — перед ним лежала ниц вожделенная Москва.
Я же испытывал иные чувства.
— То есть тебе не хочется, чтобы сейчас рядом с тобой была будущая жена?
— Представь себе, нет! — Игорь возбужденно поглядывал по сторонам. Он назначил здесь свидание.
Я хотел сказать ему, что хоть у меня не предвидится никакой свадьбы, лишь вторично бросившая меня Ирочка маячит в прошлом, я не могу, не могу смотреть на других девушек, бездумно слоняться по пляжам, не могу, несмотря на то что совершенно свободен в отличие от жениха Игоря. Но он бы спросил: а почему? И я бы не смог ответить.
Поэтому я сказал другое:
— А где гарантия, что тебе будет хотеться, чтобы жена была рядом всю оставшуюся жизнь, если ты ее сейчас — до свадьбы — не любишь?
— Такой гарантии быть не может, — ответил Игорь, — а люблю я ее или нет, это не твоего ума дело!
— Ты… — я подыскивал подходящее слово.
— Хочешь оскорбить? Подраться? Чтобы нас отсюда выкинули, как крыс? Петя, — дружески склонялся Игорь, — я ведь не виноват, что у тебя нелады с этой… Что она без конца тебя посылает. И давай вообще не будем говорить в пивной о любви! — Он восхищенно замахал руками. Сквозь столики к нам пробиралась девушка в великолепных белых брюках. Лицо, правда, было не очень запоминающимся. Загорелое, как и у всех девушек в Ялте в это время года.
Я с удовольствием оставил их вдвоем. На прощание Игорь сказал:
— Не переживай за мою нравственность, Петя. Лучше выпей на посошок. Выпьем… Оленька, да? За нашу молодость!
Я вышел на солнце. В Ялте нить понимания жизни у меня в который раз прервалась. Я словно опять ждал и не мог дождаться письма из Нальчика. Вновь приходилось вязать узелок. Быстро зашагал в сторону переговорного пункта.
Народу в этот час было мало. Кабина под номером «4» оказалась свободной. Телефон в этой кабине соединял с Москвой бесплатно, не надо было каждую секунду опускать пятнадцатикопеечную монету. «Совестью города Ялты» называли автомат немногие посвященные в его тайну.
Набрал служебный номер Ирочки.
Я выпил всего две кружки пива, но воспоминания ходили темными обидчивыми волнами, сердце ухало, словно колокол. Больше всего на свете мне хотелось услышать Ирочкин голос. Разговор с Игорем о любви и долге я затеял, чтобы как-то разобраться, смирить себя, привыкнуть к мысли, что, если тебе признаются в любви, в ответ на твое признание, читают древнее восточное четверостишие: «Запутана любовь, подобно косам ив. Любимый мой, вернись, не углубляй разрыв! За мною нет вины, как нет и за тобою. Зачем же врозь любить, сердца о боль разбив?» — а когда ты предлагаешь пожениться, посылают к чертовой матери, просят никогда больше не звонить, — это естественно, по крайней мере, объяснимо. Ирочка, возможно, любит меня, но выйти за меня замуж возможным не считает. Не та любовь. Кого-то она, возможно, любить не будет, но замуж за него с удовольствием выйдет. Такова жизнь?
Снова и снова набирал номер. Все здесь было бессмысленно без Ирочки. Мучительно хотелось, чтобы она была рядом. Купалась бы со мной в море, сидела рядом в летнем кинотеатре, а после мы бы ходили по улицам, болтая всякую чепуху. Прижимаясь лбом к прохладному стеклу, я вслушивался в протяжные гудки, но никто не поднимал трубку на тринадцатом этаже газетно-журнального комплекса. «Совесть города Ялты» не могла соединить меня с Ирочкой.
Узелок так и не завязался.
…Отставив кружку, выбрался на улицу. Побежал в сторону газетно-журнального комплекса, переливающегося на солнце, словно космический граненый стакан. Я возвращался туда, откуда полчаса назад ушел — якобы в библиотеку, — чтобы немедленно увидеть Ирочку. Увидеть — и все решить! Я понимал: возможно, меня ждет унижение, но выхода не было.
Взмыл на лифте вверх, ворвался в кабинет. Пусто. Набрал домашний Ирочкин номер, где застать ее было почти невозможно. Других Ирочкиных телефонов я не знал. Ответа не было.
Все было как тогда в Ялте. Только на этот раз я был в Москве.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Последний раз я был в Хатанге совсем недавно — этим летом. Летели вдоль реки на вертолете. Внизу темнела вода, по берегам цвела тундра. Вверху было ослепительное небо, дикие серые гуси летели параллельно с вертолетом. Потом резко взяли вниз. Вскоре мы оказались над самой дельтой. Огромная синяя Хатанга разорвалась на многие ленточки. Между ними клочки цветущей тундры, словно кусочки яркого ситца. Дикие серые гуси пропали из виду, впереди пылало солнце над ровной и бесконечной поверхностью воды — Хатанга впадала в океан.
Аэропорт Хатанги мало чем отличался от других северных аэропортов. По краям стояли красно-белые «Илы» — ледовые разведчики. Вдоль взлетной полосы сновали вездеходы.
Мы приземлились в Хатанге в пять утра по местному времени. Буфет не работал, газетный киоск тоже. Я сидел на скамейке, смотрел в окно. К нашему большому самолету тем временем подъехал бензозаправщик. Человек в куртке с поднятым капюшоном забрался на крыло.
На стене красовалась декоративная карта авиасообщения Красноярского края. Хатанга — самый верх, самый север.
От Хатанги до Анадыря еще три, что ли, часа.
Соседушка на сей раз вышла из самолета. Я хотел найти ее в зале ожидания, но не нашел. Зато увидел в окно. Она гуляла по аэропорту, набросив на плечи легкую шубку, и мороз — тридцать градусов — был ей нипочем.
Соскочил с крыла человек. Бензовоз отвалил. Объявили посадку.
ЧУКОТКА IV
— Ты в снегу, — сказала Таня. — Снимай шубу, я отряхну снег.
— Что ты, — скинул шубу, бросил на пол в углу. — Сама высохнет.
— Я к тебе пришла, — сказала Таня. — Но ты не рад.
— Я рад. Только…
— Не ждал, что я приду?
— Да. Не ждал. Точнее, не надеялся.
— И теперь не знаешь, что со мной делать? — улыбнулась она.
— Подожди, — попросил я. — Дай отдышаться.
Она сидела в кресле, которое мы с Сережей Лисицыным склеили из выброшенных каким-то удальцом обломков, можно сказать, вернули из небытия. Я прыгал на одной ноге возле двери — стягивал валенок. Наконец стянул его, но под валенком был сырой носок, а сырые носки я всегда сушил на батарее. Но батарея находилась под окном, а около окна в кресле, склеенном из обломков, сидела Таня — стройная, раскосая Таня, неправдоподобно азиатски красивая и смуглая «Невеста Севера» — танцовщица, очерк о которой я намеревался закончить завтра, а точнее, сегодня утром. Лампа горела на письменном столе, освещая черное окно, белые стены, этажерку с книгами, угол кровати, застланной куском шкуры белого медведя. Я снова прыгал, как кретин, стаскивая второй валенок.
— Отдышался? — спросила Таня.
— Вполне, — я попытался улыбнуться, изображая радость. Не знаю, правда, какая получилась улыбка. Во всяком случае, не самая непосредственная. — Обидно, — сказал я, — что я сегодня дежурил. Ты давно меня ждешь? Который уже час?
— Половина двенадцатого, — ответила Таня. — Только это не имеет значения. — Расстегнула ремешок, сняла часы, положила на стол.
Я представлял себе, как будет дальше. Как достану из-под кровати початую бутылку, с треском вскрою пачку с печеньем. Еще у меня были какие-то конфеты и, кажется, банка консервированного компота в холодильнике на кухне. Я буду тянуть руку к настольной лампе, чтобы выключить, а Таня будет шептать: «Не надо, не надо». Так примерно будет. Я вспомнил вдруг Олимпиаду в расстегнутом тулупе. Я ей сказал: «Пойдем!» — и не опомнись она, был бы сейчас у нее, конечно же не думая ни о какой Тане.
— Сейчас, сейчас… — бормотал, шаря руками под кроватью.
— Зачем? — изумилась Таня. — Не надо!
— А… как же? Не знаю, как тебя принимать. Видишь, музыкой даже не обзавелся…
— Что значит принимать? Какая музыка? Сейчас мы ляжем спать.
— Спать?
— Да. — Она сняла с кровати медвежью шкуру. — У тебя очень хорошая широкая кровать. Мне нравится.
Таня подошла ко мне совсем близко. Я положил ей руки на плечи. Впервые я так долго смотрел в ее черные раскосые глаза. Долго-долго стояли мы посреди комнаты, смотрели друг другу в глаза. Наверное, делать этого не следовало.
— Ну вот, — сказала Таня. — Мне все ясно. Я поняла, я тебе не нужна. Даже сейчас не нужна.
— Нет-нет, — возразил я, суетливо усадил ее на кровать.
— Не обманывай меня, я все время смотрела тебе в глаза. У тебя в глазах не было радости. Ты думал о другом. Я тебе совсем не нравлюсь, я напрасно пришла.
— Подожди, — сказал я, — подожди. Так нельзя. При чем здесь радость?
— Как при чем? Радость — это главное. Я пришла, а ты не обрадовался. О чем же говорить?
— Подожди, подожди…
— Хочешь мне наврать? Как ты меня любишь, как ждал все время? У тебя не получится. Ты слишком много думаешь там, где не надо думать, где надо просто радоваться.
— Нет-нет! То есть… Я действительно думал о тебе. Подожди. Хватит этих языческих разговоров!
Я обнял ее, поцеловал в холодные губы. Она стояла недвижная.
— Завтра утром улечу в Иультин навестить родственников. Вернусь через две недели. Потом мы уедем на гастроли в Канаду. Не скоро с тобой увидимся.
— Тем более, тем более, — бормотал, обнимая ее, недвижную.
— У тебя будет время полюбить меня, научиться радоваться, когда я прихожу, — она высвободилась, подошла к лампе, выключила ее. — Поздно. Я переночую у тебя. Отвернись, пожалуйста.
Я вышел из комнаты.
Когда вернулся, кровать была разобрана. Танина одежда аккуратно лежала на кресле, склеенном из обломков.
Раздеваясь, я швырял свою одежду на пол. Раздеваясь, я вспоминал, когда последний раз был в бане. Наверное, не надо было об этом думать, но я слишком устал в длинный день дежурства. Слишком много всего сегодня произошло и продолжало происходить.
Темно было в комнате. В окно светили звезды. Кому же и зачем?
— Таня, Танечка… — я попробовал ее обнять. Острые холодные коленки уткнулись мне в живот. — Я действительно тебя ждал! Ну, не отворачивайся, не надо! Зачем же ты тогда ко мне пришла?
— Если ты не дашь мне спать, я уйду! Не мешай! Ничего не будет, потому что я тебе не верю. Ты мне не обрадовался, я тебе не нравлюсь, я поняла.
— Ну, послушай! Чушь какая-то… Таня…
— Я сейчас уйду. Закричу. Разбужу твоего соседа!
— Черт с ним, буди!
Она изо всей силы ударила ногой в стенку.
— Хорошо, хорошо… — я отвернулся.
Она тихонько засмеялась.
Всю ночь я смотрел в потолок, всю ночь боялся пошевелиться. Только под утро задремал. Но это был тот самый момент, когда Таня тихонько собралась и ушла. Кинулся на попутной машине в аэропорт. Самолет на Иультин улетел пятнадцать минут назад.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тянулись-летели дни моей работы в журнале. Словно приговоренный, я оттягивал момент окончательного объяснения с Ирочкой, потому что заранее было все известно. То было сладкое мучение: сидеть напротив Ирочки, желать ее всей душой и при этом сознавать, что это невозможно.
Нам иногда приходилось разговаривать по служебной надобности. Как смертельно равнодушна была Ирочка! Не делала разницы между мною и толстым Костей, давним своим недругом. Между нами незримо присутствовал Владимир Антонович — владелец серой, цвета утреннего тумана, приобретенной на чеки «Волги», завзятый теннисист, иначе зачем на заднем сиденье зачехленная ракетка «Шлезингер», жестяная, похожая на пивную, банка с мячиками?
Однажды я ехал с Ирочкой в лифте.
— Ты хочешь выйти за него замуж? — спросил. — Умоляю, опомнись! Если мое присутствие тебе как-то мешает, я могу уволиться.
— Какой ты, Петенька, благородный! — поморщилась Ирочка. — Я хочу выйти за него замуж, но тебя это совершенно не должно касаться. Ты
тополиная пушинка, одуванчик, ты воздух, Петенька! Тебя нет, ты не существуешь.
Лифт остановился. Ирочка не оборачиваясь пошла вперед. Чего оглядываться на воздух? Какая отвратительная во мне проснулась наблюдательность!
В половине пятого я начинал сверлить взглядом каменные ступеньки офиса, откуда вскоре выходил, радуясь жизни, солнцу, здоровью, предстоящим удовольствиям, Владимир Антонович. Минут через пять начинала собираться и Ирочка. Она удалялась, напевая модную мелодию, а я устремлялся в коридор к угловому окну, откуда площадь перед соседним зданием, автобусы, машины, входящие и выходящие люди — все было как на ладони. Я смотрел, как Владимир Антонович подходит к своей машине, отпирает дверцу, закуривает, и только монументальный его локоть выглядывает из машины. Смотрел, как Ирочка, надвинув на кончик носа темные очки, словно разведчица, пробирается между машинами. Владимир Антонович распахивает дверцу, и Ирочка, мелькнув коленками, усаживается рядом на переднее сиденье. Серая «Волга» выбирается на виадук, исчезает за поворотом.
Какая отвратительная во мне проснулась наблюдательность!
Мне было известно Ирочкино пристрастие менять одежду. На даче она переодевалась десять раз на дню. Тем отвратительнее, тоскливее я себя чувствовал, когда утром Ирочка появлялась в том же, в чем была накануне. Значит, она ночевала не дома.
Вдруг начал сочинять стихи о любви. То был не насыщающий труд. Готовя подборки читательских писем о погубленных речках, вырубленных рощах, погибших зверях и птицах, кипел гневом.
— Похвальный какой гражданский пафос, — удивлялась Ирочка. — Как раз то, чего сейчас так не хватает, Петенька.
Сладкое мучение: сны, где Ирочка была со мной, явь, где она мне не принадлежала, — все продолжалось, пока не пришла пора ехать в командировку в город Киев.
Я поехал туда на поезде. Весь вечер слушал в купе спор двух попутчиков: есть ли разница между житомирским и московским временем.
В Киеве встретился с парнем — бывшим выпускником знаменитой лесной школы, а ныне слесарем, который прислал в редакцию письмо, где предлагал отыскать с помощью журнала их бывший класс, посмотреть, кто кем стал, сбылись ли их мечты, поговорить о жизни, вспомнить детство в лесной школе, клятву любить и защищать природу, которую они дали на выпускном вечере. Ирочка долго раздумывала над письмом, потом у нее родилась идея. Она была повадлива выдумывать новые рубрики, затевать на страницах всякие полемики, предлагать занятные идеи. За это наверху журнал похваливали. Ирочку вот-вот должны были утвердить заведующей отделом. «Мы выберем из их класса пяток самых интересных ребят, — сказала она. — Пусть каждый выступит в журнале. Небольшое такое выступление на полторы-две полоски. На примере этих орлов мы, во-первых, покажем, как сейчас обстоит дело с охраной природы, не все же они стали слесарями. Во-вторых, можно сказать, коснемся биографии целого поколения! Чем живут современные молодые люди? Какова их нравственная позиция? Воплотились ли, наконец, в жизнь их чистые детские мечты?»
— Вряд ли, — сказал я.
— Так уж и вряд ли, — ухмыльнулась Ирочка. — На земле еще иногда встречаются счастливые люди. Собирайся-ка, Петенька, в Киев. И помни, первое выступление должно задавать тон остальным.
— По дороге в Киев… — вспомнил было нехорошую частушку толстый Костя.
Ирочка поморщилась, глаза у нее недобро заблестели.
— Бог свидетель, я долго терпела, — вздохнула она, — но надо, надо… — она словно сама себя в чем-то убеждала. — Надо!
Убедила.
— Ты ничтожество, Костя, — спокойно произнесла Ирочка. — Ничтожество вообще, а в журналистике суперничтожество. Все твои подкалывания, хохмочки, вся твоя нелюбовь ко мне — от неуверенности и страха. В жизни все может случиться, — продолжала Ирочка, — возможно, ты станешь начальником, а я стану никем, но все равно ты останешься ничтожеством, пусть даже при чинах. Впрочем, в чинах твоих я сильно сомневаюсь. Зависть сильнее тебя. Ты никогда не научишься писать! Ты выбрал не ту дорогу, Костя.
Он сидел бледный. Только сейчас я обратил внимание, что Костя сидит над чистым листом бумаги, а корзина у стола полна скомканных листов.
— Ты, говорят, написал еще одну сказочку? — поинтересовалась Ирочка.
Тайно от нас Костя писал сказки и даже носил их в отдел литературы, где всякий раз сказки заворачивались.
— Оставь в покое мои сказки! — крикнул Костя. — Они хоть добрые.
— Над твоими сказками потешается вся редакция. Возможно, они и добрые, не знаю, но убеждена, что бездарные. Бездарное же не может быть добрым, Костя, оно злое! — сказала Ирочка.
Костя еще больше побледнел. Я поймал на себе его полный страдания и ненависти взгляд. Самое непереносимое для Кости было, что все это слышу я.
— Я! Ты… Ты еще пожалеешь! Я иду к редактору! — Костя выбежал из комнаты, хлопнул дверью.
Ирочка пожала плечами.
— Ты не права, — сказал я. — И, думаю, сказки — не твоя стихия.
— Только не говори, не говори, что он несчастный, жалкий человек, который никому не причиняет зла, — горячо произнесла она, хотя я и не думал ничего говорить. — Он причиняет зло уже тем, что сидит не на своем месте. Здесь мог бы работать какой-нибудь талантливый энергичный парень, а не этот… — Ирочка выругалась. — Ну да ладно. Значит, что нужно в Киеве…
Ирочкин прямой немигающий взгляд парализовал меня. Я тупо слушал, что нужно в Киеве.
— Эх, Петенька, дружочек, — закончила инструктаж Ирочка. — Да попади ты под его начало, как бы он тебя давил. Ах, как бы он тебя давил… — Она смотрела на меня с некоторым даже сожалением, что этого не происходит. Я чувствовал себя виноградной гроздью, которую уже начали давить.
Ирочка вертела мною как хотела.
— И все равно — так нельзя! — упрямо пробормотал я.
— А идите вы все! — Она швырнула ручку на стол. — Один готов со свету сжить, другой чувствителен, как барышня! — Ручка прокатилась по столу, свалилась на ковер.
…Я пробыл в Киеве четыре дня, обошел музеи, раз сто прогулялся по Крещатику, посетил кафе «Билий ведмидь». Вечера проводил у парня. Он жил невесело: болела дочка, на заводе срезали премию, ему было не до меня. Однако же никто не заставлял его писать письмо в редакцию, поэтому приходилось терпеть мое общество. «Я рано женился, — рассказывал парень. — Дочка вот родилась. Всё! Времени свободного теперь нет, с заочного пришлось уйти. Тут еще на заводе реконструкция. Дай, думаю, почитаю вечерком, а перед глазами строчки плывут… Мебель купили кое-как, теперь долгов полторы тыщи. Я эту лесную школу как сказку сейчас вспоминаю».
Потом хлынул дождь, вода потекла по Крещатику. Я ходил по городу, промокая до нитки. Тогда еще каждый новый город вызывал во мне жадное любопытство, и Киев — колыбель земли Русской — вошел в память как ковчег, плывущий по волнам. Из-за дождя пришлось сдать авиабилет, взять железнодорожный. В купе почему-то оказался один. Ночью, за чуть качающимся столом, под звон стакана и ложечки писал материал. Тогда я был нетерпелив. Собрав материал, писал немедленно: неважно, день был или ночь. Иногда закрывал глаза, звон превращался в колокольный. Колокольным звоном окутана, соединена земля. Древняя Русь… Тряс головой, прогоняя наваждения.
«Всегда, когда мне не везло, когда становилось трудно, когда жизнь, как говорят моряки, «давала крен», всегда на помощь приходили воспоминания о лесной школе, где мы учились любить природу, быть ей полезными…»
А за окном свистела темнота, вспыхивали и гасли огни станций, деревья бросали тени на освещенные перроны. По коридору гулял теплый ветер. Три часа ночи.
«А мне? Какие, интересно, воспоминания придут на помощь мне?» — смотрел в окно, гладил зачем-то его руками. Белыми казались руки. Вспоминались восковые прозрачные пальцы летописца Нестора. Толпа подвыпивших парней грохотала башмаками по гулким камням: «Побигли смотреть на предков, хлопцы!» Явилась мысль, что лучше бы утешаться не воспоминаниями, а делом. Смотрел на исписанные листки. То было дело, однако эпизодическое, истерическое. Не бред ли — писать в поезде, да еще ночью? Ирочка! Имя ее обрело для меня вечный, мирозданческий смысл. Я жил, мыслил, чувствовал в границах, определяемых Ирочкиным отношением ко мне. Ради нее был готов на все, но ей было на это плевать. У Ирочки вообще не было никакого ко мне отношения! Потому образ ее расширялся, как галактика. Переживания, сомнения захватывали меня, вертели, как пушинку. В поезде, под стук колес, под звон стакана и ложечки я постигал собственные ничтожество, неприкаянность. Ирочкино равнодушие, как мертвое море, объяло мою жизнь вообще. Я не принадлежал сам себе, не знал, что делать, к чему стремиться. Я принадлежал бесплодным, разрушительным мыслям, существовал в замкнутом круге.
«Что произошло? — думал в пять утра, в рассветном голубом купе, кутаясь в холодную простынь. — Откуда это наваждение? Ведь жил я раньше без Ирочки». Воспоминания о студенческих годах, обо всем, не связанном с Ирочкой, казались сейчас пустыми. То была не жизнь, то было бездумное скольжение пуха, полет ничтожнейшего облака по небу. Мысль, что я — ничто пред Ирочкой, потому что я — ничто вообще, не давала покоя. «Надо что-то делать! Надо что-то менять!» — тупо бубнил в такт колесам.
В половине десятого поезд вкатился в Москву. Я поехал домой, помылся в ванной, лег спать. Дневной сон, как известно, тяжел и сумрачен. Проснувшись, потащился зачем-то в редакцию. Конец рабочего дня. Над асфальтом дымное марево. Вспотевшие люди проваливаются по эскалаторам в метро. В газетно-журнальном комплексе затишье, даже лифты, кажется, снуют разморенно.
Наша комната оказалась закрытой. Ни Ирочки, ни толстого Кости.
В холле, дожидаясь лифта, увидел Владимира Антоновича. Сначала подумал — галлюцинация, но это в самом деле был он, с гадкой сумочкой на запястье.
— Здравствуй, Петя, — приветливо поздоровался. — Давно тебя не видел. Ездил куда?
— В Киев.
— В Киев, — вздохнул он, — а лучше бы в Париж.
— Это вы в Париж, а я рылом не вышел.
— Хотел позвать Ирину на футбол, — закрыл тему городов Владимир Антонович, — неожиданно сунули билеты. Позвонил — не отвечает, думал, может, собрание какое. Зашел, а тут пустыня. Четвертьфинал Кубка кубков. Наше «Динамо» играет со шведами. Ты, случайно, не болельщик?
Я пожал плечами. Футбол я смотрел по телевизору. Да и то только чемпионаты мира.
— А то пошли?
— Я? С вами?
— Со мной, — он посмотрел на меня с недоумением. С чего это я кобенюсь? Вряд ли они с Ирочкой обсуждали мою персону.
Я смотрел в светлейшие его, спокойнейшие глаза и люто ненавидел его.
— Хорошо. Все равно делать нечего. Вечер — псу под хвост. Пошли.
Он вежливо улыбнулся, не реагируя на мое хамство.
Лязгнув, лифт остановился на нашем этаже.
Я смотрел в литой затылок Владимира Антоновича, различая сквозь светленькие волосы нежную розовую кожу, одновременно следя, как вспыхивают и гаснут на табло над дверями цифры: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Приехали.
ЧУКОТКА V
В начале марта я получил письмо от Тани. «Подумай вот о чем: раз ты в газете работаешь, возьми командировку, прилети сюда ко мне? Посмотришь на нашу жизнь. На оленях покатаемся. Я еще буду здесь неделю. Потом нас всех соберут, будут репетиции, а потом гастроли — сначала в Канаду, потом по Союзу. Скажешь, чего тебе надо, я привезу. А если хочешь, я никуда не поеду. Останусь с тобой. Мне восемнадцать лет, и я уже могу выйти замуж. До свидания, Таня».
Очерк «Невеста Севера» был напечатан три дня назад. С фотографией он занял почти всю четвертую полосу нашей газеты, только колонка для теле- и радиопрограмм и для прогноза погоды осталась справа.
— Неплохой материал, — сказал на летучке редактор, однако посмотрел на меня довольно сурово. То была особого рода скорбная суровость, когда человек сознательно или бессознательно отделяет слова от дела. Слова немедленно умирают в воздухе, дела живут своей независимой жизнью. Летучка проходила у него в кабинете. Редактор все время посматривал в окно. Там стояла слегка припорошенная снегом новенькая, табачного цвета «Волга». Недавно редактор сделался машиновладельцем. — Да, неплохой! — повторил он, повернулся вдруг ко мне: — Как поживаешь, Петя? Доволен жизнью?
Скрытый смысл почудился мне в этом доброжелательном вопросе. Каким-то образом он затрагивал меня, новенькую, табачного цвета «Волгу», обсуждаемый очерк, роман, который я упорно писал по ночам.
— Вполне, — ответил я.
— Ну-ну, — улыбнулся редактор.
Летучка продолжалась.
…Я писал очерк солнечным утром. Сережа Лисицын насвистывал в прихожей, налаживал короткие зимние удочки. Мы собирались на лиман, ловить корюшку. Я чувствовал: очерк получается хороший. Это очень редкое чувство, однако оно знакомо каждому, кто пишет. Я даже позволил себе такую роскошь — прервать работу. Оделся, и мы с Сережей отправились на лиман. До заката ловили, втыкая пойманных рыбок в снег, где они стояли, как свечи. Жаль было невинных рыбок, но потом приходил азарт. На закате вернулись домой. Сережина жена начала жарить корюшку, а часть рыбок оттаивала в раковине, отчего в квартире пахло свежими огурцами. На улице совсем стемнело. Покончив с рыбой, пили чай с вареньем. Тепло, любовь переполняли меня. Даже об Ирочке Вельяминовой вспоминал без прежнего волнения: «Что взять с Ирочки? В конце концов, она женщина. Каждой женщине хочется устроиться в жизни. Ирочке, возможно, как-то слишком уж хотелось. Интересно, что она сейчас поделывает?» Ирочка была далеко, воспринималась отвлеченно. С наваждением было покончено.
…После летучки заглянул к редактору в кабинет. В этот же момент на его столе зазвонил телефон. Разговор был недолгим. Четкими, уверенными «да» и «нет» обходился редактор. Только один раз встревоженно уточнил: «Кожа? Настоящая кожа?» — «Настоящая, настоящая», — видимо, успокоил невидимый собеседник.
— Извини уж меня, — вздохнул редактор, — хочется жить красиво даже в этих суровых широтах.
Он смотрел на меня иронично, и я понял, что к прежним разговорам о смысле жизни, о поиске себя в изменчивом мире возврата не будет. Редактор сильно изменился в последнее время. Раньше как будто сомнения были не чужды ему, теперь же он твердо знал, зачем живет, что надо от жизни.
Он не удержался, снова бросил взгляд в окно на машину. Движения его, жесты сделались вальяжными, плавными. Даже закуривал теперь он не нервно, а с удовольствием, как всего достигший, уверенный в себе человек. Кого-то он мне вдруг напомнил.
— Что, Петро, пришел сообщить, что становишься на крыло?
— В пределах округа. Если отпустите.
— Куда?
— В Иультин. Три материала как минимум. К тому же оттуда давненько ничего не было.
— Иультин? — он пожал плечами. — Извини меня, это не Рио-де-Жанейро. Пожалуйста. Хотя подожди, подожди! Но ты должен лететь на совещание оленеводов! Иультин отпадает.
— Мне надо, очень надо.
— А кого я пошлю на совещание? Зотов в больнице, Исакова сидит дома с ребенком. Разве что Лисицына, так ведь он писать не может. А оттуда нужен отчет строк на триста. Некого мне туда посылать!
— И все-таки мне бы очень хотелось немедленно слетать в Иультин.
— Ну да, и застрять там из-за погоды деньков на десять. Извини меня, не могу рисковать. Дался тебе этот Иультин. Что хоть там?
— Надо.
— Тогда, как говорится, исполать. Лети. Но только после совещания. Передашь материал и лети прямо оттуда.
Он был прав, спорить было глупо.
— Хорошо. — Я пошел к двери.
— Подожди, — остановил редактор. — Раз уж пришел, послушай и меня. Твои последние критические материалы… Про этого завбазой, про ресторанную компанию, потом про этих строителей из управления. Всё ведь взяли на контроль, в каждом случае имело место разбирательство. Так вот, ты сгущаешь краски, извини меня, рубишь сплеча. Это не только мое мнение. И потом для критических материалов существует определенная квота, превышать которую не рекомендуется. Давай-ка отдохнем от критических материалов, хорошо? Ты вот написал про танцовщицу. Напиши теперь про врача, можешь про какую-нибудь библиотекаршу.
— Да не сгущал я краски, наоборот — смягчал. Могу дать объяснение по каждой строчке.
— Не надо, — поморщился редактор, — мы уже это обсудили.
— Конечно. Я здесь ни с кем и ни с чем не связан, могу в любой момент встать на крыло. А многим здесь жить да жить, да?
— У тебя ко мне все? — спросил редактор.
— Да. Я пойду.
— А у меня к тебе нет. Хочешь поехать на Север собкором? Хочешь, в Певеке сиди, хочешь, в Уэлене.
— Это неожиданное предложение. Я так сразу не могу.
— Подумай, подумай, — поднялся из-за стола редактор. — Свобода, покой и воля. Это же, извини меня, исполнение желаний.
— Да, но… — я не договорил. «Да» перевешивало «но».
— Позвони вечерком. Тогда я сразу с утра в окружком. Там есть другая кандидатура, какой-то директор Дома культуры. Писать он, конечно, не умеет. Буду отводить.
Дома я внимательно перечитал письмо Тани: «А если хочешь, я никуда не поеду. Останусь с тобой. Мне восемнадцать лет, и я уже могу выйти замуж».
— Я согласен, — позвонил вечером редактору домой.
— Теперь надо, чтобы согласились в окружкоме, — ответил он, — но я надеюсь, все будет в порядке. Значит, так, сначала совещание оленеводов, потом Иультин, и — вперед! Иультин, — усмехнулся. — Неужели опять неудачная любовь?
— Да нет, — ответил я, — будто бы нет.
— Иультин еще туда-сюда, — усмехнулся опять редактор. — Смотри в Уэлене не влюбись, там край земли. Дальше — Аляска.
— Постараюсь, — пообещал я.
Ночью мне приснилась Таня Ранаунаут. Она неслась по тундре в упряжке белых оленей.
На следующий день я улетел на совещание оленеводов. Два дня светило солнце, погода была прекрасная. Я отправил корреспонденции с летчиками. А когда можно было лететь в Иультин, погода испортилась. Снег повалил как из бездны, началась пурга. Я просидел в переполненной поселковой гостинице полторы недели.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
На машине Владимира Антоновича довольно быстро добрались до стадиона «Динамо». Там столпотворение, по газонам ездят милиционеры на лошадях. Пока ехали, молчали. Купленная на чеки, «Волга» Владимира Антоновича и внутри имела иностранный вид. Мне все было ненавистно во Владимире Антоновиче, поэтому я механически переносил ненависть на невинные вещи. Магнитофонные колоночки напоминали ощеренные пасти, часы на руке Владимира Антоновича, словно издеваясь, слепили меня своим блеском. Я пытался вглядеться в лицо Владимира Антоновича, но не было сил. Перед глазами все плыло, вместо его лица — какое-то светло-серое расплывчатое пятно. Мне казалось, и мысли Владимира Антоновича столь же стандартны, качественны и бездушны, как окружающие его вещи. Я ненавидел его — сорокалетнего теннисиста, автомобилиста, внешнеторгового отечественного иностранца, снисходящего до общения со мной, отобравшего по случаю мою девушку. Я ненавидел символ благополучия, им установленный: аккуратную квартиру, домашний бар, слайды, умопомрачительную музыку, разные симпатичные иностранные штучки.
Однако же и странное раздвоение я испытывал.
А давно ли мне самому стал бесконечно чужд этот символ? Давно ли сам я перестал думать, что это замечательно: мчаться на собственной машине по загородному шоссе, обнимать за плечи сидящую рядом девушку, наслаждаться стереомузыкой, лакомиться в ресторане. Мечтать о красивой жизни не запретишь! Таким образом, наметилось в моей ненависти к Владимиру Антоновичу второе — недостойное — русло: почему это у него все есть, а у меня ничего нет? Ни шиша! Почему?
Пока шагали к стадиону, раз десять спрашивали про лишние билеты. «Нет!» — угрюмо буркал я. Владимир Антонович только вежливо и сожалеюще улыбался.
Он вообще держался, как римлянин, — спокойно, с непререкаемым достоинством. Владимир Антонович знал свое место в этом мире. Это для него играли футболисты, для него посверкивали огнями рестораны, ему улыбались встречные девушки. Я подумал, что никогда, ни секунды не думал, даже не надеялся, что что-то в мире происходит для меня. Будь у меня хоть стокомнатная квартира, сундуки денег, все равно вызвать водопроводчика останется проблемой. Никогда не смогу я изящно договориться с автослесарем, чтобы он без очереди починил мою машину. Потому что я из тех, кто всегда стоит в очереди! Неужели и из-за этого Ирочка презирает меня и любит Владимира Антоновича?
Заняли места. Как и следовало ожидать, прекрасные места на центральной трибуне. Внизу зеленело поле, по беговым дорожкам носились мальчишки — подавальщики мячей. Красный закат повис над стадионом. Владимир Антонович внимательно изучал программку с составом игроков. Я курил, тупо уставясь на поле.
— Кубок кубков, — произнес Владимир Антонович. — Как величественно звучит. Почти как Песнь песней.
Я мучительно искал в нем несовершенства, подтверждающие мои мысли, но он был на редкость естествен и дружелюбен. Слова, жесты, движения были точны, красивы. Вот он сбил ногтем пепел с сигареты, вот недовольно посмотрел на часы. Владимир Антонович отдыхал, отвлекался от житейской, служебной, любовной суеты.
На поле выбежали судьи в черных костюмах. Уверенно и бодро устремились они в центральный круг. Народ на трибунах неодобрительно засвистел. Не любят у нас судей.
— Если наши выиграют, выйдут в полуфинал, — объяснил Владимир Антонович. — Хотя вряд ли выиграют. Первый матч в Швеции ноль — два проиграли.
Из раздевалок гуськом выбежали наши и шведские игроки. Часть болельщиков решила поприветствовать наших футболистов аплодисментами, тогда как другие заранее выразили свое отношение к шведам пренебрежительным свистом. В результате свист и аплодисменты смешались. Игроки, как горох, рассыпались по полю, вратари запрыгали в воротах, судья уставился в собственную ладонь.
«Арбитр посматривает на секундомер, — вспомнилась неоднократно слышанная фраза, — сейчас раздастся…»
— Начали, — сказал Владимир Антонович. — Если наши сразу же заколотят, игру еще можно спасти.
— Ура, мы ломим, гнутся шведы! — вспомнил Пушкина кто-то с верхней скамейки.
— Полтаву им, Полтаву! — заорал другой эрудит.
Судья засвистел.
Первый штрафной.
Незаметно темнело. Над стадионом вспыхнули прожектора, и оказалось, что трибуны как бы погружены в темноту, поле же, напротив, освещено необыкновенно ярко. Я смотрел то на поле, то на противоположные трибуны, словно на другой берег. Там красными точками тлели сигареты. Синий табачный дым стоял над стадионом. Прожектора светили сквозь него, как сквозь туман.
В середине первого тайма наши забили гол. Все разом вскочили, заорали: «А-а-а-а!!!»
— Если вытянут два — ноль, — перевел дух Владимир Антонович, — будет дополнительное время.
— До одиннадцати, что ли, будут играть?
Владимир Антонович закурил, бросил спичку под ноги.
— А ты, я смотрю, не болельщик. Напрасно.
Мне показалось, ему надоело играть в кошки-мышки. Показалось, момент окончательного объяснения настал. Я внутренне скрючился и распрямился, но в этот момент наш нападающий выскочил один на один со шведским вратарем и промазал.
— Сапожник! Сволочь! — заорал Владимир Антонович, хватил кулаком по сиденью. Глаза сверкали. Владимир Антонович отдыхал. На меня он смотрел уже без прежнего миролюбия. Я подумал: есть, есть в нем силушка. Недобрая силушка, когда, запершись на семь замков, напиваются до бесчувствия, или ни с того ни с сего говорят гадости женщинам, или затевают бессмысленную драку с незнакомым человеком. И это тоже мужество! И это тоже, наверное, нравится Ирочке! — Никогда не будь пораженцем, Петя, — сказал Владимир Антонович. — Будь кем угодно, только не пораженцем.
— Чего?
— Наши заколотят второй гол! — ободряюще, словно сыну, улыбнулся мне. — Куда пасуешь, морда? — негодующе приподнялся. — Ослеп, козел?
Я тоже начал болеть за нашу несчастную команду. Поощрительно подвывал, когда наши приближались к воротам шведов, свистел, как соловей-разбойник, когда ирландский арбитр назначал штрафной в наши ворота.
Динамовцы атаковали. Казалось, еще чуть-чуть, самую малость приналечь — и мяч влетит в ворота шведов, но этой самой малости как раз и не хватало. То мяч предательски убегал за линию поля, то наш нападающий спотыкался, красиво падал на траву, ожидая, что назначат пенальти, то шведский вратарь подскакивал, как кенгуру, отражая верные удары.
Гол вкатили нам. Нелепый, я бы сказал, гол.
Белоголовый швед, горбатясь, одиноко пробежал с мячом вдоль самой боковой линии, потом вдруг очень точно навесил мяч на вратарскую, где, кроме наших защитников, находился маленький турок, играющий в шведской команде по найму. Этот турок — весь матч его было не видно — принял мяч на грудь, ловко обвел нашего гиганта защитника, тихонько катнул мяч в самый угол ворот. Вратарь драматически растянулся, коснувшись мяча лишь кончиками пальцев.
— Ходи веселей, черноголовый! — пьяно закричал кто-то, запел цыганочку. — Откуда ты взялся, турок?
Все горько рассмеялись.
При позорном безволии нашей команды матч шел к концу.
…Молча мы шагали с Владимиром Антоновичем к машине.
— Гнусный гол, — подвел черту Владимир Антонович. — Тебя подвезти?
— Если только вам по пути. До проспекта Маркса.
Поехали по Ленинградскому проспекту, потом по улице Горького. С площади у Белорусского вокзала вылетел сумасшедший грузовик, который чуть не задел нас бортом. Владимир Антонович виртуозно увернулся, потом несколько минут ругался матом.
«У него прекрасная реакция, — подумал я, — и еще это… он, пожалуй, сильнее меня».
— Где, говоришь, тебя высадить?
— На проспекте Маркса.
Я неожиданно подумал, что наша совместная езда тоже своего рода отдых для Владимира Антоновича, тренировка нервной системы. Если он сам не заговорит об Ирочке, думалось мне раньше, то заговорю я. Сейчас я убедился: это смешно. Само слово «любовь» приобретало неприличный смысл в присутствии Владимира Антоновича. Я уже не то чтобы ненавидел его, я растерялся. Мне было до слез жалко Ирочку.
Все последующее уместилось в мгновение. У метро, у красной буквы «М», Владимир Антонович притормозил. Сожалеюще посмотрел на меня, тем не менее давая выбор: уйти как интеллигентному человеку, либо уйти как хаму. Однако же в присутствии Владимира Антоновича слово «интеллигентность» превращалось в «трусость», так как сам он не был интеллигентным человеком. Я вспомнил, как он вел себя на стадионе, как материл шофера грузовика. Только удар! Только подлый внезапный удар мог произвести некоторое впечатление на Владимира Антоновича. Удар, а не слова. Только как-то некрасиво бить без предупреждения.
— Вы… Ты мразь! Ты! Всегда ненавидел таких, как ты! Обожравшаяся сволочь! Она же тебе не нужна, скоту, я знаю! На! — размахнувшись, я ударил, но рука моя даже не коснулась Владимира Антоновича. Ее обожгла дикая боль, в локте что-то хрустнуло.
Я сидел с завернутой за спину рукой, уткнувшись лицом в дверцу, слушал, как хохочет Владимир Антонович.
— Ирина говорила мне, что ты кретин, но ты, оказывается, еще и боец! Спасибо, старик, повеселил. Ладно, гуляй! — он повозил меня носом по боковому стеклу, потом распахнул дверцу и каким-то сверхъестественным пинком вышвырнул на середину улицы под ноги прохожим.
— Каратэ, Петя. Зря не увлекаешься. Благодарю за компанию. — Захлопнул дверцу.
Машина уехала.
— Ну что, огреб? — толкнул меня в спину проходящий мимо пьянчуга. — Здорово он тебя, я видел.
— Да, — согласился я. — Очень здорово.
Рука болела. Жить не хотелось.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Самолет летел среди подсвеченных солнцем облаков, голубого неба. Внизу белела тундра, вздымались сопки в желтых пятнах травы, черные круглые озера смотрели не мигая с земли, словно глаза.
Родной чукотский пейзаж.
В Хатанге экипаж сменился. Улыбающаяся раскосая стюардесса разносила стаканчики с пузырящейся минеральной водой.
Мне вспомнился давний перелет из Анадыря в Уэлен на так называемый корпункт. Летел на трясущемся «Ан-2», вцепившись руками и ногами в багаж. Два чемодана вез: в одном книги, в другом вещи. Словно малое дитя, прижимал к груди футляр, где стонала пишущая машинка. Понимал, случись что — чинить негде будет.
Уэлен — край земли. Дальше — угрюмые волны взламывали лед. Чувство края — забавное чувство. Повернувшись лицом в сторону океана, я видел пустоту воды и неба. Обиды, горести, печали — все сходило на нет перед этой необозримой, словно смерть, пустотой. Жизнь тоже как бы обретала новое измерение. Повернувшись к поселку, видел бесконечные пространства земли. И везде жили люди. Ноги сами несли за письменный стол — писать роман.
Я и писал его как мог.
Здесь, в Уэлене, я уже не чувствовал себя всему на свете чужим, слабым. Смотрел на жизнь спокойно, хоть иногда и темнело в глазах. Но иногда бывало и хорошо. Это для меня теперь шумело море, кричали чайки, мне светил полярный день.
В Уэлене поселился в деревянном двухквартирном доме. Из окна видел заснеженную сопку с железным шпилем радиомачты. Когда светило солнце, радиомачта сверкала. Вторую половину занимал бородатый биолог из научно-исследовательского института по изучению Севера. В прошлую навигацию он ухитрился получить рояль, и каждый вечер, засыпая, я слышал музыку.
Я написал письмо Тане Ранаунаут, где объяснял, почему не смог приехать к ней в Иультин, но она не ответила.
В конце апреля предпринял путешествие, чтобы порадовать газету свежей информацией из отдаленных мест. Вылетел в Певек, оттуда в Эгвекинот, потом в Билибино, где начиналось большое строительство. Белая ночь голубела над Полярным кругом. Черная сильная вода взламывала белый лед.
Я писал об огороднике, выращивающем на вечной мерзлоте лук. Об учете и охране белых медведей, которые бродят среди торосов, на шкурах цифры. Помнится, отчего-то я восставал против этих цифр. Сам наблюдал, как в медведицу стреляют ампулой, когда она высовывается из берлоги, как она потом лежит на снегу парализованная, но все понимающая, в глазах — боль и смертная тоска. Люди же в это время вытаскивают медвежат, сажают на весы, вделывают им в уши алюминиевые заклепки с номерами. Вскоре медведица поднимается, качается, словно пьяная, а люди быстро уходят к вертолету, который ревет и машет винтами неподалеку.
По возвращении в Уэлен охватило томление. Все мысли были об одном, каждую ночь снилась Таня. Наведался в местный клуб на танцы, но девушки там были редкостью. Бородатый биолог намекал на возможность каких-то сомнительных увеселений в дальних стойбищах, но я в это не верил. Светлыми вечерами, когда уже не было надобности зажигать лампу, когда бородач наигрывал за стеной романсы, я вытаскивал из чемодана обтрепавшуюся газету с очерком «Невеста Севера», смотрел на фотографию, вспоминал ночное появление Тани в квартире на улице Рультытегина, наш разговор, письмо, где она сообщала, что ей восемнадцать лет и она вполне может выйти замуж. Это «замуж» никак не укладывалось ни в одну из возможных комбинаций наших отношений, которые я неистово проигрывал по ночам в уме. Это «замуж» всякий раз сдерживало руку, когда я садился писать Тане второе письмо, возвращало с половины пути на переговорный пункт, откуда я собирался ей звонить. «Да что, в сущности, было-то? — думал, гуляя по немногочисленным улицам, неизменно выводящим к морю. — Ничего!»
Однако что-то определенно было.
Из газет я знал, что ансамбль ездил на гастроли в Канаду, вернулся, дал концерт в Анадыре, уехал в Красноярск на какой-то смотр-конкурс.
Ночами одолевала бессонница.
Я уходил на берег океана. Дул ветер. Однако же вместо набегающих волн, плывущих льдин видел родную Москву, прямую, идущую под уклон, улицу, на которой жил, вечернюю цепочку фонарей. Мне нравилось смотреть из окна на фонари и тополя. Они тянулись вперемежку до перекрестка, венчающего улицу с проспектом, где на толстой железной ноге стоял светофор. Я вспоминал свою комнату, поблекший ковер на стене, письменный стол, вертящееся кресло. Вспоминал мать — она писала часто. Отца — он почти не писал. Игоря Клементьева — он продолжал расти по службе. Вспоминал свою бывшую работу: раздрызганный «Рейнметалл», мягко скользящий лифт, даже буфет вспоминал, где готовили вкусный кофе. В такие минуты неясно было: зачем я здесь, в Уэлене, где первого мая — минус двадцать девять, где улицы упираются в океан, а он восемь месяцев в году покрыт льдом. Где бородатый биолог, наигравшись на рояле, идет стрелять уток. Где нет друзей, нет близких, наконец, девушек нет! Зачем я здесь, а не в Москве?
Зачем?
Так я думал бессонными ночами.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Давно канул куда-то пьянчуга, восхитившийся, как здорово Владимир Антонович выкинул меня пинком из машины. Давно прикрылись поздние винные магазины. Ночные люди вдруг потеряли интерес к общественному транспорту. Они выскакивали на проезжую часть, энергичными взмахами рук останавливали такси, уносились в неведомые пределы. Ночь так коротка, так много надо успеть!
Я сидел на холодном гранитном парапете, курил, стряхивая пепел на асфальт. Руки дрожали. Правая рука болела все сильнее. Я попросил идущего мимо парня дернуть меня за руку. Стиснул зубы. Парень дернул на славу. Я чуть не заорал. Опять что-то хрустнуло. Но теперь хоть рукой можно было шевелить, сгибать ее в локте.
Мысли являлись самые нелепые. То хотелось прорваться в кафе, где играет ансамбль, и плясать, плясать, плясать! То мечталось о бутылке, которую еще можно было взять «на вынос», сильно переплатив «папаше». Только куда я пойду с этой бутылкой? Единственный друг Игорь Клементьев находился в данный момент в командировке, в городе Ашхабаде. Единственная девушка, должно быть, обсуждала сейчас с Владимиром Антоновичем подробности недавнего инцидента. Ах как они сейчас хохочут!
Можно было, конечно, отправиться домой, завалиться спать, но разве можно спать в такую ночь?
Мысли путались.
Я сам не знал, чего хотел.
«Кубок кубков… Песнь песней…» — бубнил, шагая по улице Горького.
Рука почти не беспокоила. Мучило другое. Ирочка и Владимир Антонович вместе, а я ничего не могу изменить!
Вот тут-то и вспомнилось, как в последнее время вздрагивала Ирочка, когда открывалась дверь нашей комнаты или раздавался стук. С чего бы ей вздрагивать? Она ждала Владимира Антоновича и одновременно боялась. Чего боялась? Ирочка с тоской смотрела из окна на офис, где работал Владимир Антонович. Откуда тоска?
Действительно, в последние дни он звонил ей реже.
Я вдруг подумал: у таких людей, как Владимир Антонович, просто так ничего не бывает. В том числе и сегодняшний Кубок кубков. Уж он-то знает, что делает! Теперь мне казалось, что, вышвырнув меня из машины, Владимир Антонович поехал вовсе не к Ирочке. Я свалился на него, как манна небесная, оказался тем самым предлогом, которого он ждал! Потому он, подлец, и был так вежлив поначалу, что ждал: когда же я заговорю об Ирочке? А заговори я, он бы со скорбной мужской слезой дал бы слово не приближаться к ней. Потому как Ирочка ему больше не нужна!
Однако и то, что случилось, он сумеет повернуть себе на пользу. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Я заскочил в телефонную будку, набрал Ирочкин номер. Она схватила трубку моментально, словно держала телефон на коленях.
— Я слушаю! — быстро, взволнованно и нежно произнесла Ирочка.
Повесил трубку. Теперь я был совершенно уверен: Владимир Антонович поехал не к Ирочке.
Все как бы перевернулось. Из мира кривых зеркал я угодил в мир зеркал прямых, как удары по физиономии.
Свернул на проспект Маркса, пошел мимо родного университета в сторону Библиотеки имени Ленина. За оградой на скамеечках целовались пары. Я направлялся к остановке тридцать третьего троллейбуса, который должен был довезти меня до самого дома. По длинному мосту мимо кинотеатра «Ударник», по улице Димитрова, по бесконечному, освещенному желтыми фонарями, Ленинскому проспекту.
Троллейбус стоял на остановке пустой. Только хмельной дядя на заднем сиденье собирался ехать по второму кругу. Я ни о чем не мог думать. Только об Ирочке, сидящей дома перед телефоном.
Троллейбус остановился на перекрестке. По улице шли редкие прохожие. Девушка в красном плаще лихо перелетела улицу, словно ведьма. Скрылась в темноте, вынырнула у телефонной будки. Но там парень и девушка, целуясь, набирают номер. Должно быть, девушка скажет маме, что останется ночевать у подруги в Бирюлеве. Телефона домашнего, естественно, у подруги нет. И саму подругу мама не знает, потому как подруга новая. «Ах, какие телефоны в Бирюлеве, мама? Из автомата звоню, из автомата. Как здесь темно… Счастливо, мамочка!»
Как безумный, выскочил из троллейбуса. Бежал через дорогу, уворачиваясь от машин, в голове прыгала галиматья: «Добродушные лапландцы, запрягши своих оленей, мирно пьют из толстых кружек благотворный жир тюлений».
Парень и девушка, покончив с разговором, вышли из будки. Ведьма в красном плаще, не дождавшись, растворилась во тьме. Я набрал Ирочкин номер.
— Добрый вечер, это Апраксин. Не хочешь говорить, повесь трубку, я не обижусь.
Ирочка долго молчала.
— Чего тебе надо? — поинтересовалась наконец.
— Я тебя люблю, слышишь? Я догадываюсь, что произошло, но это ничего не меняет, слышишь, ничего не меняет! Вот. Я… Может, встретимся?
— Ты или окончательно поглупел, — сказала Ирочка, — или сильно выпил. А может, сошел с ума. Не звони мне, пожалуйста! Оставь меня в покое!
Бросила трубку.
Я вышел из будки.
Что дальше?
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В глухой ночи я стоял перед домом на Воробьевых горах. Здесь на третьем этаже Ирочка снимала то ли комнату, то ли однокомнатную квартиру. Ее окно тускло светилось сквозь серые шторы. Первый камешек стукнулся в карниз, упал вниз на газон, перепугал затаившуюся там кошку. Второй тюкнулся в стекло. Третий оказался счастливым: в окне показалась растрепанная Ирочкина голова. А я любил, когда она приглаживала волосы. С гладкой головой она казалась отличницей, пай-девочкой, только что получившей пятерку.
Через десять минут она спустилась, приблизилась ко мне, задевая юбкой тугие жесткие кусты. Я поразился, какая она худенькая. Черный свитер обтягивал Ирочкину шею, словно ветку. Глаза у Ирочки блестели, но злобы в них не было. Она вообще показалась мне другой в мире прямых зеркал. Меньше всего в жизни мне сейчас хотелось торжествовать, но я был близок к этому. То было какое-то ненормальное торжество, что жизнь продолжается, звезды светят, деревья шумят в ночи, Москва-река невдалеке катит свои воды. Что сейчас я другой и Ирочка, как я надеялся, другая.
— Я не должна была тебя мучить, — глухо произнесла Ирочка. — Извини меня. Как видишь, я за это неплохо наказана.
— Наказана? Да брось ты! Радуйся, что развязалась.
— Ты… в себе? — тихо спросила Ирочка.
— Как никогда. Впервые в жизни в себе!
Ирочка смотрела на меня с беспокойством.
— Он не приедет, не позвонит, ты ему не нужна, он мразь! — выпалил я, опасаясь, что Ирочка прервет, но она молчала. Я угадал, я все угадал про Ирочку и Владимира Антоновича!
— Бог с ним, Петенька, — наконец произнесла Ирочка. — Я как-нибудь сама разберусь. Без тебя. Зачем ты пришел? Ты здесь совершенно лишний.
Деревья едва шевелили на ветру желтеющими листьями. Сумрачно белели скамейки, на которых никто уже не сидел по причине позднего времени. Мы медленно двигались к общежитию университета, к смотровой площадке, откуда экскурсанты и брачащиеся глядят на панораму города: на купола, на Лужники, опоясанные Москвой-рекой. Купола божьих храмов темны, их сковал сон. Мы тихо ступали по асфальтовой дорожке, окруженной темными елями, не топали, словно стеклянной была дорожка.
Говорить более было не о чем.
— Ты играешь на пианино? — вдруг спросила Ирочка.
— Нет. А что?
— Так просто.
Миновали маленькую белую церковь, в которой, кажется, венчался великий полководец Кутузов. Ночной воздух, темнеющие дали, размытые очертания высоких светлых заборов, звезды над головой — все подводило к некоему очищению. Вопрос о пианино был некстати. Он был из старого мира кривых зеркал. Старый мир никуда не делся, он продолжал существовать, я ощутил это с горечью. Параллельно с очистительным ладом звучала другая мерзкая мелодия. То Владимир Антонович, скрючившись, барабанил по клавишам. И чем дальше, тем отчетливее становилась мерзкая мелодия. Порывы хороши, даже прекрасны, спору нет, однако быстротечны. Я вдруг подумал: какое, собственно, имею право вмешиваться в Ирочкину жизнь? Холодок пробежал по спине, вновь заболела рука, но Ирочка пока не чувствовала моего смятения, слишком была увлечена своими думами.
— Моя беда, — сказала Ирочка, — в том, что больше всего в жизни я ненавижу ожидание. Мне всегда было противно жить и ждать, просто ждать, ждать чего-то.
— Не то ты ждала, — ответил я. — А если ждешь не то, всё — наперекосяк.
Ирочка посмотрела на меня, словно впервые увидела.
— Который час?
— Не знаю.
— Не знаешь, — усмехнулась она, — а что то, что не то, знаешь! Какого рожна я здесь с тобой хожу, вздыхаю? Чего тебе надо? Посмотрел? Насладился? Да-да-да! Я брошенная, посланная, но ты… Ты мне не нужен, понимаешь, ты мне даже противен со своей паскудной моралью. Ты очень сытенький, привык жрать с блюдечка. Вольно тебе болтать, что — то, что — не то. Катись отсюда! Катись, дружочек, я не хочу тебя видеть.
Я схватил ее за руку. Она вырвалась, перебежала улицу, остановилась под козырьком троллейбусной остановки. Это было смешно, стоять там. Какие троллейбусы в это время? Однако пока я закуривал, троллейбус, как призрак, показался из-за поворота. Сама судьба послала его в доказательство, что я в сотый раз — кретин, а Ирочка… Что ж, ошиблась, с кем не бывает. Судьба всегда была против меня. Ирочка вскочила в троллейбус, двери закрылись. Он покатил по Воробьевскому шоссе прямо к Ирочкиному дому.
Как я бежал! Наверное, никогда в жизни еще так не бегал. Задыхался, едва не падал, но темпа не сбавлял. Я загадал: если остановлюсь, отстану, произойдет что-то ужасное, непоправимое. Хотя, конечно, ничего бы не произошло. Темень, стук сердца, в ушах свистит воздух. Тусклым желтым овалом плыло передо мной окно троллейбуса. И Ирочкина спина. Она смотрела вперед, не подозревая о моем славном спринте.
— Ты что, бежал за троллейбусом? — изумилась Ирочка, выйдя на остановке, заслышав мой топот, увидев меня, спятившего ночного бегуна.
Говорить я
не мог. Рухнул на скамейку.
— Зачем? — устало спросила Ирочка.
— Хотел догнать. Боялся, что уедешь… Потому что…
— Что потому что? Говори, я слушаю.
— Я тебя люблю.
Каких усилий потребовали эти слова. Однако я произносил их в последний раз. Мосты не строятся из воздуха. Всему на свете есть предел.
Ирочка подошла ко мне вплотную. Под глазами темные круги. Я вдруг заметил седину в ее волосах. Странно было говорить с ней о любви. Она провела сухой жесткой ладонью по моему лицу.
— Спасибо, дружочек. Только вот ведь в чем дело: ты мне не нужен. Ты мне совсем не нужен, Петенька, дружочек, пойми же ты это!
Я все еще не мог нормально дышать. Вздыхал, как рыдал. Вероятно, это было отвратительно.
Ирочка легонько коснулась холодными губами моих дрожащих губ.
— До свидания, дружочек, — сказала, — до свидания. Пора со всем этим кончать. Я тебя не люблю, что тут поделаешь? Прости, если что не так. Все, конечно, не так, да только… — махнула рукой. — До свидания, Петенька, — пошла к своему подъезду.
Я вскоре увидел, как вспыхнул свет в ее окне. На серой шторе, точно в театре теней, возник ее силуэт. Ирочка сидела, опустив локти на стол, обхватив голову руками. Как будто читала.
Через некоторое время начало светать. На газонах зашевелились скворцы.
Я пошел домой.
ПРО ИРОЧКУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Утром на нашем этаже газетно-журнального комплекса было тихо. Нервные сотрудники и авторы еще не усыпали пеплом ковровые дорожки. Я вышел из лифта, пошел по коридору в нашу комнату. У двери остановился как вкопанный, заслышав голоса Ирочки и Владимира Антоновича. Сначала говорила Ирочка — горячо, взволнованно. Ничего было не разобрать. Владимир Антонович отвечал спокойно, отчетливо: «Да, мне не нравится, когда всякая шелупонь оскорбляет меня в моей же собственной машине. Что? Нет уж, уволь, сама разбирайся со своими дружками. Ах, это… Ну, знаешь, милочка, в твоем-то уж возрасте никто из этого не делает трагедии. Ведь не впервой, мне-то можешь не врать… Ну да, да, можно еще пожаловаться моему начальству, написать в партком. Вот тебе на память визитная карточка моего руководителя. Ты, честное слово, меня смешишь. Господи, какая трагедия! Три дня в любой больнице по месту жительства. А сейчас, может, и быстрее, давненько, извини, не интересовался этим вопросом. Если по знакомству, то вообще в этот же день. Слушай, хватит! Давай не будем об этой мифической любви, как ты не понимаешь, это, наконец, смешно! Ах, вот оно что… Я так и думал. Ладно, я не жадный. Пожалуйста, если ты полагаешь, что я как-то к этому причастен… Кстати, советую тебе потрясти и нашего молодого друга. Всё — прибыток. Пока!»
Дверь распахнулась, мы оказались лицом к лицу.
— А вот, кстати, и он, собственно персоной! — обрадованно воскликнул Владимир Антонович. — Он подслушивал! Плакал твой прибыток. Ну что, — хлопнул меня по плечу. — Руку подлечил?
— Вон! — закричала Ирочка. — Убирайся вон! Возьми вонючие деньги, скотина! — скомкав, швырнула в дверной проем десятки. — И ты убирайся! — вытолкнула меня в коридор, захлопнула дверь.
…В этот день я ушел с работы, так и не приступив к работе, что было явным нарушением дисциплины. Зачем-то потащился на работу к Игорю Клементьеву. Там встретил нашего сокурсника Сережу Герасимова, которому вскоре предстояло ехать на Чукотку по распределению.
ЧУКОТКА VI
…Потом я заснул, потому что не слышал команды пристегнуть привязные ремни. Сквозь сон зато видел, как самолет нырнул в чистый воздух над синим Беринговым морем. Сопки укрупнились, корабли замельтешили на воде, мелькнули и пропали белые рафинадные домики Анадыря. Окончательно разбудил толчок шасси. Я подпрыгнул в кресле. Самолет уже бежал по посадочной полосе. Вскоре он остановился напротив здания аэропорта. Смолкли турбины. Подъехал трап. Народ потянулся на выход. Девушка-соседка, помахивая сумкой, шла по салону. Глупо было ее догонять. Столько времени сидел рядом в кресле, а знакомиться решил, когда прилетели!
Необъяснимая робость охватила. Надо вставать, собираться, я же без конца перекладывал из кармана в сумку и обратно свернутую газету, совершенно мне ненужную. Давным-давно всю ее от корки до корки прочитал, номер мне показался так себе. Обнаружил две грамматические ошибки, три фактические неточности, несколько двусмысленных заголовков. Хоть сейчас выступай в их редакции на летучке!
Зачем я рвался в эту командировку? Сейчас здесь протекала другая река. В Анадыре меня никто не ждал, не помнил. А если и помнили, то забыли.
Самолет быстро пустел.
Конец сентября, но как тепло в Анадыре! Бархатный сезон.
У меня не было багажа, я сразу двинул на автобусную остановку, узнал, что автобус до переправы пойдет через час. Вернулся в аэропорт — красное кирпичное здание, которое строили так неторопливо.
Некоторое время бесцельно слонялся по этажам, глядя в большие чистые окна. На взлетной полосе ревел «Як-40», улетающий в Магадан. Три желтых «Ан-2» стояли в углу. Эти летают на местных авиалиниях: Уэлен, Беринговский, Иультин… Иультин!
Зачем я рвался в эту командировку?
Купил в киоске местную газету, жадно проглядел. Фамилии корреспондентов были сплошь другие. Редактор тоже сменился.
Другая река несла другую воду Вряд ли мне кто встретится из прежних знакомых. Я подумал, что приехал сюда потому, что это моя работа. Что у меня есть задание, которое я хочу выполнить как можно лучше. Что мне интересен этот край, эти люди. В конце концов, это прекрасно посетить места, где бывал в юности.
В окна аэропорта светило солнце.
Двенадцать часов. Полдень.
Из типографии в это время обычно приносили первые оттиски завтрашних полос. До двух читка-правка, потом обед, ожидание исправленных оттисков. Величественно поднималась в редакцию Олимпиада. Русые волосы убраны под косынку, шаг тяжел. Ох, не любила она переливать на своем поющем линотипе абзацы, не любила.
Возвращение. Интересное слово. Попытался сам придумать ему этимологию. Воз. Врат. Возвращение — некий воз, въезжающий в некие врата, через которые он уже когда-то проезжал. Что на возу — неизвестно, но дважды — в одни врата. Но как тогда быть с «вращением»? С древнегреческой рекой, которая, вместо того чтобы измениться или остаться неизменной, закручивается в омут? Значит, возвращение еще и омут, когда не разобрать, какая вода тебя крутит: старая, новая? Быть может, не в воде дело, а в человеке?
Я вспомнил возвращение с Чукотки в Москву. Звонили знакомые, говорили разные глупости. За год рассеялась атмосфера, соединяющая меня с большинством прежних знакомых, и, пытаясь возродить былую близость, я задыхался, отвечал невпопад, впадал в тяжелое молчание.
«С бородой?»
«Ты там случайно не женился? Не вывез симпатичненькую эскимосочку?»
«Вот, поди, спиртяги-то нахлебался?»
«Куда будешь тыщи девать? Много там заколотил?»
«Ждем, когда пожалуешь с рыбой, с икоркой. Ты что, надо же отметить!»
Такие, в общем-то, обыкновенные вели со мной разговоры. Однако я как-то подрастерял многие прежние знакомства.
Я въехал в Москву на неведомом возу, и неведомое содержимое неведомого воза неожиданно начало мною распоряжаться. Мне хотелось убедить самого себя и окружающих, что там, на Севере, я стал бывалым человеком, познал что почем в жизни.
Но это было не так.
Какие, в сущности, испытания выпали на мою долю?
Однажды зимой слегка обморозил руки. Летели в стойбище на «Ан-2», но не долетели. Сели на снег, потек двигатель. Пока пилот вызывал по рации самолет, я бегал вокруг самолета. Мороз был под сорок. Поливали керосином и жгли какие-то тряпки, пустые мешки, чехлы. Другой самолет прилетел через пять часов. А в моторе нашего надо было все время дергать клапан, чтобы не примерз. Примерзнет, не взлетим, объяснил пилот. Мы и теребили его по очереди. Руки, таким образом, слегка себе попортили. Страшного-то ничего не произошло. Просто с тех пор, когда на улице даже небольшой мороз, руки противно ноют, болят.
Еще был случай, скорее смешной. Готовили с Сережей Лисицыным репортаж о геологах. В выходной поехали с ними на вездеходе в баню. Баня была на базе, километрах в двадцати, что ли. Полпути проехали, началась пурга. С дороги сбились, вездеход по самую крышу занесло. Сутки сидели в кузове, стуча зубами, согреваясь изредка спиртом, который припасли, чтобы выпить после баньки. Потом нас вытащили.
Вот, собственно, и все, что на возу.
Да еще никак не забыть ветер. Он свистел даже в моем окне. Особая там образовалась акустика. Ложился спать — ветер. Просыпался — ветер. Первое время в Москве я не мог привыкнуть к тишине за окном.
…Ирочка позвонила на следующий день вечером.
— Прилетел, орел? — спросила.
Я подумал, что вряд ли она оценит содержимое воза. Ветер, занесенный снегом вездеход, слегка обмороженные руки — даже расскажи я ей про это — все равно это для нее блажь, ребячество, дурость моя.
— Почему орел? Тогда уж ворон. Как там, помнишь: «Какой я мельник, я ворон!» Или наоборот?
Совершенно спокойно слушал ее голос. Сердце стучало ровно, руки не дрожали. Странно было, не верилось, что когда-то я трепетал, произнося ее имя. За содержимым воза Ирочку было не разглядеть. Первопричина была другая. Может быть, она заключалась в том, что год назад катастрофически пуст был воз. Именно ветра, занесенного по крышу вездехода, обмороженных рук, еще кое-чего и не хватало?
— Улетел-прилетел, — сказала Ирочка. — Как птичка божия.
— Ну да, — сказал я, — по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там.
Злые, возможно, остроумные, близкие к истине Ирочкины реплики меня не волновали.
— Современный положительный молодой герой, — продолжала Ирочка, — всегда имеет возможность в корне изменить свою жизнь — пустую и бесцельную, взять да как с цепи сорваться, допустим, на Дальний Восток или на Север. Только он обычно приходит к мысли, что его место там. Почему ты так быстро вернулся, дружочек? Испугался трудностей? Ты меня разочаровал. Я собиралась писать о тебе заметку.
— Тебе кажется, что быстро, — ответил я. — К тому же все имеет свой предел.
— Да-да, он называется «эго», то есть «я». Есть такое направление в философии, солипсизм. Я — в центре всего. Я — альфа и омега мирового существования. Захотел — улетел, захотел — прилетел. Что прилетел, хорошо, а вот зачем надо было улетать?
— Философию, что ли, сдаешь? — спросил я. — Читаешь критику буржуазных концепций? Смотри не перепутай. Альфа и омега — это, по-моему, из Библии. На каком ты хоть сейчас курсе?
Ирочка, сколько я ее знал, училась на заочном, преодолевая раз в три года один курс. «Университет, — вздыхала она, — моя боль, стыд и позор».
— Лучше не спрашивай. Все еще на третьем.
— Действительно, я быстро вернулся. Какой он у тебя серьезный, этот третий курс. Ты попробуй сдать экстерном?
— Нельзя, дружочек. Знаешь, сколько нас ходит… экстернов? Давай не будем ссориться?
— Давай.
— Тебе совсем не интересно, — спросила Ирочка, — как я живу, какие у меня новости, что вообще происходит?
— Ты знаешь, нет.
— Вдруг я вышла замуж?
— В таком случае поздравляю.
— По-моему, ты возгордился, дружочек.
— Да не в этом дело.
— А в чем же? — поинтересовалась Ирочка.
— Как тебе объяснить. Наверное, в том, что нет никакого дела. Понимаешь, нет у нас с тобой никакого дела. Когда-то было, а сейчас нет. Ты не обижайся, это не хамство. А вот так сплетничать, болтать с тобой ни о чем я не могу. Найду себе для этого другую подругу.
Потом я ужинал. Потом мылся в ванне. Потом смотрел допоздна цветной телевизор, пока симпатичная дикторша не пожелала спокойной ночи. Однако спокойной ночи быть не могло. Хотя бы потому, что я еще не освоился с разницей во времени.
У меня было много свободного времени в Уэлене. Продолжались белые ночи. Над поселком нескончаемо тянулись утки. В них лениво постреливали, но редко доставали.
Сошел снег. Море окончательно взломало лед. Охотники смолили кунгасы, очищали от ржавчины багры. Начинался промысловый сезон — избиение несчастного, доверчивого морского зверя. В Уэлене появились геодезические и геологические партии, квартирьеры стройотрядов. Новые люди оживили поселок. Покончив с обязательными заметками, я садился за роман.
Все ждали начала навигации. Наконец пришло сообщение: вышел первый караван.
Через месяц он добрался до Уэлена. Весь поселок вышел его встречать. Я написал заметку под названием «Корабли в Уэлене».
Вскоре получил письмо от редактора. Он хвалил за оперативность, иронизировал по поводу заголовков и подписей к снимкам. «Твои заголовки и подписи просты, как сама жизнь», — писал редактор. В конце письма он интересовался, думаю ли я брать летом отпуск. Редактор советовал брать его и на время моего отсутствия даже изъявлял желание подослать в Уэлен человечка, неплохо водящего пером. Я не собирался в отпуск, о чем и отписал редактору. Через неделю получил от него второе письмо. Редактор рекомендовал присмотреться к моему соседу-бородачу: оказывается, он с ним немного знаком, намекал, что летом дружба с бородачом окажется весьма кстати, во-первых, потому что бородач знает здесь каждую собаку, во-вторых, летняя пора — это время, когда, так сказать, решаются и многие зимние проблемы. Суровая же действительность, увы, такова, что приходится скрепя сердце прибегать к услугам даже таких людей, как бородач. Прежний собкор неплохо с ним ладил, но сейчас он на материке, я же в отпуск не захотел… «Так что, — бодро завершал письмо редактор, — придется летом потрудиться!»
Я не придал значения письму, выбросил вон, о чем сильно жалел впоследствии.
Вскоре пошла рыба.
Кета, горбуша, нельма, чавыча, кижуч, голец — вся эта красная в серебристой чешуе рыба тянулась косяками вдоль берегов, а севернее заворачивала в реки, там метала в быстрой воде икру, а после, изуродованная, червивая, скатывалась по течению вниз, в море, где ее лениво дожидались сытые размордевшие нерпы и огромные северные дельфины белухи.
Чукотские рыболовецкие бригады ловили рыбу день и ночь, обметывая сетями прибрежные воды. Грузовики везли на склады сотни бочек засоленной рыбы.
Тысячи рыбин погибали, но остальные упорно, неостановимо стремились на нерест. Впереди самцы, такие здоровые и сильные, что, случалось, прорывали сети, сзади осторожно плыли самки. Даже попав в сеть, самка почти не билась. Спокойно дожидалась, пока сеть вытащат на песок, до последнего оберегала икру. Инстинкт продолжения рода был сильнее инстинкта самосохранения.
Возле сетей шныряли нерпы. Они не гонялись за отдельными рыбинами. Подплывали к дергающимся, переполненным сетям, отъедали у рыбин головы. Рыбаки-чукчи, выбирая сети, выбрасывали обезглавленную рыбу. Отлив уносил ее далеко в море, где паслись дельфины белухи, дожидающиеся своей доли рыбного пирога.
Пойманную рыбу складывали на берегу. Разделывать обычно начинали немедленно. Стоило ненадолго отойти, тут же налетали чайки и бакланы, выклевывали у рыбин глаза и жабры. Страшно выглядела гора безглазой, с рваными жабрами, рыбы на песке. Вокруг бродили отяжелевшие птицы. Некоторые дремали на одной ноге, прикрыв глаза белой пленкой. Я ничего не написал в газету о рыболовецких бригадах.
Больше я не слышал по вечерам игры на рояле. Бородатый биолог появлялся дома редко. Скидывал куртку, снимал резиновые сапоги, ложился спать. Спал день и ночь, потом снова исчезал.
— Что, — поинтересовался он однажды, — корреспондентам рыбка и красная икра отныне не нужны?
— Да обхожусь как-то.
— А домой послать, порадовать родителей? Начальство побаловать? Или когда в отпуск на море поедешь. Маленькая баночка, и в любой гостинице у тебя номер, на любой рейс билет.
Он говорил это совершенно серьезно, и я задумался о том, что есть «культура». Безусловно, хорошо играть на рояле — культура. Читать и перечитывать книгу американского философа Генри Торо «Уайлдер, или Жизнь в лесу» тоже культура. Но как тогда уживаются с этим рассуждения об икре как средстве поселиться в гостинице, взять билет на самолет. Ведь бородач именно так и живет. Икра, конечно, мелочь, но кто знает, где его, выражаясь языком психотерапевтов, нижняя черная граница? То есть рояль, Генри Торо — наносное, как сусальное золото на чугуне. Истинная культура, думал я, и подобный взгляд на жизнь несовместны, как гений и злодейство. Впрочем, какое мне дело до бородача? Очень некстати припомнился вдруг Владимир Антонович.
— Где и как вы ловите? — спросил я.
— Ишь ты какой прокурор! — засмеялся тот. — Неужели думаешь, мы какие-нибудь браконьеры? Со мной два парня — молодые ученые, милейшие семейные люди. Разрешение ловить имеется, кто же нынче ловит без разрешения? Там у нас курорт. Песочек, дюны, ветерок с моря. Гурзуф! Можешь взять с собой свою писанину. Пока рыба не идет, успеешь и для себя поработать. Недельку еще половим — и по домам. Ну?
— Я подумаю. Мне редактор писал. Ты его знаешь?
— Я здесь всех знаю, все начальство! — захохотал бородач, потирая в непонятном возбуждении руки. Со стороны магазина к нам приближался, как я понял, один из молодых ученых, милейший семьянин, напарник бородача. — Что? По маленькой? — спросил бородач.
— Спасибо, воздержусь.
Утром бородач стукнул в дверь. Я быстро оделся, повесил на шею бинокль. Сунул зачем-то в сумку и рукопись романа, подумав, как, должно быть, это здорово: писать на берегу моря. Вот только бы не комары…
— Ишь ты, — сказал бородач, увидев меня с биноклем на шее. — Прямо какой-то сын капитана Гранта!
Сели в вездеход. Видимо, для сокращения пути поехали не по дороге, а прямо по цветущей тундре. Сок раздавленных ягод краснел на гусеницах.
Несколько часов тряслись на жестких скамейках, шлепками уничтожая комаров. Наконец выскочили на берег. Тут комаров было меньше.
— Слушай, — перекрикивая шум мотора, спросил у бородача, — где ты учился играть на рояле?
— А… — засмеялся он. — Сначала в Магадане в музыкальной школе, потом в училище. Был лауреатом областного конкурса, в консерваторию отправляли, вот так!
Показался лагерь. Палатка, круг пепла от костра на песке, навес, под которым стоят бочки, дощатый стол. Все чистенько, интеллигентно, и главное — нигде не валяются пустые бутылки. Бородач познакомил меня с другим своим товарищем — молодым ученым, семьянином.
— Ну, я поехал, — буркнул шофер.
— Ага. Расчет по окончании сезона. Смотри у меня… — бородач с ласковой злобой потрепал шофера по загривку. — Чтобы был через неделю! Давай-ка, ребята, по-быстрому бочки закинем!
— С сегодняшнего дня, — объяснил мне мое положение бородач, — одна пятая часть пойманной рыбы и одна седьмая икры — ваши. Почему лишь одна седьмая, вправе спросить ты?
— Чьи это — ваши? — не понял я.
— Ваши, твои, какое мне дело! Ишь ты какой обидчивый. Твои! Конечно, твои.
Я молчал. Этот разговор мне не нравился.
— Объясняю на пальцах, — продолжил бородач. — Весь икорный инвентарь, всякие там грохотки, бидоны, марли для тузлуков, посуда, сети, шесты, бочки, банки, крышки — все наше. Ты, так сказать, пролетарий, которому нечего терять. У тебя — пара свободных рук, в которых мы как раз и испытываем нужду. Понял? Насчет рыбы не волнуйся, с рыбой нет проблем. Что же касается икры… Ну, я думаю, литров на десять ты можешь рассчитывать. Вопросы есть?
— Кончайте трепаться, — подал голос один из ловцов. — Инспектор опять плывет!
— Быстро в тундру! — скомандовал бородач.
Мы полезли по песчаному склону наверх, залегли в укромном месте. Бородач попросил у меня бинокль.
По морю плыл белый катер с красной надписью «Инспектор» на борту. Он поравнялся с лагерем, проплыл мимо.
— Сволочь! — сказал бородач. — Расплавался тут, сволочь! Ты не думай, — повернулся ко мне, — что мы его боимся или, пуще того, браконьерствуем. Не в этом дело! — Борода его как бы отступила назад, подбородок и зубы, наоборот, выставились. — Я никогда не позволю, чтобы какая-то приезжая сука-инспектор щупал меня, здешнего, который родился и вырос в этих краях, все-все здесь знает, который ловил рыбу, когда эта сволочь нищенствовала на материке, получала сто двадцать в месяц! Я лучше этой падлы знаю, сколько можно взять рыбы! Тут все мое, понимаешь, мое, я никогда не признаю над собой главенства этой сволочи в фуражке! Это моя земля, я здесь вырос. Я всю Чукотку прошел пешком, первый в мире прошел пешком от Магадана до Уэлена. Об этом писали в газетах. Да кто же смеет меня учить: как ловить, сколько и где? Ах, сволочи…
Я огляделся. С одной стороны — море, голубеет вода, далеко-далеко, у самого горизонта белеют то ли айсберги, то ли облака. С другой — цветущая ягодная тундра, комариные полчища, три часа езды на вездеходе до Уэлена. «Влип, — подумал я. — Так мне и надо, идиоту!»
— Недельку половим — и домой, — словно прочитал мои мысли бородач. — Кстати, интересная географическая подробность. Вон по тому ручью, когда-то он был речкой, проходит Полярный круг. Слышал об этом? Там раньше шест торчал, да уж наверное выдернули. Ну что, друзья? За дело! Ох и косячище прет…
Ловили до самого вечера парами. Один в высоких сапогах заходил в воду, другой с берега длинным шестом толкал в воду сеть. Тот, который стоял в воде, расправлял сеть, следил, чтобы поплавки были наверху, а грузила внизу, чтобы сеть не запуталась, не перекрутилась. Когда поплавки начинали дергаться, оба хватались за веревки, вытягивали сети с рыбой на берег. Каждая пара обслуживала по три сети. Потом выпутывали рыбу, отбрасывали ее подальше на песок, снова заталкивали сети в воду. Когда шел косяк, работать приходилось непрерывно. Толкая шестом сеть, я иногда чувствовал, как шест задевает плывущую рыбу.
Если не считать случая с катером, бородач и его друзья вели себя вполне прилично: не швыряли в воду бомбы, не травили рыбу химикалиями, не пропускали сквозь воду ток, чтобы угробить сразу весь косяк. Иногда бородач даже отпускал бесполезных с точки зрения получения икры самцов. «Ладно, кобель, плыви!» — поднимал рыбину за хвост, бросал далеко в море.
«Да нет, они не браконьеры! — убеждал я сам себя. — Вон он отпускает рыбу, читает Торо, играет на рояле… Какие они браконьеры?»
Впереди над ручьем, который когда-то был речкой, мерцал-переливался Полярный круг, через который можно было перешагнуть как через невидимую границу.
Когда косяки не шли, молодые ученые начинали разделывать пойманную рыбу. Вспарывали животы, отрезали головы, промывали тушки в соленой воде и наконец засаливали в бочках. Из самок осторожно извлекали продолговатые дольки с икрой, протирали через грохотку — некое подобие крупноячеистого решета. После этого икру опускали в соляной раствор — тузлук, — помешивали раствор специальной палочкой. Потом сливали воду, а икру вывешивали на просушку в марлевом мешочке. После — закатывали в банки, прокаленные на костре.
Во время очередного затишья я вздумал прогуляться до Полярного круга и обратно.
— К ручью? — спросил бородач. — Ну-ну. Эй! — крикнул, когда я уже порядком отошел. — Далеко-то слишком не заходи! Заблудишься! Там за ручьем одни обрывы! И потом, вдруг рыба повалит?
Когда шел косяк, у дальних склонов вода словно закипала. Бакланы и чайки летели туда, орали как оглашенные. Было время воткнуть сети в воду. Сейчас вдоль всей видимой линии берега вода была словно выглажена утюгом. Бородач мог не заливать про рыбу.
Над океаном полыхал закат. Воздух сделался синим. Я решил пересечь Полярный круг и углубиться в Арктику как можно дальше. Показался ручей. Никакого шеста, естественно, не было. На дне под быстрой прозрачной водой играли цветные камни, чистые, как в день творения. Где уж тут удержаться, пустить корни мху, водорослям. Только камни, вода, быстрое течение. Ручей обжег босые ноги хирургическим холодом. Я шел по камням, держа в руках сухие сапоги. Маленькие радужные форельки выпрыгивали из воды.
Я уходил все дальше и дальше от ручья. Впереди песок неожиданно темнел. На темном песке сидел баклан, загребал лапами, совсем как ворона. Я сделал шаг и… почти по грудь провалился в смрадную до тошноты яму, присыпанную для обмана сверху песком. Я чуть не потерял сознание от вони и страха.
Сюда сбрасывали рыбу. Красивая, стремительная, неистово идущая на нерест, серебристая рыба гнила в жуткой яме. Ее вылавливали специально для икры. Икру забирали, саму же рыбу девать уже было некуда. Я понял это, пока, зажав нос, выбирался из ямы, пока снимал одежду, полоскал в воде. Так вот почему бородач не советовал мне далеко уходить! Вот какие обрывы он имел в виду. Бегая в мокрой одежде по берегу, я думал, что скажу, вернувшись, бородачу и его друзьям, и вообще: надо ли мне возвращаться?
Но возвращаться было надо.
Переходя ручей, я вспомнил о далеком московском журнале. Я ли это едва не плакал, что загубили речку в Калужской области, я ли хлопотал о зимних кормушках для лесных птиц?
Полярный круг мерцал-переливался в воздушной синеве. «Для чего, — подумал я, — миллионы лет трудилась мать-природа, создавая этот мир, этот океан, эту стремительную, благородную, презирающую смерть рыбу, единожды в жизни идущую на нерест? Не для того же, чтобы какая-то мразь сбрасывала ее, как навоз, в вонючие ямы? Почему мать-природа беззащитна перед обезумевшей мразью?»
Сам не заметил, как вернулся в лагерь, где милые ребята мирно чистили картошку.
— Рыба как отрезала, — сказали они.
— Как там Полярный круг? — поинтересовался бородач, пытливо меня оглядывая.
— На месте, — сказал я. — Поскользнулся в ручье. Весь мокрый.
— А ты погрейся у костра, — посоветовал бородач. — Эх! — сжал, разжал пальцы. — Рояль бы мой сюда!
Ночью, когда могучий храп сотрясал палатку, я тихонько выбрался. Одежда почти высохла. Я достал из кармана нож, изрезал сети. Столкнул в воду шесты, и они поплыли, энергично уносимые отливом. Отойдя подальше, вырыл в песке яму, перетащил туда многочисленные банки с икрой. Вероятно, у них еще где-то был склад, но времени искать не было. Подумав, я закопал и лопату.
Больше мне здесь было делать нечего. Повесив на шею бинокль, зашагал прочь. Куда, в какую сторону, пока было неясно. Как-нибудь сориентируюсь.
Только часа через полтора я вспомнил, что забыл в палатке свою сумку! Там остался роман! Который я писал днями и ночами, который берег, как драгоценность. Там осталась моя жизнь. Я вспомнил, как тщательно перед дорогой завязал на папке тесемки, чтобы, упаси бог, не истрепались страницы. Я вдруг сник. Показалось, если не будет романа, в моей жизни уже не будет ничего!
Повернулся, побежал назад.
Когда, запыхавшийся, улегся под дальней дюной, навел на лагерь бинокль, чуть не завопил: молодые ученые преспокойно доставали из моей секретной ямы банки с икрой, бородач, ухмыляясь, бросал в костер страницы романа. Он сидел лицом ко мне, рукопись на коленях. Некоторые страницы он даже прочитывал. На лице его появлялось задумчивое выражение, примерно такое же, как когда он играл на рояле. И еще одна страница летела в костер. Рядом лежала расчехленная винтовка, которой я прежде у них не видел.
Я выполз из-за дюны, зашагал прочь. Опять к Полярному кругу.
Только через двое суток, слегка обезумевший от голода и усталости, с распухшей от комариных укусов физиономией, увидел на горизонте белый катер рыбохраны. Заорал, замахал курткой.
Катер подплыл к берегу. На палубе стояли два хмурых человека и еще один — с фотоаппаратом в руках. Это был фотокорреспондент нашей газеты, мой бывший сосед Сережа Лисицын.
Когда на всех парах подлетели к лагерю, никакого лагеря не обнаружили. В цветущую тундру тянулся свежий гусеничный след.
— Ублюдки! — сказал инспектор. — По живой тундре на гусеницах. Пять лет будет заживать. — И плюнул.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
….Автобус медленно катил по желтой грунтовой дороге в сторону переправы. Путь недальний. Над тундрой плыли облака. Иногда они закрывали солнце, и тогда все вокруг становилось серым. Над этими просторами носился пепел недописанного, сожженного романа, который именно благодаря невосстановимости превратился для меня в самое светлое и сокровенное из того, что я мог бы когда-нибудь сказать. Мне казалось, в сожженном романе получалось буквально все. Невысказанное надолго сделалось моей бедой. Я с новой силой испытал это сейчас.
«Я здесь потому, что такова моя работа: ездить и писать!» Чтобы отвлечься, достал блокнот, ручку: «Я был в Анадыре в середине осени. Снег еще не выпал, небо над морем почти что голубое. В такую погоду кажется, что видишь, как закругляется вдалеке земной шар. Воздушная перспектива отсутствует». Автобус прыгал на ухабах, продолжать было трудно. Прислонив голову к окну, я смотрел на синий лиман. Три черных горба-острова торчали из воды. На один из них наступил белой ногой маяк. Сейчас, по причине светлого дня и абсолютной видимости, маяк бездействовал.
…Пока возвращались на катере в Уэлен, я пришел к простому и, как мне тогда казалось, естественному решению: бородача надо убить! Страшное слово «убить» показалось в тот момент чистым, опаляющим, как огонь. Выстрел, думал я, всего один выстрел, и мир очистится, спасется. Никто на свете не сумел бы убедить меня, что жизнь бородача ценнее неба, бескрайней океанской воды, цветущей тундры, солнца. Более того, я почти физически ощущал, какая всему этому грозит опасность, пока ходит по земле бородач! Предложи мне кто-нибудь в этот момент: умри — и все на земле останется как есть, никто отныне не посмеет ничего нарушить, я бы согласился, не задумываясь. Решив убить бородача, я вообще перестал думать о собственной жизни. Она была лишь средством спасти, сохранить мир.
В своем безумии я проявлял удивительную находчивость. Пробрался в каюту, где спал один из инспекторов, вытащил пистолет, сунув в опустевшую кобуру для тяжести свинцовое грузило. Потом поднялся на палубу. Сережа Лисицын, видимо, смотрел за мной, потому что, стоило мне на мгновение отвлечься, он ловким движением выхватил у меня из-под штормовки пистолет.
— Спятил! — разозлился Сережа. — Я давно этого бородатого знаю. Редкостная сволочь! Каждый год браконьерствует, а не ухватишь! Путает, сволочь. К начальникам вхож. Я, думаешь, случайно на этом катере? Может, в этом году повезет, думал. Жаль, завтра в редакции должен быть, фоторепортаж в номер. Мы бы с тобой его покараулили. А сейчас что? Сейчас его ищи-свищи! Сунемся, конечно, в милицию, но вряд ли толк будет. Доказательств никаких. Что им мои фотографии? Подумаешь, ямы.
Бородатого в Уэлене не было. Его срочно вызвали в Магадан. Перед отъездом он успел подать на меня в суд. Я, как явствовало из его заявления, нанес их лаборатории (лаборатории!) ущерб в семьдесят девять рублей, испортив казенные сети — собственность научно-исследовательского института. Когда мы с Сережей пришли в поселковый Совет, там как раз находились двое молодых ученых. Они предъявляли участковому бумагу, подписанную властями, разрешающую какую-то ловлю для «исследования и изучения рыбы, идущей на нерест в северо-восточные реки Чукотского полуострова». Выяснилось, что, в довершение ко всему, я сорвал важный научный эксперимент. Ни о какой яме молодые ученые понятия не имели. Смотрели на Сережины фотографии с изумлением. Никакой икры в глаза не видели. Мало ли кто еще ловил в тех местах? Они приглашали участкового в свою лабораторию, дабы он убедился, сколько рыбы они поймали, есть ли у них там икра.
Дело отложили. У многих браконьеров вообще не было никаких бумаг, только ножи да ружья, из которых они еще и стреляли. Поэтому наша странная тяжба не вызвала интереса. Сколько я ни настаивал, что это их яма, что они заготовили огромное количество икры, ответить на вопрос, какие есть у меня доказательства, не мог. Через несколько дней к берегу в сорока километрах от Уэлена прибило труп молодой женщины. Наша тяжба и вовсе стала казаться смехотворной.
Я позвонил в Магадан, мне ответили: бородач сейчас находится на Сахалине, на рыбоводном заводе, внедряет новые, прогрессивные методы выведения мальков лососевых пород рыб. Это, кстати, тема его докторской диссертации. Молодые ученые тем временем закончили свою научную работу в Уэлене, отбыли на вертолете в неизвестном направлении.
Я вылетел в Анадырь, однако редактора не застал. У него заболела мать. Вместе с женой он отбыл по телеграмме на материк, а оттуда сразу в отпуск. В один из дней он должен был звонить. Весь день я сидел у телефона, ждал. Он действительно позвонил. Доброжелательно меня выслушал, заметил, что был о бородаче лучшего мнения, конечно же по такому извергу плачет решетка. Я спросил, зачем же он советовал мне поближе сойтись с таким извергом, на что редактор ответил: разве за столько километров человека разглядишь? Ведь когда-то бородач был достойной личностью, первый в мире прошел пешком от Магадана до Уэлена, об этом писали во всех газетах. Узнав, что разбирательство окончилось ничем, редактор сказал, что не может быть и речи о разоблачительном очерке с подлинными именами и фамилиями. Посоветовал написать рассказ. Сказал, что непременно напечатает его по возвращении на литературной странице. Вернуться редактор обещал через два месяца.
Потом, когда я уволился с работы, когда билет на Москву лежал в кармане, а стол в самом большом помещении нашей редакции был уставлен яствами, Сережа Лисицын сказал:
— Все-таки уезжаешь. Жаль.
— Надоело. Домой хочу. Прописка, к счастью, когда работаешь на Севере, сохраняется.
— Не можешь забыть эту сволочь?
— Не могу.
— Тогда надо довести дело до конца. А ты — лапки кверху.
— Опять ждать до лета? Вдруг он будет ловить не на Чукотке, а на Камчатке?
— Значит, ждать!
Сережа был хорошим парнем. Мы с ним прощались. Ему хотелось говорить о чем-нибудь приятном, но не получалось.
Я был не в себе с утра, красноречие мое не знало границ.
— Ждать — замечательно! Я бы мечтал ждать. Только до какой степени можно мириться, что зло похабно торжествует? Где граница, до которой можно терпеть, а дальше уж нельзя?
— В человеке, — сказал Сережа, — в человеке граница. Ты напрасно горячишься.
— Думать, что такая граница есть, уже зло! — Я не мог остановиться. — Зло легче входит в душу, чем добро. Я долго думал об этом. Оно шепчет, что берет частицу и с непременной отдачей. А добро требует всю душу и безвозмездно. Но ведь частицу всегда легче отдать, чем целое, правда? Сначала признать, что существует граница, до которой можно терпеть. Потом отодвигать ее, отодвигать. Потом потихоньку начать самому… Нет, Сережа, ожидание не спасает!
— Это истерика, — сказал Сережа. — Тебе как будто пятнадцать лет.
— Конечно, — сказал я. — Просто пора домой.
— Не забывай нас в Москве, — сказала Олимпиада и поцеловала меня.
— А вы меня не забывайте. Хотя, конечно, чего меня помнить?
— Я доведу дело с бородатым до конца, — подошел опять Сережа. — Торжественно клясться не буду. Просто доведу, и все.
— Брось, — язык у меня к этому времени почти не ворочался. — Не в нем дело. Одно к одному. Во мне… Я сам не знаю, сам виноват… Как баба! При чем здесь бородатый? Сволочь, он сжег… Сжег! Во мне сжег!
Через два часа неведомо как очнулся в самолете, летящем в Москву. Улетел из Анадыря — светло. Прилетел в Москву — светло. А десять часов затерялись, словно дырки на временном поясе.
…Автобус наконец добрался до переправы. Вместо барж через лиман теперь ходили «Ракеты». Над головой кричали чайки. Ржавые остовы судов лежали на песке.
Неожиданно встретилась самолетная соседка. Ее конечно же кто-то подвез на машине.
— Мечтал познакомиться в самолете, но вы так увлеченно читали «Анну Каренину».
Девушка молчала. Мое запоздалое внимание ее не радовало.
— Вы танцуете в ансамбле северного танца? — перешел тогда к делу.
Девушка кивнула.
— Наверное, знаете Таню Ранаунаут? Как она поживает? Конечно, вышла замуж?
— Таню? — удивленно посмотрела на меня девушка. — Вы были с ней знакомы?
— Да. Несколько лет назад. Только почему был?
— Таня умерла, — просто сказала девушка.
— Что-что?
— Прошлой зимой полетела домой в Иультин. Поехала к родственникам в стойбище. Там простудилась, началось воспаление легких. Пурга была, санитарный самолет сбился с пути.
Пассажиры прыгали в подошедшую «ракету».
— Ее там и похоронили, в Иультине, — сказала девушка. — А танец «Невеста Севера» мы больше не танцуем, его исключили из программы.
«Ракета» подала голос.
— Я тогда только пришла в ансамбль. А вы ее хорошо знали?
Матрос принимал трап.
— Пойдемте, — сказала девушка, — пойдемте, а то не успеем! «Ракета» уйдет.
Мы прыгнули последними.
«Ракета» отплыла от причала, развернулась на большой воде и взяла курс на Анадырь.
Часть вторая. ПУСТОЙ ДОМ
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Ибо он постиг кое-какие истины, которые каждый должен открывать для себя сам, — и открыл их, как положено каждому человеку: через испытания и ошибки, через заблуждения и самообманы, через ложь и собственную несусветную дурость, потому что бывал слеп и не прав, глуп и себялюбив, полон порывов и надежд, безоглядно верил и отчаянно запутывался…»
Я вычитал эту длинную неуклюжую фразу у американского писателя Томаса Вулфа. Книга под названием «Домой возврата нет» неожиданно обнаружилась на даче, на полке среди старых, потерявших смысл газет, брошюр без обложек. Должно быть, кто-то ее забыл. Вряд ли дед принадлежал к числу поклонников Томаса Вулфа.
Я с легким сердцем отнес прочитанное на собственный счет. Истины не всегда нуждаются в словесной формулировке, подумалось мне, иногда достаточно просто чувствовать их.
В этот день выпал первый снег.
Накануне мне возвратили из редакции рассказ.
Я переживал час горькой философии, конфликта с миром. Сам я понимал и обнимал душой все: первый снег, сверкающие на солнце ледяные ветви, незримую связь людей с вечностью. В любом проявлении жизни: в падающем снеге, скрипе калитки, собачьем лае — угадывал некий всеобщий смысл. В бодро шагающем по лесной тропинке пешеходе — неприкаянного, безысходного скитальца на Фаустовой шкале добра и зла. В пожелтевшей от времени газете — меняющее обличье, коварное холуйствующее слово. В бое часов — напоминание о неизбежной смерти.
Меня же, увы, никто не понимал. Возвращенный рассказ лежал на столе. Обостренное переживание превращалось в манию. Зачем всё, если никто не хочет понимать?
Под знаком этих сомнительных истин и начался день.
«Ничего, — злобно щурился я на снег, — всегда остается в запасе потаенная тропинка. Выйди из дома, топай куда глаза глядят. Страна огромна, везде люди. Ищи себе новую жизнь. Глядишь, и бес честолюбия отстанет, поскольку привык к удобствам». Однако же, подумалось, какому-нибудь дальневосточному участковому вряд ли придется по душе мое предполагаемое странничество. Либо хитрый бич, либо ненормальный, подумает участковый.
«Пустой номер, — сказал самому себе, — ворочать в голове воздушные глыбы. Надо делать маленькое свое дело, и — как можно лучше!» Но вот беда, не хватало смирения.
— Домой, как говорится, возврата нет, — сказал я деду, — останусь-ка я на даче.
— Как хочешь, — равнодушно отозвался дед.
— Давай схожу в магазин? Сыра какого-нибудь куплю, хлеба?
— Не надо, я уже ходил.
Дед ушел на кухню. Достал из шкафа бутылку коньяку, выпил рюмку. Потом куда-то засобирался. Я увидел из окна плывущую среди кустов дедову шапку. Хлопнула калитка, и настала тишина. Старый дом скрипел. В последние годы им никто не занимался. Дом обветшал. Сарай почти развалился, на земляном полу ржавели лопаты. Сад зарос, одичал. А когда-то он был другой. Вдоль дорожки, помнится, росли георгины. Дом не скрипел. Сюда наведывались мать с Генералом. Генерал смотрел телевизор, а мать сидела на скамейке под яблоней. Яблоки тогда вырастали крупные, не в пример нынешним. Гутя — она раз в неделю приходила к деду убираться — варила яблочное варенье, компот, даже вино, которое, правда, почему-то вскоре мутнело, зацветало.
Гутя утверждала, что вино должно стоять несколько лет, тогда, мол, оно прояснится и градусы появятся, однако же, приезжая на дачу с веселыми друзьями, я забывал Гутины слова. Тогда она спрятала несколько огромных бутылок то ли в сарае, то ли в подвале, то ли на чердаке. Сухая, легкая, как перо, Гутя, старуха, издали напоминающая школьницу, умерла в прошлом году от рака. Вино, должно быть, стало божественным, вот только никак не удавалось его найти.
Когда-то я караулил здесь Ирочку Вельяминову.
Дом снова скрипнул. Мне почудилось, будто треснувший фундамент, расшатанные стропила, балки, бревна выговорили слово: «семья».
Что, в сущности, объединяет нас: меня, деда, мать, ее нового мужа? Что нас в данный момент объединяет: если у матери прежде была другая семья, где опять-таки значился я, у Генерала, естественно, тоже была семья, а жена деда, моя бабушка, умерла двадцатилетней, через год после того как родилась мать. Второй раз дед не стал жениться.
Быть может, дом? Но он скрипит, качается, никто не собирается его чинить. Даже просто приезжать сюда никто особенно не стремится.
В зимнем ветре, качании дома, в еще не сокрытой снегом запущенности сада материализовалась сила, обратная слову «семья». Дом никого не объединял, потому как был безличен. Ничьих здесь не было корней. Когда-то дед просто взял да купил дачу. Потом объявились мы, преступно равнодушные ко всему на свете, кроме себя. В будущее заглядывать не хотелось, однако, если там все будет так же, как сейчас, быть дому проданным другим, возможно, более счастливым и хозяйственным людям.
До сих пор я испытывал странное сиротство, думая о своих затерянных, забытых и забитых корнях в этом мире. Отец — детдомовец. В детдомах графские, княжеские, какие угодно фамилии раздавали на выбор, как бы в насмешку. Так отец стал Апраксиным, а его ближайший друг Петр — Милославским. Мать, разведясь с отцом, сохранила фамилию. Год назад она купила в антикварном магазине три хрустальных фужера, увенчанных вензелем «А». Нынешние знакомые матери и думать не смели, что это всего лишь совпадение.
Дед вышел из сибирского села, где его предки то ли батрачили, то ли валили лес, то ли возили соль. А может, и разбойничали. Гражданская война разметала их. Дед, сколько я его помню, всегда жил один, не тревожась ни о каких родственниках. И те, в свою очередь, не тревожили его.
Однако сиротство, подобное моему, было явлением частым. Не потому ли и качается дом, не потому ли тоска, ноющие, то затихающие, то саднящие чувства? Я в сотый, наверное, раз поклялся съездить
в Сибирь, в село Ипатьевское Иркутской области, где родился дед.
Вдруг подумалось: среди сплошного сиротства отношения между близкими людьми подобны колючей проволоке. Допустим, дочь уверяется в мысли, что отец должен давать ей деньги, и тот незаметно поддается. Вот тут-то мягкая поначалу проволока начинает твердеть, обрастать шипами. Все происходящее с отцом дочь воспринимает уже не как родной, близкий ему человек, а главным образом под углом: будет он давать деньги или нет? Раз сиротство, раз нет корней, значит, на тебе, единственном, род человеческий начинается и заканчивается. Следовательно, никто тебе не указ!
Я увидел колючую проволоку. Она опоясывала мир не хуже параллелей и меридианов.
«Пока мать жила с первым мужем, дед получал пенсию и вполне мог содержать дом. Теперь же, выходит, мать забирает у него деньги, потому все тут и пришло в упадок». Мысли, словно волны, докатывались до определенного рубежа и откатывались. Однако не слишком ли близко я разместил волнолом? Не для того ли решил, что мать, ее новая семья, есть нечто меня не касающееся, чтобы не влезать в колючую проволоку, не думать о вещах болезненных и очевидных? Так, наверное, и должен поступать сиротствующий, но я отныне быть таковым не желал!
Зачем я нужен матери, живущей во втором браке? Может, они с Генералом терпеливо ждут, когда я наконец это осознаю? Тогда почему молчат, должно же это хоть как-то у них прорываться. Допустим, осознал. Но куда податься? Не лететь же снова на Чукотку? Может, переселиться на дачу? Только обрадуется ли дед? Здесь тоже, должно быть, наметилась проволока: на дачу я наведываюсь, ем-пью, ночую, а окапывал хоть раз яблони, помогал по хозяйству? Колбасы и то ни разу не привез из города.
Последнее время на все мои вопросы дед отвечал предельно коротко: «Пожалуйста», «Ладно», «Как хочешь», «Как знаешь», «Ну что ж, если ты так думаешь…» И мать как-то пожаловалась на бездумное дедово соглашательство. «Стареет, стареет дед, — вздыхала мать, — и еще эта непонятная страсть к коньяку на восьмом-то десятке».
По стопам деда отправился на кухню, к шкафу, где стоял коньяк. Надо тоже выпить рюмку, приунять лихорадку в мыслях. Я вдруг подумал, что за глобальными своими размышлениями, переживаниями по поводу рассказов, мечтами о девушках, горькими муками немоты и сладкими муками фантазий вообще не замечаю деда. Он для меня как бы обязательная частица скрипучего дома, что-то вроде сторожа, расчищающего дорожки от снега, растопляющего утром печь. Как же это: ворочать в голове воздушные глыбы — и не замечать живого родного человека? Я приезжал на дачу, чтобы предаваться на просторе своим мыслям, думать главным образом о себе. Мне стало стыдно. Так мог бы вести себя сиротствующий, но я отныне быть таковым не желал! Я задохнулся от желания сказать деду самые добрые, теплые слова, на какие только способен. Но его не было дома. Печь горела. Дорожка от крыльца до калитки была расчищена.
Возвращенный из редакции рассказ лежал перед глазами. Вместе с отчаяньем я испытывал странную эйфорию. Отвергнутое казалось минувшим этапом. Пусть неудачным. Впереди — чистый горизонт, новые труды — вот счастье! Хотелось немедленно засесть за работу. Ответить, доказать. Но я проводил дни на службе — сидел в редакции, ездил в командировки, писал заметки, беседы, очерки. А когда сваливал обязательную работу, для главной оставались темные ранние утра да столь же темные вечера.
По вечерам фантазии роились под желтым абажуром настольной лампы. По утрам приходила сухая, граничащая с равнодушием, трезвость.
Снова перечитал длинную фразу из Вулфа. Возможно, подумал, кое-какие истины я и постиг, но самую интересную не постигну никогда: зачем я пишу? хорошо ли то, что я пишу? и нужно ли кому-нибудь то, что я пишу?
Третий день я не ходил в редакцию, якобы работая над очерком о Чукотке. Пока вся работа свелась к бессмысленному переезду из Москвы на дачу, почему-то подумалось, что здесь будет лучше. Я сидел за столом, наблюдая в окно возню синиц возле фанерной кормушки. Иногда синиц сменяли воробьи. Они налетали организованной бандой, кормушка ходила ходуном.
Была пятница. В понедельник очерк надо было сдавать.
Вскоре солнце скрылось, повалил снег. Вдоль забора пробежал мальчишка в черных валенках. В такие минуты казалось удивительным и необъяснимым, что я вообще когда-то писал: водил ручкой по бумаге, стучал на машинке.
По скрипучей лестнице я поднялся на холодный второй этаж. Круглое, похожее на иллюминатор, окно заросло мохнатым инеем. Тут покоились старые тюфяки, какие-то нелепые пальто, воротники, хлам, накапливаемый годами. В последние годы добавилась пара генеральских шинелей, одна даже с погонами, с петлицами, в которых змея и чаша. Мне вдруг захотелось надеть шинель, посмотреться в зеркало: каков из меня генерал? В углу пыльными пирамидами лежали книги. Главным образом по венерологии и дерматологии. Бывшая дедова библиотека. Тут же старые тетради, рукописи, оставленные на полуслове.
Подростком, приезжая сюда на летние каникулы, я с жутким любопытством читал эти книги. Мне было не по себе от страшных судеб описываемых мужчин и женщин, от бесстрастных констатаций, холодных серых фотографий. То был неведомый мир язв, розеолезных высыпаний, каких-то папул, гумм, прочей жути, от которой леденело сердце. Само слово «розеола», казалось, хранило в себе бездну необъяснимой мерзости. Быть может, потому, что происходило от розы, чистого утреннего цветка? Я читал, почти ничего не понимая, а после в автобусе боялся держаться за поручни, не пил газированную воду из автоматов, старался не дышать, когда рядом оказывалась, как мне казалось, подозрительная личность. Больше всего, помнится, меня поразило холодной красочностью, вопиющей бесстрастностью, воспетое еще Булгаковым немецкое дореволюционное издание, где на глянцевой вкладке был помещен гражданин со скромной улыбкой и твердым шанкром на подбородке.
Сейчас эта литература никакого любопытства не вызывала. Я искал меховую куртку, привезенную с Чукотки. Куртка давно выносилась, мех вылезал сквозь материал, однако на даче она была бы в самый раз.
Куртка вскоре обнаружилась. В нее было завернуто что-то квадратное и тонкое. Я расстегнул пуговицы, вытащил старую отцовскую работу. «Апшерон» — так называлась маленькая картина, скорее даже — этюд. Кирпичная стена, голубое небо, акация взрывается белым цветом. Прислонившись к стене, под акацией стоит красивая девушка в белом же платье, по всей видимости, моя мать. На обратной стороне холста надпись: «Ивану Сергеевичу Машкину от А. Апраксина. С уважением. 1956 год». Эта картина, таким образом, была отцовским подарком деду.
НАЗАД
Я не бывал на Апшероне, но был в других южных городах, поэтому могу представить косую каменную набережную, ослепительно синее море, мачты кораблей, ажурные силуэты нефтяных вышек на горизонте.
Могу представить двадцатилетнюю девушку в белом платье. Она впервые видит море, мачты, стены, по которым зелеными ручьями стекает плющ, ларьки, торгующие вином в разлив, восточный базар, где дух захватывает от экзотических красок. Девушка близорука, но очки надевает, только когда читает или пишет, поэтому лица идущих мимо людей кажутся ей одинаковыми. Девушка приехала на практику в республиканскую газету. Там посмотрели на нее и сразу поняли, что посылать девушку в колхоз или на завод бесполезно. Ей поручили написать лирическую зарисовку об Апшероне.
Могу представить двадцатипятилетнего молодца, недавно отслужившего в армии. Ему некуда ехать — круглый сирота. Холост. Он сменил военную форму на гражданскую одежду, плавает матросом на каботажном судне по Каспийскому морю. «От Махачкалы до Баку луны плавают на боку. От Баку до Махачкалы волны катят свои валы». Судно отчалит утром. В распоряжении парня конец жаркого дня, вечер и ночь. Он курит папиросы, ходит по набережной, пробавляется вином, дожидаясь открытия танцплощадки. Быть может, какое-нибудь неожиданное знакомство, которое скрасит оставшееся время?
Под какую музыку танцевали тогда?
Парень бросает окурок в воду, смотрит на корабли. Как быстро привык он к морю. Должно быть, неведомый папаша был мареманом. Его не укачивает, он знает свое дело, считается хорошим матросом. Но откуда эта смертная тоска? Засунув руки в карманы, медленно бредет по набережной. Надоело пить вино, смотреть на часы. До открытия танцплощадки еще так долго!
Может, смеха ради, сфотографироваться? Маленький старикашка суетится возле трофейного аппарата на трехногом штативе. Сует голову под черную тряпку, возится с объективом. Два случайных клиента перед ним на залитой солнцем набережной. Девушка в белом платье, явно столичного вида. Угрюмый матрос, явно не с океанского лайнера. Старикашка не очень-то жалует матросов, но этот чем-то ему симпатичен. Возможно, именно тоской в глазах.
…Я сидел за столом, обуреваемый разными чувствами. Тут было и желание исследовать неглубокие свои корни в этом мире. И понимание того, что самые верные, надежные корни — это любовь. Надо любить своих родителей, потом любить своих детей. Вот тебе и корни, вот и оправдание собственной жизни. И стыд, что раньше — да и сейчас еще! — я полагаю, что невмешательство есть своего рода мораль. Самоустранение, равнодушие — мой сыновний ответ родителям. Живите как знаете, и я буду жить как знаю. Все как-то переплелось, мне хотелось начать жить по-новому. Но я знал: хотеть — одно, действительно начать — другое. Однако же и желание — благо. Подобного желания я не испытывал давненько, пожалуй, со времени писания чукотского романа. Точно так же я тогда дрожал, исписывая страницу за страницей. Да только что толку? Все закончилось истерикой, бегством.
Здесь тоже был роман. Я вдруг подумал: мне легче думать об этом как о некоем романе, но не как о жизни, впрямую касающейся меня. Шли годы, а я оставался холодным, жестоким романтиком. Я верил, что за нагромождением лет, витками колючей проволоки скрывается все же любовь, пусть и с оборотной стороной, где начертаны знаки несчастья. Мне хотелось добраться до этой любви, до тайных знаков несчастья, потому что это тоже я, это человек вообще, вечный роман без начала и конца.
Таков уж был мой романтизм. Я чувствовал себя вправе фантазировать как угодно и сколько угодно, потому что девушка в белом платье уже почти десять лет — жена другого человека, матрос же живет один в Ленинграде, из окна своей мастерской на набережной Кутузова видит Неву, мосты, плывущие баржи. Матрос сделался художником, написал множество картин, добился уважения и признания. А девушка так и не пожелала отстать от белого платья. На свою вторую свадьбу — уже сорокалетняя — она снова надела белое платье: смеялась, мило щурилась. Лица людей, должно быть, снова казались ей одинаковыми, потому что она была без очков. Чем же измерить ее путь от одного белого платья к другому? Быть может, единственно тем, что существую я?
Или витками колючей проволоки? Они исправно служат до сих пор. Когда я приезжаю в Ленинград, отец спрашивает: как мать? Я отвечаю, что нормально. Он молчит, недовольный краткостью ответа. Однако и я молчу. Там, где колючая проволока, логики нет. Потом он спрашивает: «А как поживает твой симпатичный, милый дедушка?» Я отвечаю, что нормально. Он опять молчит. Я не понимаю: зачем он спрашивает, какое, собственно, сейчас ему до этого дело?
Я вспоминаю, как дед окапывает яблони в саду, ходит с лейкой, ложится спать в половине десятого и почти всегда забывает выключить транзистор. Некоторое время транзистор ведет себя тихо, потом начинает шуметь. Мне приходится вставать среди ночи, выключать набитый музыкой, тревожными новостями ящик. Ненароком я заглядываю в лицо спящему деду, и мне кажется, что и во сне ему нет покоя. Не только старость, не только болезни согнули его, но и что-то иное, быть может, горькое прозрение, после которого уже и сама жизнь не так важна.
Ржавеющая колючая проволока делала странные извивы. «Петя, — сказал как-то отец. — Я понимаю, тебе особенно не за что меня любить. Ты мало видел от меня в детстве хорошего. Я сам детдомовец, казалось бы, должен, но… Конечно, я виноват! — продолжал с горечью. — Для меня всегда самым важным была работа. Но, я думаю, мать никогда бы не уехала, не бросила меня, если бы не он! Это он, он разрушил нашу семью, из-за него все пошло прахом. Я на расстоянии ощущал его ненависть. Он виноват!» — «Задним числом виновных не ищут, — ответил я отцу, — и еще есть пословица: после драки кулаками не машут». Он как будто не расслышал. Он всю жизнь не слышал того, чего не хотел слышать. Мои слова растаяли в пустоте, потому что он искал виновных, размахивал кулаками. Но не после драки. Он продолжал драться, только по-другому.
Я иду по коридору в мастерскую — большую, высокую комнату с огромными окнами. Там я рассматриваю картину под названием «Поляна», над которой в данный момент работает отец.
Гражданская война. То ли какой мятеж, то ли схлестнулись две банды, то ли наехали каратели. В общем, классовая суть происходящего до конца не ясна, как это случается в гражданских войнах, когда помимо противоборствующих сил встает со дна всякая муть и мразь. На небольшой, освещенной солнцем, поляне группа вооруженных людей творит скорый и — естественно — подлый суд. Сук разлапистого кедра приспособлен под виселицу. Уже соорудили и две петли. На телеге сидят два мужика со связанными за спиной руками. Вокруг такие же мужики, только с винтовками, с шашками. Хорьковатый мальчишка влюбленно смотрит на маузер. Впрочем, не это главное в картине. Главное — философский смысл происходящего, если, конечно, тут уместно говорить о философии. И все же. Огромному большинству представителей рода человеческого убийство противопоказано, чуждо. Для большинства война есть перерыв в нормальной человеческой жизни, некий период оборотничества, на время которого приходится расстаться с человеческой сутью. Речь, разумеется, идет о бандитской, неправедной войне. Поэтому в глазах, на лицах — усталость, равнодушие, тупость, отрешенность, страх. Только глаза бледной, седоватой личности светятся ненавистью и наслаждением. Неопределенного возраста личность одета в офицерский френч без погон. Намек, что она тут некоторым образом командует. Дается понять, что человек этот, напрочь выбитый из прежней своей среды, нашелся на уровне куда более низком — среди уставших, темных, одурманенных кровью мужиков. Один пленный дремлет, у другого рассечено лицо, глаза залиты кровью. Тем отвратительнее, контрастнее с освещенной солнцем поляной — кровь, петли на суку, ликующая ненависть во взгляде типа во френче. Для него война не перерыв в жизни, а самая жгучая, настоящая жизнь, где он, обретает полнейшее самовыражение. Он убивает не из необходимости, не из убеждения и фанатизма, а просто по своей натуре. Для него насилие дороже самой жизни. Следовательно, война для него не борьба за что-то, но сам идеал, вершина счастья, исполнение желаний. Сатанинской своей волей к насилию он держит в повиновении глупую вооруженную толпу, уставшую стрелять и убивать, не понимающую, зачем она стреляет и убивает. Бледный, седоватый тип — аллегория темной, гадкой, животной стихии в человеке, которая до поры дремлет, но восстает, извергается в моменты смут и потрясений, когда насилие становится безнаказанным.
Всякий раз, приезжая к отцу, я внимательно рассматривал эту картину. Он долго над ней работал. Дело в том, что лицо бледного, седоватого типа удивительно напоминало лицо моего деда, Ивана Сергеевича Машкина, того самого, которому молодой художник, бывший матрос, подарил когда-то давно портрет дочери, девушки в белом платье, написанный в Апшероне.
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я по-прежнему тупо сидел за столом. В углах сгущались сумерки. В детстве, помнится, я боялся сумерек. Облупившаяся пишущая машинка безмолвствовала. На ней когда-то мать печатала свои студенческие заметки. Потом энное количество лет машинка покоилась в черном деревянном ящике. Потом я отнес ее в ремонт. Теперь машинка снова служит.
Набросил куртку, вышел на крыльцо. На землю падал крупный снег. Когда-то, увидев такой снег, Франсуа Вийон сказал, что это языческий Юпитер щиплет на Олимпе гусей, а быть может, линяют святые ангелы. Мне хотелось вернуться мыслями на Чукотку, увидеть остроконечные чумы, расставленные на снегу, точно фишки в детской игре, услышать свист ветра, дыхание собак, скрип полозьев по жесткому насту. Но вместо этого я думал о романе, сожженном бородачом, о Тане Ранаунаут, об Апшероне, о картине «Поляна», о чем угодно. Все, оказывается, существовало в противоестественном единстве. Собираясь писать об одном, я не мог отделаться от остального. Слова обрели неимоверную тяжесть. Казалось, они вдавливаются в землю, и она сходит с оси. В каждом слове заключался целый мир, и сочетать, складывать слова-миры в момент осознания противоестественного единства всего, чем я живу и о чем думаю, казалось кощунственным. На слово можно было молиться, как на икону, им можно было любоваться, как драгоценностью. Собственное право распоряжаться словом представлялось сомнительным. Я переживал одновременно восторг и сомнение. В этом чувстве было все, кроме единственного: желания вернуться за стол, начать работу. Мечтать было приятнее, чем трудиться.
Я снова видел косую апшеронскую набережную, на которой ни разу не был, старикашку, хлопочущего у трехногого штатива, матроса и девушку в белом платье возле него. Сначала сфотографировалась девушка. Потом матрос. Старикашка хотел сказать ему, чтобы он не напрягался, что его лицо похоже на сжатый кулак, но не стал. Выбрался из-под черной тряпки, огляделся. На набережной пусто. На горизонте корабли. Старая азербайджанка бредет куда-то в черном, как накидка на аппарате, платье от горла до ног. Жарко.
— Эй, молодые люди, — вдруг произнес старикашка, — давайте-ка я сниму вас вместе, а? Всего один кадр остался. Не пропадать же ему?
Девушка в белом платье взглянула на мрачного матроса и подумала: пусть лучше кадр пропадет. Матрос поймал ее взгляд, пошел прочь — руки в карманах, в зубах папироса, наглаженные перед танцами клеши метут набережную.
Девушка пожалела, что не взяла с собой очки. Но, с другой стороны, какое, собственно, ей дело до этого матроса?
— Хорошо, — совершенно неожиданно для себя самой сказала девушка. — Снимите нас вместе.
Матрос остановился как вкопанный. Вернулся, небрежно вытащил руку из кармана, протянул старикашке деньги.
— Спасибо, спасибо. Минуточку! — старикашка сноровисто нырнул под черную тряпку, пошевелил в воздухе пальцами. — Все!
Девушка в белом платье улыбнулась. В происходящем было нечто романтическое: странный матрос, фотографирование на набережной, суетливый старик, белые облака на горизонте. Потом спохватилась: ей же надо написать зарисовку об этом городе! Да только… можно ли включить в нее этот случай? Девушка хмурится, она не представляет, какой должна быть зарисовка. Матрос полагает, что она хмурится по другой причине, с независимым видом отворачивается.
— Приходите завтра в двенадцать, — говорит старикашка.
— Послезавтра, — крепко берет его за локоть матрос. — Ты сказал, послезавтра, ведь так, папаша?
— Да-да, как вам угодно, — кивает старик.
Матрос идет в одну сторону. Какой быстрый, думает он, завтра, ишь ты, завтра, когда я буду в плавании! Девушка идет в другую сторону. Надо послезавтра обязательно отдать ему деньги, думает она, я чего-то ему осталась должна.
…Тем временем наступила ночь. Падал снег, горела настольная лампа в оранжевом абажуре. Интересно, подумал я, какие ночи на Апшероне?
Я знал ленинградские белые ночи, когда от Невы плывет прохлада, звезды на небе почти неразличимы. Небо похоже на воздушный сияющий мост, вскинувшийся над каменной рекой. Дома в это время суток странно суровы, памятники величественны, кажется, они вот-вот оживут, мимо них пробегаешь на цыпочках.
Знал душные московские летние ночи, когда слабый ветер, шелест листьев не могут сдвинуть с места накопившуюся за день жару. Центральные улицы освещены неестественным желтым светом, в переулках — тьма. Только шины шуршат по асфальту, только светофоры мигают, а небо черно как сажа.
Знал среднерусские летние ночи, когда брешут по дворам собаки, одуревшие мотоциклисты шарят фарами по колдобинам. И обязательно шумит дальний ли, ближний лес, неслышный днем. Тревожные, рваные облака плывут по небу, луна холодно освещает шиферные крыши домов. Тени, как гармошки, то съеживаются, то разудало разъезжаются.
Знал северные ночи, когда шум моря диктует почти что джазовый ритм. Белая пена летит на прибрежные камни. Возвращаясь откуда-нибудь по берегу, я, помнится, плясал на ходу, уворачиваясь от наползающей на песок воды.
Знал среднеазиатские ночи. В кустах трещат цикады, из-за тридевять земель доносится вопль длинной трубы — карная. Свадьбу играют или чествуют кого-нибудь.
Но апшеронская ночь — не только банная южная тьма, звезды, море, огни кораблей, смуглые наглые физиономии, треск распускающихся ночных цветов, сладкая музыка из парка. Это любовь, возникающая из ничего: из тьмы, из воздуха, из обрывков мыслей, из звука одиноких шагов по набережной, из дуновения ветра, овевающего разгоряченное лицо. Во всяком случае, я так хочу. Потому что это мой роман, потому что матрос и девушка в белом платье — не столько конкретные личности, сколько люди вообще, одни из многих, испытавших святую любовь, пусть и с оборотной стороной, где начертаны знаки несчастья.
Стояла ли ночью на балконе гостиницы девушка в белом платье, вглядываясь во тьму? Помнила ли вообще о матросе, об их послезавтрашней встрече?
Танцевал ли фокстроты, путаясь в наутюженных клешах, матрос? Шептал ли в ухо случайным партнершам пошлые комплименты? О чем он думал, вернувшись ночью в каюту, лежа на койке? Корабль покачивался на слабой волне, в иллюминатор заглядывал месяц. Матрос включил лампу. Тотчас на нее полезли ночные бабочки. Почему они такие красивые, думал матрос, их же никто не видит ночью. Перед глазами у него стояла славная девушка в белом платье, столь же непостижимая, непонятная, как ночная бабочка. Значит, послезавтра в двенадцать!
…Я помню эту фотографию. В прежние годы она висела на стене в комнате, которую мы снимали, затем в квартире, куда вскоре переехали. Там у нас появились: чучело крокодила, кусок ископаемого окаменевшего папоротника с отпечатком зуба жившего тогда ящера, круглый оплавленный метеорит — пришелец из неведомых космических глубин, пластины китового уса, африканская ритуальная маска, масса других диковинных штучек. Это экзотическое войско вытеснило фотографию куда-то в самый угол. Я гордился диковинками, ликовал, когда слышал, как говорят обо мне незнакомые мальчишки: «Это тот самый, у которого дома крокодил!» Со многими я подружился. Мы придумывали гадкие игры. То обливали с балкона прохожих, то стреляли из окна в воздух огненными струями — набирали в клизму ацетона или бензина, подносили спичку и — огонь! Во время очередной стрельбы клизма-огнемет прохудилась, огненная струя ударила вбок: пожгла стоящий на шкафу диковинный засохший фрукт с иглами, напрочь испортила апшеронскую фотографию, про которую мать когда-то говорила знакомым: «Представляете? Мы с Сашей здесь сняты за год до замужества, как совершенно незнакомые люди. Когда фотографировались, имени друг друга не знали. Это ли не судьба?»
Расплата была быстрой. Отец залепил мне оплеуху. Я молчал, стиснув зубы, ненавидя его. «Все! — сказал отец. — Больше ни один из твоих приятелей не переступит порог нашего дома!» Потом до ночи возился с засохшим игольчатым фруктом, который был никому не нужен. На испорченную же фотографию даже не взглянул. Равнодушно выбросил ее в корзину для бумаг. И мать не заметила, что фотографии больше нет.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я сам не знал, чего хотел высидеть. Тысячелетиями сидели люди по ночам у ламп, переводили масло, свечи, электричество. Обо всем передумали, все-то сказали. Я же без фонаря бродил в темной чаще, набивая одну шишку за другой. Пытался изобрести фонарь для себя одного, но, как выяснилось, фонаря для одного не существует.
Ночью дом скрипел еще пуще. Он скрипел, как могут скрипеть лишь пустые дома, где время от времени собираются чужие люди, равнодушные ко всему на свете. Звонкая капля падала в раковину. Если часы бесстрастно тикали, капля отсчитывала время иначе — беспокойно, тревожно. Я закрутил крану глотку, отодвинул занавеску. В заснеженном саду ничего не происходило. В доме напротив тоже горело окно. Точно такая же лампа — они весь год продавались в местном магазине — стояла на столе. Прежде там сиживала Ирочка. «Ах, если бы все мальчишки были девчонками, какими аккуратными были бы тогда тетрадки!» — такие подписи к снимкам она придумывала. Но вот уже несколько лет дом принадлежит другим людям: длинноволосому йогу, перевязывающему волосы лентой, молчаливой, не подымающей глаз девице. Йог застывает по утрам в странных позах, девица, улыбаясь чему-то своему, отправляется в магазин. Откуда только у этой пары нашлись деньги на дачу? Впрочем, то было не моего ума дело. В окне мелькнул остроносый йоговский профиль.
Я снова подумал о сожженном бородачом романе, о написанных и еще не написанных рассказах, об очерке, который необходимо сдать в понедельник. И вдруг понял, почему нынче так неподатлив материал, откуда желание все на свете объять и объяснить на примере скрипящего на ветру, пустого дома. Вновь, как несколько лет назад, я стоял на распутье. Прежде мне хотелось думать, что я вернулся в Москву суровым, мужественным, кое-что узнавшим о жизни. Теперь-то, надеялся я, сумею обойтись без этой недостойной меня терпимости, порочной гибкости, допускающей, оправдывающей чужие и собственные мерзости. Отныне буду жить и судить мир по собственному, выстраданному закону! Но собственный, выстраданный закон привел меня… к себе. «Я» — вот что сделалось моим законом. О ком я думал, переживал в последнее время? Только о себе. Что волновало меня, заставляло страдать и мучиться? Собственная персона. Но что же другая жизнь? На смену прежней порочной гибкости явилось каменное неприятие. На том стою! Я смотрел на мир, как улитка из раковины, как краб из расщелины между камнями.
Воистину фонаря для себя одного не существует! В лучшем случае, вместо фонаря — чугунный лоб, на котором не вскакивают шишки.
У меня не было ни фонаря, ни лба.
Я понял, отчего пустеют, скрипят на ветру дома. Даже святая любовь беззащитна перед тайными знаками несчастья, если каждый из любящих живет по собственному закону, по собственной малой правде, ищет фонарь для себя одного. Фонаря для одного не существует. Малым правдам не дано ужиться друг с другом, так как они ненасытны. Они грызутся до изнеможения, а после доживают в пустых, скрипящих на ветру домах.
Я взглянул на часы и понял, что очерк придется сочинять завтра. Взгляд наткнулся на серебряную тарелку, стоявшую на комоде. Из тарелки вырастали два подсвечника: один в виде змеи, другой в виде факира с дудочкой. Я часто играл с ней в детстве. На обратной стороне тарелки было выгравировано: «Анне — в год ее свадьбы. Отец».
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Что же произошло в ту ночь с матросом? Он оказался в каюте один, совершенно один. Только ночные бабочки лезли на лампу. Оба его товарища ночевать не пришли, у них на рыбозаводе девушки. Они и его звали с собой в барачные дощатые общаги, где пьяно и весело, но он отказался. Там, конечно, привольно, там похабно хохочут, любят с первого взгляда, но все это уже было, было! В Махачкале, в Дербенте, в Гурьеве, во всех портах, где стоял корабль. Матрос сжал пальцы, разжал. Былые развлечения ему прискучили. Сегодня он трезв, а трезвый по-другому смотрит на жизнь.
Он долго лежал на койке, глядя в качающийся иллюминатор, курил папиросу за папиросой. Окурки, словно трассирующие пули, чертили огненные эллипсы к воде. В порту горели прожектора, рычали лебедки. Шла погрузка и разгрузка кораблей.
Среди ночи матрос неожиданно вскочил, начал перетряхивать обшарпанный чемодан, обклеенный с внутренней стороны фотографиями красавиц и винными этикетками. Вещей в чемодане было мало: бритвенный прибор, пара рубашек, выходной костюм. Остальное место занимали папки с рисунками, проложенные чистой бумагой акварели, снятые с подрамников холсты с этюдами. Виды Каспийского моря, карандашные портреты товарищей, зарисовки, сделанные в портах. «Зачем? Для чего? Кому это нужно?» — матрос в бешенстве стучит кулаком по переборке. — На следующей неделе они будут стоять в Баку. Там по вечерам на центральной площади среди черной зелени включают цветные фонтаны. Ему давно хочется написать эти фонтаны, еще никто никогда не писал цветные фонтаны. «Брось ты эти глупости, Сашка», — вспоминает, как смеялись товарищи. — «Да какие они мне товарищи? — все больше ярится матрос. — Да есть ли у меня товарищи? Что вообще у меня есть, кроме этого? — с ненавистью смотрит на рисунки. — Надо выбирать! Или — или! Столько времени, сил — псу под хвост. Рисуночки, ха-ха-ха! Хватит!» — начинает рвать все подряд, но некоторые работы все же жалко, отшвыривает их на койку. В бешенстве ломает карандаши, кисточки, вдавливает в стол прямоугольнички акварельных красок. Потом собирает все в охапку, выносит на палубу, бросает за борт. Даже в темноте видно, как белеют на черных волнах клочки. Матросу хочется плакать. Но он давно разучился плакать. Спасибо, хоть никто не видит его. Матрос сбегает вниз в каюту, извлекает из-под кровати последнее свое приобретение — новенький, еще пахнущий деревом, этюдник. Гладит его, щупает тюбики с красками. «Завтра, — неожиданно успокаивается матрос. — Завтра или никогда. Так нельзя жить. Надо заниматься чем-нибудь одним. Проклятое рисование вытянуло всю душу. Однако что я сделал до сих пор? Это так примитивно, так кустарно. Даже показать никому нельзя. Завтра попытаюсь в последний раз. Или-или! И тогда все станет ясно!»
Падает на койку, засыпает как убитый.
…Как, должно быть, удивилась близорукая девушка в белом платье, когда увидела, что позавчерашний случайный знакомый притащил зачем-то на набережную этюдник.
Старикашка фотограф исполнил все в лучшем виде. Девушка в белом платье и матрос долго рассматривали фотографии.
— Глупо как-то, — сказал матрос, — стоим вместе на фотографии, а ничего друг про друга не знаем.
— Почему? — пожала плечами девушка. — Это даже забавно. Хорошо бы так все и оставить.
— Вам в какую сторону? — спросил матрос.
— Что-что?
Город такой маленький. Она давно весь его обошла. Надо быстрей писать зарисовку. Но как? Она не знает, как начать, подступиться. В какую ей сторону? Да все равно. К морю.
— Боюсь, нам с вами не по пути, — сказала девушка. — Сколько я вам должна за фотографии?
— Как хоть вас зовут? — спросил матрос.
— Вы не хотите оставить все как есть, — вздохнула девушка. — Меня зовут Анна.
— Эй! Кто хочет сфотографироваться на фоне моря, подходите! — неожиданно закричал противным голосом старикашка, завидев на набережной группу людей.
— Если вы никуда не спешите, Анна, — матрос осторожно взял девушку за руку, — а вы никуда не спешите. У меня к вам огромная просьба, Анна. Видите ли, я… Я немножко рисую. Так. Мне кажется, это главное в моей жизни, но… так трудно решиться. Я один, совсем один. Я матрос, плаваю на каботажном судне. Я вас очень прошу. Для меня это очень важно. Я вас очень прошу. Час, не более, мне попозировать. Мне кажется, получится. Здесь, в городе. Я знаю одно замечательное место, там стена, цветет акация. И это ваше белое платье, оно удивительно подходит. Там красиво. И не жарко, тень. Вы постоите в тени, а я быстро. И все. Анна? Вы мне не откажете, Анна? — смотрит на нее с мольбой.
Девушка осторожно высвободила руку. Такого поворота событий она не ожидала.
— Вы действительно рисуете? — с подозрением посмотрела на новенький этюдник.
— Да! Мне кажется, это… Я без этого не могу. Я измучился. Хочу наконец решить. Или — или. Нельзя одновременно рисовать и плавать матросом. Если рисовать, так учиться! Пока не поздно. Или — или. Пойдемте со мной. Здесь недалеко.
— Не отказывайтесь, — словно ворон, вдруг каркнул старикашка фотограф. О нем давно забыли, а он, оказывается, прислушивался пергаментными своими ушами к разговору. — Я старый человек, передо мной прошли тысячи лиц. Если вы верите в судьбу, любезная девушка, то…
— Что вы такое говорите? — вспыхивает Анна.
Матрос свирепо смотрит на старикашку. Тому кажется, еще секунда, и матрос вместе со штативом и аппаратом выбросит его в море.
— Тысяча извинений, — суетится старикашка, — не имел в виду ничего вульгарного! Тысячи лиц, передо мной прошли тысячи лиц… Просто… Я редко ошибаюсь… — бормочет какую-то чушь.
— Ладно, пойдемте! — с досадой произносит девушка.
Происходящее кажется ей полным абсурдом. Безумный матрос-художник. Кликушествующий старикашка. Надо возвращаться в Баку, а зарисовки нет как нет. Хотя, впрочем… Будет о чем потом рассказать на факультете, будет над чем посмеяться.
Матрос и девушка в белом платье медленно идут по набережной.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Безумная мысль возродить, восстановить сожженный роман возникла у меня уже в самолете Анадырь — Москва. Сидя в кресле, чуть живой, я что-то царапал в блокноте, вспоминал удачные, как мне казалось, сравнения, сюжетные ходы и образы. Вернулся в Москву озабоченный, молчаливый. Просиживал за письменным столом дни и ночи. Это было странное путешествие в прошлое, которое еще не успело отделиться от настоящего, стать в полном смысле слова прошлым. Я просыпался утром и не знал, где нахожусь: в Москве, на Чукотке? Чего-то я не понимал. Точнее, не мог понять. Гибель романа можно было сравнить с гибелью близкого человека, я же не верил, что это безвозвратно. Может быть, потому, что все еще жил романом, в то время как самого романа не существовало. Признать это я не мог, потому что все опять тогда шло прахом. Я лихорадочно исписывал страницы, мне казалось, я легко вспомню, восстановлю роман, но это было невозможно уже хотя бы потому, что после потери романа я сам стал другим. Вместе с ним что-то погибло и во мне, но я не желал признать это. Впрочем, я осознал все позже. Пока же прежние, вытащенные из романтического небытия, герои не желали делать то, что делали раньше. Да и сам мир, их окружающий, сделался злее, жестче. Прежние мягкие каркасы уже не держали его. Все рушилось. Из многодневного сидения за письменным столом ничего не вышло. Опять на моем пути оказалась классическая древнегреческая река и опять меня перехитрила, обвела, выбросила на голую отмель.
Однако постигалось это постепенно.
Я жил как хотел, подчиняясь лишь самому себе да еще матери, когда она, допустим, посылала за хлебом. На Чукотке я кое-что заработал, некоторое время можно было не думать о деньгах. Впрочем, они куда-то уходили с удивительной быстротой.
Трудно воссоздавая роман, я не встречался почти ни с кем из прежних знакомых. То было время добровольного одиночества. Мой письменный стол стоял возле окна. Вид из окна был изучен до мельчайших подробностей. Два голубя повадились прилетать ко мне на подоконник. Один обычный, другой белый, мохнатый, должно быть, отбившийся от голубятни. Я сыпал хлеб на подоконник, голуби охотно клевали его.
Из-за непонятного упрямства, глупой привычки ломать себя, я продолжал корпеть над романом даже после того, как понял, что он невосстановим, что получается лажа. Я не мог расстаться с романом. Мне казалось, отрекись я от него, восторжествует похабный бородач, губитель жизни. Я единоборствовал с бородачом из последних сил.
Чтобы долгий труд окончательно не пропал, я разбил разрозненное, так и не ставшее романом, повествование на более или менее законченные по смыслу части. Потом переделал эти части в рассказы. Всего их получилось девять, целый цикл. Всякий, доведенный до конца труд есть радость. Пусть даже доведенный при грустных обстоятельствах. Поставив последнюю точку, я, словно пьяный, выкатился на улицу, побрел по лужам, задымил сигаретой, забыв, что надо было накрошить голубям хлеба. Рассказы были моим первым серьезным начатым и законченным делом. На них ушли осень, зима, начало весны. Почти все чукотские капиталы. Я брел по раскисшему мартовскому проспекту, смотрел в лица людей, и мне было странно: никто из них не знает, что я писатель! Что всего-то осталось: перепечатать рассказы на машинке, отнести в редакции журналов, подождать, пока опубликуют. И все! Имя мое станет известным.
Игорь Клементьев получил к этому времени маленькую двухкомнатную квартиру. Не то чтобы в центре, однако и не на окраине. Игорева жена накануне отправилась в роддом. Я вышел из подполья. Вечерами наведывался к будущему отцу. Мы тянули пиво, беседуя о жизни.
Двухкомнатная квартира, солидная должность в газете, предстоящее отцовство — все это были очки в пользу Игоря. Он ощущал закономерную гордость самостоятельно пробившегося человека, был доволен женой, профессией, должностью, самим устройством жизни, позволяющим лично ему добиваться поставленных целей. По натуре Игорь был соревнователем. Я почувствовал это давно, еще на первом курсе. И сейчас он не понимал, почему я так легко, можно сказать, равнодушно отдаю дистанцию. Игорь крепко стоял на ногах. Я стоял на воздушной подушке. Как и в студенческие годы, жил вместе с матерью и ее новым мужем, занимался чем угодно, только не делом, как понимал это Игорь. К настоящему дню мы пришли с разными жизненными философиями, дружба наша во многом стала условной. Общая молодость, университет, былой круг друзей — непрочные эти нити лопались, истончались. Я не попадал в соревновательский Игорев ряд, но все же интересовал Игоря. Почему это я не участвую в соревновании? Быть может, хитрю, выгадываю? Не хочу ли сграбастать все единым махом? Поставить, так сказать, на «зеро»? На что я надеюсь? Какие, собственно, у меня козыри? Игорь не мог поверить, что можно жить без козырей, одними лишь надеждами. За время моего отсутствия он изменился. Соревнование поглотило его целиком. Даже разговаривая со мной, Игорь был не в силах перестроиться. «У меня уже сейчас есть то-то и то-то. А у тебя? У меня такая-то перспектива. А у тебя?» — такие мысли угадывались в его рассуждениях. Я смотрел на Игоря с некоторым удивлением. Неужели это мой единственный друг? Рассорься я с ним, и вообще не окажется друзей? Я останусь один, совсем один. Почти как матрос на Апшероне.
— Чем ты дальше намерен заниматься? Какие у тебя планы? — спрашивал Игорь.
— Да рассказы пишу, — с мнимым спокойствием прихлебывал я пиво.
— Вот как? Рассказы? — мгновенно просчитывал ситуацию Игорь. — И ты уверен, что их издадут?
Я пожимал плечами. Конечно, я был уверен! Только говорить об этом считал преждевременным.
— Что ты будешь делать, если не издадут?
— А что делают в таких случаях?
Наши разговоры превращались в странную игру. Каждый сознательно подчеркивал в себе то, что считал главным. Игорь — четкое, прагматичное понимание ситуации. Я — уверенность в собственных силах, в праве на писание.
По-настоящему хорошо становилось, только когда начинали вспоминать прошлое. Расставались за полночь.
Я жил упорядочение. С утра писал, после обеда ходил по Ленинским горам, вечера проводил в библиотеке.
Неохватные горизонты распахнулись передо мной. Вновь, как после школы, после университета, я стоял на неведомом пороге, гол как сокол. И все же я был богаче, чем раньше. Идея собственного существования мелькнула в писании. Там, только там был шанс хоть как-то выразить себя. Но, лелея мысль, что будущее мое в писании, я одновременно постиг свое второе после утраченных корней величайшее сиротство, а именно: недостаточную образованность, незнание основ человеческой культуры. Когда в университете меня чему-то учили, я не хотел учиться, когда наконец самому пришла охота учиться, некому было учить. Масштаб распахнувшегося невежества изумил. Как же я смею писать, если мои знания случайны, необязательны, мысли мои живут мелкими житейскими наблюдениями, сомнительными страданиями. Истинные мудрость, знания проплывали надо мной, как облака. Я стоял, словно карлик, задрав голову.
Но я не желал мириться с тем, что я карлик.
То воспарял в такой космос, откуда было не разглядеть грешную землю, то не мог победить собственную хандру, когда все на свете кажется пустым и ненужным.
Приходя в библиотеку, терялся. Меня одновременно интересовало все. Проводил в каталоге долгие часы, выписывая бесконечные названия книг. Когда спохватывался, до закрытия библиотеки оставалось не так уж много времени. Бросался в читальный зал, читал нелепо, бессистемно. По заранее сданным заявкам выдавали лишь то, что имелось в наличии, было не на руках: сборник футуристов с глупейшими стихами, толстый том философа Морено «Социометрия», сборник статей Константина Леонтьева, альбом с произведениями Хосе Клементе Ороско, «Диалоги» Платона.
Из библиотеки выскакивал ошалевший, еще больше запутавшийся. Как я жил? На что тратил годы? Не было ответа. Каждое погружение в реку знаний заканчивалось то ли ознобом, то ли ожогом.
Я пристрастился садиться в читальном зале на одно и то же место у окна. Оторвавшись от страниц, обозревал тихий дворик, сарайчик, аккуратную поленницу, весьма странную в центре Москвы. В поленнице виделась высокая символика. Вот так и знания должны до поры складываться в человеке, чтобы потом враз обогреть озябших.
Моя поленница, впрочем, складывалась вкривь и вкось, качалась на ветру, грозила обрушиться на меня самого. Рядом за длинным, покрытым зеленым сукном столом часто сиживал худой парень с черной повязкой через глаз. Я встречал его и в курилке. Парень погружался в книги, как в музыку. Лицо светлело. Я мог лишь мечтать о подобном общении с книгой. Парень, судя по всему, незаметно присматривался ко мне, потому что однажды, когда я вновь в отчаянье уставился на поленницу в тихом дворике, произнес:
— Напрасно страдаешь. Все сразу не охватишь. Во всяком деле, особенно в таком безалаберном, как чтение, нужна система.
— Я? Страдаю? Какая система?
— Начни с Библии, — сказал парень и вновь погрузился в чтение.
В смятенных чувствах я шагал потом по вечерней улице. Мне не с кем было поделиться сомнениями. Игорь Клементьев бы меня не понял. Парню с черной повязкой на глазу я почему-то не доверял. Я замечал, как иногда его шатает за библиотечным столом, как он скребет по карманам мелочь в буфете. Парень, видимо, недоедал. Подобные взаимоотношения с миром знаний меня не
прельщали. Я сомневался в утверждении, что истинный философ должен быть нищ и гол, что только лишенцу открываются неисчислимые сокровища духа. Лишенец в рубище есть противоположность собственным словам о добре и мире. Какое такое добро в холоде и голоде? Я больше верил в надежную поленницу, нежели в босое бездомное откровение.
Была весна. Полгода назад я вернулся с Чукотки. Неделю назад снял с книжки предпоследнюю северную сотню.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Рассказы были в последний раз вычитаны. В последний раз — по крайней мере мне так казалось — все раздражающие глаз и слух мелочи были исправлены. Можно было отдавать машинистке, пусть перепечатает в трех экземплярах, и — вперед, на штурм редакций. Умиляясь, я перечитывал, как солнце встает над тундрой, как чукотский мальчик Торыттин возвращается летом из интерната на каникулы в родное стойбище, как древняя старуха с трубкой в зубах слагает на берегу холодного океана песни: «Мои надежды — два весла. Пока есть силы, я гребу. Где берег мой? Где дом? С дороги, видно, сбилась я».
Очнувшись от рассказов, я вновь увидел продолговатую свою комнату, старенький письменный стол, вытертый ворс ковра на полу, мать, гремящую кастрюлями на кухне, ее мужа — Генерала, — человека, чьи слова, поступки, чье поведение я не мог воспринимать объективно по причине необъяснимой неприязни к нему. Что конечно же еще не свидетельствовало, что он плохой человек. Случалось мне плохо относиться и к, в принципе, хорошим людям. Едва возникала перед глазами полноватая фигура Генерала, в голове моей словно происходило короткое замыкание: «да», «нет», «спасибо», «хорошо», «до свидания» — этими словами ограничивалось наше общение. Уединившись в своей комнате, я отчаянно завидовал квартировладельцу Игорю Клементьеву.
Когда мы втроем сидели на кухне: я, мать, Генерал, наступала мучительная, нехорошая тишина, какая возникает между чужими людьми, призванными в силу обстоятельств считаться «своими». Звук, с которым Генерал прихлебывал суп, вызывал во мне желудочный спазм. Звяканье его ложки о тарелку казалось колокольным звоном. Бесшумный полет мухи в эту минуту был громоподобным ревом идущего на посадку лайнера. Редко когда мне доводилось испытывать столь удручающее чувство отчуждения и пустоты, как во время этих вынужденных обедов. То был тупик, безысходный тупик. Все больше времени я проводил, шляясь по улицам. Стал привычным желтый свет общепита: пирожки, бутерброды, обжигающий водянистый кофе в толстых мутных стаканах. Я узнал унылую неприкаянность человека, которому некуда спешить. Стал ходить на вечерние сеансы в кино, лишь бы только не возвращаться в сделавшуюся чужой продолговатую комнату.
А между тем на Чукотке я думал об этой комнате с теплотой, она олицетворяла для меня понятие «дом». Пусть непостоянный, преданный, обменянный-переобменянный, открытый чужим ветрам и людям, пусть. Другого не было. Я там вырос, оттуда вышел. Теперь же, в силу причин, над которыми я не хотел, не желал задумываться, неверный дом уходил от меня. Это было невероятно: многообразие жизни, просторы страны, работу, рассказы, все на свете мне застила потеря дома. Вместе с ним на какое-то время я терял все! Так вдруг открылось третье сиротство: условность моего дома, а если говорить точнее, бездомье. Дом — точка человека на необъятной карте жизни. Оторвавшись от нее, человек летит тополиным пухом.
Неужели и мне пришла пора лететь?
В марте снег то выпадал, то таял. Голуби больше не прилетали на подоконник. Я отдал перепечатать рассказы соседке Антонине и теперь слышал, как стучит-разоряется машинка за стеной, разделяющей наши квартиры. Работала Антонина, несмотря на юный возраст — семнадцать лет, — совершенно профессионально. По вечерам я курил, положив ноги на стол, уставясь в черное ночное окно. К потолку ползли кольца дыма. То было долгое прощание с домом, где я был чужим. Пора было на что-то решаться. Но куда мне податься?
В одно из таких ночных бдений в комнату неслышно зашла мать.
— Ты закончил рассказы? — спросила.
— Закончил.
— Антонина печатает?
— Да, печатает.
— Мать жаловалась на нее, не знает девка удержу.
Я пожал плечами. В таком случае опечаток будет много. Однако не стал уточнять, в чем именно Антонина не знает удержу.
Генерала дома не было. Где-то он ставил медицинские опыты на несчастных кроликах и собаках. Я не хотел думать об этом человеке.
— Петя, может, дашь мне прочитать эти твои рассказы?
— Конечно. Как только Антонина перепечатает.
Я закурил вторую подряд сигарету. Разговор не получался.
Пауза.
Я улыбнулся фальшиво и вымученно. Гигантский разрыв между тем, что я думал и — что говорил, как жил, — даже не сейчас именно, а вообще, — пригибал меня к земле. Я отводил глаза в сторону, словно замышлял что-то украсть.
А что, если совсем уйти отсюда? Немедленно, сейчас!
Дышать сразу стало легче. Сила, пригибавшая к земле, делавшая из меня вора, отпустила.
— Послушай, мама. Я все понимаю. У тебя семья, а я… Здесь. Зачем? Мне уже много лет, надо делать свою жизнь, а я застрял в неразумном отрочестве. Надо решать. Наверное, я…
— Нет-нет! — испуганно закричала она. — Ты сошел сума! Не вздумай. Не оставляй меня одну! Я его ненавижу, слышишь, ненавижу. Не смей уходить! Обещай мне. Я без тебя не смогу.
Дом — непостоянный, преданный, обменянный-переобменянный, открытый чужим ветрам и людям — не желал меня отпускать.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я не помню, как заснул в эту ночь. Очерк о Чукотке был так и не начат. Помню тихий свист от неплотно заклеенного окна, возобновившееся падение капли в раковину. Странное дело, подумал я, свист ветра нисколько не раздражает, напротив, даже успокаивает, в то время как несчастная капля способна свести с ума. Видимо, звуки эти воздействуют на разные слои сознания. Капля подвластна, ветер нет. Так и человек, подумал я, ненавидит, обижает, прежде всего своих родных и близких, с кувалдой идет на каплю. И в то же время с боязливым, холуйским трепетом внимает холодному ветру, гуляющему над миром, принимая его за нечто раз и навсегда данное, неизменное. А между тем стоит всем разом распрямиться — и сгинет проклятый ветер, так как он от трусости нашей, от невежества.
Впрочем, так считали еще древние греки.
Я пришел в себя, однако от роли учителя человечества было не отстать.
Фонаря для одного не существует. Тьма многолика, населена призраками. Во тьме чудится огонь. Можно всю жизнь идти на этот холодный болотный огонь, думая, что идешь к некоей цели.
В детстве мне часто снилось, что я летаю. То был почти что физический, птичий полет. За ночь я, наверное, вырастал на сантиметр.
Сейчас, в зрелом возрасте, мне тоже случалось летать, но иначе. То вдруг я постигал, что есть любовь, — такое сильное, химически чистое чувство испытывал к неизвестной, явившейся во сне, особе. То переживал немыслимую дружбу, когда был готов не раздумывая отдать жизнь за неведомого товарища. Однако при этом доподлинно знал: ночные чувства неприменимы к действительности. Следовательно, я не вырастал. Сны были тоской по некоему утраченному совершенству, мостами, ведущими в никуда. Только во сне, на мосту, ведущем в никуда, случалось мне бывать счастливым.
В детстве все было по-другому. Думая о детстве, я прежде всего вспоминал моменты, когда всем своим существом, всей душой был счастлив. В эти мгновения я ощущал родство со всеми людьми и одновременно осознавал, что значат для меня отец, мать, а следовательно, вообще люди. То было генетическое восприятие счастья, мост, который и сейчас тянулся ко мне из глубины лет, как протянутая рука. Воспоминания детства держали, словно якорь, не давали сорваться. Если есть хорошие, светлые воспоминания, жить не страшно, так мне казалось.
Утром я встал с тяжелой головой. Покрытые льдом и снегом ветви деревьев блестели на солнце, как сказочные рога. Они вдруг напомнили мне детство.
Такая же зима была в Ленинграде, где мы тогда жили, такой же светлый солнечный день. Я, помнится, сидел на диване, а отец читал мне сказку про оленя с волшебными рогами.
— Что же это за олень? — спросил отец.
— Ты разве не видишь? — удивился я.
— Не вижу, — сознался отец.
— Он мягкий, как одеяло, — сказал я, — у него светятся копыта, рога как тонкие ветки, а на ветках цветы, ягоды, листья и колокольчики!
— Какие еще колокольчики?
— Не знаю, но ведь рога должны звенеть.
Мы дочитали сказку. Отец ушел в другую комнату. Через некоторое время вернулся, протянул мне рисунок.
— Похож?
Я схватил рисунок. Это был тот самый олень, которого я только что придумал. Даже лучше! Весь день я не расставался с рисунком, весь день был несказанно счастлив. А через несколько месяцев, когда я уже про все забыл, отец принес мне книжку сказок со своими иллюстрациями. С обложки на меня смотрел, покачивал цветущими, звенящими, плодоносящими рогами знакомый олень.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Рассказы завернули везде. Первое время я испытывал что-то вроде трепета, когда наставала пора звонить в редакцию, узнавать судьбу. Однако по тому, как недовольно на другом конце провода переспрашивали мою фамилию, раздраженно шуршали бумажками, долго молчали, а потом наконец просили: «Напомните, о чем рассказы?» — я все больше убеждался, что грешный мир и представления о литературе мои рассказы не перевернули. По крайней мере у тех, с кем я говорил по телефону.
Рассказы птицами слетелись ко мне. На титульных страницах красовались удручающие цифры: 1448/2452, например. Это означало, что мой рассказ был по счету либо тысяча четыреста сорок восьмым, либо две тысячи четыреста пятьдесят вторым из присланных и рассмотренных редакцией в этом году.
Трепет поутих. Чтобы исключить случайности, я перетасовал рассказы, как карты, вновь разнес по редакциям. Пока же углубился в изучение отказов. Были среди них формальные отписки, были и толковые ответы. Но сути дела это не меняло. Рассказами не заинтересовался никто. Это превосходно сочеталось с моим домашним состоянием, с тем, что я все еще не устроился на работу, что пора было снимать со сберкнижки последнюю северную сотню.
Слово «рефлексия» вызывало во мне двойственное отношение. За время сидения в библиотеке я расширил и углубил свое представление об этом понятии — форме теоретической деятельности общественно развитого человека, направленной на осмысление своих собственных действий и их законов; деятельности самопознания, раскрывающей специфику духовного мира человека. Позитивный смысл рефлексии заключается в том, что с ее помощью достигается освоение мира культуры, продуктивных способностей человека. Таковы были последние ученые трактовки. Я, однако же, ими не удовлетворился, дал собственное определение: субстанция, обратная по значению воле, сумма отрицательных впечатлений о мире, приобретающая порой характер мировоззрения. Я решительно отвергал рефлексию как мировоззрение, но в то же время не понимал, что, как не отрицательные впечатления о каком-либо предмете, порождает движение мысли, направленное на улучшение, исправление этого самого предмета? Как можно не испытывать отрицательных впечатлений, сталкиваясь со всевозможными несовершенствами? Рефлексия была в моем понимании слоеным пирогом. Нижний, вульгарный слой: когда некто небритый, опустившийся валяется в обуви на койке, или, наоборот, выбритый, подтянутый гнусно резонерствует за столиком в ресторане, охмуряя случайную девушку. И верхний: когда кто-то вбирает в себя рассеянные, летающие мысли, всю тоску человечества по гармонии и счастливой жизни и — ценой в миллион раз более сильной рефлексии, чем у остальных, подобно вспышке молнии, дает людям новые ориентиры, открывает новые горизонты. Рефлексия рефлексии рознь.
Мне ставили в вину, что герои мои частенько рефлектируют. Однако же мне думалось, что если взять любого человека, дать ему пять минут над чем-нибудь поразмыслить, а потом с помощью каких-нибудь приборов проанализировать его мысли, то окажется, что половину из них можно отнести к воле, а другую половину к рефлексии. Если, конечно, человек не эйфорический идиот и если предмет размышлений достаточно нейтрален.
Но дело было не в этом. Дело было в рассказах.
«Нет у меня дурных предчувствий. А если были, так прошли. Я нахожу себя в искусстве унынье гнать с лица земли». Я любил эти стихи, всегда вспоминал их в трудные минуты, но, выходило, не сумел передать это чувство героям. Следовательно, рефлексия моя была вульгарной, я обретался в нижнем слое пирога рядом с опустившимся типом. Что толку, что моя рефлексия была сдобрена романтизмом? Сути дела это не меняло.
Мне хотелось с кем-нибудь поделиться этими мыслями. Вместе с рассказами перевернулась еще одна страница моей жизни, которая, как и все предыдущие, вернула меня к исходному, к предисловию, к тому, с чего я начал. Страницы моей книги переворачивались явно не туда. И в сочинении рассказов я оказался не особенно удачливым. Надо было начинать все сначала.
Игорь Клементьев к этому времени сделался отцом, у него родилась дочка. Все полагающееся шампанское по этому поводу было уже выпито. По утрам Игорь бегал в молочную кухню, по вечерам стирал в стиральной машине пеленки. Я его не тревожил.
— Привет, писатель! — позвонил он сам, когда я не ждал ничьих звонков. — Как твои рассказы? Я слышал, все журналы из-за них передрались.
— Страшное дело, — ответил я, — никак не могу выбрать, в каком печатать.
Пауза.
— Это все, что ты хотел мне сказать? — спросил я.
— Нет, — засмеялся Игорь, — это было бы слишком жестоко, я еще до такого не дошел. Тут у меня возникла идея. Ты не хочешь съездить в командировку в родной город?
— Хочу! — быстро ответил я.
Почему мне это раньше не приходило в голову? Родной город. Похоже, я забыл, что существует Ленинград.
— Поеду, — сказал я, — и немедленно.
— Там сейчас уже светло, — мечтательно произнес Игорь.
Пауза.
Я понял, он хочет, чтобы я, так сказать, проникся, оценил его благодеяние.
— Сфинксы, грифоны с золотыми крыльями, — Игорь вздохнул. — Сам хотел поехать, но тебе известны нынешние мои обстоятельства. Значит, поедешь?
— Я уже сказал.
— Приезжай в редакцию, объясню, что там надо.
Но я сначала поехал на вокзал, купил билет на ночной поезд. Потом к Игорю — услышать, что там надо, получить командировочные.
Игорь сидел в отдельном кабинете. Однако таблички с его фамилией на двери еще не было. Из этого явствовало, что Игорь занял кабинет недавно. Игорь сидел за столом сбоку от большого окна. На столе было два телефона: обычный и черный — глухой — для сообщения с начальством. Пол был застлан синтетическим ковром. В углу на паучьих ножках растопырился телевизор. Здесь, стало быть, Игорь читал материалы, составлял планы, давал руководящие указания подчиненным.
Что-то он мне не понравился. Игорь был странно суетлив, казалось, мысли его заняты другим. Он нервно вздрагивал, если кто-нибудь входил в кабинет, все время подбрасывал на ладони зажигалку. И разговаривал то уклончиво-обтекаемо, то излишне самоуверенно. В довершение всего у Игоря бегали глаза. Все это свидетельствовало, что Игорь еще не определил себя в новом качестве. Однако же был на пути к этому. Нечто абстрактное, скользкое, необъяснимое в словах, начинало угадываться у Игоря в глазах, в жестах, в манере говорить. Он рассматривал материалы скорее всего не с точки зрения, хорошо это или плохо, талантливы они или бездарны, а как подсказывало трудноуловимое, ускользающее «нечто», когда «плохо» бывает «хорошо», а «хорошо» почти всегда «плохо». Чтобы постоянно улавливать «нечто», предугадывать его непредсказуемые зигзаги, вне всяких сомнений, необходим талант. Но это не тот талант, который приносит пользу человечеству. Я не любил таких неуязвимых, скользко-бронированных начальников с холодными глазами. Какова бы ни была исходная точка Игорева «нечто»: продвижение ли по службе, мнение главного редактора, звонок из курирующей организации или что другое, — он выбрал неправильный путь.
А может, я ошибался. Может, я просто завидовал Игорю. Я не хотел об этом думать. Я хотел уехать в Ленинград, в город моего детства и отрочества.
Игорь наконец объяснил задание. Оно было не очень сложным. Потом вдруг начал листать перекидной календарь, хмуриться, что, видимо, означало: аудиенция закончена. Должно быть, так расставались с визитерами вышестоящие Игоревы начальники.
— До свидания, спасибо тебе! — сердечно поблагодарил я Игоря. Ленинград — это было то, что нужно.
— Материал, сам понимаешь, надо будет сделать на уровне, — небрежно произнес Игорь. — Не разучился, сочиняя рассказы-то? Сможешь?
— Увидим. — Я вышел из кабинета. Уже на улице подумал: может, стоило бросить ему эту командировку в морду?
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Как, должно быть, тосковала девушка в белом платье, когда стояла знойным днем под цветущей акацией и белые лепестки падали ей на голову. Матрос, безумно орудующий кистью, уже не казался ей милым и симпатичным. Несмотря на близорукость, она сумела разглядеть трехдневную щетину на его лице, синие круги под глазами то ли от недосыпа, то ли от пьянства. Что ж, ей приходилось видеть маньяков, которые мнили себя гениями, а на самом деле были несчастными больными людьми. Еще угнетало девушку в белом платье то обстоятельство, что зарисовка, выражаясь морским языком, — что поделаешь! — стояла на мертвом якоре. А времени между тем совсем не оставалось. В том, что какой-то матрос, не имеющий отношения к живописи, орудует кистью, а она — журналистка — не может сочинить жалкую зарисовку, заключалась насмешка. В конце концов она приехала сюда чтобы написать зарисовку о полуострове, а не стоять под дурацкой акацией, вдыхать ее сомнительный аромат. Может быть, у нее аллергия на акацию! Девушка тосковала.
Но почему у нее на картине одухотворенное лицо? Неужели явилась идея заметки? Или матрос говорил что-то такое, что не оставляло девушку равнодушной? А может, матрос написал лицо девушки не таким, каким оно было, а каким увидел в безумном своем порыве, каким, по его мнению, оно должно было быть. Матрос подчинился чувству. Не каждую встречную девушку в конце концов уговаривал он позировать под акацией.
С матросом все ясно. С девушкой нет. Белое платье, близорукий взгляд, мягкий, вежливый разговор. Матросу кажется, она из другого мира. Его умиляет ее беззащитность. Девушка думает, что из другого мира — матрос. Он ей не пара. Она твердо стоит на том. Матрос обреченно штурмует сразу две твердыни: живопись и лед, разделяющий его и девушку.
О чем, интересно, говорили в начале пятидесятых на факультете журналистики?
С матросом все ясно. С девушкой нет.
Девушка не ясна именно вследствие своей среднеарифметической удручающей ясности. Душа ее неуловима, слова милы, округлы, не умны и не глупы. Да и есть ли в девушке живая душа? Она учится исключительно на четверки, всегда и во всем посередине, всякие крайности ей чужды. Ни шагу из круга, очерченного воспитанием, приличиями, господствующими в настоящий момент взглядами на жизнь, на добро и зло. Кое-кто, впрочем, на факультете считает, что девушка в белом платье — тупица, посредственность, но ее это не обижает. Она знает цену себе и тем, кто это говорит.
Матрос совершенно чужд ей. По моим представлениям, она вообще не должна была стоять под акацией, слушать взволнованные речи незнакомого матроса. Так почему же она пошла?
— Вы должны меня понять, — бормочет между тем матрос, — должны, мне кажется, вы все понимаете. Так. Мне уже двадцать пять, а такое чувство, что я не жил. Точнее, существовал, но как животное, я не боюсь этого слова, как скот! Без всякого понимания, без идеи. Жрал и пил! Жрал и пил. Детство. Какое у меня было детство? Маленький захолустный городишко, пыльные улицы, теснота, детдом. Шестьдесят коек в спальне. Потом война, нас на второй день уже бомбили. Я скитался по поездам, играл в карты, воровал. В сорок четвертом попал в колонию. Сразу после войны директор детдома нашел меня, вызволил. По гроб жизни ему благодарен. Закончил школу, потом работал на заводе, служил в армии. Сейчас вот плаваю матросом. Так. Джек Лондон! Ха-ха! Какой, к черту, Джек Лондон? Какое-то затянувшееся предисловие, но к чему? Два-три детдомовских друга на всю жизнь — и все. А так один, совершенно один. Меня ничто не связывает с теми, с кем я работаю, сплю в одном кубрике. Это-то и страшно. Это не жизнь, нет, это не жизнь. Я рисую! Вот единственное, что не дает пропасть, окончательно сгинуть. Этим живу. Но когда? Когда рисовать? Только на стоянках, а мне хочется все время. Я злой, как пес, когда не рисую. На всех кидаюсь. Так. Да, только рисовать. Иначе незачем жить. Смысла нет. Другого не надо. Учиться и рисовать. Да, учиться и рисовать.
— Мне еще долго тут стоять? — спросила девушка.
— Немного, еще немного, прошу вас! — матрос чуть не падает на колени. — Я чувствую, что получается. Подождите, постойте еще немного!
— Хорошо, хорошо. Я постою сколько нужно.
— Когда я увидел вас на набережной, — продолжал между тем матрос, — меня охватило отчаянье. Понимаете, вы из другой, совсем другой жизни.
Девушка удивленно смотрит на матроса.
— Черт с ней, с жизнью, не в ней дело. Я не так сказал. Вы… Ну, оттуда, где меня могли бы понять. Понимаете? Вы из Москвы? Я сразу понял: вы из Москвы. Вы другая. И я хочу стать другим. Я хочу учиться!
— Да что же вам мешает?
— Мешает? Действительно, ха-ха, мешает… — матрос в недоумении смотрит на девушку. Потом вдруг начинает хохотать. — В самом деле, что? Что может помешать человеку, если он всей душой… Если он сделал выбор. Что? Решено! Так. Я поеду, я завтра же, нет, сегодня же поеду. Я успею. Вы… еще долго здесь будете?
— Я журналистка, — с достоинством ответила девушка, — здесь на практике. Мне поручили написать зарисовку, но у меня не получается.
— Я помогу, — самоуверенно заявляет матрос, — я облазил этот полуостров, все здесь знаю. Напишите, что здесь рыба пахнет нефтью, — морщится, — нет, не то! Я вспомню, что тут интересного. — Отходит от этюдника на несколько шагов, пристально смотрит на картину. — Когда вы согласились сфотографироваться со мной, я подумал: брошу все на свете, буду нищенствовать, сдохну, но стану художником. Только тогда ваш мир будет принадлежать мне. У меня есть силы, есть воля. Я поступлю в художественный институт, буду работать день и ночь, но я стану. Я только увидел вас и сразу понял: назад пути нет. Пожалуйста, не обижайтесь, я сказал правду. Так. В самом деле так. — Матрос устало опустил кисточку. Вытер со лба пот.
— Все? — поинтересовалась девушка. — Мне можно посмотреть?
— Конечно, смотрите. — Матрос уселся прямо на теплую землю, закурил. Взору открылось море — сияющая синяя полоса, дальние дома, корабли, чайки.
— Послушайте, — девушка внимательно смотрит на картину. — По-моему, это просто здорово! Это очень хорошо, я говорю искренне. Вы настоящий художник. — Садится рядом с матросом, неожиданно целует его в щеку. — Только это не я, а другая — умнее, лучше меня. Спасибо вам.
Матрос роняет папиросу.
— Вы меня поцеловали. Вы говорите, что это не вы! Вы в миллион раз прекраснее, я сошел с ума, мне все снится: вы, картина, море.
— Мне надо идти, — девушка смотрит на часы. — Вот увидите, все у вас будет хорошо. Вот увидите. До свидания.
— Подождите! — Матрос хватает ее за руку. — Так. Неужели мы больше не увидимся, Анна? Хотите, я…
— Я сегодня на автобусе возвращаюсь в Баку.
— Мы сейчас расстанемся и никогда больше не увидимся? — шепотом спрашивает матрос.
Девушка делает вид, что не слышит. Она снова видит трехдневную щетину на лице матроса, синие круги под глазами. С недосыпа, решает добрая девушка.
— Мне пора. До свидания, — мягко и в то же время настойчиво повторяет она.
Матрос сутулится, с грохотом складывает этюдник.
— На будущий год я приеду в Москву поступать в институт, — глухо произносит он. — Я вас там найду, ладно, Анна? — судорожно гладит ее маленькую белую руку, делает попытку поцеловать, но опыта целования рук нет, матрос конфузится и злится.
— Ну успокойтесь! — говорит девушка. — И поймите меня. Мне действительно понравилась ваша картина. Вы способный человек. Все у вас будет хорошо. Вот и все. Слышите, все! Больше ничего. Мне пора, до свидания.
— Спасибо, конечно, спасибо. Пойдемте, я провожу вас. Это же я вас сюда завел.
Они молча шагают по горячей земле. Для матроса время летит, для девушки постыло тянется.
— Теперь мне направо, — говорит девушка. — Не надо дальше провожать.
— Да-да, мне туда, — матрос смотрит на блистающее впереди море.
— Тогда до свидания.
— Счастливо, Анна, — матрос смотрит, как девушка в белом платье идет вдоль кирпичной стены, спускается на дорогу и вскоре исчезает среди камней и виноградников.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
А время между тем шло. Очерк о Чукотке был сдан. Теперь я занимался круглым столом, за которым якобы собрались молодые изобретатели. Дело это было хлопотное, почему-то решили, что они должны быть с разных заводов, — вот я и мотался по этим заводам. Еще я начал осторожно узнавать насчет жилья. Как мне сообщили в жэке, Генерал имел право на фантастические льготы, поэтому я вполне мог отделиться от матери без размена квартиры, при условии что организация, в которой я работаю, предоставит мне жилплощадь. Претензии мои были минимальны — комната в коммуналке, поэтому я надеялся избежать интриг и конкуренции со стороны прочих очередников в редакции. Они-то претендовали куда на большее. Пока я только осторожно вводил в курс дела председателя месткома. Тот отвечал, что, если повезет, дело мое может решиться в один миг, а если не повезет, может тянуться годами.
После этих разговоров возвращаться домой было стыдно. Обманывать мать было выше моих сил. Я повадился ездить после работы на дачу.
Сразу за нашим забором начинался лес: белый снег, черные стволы. На снегу сидели вороны. Деревья тянули руки вверх, словно хотели натянуть на корявые плечи голубое небо как рубашку. Я шел утоптанной лесной дорожкой, а сбоку невидимые лыжники успели проложить лыжню.
День, прожитый здесь, казался длиннее городского. Здесь брала верх милая моему сердцу разомкнутость, совсем как во времена восстановления чукотского романа, хождений в библиотеку, созерцания пейзажа за окном. Тогда еще голуби прилетали ко мне на подоконник. Когда я жил в городе, ходил на службу — недели летели, как эти голуби, помахивая крыльями — страницами чужих рукописей, сморщенными хвостами гранок, желтыми листами версток. Требовательно звонили телефоны, неустанно звучали голоса знакомых и незнакомых людей, нужные, а главным образом ненужные, встречи происходили в метро, на улицах, в кафе.
Утром я не представлял, как закончится день: где, с кем, в какой компании окажусь?
Эта иллюзия существования была самым что ни на есть настоящим существованием. Так можно было прожить пятьдесят, сто лет, потому что суета вечна. Вокруг меня, вместе со мной в суете кружились сотни людей. Это успокаивало: не один я, все кружатся. При этом милая моему сердцу разомкнутость ухитрялась мирно сосуществовать с замкнутым кругом, по которому катилась моя же собственная жизнь. То был странный покой среди суеты.
Я шел по свежему скрипучему снегу, который ближе к вечеру начал синеть. Солнце перемахнуло через нашу крышу, что означало скорый заход. Над трубой идиллически поднимался дым.
Я решил натаскать дров из сарая на веранду, создать, так сказать, энергетический запас.
Дед тем временем выбрался из дома в ватнике, в драной шапке на голове. «Зачем, — подумал я, — он сиротствует?» В шкафу лежали по крайней мере три-четыре приличных шапки. Меня дед попросту не замечал. Но и не выказывал раздражения. Надев рукавицы, он принялся расчищать деревянной лопатой дорожку от калитки к дому. В рассчитанных экономных движениях сказывалась привычка к подобной работе. Видимо, в механических действиях, в необходимости поддерживать в доме относительный порядок, в заполнении времени неторопливой, размеренной работой заключалась для деда замена того, что мы понимаем под словом «жизнь». Он все реже наведывался к нам в Москву. Ему было неинтересно. Там он не находил того, ради чего стоило бы приезжать. Нет у деда ни малейшего интереса и ко мне. Он ни разу не пытался даже просто поговорить со мной… Хотя бы спросил, думаю ли я жениться, ведь годы немалые. Дед выстроил вокруг себя забор. Мои неуклюжие попытки перелезть через забор, достучаться — безуспешны. Что-то между нами безвозвратно утеряно. А может, не между нами? Между ним и остальным миром? Мне хотелось понять: к своим ли только близким равнодушен дед, или его уже вообще не волнуют люди? И что тому виной? Просто старость или что-то другое?
Натаскав на веранду дров, взял у деда лопату:
— Давай помогу.
Он неохотно, с некоторой даже досадой отдал лопату, снял рукавицы. Я сунул в них руки, подивился: какие холодные! То была старость — остывающая кровь.
Дед помалкивал, засунув руки в карманы ватника. И я помалкивал, орудуя лопатой.
— Если ночью пойдет снег, — мне стало не по себе от этого молчания, — дорожку снова занесет.
— Я чищу каждое утро и каждый вечер, — ответил он.
Я врубился лопатой в снег, пробежал с лопатой до калитки и обратно. Дед стоял на крыльце в кургузом ватнике, в драной шапке.
— Неужели тебе одному не скучно? — растерянно спросил я. — Как ты можешь все время — один? О чем ты думаешь? Все тебе чужие!
Дед удивленно посмотрел на меня. Вряд ли он понял мои слова. Во всяком случае он их не ждал.
— Ты ото всех, от всего отдалился! Живешь как в пустыне.
Я понял, что ломлюсь в запертую дверь.
— Что-то я не разберусь, — отчетливо проговорил дед, — ты меня осуждаешь? Чем же я заслужил твой гнев?
Тонкие бледные губы его искривились. Наверное, дед усмехнулся.
Я вдруг вспомнил, что опять не привез из города продуктов.
— Нет, — смутился я, — нет. Просто я хочу понять.
— Позволь узнать, что именно?
— Все, — твердо ответил я.
— Твое желание не может не вызывать восхищения, — опять усмехнулся дед, — оно, я бы сказал, достойно Авиценны. Бог в помощь, Петя.
— Возможно, я глупо излагаю, — вздохнул я, — но смысл ты понял.
— Да, вполне, — дед внимательно смотрел на меня с крыльца.
Мне казалось, воздух вокруг лица пластают невидимые скальпели. Чего я, идиот, добиваюсь? Странно, что он вообще терпит здесь меня, нахлебника. А мне все мало, еще взываю к родственности! «Он умнее меня, — подумал я устало, — а уж что ехиднее и злее, так это совершенно точно».
— Тебя что-то здесь не устраивает? — спросил дед. — Ты, верно, хочешь, чтобы я пускался в пляс при твоем появлении?
— Мне кажется, человеку не может быть хорошо одному.
— Благодарствую за заботу, — поклонился дед, — и все же позволь мне остаться при своем мнении. Видишь ли, Петя, старый человек — плохой объект для психологического исследования. На первое место выходит физиология: поесть, поспать, опять поесть. Старость — все равно что ороговевший ноготь — нечувствительна, да и не эстетична. Сам не замечаешь, как становишься маразматиком. Я, Петя, одной ногой в могиле, а ты кричишь, что я от всех отдалился. Поздно ты взялся меня воспитывать. — Дед обмахнул веником валенки, скрылся в доме.
Я долго смотрел на закрытую дверь. Лопата вдруг сделалась тяжелой, холод прохватил до костей. На двери, на заиндевевшем крашеном экране я увидел глухую сибирскую деревню, мальчишку, бегущего за подводой, на которой уезжала к родственникам в город его подруга, детская любовь Таня. Их дома стояли рядом, они вместе выросли и до этого дня не разлучались. Через пять лет Таня вернулась в деревню. Китаец, с масленой косицей на затылке, весь в синем, с набитым золотым песком поясом под одеждой, заразил ее сифилисом. Она медленно умирала во флигельке за закрытыми ставнями. Еду ей ставили на подоконник. Она выходила на улицу ночью, закутав лицо платком. Деревенские дети бросали в закрытые ставни камни, кричали: «Танька! Безносая! Б… китайская!» Мальчишка дал клятву выучиться на врача. Он уехал в Москву, выучился, научился лечить проклятую болезнь. Тане он не помог, зато помог другим. Получил ученую степень, стал признанным авторитетом в своей специальности. Потом в его деятельности случился вынужденный перерыв. Вернувшись к жизни, он не вернулся ни к научной работе, ни к врачебной практике. Он выхлопотал пенсию, благо возраст позволял, и как бы перестал существовать для всех, кроме ближайших родственников.
…Потом на двери, на заиндевевшем крашеном экране возникла отцовская картина «Поляна». Что-то мешало мне отнести картину целиком на совесть отцовской фантазии. Что-то смутное, не сама мысль, но возможность допустить такую мысль. Допустить, не более того. И все же. Хотя «что-то» не освобождало меня от страстного желания немедленно порвать, изрубить топором, уничтожить картину, потому что это ложь! Правдивая ложь, которая, переплавившись в тигле искусства, может превратиться в настоящую правду.
Образ деда раскололся между двумя видениями.
Меня ждал круглый стол, за которым, подобно рыцарям короля Артура, собрались молодые изобретатели.
ЛЕНИНГРАД I
В Ленинграде была другая весна. По Неве, сокрушая друг друга, плыли льдины. От воды поднимался холод. Позолоченные купола и шпили сверкали, как зимой. На Васильевском острове у сфинксов заиндевели загривки.
Сфинксы были мне как родные. Я вспомнил, как однажды белой ночью мы купались в Неве, а после сидели в мокрых трусах на сфинксах, как бы пришпоривая их синими пятками. Каменные сфинксы, казалось, хранили тепло уходящего дня. Теплая кровь пульсировала в них, словно в живых.
Нынешний Ленинград был холоден. Воспоминания детства не отогревали его. Я в страхе думал: неужели и это утеряно? Ведь я вырос здесь: возле Невы, среди линейных улиц, шпилей, куполов, блистающих на солнце, среди нескончаемого, изнурительного дождя, белых ночей, ледяных и мокрых зим этого города, не устававшего одаривать меня, давать пинки.
Один раз в детстве, прогуливая школу, забрел во внутренний двор консерватории, заставленный ящиками, переломанными рядами списанных кресел. Некоторое время я сидел один в выброшенном ряду, глядя в небо, слушая музыку, просачивающуюся сквозь каменные стены. Потом вдруг надоело сидеть. Я устремился вперед: по лестнице черного хода, потом по другой, цивилизованной лестнице, по пустому коридору, — сунулся наугад в самую красивую дверь и угодил в мягкую, малинового бархата, золотую ложу, как бы парящую над многоголовым залом, над сияющим медным оркестром, как бы поместившуюся внутри то нежной, то строгой музыки, заставившей меня затаить дыхание, опуститься на мягкий боковой диванчик, забыть, кто я и что я. Видимо, это был дневной концерт, а может, какое-нибудь прослушивание. Тусклый свет на мгновение зажегся в ложе. Я не успел спрятаться. Усатый швейцар схватил меня за шиворот, выволок из ложи. «Паршивец! Как проскользнул?» — отвесив подзатыльник, спустил по лестнице. Краем глаза я успел заметить, как в ложу, в малиново-бархатное золотое великолепие степенно вошло значительное лицо.
Когда это было.
Я стоял на набережной, над Невой, над плывущими льдинами перед сфинксами.
«Зачем приехал?» — прорычали сфинксы.
«В командировку, — ответил я, — но это, естественно, лишь повод. Я жил здесь до семнадцати лет. Именно здесь когда-то давно белой ночью я понял, что есть красота и гармония. С тех пор всегда, когда я вижу прекрасное, будь то женское лицо, пейзаж, памятник или картина, — всегда вспоминаю белую ночь, угол набережной, откуда я увидел Зимний, Неву, Дворцовый мост. Эта триединая стихия: здания, моста, воды — мое первое, самое прочное представление о красоте. Историю Отечества я изучал по памятникам на этих улицах. Свои первые книги я прочел здесь. Здесь впервые поцеловался с девушкой. Как же мне без этого города?»
«Зачем тогда уехал?»
«Потому что был молод и несамостоятелен. Не имел чувства пути. Не знал своей судьбы. Я, собственно, и сейчас-то ее не очень знаю».
«Почему бродишь по городу? Не идешь домой?»
«Потому что у меня здесь нет дома. Потому что я не знаю, можно ли идти туда с тем, с чем я приехал? Можно ли?»
Больше вопросов не было.
Я прибыл в Ленинград в восемь утра. Часы на Думе пробили двенадцать, а я все ходил по городу, как заведенный.
Объектом моего журналистского интереса должны были стать молодые дизайнеры из филиала Всесоюзного института технической эстетики. Филиал этот расположился в Инженерном замке. Я шел по Невскому. Вспоминались стихи: «Давних дней и любовей, не след уже — поздно! — но зов, еще явственен в сонных глубинах реки Самотеки». В обшарпанных, продуваемых навылет подворотнях Невского не менее явственно ощущался зов давних дней и любовей. Я свернул на Садовую. Вскоре Инженерный замок мелькнул сбоку красным державным фасадом. На одном из его этажей обитали герои моей будущей заметки. Идти к ним сейчас было невозможно, хотя и мелькнула мысль, что писать о дизайнерах надо непременно с учетом нынешних моих впечатлений, — это тоже своего рода дизайн. Дизайн во времени и пространстве. Тогда материал будет чего-то стоить. Но как свести в корреспонденции совершенно разные темы? Вряд ли меня поймут.
Мосты выгибали спины над Невой, Мойкой, Фонтанкой, каналами. На каждом углу стояла телефонная будка, но я не звонил отцу. То, с чем я приехал, не позволяло праздно звонить.
…Мои родители ходили разводиться много раз. Однако каждый раз возвращались неразведенными, передумав в пути. А потом все-таки развелись. Я это понял по гнетущей злой тишине, раз и навсегда установившейся в квартире. Им надо было как-то продолжать жизнь, но продолжать ее под одной крышей оказалось немыслимым. Как, впрочем, немыслимым оказалось и немедленно расстаться: слишком еще были живы, слишком не отболели прежние чувства. Я в тот день яростно играл в футбол во дворе. Забил три гола, домой вернулся голодный и счастливый. Гнетущая злая тишина была мне наградой за великолепные голы. Бессмысленное, истеричное существование под одной крышей людей, сознательно разрушающих в себе остатки прежних чувств друг к другу. Свобода, гнусная свобода от человеческого отношения друг к другу, а следовательно, равнодушие ко всему на свете. Мне до сих пор аукалась их свобода, сделавшаяся и моей.
ЛЕНИНГРАД II
И в этот свой приезд я первым делом направил стопы в мастерскую и обнаружил, что «Поляна» заняла почетное место в центре. Краски на палитре были свежие. Они лоснились, поблескивали, значит, именно над «Поляной» сейчас работал отец, со старанием выписывал уродца-людоеда. Наверное, картина действительно несла в себе некую обобщающую идею, что зло искажает, уродует мир, что во зле человек перерождается в гиену, — если только подобное сравнение не оскорбительно для гиен. Зло бежит света. Когда души погружены во тьму, тогда разгорается зло, правят миром уродцы-людоеды.
Все это было так.
Но существовало кое-что мешающее мне воспринимать картину именно так.
В самом способе разрешения проблемы, в выборе прототипа для центрального персонажа виделась мне неосвобожденность от того самого зла, той душевной темноты, против чего восставала картина. Я не верил в чистоту помысла художника, как не верил и в то, что можно создать истинное произведение искусства, исполненное пафосом борьбы со всемирным злом, не победив конкретное, мелкое, человеческое зло внутри себя самого. Видимо, мне единственному предстояло не верить этой картине, не признавать за автором права таким вот образом осуждать зло.
По стенам были развешаны этюды. Сплошные цветы: астры, георгины, розы, ромашки, сирень. В букетах, порознь, в стеклянных банках, горшках, плетеных корзинах, вазах. Цветы, однако, казались мне здесь пришельцами. С самого детства я видел красоту на холстах и нечто противоположное в домашней жизни. Я допускал: именно на таком стыке рождается искусство. Растрепанная действительность, собственное несовершенство, психологическая зависимость от ближнего и одновременное желание избавиться от этой зависимости, прочие комплексы — все сгорает, переплавляется в тигле, — остается красота. Однако в «Поляне» не все недостойное сгорало. Красота была не очищена, не отделена от зла. Я думал, как бы сказать об этом отцу.
— Зачем столько цветов? — спросил я.
Отец пожал плечами.
— Давно не писал.
— Не поэтому, — возразил я.
Он удивленно на меня посмотрел.
— Ты пишешь цветы, — сказал я, — чтобы уравновесить вот это, — кивнул на «Поляну». — Эта картина тебе не дается, потому что она — неправда.
— Мудрено, — ответил отец, — к тому же я не считаю, что она мне не дается. Я еще не закончил. Так. Ты же знаешь, больше всего на свете я ненавижу говорить о незаконченных работах.
— И скоро ты ее закончишь?
— Вероятно, скоро.
— Будешь выставлять? Или у тебя договор с каким-нибудь сибирским краеведческим музеем?
— Я несколько лет вожусь с этой картиной, — сказал отец. — Уж соображу, как распорядиться.
— Хочешь, я скажу, почему картина — неправда, почему она тебе не дается?
— Нет. Избавь, — отец смотрел в окно. Разговор был ему в тягость. Однако я не так часто приезжал к нему, поэтому он терпел.
— И все-таки скажу. Потому что в настоящей, — я выделил слово «настоящей», — картине вот это, — кивнул на уродца-людоеда во френче, — и это, — на цветы, — должно быть уравновешено. Но не как в жизни: пятьдесят на пятьдесят. Иначе. Одно без другого существовать не может, это диалектика. Но должно! Должно. Обязательно. Надо в это верить, вот задача искусства. Иначе зачем оно? Такими должны быть настоящие картины.
— Ты говоришь почти как эти идиоты искусствоведы, — усмехнулся отец. С возрастом он сделался терпеливее. Раньше он вообще отрицал критику. — Когда ты приезжаешь, Петя, мне, наверное, надо куда-то прятать эту несчастную картину. Вот далась она тебе!
— Ты знаешь почему.
— Подумаешь, какая известная личность твой дед. Да кто его знает?
— Хотя бы я.
— И много ты о нем знаешь?
— В общих чертах мне известна его биография. Ничего похожего, — показал на картину, — не было.
— Петя, хватит. Отстань! Тебе не нравится лицо на картине? Так. Да черт с ним, с лицом. Мне нет дела, чье это лицо. Оно само вылезло! Именно это, а никакое другое. Даже если бы я захотел писать другое, то не смог бы.
Мастерская наполнилась мелодичным звоном. Я как-то сразу и не обратил внимания на бронзовые антикварные часы с изогнувшимся китом на крышке.
Мелодичный звон свидетельствовал, что время уходит, а мы не приближаемся к взаимопониманию.
— Довольно об этом. Я сам не рад, что затеял эту картину. Но я от нее не откажусь. Обязательно закончу, так. Может, твой дед умрет к этому времени, и тогда вообще никто ни о чем не догадается. Я думаю, его портреты не будут помещены в газетах. А может, я раньше умру, — он постучал по дверце буфета, — и никогда ее не закончу. Все может быть.
— Да, может. Но он никогда не был в банде. И пленных, насколько мне известно, не вешал.
— Он служил у Колчака!
— Слишком сильно сказано. Ему тогда было семнадцать лет, он попал по мобилизации. И не в действующую часть, а в госпиталь санитаром. И при первой же возможности сбежал. Потом, кстати, служил в Красной Армии.
— Петя, ради бога! Он милейший, симпатичнейший человек, люби его себе на здоровье, только избавь меня от этих разговоров! — он смотрел по сторонам, искал на что отвлечься. Но телефон молчал, в дверь тоже никто не звонил.
— Так в жизни не бывает, — сказал я. — Почему ты его ненавидишь? Что он тебе сделал?
— Так. Прямо достоевщина какая-то, — поморщился отец. — Да пойми ты: плевать мне на него! Я думаю только о картине. Картину, понимаешь, картину мне надо закончить. И все. И я вообще о нем забуду. На этом закрываем тему. Так?
Я молчал.
— Я как чувствовал, что ты приедешь, — сказал отец уже другим голосом. — Щи сварил. По собственному рецепту — густые, ложка стоит. Ты завтракал? Хотя какой завтрак? Уже время обедать, так?
— Так. Давай обедать.
Щи в самом деле были хороши. Жареное мясо тоже. Кулинарный талант немедленно проснулся в отце, как только он стал жить один. Раньше он вообще не подходил к плите.
Когда мы пили чай, вдруг зазвонил, как с цепи сорвавшись, телефон. Звонки были короткие, частые — междугородные.
— Тебя! — крикнул из коридора отец.
— Меня? — изумленный, я взял трубку.
— Здравствуй, дорогой, — услышал голос Игоря Клементьева.
— Здравствуй, — растерянно отозвался я. — Чего ты звонишь?
— Захотел вот услышать твой голос.
— Как трогательно.
— Знаешь, как я тебя разыскал? — засмеялся Игорь. — По справочнику Союза художников. Вспомнил нетленные полотна твоего отца и решил, что ты у него остановишься.
— Тебе надо перейти на работу в милицию. Кстати, — вдруг сказал, сам не зная зачем, — я вчера хотел швырнуть вонючую командировку тебе на стол. Уж не помню почему. Или ты думаешь, я не смог бы отправиться в Ленинград самостоятельно?
— Зачем ты мне это говоришь?
— Наверное, — усмехнулся я, — чтобы не держать камень за пазухой.
Игорь молчал, переживая сказанное. Так я мог разговаривать с ним раньше, в студенческие годы. Но сейчас Игорь другой. И я другой, точнее, никакой: ничтожный, вернувшийся к тому, с чего начал. Сочинитель бездарных рассказов. Игорю было непонятно, почему я так с ним разговариваю. А мне было плевать, потому что когда-то я мысленно проклял отношения зависимости и подчинения, отношения без достоинства. Единственное, в чем я утвердился в жизни, так это в нежелании ломать шапку, холуйствовать, произносить то, что не хочется произносить. На такой вот нелепой, ни на чем не основывающейся гордыне я стоял, и чем труднее мне приходилось, тем крепче я на ней стоял.
Игорь вздохнул.
— Годы идут, — сказал он устало. — А ты не меняешься. Я звоню не для того, чтобы ругаться с тобой. Ты ведешь себя как ребенок.
— Да, — сказал я, — я и сам не рад.
— Что у тебя с материалом?
— Каким материалом?
— Который ты должен написать.
— Что? Прямо сейчас? Нестись, задрав штаны?
— Грядет постановление по молодым кадрам, занятым в науке и технике, там и о дизайне будет словцо. Материал запланирован на послезавтра. Запиши телефон, завтра в пять продиктуешь на машинку. Счет потом приложишь к отчету. И будь с семи часов дома, чтобы смогли позвонить, если вдруг возникнут вопросы.
— Завтра в пять, — тупо повторил я.
— Да, в пять, — подтвердил Игорь. — Строк двести. А лучше — двести пятьдесят, такие материалы не режут.
— Ладно, попробую.
— Мне не нравится слово «попробую», — сказал Игорь. — Материал запланирован на послезавтра. Двести пятьдесят строк. Пока! — повесил трубку.
Я держал в руке гудящую трубку, смотрел в зеркало. Вновь последнее слово осталось за Игорем. Его звонок не то чтобы расстроил меня, но напомнил о моем подвешенном состоянии. Игорь вон командует, а я подчиняюсь. Одна лишь у меня привилегия — могу огрызаться. Да и то только пока он терпит. А ведь когда мы учились, все было по-другому! Тогда я витийствовал, а Игорь внимал. Тогда как-то само собой подразумевалось, что у меня все будет идеально, а Игорю… Что ж, Игорю придется попотеть, потрудиться, чтобы завоевать московскую прописку, работу, квартиру… Мысли эти каждый раз загоняли меня в тупик, в конце которого маячили сожженный бородачом роман, рассказы, возвращенные из всех редакций. И как следствие: тревога, неуверенность.
Через пятнадцать минут я сел за письменный стол, в ярости написал: «Где деревья рассажены как будто по линейке, где набережная Фонтанки просматривается на изгибе почти до самого Невского, где чернеет решетка Летнего сада, а прямо под окнами лежит прямоугольник Марсова поля — там находится Инженерный замок с пушками у входа и с внутренним двором, даже сейчас напоминающим казарменный плац».
ЛЕНИНГРАД III
Я немедленно позвонил дизайнерам, но рабочий день у них заканчивался, договорились, что я приду завтра с утра.
Выбрался на улицу. Пошел по пустынной набережной вдоль гранитного парапета куда глаза глядят. По Неве плыли льдины. Было холодно, мерзли руки. В атмосфере свершались чудеса: небо оставалось ослепительно светлым, сам же город погружался в сумерки. Над куполами встали золотые ореолы, мосты сделались невесомыми — они летели над Невой. Низ улицы был темен, крыши же очерчены солнцем.
Я вспоминал, как сколько-то лет назад шагал по этой же самой набережной, аттестат о среднем образовании лежал в кармане. Выпускной вечер был позади. Будущее было столь же неопределимо, как цвет небес в ту белую ночь. Впрочем, эту особенность будущее мое утрачивать не желало и сейчас. Дома никто меня не ждал, мудрых советов никто давать не собирался. Дом был предан и разменян. Накануне мать уехала в Москву, оставив отцу короткую записку: «Я не вернусь. Петя будет жить со мной. Квартиру будем разменивать». Семейная жизнь закончилась. Став чужими друг другу, они стали чужими и мне. Я ходил между ними, как человек-невидимка. Они попросту не замечали меня в своем непонятном, затянувшемся споре. Должно быть, они решили: я взрослый. И все! И хватит! Но взрослым я, к сожалению, не был. Я имел несчастье слишком много читать в детстве. Это, безусловно, расширяло мой кругозор, но не способствовало моему взрослению. Книги долгое время были первой моей жизнью. Дом, семья — второй. Первая с лихвой заменяла вторую. Но вечно это продолжаться не могло. Отстав от первой жизни, я сразу же угодил на развалины второй. Никогда я так остро не переживал собственные одиночество, неприкаянность, как в тот год. Над причинами происходящего не задумывался, потому что думал главным образом о себе. Последовательное, сознательное разрушение второй жизни, насильственный отрыв от родителей не предполагал с моей стороны анализа: кто прав, кто виноват? Я знал одно: виноваты оба! И я упорно вбивал себе: они мне чужие, эти люди мне чужие, мне нет до них дела. Только в этом случае я мог относительно спокойно оглядеться, решить — что делать после школы? Где жить? Работать или учиться?
Но как непросто было отчуждаться.
…Красавица одноклассница, точнее, бывшая одноклассница Наденька Стрельникова держала меня в ту ночь под руку. Мы отбились от класса, гуляли самостоятельно, каждую минуту целуясь, о времени забыв, обо всем на свете забыв. Но про дом я помнил!
На прощание мать подошла ко мне, сказала: «Прости, Петя, я больше не могу. Ты должен понять». И ушла. «Оставьте, оставьте меня в покое!» — закричал я, но удар двери лифта был мне ответом. Меня никто никуда не брал. Меня никто нигде не оставлял. Я был лишний. Поэтому, наверное, обращаясь к кому-нибудь из них, я употреблял множественное местоимение «вы». Различия между ними я не делал. Мать шла с чемоданом по двору, я смотрел ей вслед из окна и думал, что мы расстаемся надолго. Скажи кто-нибудь, что и через десять лет я буду жить с ней под одной крышей, я бы не поверил.
Заглянул в мастерскую. Со стен на меня смотрели законченные и незаконченные холсты. Незаконченных было больше. Свобода не оставляла отцу времени на творческие подвиги. Мать в последний год почти не заходила в мастерскую. А если и заходила по какому-нибудь делу, то не смотрела на отцовские работы, скользила по ним взглядом, как по чистой белой стене. У отца желваки ходили на щеках. Он отворачивался и ждал, ждал! — это чувствовалось по волчьему наклону головы, по напряженной спине, — что она скажет что-нибудь, похвалит, заметит, но она этого никогда не делала. «Я закончил картину, — иногда он сам начинал разговор, — как она тебе?» — «Что? — отвечала мать. — Закончил? Очень хорошо. Договорная?» Отец отворачивался, снова желваки ходили на щеках.
«Может, это причина?» — думал я, целуя Наденьку. Навстречу шли такие же пары, компании с гитарами. Мне не избавиться было от чувства, что как-то это несерьезно: наше гуляние, белая ночь, всеобщий школьный праздник. Зачем все, если дом мой мертв, будущее неясно, я одинок и неприкаян? Куда идти мне после праздника?
Выпускной вечер закончился странно. Оставив Наденьку на остановке — уже первый трамвай звенел по рельсам, — я как в омут бросился в проходной двор, пролетел его насквозь, очутился в сквере, где чахлые деревья испуганно качались на ветру. Однако и сквер показался людным местом. Понесся дальше. По лестнице неведомого занюханного дома — выше, выше! Очутился наконец на последнем этаже: возле мутного окна у выщербленного подоконника. Прижался лбом к холодному стеклу. Без рыданий, стиснув руки, стоял на чужой лестнице, чувствуя, как горячие слезы текут по лицу. Потом где-то хлопнула дверь. Я судорожно вдохнул и выдохнул. Все. Начиналась самостоятельная жизнь. Спустился в сквер. На скамейке, прислонившись друг к другу головами, дремали парень и девушка, такие же, как мы с Наденькой, выпускники. Вовсю чирикали воробьи. Мосты уже соединились, на улицах появились люди. Я потрогал спящих за плечи, они, смущенные, проснулись. «Доброе утро! — сказал я. — Жизнь прекрасна!»
Тому минуло почти десять лет.
Через несколько дней после того как уехала мать, из командировки вернулся отец. Всю ночь он просидел на кухне. Меня он ни о чем не спрашивал. Утром исчез.
Я бездарно слонялся по улицам, не зная, куда податься. Как-то раз, придя домой, обнаружил у отца женщину. «Иди, иди куда-нибудь, — пробормотал он, — на вот тебе», — протянул деньги.
Деньги я не взял. Какая-то мелочь звенела у меня в кармане. У входа в гастроном скооперировался с двумя мужиками. Закусывали, помнится, печеньем. Ночевал я на чердаке нашего дома, накрывшись брезентовым чехлом, который предыдущий ночевщик стащил с машины и оставил здесь. «Может, это причина?» — вспоминал отца и спрятавшуюся в другой комнате женщину.
Домой все-таки пришлось возвращаться.
Отец сидел в мастерской на высоком табурете и почему-то курил. Он был похож на грязную птицу.
— Привет, — сказал я, — ты же не куришь.
— Сигареты, кстати, нашел у тебя, — он плюнул на окурок, бросил его под ноги.
Я пожал плечами.
— Так, — усмехнулся отец. — Как прошел выпускной вечер?
— Нормально.
— Когда думаешь в Москву?
— В Москву? — опешил я.
— Читал записку? — спросил он. — Будешь жить с матерью. Не делить же нам квартиру на три части. На три и не получится.
— Не получится, — тупо повторил я.
— Деньги есть на билет?
— Нет.
— Могла бы и оставить, — он недовольно полез в бумажник.
Подвернись в этот момент нечистая сила, спроси: «Хочешь, чтобы он немедленно, вот прямо сейчас умер?» — «Хочу!» — не колеблясь ответил бы я. «Чтобы он и она! Чтобы их не было на земле! И меня пусть не будет!»
— Вот, — отец спрыгнул с табурета. — Когда поедешь?
— Не знаю. Завтра мне в школу за справками.
— Значит, послезавтра. А без этих справок никак нельзя?
Я молчал.
— Почему я, собственно, заговорил об отъезде. Сегодня в семь, — он посмотрел на часы, — уже скоро, я в Дом творчества уезжаю на Старую Ладогу. Тут оказия подвернулась, Рыльников едет на машине. А мне столько переть. Грех не воспользоваться. Я вот и думаю…
— Я еду послезавтра.
— Ладно. Ключи тогда оставь этим… из сто сороковой квартиры. Так?
— Так.
— И… когда будешь собираться в Москву. Меня ведь здесь уже не будет, так?
— Ну и что? — спросил я с ненавистью, потому что знал, к чему он клонит.
— Разные там вещи мои, все ведь остается. Знаешь, дело, как говорится, такое. Вдруг захочется чего прихватить? Так ты воздержись. Потом, ребята к тебе разные ходят…
— Наверное, это мне снится, — сказал я, — я в дерьме, в грязи! Все мне снится, но когда-то же это кончится!
Он пошел к двери. Я отвернулся.
— Значит, не забудь про ключи. Я к Рыльникову. И это… как устроишься там, позвони.
— Оставьте меня в покое! — крикнул я.
Но удар лифта снова был мне ответом.
И снова я стоял у окна, смотрел, как по двору идет… незнакомый мне отныне человек! — старательно убеждал я себя.
«Может, это причина?» — думал, не опомнившись еще от недавнего разговора. Такое скотское, равнодушное отношение к людям, к жизни? Вот тут-то я и наложил пожизненное вето на поиски причин, чтобы каждый раз не чувствовать себя обманутым. В мастерской скрипела, билась о косяк, дребезжала стеклом форточка.
ЛЕНИНГРАД IV
Перебравшись в Москву, внезапно очутившись на дачной лужайке перед забором, за которым Ирочка Вельяминова собирала клубнику, я решил: у меня нет отца! Новая жизнь: странная любовь с Ирочкой, годы учения — это не то чтобы поколебало, но как бы загнало внутрь мое решение, превратило его из всепоглощающей идеи в подобие иглы, которая время от времени напоминала о себе болезненными уколами. Сначала, когда он звонил, я вешал трубку. Потом, в один из его приездов в Москву, мы встретились в Манеже на выставке. Он даже попытался сунуть мне конвертик с деньгами, но я отказался. Потом впрочем, жалел.
Мать вышла замуж во второй раз. В доме появился абсолютно чужой человек. Мы и так не были с ней особенно близки, а тут еще это. И хотя я давно считал себя самостоятельным и одиноким, проклятый маятник вновь качнул меня в сторону отца. У того, по крайней мере, не было новой жены.
Но первый же приезд в Ленинград жестоко разочаровал меня. Жизнь отца оказалась логическим продолжением той уродливой, вывернутой наизнанку жизни, какой он ухитрялся жить прежде — в семье. Тогда я был глуп, многого не понимал. Сейчас понял. Что, например, означали его сидения за письменным столом, столбики цифр, которые он упорно выписывал на листках, а если я вдруг входил в комнату, он проворно задвигал ящик письменного стола, успевая даже замкнуть его на ключ. Тогда я не знал, что он считает снятые со сберкнижек деньги, прячет их в тайники, опасаясь, что мать пойдет на раздел имущества, потребует свою половину. Когда мы жили вместе, денег не хватало даже на еду, я донашивал его старые рубашки и свитера. Сейчас он набивал квартиру антиквариатом, увешивал стены дорогими картинами старых художников. «Может быть, это причина?» — думал я, наложивший пожизненное вето на поиски причин. Но тогда было непонятно, почему он, живший в собственной семье изгоем, отринувший нормальные человеческие отношения, так цеплялся за самим же и разрушенную семью? Зачем она ему, если он в ней никому не верил?
Я припомнил его картины последних лет. Попытался соотнести их с известными мне фактами его жизни и обнаружил в них некое двойничество, скорее даже — оборотничество.
Я смотрел на картину «Черный рынок», на обезумевшие от низменных инстинктов рыла, на спекулянтские, словно смазанные жиром, шевелящиеся пальцы, которым столь привычно шуршание банкнот, на гнусное капище, где из рук в руки перетекали добытые нечестным путем деньги и вещи. А видел, как отец сам однажды выторговывал у спекулянта старинные серебряные часики в виде луковицы. Дело происходило в подворотне Апраксина двора, и лицо у отца было точно таким же, как у типа на картине, покупающего мраморную статуэтку обнаженной богини. Противоестественно выглядит белоснежная статуэтка в волосатых лапах барыги. Самодовольно-похабна его усмешка. Но точно такое же удовлетворение было на лице у отца, когда он наконец положил часы в карман, отсчитал спекулянту деньги. «Вот гусь, — вполне добродушно сказал он потом, — еле уломал. Знает настоящую цену, проходимец».
Смотрел на картину «Рыбинспектор», на честное, открытое лицо молодого парня и отвратнейшую харю браконьера с близко посаженными, словно дуло двуствольного ружья, глазами. Страшно за парня. Чего угодно можно ждать от хари с финкой за голенищем. Больно за изначально родной среднерусский пейзаж: тихое озеро в солнечных бликах, дальний лес, облака, за крохотную белую церковь, едва видневшуюся на горизонте. Все погубит харя! А видел другую рыбалку. Сидели в кустах на острове. Отец страшными словами проклинал рыбинспектора, примерно такого же молодого парня с открытым, честным лицом, извлекающего из воды его любимую, единственную в своем роде японскую сеть. Ее можно было унести в кармане. И в то же время ею можно было перегородить все озеро. Рыбинспектор случайно зацепил веслом невидимое нейлоновое чудо и теперь с удивлением разглядывал неизвестное доселе заграничное браконьерское орудие. Таких грязных, отвратительных слов от отца я еще не слыхивал. Он сокрушался, что нет под рукой ружья. Несколько дней потом ходил мрачнее тучи. Приобретение новой сетки не утешило. Разве может сравниться смехотворная самодельная сетка с японской? Без этой своей любимицы отец не ездил на рыбалку.
Смотрел на картину «Поляна» и опять видел оборотничество, но более высокой пробы. Здесь отец как бы философски поднимался над опытом своей жизни, показывал оборотничество как один из способов существования человека вообще. Да, некоторые люди в определенные моменты своего существования оборотни. Стоит появиться среди них оборотню посильнее, как оборотничество тут же становится не теневой, а главной стороной их натуры. Иначе почему толпа на картине все-таки подчиняется уродцу во френче? Следовательно, убей в себе оборотня, выжги каленым железом ту частицу души, где гнездится низкое, — и ты будешь свободен, никакие оборотни будут тебе не страшны. И так можно было толковать изображенное.
Но как мне верить картине, если отец писал ее, находясь во власти того самого внутреннего оборотня, уничтожить которого призывал? Следовательно, картина его — картина-оборотень.
Меня всегда охватывал страх, когда я думал: сколько прекрасных, высоких слов и истин заключены в тысячах книг, написанных гениями человечества. Миллионы людей ежедневно, ежечасно их прочитывают, так почему же так медленно мир изменяется к лучшему? Почему, единожды войдя в человеческое сердце, истина не остается в нем навсегда?
«А вдруг, — подумал я, — оборотничество — спираль? На определенном витке человек перестает его в себе сознавать, оно становится его сутью. Ведь наверняка отец искренне пишет картины. Искренне провозглашает истину».
Я чувствовал, во всем этом придется разбираться всю жизнь.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я по-прежнему жил на даче. По вечерам писал за обеденным столом, на который ставил лампу с оранжевым абажуром. На следующий день перечитывал написанное и почти всегда оставался недоволен. Писать значило для меня бесконечно сомневаться: хорошо ли пишу, так ли, как надо, пишу? Вдохновенное это дело на девяносто процентов оборачивалось черной работой. Десять сияющих процентов улетучивались вместе с сигаретным дымом, кружили голову несколько секунд, вновь возвращали к черной работе.
Свет лампы обозначил оранжевый круг на белом потолке. В круг угодил сегмент паутины с черной дробиной то ли спящего, то ли бодрствующего паука в центре. Еще одна примета пустого дома. Я выдохнул в потолок струю дыма. Паук закачался, как в гамаке.
Припомнились смешные слова: «Вечерний паук-сенокосец приносит надежду». Так, кажется, называлась некогда поразившая меня картина художника-авангардиста. Присказку эту отчего-то любил герой моих чукотских рассказов. Он жил в Уэлене, топил печь углем, писал в Москву письма любимой девушке. В суровом мире жил герой, однако ощущал странную родственную связь с мифическим пауком-сенокосцем, со слоном на паутинных ножках, изображенным на картине. «Прощай, — писал герой девушке в последнем письме. — Вечерний паук-сенокосец надежды не принес». Девушка в Москве вышла замуж за некрасивого, немужественного сына начальника. Герой подался в дальнее чукотское стойбище лечить оленей. Он был у меня ветеринарным врачом.
Я почувствовал, как к лицу прилила кровь. Встал, взглянул в зеркало — был красный как рак!
Но чего я стыдился?
И перед кем это мне было стыдно ночью на даче?
Я вспомнил, действительно был момент: я сидел в какой-то халупе на окраине Уэлена. Закатное солнце светило в щели, шарило по углам. Паутина под потолком вдруг показалась золотистой. Но при чем здесь сенокосец? Откуда он взялся? Где и какое сено он косит? Я сидел, не в силах оторвать взгляд от клеенки, переживая жгучий стыд за героя, который написал в прощальном письме девушке: «Прощай, вечерний паук-сенокосец надежды не принес». Да откуда он взялся, этот идиот? Господи, да как же стыдно и глупо писать прощальное письмо, когда девушка выходит замуж!
Яко птица, я взлетел на второй этаж. Там было холодно, иней мохрился на стенах, но я отыскал коробку, где хранились чукотские рассказы, вытащил их, спустился вниз, прижимая к груди свое холодное сокровище. Присовокупив к ним последний возвращенный из редакции рассказ — зачем-то я привез его на дачу, — я подумал: это к лучшему, все в сборе. Поглаживая белые, постепенно теплеющие страницы, испытывал странное чувство. Так однажды было в детстве. Не помню, на какой улице мы тогда снимали комнату, — она была подвальная, с мутными зарешеченными окнами. Я проснулся и увидел, что на улице светит солнце. Одеяло, на которое легла решетчатая тень, было похоже на шкуру зебры. Не помню, в какой класс я ходил — во второй, третий? — да и не суть это важно. Я понял: что-то в мире изменилось. Диковинную пустоту ощутил в себе, однако не гнетущую, а как бы трепещущую в ожидании: чем, каким новым интересом я ее заполню? Завернувшись в одеяло, я бродил по комнате, вслушиваясь в неожиданную пустоту, вновь и вновь рассматривая привычные предметы: облупленную чужую мебель, холсты, игрушки. Игрушки! Вот откуда пустота. С категоричной ясностью я понял: отныне мне не нужны игрушки. Не нужны, потому что стали вдруг не интересны. Я смотрел на них: на любимого своего Петрушку — совсем недавно я заставил мать сшить ему новый кафтан, на корабль с оторванной трубой, на что-то еще. Потом неожиданно шагнул к полке с книгами.
Подобную трепещущую пустоту я испытывал сейчас, прочитывая избранные странички рассказов. В детстве я легко и просто нашел новое занятие — чтение книг. Теперь это было невозможно. На все был один ответ — черная работа, которой я и так был сыт по горло. Неужто же не были черной работой попытка восстановить роман, писание чукотских рассказов? Выходило, нет. Я восстанавливал сюжет, имена, общий фон, но некий путь-познание к тем мыслям и истинам повторить не мог. Я излагал эти мысли и истины доходчивыми словами, в то время как путь-познание — если, конечно, он был, сей путь, — остался на дне реки, в пепле сожженного романа. Бездумное повторение привело к удручающим результатам. Со страниц рассказов на меня веяло пустотой. Я читал и поражался, сколько фальши, лживого романтизма, липового бодрячества — всего того, что я так ненавижу! — было в делах и разговорах героев.
Я смотрел на рассказы с равнодушием, как некогда на игрушки. Снова — в который раз! — возвращался на нулевые круги своя, на сей раз имея в активе древнюю, как мир, истину, что ценность каждой написанной строчки измеряется страданием. «И пусть! — упрямо барабанил пальцами по оранжевому абажуру. — Уж эта истина досталась мне не как повторение. Я проделал смешной, нелепый, но собственный путь к ней».
Закружилась голова. Отправился на кухню посмотреть, не прогорели ли дрова? Чистые языки огня, дышащие — малиновые и оранжевые — угли, самый вид замкнутого огненного мирка успокоил.
Повторение, подумал я, оно досталось от газеты, когда каждый день надо было — хоть умри! — выдавать сто пятьдесят строк. Было попросту невозможно проходить в каждой заметке весь путь. «Кашу маслом не испортишь!» — говаривал редактор, правя материалы, усиливая эпитеты, низводя истину даже не к очередному повторению, а к расхожему клише. «Нашу кашу маслом не испортишь!» Такие ежедневные повторения, пустопорожние констатации не требовали доказательств, которые в некотором роде тоже есть путь. Не требовали ничего, кроме умения грамотно слагать слова в предложения. Мне было известно, как делается печатное слово, как оно с неряшливых рукописных страниц перебирается на машинописные, как потом ручка гуляет по машинописи, потом делается вторая машинопись, по которой ручка гуляет уже не столь рьяно. Потом из типографии приходят гранки, где абзацы перепутаны, одни и те же строчки набраны по три раза, а иных строчек нет вовсе. Потом измученные, исчерканные гранки снова уходят в типографию и возвращаются в виде приблизительно сверстанных полос с широкими полями. И только потом в ночи тяжкая монолитная полоса-плита начинает челночить в типографской машине. Свежие, сладко пахнущие краской, номера газеты ложатся пачками на руки приемщиц. Я и сам был не последней фигурой в этом процессе, гордился этим. Когда дежурил, в уже сверстанной полосе менял заголовки, лихо рубил «хвосты», на ходу дописывал заметки, придумывал подписи к снимкам. Иногда, пользуясь благорасположением Олимпиады, диктовал информацию прямо на линотип, немедленно получал типографские оттиски. Делать печатное слово было моей профессией. Утром я видел сочиненное накануне в газете. Люди серьезно вчитывались в то, что я придумал, как мне казалось, шутя, в порыве истеричного ночного профессионального вдохновения. Каждый день я делал в газете одно и то же. Вечером же, отключившись от газеты, трудился над романом, совершенно не думая, что будет с ним дальше, сколько будет в нем страниц, когда надо его закончить. Пиша по вечерам роман, я ухитрялся забывать о газете, как будто ее не было. Газета настигла меня позже, во время вынужденного повторения романа. Сама стихия повторения не могла не вернуть к газетным категориям готового печатного слова. В газете я научился легко обращаться со словом, быть, так сказать, с ним «запанибрата». Но это было мнимое, одностороннее родство. Не с живым, а только с готовым словом. До живого слова я не поднялся, готовое отомстило мне сполна. Как только дело в рассказах стопорилось, как только надо было откладывать в сторону ручку и думать, готовое слово немедленно выводило из затруднения, охотно ложилось на бумагу. Жизнь, следовательно, уходила из рассказов, как вода из кастрюли с дырявым дном. Готовое слово было коварно и многолико, оно приходило не только и не столько из газеты, а отовсюду: из прочитанных книг, из кинофильмов, из каких-то прежних глупых разговоров. Все опутал паутиной проклятый паук-сенокосец, тоже, кстати, порождение готового слова.
Оранжевый круг по-прежнему обозначался на потолке, выхватывал сегмент паутины с черной дробиной то ли спящего, то ли бодрствующего паука в центре. В доме было холодно. Надо еще подбросить дров, подождать, пока они прогорят, и спать. Я пошел к печке, прихватил с собой рассказы. Я швырял их в красную пасть, едва успевая освобождать от скрепок. Страницы скручивались черными спиралями, рассыпались. Дышащие оранжевые и малиновые угли оказались вскоре подернутыми ровным слоем серого пепла. Ни жалости, ни боли я не чувствовал. Вечерний паук-сенокосец надежды не принес.
ЛЕНИНГРАД V
Дизайнеры показались мне симпатичными ребятами. Они сидели в большом зале-лабиринте, перегороженном сотней фанерных перегородок, словно кролики в клетках. Плутать по залу-лабиринту было чрезвычайно любопытно: то хмурый парень обнаруживался за перегородкой, то роскошная девица с тоскующим взором. Каждый кролик-дизайнер был занят своим делом: кто рисовал велосипед, кто пылесос, кто садовые ножницы. Дизайнеры, вне всяких сомнений, были людьми с развитым художественным вкусом, у всех над столами висели милые взгляду картинки: цветущие яблони, обнаженные кинозвезды, кентавры с могучими крупами, цеппелины, богатыри в полосатых купальниках, вздымающие пыль мотоциклы, печальные диоровские манекенщицы в сиреневых, словно сшитых из тумана, платьях, зебры с короткими щеточными гривами.
В узкие высокие окна Инженерного замка светило солнце. Внизу были деревья с гудящими стволами, напряженными, упругими ветвями. Вот-вот из почек должны были вылезти листья. Я разговаривал с дизайнерами, пытаясь разобраться в старом, как мир, вопросе: почему все так великолепно на ватманах и так убого в конечном итоге? Почему на пути от ватмана к прилавку теряются красота, качество, форма, продуманность предмета? Я механически записывал мысли дизайнеров по этому поводу, а сам думал о предстоящем звонке в редакцию, когда, заикаясь, буду читать в трубку текст, а машинистка будет, чертыхаясь, переспрашивать: «Что-что?»
Через некоторое время возвращался на такси домой. Шофер ворчал, что только зря включил счетчик, тут пешком два шага. Я в волнении листал блокнот. Название! Надо обязательно придумать хорошее название, название всему голова!
Мне и раньше частенько случалось передавать материал по телефону в номер. Но то была другая газета.
Конструкторы качества? Нет, плохо. Изобретатели велосипедов? Лучше, но… Инженерный замок? Вот. Инженерный замок! Просто, но с большим смыслом и вместе с тем без пижонства. Инженерный замок.
Всякий раз, усаживаясь за работу, я старался держать в голове человека, которому как бы адресована эта работа. Пусть он далеко, пусть ничего не знает, не важно. Надо так написать, чтобы он (обычно, впрочем, это была «она») был(а) потрясен(а), восхищен(а), обрадован(а). Сейчас я почему-то держал в голове Игоря. Он должен был прочитать «Инженерный замок» и понять наконец, кто я. Сравнить, как я пишу и как пишет он, как пишут все остальные. Вся их газета от курьера до главного редактора должна вздрогнуть!
Подъехали к дому. Поднимаясь бегом по лестнице, я встретил женщину. Она курила у окна, стряхивая пепел в мусорный бачок. Эта женщина, еще довольно молодая, симпатичная, возвращалась от отца. Я сразу это понял, потому что видел в мастерской ее портрет. И женщина, видимо, догадалась, кто я, взглянула на меня с любопытством. Лицо ее было печальным. На портрете, однако, отец изобразил ее не просто печальной — несчастной. Скорее всего, она была несчастной из-за него. Наверняка я этого не знал, только догадывался. Опять оборотничество: с любовью выписывать на портрете несчастную женщину, зная, что она несчастна из-за тебя. Мысли эти вихрем пронеслись, пока я бежал по лестнице.
Дверь отворил отец. В руке он держал кисточку, значит, работал.
Отец молча скрылся в мастерской. Заскрипел паркет. Я знал странную эту отцовскую привычку — во время работы слоняться по мастерской. От стены к окну, от окна к картине, потом, наверное, сто кругов вокруг картины с кисточкой в руке. Помню, раз даже подсчитал, на пятьдесят шагов приходится всего одно прикосновение кисточкой к картине.
Заглянул в мастерскую. Отец трудился над «Поляной». Картина оживала. Хотел я этого или не хотел, было так. Что в сравнении с живой картиной, которую увидят тысячи, одинокий старик, разгребающий снег на дачной дорожке? Или — несчастная женщина, стряхивающая на лестнице пепел в мусорный бачок?
Думать об этом значило опять упираться в стену, которую не могли пробить самые жестокие мои слова и мысли. Но смириться, что именно так в жизни и должно быть, что именно на этом, точнее, и на этом тоже, может стоять искусство, я не желал. Вот откуда происходил извечный мой разброд-разлад.
Надо было садиться за репортаж из Инженерного замка. За последнее время я отвык, отучился от газетной работы.
«Московское время четырнадцать часов», — доброжелательно возвестил диктор.
— Ты, помнится, намекал, что пишешь рассказы, — заметил меня отец. — Где они, что с ними?
— Нигде и ничего. Вернули все до единого. Из всех редакций.
— И что дальше?
— Не знаю. Пока не знаю.
— Когда у меня чего-то не получалось, когда мои работы отклоняли, я зверел, впадал в неистовство, работал днем и ночью как безумный.
— Ты правильно поступал. В живописи так и надо. А вот я…
— Я все себе в жизни прощал, кроме единственного, — сказал отец, — когда мало работал. Мне кажется, работа все равно что жизнь, так. Рано или поздно она сама все объясняет: почему не получалось раньше, почему вернули. Главное, не останавливаться, и все поймешь: кто прав, кто виноват, что хорошо, что плохо.
— А случалось тебе уничтожать сделанное?
— Один раз, — ответил отец, — давно. Когда еще был матросом. Потом нет. Разве можно уничтожать работу?
— Да, конечно. Уничтожать работу нельзя.
Я ощутил горькую тщету своих трудов, потому что не мог произнести со спокойной уверенностью: «Разве можно уничтожать работу?» И я прощал себе, когда мало работал. Зато другое, возможно, не простил бы: например, если бы моя семья нищенствовала, а у меня лежали на книжках тысячи. Не простил бы себе и женщины, стряхивающей на лестнице пепел в мусорный бачок. Много бы чего не простил. Зато прощал себе суету, раздумчивое безделье, потому что нет и не было у меня уверенности, что человечеству необходима моя работа. Но даже если бы она, допустим, и была, все равно я не смог бы спокойно работать, зная, что из-за меня несчастна женщина и прочее, прочее, прочее. Грош цена была бы тогда моей работе. Но объяснить этого отцу я не мог. Здесь проходила та самая непробойная стена. Да и чем, собственно, какими такими свершениями я мог подкрепить свои слова? Я ничего в жизни не достиг, мне нечем было хвастать, и оттого сознание собственной правоты превращалось в мучение, в бесплодный замкнутый круг. В нескольких метрах от меня на холсте рождалась живая картина, а на страницах, исписанных мною, не рождалось ничего стоящего.
Так было.
Я сидел за столом уже пятнадцать минут. Только заголовок красовался на странице, «Инженерный замок», и все. Потом я присовокупил к заголовку сочиненное вечером. Потом зачем-то переписал все на новый лист, не изменив, впрочем, ни слова. Старый прием — переписать старое, авось оно повлечет за собой новое. У отца в мастерской по-прежнему говорило радио.
«Московское время пятнадцать часов».
Я, стиснув зубы, начал писать.
Без пятнадцати пять по особенному какому-то коду заказал Москву. Через пять минут Москву дали. «Минуточку, — ответила машинистка, — как раз жду вашего звонка. Сейчас возьму наушники. — Я услышал, как заскрипели вставляемые в машинку листы. — Я готова».
Начал диктовать.
На пятом предложении я понял, что попытка посрамить Игоря, потрясти всю газету от курьера до главного редактора провалилась. Такой обыденный репортаж выползал из-под моих нервно исписанных страниц. «Громче читайте! Громче!» — требовала машинистка. Я орал: «И все же отечественный дизайн пока еще только утверждается. Главные взлеты впереди. В этом убеждаешься, когда видишь в коридорах Инженерного замка молодые лица, когда знакомишься с работами сотрудников, в каждой из которых непременно присутствует искра поиска, искра риска. И хочется верить, что в самой молодости дизайнеров уже отчасти заключено будущее нашего художественного конструирования».
— Все! — упавшим голосом объявил машинистке.
— Минуточку, — ответила она, — двести шестьдесят пять строк.
— Как вам?
— Что мне? — не поняла она.
— Материал?
— Материал… — неопределенно протянула она.
Мне стало смешно. Сколько каждый день принимают они материалов со всех концов страны. Во всяком случае, мой репортаж ее не потряс. Уже, следовательно, был в редакции один человек, так сказать, непотрясенный.
— Спасибо. До свидания. — Повесил трубку.
Я вдруг почувствовал себя опустошенным. Знакомое дело: даже после пустяковой работы всегда наваливалась усталость. Впрочем, уставал я не столько из-за самой работы, сколько из-за богатырского замаха. Каждый раз верил, что кого-то потрясу, изумлю. И каждый раз равнодушная тупая усталость наваливалась от сознания, что опять никого не потряс, не изумил.
…Утром купил в киоске газету, обнаружил на второй полосе свой репортаж. Его особенно не сокращали. Особой радости от его появления я не испытал. Хотел, правда, позвонить Игорю Клементьеву, послушать, что он скажет, но передумал.
В Ленинграде, таким образом, дел у меня не оставалось.
Отец трудился в мастерской. Я ходил по городу, единоборствуя с навязчивой мрачной мыслью, что это прощальное хождение. Теплая волна непролитых слез поднималась во мне, когда пересекал знакомые с детства проспекты, взбирался на горбатенькие спины мостов, заходил в парки и скверы, где некогда длились мои детство и отрочество. То было странное предчувствие потери, когда еще сам не знаешь, что потеряешь, но обреченно идешь навстречу. Так понимали судьбу, рок великие древнегреческие драматурги. «Город потерять невозможно! Невозможно», — бубнил я, вглядываясь в мутную, едва очистившуюся ото льда, Неву, в гранитные парапеты, высокие крыши.
На пути оказался Московский вокзал. Я взял билет на ночной поезд.
Гулять надоело, но возвращаться в дом не хотелось. Я заявился туда вечером, когда до поезда оставалось не так уж много времени.
— Я тебя провожу, — неожиданно предложил отец, — весь день работал, голова раскалывается. Хоть воздухом подышу.
…Мы шли по перрону, дышали дымным угольным воздухом, носильщики покрикивали: «Поберегись, ребята!»
Я забросил тощую сумку в купе, оглядел полки, свернутые на них рулетами матрасы, и вновь ощущение потери накатилось на меня. Противиться ему я не мог. Задыхаясь, выбежал на перрон.
До отправления поезда оставалась одна минута.
— Отец, — сказал я. — Я больше к тебе не приеду, ты мне чужой. Ты сделал все, чтобы стать мне чужим. Ты мне не нужен такой, мне чужд твой опыт, чуждо твое понимание жизни. Ты не видишь людей, думаешь, они пыль под ногами, а это не так. Слышишь, не так! Все, прощай!
Поезд дернулся. Расстегнутый, расхристанный, я вскочил в тамбур, отец остался на перроне. Он хотел что-то сказать, скорее всего, возразить мне, но он никогда не был мастером говорить, времени же совсем не оставалось.
— Нет! — кажется, сказал он, но я уже отпрянул, бросился в коридор.
Это было нечестно, сказать все в последнюю минуту, но еще хуже было не сказать.
…Через час, тупо звеня в стакане чайной ложечкой, я почему-то вспомнил огромный альбом для набросков, который перелистывал утром в мастерской. Я увидел там лицо матери, сотни рисунков. Отец рисовал совсем недавно, по памяти. На рисунках мать была красивее, моложе, чем сейчас в жизни. Зачем он рисовал ее, спустя столько лет? Я подумал, что, как всегда, чего-то не учел, не понял.
Стучали колеса. Я уезжал из Ленинграда.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В Ленинграде было холодно. В Москве весенние грозы выколачивали небо, как ковер, по газонам сновали скворцы, ветви деревьев были зелеными.
У меня оставалось три рубля от командировочных денег. На набережной Москвы-реки я остановил такси и поехал в редакцию к Игорю. Возле открытого бассейна на Волхонке цвели какие-то ранние кусты. Окна домов пылали отраженным светом. По улице Горького косяками тянулись нарядные девушки. Они казались мне олицетворением весны: ухоженные, симпатичные, с влажно поблескивающими глазами. У ресторанов томились желающие попасть. Швейцары в адмиральских фуражках контролировали золотой час, неподкупно маячили за застекленными дверями, пропуская избранных, восточного вида, людей. Владимир Владимирович Маяковский набычась смотрел через площадь на самообновляющуюся — чудо техники! — рекламу, призывающую москвичей и гостей столицы посетить ГУМ, где к их услугам большой выбор тканей, электробритв и резиновых игрушек. «Товарищи девочки, товарищи мальчики! Просите у мамы эти мячики!»
Все пронеслось в одно мгновение, как и должно быть, когда человек находится в весеннем волнении, когда тепло и свет подхватывают его, несут, как пушинку. В Москве меня никто не ждал. Зато в Москве была весна. Я ехал к Игорю, потому что ехать больше было некуда. Потому что он все-таки оставался моим единственным другом. У нас была общая молодость, общие воспоминания, надежды. Мне хотелось верить, что все мы — поколение. Некая общая душа была разделена между нами. Каждый — частица в живом портрете. Лик еще не затвердел, не схватился. Через разделяющее сегодняшнее я надеялся вернуться к тому, что нас с Игорем некогда объединяло, — к согласным мыслям, к весеннему молодому порыву, искреннему до донышка, будь то вечный спор о судьбах России или хмельная болтовня в пивной. Пока лик не затвердел, не схватился. Вновь передо мной маячила древнегреческая река, вновь я преследовал ушедшую воду.
То была охота на вымершего зверя.
Но я надеялся.
Поворот, еще поворот. Мелькают станции метро, улицы, движущийся пунктир трамваев. Стаканом стоял в закате многоэтажный газетно-журнальный комплекс, где я некогда боролся за сохранение природы. Потом вечерний свет пошел на убыль: показались дома, где пылающие и слепые окна чередовались словно клеточки в кроссвордах. Машина въехала в подворотню, катером промчалась по бескрайней луже и наконец остановилась. Приехали.
Я медленно шел вдоль длинного белого здания. В небе стремительно темнело. Появились первые звезды. Я вдруг вспомнил, какую яркую комету видел однажды с чердака дачи, когда сидел ночами над учебниками, писал заметки, боготворил Ирочку Вельяминову. Комета как будто махнула по небу белым хвостом. Хвост уже таял среди узоров созвездий, когда я сообразил: надо загадать желание! «Поступить в университет!» — и загадал.
И сбылось.
Я вспомнил комету и когда стоял в толпе первокурсников на Ленинских горах на площади перед университетом.
Сначала была общая торжественная часть. Потом каждый факультет напутствовали отдельно. Так я узнал, что выбрал нелегкую профессию. Не пять университетских лет придется учиться, а всю жизнь, чтобы не отстать, не отбиться от времени, в котором живем, ибо наша профессия не только — отражение, честное отражение времени, но воздействие, страстное воздействие на время, на общество. Кто-то из выступавших не удержался, сравнил газету с секундной стрелкой истории, добавил от себя, что, однако же, секундная эта стрелка описывает круги вечности. Тогда — в день исполнения желания — светило солнце, небо было чистым. Я поднял счастливые глаза вверх, увидел чаек, летящих над шпилем университета. Они казались чистыми белыми страницами. «Откуда чайки?» — подумал я.
— Откуда чайки? — спросил стоящий рядом сельского вида светловолосый, голубоглазый паренек.
Ему было жарко и неуютно в неуклюже пошитой костюмной тройке. Паренек смотрел на меня, щеки его слегка розовели, он стеснялся. Совпадение наших мыслей удивило. Я внимательно взглянул на паренька. Точно такое же счастье читалось в его глазах. И точно такое же стремление не очень-то показывать его окружающим. Вроде и не счастье это — поступить на факультет журналистики, а следствие некоего ряда закономерностей, главная из которых — талантливость паренька. Он стоял, чуть наклонив голову, этакий упрямый бычок, явившийся таранить Москву, как забор. Такая нескрываемая заданность коробила. Паренек был слишком устремлен, а потому исчерпывающе ясен.
— Не знаю, откуда чайки, — ответил я. — Летят.
— Ты из Москвы?
Я поморщился. Слишком прям был вопрос. Я отвечу, да, из Москвы. Паренек снисходительно усмехнется. Уж что-что, а претензию на знание народной жизни, так сказать, нутряное, глубинное ее понимание, он оставит за собой. А, собственно, почему? Что, в городе живет другой народ?
— Не совсем, — ответил я.
— То есть? — паренек строго поднял бровь. Видимо, он считал, что ошибиться не может. Откуда же быть мне, длинноволосому, в выстарившихся, белесых джинсах, как не из Москвы?
Я выждал, дав пареньку понять, что на брудершафт с ним еще не пил: хочу — отвечаю, хочу — молчу.
— Школу в Ленинграде закончил, потом переехал в Москву.
— А я из Орехово-Зуева, — обрадованно сказал паренек, и я подумал: плевать ему, откуда я, просто хочется с кем-нибудь познакомиться. — Точнее, даже не из самого Зуева, а из деревни, километров двадцать еще на автобусе.
Мне стало стыдно: чего я из себя строю?
— Это здорово, что ты поступил, — сказал я. — Посмотри, какие люди вокруг.
— У меня не было абсолютно никакого блата, — он пытливо заглянул мне в глаза. — Я и сам удивляюсь, что поступил. Наверное, отведен один процент на сельских, я и попал. Правда, из нашего района еще одна девушка поступила, только она на вечерний.
— У меня тоже не было блата, — сказал я и вспомнил Ирочку, наше совместное писание под стук дождя. «А как ловко устроился!, — мелькнула мысль. — Но ведь последнюю заметку я писал сам! Сам!»
— Кто же будет с нами учиться? — спросил паренек.
Я оглядел курс. Много девушек от семнадцати до двадцати пяти лет. Парней меньше, но каждый личность — кто в темных очках, кто в бороде, кто лениво пожевывает резинку, кто так нагло смотрит, что просто не подступись! Смертных нет, одни боги. Мы с пареньком стояли как-то поодаль, не участвуя в общей, полной иронии, беседе.
— Я сразу после школы, — похвалился паренек. — Последние два года писал в районную газету. Один раз у меня напечатали рассказ строк на четыреста.
— Я тоже после школы, тоже писал. Про что рассказ?
— Рассказ? — неожиданно смутился паренек. — Так, ничего особенного. Ну… про собаку.
— Ее убили?
— Кого?
— Собаку! — Сколько я ни читал рассказов про животных, везде дело заканчивалось для них плохо. Я уже боялся читать.
— Да нет, — засмеялся паренек, — про нашу собаку рассказ. Она и сейчас жива.
Я вдруг почувствовал к нему симпатию.
— Мы им покажем! — подмигнул паренек. — Они у нас узнают, как надо писать. Я сразу заметил, что ты… — покраснел. — Ну, что в нас много общего. Нам надо держаться вместе! — махнул сжатым кулаком. — Игорь Клементьев, — протянул руку.
Мы познакомились.
…Я вспомнил первый курс, подмосковный совхоз, куда мы немедленно отправились убирать картошку.
Славное было время. Осенняя пауза, короткий отдых перед прыжком, штурмом. Прыжки и штурмы, впрочем, больше волновали Игоря. Я же открыл неизъяснимую прелесть в ясных осенних днях, плавающих в воздухе серебристых паутинках, разлохмаченных стогах, деревьях, вскинувших вверх руки-ветви в листьях-лохмотьях. Так хорошо было не суетиться, не спешить. Здесь, на природе, особенно раздражал Игорев максимализм, напор, его стремление утверждаться при любых обстоятельствах. Мне виделись в этом нетерпение провинциала, растиньяковская страсть. Я отдалился от Игоря, сошелся с другими сокурсниками, чьи взгляды были мне тогда понятнее и ближе.
Чем мы занимались в совхозе?
Заглядывались на девушек, всячески стремились познакомиться с ними поближе. По пути в столовую ехидно обсуждали достоинства и недостатки их фигур. По причине теплой погоды девушки ходили в тренировочных костюмах, и как тут было удержаться от обсуждений?
Старались работать поменьше, а если была такая возможность, не работать вовсе. После завтрака уезжали в картофельные поля, нежились в стогах, следя в небе неспешные облака, обмениваясь глубокомысленными междометиями. Потом тянулись на обед. Игорь в одиночестве сновал по полю, набивал мешок за мешком оставшейся после комбайна картошкой.
— Эй, труженик, тебе чего, больше всех надо? — спрашивали поначалу у него. — Рано начал!
— Мужики, имейте совесть! — кричал в ответ Игорь. — Пропадет ведь картошка! Самим же зимой жрать нечего будет. Для кого она тут растет?
— Идем-идем! — бодро отзывались мы, однако с места не трогались. Вдруг накатывались приступы смеха. Картошка — насущный хлеб русского человека — нас не волновала. Она продавалась в овощных магазинах по сколько-то копеек за килограмм, и все тут.
По вечерам вели философские диспуты, смело и аргументированно вскрывали убожество, бездарность всемирно известных писателей и режиссеров. Победно косились на притихших девушек. Потом, распределившись на пары, гуляли по лунным сельским улицам. Возвращались в смутные предрассветные часы. Утром проснуться было невозможно.
Периодически совершали набеги на совхозные и частные сады. Ели яблоки, пока челюсти не сводило, пока живот не схватывала судорога.
А чем занимался Игорь?
Игорь существовал обособленно. К спорам нашим прислушивался со вниманием, однако сам высказываться не спешил. Его пытливый, пытающийся проникнуть в душу говорящего, взгляд почему-то раздражал.
— Что ты, старичок, смотришь на меня, как прокурор на суде? — не выдержал кто-то.
Игорь пожал плечами, отвернулся.
Нас в комнате было четверо. Один объяснял все застенчивостью Игоря. Другой предлагал вышвырнуть его из комнаты вон. Однако до эксцессов не дошло. С Игорем смирились.
Он ухитрился записаться в местную библиотеку и теперь валялся вечерами на койке, увлеченно читал книги.
— Ну что ты, честное слово, — сказал ему я. — Над тобой все смеются. Неужели не читал «Госпожу Бовари?»
— Представь себе, нет. Мне казалось в школе, я много читаю, а оказывается… — он виновато разводил руками. — Но ничего, — упрямо встряхивал головой, — я догоню, наверстаю, вот увидишь.
Любопытную я заметил вещь. Игорь внимательно слушал наши разговоры. Мог и сам высказаться, допустим, о только что прочитанной книге, о «Госпоже Бовари». Но как только речь заходила о вечных нравственных категориях: долге, чести, совести, морали — Игорь скучнел. Эти категории почему-то его не волновали, на них его пытливость не распространялась.
Однажды в обеденный час я встретил Игоря в поле. Он разговаривал с механизаторами, что-то записывал в блокнот.
— Что ты тут делаешь? — помахивая пустой авоськой, я летел в магазин.
— Хочу материал сделать в районную газету. Чего время зря терять? И потом, жалко. Сколько картошки в поле остается.
Вскоре в районной газете действительно появился материал Игоря. «Разрубленный клубень» — так он, кажется, назывался. Над Игорем от души посмеялись. Каждый считал, что смог бы написать куда лучше. Только никто почему-то и не пытался.
…Потом был первый курс. Девушка-хохотушка из общежития рассказывала в буфете, что вчера ночью у них на этаже вырубили свет. Это было восхитительно: сидеть при свечах. Потом играли в привидения, потом гадали по темному зеркалу. Возвращаясь в три часа ночи в свою комнату, она встретила на лестнице Игоря, бредущего, как выяснилось, из читального зала. Игорь шел со свечой, под мышкой… Гегель!
Когда мы резвой гурьбой устремлялись после лекций пить пиво, Игорь смотрел на нас осуждающе. Когда сидели на первой паре, мучаясь головной болью, Игорь брезгливо отворачивался. На первом курсе он был белой вороной. Я мало с ним общался.
…На втором курсе Игоря избрали в факультетский комитет комсомола. Неожиданно выяснилось, что он еще в школе вел бешеную комсомольскую работу. С ним все стало ясно. Прежние и нынешние его поступки, поведение идеально укладывались в знакомую схему. Таких орлов через факультет пролетело немало. Некоторых не забыли до сих пор. В свете их прошлых деяний нынешние продолжатели казались примитивными бледными тенями. Игорь не был исключением.
…На третьем курсе, на отчетно-выборном собрании он неожиданно взял самоотвод. После собрания вечером мы шли по темнеющему проспекту Маркса. Игорь говорил:
— Сам не понимаю, как получилось. Какая-то пружина внутри распрямилась. Я ее сдерживал-сдерживал — и вот не смог. Называют мою фамилию, а мне стыдно. Я ведь в этом комитете ничего, совершенно ничего не делал. Оно бы еще ничего, если голосовали за список, а тут за каждого поименно. Этот еще поднялся, лепит про мою вымышленную работу. Неловко. Все ведь врет. Я знаю, что врет, и все знают. Но молчат, вроде так и надо. Привыкли. Я подумал: сейчас единогласно проголосуют и забудут. И опять можно целый год ваньку валять. Откуда такое равнодушие? Это же идеальная среда для сволочи. Потом сволочь на голову садится, все зубами скрипят. А куда раньше смотрели? Чего молчали? Слушай, — Игорь схватил меня за руку. — Чего-то я устал. Давай на субботу-воскресенье смотаемся ко мне в деревню? И понедельник прихватим, а?
Я удивленно смотрел на нового, смятенного Игоря.
— Вот бы все это и высказал. Чего же ты?
— Знаешь, — усмехнулся Игорь, — многого ты от меня хочешь. Я бы говорил, а вы бы помалкивали да веселились. Много чести!
— Да чем тебе не глянулся наш комитет?
— Да всем. Во-первых, скучно. Во-вторых, времени жаль. Это какое-то молчаливое сообщество людей, которые знают, чего им надо, во имя чего они там заседают. И вот что забавно: предложишь что-нибудь живое, дельное — на словах «да-да», а на деле шиш! Никто пальцем не пошевелит. Все работают на свое будущее. Хотя, если вдуматься, и тут у них прокол. Не знаю. Доучиться бы быстрее, уехать в районку и писать! Больше ничего не надо.
— Смотри, пожалеешь еще, что ушел.
Игорь горько усмехнулся.
— Ты тоже считаешь меня карьеристом. Не отрицай, я знаю. Доводили до сведения. Ты разговариваешь сейчас со мной как с карьеристом, который сглупил, упустил свою выгоду. Ты вечно подозревал у меня какие-то далеко идущие планы, а их не было и нет. И когда я не желал с вами пьянствовать, потому что пьянство якобы святое дело. Не святое! Я у себя в деревне насмотрелся. Половина наших бед сейчас от пьянства. И когда читал книги, потому что хотел судить не только по учебнику, а как сам понял. И когда шел ночью с Гегелем под мышкой, потому что сам, понимаешь, сам хотел убедиться, что дает современному человеку этот философ, а не просто передуть чужой конспект. И когда сегодня взял этот самоотвод. Я знаю, почему ты говоришь, что я пожалею. — Игорь вдруг остановился. Чистые голубые глаза его электрически светились. — Думаешь, теперь на практику за границу могут не послать. А был бы в комитете, точно бы послали, да?
Я думал именно это, но промолчал.
— Молчишь, — задумчиво произнес Игорь. — Выходит, это не я, а ты двойной. Все ваше молчаливое большинство двойное. Живете, а делаете вид, что ничего вас не касается, что вы натурой выше. На факультете — одни, в пивной — другие, на комсомольском собрании — третьи. Сколько же у вас личин? И какая из них природная?
— Слушай, — разозлился я, — мне-то что за дело: ушел ты из комитета или нет? Тебя послушать: все вокруг дерьмо, один ты хороший. Чего это ты сразу на других? В таких делах с себя надо начинать.
— С себя? В чем же я провинился? Что же я такого сделал? Ножку никому не подставлял. Никогда не врал. Симпатий и антипатий тоже не скрывал. Конечно, грешен. Лекции не прогуливал. В газеты писал. Но кого же я этим оскорбил, кому наступил на хвост? Числился в комитете — плохо, карьерист. Взял самоотвод — опять плохо, выбился, так сказать, из образа. В результате — отверженный. Да кто придумал эти правила? И почему я должен им следовать? Может, я не хочу. Я — это я.
— А тебе не кажется, — спросил я, — что нельзя вот так жить, ни в чем не сомневаясь. Если ты вбил себе в голову, что ты честен и правилен, значит, все вокруг должны верить. А все не хотят верить. Слишком уж, извини, ничтожная величина твое «ты». Кому от него холодно или жарко? Для кого, для чего оно? Только для тебя одного. А раз для одного, так и спрашивай с себя, а не с других, на которых тебе плевать. Тебе плевать — и на тебя плевать. Подумаешь, ушел из комитета. Думал, на руках из зала понесут, а никто и не заметил. Поздно спохватился!
Игорь молчал, закусив губы.
— Тебе не нравится, что последнее слово — да не за тобой, — сказал я. — Не представляешь, чтобы последнее слово — да не за тобой.
На пути попался киоск «Союзпечати», уютно освещенный изнутри желтым светом. Игорь принялся угрюмо рассматривать выставленные журналы. Он не мог спокойно пройти мимо места, где продавали периодику. Даже сейчас, после нервного собрания, после злого нашего разговора купил зачем-то венгерский журнал с кораблем на обложке.
Некоторое время мы шагали молча.
— Странно, — произнес Игорь, уставясь под ноги. — Вот мы идем, тысячи людей мимо. И никто не знает, что мы журналисты, что через какие-нибудь два-три года все будут хватать газеты, читать наши материалы, негодовать, восхищаться… Идут, смотрят и не знают, кто мы! — Игорь захохотал, хлопнул меня по плечу.
Мне не понравился его смех.
Мы шли по улице Горького. В колеблющемся свете витрины Игорь листал венгерский журнал.
— Изучаешь венгерский язык? — поинтересовался я. — Знаешь хоть, как переводится название?
— Представь, знаю, — устало ответил Игорь. — Зачем эти шутки? Да, мне интересно, как они делают журнал. Мне интересно все, что касается журналистики. Почему я должен это скрывать? Да-да, конечно, приехал тысяча первый деревенский хмырь покорять Москву. Москва, о сколько юношей к тебе во все столетия стремилось… Но это действительно так: я приехал покорять Москву. Объясни: в чем я не прав?
Мы шли мимо ресторана. За стеклянной дверью скучал швейцар. По причине буднего дня свободные места имелись.
— Зайдем, — усмехнулся Игорь. — Я все-таки получаю повышенную стипендию. Зайдем.
В ресторане стояла сонная тишина. На пустой эстраде белели барабаны. Официант принес холодные закуски.
— Возьми нашу группу, — торопливо закусил красной капустой Игорь. — Сколько человек по-настоящему учатся? Восемь? Десять? А группа — двадцать человек. Зачем же отнимать места у тех, кто хочет учиться? Тем более если этим тоскующим девочкам и мальчикам все до лампочки.
— Ошибаешься. Не до лампочки.
— Хочешь сказать, они тоже к чему-то стремятся?
— Все к чему-то стремятся.
— Но к чему? Девочки — удачно выйти замуж. Мальчики — жениться на выгодных девочках. Найти работу, чтобы годика через два-три вырваться за границу. А нынче это почти невозможно, если нет связей. Но дело не в этом. Смотри, как хитро все маскируется, ставится с ног на голову. Человек со страстью учится, значит, карьерист, выслуживается. Не резонерствует, не пьет, не ходит на идиотские вечера, не порет чушь на переменах, не восхищается чудовищной музыкой, — значит, подлец провинциал, тысяча первый покоритель Москвы. Фу, личность, достойная презрения. Как в кривом зеркале. Свои намерения они приписывают мне. Да, мне нечего скрывать. Им есть что. Они-то думают выдвинуться не трудом, а случаем: выгодной женитьбой, связями, чьим-то заступничеством. И при этом они милые, симпатичные ребята, которые иронично помалкивают на собраниях, а я — проходимец и карьерист — беру самоотвод. Но я не собираюсь играть по их правилам. И я не считаю, что открыто признаваться, что хочешь жить в Москве, хочешь серьезной работы, наконец, профессионального роста — это неприлично. Неприлично иронично помалкивать на собрании и при этом строить жизнь на связях, на женитьбах, на чьем-то покровительстве.
— Но раз тебя это так задевает, — перебил я, — значит, что-то… Не нравится, что обходят на повороте?
— У меня нет здесь связей, нет папочки-заступника! — сжал кулаки Игорь. — Но мне плевать. Плевать. — Неожиданно успокоился. — Все своим горбом. Следовательно, завидовать глупо. В любой табели о рангах, — усмехнулся Игорь, — даже самой высокой, всегда предусмотрена квота для тех, кто своим горбом. Они, видишь ли, как пузырьки воздуха, бодрят стоячую вялую кровь. Выпьем, Петя!
Мы так и остались каждый при своем.
…К концу третьего курса про Игоря говорили, что он пошел вразнос. Игорь с трудом сдал летнюю сессию. А сразу после сессии его чуть не выгнали из общежития.
Вот что я вспомнил, идя вдоль длинного белого газетного корпуса.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Уже десять минут я сидел у Игоря в кабинете, смотрел в серый экран телевизора. Игорь разговаривал по телефону. Взгляд его напоминал пустой безмолвствующий экран. И разговор велся такой же равнодушный, холодный. Собственную конъюнктурную выгоду Игорь ловко маскировал заботой об общем деле (каком?), бессовестной демагогией. Но и невидимый собеседник, как я понял, был непрост. Он тоже радел об общем деле, не был новичком в словоблудии. Когда он разражался тирадами, Игорь морщился, брезгливо относил от уха трубку. Когда умолкал, отвечал ему тем же. То был разговор двух глухих, которые тем не менее отлично друг друга понимали. Я так и не уяснил, кто одержал верх: Игорь или невидимый собеседник.
Игорь положил трубку, пружинисто прошелся по кабинету. Теперь он был воплощением человека дела. Все к делу не относящееся отступало на второй план. Я в том числе. Таков был член редколлегии, редактор отдела молодежных проблем Клементьев И. Г., как гласила табличка на двери кабинета. Ртутной, не знающей покоя деловитостью, как решеткой, обнес себя Игорь. Я хотел пробраться к нему, но не знал, как войти. На Игоре были в меру потертые джинсы, кожаный пиджак, рубашка с галстуком. Волосы он носил скорее длинные, чем короткие. На столе тускло светилась золотым пером ручка «Паркер», а может, «Пилот», я не рассмотрел. Игорь не был похож на прежних комсомольских вожаков. Белыми нервными пальцами он энергично и осмысленно перебирал гранки, лежащие на столе.
Дело превыше всего! Я здесь затем, чтобы делать дело! Не мешайте мне делать дело!
Я отметил, что руки Игоря совсем не похожи на крестьянские. Крестьянский род стерся, сошел на нет на Игоре. Игорь оказался ветвью, которая сама стала новым стволом. Будто и не жил он никогда в бревенчатом доме напротив речки Лоськи, откуда каждый вечер, шлепая лапами, возвращались утки во главе с селезнем. Будто и не ходил в сельскую школу, где в одном помещении сидели ученики сразу двух классов, тыкали пальцами в мятый глобус. С трудом верилось, что это Игорь стоял рядом со мной в костюме-тройке на Ленинских горах. Зайди кто сейчас в кабинет, куда бо́льшим горожанином покажется он, нежели я, тоже переставший быть ветвью, но не сделавшийся стволом.
Больше всего на свете я боялся обнести себя решеткой. Часто оказывался беззащитным именно из-за отсутствия решетки, мне казалось, за прутьями потеряются, заглохнут призрачные мои корни.
Игорь сознательно огораживал себя решеткой газетного дела, упорно вживался в образ современного газетного руководителя. Он сам продиктовал себе жизненные цели и при этом, естественно, наступил на самого себя. Если только родовые вековые истины не миф, если только они в самом деле входят в кровь при рождении и велят поступать так, а не иначе, делать то, а не это. Я видел корни в том, чтобы различать добро и зло, так как только различая человек имеет возможность оставаться самим собой. Однако мои корни в этом мире были утеряны.
Игорь в этом отношении был счастливее меня, но он сознательно наступил на себя, чтобы стать современным — как он это понимал — человеком, чтобы видоизменяться в соответствии с назначенным себе образом. Игорь сейчас был человеком без прошлого, с одним лишь будущим. Точнее, не с будущим, а с возможной перспективой. Добро и зло, следовательно, перешли для него в разряд варьирующихся, изменчивых категорий. Мне казалось, видоизменяясь, Игорь сжимает внутри себя пружину. Так было и раньше. Он сжимал, сжимал, но пружине случалось соскакивать, распрямляться. Игорь начинал сначала. Как-то будет сейчас?
— Ты неплохо поработал в Ленинграде, — наконец обратил он на меня свое милостивое внимание. — Заметка получилась.
Я подумал, что окончательно прозевал превращение Игоря. Вместо куколки пришел к бабочке. Решетка крепка, расшатать прутья нечем.
Но, может быть, я ошибался.
Пауза сделалась невыносимой. В этот момент девушка внесла в кабинет только что оттиснутую полосу. Игорь потянулся к ручке. Как еще должен поступать в такой ситуации человек дела?
— Я, пожалуй, пойду, — поднялся я.
— Подожди, — потер пальцами лоб Игорь, — а зачем ты вообще приходил?
— Да так просто. На тебя посмотреть.
— Ну подожди! — раздраженно сказал Игорь. — Дай мне хоть полосу прочитать.
— Хорошо, я погуляю в коридоре.
Зазвонил телефон. Игорь рукой определил, какой из трех. Видимо, звонил не самый важный, потому что трубку снимать Игорь не стал. Я вышел из кабинета и зашагал в машбюро, наверное, по инерции. На Чукотке во время редких минут ничегонеделанья тоже плелся я в машбюро, сидел там, слушая, как машинистка стучит по желтой бумаге. Траурной каймой выглядывала из-за бумаги копирка.
Здесь машбюро представляло собой зал с обитыми дырчатым пенопластом стенами. Всего две машинистки по случаю позднего вечера были на месте. Одна печатала десятью пальцами, другая задумчиво смотрелась в маленькое зеркальце. Должно быть, решала: красить губы или нет. Я посмотрел на машинисток, машинистки устало и без интереса посмотрели на меня, потом я закрыл дверь.
В середине коридора находился холл. Светильники потушены, единственным источником света в холле было огромное панорамное окно, где дрожали огоньки ночной Москвы. Две темные фигуры, прильнув друг к другу, застыли у окна. Две сигареты согласно тлели. Вот она, газетная любовь во время дежурства.
Я сел в кресло, подумал, что здешний покой относителен. В редакционном коридоре тихо, почти как в больнице, а внизу, в типографии, гудят машины, у талеров суета, печатники злобно поглядывают на часы: где подписные полосы?
…Настоящая дружба началась у нас с Игорем на третьем курсе после отчетно-выборного собрания, после странного разговора в полупустом ресторане.
Если я знакомился с девушкой, то говорил ей: «Приведи подругу, я познакомлю ее с моим товарищем». Игорь то же самое говорил своей девушке. Ах, как весело нам гулялось!
Игорь всегда нравился девушкам. Даже меня, помнится, немного смутил размах его знакомств. Я уже в те годы был подвержен приступам раскаянья. А Игорь лишь беззаботно насвистывал. Его отличала удивительная легкость в переходе от греха к мнимому праведничеству. Случалось, я сидел на лекции, мучаясь вчерашними воспоминаниями, Игорь же, который веселился с не меньшим задором, совершенно ничем не мучился. Честен и чист был взгляд его голубых глаз.
Вспомнился пятый курс. Я был занят поэтом-юношей Веневитиновым, Игорь писал работу на тему: «Очерк в центральных газетах». Он завел знакомства в одной редакции, поехал в командировку в Тульскую область, в воспетую писателем Платоновым Епифань, где когда-то английский инженер Перри пытался строить шлюзы. Игорь написал материал о сельских школьниках, остающихся после школы в родном селе. Материал напечатали. Потом Игорь написал несколько других материалов. Из газеты на него пришел запрос, и помню, как все на распределении удивились, узнав, что Игорь будет работать корреспондентом с окладом в сто восемьдесят рублей.
Был выпускной вечер в ресторане «Прага». Пировали на летней, увитой плющом, веранде. На соседней веранде девушки — выпускницы текстильного техникума — дружно выводили: «Ой ктой-то с горочки спустился. Наверно, милый мой идет…» Сокурсницы нам давно прискучили, мы косились на молоденьких текстильщиц.
Потом, как водится, то ли поехали к кому-то в гости, то ли кого-то куда-то провожали. В незнакомом дворе сидели в беседке. Было светло, и орали птицы. Я думал об Ирочке Вельяминовой.
Поднималось солнце. Университет отступал в прошлое. Все разбрелись. Мы поехали ко мне домой.
— И все-таки мне не верится, что ты жених, — сказал я Игорю. — Где, кстати, твоя невеста? Почему ты не привел ее на вечер?
Игорь ничего не ответил.
— Помнишь, — сказал он через некоторое время, — мы собирались ехать на юг после распределения?
— Хочешь сказать, теперь не получится из-за свадьбы?
— Нет, — поморщился Игорь.
— Хочешь взять жену?
— Нет. Я с ней договорился.
— Я бы на ее месте обиделся.
— К счастью, она — не ты, — засмеялся Игорь. Тогда все мои помыслы занимала Ирочка, я не задумывался над странной женитьбой Игоря.
…Через неделю мы были в Ялте, где солнце грело серую гальку, к пристани подходили пароходы-гиганты, по вечерам нескромный девичий смех доносился со скамеек в темных парках. В укромных уголках под кипарисами не могли не вершиться таинства любви. Вместе с лунным светом в воздухе разливалось странное томление.
Мы сидели, свесив ноги с нагретого каменного парапета. Внизу шипели волны.
— Интересно, — вдруг подал голос Игорь, — как ты думаешь, можно себе внушить, что любишь женщину?
— Не знаю, — ответил я, — не испытывал такой необходимости.
— Ну да, — усмехнулся Игорь, — ты, наоборот, внушаешь себе, что не любишь, да?
— Я ничего себе не внушаю, как есть, так и есть.
— По-твоему, выходит, любовь припирает к стенке, как бандит, не спрашивая о чувствах и мыслях, так?
— Это интересное сравнение, — сказал я. — Ты что, тоже припер к стенке бедную свою невесту?
— А много ли было в твоей жизни такой любви? — пропустив мимо ушей мои слова, Игорь смотрел на меня с усмешкой.
Мне не нравилась его усмешка. Доверить Игорю Ирочку, о которой я дни и ночи тогда думал, я не мог. Чтобы он вот так же усмехнулся.
Игорь был прав: любви было мало, одна Ирочка. Но в то же время того, на что он намекал, тоже как будто не было. А если и было, то не со мной. Богатый мой опыт исчез, скрылся в волнах, как Атлантида.
Объяснить это я ему не мог.
— Ровно столько, сколько нужно, — ответил я, подумав, что можно бы и не столько. Во всяком случае, чтобы не думать в Ялте, где полно девушек, об Ирочке, которая меня не любит, которой я совершенно не нужен.
— Но ведь любовь не только страсть, — произнес задумчиво Игорь, — это еще спокойствие и разум. Организованный быт, завтрак, обед, ужин. Чистое постельное белье, свежая утренняя рубашка.
— Ты смешиваешь понятия. Раньше для этого нанимали горничных. Теперь надо просто самому не лениться.
— Хорошо! — Игорь рубанул рукой воздух и сразу напомнил мне прежнего Игоря, времен «ночного» Гегеля. — Вольно тебе, Петя, быть идеалистом-моралистом. Ты созерцаешь собственный пуп, разрешаешь несуществующие проблемы, потому что изначально сыт и благополучен. У тебя есть где жить, прописка есть, все есть. А у меня нет ничего! Но я тоже хочу жить. Я еще не нюхал, не щупал эту жизнь. Прошлое мое — недоразумение, не имеющее никакого смысла. Я — Адам. Я только что родился на свет! Как прикажешь быть? Возвращаться в деревню, месить грязь? Да почему? Я знаю десятки бездарей, которые заслуживают этого больше. Я люблю свою невесту, Петя, люблю, люблю, люблю. Я женюсь исключительно по страстной, святой любви!
— Да ради бога. Чего ты горячишься?
— Я не хочу терять время, Петя, не хочу начинать с нуля, с районки, потому что знаю, что способен на большее. И ты знаешь. Кому, кроме завистников, будет выгода, если я похороню себя в районке? Нет уж! Останусь в Москве, займу свое место. Свое. Которое сам добыл себе, своим горбом.
— А чего ты прячешь свою жену? — спросил я. — Неужели такая страшненькая? Не хуже же Олечки Золотовой?
— Драться, — с ненавистью и интересом посмотрел на меня Игорь, — хочешь драться. Да, она не красавица, но я ее люблю! — он рванул мою рубашку, пуговицы посыпались, защелкали по каменной пристани.
Я ударил его по рукам. Сцепившись, мы покатились. То я оказывался наверху, то Игорь.
— Чем же это ты лучше меня? — давил меня коленом Игорь. — Вместе пьянствовали, ходили к девочкам.
— Да не осуждаю я тебя, — выворачивал я ему колено, — плевать мне на тебя, живи как хочешь!
— Не-е-ет, — противно тянул Игорь, — я понял, в чем дело. Ты у нас влюбился и решил, что стал очень чистеньким. Такой грязный, развратный тип, как я, тебе не пара. Куда это ты ходишь каждое утро звонить?
— Не твое собачье дело, — шипел я, — запомни, дрянь: нельзя мешать любовь и выгоду. Женщину можно любить, можно не любить, но делать на ней выгоду…
— Слишком строго судишь, Петя, — хрипел Игорь, — ты влюбился, нравственность твоя завышена безмерно. Ишь как ополчаешься на все, где не видишь шекспировской страсти. Свои грехи видишь на мне, Петя! Так искореняй их в себе, помнишь, как учил меня когда-то.
К этому времени мы собрали с набережной всю пыль.
— Хватит, встаем.
— Нет, я еще не положил тебя на лопатки, победа не чистая. — Игорь коварным приемом попытался припечатать меня к камню. Я сопротивлялся изо всех сил. — Ты ленивый, праздный идиот, — тяжело дышал Игорь, — вспомни Антония, из-за Клеопатры он потерял все.
— Зато ты все приобретешь, я не сомневаюсь. И… отнюдь не из-за Клеопатры.
— Да, потому что я знаю, чего хочу. А вот чего ты хочешь?
— Чтобы ты наконец отпустил меня! — я еле вырвался.
Мы шатались, отряхиваясь. Потом Игорь направился в город, я в комнатенку, которую мы снимали у бабушки одного нашего сокурсника. В воздухе кружился какой-то пух. Море шумело. Я подумал: сколько уже времени дружу с Игорем, а, оказывается, совсем его не знаю. Я чувствовал, что потерял всякое влияние на Игоря.
Все в нем в те дни меня раздражало: как он, блаженно щурясь, загорает, похотливо выставив нижнюю губу. Как бродит по гальке, разглядывая девушек. Как знакомится с ними, произнося редкостные пошлости, как вечерами сидит в кафе — самодовольный балбес, любитель вина и скабрезностей, вольно развалившийся в кресле журналист, точнее, пародия на журналиста, хвастающийся знакомством с известными людьми и артистками. Игорь врал, и ему даже в голову не приходило, что я могу в любой момент его разоблачить — повелителя официантов и барменов, лжеспортсмена, загорелого супермена на отдыхе.
У меня деньги давно кончились. Игорь все доставал и доставал купюры из бумажника, все разменивал и разменивал.
— Я с тобой до конца жизни не рассчитаюсь, — заметил я. — К чему эти роскошества? Ежевечерние девушки и шампанское? Поберег бы деньги для семьи.
— Тебе не понять провинциального человека, Петя, — смеялся Игорь, — я копил деньги полгода. Первый раз в жизни отдыхаю, как хочу. Зачем считать деньги?
…Наконец вернулись в Москву. Через несколько дней случайно встретились на улице. Игорь занял у меня десятку.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Возвращаться к Игорю в кабинет не хотелось. Ночной газетный коридор, пустой холл, дрожащие в огромном окне огоньки — притягивали, как магнит. Неожиданно догадался: еще и потому я здесь, что соскучился по газете, по суетливой жизни, которой сам когда-то жил. Она затягивала, как омут, и даже сейчас, спустя столько времени, я ощущал зов темных водяных кругов.
Все-таки вернулся в кабинет к Игорю, хотя и не знал, о чем говорить: просить новое задание? предлагать какую-нибудь свою тему? Игорь навстречу не шел, это чувствовалось. Лучше всего было распрощаться, уйти, но идиотская привычка доводить все до конца не позволяла. Уйти, но только расставив все по местам!
Кабинет был пуст. От нечего делать взял полосу, посмотрел, что печатают. Целый подвал занимала статья под названием «Не верю!». Как явствовало из нее, «не верил» отцу — человеку гуманитарной профессии (какой именно, впрямую не говорилось, но по намекам угадывалось, что драматурга) сын, двадцати с небольшим лет. Он рос себе, рос, лопаясь от силком навязанного благополучия, пока вдруг не уяснил: отец — человек с двойной моралью, дома говорит одно, на сцену же проталкивает пьесы, где совсем другое. Вернувшись из-за границы, отец восторженно рассказывал о своих впечатлениях, в газетах же помещал статьи, где утверждал, что люди там умирают на улицах от голода. Очень нравились отцу заграничные поездки, причем не туристические — там давали какие-то гроши, — а представительские — с приемами, ресторанами. Если поездка вдруг срывалась, отец ходил мрачнее тучи. Дружить отец старался исключительно с людьми, стоящими на служебной лестнице выше его, что, впрочем, не мешало ему поддерживать добрые отношения: с мясниками, автослесарями, комиссионщиками, спекулянтами. Сын тем временем закончил спецшколу, репетиторы обучали его еще одному иностранному языку и музыке. Подспудно, однако, в нем вызревало неприятие сытой, бездуховной, беспроблемной жизни. Впрочем, автор особенно не гнался за моральными обоснованиями своего протеста, и это, признаться, настораживало. Он как будто был за что-то обижен на своего папашу и таким вот странным образом вымещал свою обиду. В довершение всего папаша помог ему поступить на один из самых престижных факультетов. Это-то и оказалось последней каплей, которая переполнила терпение сына. Все в родном доме сделалось ему омерзительным. На этом статья как бы обрывалась. Коротенькое редакционное послесловие приглашало молодежь и людей зрелого возраста порассуждать над вечной проблемой «отцы и дети», рассказать, как складываются отношения поколений в их семьях.
— Ну как тебе статейка?
Я и не заметил, что вернулся Игорь.
— Кое-чего, по-моему, в ней не хватает.
— Чего же? — насторожился Игорь.
— Не верится, что этот сынок сам будет жить по правде. Как-то уж он со смаком описывает папашу, будто и не ругает, а восхищается. И ведь чем, подлец, язвит: репетиторы к нему ходили. Так ведь это счастье — домашнее образование! Кстати, Игорек, вспомни, как ты маялся с английским. Вот бы где пригодилась спецшкола.
— Хочешь сказать: не в коня корм, — посмотрел на меня Игорь. — Раз имеешь возможность учиться — учись, думай, как принести пользу обществу, а не склочничай с папашей, так? Но тут ведь и другое. Так сказать, протест против фальшивого, бездуховного существования.
— Возможно, — согласился я, — только если я вдруг поругаюсь со своим отцом, это будет только мое, понимаешь, мое личное дело. При чем здесь газета, какие-то читатели? Они, что ли, спасут тебя от фальшивого, бездуховного существования? Во всяком случае, не с газеты надо было парню начинать.
— Да ты посмотри, кто автор, — засмеялся Игорь.
Фамилия автора была вынесена на поля, поэтому я и не обратил на нее внимания.
— Сергей Герасимов! Это наш, что ли?
Я тут же вспомнил его — черноволосого, кудрявого, лохматого, беспрерывно острящего, веселого циника. Он жил убыстренной жизнью. Собеседник только начинал мысль, Сережа мог мгновенно ее закончить. Собеседник только начинал рассказывать о каких-то своих обстоятельствах, Сережа уже был готов дать ему толковый совет. У него была смешная прыгающая походка. Необычайно подвижное лицо с выразительной мимикой. В последние годы с мимикой, правда, стало хуже: Сережа сильно располнел, щеки обвисли, появился второй подбородок. Как у Даниеля Дефо! — гордо говорил Сережа. Ему самому было впору заводить детей, а не обличать своего папашу. Ходить спокойно Сережа не умел — всегда бежал, подпрыгивал. Избыток энергии позволял Сереже сочетать вещи несочетаемые. Он пил-гулял-веселился и одновременно успевал делать дело. Сережа бесспорно был способным человеком, но это были способности без стержня. Сережа писал на любые темы, но больше всего его привлекали морально-нравственные и антирелигиозная пропаганда. Как некрасивая женщина пытается возместить свою непривлекательность косметикой, так и Сережа, не знающий, что такое мораль и нравственность, испытывал, должно быть, странное удовольствие, судя чужие судьбы, разоблачая каких-нибудь пятидесятников. На последних курсах я мало общался с Сережей. Его умные, желчные реплики прискучили. Он всем надоел своими цинизмом и безверием. Кто-то произнес крылатые слова: «Поговоришь с ним, потом почему-то хочется руки вымыть». Дураком Сережа никогда не был. Он понял, что перегнул палку, и изменился. Сейчас он существовал под маской обаятельнейшего малого, души компании, мастера на всевозможные хохмы. Сережа всегда любил хохмы. Один раз его чуть не выгнали из университета. Выручило вмешательство отца — этого самого двойного моралиста, говорящего дома на кухне одно, а в своих пьесах и газетных статьях — другое, о чем возмущенный Сережа и поведал миру. Накануне выпуска Сережу опять хотели выгнать. Отец отказался хлопотать — не мог простить, что Сережа стащил какую-то старинную книгу из их домашней библиотеки. Сережа проклинал папашу на всех углах. Ему пришлось самому валяться в ногах у проректора, вымаливать прощение, соглашаться на любое распределение. Тогда и возникла Чукотка. Однако туда поехал я. Сереже опять повезло.
— Зачем ты это печатаешь? — спросил я у Игоря.
— Не я, так другие напечатают, — ответил он. — Раз уж Сережа написал.
— Но это все лажа.
— А мне что за дело? — усмехнулся Игорь. — Нет дыма без огня. Выходит, не могут разобраться с папашей полюбовно.
— Да-да, как это, — припомнил я, — протест против фальшивого, бездуховного существования.
Что ж, Игорь научился подбирать лихие определения. Самая элементарная вещь, переименованная подобным образом, вдруг обретала видимость некоей социальной проблемы. Должно быть, к Игорю прислушивались на редколлегиях и летучках.
— Видишь ли, — зевнул Игорь, — Сережа делает себе имя. Знаешь, сколько придет писем на статью? Я понимаю, что ты хочешь сказать: доброе дело не делается плохими руками. Но объективно, — Игорь выделил это слово, — объективно Сережина статья все же бьет по мещанству, сытости, по всем этим зажравшимся, зарвавшимся жеребцам, объявившим себя интеллигенцией. Мне одинаково неприятны Сережа и его отец, который сочиняет бездарнейшие пьесы. Поэтому я печатаю эту статью.
Он смотрел на меня спокойно, уверенно, я бы даже сказал, снисходительно. Вновь, в который уже раз, я ощутил горький тупик. Игорь меня не понимал, скорее, не хотел понимать. Странная мелькнула мысль: юродивым надо быть или полным маразматиком, чтобы тебе поверили, не заподозрили в обмане, в желании выставить себя в лучшем свете.
— Мы говорим о разном, — вздохнул я.
— Ну да, — ехидно согласился Игорь, — тебя волнует вечность, меня, естественно, конъюнктура.
— Я бы на твоем месте гнал Сережу поганой метлой!
— Возможно, поэтому ты и не на моем месте.
Девушка внесла номера только что отпечатанной газеты. Игорь вытащил сигареты, хмуро протянул мне. Закурили. Было некое таинство в разглядывании завтрашней газеты.
— А неплохо смотрится, — кивнул Игорь на статью. — Так чего ты приходил?
— Сам не знаю, — честно признался я.
— Тогда поехали, — предложил Игорь. — Номер вышел. Я тебя куда хочешь довезу на разгонке.
Мы спустились на лифте вниз. Сели в дожидающуюся у подъезда черную «Волгу». Немного покрутившись по темным переулкам, машина выкатилась на освещенные центральные магистрали.
— Когда ты в последний раз ездил домой? — спросил я у Игоря. — Когда видел своего отца?
— Отца? — потер виски Игорь. — Давно. Не помню. Поехали ко мне?
— К тебе? Поздно. Что жена скажет?
— Ничего, — одними губами улыбнулся Игорь, — не скажет ровным счетом ничего.
Мы притормозили на перекрестке. Красный свет светофора наполнил машину холодным марсианским огнем.
— Почему же она ничего не скажет?
— Потому что, видишь ли, дома ее нет. И наверное, уже не будет. Я теперь живу один.
— Ладно, поехали к тебе, — согласился я.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Уже и молодые изобретатели отзаседались за круглым столом. В работе моей наступило некоторое затишье. Я по-прежнему жил на даче и, наверное, уже смертельно надоел деду. Мне казалось, я узнал его лучше, если только можно лучше узнать человека, который все время молчит.
Взаимопонимания, однако, между нами по-прежнему не было.
Я просыпался в девять, деда уже дома не было. В кухонном полумраке тускло светился медный заварочный чайник. Что за влечение у деда к старомодной добротности? Если чайник, то обязательно тяжелый, медный. Тарелка — гигантская, поросенка можно уложить, с тупыми толстыми краями. Чашка — не меньше чем пол-литровая. Даже стул, на котором дед сидит вечерами перед печкой, греет ноги, похож на трон. То были привычки прежних профессорских лет, когда он был нужен всем, а не сидел одинокий и забытый на разваливающейся даче. Впрочем, он сам сделал свой выбор. Но почему-то упорно держался за прежние привычки, словно это был способ сохранить, удержать хоть что-нибудь в долгой и темной череде последующих лет, когда он отказался отдел. В подобной приверженности к старине угадывались некое упрямство, детская обида на жизнь, стремление вернуться во время, когда привычки эти были естественной принадлежностью личности, а следовательно, и сама личность была иной. Почему после вынужденного перерыва он не вернулся к своим трудам, бросил все на полуслове, отстранился от жизни — я не знал и, похоже, никогда не узнаю. Можно было, конечно, впрямую спросить у деда, но вряд ли
он стал бы мне отвечать. Я и так смертельно надоел ему. Но все же я хотел спросить. Этой зимой, на двадцать седьмом году жизни, я полюбил деда, что было в общем-то несерьезно. Вот так я жил. Спешил, рвался в пустоту, на десятилетия опаздывая в существенном.
Я вышел на крыльцо. Заснеженные ветви берез казались стропами парашюта, а сам купол — голубой, необъятный — был высоко. Телеграфные столбы тянулись вдоль леса, на каждом — белая папаха. В прежнем Ирочкином окне — через участок — кошка водила лапой по усам, непрестанно облизывалась. Чужая кошка, чужие люди — йог и девица — в бывшем Ирочкином доме. То прошлое мое летало тенью над таким когда-то знакомым, а ныне совершенно чужим участком. Отвернулся к лесу, увидел тетерева, бухнувшегося с березы в снег. Он зафырчал, опять взлетел на березу, а с березы дунул в лес. Обозревать воскресный дачный пейзаж с березами, умывающейся кошкой в чужом окне, дураком — тетеревом надоело, потому что обозревать его можно было вечно. То было расчленение бытия на невидимые волокна, почти идиотское слияние с действительностью, потеря человеческой сути. Неожиданно я понял, откуда эта сентиментальная созерцательность после бессонной ночи и невеселых воспоминаний. Это молодость моя, не растраченные еще жизненные силы дают о себе знать, не позволяют впасть в окончательное уныние. Не выстраданный запас истин на все случаи жизни, но надежда, что жизнь есть тайна, никому не дано ее разгадать, в любой момент все может измениться. Знает ли дерево, на какую высоту вырастет? Знает ли человек, сколько ему отпущено жить? Нет. Но само человеческое существование, неостановимая работа души, циркуляция в ней всего земного, редкие ее прикосновения к вечному — уже есть счастье, дар бесценный. На том я стоял.
Начинающаяся завтра рабочая неделя пугала обилием всевозможных дел. Летучка, читка, собрание, редколлегия и еще и еще что-то.
Сладкие ягоды когда-то росли на грядках у Ирочки Вельяминовой, но сейчас чужая кошка умывается в ее окне. Нет у меня больше Ирочки, но и другой девушки тоже нет.
Стоит только подумать о матери, сразу вижу ее, идущую белой ночью по двору с чемоданом в руке.
Об отце: вижу его, идущего по тому же двору.
Они — уходящие, точнее, ушедшие. Ирочка уже второй раз замужем, дочке три года. Дед греет по вечерам ноги у печки, забывает выключать транзистор. Рассказы мои невозвратимы из пепла…
И продолжать можно долго.
Я подумал, вечная прелесть и вечное мучение жизни — в колеблющемся масштабе ее осмысления. От ничтожества к божеству мечется человек и всегда прав. Утром, подобно дыму сожженных рассказов, ест глаза тщета, а вечером я велик, значителен!
Я журналист. Необъятная страна: ее люди, города, села, стройки. Тысячи километров на самолетах, поездах, пароходах. Не скажешь, что впустую катится жизнь.
Я вспомнил одну командировку в Псковскую область. Ранней осенью, под дождем я стоял на автобусной остановке среди шоссе. Промокший, вглядывался в серую мглу, откуда должен был появиться автобус. Безрадостный открывался вид: черные сырые избы, кривые заборы, начинающий желтеть лес, разбитые в грязь дороги. Досадовал, помнится, я, что так неприютна Отчизна, что безобразно опаздывает автобус, что нет над остановкой козырька, что холодные струи льются мне за шиворот и колотит меня озноб. Плюнул, помнится, я, затопал ногами, едва не закричал от злости. Как вдруг все изменилось в один миг. Что-то со мной произошло. Такое кровное, до боли, до неистовства, навзрыд — родство ощутил я с черными сырыми избами, начинающим желтеть лесом, разбитыми в грязь дорогами. И снова захотелось кричать, плакать, но уже иначе. Я и кричал, кажется, от непонятного счастья кричал, дарованного не то в награду, не то в наказание. «О Русская земля, — припомнилась строчка из «Слова…», — ты уже за холмом!» Бесхитростная строчка отозвалась такими отчаяньем и гордостью, что я пропал, растворился в дождливом неприютном мире, сам сделался этим миром.
Где истина? Почему так легок, стремителен путь от божества к ничтожеству?
«Потому, — подумал я, — что в душе каждого человека, каким бы орлом он ни был, есть некая территория, где он навечно, до гроба инфантилен». Почему вот уже столько времени я думаю о своем пустом, преданном, разменянном-переразменянном доме? Чего хочу доискаться? Кого исправить?
Нет ответа.
…Отобедав, я стал собираться домой. Пока я добрался до станции, стемнело. Подошла электричка с заледеневшей крышей. В вагоне я устроился у окна. Желтый внутренний свет странно смешивался с заоконным. Казалось, не в обычном мире происходит дело, а в гигантской стеклянной колбе. Электричка шипела дверями, мелькали станции. Я закрыл глаза, примиряя две половины единого мира.
…Дома мать пекла пироги. Генерала, к счастью, дома не было. Я прошел к себе в комнату.
— Кажется, твой отец звонил, — заглянула мать, сдула со лба прилипшую прядь. — Я спросила, может, что передать, он повесил трубку.
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
…Девушка в белом платье исчезла среди камней и виноградников. Матрос остался один, совершенно один. Над морем рождался зной и, точно расплавленный свинец, заливал улицы. Матрос спустился на набережную, откуда через несколько часов должен отчалить его корабль. Странное чувство открылось матросу, что живопись — утрата. Нарисовав девушку, он навеки потерял ее. Яркий, полный жизни и страсти, мир был на мгновение обретен и безвозвратно потерян. Матрос подумал, что раньше подобного не испытывал.
Каспийское море.
Причалы.
Корабли.
Когда я был маленьким и мы снимали в Ленинграде подвальную комнату на улице Некрасова, картина висела на стене. Из зарешеченного окна я видел бесконечные идущие ноги. А на картине — бриги, клипера, бригантины — стройные мачты, разноцветные паруса. Такого количества парусников не встретишь ни в одном порту, только во сне. Если приблизиться вплотную — нет картины. Как червяки ползут мазки — красные, синие, желтые. Но если смотреть издали… Я врал в детском саду, что приехал в Ленинград ненадолго, что на самом-то деле я из краев, где парусники трутся носами у причалов, вьются на мачтах змеи-вымпела. Каждый день там светит солнце, море швыряет на набережные клочья пены.
Почему я до сих пор не был на Апшероне?
Картина с кораблями будет написана позже. Пока же, тупо оглядывая горизонт, матрос постигал схему грядущего своего бытия: внезапный прорыв в яркий, полный жизни и страсти, мир — кажущаяся его безвозвратная утрата — унылое существование в ожидании следующего прорыва. Если они, конечно, будут, эти прорывы. Унылому ожиданию надлежало вмещать в себя собственно человеческую жизнь матроса, его, так сказать, будни. Возможно, с набережной матросу вдруг померещилась будущая картина — толпа кораблей у причала — и сердце у него забилось веселее: не так уж долго, оказывается, ждать. Но все это позже. В одной из статей я, например, прочитаю: «Мироощущение художника чем-то напоминает мироощущение писателя Грина. Художник тоже жил в молодости среди экзотики небольших портовых городов, был одно время матросом, и это, несомненно, оставило след в его жизни».
Пока же матрос смотрит на Апшерон новыми глазами, и он для него то жив, то мертв. Он с ненавистью думает о предстоящем плавании. С яростью думает о девушке в белом платье. Кто, по какому праву так устроил жизнь, что он больше никогда не увидит эту девушку?
Матрос сжимает кулаки, бросается в книжный магазин, единственный на набережной. Он часто заходит сюда, листает книги по искусству. Смотрит альбом Северного Возрождения. Незнакомые, неведомые имена: Маттиас Грюневальд, Ганс Бальдунг Грин, Йорг Ратгеб, Альбрехт Альтдорфер, Вольф Грубер и, наконец-то (хоть это имя он знает!), Лукас Кранах Старший. Матрос внимательно разглядывает репродукции. Опять яркий, полный жизни и страсти мир, чуждое ему время, немецкое средневековье: крестовый поход невинных детей, голод, кровоточащие просфоры, «Союз башмака», война и чума в Кёльне, кометы, небесные знаки, великие знамения, стигматы на монахинях, волшебный крест на девичьей рубашке, которая становится знаменем для похода на турок. Вот и Реформация: рычащий доктор Лютер, запускающий в черта чернильницей.
Матрос едва не прожигает альбом взглядом. Как мало он знает. Что это за художники? Как им удалось столь зримо и совершенно выразить свое время — время юношеских метаний гуманизма, неразделенного существования добра и зла? Матрос вдруг задумывается о собственной жизни: детдоме, жесткой койке, тяжелых ведрах, которые приходилось таскать с колонки на кухню, войне, эвакуации, колонии. А можно ли, мелькает дерзкая мысль, по его впечатлениям составить энциклопедию времени? Вряд ли. Трясет головой, прогоняя давнее наваждение. Лето сорок второго. Бомбежка эшелона. Едва он, прижимая к груди украденный мешок с продуктами, выбрался в тамбур, чтобы сбросить мешок на насыпь, а потом спрыгнуть самому и вновь очутиться неизвестно где, на незнакомой станции — потерявшим маму сыночком, а то и сыном полковника Музычука, разминувшимся с отцовым ординарцем, — все затряслось, заскрежетало, словно голодная стальная пасть озверело вгрызлась в вагон, раскусила его, как орех. Ослепительными черными крестиками мелькнули самолеты. Они как будто растворились в солнце, но это был обман, самолеты просто разворачивались. «Мама! Мама! — он ненавидел себя за этот крик, потому что не знал своей матери, но все равно: — Мама! Мама!» Выбросился из тамбура, покатился под откос, а вокруг уже стоял всеобщий смертный вопль. Однако очнулся живой с прижатым к груди мешком, а слева и справа две мертвые тетки с простреленными головами. Одна из них еще поила его кипятком, расспрашивала о матери. Он врал что-то, она сочувственно качала головой. Жуткий запах крови, распаренного нечистого тела, немытых волос. Вот его жизнь. А после — мешочек за мешочком, чемоданчик за чемоданчиком, сладенькая воровская жизнь, тайные пиры в заброшенных домах, адская зубная боль — гнили, крошились зубы. Потом попался капитально: колония для несовершеннолетних, картишки на нарах, голубые наколочки. И внезапное, как в сказке, избавление. Его узнал директор детского дома, приезжавший в колонию по служебной надобности. По гроб жизни ему благодарность. Возврата к поездкам, к чемоданам, к картишкам не произошло.
Нет, захлопывает альбом матрос. По его образам получится безрадостная энциклопедия. Закрывает глаза. Что больше всего на свете ему хочется писать? Синее веселое море, разноцветные, как игрушки, парусники, смуглых, счастливых людей, девушек в длинных платьях. Но разве это, рычит матрос, моя жизнь? Откуда все это? И что оно выражает? Но все же именно карнавальную несуществующую жизнь матросу хочется писать до судорог в пальцах. Как же так, недоумевает он, жизнь окунала меня в пот, слезы, грязь, кровь, гной — и это переродилось во мне в веселенькое море, кораблики. Ладно, допустим, переродилось. Но сам я хоть чуточку изменился? Может быть, сделался смелее, раскрепощеннее, как эти смуглые красавцы? Или я буду писать пародию на настоящую жизнь? Хорошую романтическую пародию, усмехнулся матрос, примут с охотой. В каждом человеке сидит романтик. Так что мне делать? Матрос выходит из книжного магазина. «К черту, — решает неожиданно, — к черту все, что будет мешать. Любовь, доброту, так называемую порядочность. Что я имел в жизни, кроме кровавых мозолей? Ничего. Зато теперь сам себе хозяин. Отныне живу только для рисования, для искусства. Все прочее не имеет смысла. Сломаю, сокрушу, уничтожу все, что встанет на пути. Вот так. И плевать, как буду при этом выглядеть, что там про меня скажут. Да и некому будет говорить, кому я нужен? Главное — искусство. Я понял, сегодня я понял это раз и навсегда».
У причалов дымят пароходы.
Вскоре матрос решил, что, плавая на каботажном судне, определяясь по солнцу и звездам, заведуя лебедкой, неся восьмичасовую ежесуточную вахту, много не нарисуешь. Он ушел с корабля. «Повремени, — просили товарищи, — потерпи две недели». Матрос отказался. Их заботы отныне его не волновали. Под гробовое молчание товарищей сошел с корабля по гибкому трапу. Ночью совершенно один шагал по набережной небольшого каспийского порта. Звезды висели над самой головой. В воротах порта бывший матрос оглянулся на свой корабль. Корабль сонно качался на волнах, окруженный мраком. «Надо будет, — подумал бывший матрос, — как-нибудь написать ночной порт. Это красиво». Ворота порта закрылись за ним.
Бывший матрос снял комнату в городе. Целыми днями он бродил по улицам, рисовал все, что попадалось на глаза. Но деньги через некоторое время кончились. Он переехал в другой город, уже не портовый, где устроился оформителем в центральный парк культуры и отдыха. Он без сожаления оставил море, потому что почувствовал независимость от окружающего пейзажа. Все, что он собирался рисовать, уже как бы жило в нем без всякой привязки к конкретному месту. Может, это самоуверенность, мелькнуло, правда, сомнение, но бывший матрос снисходительно пренебрег им. Если война и сиротство переродились на его холстах в веселый карнавал, значит, его путь в искусстве определяется чем-то более сложным, нежели элементарная перемена мест.
Он обосновался в дощатом домике здесь же в парке. На первом этаже была бильярдная, на втором его мансарда. По вечерам оформитель рисовал при свете яркой лампы, а внизу стукались друг о друга, проваливались в сетчатые лузы асбестовые шары с номерами. Постоянно ощущаемый недостаток наличных средств заставил оформителя освоить сложную науку бильярда, и вот уже по вечерам он спускался к зеленым, как лужайки, столам, играл с отдыхающими на деньги. Он подарил маркеру целую галерею писанных маслом обнаженных красавиц. Тот стал иногда позволять ему делать бизнес без риска проиграть — не за зеленым игорным столом, а в высоком плетеном кресле маркера. Чем выше шла игра, тем сильнее отчисляли маркеру. Крыша мансарды, увы, протекала, и над своей кроватью оформитель натянул брезентовый полог, этакий зеленый балдахин, который приходилось регулярно сушить на солнце.
Пришла зима, время для бильярда, для летних фанерных домиков неласковое. Оформителю надоело мерзнуть в мансарде, он подался еще дальше на юг, в край, где на улицах жарят шашлыки, где на каждом углу лагманные и чебуречные, где базары еще не утратили восточного великолепия и где отовсюду видать горы. Снег на их вершинах — единственный снег, известный местным жителям. Оформитель устроился в геодезическую контору, сделался чертежником. Иногда ему приходилось седлать ишака, ехать в горы, где работали партии, чтобы на месте сделать необходимые чертежи. В горах было как в сказке: склон, покрытый снегом, рядом на солнце — склон, покрытый фиолетовыми цветами. В свободное время — а его было много — чертежник рисовал горы, цветы, орлов, что-то высматривающих сверху, незамерзающие речки, каменистые берега.
Зима бушевала там, на севере. Здесь дыхание ее ощущалось лишь в горах. В долинах все цвело.
Весной чертежник отобрал лучшие работы — приморский цикл, — тщательно упаковал их в плоский ящик, отправил в Москву, в приемную комиссию художественного института. Он решил поступать на факультет живописи.
Чертежник вышел из одноэтажного домика, где помещалась почта, посмотрел на горы — была весна, снега на них поубавилось — и неожиданно подумал об Анне, девушке в белом платье. Оказывается, он помнил о ней все это время. С одной стороны, чертежника это огорчило, ведь он решил забыть про все, не имеющее отношения к живописи. А с другой… Встреться он с Анной сейчас, когда он определил свой путь, когда он спокоен и уверен в себе, о, сейчас он бы повел себя совсем по-другому. Чертежник припомнил, какое сегодня число, потом прикинул, сколько времени ждать ответа из приемной комиссии. Потом пошел в контору и подрядился ехать в горы, в партию.
Через полтора месяца он пришел на почту, вскрыл заказное письмо из института. Там сообщалось, что он допущен к вступительным экзаменам на общих основаниях. Чертежник немедленно рассчитался с конторой, купил билет на поезд и уже на следующий день трясся на верхней полке общего вагона. Ехать до Москвы было долго — четверо суток. Он ел, спал, снова ел, смотрел в окно. А ночью в стуке колес ему чудилось: «Ан-на! Ан-на!»
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Откуда в Москве такой ветер? Я проснулся, и мне показалось, что я опять на Чукотке, такой свист стоял за окном. Гнулись деревья, кусты. Лишь машины да люди противоречили ветру, двигались в противоположном направлении. За ночь на подоконнике намело косой сугробчик. Я подумал, что, просыпаясь дома, всегда фиксируюсь на мелочах, извечных странностях окружающего мира, скажем, на погоде. Тем самым стремлюсь отвлечься от мыслей о главном: зачем я в этом доме? Куда отсюда податься?
Я жил-будто в заколдованном царстве. Время обретало свойства смолы, резины. Медная, позванивающая вечность, казалось, протекала между двумя ударами часов. Гипсовая голова Гомера смотрела со шкафа мертво и неприкаянно. Все чаще в доме стояла тишина. В оцепенении я следил из окна за черной кошкой, прогуливающейся по чужому балкону.
— Здравствуй, Петя, — сказала мать, когда я появился на кухне. — Садись пить чай.
— Здравствуй. Спасибо.
Чашки на столе, розетки, тарелочки, булькающий чайник — создавали некую иллюзию очага. Я подумал: вообще возня с посудой, периодический процесс приема пищи неплохо помогают поддержать видимость общности, семейственности. Кухонное окно смотрело во двор. Там ветер по-прежнему сгибал и разгибал деревья.
Странное дело, слова на кухне умирали, не прозвучав, точнее, рождались мертвыми. Такое мягкое, теплое слово «здравствуй» оказывалось ледяным. Слова были случайным сотрясением, возникающим от соприкосновения двух стеклянных колпаков. Из-под моего колпака все виделось уродливым: лицо — морщинистым, глаза — равнодушными, руки — восковыми. И в совокупности — чуждым. То было особенное отчуждение, когда кровное родство лишь усугубляет боль, разъедает рану солью. Жизнь, словно ветер, со свистом обтекала нас, была меж нами необсуждаема. Наши разговоры были пустыми констатациями тех или иных фактов.
— Когда ты спал, — сказала мать, — звонила Ира Вельяминова.
— Вот как, с утра пораньше, — ответил я. — Семейная дама. Чего она хотела?
— Кстати, давно хотела спросить: а кто ее муж?
— Который? Нынешний или от которого ребенок?
— Наверное, нынешний.
— Режиссер народного театра. Он ставит трагедию «Тамерлан».
— А от которого ребенок?
— Кажется, вулканолог. А может, спелеолог, не помню.
— Где она сейчас живет?
— И это знаю. На улице Горького, знаешь, сразу за магазином «Подарки» есть подворотня, где Госплан — высоченное стеклянное здание. И кто только его туда задвинул? Напротив маленький двухэтажный домик. Так вот, Ирочка живет в этом домике вместе со своим вторым мужем, своей дочкой от первого мужа и сыном второго мужа от его первой жены. Они не видят из окна неба. Но держатся за домик, потому что его, по слухам, забирает Госплан и им дадут квартиру. — Я сам не знал, зачем это говорю. В словах моих не было жизни. Лишь вечная человеческая злоба, которая опоясывает землю не хуже параллелей и меридианов.
— Как это: не видит неба?
— Бог покарал ее за неистовство.
— За что, я не поняла? — Мать улыбнулась, как бы целомудренно усомнившись в моем праве судить Ирочку.
— Хотя бы за то, что дочь растет с другим отцом. Разве мало?
Мать не ответила.
— Так что там насчет неба?
— Она просыпается, смотрит в окно, но там госплановский небоскреб. Она видит не небо, а его отражение. Отражение же всегда серое. А если какой-нибудь этаж Госплана работает допоздна, она не видит и звезд. Правда, зато не надо включать дома свет, хватает отраженного. Чего она от меня хотела?
— От тебя? Я разве сказала, что от тебя?
— Извини, — усмехнулся я, — не знал, что у вас свои отношения.
— Она спрашивала, как варить яблочное варенье.
— Откуда это у нее зимой яблоки?
— Сказала, муж привез из командировки.
— Ну да, — согласился я, — как я об этом не подумал. И что ты ей посоветовала?
— Выдержать яблоки в соде. Тогда варенье получится прозрачное.
— А у нее, стало быть, получилось мутное?
— Она ведь еще только собирается варить.
— Ох уж эти режиссеры народных театров! Подавай им непременно прозрачное варенье. А у самого зарплата небось сто двадцать.
— Петя, — строго и в то же время заботливо произнесла мать.
Я насторожился.
— Скажи мне, только честно. Ты встречаешься с Ириной?
— Что-что? — Мне показалось, на меня пролился холодный душ.
— Прошу тебя, — рука матери мягко припечатала мою к клеенке, — оставь ее в покое. Ты же не любишь ее. Поверь, она глубоко несчастная женщина. Оставь ее в покое. Сам того не желая, ты можешь сделать ее еще более несчастной… — Глаза матери лучились беспокойством, тревожной добротой. Так, должно быть, смотрели в глаза юным собеседникам великие педагоги Макаренко и Ушинский.
«Ты что, с ума сошла? Что ты надо мной издеваешься?» — чуть не заорал я, но, взглянув на нее, обомлел. Мать говорила это искренне. Вот так она заботилась обо мне. В меру своего понимания жизни и происходящего. Я понял это с исчерпывающей ясностью, не оставляющей места двоемыслию. То, что я полагал в ее поведении стеклянным колпаком, оказывается, было лишь паузой, неизбежной в отношении матери к взрослому сыну. Теперь, выходит, пауза закончилась. Мне стало смешно. В тысячный раз я оказался все усложняющим идиотом.
Некоторое время я сидел опустив голову, закрыв лицо руками, почти физически ощущая, как разрушается вымышленный колпак, как мир предстает в новых, на сей раз бесконечно глупых образах.
Мать, естественно, истолковала мою позу как немое признание в гнусном адюльтере.
— Ты обещаешь мне? — ее рука требовательно сжала мою руку.
— Что? Ах да, конечно, обещаю. Спасибо. Только сейчас я понял, что действительно вел себя… нехорошо.
— Я рада, Петя, я рада, — она просветленно улыбнулась.
Так закончился наш завтрак.
Дома делать было нечего. Я вышел на улицу, хотя на работу было еще рановато. У стеклянных витрин магазина «Власта», страдая от холода, стояли люди. Они алчно смотрели в витрины, а там, в сумрачной глубине залов портфели «дипломаты» завлекающе мигали никелированными замками.
— Вы последний на вход?
— Нет-нет, я не стою.
— Петя, ты?
Я узнал соседку Нину Михайловну, мать Антонины. Когда-то Антонина перепечатывала мои рассказы, и, сидя у себя в комнате, сочиняя новый рассказ, я слышал, как Антонина дробно передалбливает уже сочиненный.
— Чего это вы, Нина Михайловна, с утра пораньше да в очередь? Да еще, можно сказать, в домашний магазин? Договорились бы с грузчиком, он бы за рубль вам домой принес все что надо.
Но самый вид Нины Михайловны напрочь отрицал возможность сделки с грузчиком.
— Сумку вот моя Антонина велела купить. Говорит, вчера вечером за какими-то вишневыми на молниях давились. Может, сейчас будут?
Я молчал. Ответить на этот вопрос было невозможно.
Пауза затянулась, но тут, к счастью, показался автобус, на котором мне ехать к метро.
— Петя, — сказала вдруг Нина Михайловна, — ты знаешь, Антонина-то моя замуж выходит. Свадьба в конце декабря.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я появился в редакции раньше, чем следовало. Дед-вахтер дремал за столом, рядом кипел-плевался чайник, брызги летели на стол. Я выдернул штепсель, взял ключ от комнаты, пошел по коридору. Сначала вдоль стены, увешанной сомнительными картинами, потом мимо запертых кабинетов, мимо машбюро, где конечно же никого не было.
Начиналась суета. Надлежало думать о грядущей редколлегии, где, по слухам, в моих, рассевшихся за круглым столом, молодых изобретателей собирались бросать камни, но из головы не шла фраза: «Антонина-то моя замуж выходит». — «Прекрасно, — дежурно ответил я. — А кто жених?» Кто — не расслышал, вскочил в автобус, бодро помахал Нине Михайловне рукой. Что мне за дело до этого жениха? Сейчас я, однако, думал, что мог бы и не спешить. Не только обычная информация заключалась в словах Мины Михайловны, но и некая смутная тревога, естественнее в таких случаях волнение, которым хотят поделиться с собеседником, услышать в ответ какие-нибудь ничего не значащие, успокаивающие слова. Я же привычно шарахнулся от чужой жизни, охраняя призрачный покой своих мыслей и чувств.
Нина Михайловна по-прежнему стояла перед глазами — в длинной, некогда, видимо, черной, а ныне облезлой шубе, в кретинской красной шапочке с помпоном, носить которую ей бы уже не следовало: не девочка, чай, вон дочку замуж выдает. Впрочем, о такой чепухе — что надевать — Нина Михайловна никогда не задумывалась. Летом, например, она носила широкополую мушкетерскую шляпу, украшенную разноцветными страусовыми перьями. Когда входила в лифт, шляпа, как парашют, занимала все верхнее пространство. Как-то случилось мне подниматься вместе с Ниной Михайловной. Шляпа угрожающе маячила на уровне глаз, нафталинные перья лезли в нос. Я чихнул и врезался носом в панель с кнопками. Капнула кровь. Нина Михайловна, вскрикнув, схватила меня за руку, потащила к себе домой, вручила бинтик, смоченный лекарством, — по мерзкому запаху я догадался, что это нашатырь. Тогда-то я и присмотрелся к Антонине, которая вышла из своей комнаты, услышал ее стремительную машинописную дробь. Обрадовался: соседка-машинистка! Мечта графомана.
Нина Михайловна утверждала собственный стиль существования, заключающийся в отсутствии всякого стиля, то есть в смешении несовместимого. В самом облике Нины Михайловны наблюдалось странное смешение возрастных черт. Ей было за сорок, фигура, однако, оставалась девичьей. Зато волосы поседели до срока. То была какая-то иссиня-белая, ледяная седина. При быстром взгляде на Нину Михайловну было неясно: то ли девушку загримировали под старуху, то ли старуху под девушку. Ярко-голубые, полные жизни глаза не сочетались с глубокими морщинами на лбу и вокруг рта. Румянец на скулах — с точно склеенной из лягушачьих лапок кожей на шее. Молодой звонкий голос — с безвольной, старческой походкой. В средневековье уже один внешний вид Нины Михайловны вызвал бы подозрение. «Юродивая, вон эта юродивая», — шептались настоящие старухи на лавочке, когда Нина Михайловна проходила мимо них, держа в одной руке папиросу, в другой хозяйственную сумку. Сзади катилась черным мячиком любимая собачка — спаниелька Евка. Старухи не решались делать вслух замечания, что собака без поводка, ибо уже был случай, когда ангельским голосом Нина Михайловна произнесла такие безобразные, уместные разве лишь в устах какого-нибудь боцмана, слова, что на мгновение показалось: в нее вселился сатана!
То было время безнадежного воссоздания чукотского романа, сидений в библиотеке, писания так называемых рассказов. То было время их возвращения из всех редакций. Поездки в Ленинград, объяснения с отцом, если только это можно назвать объяснением. Был опубликован материал о дизайнерах из Инженерного замка, получен первый после долгого перерыва гонорар, смехотворный в сравнении с прежними моими северными заработками. В редакции я прочитал статью Сережи Герасимова «Не верю!», имел бессмысленный тупиковый разговор с Игорем. Потом мы быстро ехали на машине по ночной Москве. Приехали к Игорю в пустую квартиру, где над его запыленным письменным столом висела огромная фотография маленькой дочери.
Игорь снял пиджак, бросил на спинку стула. Некоторое изящество проглядывало в его квартире: пушистый ковер на полу, сверкающие металлические кренделя в прихожей, забавные обои — целая картина во всю стену — озеро, деревья на берегу, лодочка плывет. Пошловато, но красиво. Изящество, однако, было каким-то незавершенным и как бы вело спор с запустением. Причем у запустения было больше шансов победить. Чувствовалось, Игорь украшал-украшал квартиру, а потом разом бросил. Одной полоски в картине не хватало, пол был отциклеван только в прихожей, дверца встроенного стенного шкафа не была посажена на петли, стояла прислоненная. Ощущалась также беззащитность Игоря перед бытом: в кресле ком нестираных рубашек, на столе грязная посуда, тарелка, послужившая уже и пепельницей. Похабно и торжествующе из нее торчал окурок, этакое знамя разлада. Все это, а также немедленно извлеченное из холодильника шампанское свидетельствовало, что Игорю сейчас несладко.
Он опустился в крутящееся кресло, немного покрутился. Несмазанное, кресло противно скрипело.
— Вот так, — Игорь обвел рукой комнату. — Комментарии, думаю, излишни.
— Излишни, — подтвердил я.
— Ты удивительный человек, — усмехнулся Игорь, — почему-то тебе ничего не хочется рассказывать. Я и не буду. Давай-ка лучше выпьем.
— Скажи, — спросил я, — а тогда в Ялте, помнишь, мы говорили на эту тему, ты еще только собирался жениться. Ты знал, что все именно так кончится?
— Вот поэтому тебе ничего и не хочется рассказывать. У тебя болезненная мнительность. Разве можно так ненавидеть людей, Петя? — Игорь выстрелил пробкой. Не ко времени был этот салют. Разлил шампанское по фужерам. Закипела холодная пена. Ей было тесно, как злобе. — Даже если знал, — посмотрел на меня Игорь красными кроличьими глазами, — допустим. Что я, по-твоему, сейчас счастлив? Ликую? Похож я на человека, переживающего исполнение желаний?
В какую бы сторону Игорь ни смотрел, взгляд его всякий раз останавливался на огромной фотографии дочери.
— Но я все-таки не знал. Не знал, — повторил он, словно самого себя убеждая. — Не знал, и хватит об этом.
Тогда, помнится, тоже почудились мне стеклянные колпаки. Час назад Игорь не принял всерьез мои слова о статье Сережи Герасимова, сейчас я не верил в искренность его переживаний. Не столько переживания мне тут виделась, сколько растерянность перед запустением, пылью, грязными рубашками, пустым холодильником.
— Что ж, в любом случае, — я смотрел, как всплывают в фужере миллионы микроскопических пузырьков, — ты теперь чист и свободен. Ты ведь к этому стремился? Один. В Москве. На службе. С квартирой. И главное, чист и свободен.
Игорь поднял глаза. Я понял, он до конца жизни не простит мне этого «чист». Ибо здесь была отгадка. Расставшись с нелюбимой женой, он как бы возвращал своим помыслам чистоту. Не было брака, чтобы остаться в Москве, не было так называемого разумного компромисса. Вот только дочь. Здесь, похоже, Игорь был не властен над своими чувствами.
Я сам не знал, чего добиваюсь. Скорее всего, ничего конкретного. Просто мне хотелось утвердиться в мнимой какой-то правоте, в той правоте, которая не приносит удовлетворения. Ведь чем большее число людей считать плохими, тем меньше придется впоследствии разочаровываться. Что с того, что я был прав в Ялте? А ничего. Я это понял, но уже поздно было перестраиваться.
— Ты… — от волнения Игорь начал заикаться. — Почему ты так беспощаден к людям? Мне и так хреново, з-зачем еще твои булавочные уколы? Стоит только тебе увидеть точечку греха, и человек весь для тебя черный. А кто дал право тебе судить-рядить? И с чем, с кем ты сравниваешь людей? С господом богом? Или с собой? В таком случае… Помнишь, ты рассказывал мне про девочку-чукчанку? Ты ведь ее бросил, подло бросил. А не разговаривать годами с матерью только из-за того, что она, видите ли, во второй раз вышла замуж, — это, по-твоему, нравственно? Мне неприятно продолжать этот разговор, но давай разберемся. И давай как-то иначе строить наши отношения. В конце концов, я тебе не младший брат, а ты мне не пастырь-наставник.
— Я не беспощаден к людям, — ответил я, — вернее, не ко всем людям. А только к тем, кто их презирает, в грош не ставит. Ты печатаешь статью идиота Герасимова, а в душе смеешься над ним, над его папашей, над десятью миллионами читателей. Отрекаться от родного отца — где же тут разумное, доброе, вечное? Это цинизм, Игорь, и мне не нравится, что ты воспринимаешь это так, я бы сказал, легко.
— Да что мне, волосы рвать на голове? — пожал плечами Игорь. — Это частный случай.
— Так тем более нельзя было пускать в газету!
— У тебя какое-то превратное представление о газете, — усмехнулся Игорь. — Чем не тема? Неужели ты никогда не ругался со своим отцом? И не было у тебя желания послать его куда подальше? Не верю.
— Это бессмысленный разговор! — разозлился я.
— Ага, значит, все-таки ругаешься с папашей, — довольно засмеялся Игорь.
— Мне кажется, — я почувствовал, проклятая волна «до конца» подхватила, понесла меня, — нет смысла продолжать этот разговор! Мы не понимаем друг друга. И уже, наверное, не поймем. Я пошел.
— Как тебе угодно, — ответил Игорь. — Только сейчас поздно. А я вроде зазвал тебя в гости. Куда ты на ночь глядя?
— Ничего. Доберусь. — Я ушел, хлопнув дверью.
Так я расстался с единственным другом.
…То было время ощущения тупика, пустоты и, как следствие, водки. В алкогольном безумии картина мира смещалась к лучшему. Все вокруг мнилось второстепенным, главное же я носил в себе, почти физически ощущал некий золотой слиток в душе — эквивалент истины в этом мире. Чем больше я пил, тем благороднее и тяжелее становился слиток, тем торжественнее было обладание им, тем выше воспарял я над окружающим ничтожеством. Но спроси кто: что же это за такая истина, я бы и не подумал отвечать, только посмотрел бы надменно. Кому я должен давать отчет? Кому, ха-ха-ха! Утром же, странное дело, золотого слитка как не бывало. Утром накатывала потливая пугливость, посещало сознание собственного убожества. Уже казалось естественным начинать день в пивной на Ленинских горах, смотреть расплавленными глазами на Москву-реку, на белые речные трамваи. С каждой выпитой кружкой вновь утяжелялся слиток, вновь я возносился над повсеместной бездуховностью. То были бессмысленные качели, ступени вниз. Если представить себе человеческую жизнь в виде бесконечно нанизывающейся цепи дней, то моя цепь ослабла, провисла, все больше появлялось в ней лишних, случайных звеньев. То я ночевал на даче в Подрезкове у какого-то сценариста, то проводил всю ночь в компании архитекторов в старом доме с башенками на улице Богдана Хмельницкого. Когда рассвело, полезли зачем-то на крышу, орали, обнявшись: «Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Светило-Ярило!» Замельтешили ненужные женщины. Возникали в цепи и совсем потусторонние звенья — тени прошлого. Так, душным июньским днем в прохладной пивной Дома журналистов явилось предо мной длинное лицо Ирочки Вельяминовой. Ирочка показалась похожей на воблу: такая же хрящеватая глупая голова, впалые щеки, большие глазницы. Ха-ха! Я хохотал, зажмуривал один глаз, видел Ирочку. Зажмуривал другой — воблу в косынке. По причине раннего времени посетителей было мало. Для тех же, кто здесь начинал день, день был уже не в счет. Меня охватило привычное лихорадочное возбуждение, знакомое каждому пьющему человеку. Вновь день псу под хвост, вновь отдаюсь я со своим золотым слитком на волю случайных людей, непредсказуемых обстоятельств. И Ирочка неизвестно почему развеселилась. Заявила, что разводится с мужем, — только что подали документы, — и мы, прихлебывая пиво, обсудили поведение мужа — не то вулканолога, не то спелеолога, который залез в пещеру, в рубиновую глотку вулкана и не желает, совершенно не желает оттуда вылезать хотя бы на пару месяцев в году, хотя бы для исполнения своих супружеских обязанностей! Он сидит в пещере, в рубиновой глотке вулкана целый год напролет. Разве можно жить с таким мужем? Ладно бы хоть деньги присылал, так ведь нет! Что остается бедной женщине? Ирочка поглядывала на часы, из чего можно было предположить, что некоторые утешения бедной женщине все же остаются. Вскоре появился и кавалер… Сережа Герасимов. Я бы не сказал, что его появление сильно меня огорчило, как-никак знакомая личность. Радости, однако, оно тоже не вызвало. Единственно, было непонятно: зачем он Ирочке? Видимо, то было очередное, столь частое у женщин, затмение.
Сережа искренне обрадовался мне, причин ненавидеть меня у него, в общем-то, не было.
— Чего ты делал столько времени на Чукотке? — спросил он.
— Вопрос, на который настоящему мужчине не так-то легко ответить, — усмехнулась Ирочка.
— Ничего особенного, — ответил я, — жил. А ты здесь чего делал?
— Я познавал жизнь, — просто ответил Сережа. — Ты не поверишь, но я иногда жалел, что ты поехал на Чукотку, а не я. Я работал таксистом, официантом, проводником, речником… Кем еще? Ах да, механиком на элеваторе.
— Да разбираешься ли ты в технике? — засомневался я.
— В необходимых пределах, — успокоил меня Сережа.
Я смотрел на его толстенькие ладони. У механика на элеваторе таких быть не могло.
— Еще я расплевался с папашей, — продолжил Сережа, — живу где придется. У тебя никто из знакомых квартиру не сдает? — Он вспомнил про Ирочку, нежно обнял ее. Каким-то неуловимым движением распахнул портфель, как фокусник, извлек оттуда соленую рыбку, бутерброды, пивные сухарики в иностранном шебуршащем пакете. — Башка раскалывается, — признался Сережа.
А Ирочке до второго замужества, до режиссера народного театра, мечтающего поставить на сцене ДК трагедию «Тамерлан», оставался, кажется, год. Ирочка еще не жила в двухэтажном домике напротив Госплана, не узнавала погоду по отражению неба в окнах стеклянного гиганта. Ирочка была по-прежнему симпатичная и милая, вот только седых волос заметно прибавилось. Она все так же заведовала отделом в научно-популярном журнале.
Мы пародировали жизнь за столиком, уставленным пивными кружками и закусками. Скажи кто-нибудь полтора года назад, что вот так, совершенно спокойно, я буду распивать пиво в обществе Ирочки и ее очередного поклонника, я бы скорее застрелился, чем поверил, что так может быть. Стало быть, сейчас я пародировал себя прежнего: юного, влюбленного. Пародировал заодно и непризнанного писателя: пьянствовал с утра в то время, как надо было принимать решения. Золотой слиток вдруг пропал. То был не слиток, подумал я, а концентрированная пустота, составленная из псевдоумных фраз и мыслей, агрессивного инфантилизма, глупой обиды на мир. Надо встать и уйти, подумал я, немедленно встать и уйти, но… только сильнее прихлебнул из кружки. «Завтра, — привычно успокоил себя, — завтра начну новую жизнь. Сегодня уже поздно».
Ирочка пародировала жену. Муж сидел в пещере, в рубиновой глотке вулкана, она же проводила время с кудрявым циником Сережей, который, впрочем, пока вел себя прилично. Цинизм, вероятно, может быть терпим в малых дозах, как игра. Как мировоззрение он непереносим. Сережа это понимал, поэтому держался изо всех сил. Слава проходимца была ему ни к чему. Однако я не сомневался: мысленно он ведет второй план, где происходящее предстает в ином свете. Уж там-то Сережа себя не сдерживает. Подстраиваясь под Сережу, Ирочка пародировала не только жену, но и современную эмансипированную женщину, свободную от предрассудков, не требующую ничего. Это было так несвойственно Ирочке — не требовать ничего.
И только Сережа никого не пародировал, потому что сам был хуже всякой пародии.
Окуная нос в пиво, я думал, что жизнь есть причудливое, непредсказуемое движение вечных, а потому абстрактных, и сиюминутных, а потому бесконечно близких, идеалов, их взаимопроникновение, смещение, образование новых химер. Я мучительно вглядывался в Ирочкино лицо, но ничто во мне не отзывалось. Мне же так хотелось вернуться в прошлое, воскресить хотя бы тень прежних чувств. Мне так хотелось пародировать страдание. И возможно, вполне удалось бы, не будь здесь самой Ирочки, не сводящей глаз с Сережи. Не будь Сережи с его гнусным вторым планом. Так мое романтическое прошлое пародировало себя в настоящем. Живая вода превратилась в мертвую, а где, на каком извиве древнегреческой реки это произошло, я не знал. Выходило, причудливое, непредсказуемое движение вечных и сиюминутных идеалов вырождалось в некую спираль пародирования, где все теряло первоначальный светлый смысл, во всем виделось некое уродство, несовершенство, надо всем можно было только горько посмеяться.
Появление Сережи Герасимова поэтому показалось мне символичным. Я вспомнил, как в школе учительница химии дала нам долгосрочное домашнее задание: вырастить в стакане кристалл. И я ревностно взялся его выращивать, изумляясь, как из раствора, из соленого химического небытия выламываются тонкие хрустальные побеги, складываются в некое подобие ствола, веток, даже листьев, пародируя тем самым живую природу. Дело было зимой. Каждое утро заиндевевшее окно тоже являло загадочные узоры — отпечатки неведомых, доисторических папоротников. В странном оцепенении наблюдал я мертвую жизнь, упорно цепляющуюся за живые формы. Тут заключалась какая-то загадка. Бесконечность усыпанной звездами Вселенной, живые матрицы, наложенные на мертвую природу, тупиковая, сравнимая разве лишь с бесконечностью Вселенной, безысходная мысль о смерти — весь фаустовский набор сомнений накатился в четырнадцать лет, привел к извечному раздвоению. С одной стороны, скорее хотелось все в жизни познать, испытать. С другой, как отрава, вопрос: а чего суетиться, если все равно умрешь?
То было в четырнадцать лет. Однако и нынешний наш разговор напоминал безжизненный, растущий в соленом небытии, кристалл.
Я вдруг обнаружил, что Сережа давно и нетерпеливо допытывается, читал ли я его знаменитые статьи.
— Да. Это здорово, старина, — ответил я, но подобная лаконичность не удовлетворила Сережу. Он умел напористо говорить, он, должно быть, нравился юным, желающим посвятить себя журналистике, девицам. Вот только при чем тут дура Ирочка? Ах да, очередное затмение.
— Надо описывать не жизнь, — снисходительно учил меня Сережа, — а изломы жизни. Жизнь, видишь ли, всегда на изломе, надо только уметь видеть. Бери себе излом поинтересней, зарывайся в него носом, вдыхай его, как наркотик, живи им, а потом отряхни наваждение и пиши. И тогда тебя будут читать, каждая твоя статья будет маленькой сенсацией. Я начал с наипростейшего, — он постучал толстым дном кружки о стол, привлекая внимание парня за стойкой, но того не было на месте. — Любая профессия — айсберг, чистая маковка которого всем мозолит глаза, грязная же подошва наглухо упрятана от посторонних глаз. Что может быть обычнее и в то же время таинственнее профессии? Мне кажется, душа человеческая смотрится в профессию, как в зеркало. Знаешь, что делают официанты? После ста пятидесяти граммов коньяка вкусовые рецепторы человека анестезируются, во всяком случае ты уже не различишь, что тебе принесли в графинчике: три звездочки или «КВ». А тебе принесли ни то и ни другое.
Тебе принесли разбавленный коньячный спирт, купленный у проводников, которые в свою очередь купили его у рабочих винзавода, а те с помощью насоса слили его со дна цистерн. Я, конечно, излагаю примерную, так сказать, схему. Возможны бесконечные варианты. Знаешь, сколько имеет летом, скажем, проводник с поезда Москва — Баку? Неужели ты не читал мои статьи?
— Я читал последнюю.
— Когда я уволился из официантов, написал статью, они прислали в редакцию коллективное письмо: дескать, не все плохие. Когда устроился проводником, под Кокчетавом меня выбросили из вагона, к счастью, на мягкую насыпь. Целый вагон, ты представляешь себе, целый вагонище, только вместо почты — дыни! Забавная штука — эти профессиональные тайны. Человек любит читать правду про других людей, но не любит — про себя конкретно. Каждый почему-то кажется себе богом, не подходящим ни под какие правила. А между тем все как миленькие подходят. Да, профессиональные тайны, — Сережа вздохнул, посмотрел на Ирочку. — Ну, нашу-то мы сохраним! — вдруг весело ей подмигнул. Ирочка опешила. Она, судя по всему, не привыкла еще к внезапным наплывам второго плана. — Эй! — рявкнул Сережа парню за стойкой. — Где ты шляешься? Принеси-ка, дружище, пивка. И рыбки. Надеюсь, у тебя найдется рыбка?
— Поймаем! — бодро отозвался «дружище».
— Как мало осталось в людях достоинства и благородства, — задумчиво произнес Сережа. Его взгляд — взгляд новоявленного печальника по утраченным человечеством добродетелям — затуманился. — Мало… Когда-то я сильно по этому поводу переживал, но потом понял, почему так.
— Почему же? — заинтересовался я.
— Никто не хочет жить вопреки логике жизни. Что такое личность? Прежде всего, это поступки. Поступки же всегда чему-то вопреки. Надо совершать над собой насилие, проламывать головой стену. Кому охота? А как только человек уступил, смирился, достоинство, благородство — это уже призрачные для него понятия. Хотя, конечно, какое-то время он еще пыжится… — Сережа подмигнул на сей раз мне, и я понял: это камни в мой огород. — Смотри веселей, Ирина! — вдруг заржал Сережа, как конь. — Свадьбы у нас не будет. Жить негде, да и особенно не на что. Так и сдохну холостым.
Мне захотелось треснуть Сережу кружкой по голове, слишком уж густо пошел второй план. Ирочка улыбалась, но как-то натянуто.
— Я обязательно должен это слушать? — спросил я. — Мне, конечно, плевать, но…
Ирочка злобно отхлебнула из кружки. Она мне показалась диковинным зверьком с узенькими китайскими глазками и тупым стеклянным хоботом. «Как же она это терпит?» — мне стало смешно.
— Ты не Настасья Филипповна, — сказал я Ирочке, — а твой дружок не Рогожин. Я, возможно, похож на князя Мышкина, не спорю. Пока, ребята!
— Подожди, — удержал Сережа. Как раз подошел официант с кружками и подпольной, завернутой в бумагу, рыбой. — Столько времени не виделись. Чего ты лезешь в бутылку?
— В кружку, — сказал я, — лезу в кружку.
Сережа рассмеялся. Второй план до поры затаился. Это был прежний обаятельный Сережа, шалун, вместо которого я поехал на Чукотку.
— О чем, старик, — ласково посмотрел я на него. — О чем нам говорить? Мне и тебе? О чем?
Странная возникла пауза.
Странное возникло ощущение, будто пиво наполнило меня, как пустой жбан, и теперь плещется на уровне глаз. Еще глоток, и корни волос окунутся в пиво.
— Найдем о чем, — сказал Сережа, — сейчас выпьем и найдем. Так не бывает, чтобы хорошим людям не о чем было говорить.
— Слушай, — спросил я, — зачем ты написал эту галиматью про своего папашу? Ты что, спятил?
— Ты не журналист! — заявил Сережа. — Извини, но ты не журналист, если задаешь такие вопросы. Я всегда это знал. Ты мещанин с покушениями на абстрактные добродетели. С покушениями, не более того.
— Не возражаю, — ответил я, — но я хоть всенародно не отрекаюсь от своего отца. И потом, не вижу ничего плохого в определении — мещанин. А покушения на добродетели — это вообще комплимент!
— Папаша переживет, — сказал Сережа, — сам-то он давно от меня отрекся. Он, если хочешь знать, от всего на свете отрекся. Помнишь, даже не пошевелился, когда меня хотели вышибить из университета. Но дело не в этом.
— В чем же дело?
— А в том, что ты мне завидуешь, — засмеялся Сережа. — В том, что меня знают все, а тебя никто! Мою статью про папашу все читали, твою же про этих дизайнеров — никто. Наверное, и сами дизайнеры не читали. Так с какой такой вершины ты меня судишь? Кто ты такой?
Я подумал, что через стол Сережу не достанешь. Главное, сразу не спугнуть его. Улыбнувшись, я медленно пошел вокруг стола.
— Кстати, о папаше, — зорко следил за моими перемещениями Сережа, — он напишет пьесу на эту тему. Как сын, так сказать, плюнул отцу в душу. Не все же ему писать про ударников производства?
Мы ходили вокруг стола, как два кретина.
Сережа озабоченно посмотрел на часы.
— Ирина, я предупреждал: в двенадцать у меня деловое свидание. Мы встретимся с тобой здесь у входа через два часа. Идет? Счастливо, Петя, рад был тебя повидать. Да не ходи ты за мной с такой рожей! У меня разряд по каратэ, я тебя вырублю!
— Сволочь! — крикнул я, но только Сережина спина мелькнула в дверях. Он ушел, предоставив мне расплатиться за пиво и дефицитную рыбу.
…В голове шумело пиво. Мы с Ирочкой оказались в неожиданной тишине.
— Пойдем отсюда, — сказала Ирочка, когда я расплатился.
Мы медленно шли по Калининскому проспекту, по серым квадратным плитам мимо пряничной, как бы в насмешку оставленной на бугре, церкви, где почему-то разместилась выставка аквариумных рыб.
— Я знаю, что ты думаешь, — дернула меня за рукав Ирочка, — и хочу внести ясность: никаких отношений у меня с ним нет. Он мне нужен исключительно для дела. Я хочу заказать ему один материал.
— Хоть два, — ответил я.
Мы зашли на выставку, зачем-то сделали записи в книге отзывов. «Петя, я не вру!» — готическим почерком вывела Ирочка. «А хоть и ври, мне-то что?» — криво нацарапал я.
Происходящее казалось сном. Вспоминая свою убогую полемику с Сережей Герасимовым, я сжимал кулаки. Это не Сереже, а сытому, порочному, равнодушному, наглому миру я не сумел возразить, достойно ответить. Ну что мне стоило не ходить вокруг стола, как коту ученому, а хотя бы выплеснуть ему в морду опивки! Мрачные эти мысли находились в противоречии с ясным весенним днем.
Ирочка, Сережа… Да как я оказался с ними за одним столом? Бежать, немедленно бежать! Но вместо этого уныло плелся за Ирочкой.
— Петя, где чувство юмора? — спросила Ирочка. — Ты мрачен, как хромис-красавец. Помнишь, тот синий в угловом аквариуме.
Я лишь пожал плечами. Читать мораль Ирочке было по меньшей мере глупо.
Тем временем погода изменилась. Тучи, словно псы, вцепились в солнце, закрыли его мохнатыми телами. Полил дождь. Он мгновенно перекрасил серые плиты тротуара в черные. Мы укрылись в летнем кафе за столиком под полотняным красным зонтом. Барабанили капли, мимо проносились люди, но, к счастью, возле нас не было лишних стульев. Сама природа, казалось, противилась моему расставанию с Ирочкой.
— Петя, — сказала Ирочка, — будь джентльменом, принеси бывшей возлюбленной чашечку кофе.
— Ага, — усмехнулся я, — прямо из-под дождя. Этот козел, твой нынешний возлюбленный, тебе ничего не принесет, это уж точно!
— Так, — достала из сумки сигареты Ирочка, — проснулось наконец чувство юмора, — посмотрела на меня, словно впервые увидела. — Значит, ты действительно ему завидуешь. Я тебя понимаю, дружочек, он ведь умнее, сильнее тебя. Ты пытался говорить ему гадости, это выглядело жалко. Он талантлив, вот в чем дело, вот что тебе не дает покоя. У него пока все получается, а ты… — Ирочка вздохнула. — Ты ничтожество, Петенька, жалкое ничтожество, способное говорить лишь гадости в пивной! — Она вдруг вскочила и попыталась залепить мне оплеуху. Я схватил Ирочку за руку, она толкнула меня, мы упали на пол. Падая, я зацепил ногой стол, с него посыпались чашки, блюдца.
— Все в порядке! Все в порядке! Все в полном порядке! — бормотал я как заведенный, помогая Ирочке подняться, собирая осколки. Гремел гром, хлестал дождь, поэтому наше падение не привлекло всеобщего негодующего внимания.
— Поскользнулся, — объяснил я подскочившей тетке. Сунул рубль.
— Поскользнулся… Знаю я, как ты поскользнулся, рожа! — ответила она.
— Все в порядке, мамаша! — я оглянулся. Ирочки не было. Она как сквозь землю провалилась. Это было единственным радостным для меня событием в тот день.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
То было время незавершенных споров, зыбкого качания в мыслях, когда, отвергая, я ничего не мог предложить взамен. Дома я подолгу просиживал в прихожей, слушая тиканье часов. В надменном «тик-так», в червячном ползании стрелок чудилась некая враждебность, будто часы старались вытолкнуть меня за круг обыденной, текущей жизни, поставить на грань, откуда лишь шаг до истерического безумства, а то и до безумия.
Подобные отношения со временем были у меня в детстве. Я тогда учился в первом, а может, во втором классе. Мы жили на Невском, в двух узеньких, как пеналы, оклеенных красными обоями комнатах. Это была первая наша квартира. До этого всё снимали. По какой-то причине ключи от нее мне не доверяли, и, если родители вечером задерживались, я продолжал гулять по двору, потому что больше деваться было некуда. Мамаши высовывались из окон: «Дима!», «Коля, домой! Быстро!» Друзья исчезали в подъездах, я оставался один. В воздухе разливалась синева, солнечная закатная полоса ползла по дому вверх, таяла в небе. О как горько было смотреть мне на зажигающиеся окна! Там читали, пили чай, смотрели телевизоры друзья-приятели, я же в силу неведомых обстоятельств вынужден был находиться во дворе. Темнело. Я начинал кружить вокруг дома. Входя в подворотню, закрывал глаза, делал несколько шагов вслепую, стараясь оттянуть момент обозрения окон. Вдруг они уже зажглись? Вдруг родители вернулись? Но нет. Двумя черными дырами зияли окна. Но вдруг я ошибся? В сотый раз пересчитывал окна на стене. Нет, увы, девятое и десятое — мои — не горели. Однажды, вышагивая вслепую из подворотни, услышал пронзительный визг тормозов. «Ты что… твою мать! Куда прешь!» — орал из кабины грузовика шофер.
Закрывались магазины. Выводили на вечерние прогулки собак. Мне было мучительно нечего делать во дворе. Я шел давно разработанным маршрутом в две с половиной тысячи шагов. Сначала по улице Гончарной, по узенькому тротуарчику до Московского вокзала. Огибал вокзал, сворачивал на Невский, возвращался к дому с другой стороны, уверенный, что теперь-то уж окна горят, родители дома. Но нет. Опять не горят. Значит, на второй круг.
Совершая эти вечерние круги, я ненавидел родителей. Но еще больше ненавидел огромные круглые часы на башне вокзала. Это их черные носатые стрелки были во всем виноваты. «Послушай, — обращался я про себя к минутной, — когда ты будешь на цифре шесть, пусть они придут домой. Пусть, ладно?» Но стрелка равнодушно перескакивала через «шесть», «семь», «восемь». По-прежнему темны были окна. Я возненавидел время за его лживый, змеиный характер. «Который час?» — спрашивал у прохожего. «Двадцать пять десятого». Я спохватился, что последний раз был возле дома целых десять минут назад! Они, наверное, уже пришли! Бежал как сумасшедший под свои окна. «Который час?» — «Двадцать минут десятого», — отвечал новый прохожий. В какую же сторону движется время? Неужели мне опять делать круг? О как мне хотелось швырнуть камень в гнусные черные стрелки. Не будь их неостановимого движения, я бы так не мучился. Стрелки бесстрастно свидетельствовали, что для всех в мире что-то происходит, только не для меня. Я оставался наедине со своей тоской, сам, как стрелка, кружил по замкнутому кругу: Гончарная — Московский вокзал — Невский. Это продолжалось, пока наконец окна не загорались. Я несся домой, глотая слезы, все на свете прощая родителям за их возвращение. Время теряло надо мной силу до очередного вечернего кружения.
Однажды они слишком уж припозднились. Я докуривал в подворотне вонючий окурок, наблюдая, как проносящиеся машины веером разбрызгивают лужи. Помнится, собственная жизнь впервые показалась такой же ненужной и горькой, как папиросный дым. Я подумал: «А нужен ли я кому? Зачем живу?» Хотелось броситься под машину, убиться, но при этом как бы остаться живым, чтобы увидеть, как они будут надо мной плакать, переживать. Только для этого. Растревоженный этой мыслью, я сам заплакал, побрел вверх по лестнице, долго слушал, что там, за моей дверью, но там тихо.
— Петя? Иди сюда.
— А? Что? — я отскочил от двери, кулаком вытер слезы.
Старушка соседка Наталья Дмитриевна взяла меня за руку, ввела к себе в квартиру. В комнате, в кресле под белым чехлом, сидела ее сестра Мария Дмитриевна и добро смотрела на меня из-под очков. Я очутился в тишине и покое. Через минуту мыл руки в ванной, а потом сидел за круглым столом, уставленным чашечками и розеточками. Все показалось мне необычайно вкусным. Квартира старушек была обломком прежнего быта, о котором я позже читал в книгах. На стене фотографии в кожаных рамках — усатые лица в офицерских фуражках. Этажерки, обтянутая шелком ширма, тяжелая бронзовая лампа под зеленым стеклянным абажуром. Часы здесь тикали мягко, неторопливо. После промозглых подворотен я очутился за столом. За стеной в темноте безмолвствовала моя квартира. Мы пили чай. За окном лил дождь. Мария Дмитриевна раскладывала на небольшом (позже я узнал, он называется ломберный) столике пасьянс «Могила Наполеона». Я не мог отвести глаз, зачарованный лицами карточных королей, дам, валетов, игрой, тайной: где, в каком углу могила Наполеона? Наталья Дмитриевна исподволь укрепляла мое знание русского языка старинным рассказом, смысл которого зависел от знания правил слитного и раздельного написания слов. Речь там шла о садовнике, который в одном случае вполне безобидно продал настурции, то есть цветы, в другом же — совершил куда более тяжкий проступок — продал нас Турции, то есть оказался турецким шпионом. Действовала в рассказе и некая маркиза для окон, то есть полотняная тряпка, которая внезапно превращалась в маркизу Д’ ля Окон, почти что персонаж из «Трех мушкетеров». Чай тем временем был допит, могила Наполеона определена, в рассказе все встало на свои места. Мне вручили книжку с загадками. На обложке была нарисована шляпа, откуда выглядывали симпатичные пушистые котята. Давно мне не было так хорошо. Вдруг голова как будто закружилась, в ногах возникла сладкая усталость. Я заснул прямо в кресле, положив на колени книгу, а проснулся утром в своей постели. С тех пор мне стали доверять ключи.
…Я вспоминал все это сейчас, много лет спустя, когда ни Марии, ни Натальи Дмитриевны уже не было в живых. Они умерли в один год. Какие-то родственники вывезли мебель и все прочее. Мария Дмитриевна умерла в больнице, а Наталья Дмитриевна дома, и я помню гроб, ее спокойное восковое лицо. Как раз в этот момент другие соседи выходили гулять с собакой — сеттером Климом. Он огласил лестничную площадку таким звонким, жизнерадостным лаем, что я, помнится, испугался: вдруг она услышит, проснется? Мне тогда еще было трудно разделить смерть и жизнь. Я стоял у гроба и думал, что ничем не отплатил старушкам за их доброе к себе отношение. Мне было стыдно и одновременно хотелось быстрей уйти, чтобы забыть про них, про гроб, про все.
Но я не забыл.
Сейчас я думал, что благодаря старушкам в детскую мою душу вошло убеждение, что в противовес всякой несправедливости в мире существует добро, которое как солнечный свет рано или поздно прорвется сквозь тучи, отогреет. В детстве я крепко надеялся на это добро и, как правило, добивался его от самых разных людей, не думая, должен ли что-то отдавать взамен. Но детство кончилось, и я как-то запамятовал про добро. Не то чтобы я разуверился. Были: жизнь, работа, любовь, страдания — все реальное, зримое, но вот «добро» незаметно перешло в разряд умозрительных категорий. Множество раз я начинал об этом думать и обязательно запутывался. «Думать» и «делать» оказывались понятиями неоднозначными. Может, именно в этом и заключается причина нынешних моих незавершенных споров, зыбкого качания в мыслях, когда, отвергая, я ничего не предлагаю взамен? Не верить в добро — значит, ни во что не верить! Простое это открытие изумило меня. Я со страхом думал, смогу ли сломать в душе лед и что вообще значит сломать этот лед? Вновь ли, как в детстве, кто-то скажет: «Петя? Иди сюда». Или же это я должен кого-то позвать? Но если кто-то и поверит мне, что я ему скажу?
Я сидел в прихожей, слушая тиканье часов, и не было мне ответа.
Внезапно за дверью почудилось робкое шевеление. Я знал, что в одной из квартир на площадке живет мальчишка лет семи или восьми. Неужели ему, как когда-то мне, не доверяют ключи? Неужели я сейчас открою дверь и увижу его, униженного, плачущего? Тогда мне остается только поверить в бога. Я распахнул дверь и увидел… Антонину, дочь Нины Михайловны. Она хихикала и никак не могла попасть ключом в замочную скважину.
— Хи-хи, Джек Лондон собственной персоной. Попробуй, а? Ключ не проворачивается.
Антонине — длинной, гибкой, смешливой, с ямочками на щеках, — было в ту пору восемнадцать. У нее были жиденькие светлые волосы, которые она то собирала в пучок, то вольно распускала. Широко расставленные глаза сообщали удлиненному лицу какое-то детское и одновременно наглое выражение. Довольно противненький смех уживался с наивным, как бы вечно удивленным взглядом. Определить по лицу, что думает Антонина, возможным не представлялось.
Я взялся ей помогать. Ключ сразу же упал на пол. Я нагнулся, она тоже нагнулась. Наши руки, нашаривающие ключ, неожиданно встретились. Мы поднялись и оказались как-то уж очень близко друг к другу. Я взглянул в широко расставленные глаза Антонины и… не увидел в них ничего, кроме наглости. Однако это была не та наглость, которая отвращает. Сердце у меня забилось, руки задрожали. Я воевал с замком, Антонина хихикала за спиной. Замок наконец поддался, я посторонился, пропуская Антонину. Она вошла, противно хихикая, потом неожиданно поманила меня пальцем. Мало что соображая, я шагнул.
— Привет, хи-хи!
— Я думал, там мальчишка, — пробормотал я, — наш сосед, ты его знаешь.
— Мальчишка? Фу… Как тебе не стыдно? — решила поиздеваться надо мной Антонина.
— Нет, я думал, ему не дают ключ от квартиры, как мне когда-то, и он вынужден ходить по двору, как… когда-то я. Я хотел позвать его, дать какую-нибудь книжку, чтобы ему не было скучно.
Зачем я все это говорю, я не знал. Скорее всего, от растерянности.
Сквозь неплотную, просвечивающую кофточку я явственно видел ее грудь. Я провел дрожащей рукой по ее прохладной спине и неведомым (шестым?) чувством почти физически ощутил, как выгибается эта спина. Я поцеловал Антонину в прохладные губы, но тут она вновь выронила ключ, мы вновь одновременно нагнулись и очутились на вытертом поблекшем ковре, подняться с которого уже не было никакой возможности.
Ошеломленный нежданной близостью, я курил, не глядя, куда сбрасываю пепел. Антонина весело напевала в ванной.
Вот тебе и мальчишка, которому не доверяют ключи. До сих пор я ухаживал за женщинами, звонил, ходил на свидания, дарил цветы, но чтобы вот так…
Антонина вышла из ванной. Остановилась посреди комнаты, расставив ноги, уперев руки в бока. Она стояла, покачиваясь с пяток на носки, вся светясь чистотой, юностью, красотой и непорочностью. При ней оставались: наглый взгляд, выгибаемая спина, противный смех. Антонина состояла из гармонирующих противоположностей.
— Ну, чем еще хочешь меня обрадовать? — усмехнулась она.
— Радуешь пока только ты.
— Тебе надо идти, сейчас мать придет. Мы с ней расстались у магазина, она встала за сосисками.
Я метнулся к двери.
— Не так быстро, очередь длинная. Где, кстати, все твои?
— На даче, — я шарил по ковру, искал носок.
— Под креслом. Между прочим, матери понравились твои рассказы. Ну те, которые я печатала.
— А тебе? — я не придумал ничего лучшего, как сунуть носок в карман.
— Мне? Хи-хи… Тоже. Но не все. Так ты что, один дома?
— Приходи, — сказал я.
Антонина засмеялась, потрепала меня по голове.
— Подумаю. Может, и приду.
Всю ночь я проворочался без сна, прислушиваясь к звукам за дверью. Антонина не пришла.
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Матрос, оформитель, чертежник, абитуриент — как называть его, сошедшего с поезда под башнями Казанского вокзала? Все его имущество — тощий рюкзачишка за плечами. Работы — картины, рисунки, акварели — едут в Москву малой скоростью в зарешеченном почтовом вагоне.
Он вышел на площадь трех вокзалов, взглянул на свои мятые, еще матросских времен, брюки, на рубашечку с короткими рукавами — холодновато в ней в Москве, — на разбитые сандалеты, опустил руку в карман, где сиротствовала тощенькая пачка денег, перетянутая резинкой, и подумал, что напрасно колеса выстукивали: «Анна! Анна!» Здесь, в Москве, он был никем. Это там, вдали, искусство якобы поднимало его над миром, уравнивало с небожителями. Здесь все было строго. Кто пил коньяк в ресторане, кто хлебал пиво у ларька. Кто мчался в черном «ЗИМе» под подобострастные улыбки милиционеров, кто брел окраинными улицами. Этот величественный город ему предстояло завоевать. «Анна, — неожиданно подумал он. — Помнит ли она меня? Узнает ли?»
Москва начала пятидесятых. Женщины в платьях со вздутыми рукавчиками, полувоенные мужчины. С расписных потолков над ресторанными залами пышногрудые красавицы как бы опускают снопы, корзины со спелыми фруктами. Необозримые кумачовые полотнища бормочут на ветру, невиданные высотные дома постепенно освобождаются от лесов, на перекрестках бренчат трамваи. Куда податься голодному абитуриенту? Он стоит на углу. Одесную бегут-спешат люди. Ошуюю — лавина машин. Никогда он еще не видел, чтобы сразу столько машин. Провинциальная спесь не позволяет спросить у прохожих, как добраться до Лаврушинского переулка. Там, рядом с Третьяковской галереей, будто бы заседает приемная комиссия. Но он вдруг вспоминает, что сегодня воскресенье. Значит, комиссия не заседает.
Чем очевиднее ему собственное ничтожество на шумных улицах среди занятых своими делами людей, тем сильнее хочется увидеть Анну. Допустим, она выгонит его. Что ж, одной мечтой меньше. А вдруг не выгонит, наоборот, обрадуется? Не все же в мире имеет материальное измерение? Мятые матросские брюки сейчас не позор. Вот если через десять лет у него будут такие же брюки, тогда позор. Может, пойти к ней после экзаменов, думает абитуриент, когда он поступит? Студенчество такое время, когда нищета, можно сказать, естественна. Так. Конечно, надо пойти к ней после экзаменов. Или все-таки до?
Он бродит по Москве до самого вечера. На Красной площади иллюминация, горят прожектора, столбы света уходят вверх, освещая макушки кремлевских башен. Это, конечно, красиво, но зачем единоборствовать с ночью, не понимает абитуриент. В естественном свете Кремль смотрится лучше. На Красной площади торжественно и строго. Часы бьют одиннадцать. Он останавливает такси, едет в общежитие института. Комендант показывает ему свободную койку в шестиместной комнате. «Ура, комплект!» — кричит один из абитуриентов, судя по акценту, грузин.
Вот они, художники, вот оно, искусство, вот она, жизнь, о которой он столько времени мечтал.
До поздней ночи продолжается товарищеский ужин. Засыпая, он вспоминает рассказ грузина, как тот ясной ночью писал башни древней крепости и звезды над ними.
Утром он идет в приемную комиссию, узнает, что первый экзамен по искусству на его факультете через два дня. Снова полдня бродит по Москве, а когда садится отдохнуть в каком-то скверике в центре, видит красную табличку на ближнем доме: «Московский государственный университет. Факультет журналистики». Поднимается в деканат, спрашивает у секретарши, как найти студентку Анну Машкину. «Анечку? — со странным испугом смотрит на него секретарша. — Вы ей кто? Родственник?» — «Нет, знакомый». — «Видите ли… На занятиях ее сегодня точно не будет. Но вообще-то она в Москве. Была в Москве…» — «Где же она сейчас?» «Она? Наверное, дома. Если только… Нет-нет! Скорее всего, она дома». — «Как мне ее найти? Скажите адрес». — «Адрес? Да-да, адрес, конечно, адрес». Секретарша пишет на бумажке. «Это близко. Пойдете по улице Горького, потом свернете. Второй дом». — «Спасибо». — «Скажите ей, что я… Что мы… Что все мы…» — секретарша никак не может закончить фразу. Абитуриент раздраженно пожимает плечами. Странный город Москва. Такое простое дело — назвать адрес, и столько ненужных волнений. Он идет по улице Горького, сворачивает, куда ему указали. Вот он, дом. Поднимается на четвертый этаж, читает надпись на бронзовой табличке. Все правильно. Абитуриент звонит. За дверью долгая тишина. Наконец легкие шаги. Сердце абитуриента бьется: «Анна! Анна!» Его более не смущают мятые матросские брюки, легкомысленная рубашка с короткими рукавами, дохлая пачка денег в кармане. «Цветы, — думает абитуриент, — надо было принести цветы». Дверь распахивается. На пороге стоит Анна. Лицо у нее бледное, а глаза красные. Она недавно плакала.
— Вы? Откуда? Я вас узнала, — говорит Анна. — Заходите.
— Спасибо, — абитуриент переступает порог.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Антонина вскоре исчезла, растворилась в солнечном свете. Как я узнал, она уехала вожатой в пионерский лагерь. Однажды утром я случайно высунулся в окно и увидел ее, пружинно идущую по двору с сумкой через плечо. Антонина была в голубом платье, словно в прозрачной воздушной скорлупке. Казалось, косые утренние лучи несут ее над асфальтом. Я, признаться, не очень представлял себе Антонину в роли пионервожатой, наставницы юношества. Там, вероятно, отыщется усатый физорг. Он изрядно скрасит Антонине ее педагогические будни. Глядя в окно, я подумал, что каждому рано или поздно достается такая вот Антонина — нежданная и непонятная. Она — свидетельство многомерности мира, бесконечной его вариантности, голубая дверь в неведомое, в которую далеко не всегда охота входить. Я не представлял Антонину в роли своей девушки, но все равно было грустно, что вот она уплывает куда-то, в воздушной скорлупке, а я остаюсь. С другой стороны, однако, чувствовалось и некоторое облегчение: к чему эта странная любовь на лестничной клетке? Еще я подумал, что Антонина — представительница нового, неведомого племени, для которого, например, «Битлз» уже история, как для меня узкобрючные джазисты с петушиными коками на головах.
Антонина уехала. Нина Михайловна, ее мать, по-прежнему изумляла общественность своими нарядами. То в белом, как саван, платье появлялась она во дворе, то в мерцающей космической накидке, словно пришелец из туманности Андромеды. Ночью, выходя гулять с Евкой, как привидение мелькала между деревьями. Красной точкой тлела папироса.
Как-то мы столкнулись на выходе из подъезда. Бушевала летняя гроза, безумием было выходить под летящие отвесные струи. Водосточные трубы, казалось, вот-вот лопнут по швам. В подъезде было темно, хоть свет зажигай. На голове у Нины Михайловны сидела круглая резиновая шляпа, какие носят китовые разведчики в Тихом океане.
— Петя, — ухватила меня за рукав Нина Михайловна, — мне понравились два твоих рассказа, из тех, что печатала Антонина.
— Спасибо. Какие? — вяло уточнил я.
Нина Михайловна сказала какие.
— Но, — добавила она.
— Конечно, — согласился я, — в наше время без но ничего не бывает.
— Я объясню, что имею в виду, — сказала Нина Михайловна.
По ней человеческое «я» вполне можно было уподобить некоему древу. Объективная трагедия древа в том, что оно система замкнутая: шелестит ли жизнерадостно кроной, воет ли от боли и несправедливости. Таково, к сожалению, естественное состояние древа. От всего оно в общем-то защищено, кроме единственного: от самого себя, от своей реакции на происходящее. Что-то одно может запросто заслонить многочисленное остальное, да так, что древо взорвется или засохнет. По мнению Нины Михайловны, истинное искусство рождается именно в процессе преодоления человеком-творцом себя как древа, как системы замкнутой. Не субъективные, зачастую истерические, представления о мире должны лежать в основе истинного искусства, а что-то иное, рано или поздно произрастающее сквозь обломки древа. Иное, по мнению Нины Михайловны, являлось как бы генами, атомами общечеловеческих радостей или болей. Они, эти атомы, гены, блуждают почти в каждой человеческой душе, заставляя ее, например, отзываться на прекрасное. Преодоление, разлом древа — замкнутой системы — вечная мука, тяжкий труд. Но только так рождается искусство. Иное — неуловимо, оно ничем не награждает. Разламывающий древо даже не ведает: поймут его или же труд его останется безответным?
Я всегда подозревал в Нине Михайловне склонность к зауми, но услышанное превзошло самые смелые мои ожидания. Я смотрел на ее шевелящиеся, поблекшие от табака губы, а перед глазами стояла Антонина, упругая, как весенняя ветка, сладостно выгибающая спину. Интересно: ведомы Нине Михайловне проделки дочери? И связан ли хоть как-то ее философический космос с самым родным, близким существом — дочерью?
Во всем этом чувствовался скрытый излом, неизбежный для каждой, даже относительно благополучной семьи, неизбежный даже в отношениях внешне монотонных, безоблачных.
Но я не хотел, не желал про это думать!
И вдруг неожиданно: так вот же Оно, древо. Думать, переживать значит ломать его. А я не хочу, не желаю. Оно дорого, безумно дорого мне именно в своей неприкосновенности. Все, что там есть, — мое. Так как же… ломать?
Нина Михайловна заведовала в издательстве отделом оформления. Придумывала оригинальные титулы, шмуцы, виньетки, заказывала художникам смелые обложки. Дома у нее была выставка несостоявшихся обложек. В свое время Нина Михайловна тоже закончила факультет журналистики, как и моя мать, только на несколько лет позже. Однако же работала не совсем по специальности. Хотя, конечно, оформление книги — это тоже журналистика. Масса фотографий осталась у нее с тех времен. Какие-то носатые девушки, вихрастые пареньки, все как один с папиросами в зубах. Пареньки, судя по многозначительным минам, относились к себе весьма серьезно, вели речь о галактиках, упрямо полагая, что им, именно им предстоит наконец разобраться с этим миром, переставить его на новые рельсы. «Такое было время, — вздыхала Нина Михайловна, — все ждали перемен. Особенное было время, Петя».
Она звонила своим друзьям, знакомым и говорила, что необходимо устроить на работу одного очень способного парня, то есть меня. Она прочитала его рассказы и видит в нем талант. Разве она когда-нибудь ошибалась в людях? В разговорах всплывали фамилии людей, которым Нина Михайловна помогла когда-то раньше, из чего я заключил, что хлопотливое участие — вечное состояние Нины Михайловны, ее знакомые к этому привыкли и по возможности идут ей навстречу. Нина Михайловна просила за человека просто так, без малейшей для себя выгоды, и это, несомненно, обезоруживало знакомых. Приличному человеку не пристало важничать и скрытничать, когда другой приличный человек просит за кого-то просто так. Волей-неволей приходилось принимать на веру слова Нины Михайловны и помогать неведомой, якобы очень талантливой личности. В наш меркантильный век Нина Михайловна сохраняла в себе то чистое, непосредственное, что с годами человек обычно утрачивает, старалась видеть в людях прежде всего хорошее. Если же искренне верить, что в человеке есть хорошее, тому нет причины скрывать его, если только оно действительно есть.
Спустя какое-то время мы вновь столкнулись возле лифта.
— Петя, — сказала Нина Михайловна, — вот тебе телефон, позвони. Возможно, с тобой захочет встретиться Андрей Иванович Жеребьев, я давала ему твои рассказы. Он работает в журнале, у него есть вакансия.
— Скажите, — спросил я, — зачем вам это надо? Я вполне искрение хочу понять: зачем вам это надо?
Нина Михайловна вдруг перестала улыбаться, сразу превратилась в глубокую старуху.
— Ты задаешь вопросы совсем как моя Антонина, — глухо произнесла она. — Я хочу сказать, одинаковые задаете вопросы. — И отвернулась, чиркнув меня по носу широкими полями очередной шляпы.
…Через месяц я трудился под началом Жеребьева.
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Абитуриент сидел у Анны до вечера. Она кормила его обедом, потом ставила пластинки, они слушали могучую классическую музыку. Абитуриент вспоминал склоны гор, поросшие диковинными фиолетовыми цветами, быстрые речки, где форельки подпрыгивают над водой, а в небе орел, похожий на черную рубашку, простирает крылья. Анна молчала, смотрела на телефон, который угрюмо безмолвствовал. Иногда она набирала номер, но всякий раз судорожно опускала трубку, глаза ее при этом наполнялись слезами.
— Куда ты звонишь? Зачем? — спросил абитуриент.
— Как же так? — Анна разговаривает сама с собой. — Случилась беда, и все вот так сразу… Где они? Я осталась одна, совсем одна.
Знаки несчастья метили квартиру. Черными следами на паркете, разоренными книжными полками, перевернутыми матрацами. На подоконнике сиротливо лежали круглые очки в никелированной оправе. Очки казались красноречивым пределом, разбившим жизнь на две половины: когда очки необходимы и когда уже нет в них особенной надобности.
— Папа, папа, — всхлипнула Анна. — Я пойду, надо пойти, хотя бы передать очки. Надо пойти туда, где все это.
— Туда идти бесполезно, — тихо говорит абитуриент. — Надо написать. По крайней мере тебе должны будут ответить. А идти туда незачем. Если хочешь, я сам схожу. Так. Узнаю, если только там что-то можно узнать.
Вчерашнее приобщение к миру художников, радужные надежды — все вдруг для абитуриента подернулось пеплом.
Постепенно стемнело. Музыку выключили, в квартире установилась мертвая тишина. На полу ковры. Анна куда-то ушла, вскоре бесшумно вернулась в длинном белом платье с блестками. Абитуриент никогда не видел таких платьев, разве только в кино.
— Мечтала надеть его на выпускной вечер, — прошептала Анна, — берегла, берегла зачем-то…
Заходящее солнце наполнило комнату зловещим холодным светом. Анна задернула занавески: «Так лучше. Чтобы ничего не видеть». Принесла тяжелый подсвечник. Абитуриент смотрел на снятую со стены фотографию отца Анны. Спокойное, доброе лицо в этих самых немецких никелированных очках. Взгляд усталый, привыкший к созерцанию чужой боли. Чутьем художника абитуриент понимает: такой человек вряд ли мог совершить что-то плохое.
Анна опять смотрит на телефон.
— Он должен позвонить. Он обязательно позвонит.
— Оттуда не звонят, — изумляется ее наивности абитуриент.
— Нет, не отец. Один мой… товарищ. Он закончил университет в прошлом году. Мы хотели… Мы с ним… — Анна беспомощно сжимает кулаки. — Ну почему он не звонит?
— Может, не знает? — Абитуриент не понимает, зачем она ему это говорит. Разве можно ему это говорить?
— Знает. Он знает, — уверенно произносит Анна.
— Стало быть, он трус. Так.
— Не смей! — на секунду Анна превращается в прежнюю, какой абитуриент рисовал ее на Апшероне. — Ты ничего не знаешь…
— Трус, — упрямо повторяет абитуриент, — и нечего тут знать!
Анна молчит.
Абитуриент удивляется, как легко она со всем смиряется.
Нервный огонек танцует над свечами. Часы пробили десять, потом одиннадцать.
— Мне здесь нельзя долго оставаться, — говорит Анна, — надо, наверное, куда-нибудь уехать. Но куда? Я прошу тебя, — хватает его за руку. — Надо продать вещи, мне хоть и запретили, но все равно. Кто-заметит? Давай завтра сходим в комиссионку, или… нельзя? Вдруг поймают?
Абитуриент гладит в темноте ее руку. Анна стала еще бледней, глаза кажутся фиолетовыми.
— Плевать. Конечно, сходим. Что хочешь, то и продадим.
— Два дня назад, — шепотом говорит Анна, — все в жизни было по-другому. Я не могла представить себе, что может произойти вот такое. Все летит в какую-то черную яму, и самое страшное, что я одна, совершенно одна.
Абитуриент думает, что, направляясь сюда, он мечтал, что Анна приветливо встретит его, быть может, они сходят куда-нибудь, посидят в кафе. Так оно и оказалось, только… не совсем так. Абитуриент вспоминает общежитие, где его ждут друзья. Смотрит на Анну.
— Мне, наверное, пора.
— Да-да, конечно, — равнодушно отвечает она.
Он медленно идет к двери, Анна провожает его.
— До свидания, — прощается абитуриент, — я приду завтра, ладно?
— Как хочешь. Приходи, — Анна пожимает плечами.
Он выходит на лестницу. Дверь мягко закрывается. Какая тьма на лестнице. В одной из квартир чувствуется робкое шебуршание, слышен звяк налагаемой изнутри цепочки.
На мраморном подоконнике сверкнула глазами кошка. Неплохо, думает абитуриент, написать когда-нибудь картину «Беда». Высокая, обитая кожей, дверь, пол перед ней затоптан черными следами. Под дверью валяются круглые очки в никелированной оправе, а на подоконнике вот так же сидит и блещет глазами кошка. Тут же ему становится стыдно. О чем он, когда Анна осталась одна! В белом платье с блестками в большой разоренной квартире. Телефон — вот единственная ее надежда. Почему-то абитуриенту неприятно думать об этом проклятом телефоне. Вдруг раздастся звонок? Вдруг тот тип позвонит? А она одна, совсем одна дома.
Он осторожно толкает дверь, она неожиданно подается. Абитуриент входит в прихожую. В комнате слабый свет. Он идет в комнату. Анна сидит в кресле, на столике перед ней телефон.
«Не позвонил», — облегченно вздыхает абитуриент. Он смотрит на Анну, поражаясь странной властности, вдруг появившейся в ее лице.
— Я вернулся, — говорит абитуриент. — Тебе было плохо одной, я вернулся, ты же не хотела, чтобы я уходил.
— Да, — спокойно соглашается Анна, — поэтому я и оставила дверь открытой.
Абитуриент вдруг опускается перед ней на колени, судорожно обнимает.
— Значит, завтра, — неожиданно четко произносит Анна. — С утра ты идешь узнавать. Потом по комиссионкам. Потом… Я не знаю, что потом. — Снова становится неуверенной, несчастной.
— Потом мы уедем, уйдем отсюда! — абитуриент выдирает из стены телефонную розетку. Теперь ему спокойнее. Потом он дует на свечи, они гаснут. В комнате становится совсем темно.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я по-прежнему один сидел в редакции, наблюдал, как сигаретный дым взвивается в открытую форточку. На карнизе мерзли, поджав лапы, голуби. За окном во внутреннем дворе ресторана кипела жизнь. Громоздились коробки из-под вина, грузчики возили на тележках огромные банки с ветчиной. Я подумал, что Нина Михайловна тоже сейчас сидит с сигаретой перед окном, только у себя дома, размышляет над очередным фортелем дочери. Конечно, Нина Михайловна этого будущего мужа и в глаза не видела. А может, так никогда и не увидит, потому что свадьбы не будет.
Еще Лесков писал, что много у нас на Руси женщин, которые терпят все, словно каменные, и никак не разберешь: не то она чувствует, что терпит, не то и не чувствует. Весьма строго обороняя свободу ходить в чем вздумается, гулять с Евкой где попало и в какое угодно время, изобретать вместе с молодыми художниками авангардистские обложки, Нина Михайловна, как мне тогда казалось, была совершенно беззащитна перед дочерью. Опять-таки на лестничной площадке — извечной нашей сцене — наблюдал я картину: Нина Михайловна бренчала у двери ключами, поставив у порога тяжеленную хозяйственную сумку. Вдруг выпорхнула Антонина: «Привет, мамуля! У тебя сегодня зарплата, я знаю!» — проворно выхватила из сумки кошелек. Нина Михайловна стояла, бессильно опустив руки. Отсчитав требуемую сумму, Антонина вернула кошелек на место. «Но, Тоня, нам же две недели жить, за квартиру два месяца не платим». — «Проживем. Ау, мамуля!» — Антонина весело застучала каблуками по лестнице.
«Надо позвонить Нине Михайловне, — подумал я и вдруг вспомнил свой короткий визит к Антонине. — Или не надо?»
Какая-то аномалия все же была в том, что визит оказался первым и единственным. Крохотного утиного шажочка не сделала мне навстречу после Антонина. Если не считать странной встречи поздним летом, когда неурочные грозы гремели над городом, колотили по окнам мокрой плеткой. Я вышел на улицу сразу, как только кончился дождь. Кажется, это было воскресенье. В понедельник мне предстояло выходить на новую работу. По тротуару неслись потоки воды. Обмытые машины проносились мимо, обдавая прохожих брызгами. Деревья отряхивались, как собаки. Под ногами страстно бегали друг за другом голуби. Солнечные лучи, как спицы, прокалывали взорванные, расслабленные тучи. Девушки снимали на ходу плащи. Я упруго шагал, твердо веря, что завтра на новой работе начинается новая жизнь. Я перешел улицу, оказался в небольшом скверике. Воздух здесь был необыкновенно прозрачен. С зеленых и желтых листьев сочились капли. Они вспыхивали на солнце, и казалось, не сквозь воздух я иду, а сквозь странный свет — играющий, хмельной. Я словно очутился внутри огромного аквариума. Сквозь тонкое его стекло видел причудливо измененные деревья, скамейки, детский деревянный теремок и качели. Чувство реальности было на мгновение утеряно, поэтому я не удивился, когда увидел на скамейке Антонину, целующуюся с каким-то парнем. Жидкие светлые ее волосы были стянуты в пучок, широко расставленные голубые глаза блистали бесстыдной яростью. Возможно, загар усиливал это впечатление. Отлепившись от парня, Антонина приблизилась ко мне, остановилась, расставив ноги, слегка покачиваясь в любимой своей позе.
— Надо же, — сказала она как ни в чем не бывало, — какое у тебя сегодня одухотворенное лицо.
— Да? Это, вероятно, потому, что ты меня вдохновляешь. — Я был старше Антонины, но ее манера вести разговор всегда сбивала меня с толку. Антонина была непредсказуема.
Парень спокойно курил на скамейке, ничему не удивляясь.
— Ты случайно не пишешь стихи? — спросила Антонина.
— Случайно нет. — Я не знал, как и о чем с ней разговаривать. Не нравилось мне и присутствие этого парня.
— Тебе не кажется, — задумчиво произнесла Антонина, — в природе что-то произошло. Воздух сделался какой-то другой.
— Да, — сказал я, — я шел сквозь него, как сквозь…
— Мед? — подсказала Антонина.
Я не мог оторвать взгляд от ее глаз. Они были живейшей частицей того хмельного, играющего мира, который мне на секунду открылся сквозь мнимое стекло и который мне надлежало покинуть.
— Ну, давай, — дернула меня за руку Антонина, — куда-нибудь пойдем. Мне в лагерь
только завтра. У нас впереди маленькая жизнь.
— А как же он? — тупо осведомился я.
— Кто? — посмотрела по сторонам Антонина. Когда она смотрела по сторонам, наглые ее глаза безбожно косили. — Кто же это такой? — засмеялась она. — Я вообще-то с ним незнакома, — она противненько хихикнула.
— Как это — незнакома?
— Да так, незнакома. Сидела себе на скамейке, пережидала дождь, а тут вдруг эти атмосферные чудеса, какое-то волнение. Вдруг захотелось поцеловаться с ближним. Смотрю, парнишка не урод. Что здесь такого? Понимаешь, захотелось. Очень сильно захотелось.
— С незнакомым?
— Да какая разница! Тебе-то что до этого? Считай, его уже нет. Фюить, хи-хи, он улетел. Пошли!
— Нет.
— Нет, — внимательно посмотрела на меня Антонина. — А почему нет? Тебе же хочется, вон весь дрожишь.
— Да, но не хочется. Понимаешь, очень сильно не хочется. Я не собирался, совершенно не собирался сегодня никуда идти.
— Ты нищий, Петя, — сказала Антонина серьезно. — И ты останешься им, даже если тебе дадут миллион. Я богаче тебя. Я всегда делаю то, что мне хочется. А ты все ломаешь, ты скучный человек, Петя.
— Пусть так, — я не мог смотреть на нее. Легкий, ввергающий в неистовство, взгляд Антонины подчинял меня. Еще мгновение, и я не удержусь — сорвусь, полечу вместе с ней в бездумный мир, где все мыслимые наслаждения будут отпущены мне просто так, как солнце, как утренний свет, как хорошая погода. Как был отпущен поцелуй парню, сидящему на скамейке в нескольких шагах от нас. Все это было нехорошо, греховно, хотя бы потому, что от меня не требовалось ничего, никакого душевного труда. Вернее, требовалось стать хуже, чем я есть. И в то же время это было неизъяснимо приятно, как внезапно сбывающаяся мечта, как исполнение желаний, как отдохновение от тяжких, иссушающих мыслей о человеческой жизни, о добре и зле. — Человек, — это я не Антонине, это я себе говорил, — только тогда человек, когда находит в себе силы не делать того, что хочет. Что тогда: долг, честь, совесть, если он не в силах противостоять искушению?
— Человек, — возразила Антонина, — именно тогда человек, когда делает что хочет. Что он, а не дядя-тетя, хочет. Иначе он чучело, свинцовое, книжное чучело!
— Пусть чучело, пусть свинцовое, книжное чучело, — пробормотал я и, как сомнамбула, зашагал прочь, слишком уж тонкой была нить моей решимости. Казалось, обернусь, взгляну на Антонину — и завертится все, покатится, и не будет мне от самого себя прощения.
— Ты уходишь, как Орфей из подземного царства, — услышал я голос Антонины. — Знаешь, почему он оглянулся? Он подумал, что за ним идет не Эвридика, а Персефона, которой он пел. Он решил, что она в него влюбилась. После нее он и смотреть не мог на земных женщин. За это они растерзали его возле ручья, — хихикнула она.
Меня не интересовали сомнительные мифологические изыскания Антонины.
— Петя!
Я остановился, по-прежнему не оборачиваясь.
— Ты вот считаешь себя писателем, во всяком случае связываешь свое будущее с литературой, пишешь рассказы. Как ты думаешь, Пушкин… Да, Пушкин, как бы он поступил на твоем месте?
— При чем здесь Пушкин? — изумился я.
— Он был велик, хи-хи…
«Хи-хи» меня покоробило.
— До свидания, Петя. Ты не Пушкин.
— Ты тоже не Анна Керн.
…Очнувшись от воспоминаний, я услышал веселый треск пишущих машинок в машбюро. Жеребьев уже сидел за столом, что-то дочитывая. Уборщица уносила в подсобку ведро и тряпку на длинной палке. В машбюро появился маленький кассетный магнитофон. «А время бежало, бежало», — пел неизвестный певец. Слова и мотив пристали словно репей.
«Кто он, несчастный муж Антонины?» — подумал я.
НАЗАД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Абитуриент поселился у Анны. Начались летние дожди, а у него не было ни плаща, ни зонта. Анна дала ему отцовский габардиновый плащ, и странно выглядел абитуриент в добротном синем плаще, из-под которого выглядывали несерьезные матросские брюки. Хождения, узнавания ни к чему не привели. Абитуриент отсиживал многочасовые очереди, попадал наконец в приемную, где ему со смертельной скукой в голосе отвечали: «Пока ничего не известно. Зайдите через две недели. Только родственники, а не вы!» Не было ответа и на посланную бумагу. Мнимая неизвестность порождала какие-то надежды, но вот к Анне наведался управдом, посоветовал побыстрее освободить квартиру, перебраться в общежитие университета, где ее примут. Странным образом управдом был информирован, куда именно Анне надо перебираться. Абитуриент пинками выставил его из квартиры. Управдом выкрикивал всякие мерзости.
Абитуриент днем ходил по комиссионкам, но почти ничего туда не сдавал. У него не было московской прописки, а в комиссионке требовали паспорт. Он все продавал с рук в подворотнях, подъездах. Никогда еще абитуриент не держал в своих руках таких красивых, дорогих вещей. Все эти хрустально-бронзовые чудеса уходили за бесценок. Абитуриенту открылась слепая душа вещей — повторять судьбы хозяев. «Вот и Анна, — неожиданно подумал он, — уходит не за ту цену. Разве о таком, как я, она мечтала?» Деньги абитуриент складывал в портфель, который хранил на вокзале в камере хранения. «Деньги такая вещь, — объяснил он Анне, — чем проще спрячешь, тем надежнее будут, уж я-то знаю».
По вечерам выходили гулять. Анна, успокоившаяся, но еще бледная. Абитуриент в синем габардиновом плаще и в матросских брюках. Они ходили по тихим переулкам, среди особняков и скверов.
Разные мысли посещали абитуриента во время этих прогулок. Он полагал себя сильной личностью, не было на свете человека, которому бы он подчинился. Обстоятельствам — да, случалось, но человеку никогда. В колонии его за это чуть не прирезали, еще раньше, во время скитаний по поездам, выбросили из тамбура в гремящую тьму, в ночь, на насыпь, он чудом остался жив. И, встречаясь с женщинами, он старался не идти у них на поводу. Впрочем, то были другие женщины. Сейчас он тоже как бы жил и действовал по собственной воле. Но границы его воли определялись Анной. Ему оставалось лишь угадывать, так ли он поступает, как желает того Анна. И поступать только так, как она желает. Когда она хвалила его, он ликовал, как ребенок. Иногда же он смотрел на ситуацию с беспощадным реализмом: он любил Анну, ради нее даже думать забыл о живописи. Анне он был просто нужен, ни о какой любви она не говорила. А он между тем, уйдя с корабля, принял решение всю свою жизнь посвятить искусству. Сейчас он забыл про искусство. Почему? Из-за Анны? Анну не интересовало его искусство. Она даже не спросила, зачем он приехал в Москву. Впрочем, на то имелись извиняющие обстоятельства. В моменты прояснений абитуриенту становилось страшно: он, нищий, ничего еще в жизни не сделавший, взваливает себе на плечи Анну — профессорскую дочь, избалованную, привыкшую к достатку, эгоистичную. Но бросить ее он тоже не мог.
— Я люблю тебя, люблю. Так, — тряс он Анну за плечи. — Даже если бы ничего не случилось, если бы все у тебя в жизни было как прежде, я бы все равно добивался тебя. И добился бы, слышишь?
— Я… привыкну к тебе, — отвечала Анна. — Видишь, я не хочу тебя обманывать. Я постараюсь. У нас все будет хорошо, — отворачивалась, плакала.
Абитуриент ходил на экзамены по искусству. Он сидел в просторном светлом зале, слушал шорох грифелей других абитуриентов, но мысли его были далеко. Пожалуй, впервые в жизни ему не хотелось рисовать. Он равнодушно закончил рисунок, вышел на улицу. В институтском дворике на скамейке сидела Анна. Светлые волосы шевелились на ветру. Проходящие мимо заглядывались на нее. Некоторые пытались заговорить, но безуспешно, Анна отворачивалась, не отвечала. В странном оцепенении абитуриент смотрел на Анну. Точно ясновидцу, ему открылась болезненная мысль, которая будет мучить долгие годы: окажись все иначе, не произойди того, что произошло, ждала бы его Анна на скамейке перед институтом? На ее беде выстроилось нынешнее призрачное его счастье. Только возможно ли счастье на беде? Хотя, невесело усмехнулся абитуриент, на чем же еще ему быть?
Он подошел к Анне, поцеловал ее.
— Наверное, я зря прихожу сюда? — спросила она. — Наверное, я тебе мешаю?
— Ты правильно делаешь, что приходишь, — абитуриент с отвращением подумал об оставшихся экзаменах.
Когда вывесили списки принятых, его фамилии там не оказалось. Всю ночь он бушевал с товарищами по комнате.
— Слушай, — обнял бывшего абитуриента поступивший в институт грузин, — подумаешь, не прошел по конкурсу, зато какую девушку встретил.
Помолчали.
— Слушай, — посоветовал он бывшему абитуриенту уже под утро, когда красная Третьяковка замаячила за окном в сером тумане. — Поезжай в Ленинград, на подготовительные курсы в академию поступай. На будущий год точно будешь учиться в академии. Ты случайно не поступил, я смотрел твои работы, ты можешь работать, ты лучше всех нас можешь работать. Черт тебе послал во время экзаменов эту девушку.
Бывший абитуриент пришел к Анне, когда светило солнце, когда дворники скребли метлами по асфальту, а голуби, разминаясь, чертили круги над домами.
— Где ты был? — спросила Анна строго.
— Я не поступил в институт, — ответил бывший абитуриент, — недобрал каких-то баллов.
— Ты не поступил из-за меня, — сказала Анна.
— Знаю, — вздохнул бывший абитуриент, — только учти, это было в первый и последний раз. Ты все мне в этот раз поломала. Ты пойми, пожалуйста, моя живопись — наш единственный в жизни шанс. Иначе хана, пропадем. Да, я не поступил, так. Но теперь все — слышишь, всё! — будет подчинено одному — моей живописи. Теперь я за старшего, и ты изволь меня слушаться. Так! — он грохнул кулаком по столу. — А сейчас спать…
Анна слушала его молча, кусала губы.
— Что же дальше? — спросила тихо.
— Завтра уезжаем в Ленинград, буду поступать на подготовительные курсы в Академию художеств. Денег на первое время хватит. Если уж учиться, то только в академии, так считает один грузин.
— Опять приходил управдом. Он сказал, что…
— Пошел он!
На следующий день вечерним поездом они уехали в Ленинград. Там поженились. А вскоре родился я.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«А время бежало, бежало, бежало», — по-прежнему звучало в машбюро. Под сколько-то ударов в минуту, под треск извлекаемых из машинки страниц бежало время у машинисток. Под стук переставляемых ящиков, под рычание заезжающих во двор ресторана машин бежало оно у рабочих за окном. Под утреннюю расчистку дорожек, под необъяснимое угрюмое молчание, под вой поленьев в печке, под вечерние рюмки коньяка бежало время у деда. Под бессменный пейзаж за окном: Петропавловскую крепость, Литейный мост, чаек на льду и в небе, под тихий шепот выдавливаемых из тюбиков красок бежало время у отца. Под открывание и закрывание холодильника, урчание раковины, возню у плиты, под размышления, в результате которых рождались фантастические выводы, под однообразные вечерние телепередачи бежало время у матери. Под отсутствие в редакции, под конфронтацию с начальством, под изобретенные себе на беду дела бежало время у Жеребьева. Под сочинение обложек, шмуцов и титулов, под горячие диспуты с молодыми художниками, под немое изумление проделками дочери бежало время у Нины Михайловны. Под ожидание новой квартиры бежало время у Ирочки Вельяминовой. Под разглагольствования, под журчание пива в Доме журналистов, под купание в лучах сомнительной славы бежало время у Сережи Герасимова. Под заседания редколлегий, посещение высоких инстанций, под дальнейшее упрочение связей и авторитета, под шорох шин верной «Волги», которой он теперь имел право пользоваться, бежало время у Игоря Клементьева.
У меня оно бежало ни подо что.
Сожженные рассказы, бессмысленные раздумья вернули к извечному чувству нуля. Теперь я твердо знал, что буду писать по-новому, но это новое пока только зарождалось, даже ростков никаких не было. То было странное ощущение распахнутости: я видел и замечал все, но никак на это не реагировал. Словно в бездну проваливались дни.
На доме в Расторгуеве белым шалашом лежал снег, луна ночью висела над самой трубой. Лежа на диване под ватным одеялом в остывающей комнате, я вспоминал книгу «Моби Дик», где утверждалось, что это прекрасно — спать в холодном помещении, чувствовать себя гладеньким теплым островком в безжизненной, равнодушной Вселенной. Утром я спешил на станцию: сначала по лесу, проваливаясь в глубокий снег, потом ехал в автобусе, где люди молчали как камни, потом бегал, притоптывая, по перрону. В электричке смотрел в окно, но там плотный белый узор — и все. И меня самого словно сковал такой же белый узор. Не знал я, когда он растает и что я увижу после того, как он растает.
Когда жил дома, ходил на Ленинские горы, на смотровую площадку, откуда видать всю Москву. Искрились золотые купола, высотные здания торчали, как свечи из именинного пирога, надменно и медленно поворачивались носатые башенные краны, словно к чему-то принюхивались. С гигантского трамплина улетали в небо лыжники. Они летели над деревьями, яко птицы, потом приземлялись, разведя руки в стороны, долго балансировали на белом укатанном снегу.
Для нас время бежало быстро, для журнала же еще быстрее. Мы жили в декабре, а журнал — в марте. Весенние перелетные птицы сидели на одном из вариантов мартовской обложки. В этот номер наш отдел запланировал выступление эстонского рыбака. Мне было велено собираться в Эстонию.
Я сидел за столом, размышляя: отправиться туда немедленно или же после Нового года. Жеребьев смотрел прямо перед собой остановившимся взглядом, но, наверное, ничего не видел. У кого накопившиеся тоска, раздражение проявляются в криках, в ругани, у кого в заносчивой истеричности, у кого в ненависти к человечеству, у Жеребьева — вот в таком остановившемся взгляде. Мне было жалко его в эти мгновения. Как будто вся тщета, вся несправедливость мира, все теневые стороны жизни вдруг открывались Жеребьеву, и он, пораженный, терял дар речи. Однажды, помнится, в комнату ворвался друг, с которым Жеребьев не виделся пять лет. Но и тут Жеребьев не смог себя пересилить. «Привет, Стас!» — произнес мертвым голосом, протянул руку. И все. Никаких эмоций.
Рабочий день закончился, однако мы по-прежнему сидели за столами, размышляя каждый о своем.
— Петя, как жизнь? — спросил через некоторое время Жеребьев.
— Жизнь? Она такова, — ответил я, — что ни вам, ни мне в данный момент совершенно не хочется идти домой.
— Что же делать? — усмехнулся Жеребьев.
— Но и объединяться нам не следует, — сказал я, — потому что все закончится пивной, чем же еще?
— Я не был в твои годы таким прагматиком, — вздохнул Жеребьев.
Я подумал: не дай бог мне дожить до его лет и вот так сидеть вечером в редакции, не зная куда податься. Но это была плохая мысль, недобрая.
Я стал собираться. Жеребьев оставался один в кабинете, залитом неживым дневным освещением.
— Смотрел тут на днях один журнал, — сказал Жеребьев, когда я стоял в пальто у двери, — там репродукции картин твоего отца. Знаешь, мне понравились. Есть, кстати, твой портрет.
— На коне-качалке сижу в матроске?
Жеребьев кивнул.
— Так называемый «Портрет сына», — мне тогда было пять лет.
— Там и эпические полотна.
— Ладно, куплю журнал, посмотрю.
Я вышел на улицу. Под фонарями бесился снег. В окне редакции неприкаянно маячила тень Жеребьева. Я подумал об отце. В последние годы у него появилась привычка сидеть в мастерской, не зажигая света. Темно. Ни Петропавловской крепости, ни Литейного моста, ничего не видно из окна, кроме расплывчатых огней. «Так тебе и надо, — вдруг подумал я. — Сам шел к этой темноте».
Дома мать объявила, что купила в магазине «Власта» хрустальную вазу. Пока она несла ее домой, ваза наполнилась снегом. Сейчас ваза стояла на полированном столике в прихожей. Мать сидела в кресле и задумчиво на нее смотрела. В последнее время я часто заставал мать за подобным созерцанием. Она вообще увлеклась покупками. То покупала себе куртку, то кулон, то статуэтку. Можно было только радоваться ее растущему благосостоянию. В момент созерцания вещи лицо матери становилось удивительно спокойным, умиротворенным, она как будто не замечала окружающих. Стоило, однако, нарушить ее мнимое одиночество, влезть с вопросом, где сыр, спокойствие тотчас уходило с материнского лица, глаза становились грустными. Видимо, общению с людьми мать предпочитала общение с вещами. Наверное, это особенный талант: общаться с вещами. Поставь передо мною вазу, сколько я смогу на нее неотрывно смотреть? Да нисколько. Чего на нее смотреть?
— Боже мой, Петя, — сказала мать, — если бы ты знал, какие раньше были у нас вазы. Сколько их твой папаша перетаскал в комиссионку. Сейчас бы им цены не было. Ты знаешь, — продолжила она, — хороший хрусталь имеет обыкновение концентрировать в себе цвет воздуха. Цвет, не всегда улавливаемый человеческим глазом, об этом еще писал Гёте. Утром ваза из хорошего хрусталя всегда чуть-чуть желтая, а вечером чуть-чуть синяя. Я специально поставила вечером эту чешскую вазу на подоконник. Это слепой хрусталь, Петя.
— Но тебе же все равно нравится.
— Да, конечно, — вздохнула она, — по нынешним временам и эта ваза неплохая.
Снег за окном не утихал. Он лежал так плотно на ветвях деревьев, что казалось, поднялся до пятого этажа, вот-вот накроет весь дом вместе с крышей.
Вернулся с работы, из своего таинственного заведения Генерал. Сразу же в большой комнате заиграл студийный магнитофон-великан. Генерал расшнуровывал ботинок, снег таял на золотистом погоне, Бах вздымал распростертые руки к небу. Генерал жмурился от удовольствия. Мне, естественно, казалось, что нельзя, слушая Баха, жмуриться от удовольствия. Я был уверен, что вся эта показушная любовь к классической музыке, студийные, похожие на шкафы, магнитофоны, этажерки с немыслимыми по размеру бобинами, какая-то картотека в деревянных ящиках — все это маскировка, ширма, за которой Генерал ловко прячется от домашней жизни. Чем занят Генерал? Припаивает новую головку к магнитофону. Почему Генерал не идет обедать? Он слушает Вагнера. Почему Генерал не гасит в комнате свет? Он приводит в порядок картотеку. И Баха-то, думалось мне, он заводит только затем, чтобы показать, какая он важная личность, чтобы все уважали его. В громовых раскатах Баха любой покажется демоном. Тем более в генеральских погонах, да из таинственного заведения.
Как и всегда в присутствии Генерала, мне стало неуютно дома. Я вышел погулять. Ветра не было, отвесно падали крупные, как пух, снежинки. Люди шли похожие на белых медведей. Я дошел до метро, потом двинулся дальше по заснеженной яблоневой аллее, где некогда выяснял отношения с Ирочкой Вельяминовой и звезды, помнится, светили сквозь ветви. Возвращаться домой не хотелось. Я принялся убеждать себя, как замечательно сейчас на даче: падает снег, во дворе растут сугробы, на кухне пылает печь, тепло мелкими шажками идет в комнаты. А там телевизор, там у деда коньячок… Только в электричке, когда колеблющиеся в тусклом железнодорожном свете платформы замелькали за окном, я подумал, что дачная идиллия — ложь. Я еду туда, потому что больше ехать некуда.
Когда, перескакивая через сугробы, я подходил к дому, только на кухне горело окно. Снегу в саду намело по колено, однако дорожка была расчищена.
Аккуратный дед держал в углу крыльца веник, чтобы смахивать снег с валенок. Я махал веником и думал о странном круге отчуждения, который меня опоясал. Некая фатальная неизменность присутствовала в круге. Я пытался разорвать круг, он автоматически отдалялся. Круг приближался ко мне, отдалялся я. Радиус круга не менялся. Точно в кольце Сатурна плыли: отец с колонковой кисточкой в руке, мать, бережно прижимающая к груди хрустальную вазу, дед, склонившийся над раковиной, моющий руки по сто раз на дню. Даже Ирочка Вельяминова смутно мелькнула в кольце, не та, которую я когда-то высматривал из окна газетно-журнального комплекса, которой звонил вечерами по телефону и вешал трубку, услышав ее голос, а недавняя, с которой я катился по полу летнего кафе, опрокидывая стулья.
Толкнул дверь, вошел в дом. Дед на кухне мыл руки, склонившись над раковиной.
— Привет, Петя, — он вторично намылил пальцы.
Я проклял себя, что опять не привез ничего из еды. Это было как издевательство.
По тому, как дед произнес эти два слова, я понял: никакого разговора у нас не получится. Невидимое стерильное облако плавало вокруг деда, и прорваться в него было так же трудно, как разомкнуть мой собственный круг отчуждения.
Но я пытался.
Огонь еле шевелил в печи красным языком. Тепло не шло от печки мелкими шажками.
— Почему ты меня не спросишь, как мать, что делается в Москве, как вообще мы живем, почему?
Дед достал из холодильника бутылку кефира. Налил в стакан. Долго пил, запрокинув голову. Я смотрел, как перемещается по его морщинистому, черепашьему горлу кадык. Он поставил пустой стакан на стол, вытер рукой белые кефирные усы. Посмотрел с отвращением на руку, вздохнул и снова пошел к раковине. По мере того как он мыл, брезгливое выражение уходило с его лица. Я понял: он отмывается и от моих вопросов, от моего тупейшего желания вернуть его туда, куда он возвращаться не хочет. Дед старательно вытер руки, посмотрел на меня.
— Раз не спрашиваю, значит, мне это не очень интересно. Если же вдруг у меня возникнет интерес, я как-нибудь сумею его удовлетворить. Спокойной ночи, Петя. Спасибо, что приехал, — он усмехнулся. — Где взять поесть, ты знаешь.
— Спокойной ночи, — растерянно ответил я.
Огонь в печи разгорелся. Я подбросил поленьев, которые не я колол, не я запасал, не я складывал в поленницу. Окно в кухне запотело. Стало тепло. Я сидел на высоком троноподобном стуле, смотрел в огонь. Странно было думать, что живая играющая стихия прогорит вскоре до зияющих колосников, до серой золы. Я сидел и смотрел на огонь, пока поленья не прогорели, пока не погасли синие угарные язычки над ними. Старательно сгреб мельчайшие угольки, закрыл трубу и ушел спать. За окном посвистывал ветер. Снег больше не падал. Лежа на диване, ощущая себя по совету Германа Мелвилла крохотным теплокровным островком в равнодушной, безжизненной Вселенной, я решил, что довольно ездить на дачу. Дед мне не рад. Круг, таким образом, еще прочнее замкнулся.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Дома я появился тридцатого декабря в три часа дня без малейшей идеи, где буду встречать Новый год. В квартире напротив у Нины Михайловны беспрестанно хлопала дверь. Там готовились к свадебному пиршеству.
Мать встретила меня в белом махровом халате. Через всю жизнь несла она необъяснимую привязанность к белому цвету. В черном я ее никогда не видел. Она и в дом старалась не покупать ничего черного. Даже по поводу моей пишущей машинки однажды сказала: «Неужели они не понимают, что идеальный цвет для пишущей машинки — серый. Ну, в крайнем случае синий». Ограничив свою жизнь стенами квартиры, нехитрыми домашними делами, мать старела медленно, незаметно. Она выглядела моложе своих лет. Но и в домашних делах проявлялся ее странный характер. Генерал, например, любил бифштексы с кровью, любил густые щи, одним словом, любил наесться так, чтобы потом ремень отпустить на две дырки. Мать готовила ему прозрачный суп с плавающими сырными волокнами, якобы по французскому рецепту. На второе — крохотные тарталетки, то ли с паштетом, то ли с печенью. На третье — взбитый фиолетовый мусс, к которому Генерал не знал как подступиться. Она не могла себя пересилить, заставить делать то, что не хотела, пусть даже речь шла о таком обычном деле, как обед. Генерал мог командовать, мог ставить важные стратегические эксперименты, мог топать ногами у себя на нерадивых исполнителей, мог, наконец, обедать и ужинать где угодно, — заставить мать варить щи, жарить бифштексы он не мог. Она ни к чему не желала приспосабливаться. Близорукость, которой она страдала с детства, начала после сорока переходить в дальнозоркость. В возрасте, когда большинство людей надевает очки, мать их сняла. Однако некоторая замедленность осталась в ее взгляде, она не могла быстро перевести взгляд с одного на другое. Для этого ей требовалось на секунду закрыть глаза. Она любила чистоту, фанатично ее поддерживала. Не стирала пыль только с полок, где стояли коробки и кассеты, магнитофоны Генерала. Эти предметы, следовательно, были ей неприятны, она считала их в доме чужими. Генералу же, равнодушно улыбаясь, говорила: «Боюсь подходить к ним. Вдруг чего-нибудь поломаю?»
— Мама, — спросил я однажды, — а отчего тебе не пойти на работу? Тебе не надоело сидеть дома?
— Я разучилась работать, Петя, — ответила она, — там надо что-то делать, кого-то слушаться. Не хочется, да и стара я для этого. Но чувствую, — тяжело вздохнула, — придет в моей жизни день, когда я пойду работать.
Временами мне казалось, чувство реальности оставило ее. Она живет в придуманном мире, где лишь вещи, белый цвет, редкие выезды в театры, когда она наряжается в самое дорогое, а Генерал ожидает ее в прихожей мрачнее тучи, имеют для нее какое-то значение. Краткие же ее набеги в действительность абсурдны, как наш недавний разговор об Ирочке Вельяминовой.
— Как там дед? — спросила мать, слегка сощурившись, как бы не вполне меня узнавая.
— Нормально, — пожал я плечами, — если считать нормальным, что он молчит, не хочет разговаривать.
— Он старый человек, — сказала мать. — Еще неизвестно, каким ты будешь, когда доживешь до его лет.
— Боюсь, дело тут не только в старости, — ответил я. — Он словно во всем разочаровался, ничего больше в жизни его не интересует.
— Я съезжу к нему на будущей неделе, надо хоть постирать ему, — едва заметная гримаса брезгливости пробежала по ее лицу. — Представляешь, Петя, я видела в антикварном бронзовую люстру, всего шестьсот рублей. Может, съездить сегодня?
— Куда? За люстрой?
— Да нет, откуда у меня шестьсот рублей? К деду.
— За деньгами?
— Да.
— Думаешь, он даст?
— Думаю, даст.
Она произнесла это с безмятежной уверенностью, с некоторой даже насмешкой, словно я пробовал усомниться в чем-то настолько очевидном, что только и оставалось надо мной посмеяться.
— Скажи, — спросил я, — а разве это удобно? Почему он должен давать тебе — взрослой замужней женщине — шестьсот рублей?
— А ему зачем деньги? Куда он будет их тратить?
— Не знаю, понятия не имею. Только это его деньги.
— Ты прав, — неожиданно легко согласилась она. Она всегда со всем легко соглашалась. — Тогда Генерал. Нет, Генерал не даст. Он скажет, что во время войны оперировал раненых при огарках. Зачем, скажет, люстра? Он очень прижимистый, этот Генерал. Что же делать? Все равно придется ехать к деду.
Тема, что называется, была закрыта. Я пошел на кухню. В кастрюльке на плите что-то булькало, под столом на газете валялись пестрые перья.
— Это перепелки, — сказала мать. — Хочу сделать на Новый год паштет. Немного, конечно, получится, но к чему обжираться?
Мне стало жаль Генерала.
— Вот кстати, — мать взяла с подоконника журнал, — соседка принесла. Взгляни на папочкины картины.
Это был номер, про который говорил Жеребьев.
«Портрет сына». Пятилетний, я сижу на коне-качалке, размахиваю сабелькой. Сам в матроске, на голове бескозырка с надписью «Бегущий». Только сейчас до меня дошло, что не может быть корабля под сомнительным названием «Бегущий». Мне стало не по себе, как и всегда, когда в случайном совпадении я чувствовал неприятную для себя истину. «Действительно, — с отвращением подумал я, — бегущий. Всю жизнь, все свои проблемы разрешал одним — бегством. А если боролся, то бездарно, истерично. Где уж тут побеждать? Трус. Бегущий».
«Аня». Мать в желтом платье сидит на красном диване, читает книгу. Лицо у нее строгое, руки тонкие, прическа высокая, как носили в те годы. Выражение лица милое, но какое-то неуверенное. Это оттого, что мать «читала» без очков. В те годы без очков, как она сама говорила, она чувствовала себя немного раздетой. Глаза на портрете у нее красивее и больше, чем в жизни. Будничный интерьер — обшарпанный диван — не раздражает, он прост, как проста сама Аня в скромном желтом платье, живущая далеко не в богатстве. Мы тогда только-только переехали на новую квартиру с мастерской. Через год, помнится, отдали диван соседям.
«Каспийское море». Три корабля носами вперед летят по синей воде, а сзади нефтяные вышки, черно-зеленый город-порт.
Это все были старые работы.
Я перевернул страницу.
«Поляна».
— Не видел еще этого шедевра? — спросила мать.
— Видел. Но не думал, что он когда-нибудь закончит. Тогда было только внешнее сходство. А сейчас он переделал. Глаза, понимаешь…
— Хорошо еще, что он незнаком с Генералом, — сказала мать. — Он бы и его изобразил каким-нибудь страшилищем. Что глаза?
— Не то чтобы похожи, но какое-то скользящее выражение он ухватил. Раньше грубее было, просто патологическая ненависть. А сейчас он сделал ее от слабости, что ли, от какой-то внутренней язвы. Это жестокость одиночества. Он как будто предвидел, хотя, конечно, не мог предвидеть.
— Да ну его к черту, — убежденно произнесла мать, — разбирать еще его мазню.
— Это не мазня, — сказал я, — это он писал для души.
— Для души, — повторила мать. — В таком случае он облегчил душу. Теперь ему самое время жениться.
— Что? Жениться? — как это часто случалось в разговорах с матерью, мне показалось, я ослышался. — А почему жениться?
— Да, — она бросила журнал на клеенку, — это его лучшая картина. Можно сказать, эпическая. Так сказать, собственное оригинальное толкование гражданской войны в Сибири.
— Ты так думаешь?
— Давняя мечта твоего папаши написать что-то в этом духе. «Утро в сосновом бору», например, он считал гениальной картиной только потому, что ее знают все.
— Ну его-то картине такое не грозит. Другое сейчас время.
— Значит, будет вырывать под нее новую квартиру или потребует, чтобы в Италию на дачу послали, а то его всё отодвигают. Скажет, дозрел, вон какую картину написал.
— Но при чем здесь дед? — спросил я.
— Как это оригинально, я бы сказала, парадоксально, — продолжала она, — постигать смысл гражданской войны через ненависть к бывшей жене. Так сказать, обобщать. Выдавать себя за художника-реалиста с четкой и правильной классовой позицией. Он весь в этом.
— Дед-то здесь при чем? — снова спросил я.
— А ни при чем, — устало сказала мать, — он же меня ненавидит, а в деда так, рикошетом.
— Тебя? — я вспомнил альбом с набросками, который видел в Ленинграде.
Она ошибалась.
— Да, — сказала мать, — но при этом и любит так сильно, что сам не знает: где любовь, где ненависть. Ну а выход-то чувствам надо дать.
Она говорила спокойно, без выражения, словно все давно обдумала, давно расставила все точки над i.
Я слушал ее, и ветер, холодный мертвящий ветер настигал меня здесь, на кухне. Он начинался где-то в прошлом, еще до моего рождения, прошивал насквозь: дом в Расторгуеве, мастерскую в Ленинграде, эту квартиру со студийными, похожими на шкафы, магнитофонами. Мне вдруг стало бесконечно скучно, накатилась усталость, словно я целый день разгружал вагоны. То была особенная усталость, она накатывалась всегда, когда я не знал, что делать, не видел выхода из сложившейся ситуации, когда внутри зарождалась проклятая волна «до конца». «Бегущий», — вспомнил я надпись на бескозырке, — опять бегущий. Но почему? И до каких пор?» А может, мелькнула мысль, оттого бесконечная скука и усталость, что я не берусь судить: кто прав, кто виноват. Возможно, рассуди я это для себя, и не было бы волны «до конца», ледяного сквозняка, пронизывающего три пустых дома. Но каким же образом я могу рассудить самых близких мне людей, решить: кто прав, кто виноват? Правы все, потому что они мне родные. И виноваты все, потому что нет покоя ни в доме в Расторгуеве, ни в мастерской в Ленинграде, ни здесь, в квартире со студийными, похожими на шкафы, магнитофонами. Я уже чувствовал поднимающуюся волну «до конца». Хватит скитаться по пустым домам, пора заводить собственный, иначе не расхлебать эту кашу, так и буду я безысходно размышлять: кто прав, кто виноват — и в результате родные люди предстанут в виде монстров, опутанных колючей проволокой, облепленных ракушками, как днища перевернутых житейским морем кораблей.
Я посмотрел в окно. По подоконнику разгуливал голубь. Не простой сизый голубь, а домашний белый летун с мохнатыми лапами и круглой выпяченной грудью. Красные глаза голубка сатанински посверкивали. Это было противоречие, необъяснимое, как сама жизнь: божья птица, голубь — и сатанинские глаза.
Я ухватил себя за ухо, сосчитал до десяти. «Только без шума, без грохота, без скандала. Кто и в чем виноват передо мной? Надо уходить тихо. Тихо. Но куда? К кому?»
— Послушай, — машинально, лишь бы только не замолчать, не замереть с открытым ртом, не выдать своих намерений, заговорил я, — что пишут про картину «Аня»: «Портрет дышит священной любовью к женщине. Ее доброе, чуть усталое лицо, руки, привычные к работе, умные глаза. «Я люблю ее!» — как бы кричит художник каждым штрихом, каждой черточкой. Даже желтый цвет, как известно, цвет измены, воспринимается здесь как цвет добра и любви. Настоящая любовь сильнее измены».
— Цвет любви? — разозлилась мать. — Чушь какая-то. Мне не нравится желтый цвет, пожалуй, больше мне не нравится только черный. Помню, как кретинка, сидела часами с книжкой на коленях. Ему, наверное, просто было жалко денег на натурщицу. И главное, читать без очков не могла. Хотела уйти, он опять усаживал, не губи, мол, вдохновение. У меня все плечи были в синяках. Цвет любви. Какая-то галиматья.
Голубь поковырял клювом в перьях, спрыгнул с подоконника, расправил крылья, взмыл в зимнее небо.
— Скажи, — спросил я, не в силах оторвать взгляда от голубя, — тебя когда-нибудь волновала его живопись? Все эти картины, ведь он писал их на твоих глазах.
— Знаешь, Петя, — помолчав, ответила она. — Не больно я разбиралась в этой чертовой живописи.
Она говорила неправду.
— Как же так? Столько лет вместе — и наплевать?
— Хотя мне понравилось, как он написал меня в белом. Помнишь, с розами в руках? Хороший портрет. Куда он его продал?
— По-моему, он его не продавал.
— И еще самый первый портретик. Возле акации. Тоже неплохой. Его-то уж точно потеряли.
— Нет, я недавно нашел его на даче, на чердаке.
— Вот как? А я думала, его уже нет. — Она утратила интерес к разговору, произносила слова с равнодушием: — Надо привезти его сюда, пусть лучше висит в прихожей.
Сейчас с ее стороны обнаруживалась та податливость, которая естественна, когда обсуждаемый предмет либо совершенно не интересует человека, либо перешел для него в категорию прошлого, о котором не хочется вспоминать.
Я подумал, что пытаюсь разглядеть каркасы прошлого на зыбучем песке. Песок же, как известно, не держит каркасов.
Я подумал: о скольких концах эта палка — исполнение желаний? На первый взгляд, все у отца сбылось. Он женился на девушке, которую любил, сделался художником. Но самым равнодушным, самым отстраненным наблюдателем его живописи оказалась именно она, жена, которой он по странной прихоти судьбы всю жизнь доказывал, что он настоящий художник, что каждая его картина шаг вперед, что в живописи ему подвластно многое. А она, поначалу покорная, равнодушная, совершенно не нуждалась ни в каких доказательствах. Она терпеливо несла свой крест, как бы расплачиваясь за то, что когда-то он пришел ей на помощь, увез ее из опустевшего дома. Она сама попросила увезти ее, потому что была напугана, потому что привыкла, чтобы все ее желания немедленно исполнялись. Привычка эта, наверное, пришла из детства, когда они с отцом жили в небольшом двухэтажном домике в Кривоколенном переулке на шесть, что ли, квартир. Тогда докторов было меньше, ценились они соответственно выше. Она в белом платьице качалась под надзором няни на качелях и загадывала: какую игрушку, какую книжку принесет сегодня отец? И каждый раз принесенная игрушка или книжка оказывалась лучше той, которую она загадывала. Угодив внезапно из тиши профессорской квартиры, из уютного мира исполняющихся желаний в дикий мир пробивающих себе дорогу художников, оказавшись в общежитии, где грубо шутили, спорили до хрипоты, орали, дрались, работали до изнеможения, — она заледенела душой, не приняла эту неистовую жизнь, где все ей было чуждо. Она не захотела принимать близко к сердцу заботы мужа, ей были неинтересны его полуночные споры с друзьями, тошно было смотреть на холсты и краски, потому что от того, удачно ли, хорошо ли кладутся краски на холсты, зависели покой и благополучие в семье. А она не желала, чтобы покой и благополучие зависели от каких-то красок и холстов. Ее коробили грубая жизненная философия мужа, его скорые, цинично-непримиримые оценки не только творчества других художников, но и всего на свете. Он действовал как человек, идущий напролом, уверенный в своих силах. Мирился и ссорился с друзьями, сжигал за собой мосты, временами впадал в черную меланхолию. Она уставала от этого нелепого существования, хуже чем от самой тяжелой работы. Через несколько лет вернулся ее отец. Но он не вернулся ни к научной, ни к практической деятельности. Все его труды остались брошенными на полуслове. Он выхлопотал себе пенсию, поселился на даче — не то надломленный, не то обиженный. А скорее — все разом. А она-то надеялась, что белое платье, качели в Кривоколенном, долгие ужины, когда отец рассеянно листал какие-то медицинские «Вестники», а она смотрела в окно и мечтала, — все вернется. Как? Она об этом не думала. Во всяком случае, замужество не казалось ей чем-то непреодолимым, что навеки закабалило ее. Да и ребенок, признаться, тоже. Стоит лишь вернуться отцу, и все вернется. Но ничего не вернулось. Она по-прежнему была замужем за студентом-живописцем, у них рос сын, они ютились в мансарде, куда с крыши затекала вода, где вдоль стены стояли подрамники и мольберты. Так она и жила, ни к чему не привыкая, всему внутренне сопротивляясь. Сопротивление с годами крепло, приобретало разные формы. Казалось бы, муж встал на ноги, начал неплохо зарабатывать, но нет, все было ей не в радость и в этой, относительно наладившейся жизни. Он убил в ней саму способность радоваться чему-либо, за это она мстила ему, как могла. Однако спроси кто: что тебе нужно, Анна? — она бы не смогла ответить. Но то, что она имела, — это совершенно точно было ей не нужно. Настала эра скандалов. Ей было в высшей степени плевать, пьет муж или не пьет. Но когда он приходил выпивши, она ругалась как ведьма. Так нужно. Все жены ругают мужей, когда они пьянствуют, шляются неизвестно где. Муж был скуповат, вел деньгам строгий счет. Она начала скандалить из-за каждого рубля, демонстративно не готовить обед, наводить справки о его заработках. Так нужно. Все жены ругают мужей, когда те не несут домой деньги. Она мстила ему за давнее свое унижение, за поломанную жизнь, за скитание по мансардам и подвальным комнатам, за все, за все! Она заметила, что он переживает, когда она подолгу не интересуется его работой, не заходит в мастерскую, не говорит ободряющих слов. Она вообще перестала заходить в мастерскую, на вопросы, хороши ли картины, лишь пожимала плечами: «Разве тебя интересует мнение простых смертных? Ты сам себе судия, полубог». Так шли ее годы. Без идеи, как надо жить, но в полном несогласии с тем, как ей приходилось жить.
…Я очнулся от этих мыслей, обнаружил, что по-прежнему нахожусь на кухне, а мать сидит за столом напротив, курит сигарету. Белый голубь по-прежнему кувыркался в небе.
«В результате пустые дома, — подумал я, — несложившиеся жизни. Тоска по настоящей счастливой жизни и нежелание приложить хоть малейшие усилия, чтобы сделать ее таковой. А годы прошли. Выходит, тоска по жизни — та же жизнь, как ни крути. Другого ничего нет. Кому что выпадает. Она мстила ему раньше. Он мстит ей спустя годы этой картиной. Как еще он может отомстить? Или это их окончательный расчет, закрытие темы? Она не желала ценить в нем то, чем и ради чего он жил, — его талант, картины. Он изобразил злодеем, нравственным уродом того, кого она больше всех в жизни любила, ее отца. Отца, который сделал ее такой, воспитал такой. Она не пожелала меняться. Значит, поэтому у них не сложилась жизнь? Значит, дед косвенно виновен? Да нет, тогда все слишком просто. И любит ли она по-настоящему деда?» — я вспомнил недавний разговор о бронзовой люстре.
Выход был один — и мне закрыть тему, поставить точку, перестать об этом думать. Я глубоко вздохнул, выдохнул. Вздохнул, выдохнул.
— Выкинь ты этот журнал, — посоветовал матери.
Надо было уходить, но куда, к кому?
Я натянул еще довольно новые, только-только ударившиеся в синеву джинсы, надел свитер. Причесался, побрызгал щеки одеколоном, энергично пошлепал себя ладонями по щекам. Так делал по утрам Генерал. Время шло, а в жизни моей мало что менялось. Во всяком случае, неизменными оставались киты, на которых я стоял. Первый — постоянно начинать все с нуля. Второй — бежать неизвестно куда. Третий — странная любовь, приносящая беды. Хорошо хоть не влюблен, подумал я. Одного кита, стало быть, недоставало.
— Куда ты собрался? — встревоженно спросила мать.
— Погуляю пойду.
— Вернешься когда?
— Не знаю, — я пожал плечами.
— Ты не пей, ладно?
— Что-что?
— Вид у тебя нехороший. Как у твоего папаши, когда он собирался напиться.
— Хорошо, не буду пить, — пообещал я и захлопнул за собой дверь.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тридцатого декабря под вечер небо над Москвой было чистым, белый голубь кружился в нем, словно знак судьбы. Я миновал метро «Университет», пошел дальше, забыв про время. Меня обгоняли бегуны в шерстяных костюмах. Над их головами кружился пар. На заснеженных ветках сидели воробьи. Вспоминая материнский наказ не пить, я съехал по длинному эскалатору на набережную Москвы-реки, спустился в метро. Стеклянная эта станция была особенной. В прозрачном голубом кубе ходили люди, подъезжали и отъезжали поезда. Сквозь теплые проблески в стенах-окнах можно было видеть белую замерзшую Москву-реку. Мой взгляд упал на часы, на стрелку, совершающую прыжок в очередную минуту. Вдруг подумалось, что гости, должно быть, уже собрались дома у Нины Михайловны за свадебным столом. Признаться, я плохо представлял себе Антонину в фате, целующуюся с мужем под вопли «горько!».
Солнце тем временем сделалось малиновым. Белые верхушки деревьев, набережная, трамплин и лыжники — все как бы теряло очертания, растворялось в сумерках. Я сел в первый подъехавший поезд. В вагоне горел желтый свет, было тепло. Люди
ехали в основном с продуктовыми сумками. Из сумок торчали серебристые горлышки бутылок шампанского. Одним словом, было благостно, всех осеняло незримое предновогоднее братство. Раньше в такую пору охотно творили добрые дела, щедро подавали нищим и убогим.
На «Парке культуры» я вышел, сунулся к телефонам, прикидывая, какой бы девушке позвонить, какую бы выманить на свидание. В соседних будках какие-то красавицы договаривались о чем-то с незримыми собеседниками, куда более удачливыми, чем я. Я повесил трубку, вышел вон. Давненько я не знакомился на улице. Попытка закончилась, как и следовало ожидать, плачевно. «Тихо, тсс… — прошептала девушка, приложила палец к губам. — Тсс…» — и зашла в вагон, двери тут же захлопнулись. Я, как баран, остался на станции. Девушка помахала сквозь закрытые двери ручкой.
Через некоторое время я очутился в собственном дворе, в сквере, окруженном освещенными окнами. В небе явились первые звезды, набирал силушку мороз. В нашем кухонном окне мелькнул профиль Генерала. Точно в театре теней, он поднес к губам чашку, потом поставил ее на стол. Движения Генерала были несвойственно вкрадчивые. В других окнах тоже совершались действия.
Поднимаясь на лифте, я думал, что либо книжку предстоит читать до ночи, либо смотреть телевизор, одновременно наслаждаясь классической музыкой. Сдержанные ее раскаты остановили меня на лестничной площадке перед самой дверью. Напротив была дверь Нины Михайловны. Теперь, подумал я, в связи со свадьбой, всякие приятные неожиданности для меня за этой дверью исключаются.
В этот самый момент дверь распахнулась, я увидел Антонину в брюках небесной голубизны, в белой шелковой рубашке. Под ногами у нее бесновалась Евка, которая всех встречала, как лучших друзей. Жидкие светлые волосы Антонины по случаю свадьбы были вымыты и распушены. Голубые, широко расставленные, глаза безбожно косили. Почему-то она напомнила мне белого голубя, еще недавно кувыркавшегося в небе.
— Поздравляю с законным браком, — сказал я.
— Тащу тарелки, — сказала Антонина, — слышу, кто-то топчется под дверью.
— Да, — усмехнулся я, — мы с тобой топчемся по очереди.
— Думаю, может, робкий гость какой, а может, мальчик, которому не доверяют ключи. К кому ты себя относишь, Петя?
Я молчал. Мне не понравился этот вопрос.
— Как твои успехи, Петя? Ты по-прежнему целомудрен?
— К сожалению, нет, — ответил я, — только вряд ли это можно считать успехом.
Антонина рассмеялась. Причем не прежним противненьким «хи-хи», а искренним счастливым смехом. Сколько я ни вглядывался в ее лицо, не замечал никаких признаков смущения. Выгибаемая спина, случайные поцелуи на скамейках — все, видимо, оставалось в прошлом, как дешевое ситцевое платье, из которого девушка вырастает. Антонина была невестой — энергичной, веселой, мужу ее можно было только позавидовать. Глядя на Антонину, я думал, что настоящее чувство снимает всю муть, всю накипь. Прошлое теряет смысл, морально устаревает. В настоящем чувстве женщина — Ева, а мужчина — Адам. Настоящее чувство — редкий шанс начать жизнь сначала, хотя, конечно, все хорошо в свое время.
Позади Антонины появилась Нина Михайловна:
— Тоня, Борис спрашивает…
— Вот, мама, открыла дверь, увидела Петю. Как же теперь его не пригласить?
— Нет-нет, спасибо, — я отступил от двери.
— Да ладно ломаться, — сказала Антонина.
— В самом деле, Петя, — озабоченно улыбнулась Нина Михайловна, — заходи. Правда, у нас очень скромно.
За моей дверью вдруг взвыли гобои.
— Сибелиус, — сказала Нина Михайловна.
Словно ветер какой-то задул меня к ним в квартиру.
— Познакомься, это мой муж Борис. У него очаровательная фамилия Андерсен. Как думаешь, стоит мне поменять фамилию? Антонина Андерсен, а? Я думала, может, у него есть какие родственники в Дании или Швеции, но оказывается, его предки пасли скотину в Архангельской губернии.
Поднявшись из-за стола, меня приветствовал обладатель скандинавской фамилии, муж Антонины. Он оказался огромным малым: русоволосым, голубоглазым, как Антонина. Подбородок его и шея тонули в бороде. Рюмка казалась крохотным стеклянным цилиндриком в его, похожих на лопаты, ручищах. За столом еще сидела одна женщина, видимо мать жениха. Больше гостей не было. Свадьбу, следовательно, отмечали скромно.
— Я сосед, — сказал я, — столкнулись на лестнице, Нина Михайловна и позвала. Желаю вам счастья.
Борис приветливо улыбался мне, никакой досады в его глазах по поводу своего прихода я не заметил.
Антонина готовила на кухне какой-то умопомрачительный коктейль. Скромное общество как раз сейчас находилось в ожидании этого коктейля.
Борис учился в университете на географическом факультете. Он специализировался по Арктике, только недавно вернулся с Земли Франца-Иосифа, вместе с гидрологами он облетел все острова. Он говорил про обсерваторию на острове Хейса, произносил загадочные слова: Греэм Белл, Уединения, Визе, Черский. Говорил про уточнение линии берега, навигацию, припай, спутники, с помощью которых определяются какие-то строгие точки. Чувствовалось, он был увлечен. Когда появлялась Антонина, Борис смотрел на нее с нежностью и страхом. Его мечтой было попасть в антарктическую экспедицию. Я машинально кивал, думая, что в этом случае ему придется расстаться с молодой женой года на полтора. Что ж, зато потом будут обеспеченными людьми. Я подумал, напрасно Нина Михайловна переживала. Лучшего мужа для Антонины в природе просто не существовало.
Она звенела на кухне бутылками, что-то весело напевала. Я понял, что абсолютно лишний здесь. Попробовал уйти, но столкнулся с Антониной, которая пошла в комнату за стаканами.
— Ты что, спятил, — сказала она, — сейчас приедет моя подружка, попляшем.
Строго посмотрела на Бориса: плохо, мол, занимаешь гостя.
— В самом деле, — сказал тот, — столько всего остается. Тебе же недалеко идти, куда ты спешишь?
Вскоре объявилась высокая, черноволосая, похожая на кочергу, девица. Мы еще немного посидели за столом, а потом Антонина позвала в другую комнату танцевать.
Я зашел туда последним. Похожая на кочергу девица дымила сигаретой в кресле. На диване сидел и раздумчиво поглаживал бороду Борис. Антонина танцевала посреди комнаты одна. Шелковая рубашка переливалась, распущенные волосы мотались во все стороны.
— Чего это она так веселится? — подсел ко мне Борис. — Будто одна на целом свете?
— Когда вы познакомились?
— Два месяца назад, — сухо ответил он и отвернулся. — Я, очевидно, не современный человек, — произнес через некоторое время. — У меня не было времени на все эти развлечения. Как-то так получилось. Сначала работал, потом поступил в университет, теперь вот Север. Где мне было танцевать? Я даже не знаю, как этот ансамбль называется, который играет. Чего они так орут? Неужели сейчас все так пляшут?
— Она здорово пляшет, — сказал я.
Борис, однако, не разделял моего восторга.
— Мы уедем на Север, — хмуро сказал он, — будем жить на леднике Вавилова, на метеостанции. Там всего пять домиков. Я себя в Москве как-то не так чувствую.
К нам приблизилась Антонина, протянула руки.
— Ты же знаешь, я не умею, — сказал Борис.
— Я научу.
— Поздно.
— А ты, Петя? Тоже не умеешь?
— Я уже разучился.
— Бог мой, — вздохнула Антонина, — это называется свадьба.
За окном в небе возник тонкий рогатый месяц. «Ночью по небу ступают золотые ножки звезд», — вспомнил я строчку из Гейне.
— Первое время мы собираемся жить здесь, — сказал Борис, — так что, наверное, будем встречаться.
— Конечно, — я посмотрел на часы, — пойду, мне пора.
— Вали, вали, — усмехнулась Антонина.
— Пойдем выпьем на посошок, — предложил Борис.
— И сюда принеси, — сказала Антонина, — а то Надя скучает.
— Кто такая эта Надя? — спросил у меня Борис.
Я пожал плечами.
— Тоня говорит, она где-то работает секретаршей, — припомнил он. — Не люблю я этих секретарш, референток, курьерш. Ну, ничего. Скоро нас здесь не будет.
Мы пошли с ним в другую комнату к столу, но стол был чист. На кухне Нина Михайловна с новой родственницей мыли посуду. На тумбочке в комнате горел ночник. Дверь была застеклена. Стекло обтянуто красным ситцем. Лицо Антонины вдруг темным силуэтом отпечаталось на красном ситце. Распущенные волосы, узкие длинные скулы. Когда совсем недавно я видел в окне тень Генерала, то заметил вкрадчивую осторожность его движений. Это было новое в его характере. Здесь же Антонина вдруг положила руки на стекло и теперь смотрела на меня в упор — странная, теневая, как бы устремленная мне навстречу.
— Петя, ты что, уходишь? — в комнату вошла Нина Михайловна. — Не в службу, а в дружбу выведи Евку, а то мы здесь закрутились. Лучше с поводка не спускай, сбежит.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Где, по каким сугробам бродил я с Евкой в предпоследнюю ночь уходящего года? По-прежнему светили окна, мелькали тени, ветер вышибал из глаз слезы, немедленно превращая их в льдинки. Скромный наш сквер обрел в ночи иное измерение. Он тянулся подобно темному лесу, и не было ему конца и края. Уже другие, незнакомые, дома светили окнами. Я угодил в собачье царство. Могучие черные терьеры, нервные доберманы-пинчеры, бородачи эрдели, самостоятельные чау-чау, преданные хозяевам овчарки, псы помельче: спаниели, бигли, пудели, фокстерьеры окружили в заснеженном дворе. Сначала я вел Евку на поводке, точнее, она меня вела, потом пожалел, отпустил, и только успевал поспешать за катящимся впереди черным мячиком.
Я несся в морозной ночи, натыкаясь на деревья. Недавний разговор с матерью, прогулка по Москве, свадьба Антонины, теперешняя погоня за Евкой — я чувствовал, все это были не случайные эпизоды, но черта, подводящая некий итог. За чертой начиналось новое. Однако думать о новом не хотелось. Как в детстве, как в отрочестве пришла на помощь игра, которая прежде спасала меня от монотонности существования, а порой и подменяла саму жизнь. Это не за собачонкой Нины Михайловны я гнался, а за волей, удачей, славой, всем тем, чего в жизни почти не бывает, что отпускается по крохам. И то, что рано или поздно, я поймаю Евку, — ведь не потерялась же она до сих пор, почему именно сегодня должна потеряться? — сообщало игре приятность, потому что в глубине души игра имела для меня смысл, только когда исход был предрешен в мою пользу.
Игроком я, следовательно, не был.
А между тем негодную собачонку надо было искать.
— Ева, Ева! — орал я, пытался свистеть, но только ледяные плевки летели с губ. Месяц скалился с неба, мороз хватал красной лапой за нос, подбегали почему-то другие собаки. В довершение всего замерзли ноги. — Ева!
Чушь лезла в голову. Вспомнил, как однажды пришел домой, а мать с Генералом в большой комнате едят спагетти, наматывая их на вилки. Торжественно гремит Вагнер, арию Брунгильды исполняет знаменитая английская певица. Я посмотрел на мать и увидел в ее глазах такую тоску, такое отчаянье, что стало не по себе. Показалось, еще секунда — и она запустит тарелкой в магнитофон, закричит на Генерала. Но сдержалась. А рано или поздно что-то обязательно произойдет. Хорошо бы — без меня.
Я где-то читал, что прирожденный охотник умеет превращать рассеянные, блуждающие в голове мысли о доме, о семье, о работе — в чувства: в зрение, обоняние, в слух. Тем самым он становится равным в природных данных зверю и птице, оставаясь при этом человеком, в руках которого совершеннейшее орудие убийства — ружье.
Я несколько раз обежал дом, чуть не угодил под машину, шарф остался висеть где-то на кустах, словно диковинный зимний цветок, а Евка все не обнаруживалась. Необходимо было успокоиться, перекурить, а потом трезво и расчетливо прочесать окрестность, предварительно разделив ее на квадраты. Я заскочил в беседку, подышал на озябшие руки, как вдруг услышал под ногами подлое повизгивание.
— Ева, Ева, — не веря своему счастью, я лихорадочно пристегнул поводок к ошейнику. Мерзкая собачонка делала вид, что бесконечно рада нашей встрече. — Ева, — умильно бормотал я. Умиление, впрочем, скоро прошло. Припомнились блуждания среди мороза, потерянный шарф. Захотелось дать Евке поводком некоторую острастку, чтоб не повадно было убегать.
Тут на беседку упала тень. Я оглянулся и увидел Антонину. Она была в белой шубке и в белой шапке.
— Чего ты здесь делаешь? — удивился я.
— Обнаглел, — усмехнулась Антонина, — пошел вывести собаку и пропал на полтора часа. Ты-то ладно, Евку жалко. Все вот ходим, ищем вас.
— Она убежала, как с цепи сорвалась, думал, не найду.
— Ты восхитительно кричал: «Ева-Ева!»
— Я рад, что повеселил тебя.
Пауза.
Только что мне было холодно, теперь почему-то сделалось жарко.
— Мне понравился твой муж, — сказал я, видимо, не совсем то, что было надо.
Антонина посмотрела на меня с интересом, придвинулась ближе. Свет ее глаз странно перемешался с лунным. Ее дыхание согревало мою щеку. Я почувствовал у себя за воротником ее пальцы.
— Мне он тоже нравится, — насмешливо произнесла она, — но… какой ты пошляк, Петя…
— Подожди, — мне стало душно, — зачем… Так нехорошо!
Но было поздно. Мы поцеловались. Все во мне восстало против этого поцелуя, но давно известно: самые сладкие поцелуи — когда нельзя. Мы еще раз поцеловались.
Из беседки было видно звездное небо. Снег переливался, мерцал.
— Как ты думаешь, Петя, — спросила Антонина, глядя на небо. — Бог есть?
— Не знаю, — ответил я.
— Если он есть, то зачем? Неужели чтобы что-то запрещать? Но ведь это… насилие. А разве совместимы бог и насилие?
— Мы с тобой уже говорили на эту тему… Примерно. И, помнится, не договорились.
— Да-да, я тогда подумала: вот лицемер!
— Тоня! Тоня! — послышались далекие крики. То бегал по двору Борис.
— Он выскочил на улицу без шапки, — сказала Антонина, — пойду, а то еще схватит менингит.
Крики Бориса странно подействовали на меня. Я схватил Антонину за руку, притянул к себе.
— Тебе же нравится мой муж, — оттолкнула меня Антонина. — Он ищет меня, страдает, а ты здесь со мной. И все-то тебе даром, да? И бога нет. Ты хорошо устроился в этой жизни, Петя, хи-хи.
Я остался в беседке один.
Часть третья. МОСКВА-РЕКА
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В воздухе плавал тополиный пух. Была некая томность в его скольжении при полном отсутствии ветра. Пушинки летали над нашими головами, проникали в открытые форточки. В сквере, где я когда-то встретил Антонину, тополя качали серыми ветками, как козлы бородами. Воздушная перспектива в сквере была нарушена. Вместо перспективы — ограниченное, замкнутое и помноженное на пух пространство. Когда шел дождь, у луж вырастали ресницы. Пух порождал аллергию, двадцатикратные утренние чихания, зуд и боль в носоглотке. Этот зуд сводил с ума, но мгновениями была в нем приятность, противоестественная в силу своей болезненности, но тем не менее отличающая аллергию от обыкновенных болезней. Аллергия была как бы нейтральной полосой между здоровьем и болезнью. То я почти не замечал ее, то хотелось кричать караул. Собственная жизнь в последнее время напоминала мне аллергию.
Но пух — это еще не все лето. Был июнь. Воробьи дурели от солнца и любви. Один заигравшийся воробей влетел к нам в окно, заметался, остервенело щебеча, над письменными столами, застекленными шкафами, где хранились пожелтевшие, не принятые к публикации, рукописи. Я пожалел воробья, распахнул створки. Он тотчас выпорхнул вон.
— Не нагадил? — полюбопытствовал Жеребьев.
Мы составляли план далекой командировки-экспедиции. На бумаге все выглядело превосходно. Летим в Иркутск. Из аэропорта на машине, которая якобы будет нас ждать, мчимся в Порт-Байкал, садимся на метеор «Комсомолец» и — вперед на подводных крыльях по священным синим волнам в город Северобайкальск. Оттуда намеревались устремиться на лодке вниз, в Баргузинский заповедник, где медведи с берега глушат лапами рыбу. Из Усть-Баргузина думали улететь на маленьком желтом «Ан-2» в Улан-Удэ, а оттуда через Хабаровск во Владивосток. Из Владивостока хотели уехать на автобусе в Уссурийск, где находился Приморский сельскохозяйственный институт, студенты которого изобрели уникальную машину для культивации сои. Далее собирались посетить остров Шикотан, где на рыбокомбинатах девушки нелегкой судьбы запаивают в консервные банки сельдь иваси и сайру. Оттуда путь наш лежал на Камчатку, к рубиновым глоткам вулканов, где по десять месяцев в году скрывался первый муж Ирочки Вельяминовой, забывая про все на свете. На Камчатке мы предполагали взойти по трапу на военный корабль — и океаническим маршем в холодное Чукотское море, на самую дальнюю нашу пограничную заставу. Здесь путешествию конец. Отсюда — домой в Москву, родным мне рейсом Анадырь — Хатанга — Амдерма — Москва.
Предприятие выглядело дорогостоящим и экзотическим, то есть именно таким, чтобы никому в редакции не понравиться. Но Жеребьев подвел под него соответствующую теоретическую базу, в результате чего дело обернулось так, что мы с Жеребьевым оказывались патриотами родного журнала, отваживались на тяжкий труд, жертвовали собой на благо общего дела. Он так хитро вел свою политику, что плод сам свалился нам в руки.
Жеребьев обладал редким талантом добиваться цели таким образом, что все находились в уверенности, что навязывают ему свою волю, заставляют делать что-то такое, чего Жеребьев не хочет. Соглашаясь, тем самым он как бы оказывал одолжение. Жеребьев так входил в роль, что по мере приближения к цели сама цель становилась для него уже не столь желанной. Главная прелесть заключалась в процессе достижения. Когда было очевидно, что все в порядке, он скучнел и уже сам придумывал дополнительные препятствия, которые сам же с блеском и преодолевал. «Давят, торопят нас с этой поездкой!» — искренне бормотал Жеребьев, забывая, каких стоило трудов, чтобы начали давить и торопить. Жеребьев думал о жене, которая уехала с сыном к своей матери в Темрюк. Она гуляла по Темрюку, дышала соленым воздухом, прихлебывала, должно быть, пиво, закусывала таранькой и ничего не давала о себе знать. До возвращения жены Жеребьев трогаться не хотел.
— Воробей, спрашиваю, не нагадил? — оторвался от бумаги Жеребьев.
— Нет вроде.
— Если нагадил — к покойнику.
— Нагадил, подлец! Прямо на рукопись.
— На какую? — живо заинтересовался Жеребьев. — А… Это графомания. Ни в коем случае не будем печатать. Воробьянинов прав.
— А вдруг мы разобьемся на самолете?
— Петя, — положил ручку на стол Жеребьев. — У меня такое впечатление, что ты не рвешься.
Таков был стиль Жеребьева — исподволь навязывать собеседнику собственные сомнения, собственные мысли. И, энергичнейше разубеждая его, тем самым разубеждать себя. Иначе он не мог. Где достаточно было прочертить между двумя точками короткую прямую линию, Жеребьев чертил десяток длинных ломаных.
— Нет, я рвусь, — не стал на сей раз ему подыгрывать я. — У меня дед родом из Иркутской области.
— Это, конечно, причина, — глубокомысленно произнес Жеребьев. — Будь у меня дед родом из Иркутской области, я бы летал туда каждую неделю. Но я, честно говоря, почему-то решил, что ты влюблен, и уже собирался прочитать тебе стихотворение Тютчева: «В разлуке есть высокое значенье: Как ни люби, хоть день один, хоть век, Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, и рано ль, поздно ль пробужденье, а должен наконец проснуться человек…»
— Да-да, конечно, — пробормотал я, — любовь есть сон.
Даже в ресторанный двор под нашим окном, где не было ни одного дерева, пробрался тополиный пух. Пушинки кружились вокруг пирамид пустых ящиков, ползали по асфальту. Какая-то несправедливость виделась в том, что они резвятся среди камней города, без всякой надежды воткнуться в живую теплую землю.
Телефон безмолвствовал. Я поднял трубку, убедился в наличии непрерывного гудка, что свидетельствовало об исправности аппарата. Потом долго следил за одной пушинкой, осознавшей тщету пребывания в ресторанном дворе. Она долго примеривалась взлететь, наконец ей это удалось, но все закончилось тем, что она угодила в мертвый штиль между нашими оконными рамами. Здесь пушинка нашла свой конец.
Я вдруг обнаружил, что не слышу, что говорит Жеребьев.
— …зарплату, — уловил лишь последнее слово.
Оказывается, привезли зарплату.
Вечернее солнце светило длинными, как копья, лучами. Нить, связующая меня с миром: комнатой, столом, рукописями на столе, предстоящим путешествием — истончилась, сделалась легкой, как паутинка. То было странное и опасное состояние.
— Только что разговаривал с начальством, — вернулся, вздыхая, Жеребьев. — Можем собирать чемоданы.
В этот момент зазвонил телефон. Оттолкнув Жеребьева, я схватил трубку.
— Да, — заорал, — это я, да, все время ждал, что ты позвонишь.
Антонина, как водится, несла какую-то чушь. Якобы толстенный том Артюра Рембо свалился с полки ей на голову. Якобы у нее незаметное сотрясение мозга, внезапное изменение духовной сути. Она вдруг в одно мгновение вспомнила французский язык, разве я не знал, что ее предки из Франции? В доказательство этого бреда была произнесена тарабарская, будто бы на французском, фраза. Я слушал ее одним ухом, прижатым к телефонной трубке. В другой вплывали иные звуки: шум машин, треск пишущих машинок, ругань в ресторанном дворе, музыка из далекого окна. Связь моя с миром вновь упрочилась. Мне казалось, я одной рукой сумею приподнять письменный стол.
— Да, — сказал я, — мы встретимся, где ты скажешь и когда ты скажешь.
Я забыл, что несколько дней назад расстался с Антониной навсегда, поклялся разбить телефон, если она позвонит. Решил, скорее повешусь, чем когда-нибудь встречусь с ней.
Я договорился встретиться с ней через час у Библиотеки имени Ленина, где сейчас она — замужняя дама — работала.
— Кстати, Петя, — сказал Жеребьев, когда я повесил трубку. — Почему ты зажал новоселье? Даже я еще не был у тебя на новом месте.
— Боюсь, это вам не доставит большого удовольствия, — ответил я. — Ни кресла, ни стульев. Холодильник появится только в конце месяца. Так что холодненького пива, увы!
— А мы попьем тепленького.
— Ладно. В таком случае, — я посмотрел на часы.
— Но не сегодня. — Жеребьев энергично сложил бумаги в портфель, помахал рукой и ушел. Иногда он уходил с работы удивительно бодрый, полный сил. Глядя на него, оставалось только пожалеть, что рабочий день так быстро кончился.
Я остался один. У меня еще было несколько минут. Снова зазвонил телефон.
— Петя? Здравствуй, — сказала мать. — Как живешь? Почему ты не звонишь, не заходишь? Я так давно тебя не видела.
— У меня все в порядке, мама, — ответил я. — Живу хорошо.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Живу хорошо, — повторил я и вспомнил зимнюю предновогоднюю ночь, когда вернулся домой и долго сидел на кухне. Я то ли спал, то ли бодрствовал, а может, грезил наяву. Услышал, как хлопнула на лестничной клетке дверь, бросился в прихожую, приник к глазку. Это уходила мать Бориса.
Потом почему-то привиделся Игорь Клементьев. Он стоял предо мной в распахнутой шубе, и только глаза были чуть светлее обычного.
С глазами как снег передо мною стоял Игорь и говорил: «Ты никогда ничего не напишешь. Во-первых, ты бездарен. Во-вторых, ты изначально вял, безволен, ни на что не способен. Самую суровую, грубую жизнь ты ухитряешься превращать в кисель. Ты профессиональный кисельщик, Петя, вечный студень. Ты осуждаешь меня не потому, что ты такой уж моралист-нравственник, а потому что не можешь за мной угнаться. Я обогнал тебя в этой жизни, да-да-да, и это окончательно и бесповоротно». — «А дочь, которую ты бросил? — будто бы завопил я. — Ты строишь собственное благо на неоплатных детских слезах, подлец!» — «Ты, верно, не читал Владимира Одоевского, — горько усмехнулся Игорь, — и не знаешь, русский его Фауст сказал, что непременное несчастье каждого отдельно взятого члена общества есть необходимое условие существования самого общества». — «Ложь, ложь, — замахал я руками, — сто философов пишут, проповедуют, и все правы. На все случаи жизни существует спасительная ложь, надо только выбрать подходящую. Ты вот решил, что цель оправдывает средства, только забыл, что человек — система саморазрушающаяся, ты решил себя разрушить». — «Дурак ты, Петя, — с жалостью посмотрел на меня Игорь, — вечный студень и вечный дурак». И растаял в кухонном сумраке. Тусклая настольная лампа, помнится, горела на столе. Я смотрел в черное масленое окно. Казалось, рогатый месяц дергает за нитки — и звезды прыгают, дрожат. Сколько я ни вглядывался в окно, не видел собственного отражения. Только пепельницу видел, ощетинившуюся окурками, словно еж.
Вдруг звонок в дверь. Антонина предстала предо мной. Она была в глухом черном свитере, как дерево в коре. Далеко отстоящие друг от друга глаза блестели, как ледышки. Глаза ее, как всегда, были чисты, но мне почему-то показалось, что она плакала.
— Чего это ты переоделась? — спросил я. — Из белого да в черное?
Антонина приложила палец к губам.
— Я пришла за солью и за спичками, — прошептала она. — Мы пролили на скатерть вино, надо засыпать солью. Мама хочет курить, а спички кончились. Господи, какой же ты слабый, Петя.
Я вытащил из шкафа пачку соли. Спички тоже нашлись.
На стене тикали ходики, свесив гири до самого пола.
— Будь я твой муж, я бы тебя пристукнул. Слышишь, ходики? Ты здесь уже пять минут.
— Слышу. У нас такие же, только не кукушка, а мужик с гармонью выскакивает.
— Когда-нибудь выскочит с топором.
— Знаю, хи-хи.
— Знаешь? — усмехнулся я. — Чего же здесь сидишь? Чего плачешь?
— Потому и плачу.
Ни наглости, ни греховности не было в ее голосе. Скорее в нем звучало смирение. Но перед чем? Вряд ли Антонина смирялась с ролью безропотной верной жены, готовой отправиться с мужем на Северный полюс, на ледник.
И я как-то был в этом замешан.
Но я не хотел быть замешанным в чужих несчастьях.
— Только не я, — прошептал я. — Никогда не стану причиной. Не стану наблюдать, как ты мучаешь этого несчастного парня, доводишь его…
— У тебя завышенные представления о собственной персоне, — сказала Антонина. — Пошел ты!
— Вон! — гаркнул я. — Убирайся вон. Больше никогда не приходи, хватит.
— До свидания, идиот… Пингвин. — Антонина стремительно вышла, не забыв, однако, прихватить соль и спички.
То был конец. Она ушла. Я остался один, совершенно один в тусклой полутьме. Была Антонина, была жизнь, иррациональная ли, инфернальная ли, но жизнь. Она ушла — ушла жизнь, зато восторжествовала мораль. Неожиданно подумалось: неужто так называемой моралью маскируются трусость, безволие, изначальное бессилие перед живой жизнью? Я сидел как в вакууме в темной кухне без любимой, без друзей, без близких. Который час? Кто правит миром, если человек неспособен править собственной жизнью?
По двору скользнула машина. Свет фар бежал по веткам кустов, хрустальным от инея.
Я смотрел то в окно, то в потолок, угадывающийся вверху светлым пятном. Машина уехала. Совершенно опустел двор, где я недавно бегал по сугробам, крича: «Ева! Ева!» Месяц сдвигался за крышу, цепляясь за архитектурные излишества — две башни по краям. В данный момент он повис между башнями — они светились. Все противоположные окна были темны. Но вот в одном зашевелился желтый клубочек, то горела, трепетала свеча. С огромным трудом я разглядел девушку в белой ночной рубашке, если только она не была плодом моего воображения. Темные, как вороновы крылья, волосы лежали на плечах. Так же, как и я, сидела девушка ночью на кухне, только не с тусклой лампой, а со свечой.
Что же за символ такой свеча — в век электричества?
Однако же без свечи нынешняя ночь была бы совсем пропащей. Выходило, даже в своем одиночестве я не одинок. Я поднял со стола тусклую лампу, стал чертить в окне каббалистические геометрические узоры, сколько позволял провод. Свеча мне ответила. Словно два недоразумения посылали друг другу сигналы: тусклая лампа и свеча. Но вот девушка тронула пальцами свечу, затушила огонек. Окно растворилось в темноте. «Даже здесь, — подумал я, — девушка следует каким-то правилам. Допустим, приди я сейчас к ней… Что она? Наверное бы, выгнала. И все мои переживания превратились бы в фарс. Какова же им цена, если в жизни все так легко переходит в фарс? Зачем тогда игра в лампы-свечи? — И совсем неурочная мысль: — А будь на месте этой девушки Антонина, она бы не выгнала… Вот только хорошо ли это?»
Ответа, естественно, не было.
Ночная погоня за Евкой, странное объяснение с Антониной, игра в свечи-лампы, нынешнее сидение на кухне — все оказалось отвлекающей мишурой. Под ней пряталось решение, принятое мною вопреки самому себе: у меня больше нет дома, никакая сила не заставит меня здесь оставаться! Свадьба Антонины ускорила дело.
От всего этого я отвлекался, созерцая свечу и лампу.
Довольно противоестественно было сознавать, что отныне мне не жить в любимой своей продолговатой комнате, не смотреть из окна на качающиеся ветви деревьев, не стучать на любимой пишущей машинке (совсем недавно я закончил второй, со времени сожжения чукотских, новый рассказ), не следить задумчиво за розовыми многоугольниками, перемещающимися во время заката по стенкам и полу.
Ничего этого не будет.
Я похлопал себя по карманам штанов, обнаружил смятую пачку сигарет. Выключил лампу, курил, стоя у окна. «Но ведь и матери, следовательно, не будет, — подумал, тут же погасил сигарету, начал суетливо и фальшиво оправдываться. — Почему это не будет? Что за чушь? Я буду приходить…» Конечно, размолвки между родными, близкими людьми самые долгие, глубокие, потому что душа не приемлет объяснений, бесстрастного анализа. Та, другая, душа должна чувствовать твою бесконечную правоту. Не чувствует? Значит, ты еще бесконечнее прав. Но моя мать не подходила под это правило. И не размолвка была между нами. Между нами стоял дом, преданный, разменянный-переразменянный, открытый всем ветрам, дом, переставший быть домом, и ни я, ни она не могли ничего поправить.
Надо было хоть немного поспать, но идти в бывшую свою комнату не хотелось. Можно поспать на кухне за столом.
…Ранним утром я бодро выбежал из подъезда на улицу. Это было последнее утро старого года. Деревья, сугробы, беседки во дворе горели синим газовым огнем. Нелепой шуткой казалась ночная игра в свечи-лампы. Еще не вывели гулять собак. Полупустые, уютно изнутри освещенные троллейбусы неслись по проспекту. Я спустился в длинный подземный переход. Ни одного человека. Я несся по переходу, подпрыгивая, касаясь кончиками пальцев теплых светильников на потолке. Вот он, утренний бег, о котором я когда-то мечтал, который когда-то мне снился, вот он, как и все в моей жизни, неуместный, глупый, бессмысленный. Куда бегу я из родного дома в последний день уходящего года? Покой, уверенность, душевное равновесие — я существовал вне этих категорий, они были неприменимы ко мне, бегущему ранним утром из родного дома. Зато в окружающем мире неожиданно открылась гармония. Когда выскочил из перехода на другой стороне проспекта, матовое солнце поднималось над домами, над сквериком, где я когда-то после грозы встретил Антонину. Тонконогое войско тополей несло его на заиндевелых ветвях.
Когда ступил на Красную площадь, куранты пробили девять. В посветлевшем небе летали и каркали вороны. Вспомнил старых историков: во все века — и когда строили храм Василия Блаженного, и когда рубили головы стрельцам, и когда народ гулял — летали и каркали над Красной площадью вороны. Несмотря на относительно раннее время, снег здесь был истоптан.
Я подумал, Антонина уже проснулась. Прежняя служба в НИИ приучила ее вставать чуть свет. Вдруг очень ясно представил себе, как она неприязненно толкает Бориса локтем в бок: «Вставай, борода, слышишь?» Тот, должно быть, сразу не просыпается. «Принеси кофе, — шипит Антонина. — Слышишь, толстяк, ступай на кухню, сейчас же принеси сюда кофе. Мама уже приготовила». — «Какой кофе? Куда? — не понимает ничего Борис. — Зачем?» — «В постель. Я так хочу!» Он пожимает плечами, свешивает с постели ноги, нашаривает на полу тапочки. «Боже мой, Боря, что ты здесь делаешь?» — всплескивает руками Нина Михайловна, увидев его на кухне. «За кофе пришел», — угрюмо отвечает Борис. «Ты понесешь ей кофе в постель?» — «Да!» — рычит Борис.
А может, все там и не так. Какое мне дело?
Я шагал по мосту, внизу была покрытая льдом и снегом Москва-река. Уши на шапке были опущены, я тяжело дышал, точно маленький паровоз выпускал клубочки пара. Вспомнилось кладбище паровозов под Карагандой. Некогда воспетые как чудо техники, дышавшие маслом и огнем, посверкивающие медью рычагов в кабине, пурпуром колес — теперь сгрудились недвижные, безмолвные, безглазые на запасных путях. За этим виделась какая-то ущербность технического прогресса, подростковая его неразумность, когда тренированные мышцы ценятся превыше души. Но виделся за этим и арьергардный марш души, неизбежно возвращающейся на территории оставленные, оскверненные техническим прогрессом. Даже черное паровозное кладбище может явиться предметом слез, печальных раздумий.
Мысли прыгали, как каучуковый мячик. Я вдруг вспомнил, что сегодня, как ни странно, рабочий день, следовательно, можно получить в бухгалтерии деньги на поездку в Эстонскую ССР.
Круто развернулся, зашагал в обратную сторону. Снова по мосту, потом по Красной площади, по подземным переходам до нужной автобусной остановки.
Завтракал в какой-то кулинарии, глотая горячий, сладкий кофе, заедая твердым круглым коржиком. Читал кем-то прочитанную и оставленную газету, облокотившись на потрескавшийся мраморный стол. В зеркале на стене отражалась моя помятая, небритая физиономия. Примерно такая же физиономия маячила за соседним столом. Взгляды наши встретились, новоявленный близнец щелкнул себя по горлу. «А, собственно, что, кого, — несвязно подумал я, — кого я поднимаю своими писаниями, кому сообщаю иные, более высокие представления о жизни? Одни и те же мысли пережевываю, как жвачку. А сам… Мнимая нравственность от трусости, ведь даже чтобы грешить, нужен заряд воли, энергии. Бездарь! — Как и всегда, когда я задумывался о своих писаниях, сделалось не по себе. — Но если не писать, тогда что? Что?» — об этом думать было еще страшнее. Вновь уткнулся в газету.
Это была газета, где работал Игорь. Сережа Герасимов выступил с большим материалом, разоблачил предприимчивого мерзавца, который нанимал на озере Селигер катер, кружил, как коршун, вокруг туристских лагерей, собирал пустые бутылки. Потом плыл, сдавал их в единственный на всю округу приемный пункт, с начальником которого он, естественно, был в сговоре. Деньги текли рекой. Собиратель бутылок вскоре приобрел машину. Отогнал ее в Грузию, продал. Потом проделал то же самое со второй. На третьей машине попался. Все это было интересно описано, я вспомнил свой недавний разговор о Сереже с Игорем Клементьевым. «Ты никогда не сможешь писать так, как Сережа, — сказал мне Игорь, — тебе, видишь ли, попросту не дано постигнуть психологию насилия, стяжательства, азарта, когда человек, казалось бы, имеет все, но не может остановиться. Конечно, написать-то об этом ты напишешь, но не так, как Сережа. Ты напишешь пресно, скучно, потому что понятие «жизнь» для тебя в некотором роде идеальное, то есть свободное от пороков, во всяком случае так ты его понимаешь. Пороки кажутся тебе гадкой аномалией, они вне твоего разума. Для Сережи это самая настоящая жизнь. Он видит здесь страсть, боль, смысл, комедию, трагедию — все то, чего не видишь ты. Тебе противно. Ты, — Игорь усмехнулся, — любишь ощущать себя чистеньким. Сережа — другой человек». — «Какой же?» — уточнил я. «В его душе живут эти самые семена, — ответил Игорь, — он понимает этих людей. Ты — нет. Как же можно живо написать о том, чего не понимаешь?»
Покончив с кофе и с газетой, я вышел в холодный предбанник кулинарии. Там меня поджидал небритый, помятый тип, артистически повязанный шарфом.
— Гёте непрерывно шлифовал пилочкой ногти, — возвестил он, — Барух Спиноза обтачивал линзы. Во время этих однообразных занятий им в головы приходили гениальные мысли. Меняю увеличительное стекло на три бутылки пива, — он вытащил из кармана захватанный мутный кружок, повертел им у меня перед носом.
— Спасибо, не надо, — отодвинул я его трясущуюся руку.
— Тогда пошли во двор, — сказал он, — сейчас всего десять утра, но я гарантирую портвейн, ребята вынесут через подсобку. Моя организация, твои деньги, идет?
— Нет, — ответил я, — не идет.
Тип смотрел на меня с сожалением.
Я нашарил в кармане железный рубль.
— А вот и не надо, — неожиданно обиделся тип.
Я хотел спрятать рубль, но он так же неожиданно передумал, перехватил рубль и исчез, помахав мне трясущейся рукой.
Озадаченный, я сел в троллейбус, поехал в бухгалтерию, которой уже было время открываться. Там получил командировочные, устремился на Ленинградский вокзал.
— На какое вам число? — приветливо спросила кассирша. Она была молода и, видимо, не замужем, поэтому окончательно не потеряла интереса к клиентам. Они еще не превратились для нее в безликое стадо, которому приятнее всего отвечать «нет!».
— На сегодняшнее. Есть билеты?
Она потыкала железным карандашом в какие-то гнезда.
— Имеются. Решили встречать Новый год в поезде?
— Давайте вместе встретим? Тогда никакого поезда.
— Любишь заложить за воротник? — кассирша смотрела на меня почти что с симпатией.
— Вообще-то нет, — ответил я тусклым интеллигентным голосом и почувствовал, как мгновенная близость, зародившаяся было между нами, улетучилось. Своим «вообще-то нет» я ее уничтожил. Получилось, пока закладываю за воротник, такие девушки, как кассирша, мне приятны, когда не закладываю — ничего общего у нас быть не может.
Лицо кассирши сделалось равнодушным. Она протянула билет, сдачу.
Говорить больше было не о чем.
«Редчайший талант, — думал я по пути в редакцию, — быть чужим всем без исключения. И я наделен им в полной мере».
Из редакции позвонил матери.
— Где ты шляешься? — строго спросила она.
— Прямо сейчас уезжаю в командировку в Эстонию, — сказал я. — Вернусь после Нового года. Так получается. Ты не обижайся, все равно я бы на Новый год куда-нибудь ушел.
Она молчала. В ее молчании чувствовалась некоторая растерянность. Мне было нетрудно угадать ход ее мыслей. Странное дедово сидение на даче, нелады с Генералом и… еще и это. Да, именно, еще и это, так она подумала.
— Еще и это, — тихо произнес я.
— Что ты сказал? — встрепенулась мать.
— Я? Ничего.
— Значит, показалось. Или это я сказала?
— Я быстро вернусь, ты не расстраивайся.
— Петя, скажи, это серьезно?
— Что серьезно? — я сам не знал, зачем мучаю ее.
— Ты действительно надумал жениться?
— Жениться? Как это… — мне захотелось закрыть ладонями глаза, застонать, закачать головой, зашептать: «Боже мой…».
— Из какой хоть семьи девушка?
— Как только вернусь, сразу тебя с ней познакомлю. Обещаю. До свидания, мама, поздравляю с Новым годом. Кланяйся Генералу.
— Петя, подожди.
— Извини, мама, некогда. Вызывают к начальству.
— Ты хоть придешь домой?
— Конечно, надо же мне собрать вещи. — Я повесил трубку. Почему-то меня разобрал ненормальный смех. Потом поехал в Елисеевский гастроном и стоял целый час за шампанским.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
— Живу хорошо, — в третий раз повторил я, ощущая изначальный аллергический зуд в носу.
— Что ж, рада. — Голос у матери был грустный.
Я подумал: отношения наши как-то замерли, остановились. Снова вспомнились мертвые паровозы под Карагандой, которые уже никуда не поедут. Нынешний наш разговор мог состояться и зимой, когда я собирался в Эстонию, и весной. А сейчас лето. Но слова, интонации не изменились. Она застыла в неясной робкой обиде, я — в лицемерном трусливом утешении: ничего, мол, не произошло. Что с того, что я ушел из дома, я все такой же любящий сын, только взрослый, живущий отдельно.
— До свидания, Петя, — вздохнула мать, — я чувствую, тебе не до меня.
— Нет, что ты, — ответил я, — просто… не знаю. Не знаю, как все вернуть. То есть не вернуть, а… В общем, не знаю, — я сбился. Выяснять отношения с матерью было выше моих сил.
— Боже мой, — воскликнула она, — с кем ты воюешь, Петя? Зачем? Что ты хочешь мне доказать?
«Действительно, с кем воюю?»
Я вспомнил недавнюю прогулку по Москве. Был жаркий вечер, листья на деревьях, казалось, плавились, стекали с веток зелеными каплями. В старых переулках бег времени почти неощутим. Из окон высовывались головы, сплевывали семечки. Жаркий, липкий, насыщенный тополиным пухом воздух напоминал плохо очищенное подсолнечное масло. Жара душила шум. Сквозь масло, как во сне, замедленно двигались машины и пешеходы. Я свернул в Кривоколенный. Всегда, когда была возможность, я туда сворачивал, потому что это было отчасти мне родное место.
Когда-то давно, до переезда на другую квартиру, здесь жили дед и мать, а я, наполовину не ведающий родства, относился к таким местам с почтением. Вот он, этот дом, назначенный на снос. На одном из подоконников остались горшочки с засохшими цветами. Перед домом росли три огромных тополя, наверное, их спилят. Но пока они росли, давали тень, насыщали воздух невесомым пухом. На скамеечке под тополем я вдруг увидел женщину в белом платье, показавшуюся удивительно знакомой. То была моя мать. На коленях у нее лежала книга. Она смотрела то в книгу, то на дом, то на тополя. У нее был спокойный, умиротворенный вид, словно именно здесь, на скамеечке, возле назначенного на снос дома, произошло долгожданное примирение с действительностью. Я спрятался за угол. Что-то неловкое заключалось в самом факте нашей встречи возле этого дома. Неловкое и… родное. Я, ее сын, повторял ее в том, в чем мне меньше всего хотелось ее повторять. «Надо же, — подумал я, — встретить ее здесь, в Кривоколенном, в белом платье, с книгой на коленях. Много лет назад девочкой она качалась здесь на качелях… Девочкой. Что же тогда долгая последующая жизнь? Годы и годы. Выходит, качели, Кривоколенный, белое платье, счастливое детство и… всё? Стоп?» Я подумал, она вот-вот поднимется, уйдет, но она, напротив, углубилась в чтение. Я стремительно зашагал прочь. Для меня, естественно, не являлось секретом, что человеческая душа должна иметь некие привязанности: к людям, вещам, улицам, домам, природе. Ни дед, ни Генерал, ни я таковыми привязанностями для матери не являлись. Получилось, сегодня в
Кривоколенном я невольно определил иную ее привязанность. Определил и изумился ее эфемерности. Она напоминала летящую в воздухе паутинку, тополиный пух. Разве можно принимать ее всерьез? Но, с другой стороны, как объяснить мою собственную прогулку? Выходило, мы с матерью бесконечно похожи. Выходило, родовое, общее у нас именно то, от чего я так стремился избавиться. Перевоспитать себя. Я одновременно повторял мать и не хотел, совершенно не хотел повторять. В полнейшей растерянности я шагал сквозь горячий воздух, отплевываясь от тополиного пуха.
— Я с тобой не воюю, мама, — сказал в телефонную трубку, — и ничего не хочу тебе доказать. Ничего и никому. Может, только себе. С собой воюю, себе хочу доказать. Если я вдруг тебе понадоблюсь или еще что-то… Позвони. Я всегда с радостью приду, помогу, сделаю, что смогу. И вообще просто так приду. Слышишь?
— Слышу, — ответила мать бесцветным голосом. — Спасибо.
Она мне не верила.
Я посмотрел на часы. Опаздывал на свидание с Антониной, надо бежать!
ПРО АНТОНИНУ
В метро — быстрей, быстрей — каблуки страшно стучат по эскалатору. Тетка, сидящая внизу, пару раз подносила ко рту микрофон, чтобы приостановить мой стремительный спуск, но я сразу же замедлял движение, и она разочарованно молчала. Однако же, когда эскалатор выровнялся в горизонтальную плывущую дорожку, тетка не выдержала: «Куда несешься, остолоп? Шею хочешь сломать?» Я зыркнул на нее, тетка отвернулась. Должно быть, глаза у меня пылали, как сковородки. Одна лишь мысль: скорее увидеть Антонину. Так повелось и упрочилось: еще я только бежал на свидание с Антониной, а неведомый могучий ветер ломал многосложные логические построения, выстраданное, как мне казалось, намерение разобраться наконец в отношениях с Антониной, покончить с этой нелепой, болезненной любовью. Когда я не видел Антонину, построения, намерение казались единственными и окончательными, как бы каменными. Когда бежал к ней — они оказывались легче тополиного пуха. Антонина была сильнее моей нравственности, сильнее моих представлений, что хорошо, что плохо. В Антонине уживались «хорошо» и «плохо». Расстаться мы могли в одном случае: если захочет она.
Выдержав единоборство с закрывающимися дверями, ворвался в вагон. Душно. Час пик, все возвращаются с работы. Кто спит, кто вцепился в гигантскую сумку, кто нервно и озлобленно смотрит по сторонам. Поезд провалился в черный туннель. Я вспомнил, что в детстве, когда еще жил в Ленинграде, любил считать светильники в туннеле от одной станции до другой. А сейчас забыл, что в туннелях существуют светильники. Вместо светильников видел в темном зеркале окна себя, стиснутого со всех сторон людьми. «Какой Байкал? — думал в бешенстве. — Какая, к чертям, Камчатка? Антонина, Антонина!» Поездку, однако, отменить было нельзя. Следовательно, предстояло на время расстаться с Антониной. Сердце забилось сильнее, на лбу выступил пот. То было состояние, и прежде мною испытываемое. Допустим, сидишь на лекции, до звонка десять минут, а тебе хочется, чтобы он зазвенел немедленно. Но сделать это не в твоих силах, потому и бесишься. Конечно, это нелепый каприз. Игорь Клементьев однажды назвал эти мои заскоки сытыми истериками. Ну да, все есть, подавай еще и это, хочу быть владычицей морскою!
Нынешняя истерика, однако, была не от сытости.
Среди безобразного разгула наших отношений, точно горестная скала, высился Борис — муж Антонины, темно-русый, бородатый полярник. Совсем недавно я случайно встретил его на улице: за плечами рюкзак, в руках по небольшому железному ящику. В таких ящиках обычно носят приборы. Борис сказал, что сейчас едет на институтский полигон — через сорок минут будет автобус, — а через неделю улетает на несколько месяцев на Северную Землю, на гляциологический стационар на леднике Вавилова. Стационар врос в лед по самые уши. И под ногами там полкилометра льда. Переходы из помещения в помещение белы от инея, лед растет, кристаллизуется буквально на глазах. Борис смотрел на меня с симпатией и некоторым превосходством. Хлопал по плечу, говорил, что постарается привезти моржовый клык или обломок мамонтова бивня. Я сказал, что бывал на Севере, эти прелестные вещицы у меня имеются. До автобуса оставалось полчаса. Борис зазвал меня в пивную. Мы взяли по две кружки. Пока пили, говорили о Севере. Потом он спохватился, что надо обязательно позвонить Антонине, оставил меня стеречь вещи, побежал искать телефон-автомат. Когда-то, помнится, я весело посмеивался над первым мужем Ирочки Вельяминовой, не то спелеологом, не то вулканологом, который по десять месяцев в году сидел в пещере, в рубиновой глотке вулкана. Нынешняя ситуация напоминала мерзкий сон, который пожелал сделаться явью, гнусный анекдот. Ирочка, хохоча, кричала, что лучших мужей, нежели спелеологи-вулканологи, не сыщешь. Теперь, стало быть, надо еще прибавить к ним полярников-гляциологов. Мне было не по себе еще и потому, что велся разговор в присутствии Сережи Герасимова, которого я тогда безусловно осудил, а сейчас сам шел по его стопам. Тем более что как человек Борис мне нравился. Я подозревал, он просто-напросто порядочнее, искреннее, лучше меня. Я вспомнил, он говорил, что по леднику Вавилова, географически максимально удаленному от мест промышленной деятельности человека, по степени его загрязненности можно вообще судить о степени загрязненности планеты. В частности, этим он и будет там заниматься. «А о человеке? — подумал я. — Как судить о степени загрязненности человека?»
— Я хочу, — вернулся Борис, — чтобы она поехала со мной на ледник. В конце концов, она моя жена. Я же собираюсь писать диссертацию, а там материал, там всё. Мне без ледника никак, тем более если потом собираюсь в Антарктиду. Ты же летал на Полюс, знаешь, там можно жить, поговори с ней, расскажи. Она мне не верит, кричит, что из-за своей диссертации я готов похоронить ее во льдах.
— Вряд ли она меня послушает, — мой голос от долгого, подлого молчания скрипел, как несмазанная дверная петля.
— Я тут прикинул, — задумчиво проговорил Борис, — кроме тебя, у нас с ней нет общих знакомых. Да и то ты сразу переехал после нашей свадьбы.
— Пусть лучше с ней ее мать поговорит, — я вышел из-за стола, дал мысленную клятву никогда больше не встречаться с Антониной.
— Мне хочется, чтобы у нас был ребенок, — Борис словно не заметил, что я вышел. — Я ей предложил: не хочешь со мной на ледник, давай заведем ребенка. Она устроила скандал. Я даже сказал, что не поеду на ледник, постараюсь устроиться в Москве, она сказала: ей плевать. Почему она так себя ведет? Извини, я понимаю, конечно, глупо вот так втягивать тебя в наши отношения…
— До свидания, Борис.
Так он и запомнился: растерянный, недоуменно смотрящий на меня из бороды. «Видишь ли, Петя, — то ли раньше, то ли позже сказала Антонина, — это человек, которого нельзя обмануть. Он настолько прост и неиспорчен, что не верит в само существование такого понятия, как обман. Я подозреваю, он и сам ни разу в жизни не соврал. Этим он немного похож на мою маму. Если же обман, что называется, налицо, у него в голове как бы происходит короткое замыкание. Он тупеет, впадает в долгое гробовое молчание. Потом начинает думать, что чего-то не понял, зачем-то просит у меня прощение. Это, конечно, прекрасно, возвышенно, но… — поморщилась. — Впрочем, ты ведь у меня тоже пингвинчик, а? Ведь мучаешься же, что все тайком от него, а? И потом, слушай, до встречи со мной у него не было ни одной девушки. Он сам сказал. Разве это не очаровательно?» — «Но ты не смогла сделать ему ответного признания?» — усмехнулся я.
«Совесть, — подумал я, — как ни странно, но бедная, задавленная совесть — причина истерики. Надо либо жениться на Антонине, — от этой мысли меня прохватила дрожь, — либо раз и навсегда расстаться с ней». — Опять дрожь.
Мое лицо — бледное, подергивающееся — смотрело из черного зеркала. Сколько я ни вглядывался в мелькающую тьму туннеля, не увидел ни одного светильника. Или их не было, или я разучился видеть светильники.
ПРО АНТОНИНУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Около Библиотеки имени Ленина я появился вовремя, однако Антонина не поджидала меня, покуривая на своей любимой каменной лавочке. Поднялся ветер, тополиный пух ожил. Серо-белое кружево полетело в сторону дома, на крыше которого, по мнению некоторых литературоведов, мессир Воланд заканчивал дела в Москве. Вскоре показалась и Антонина. В черном плаще с погончиками, она сейчас не походила на гибкую ветку. Антонина шагала как-то тяжело, устало, словно груз прежних и нынешних безумств клонил ее к земле. Однако этого быть не могло. Подобный груз одновременно был и крыльями Антонины. Ее клонило к земле что-то другое. Лицо, как всегда, было свежим, широко расставленные глаза ясно синели. Кто не знал Антонины, мог подумать, что в данный момент она размышляет о муже, о матери, о том, что купить к ужину по дороге с работы.
Точно такое же свеженькое лицо и ясные глазки были у нее однажды ночью, когда я проснулся у себя в Оружейном переулке от длинного, кошмарного звонка в дверь. На пороге коммунальной прихожей стояла улыбающаяся Антонина. Куртка на ней была разодрана, ноги в ссадинах, с руки капала кровь. Я взглянул на часы: половина четвертого.
— Миленький, — только и выговорила она. — У тебя есть бинт?
— Ты что, убила кого-нибудь? — Я плохо соображал спросонья.
— Мы летели, летели, — ангельски улыбалась Антонина, — потом поскользнулись на каком-то мерзком льду. Мальчика забрали в милицию, а я вот вспомнила, что ты здесь поблизости… Откуда весной этот противный лед, не знаешь? Он ведь давно должен был растаять.
— Куда это вы летели? На чем?
— На мотоцикле. Симпатичный такой маленький ревунчик, а руль у него как рога, хи-хи… Сравнение, конечно, не так чтобы… — она зевнула. — Одним словом, маленький железный конь. Мальчика жалко. Хотя — был ли мальчик? Не помнишь, из какой это книги?
— Из Горького, — с ненавистью прошептал я.
Она расхаживала по убогой комнатушке, вся в отсветах столь презираемой мною ночной жизни: наглый взгляд, пачка длинных иностранных сигарет торчит из кармана. Я от души залил ей руку йодом, замотал бинтом, налепил на ссадины пластырь. Вручил последнюю пятерку, прошипел, как змея:
— Все. Вон.
Тогда я еще смел так с ней разговаривать.
Она стояла в своей любимой позе — расставив ноги (когда я однажды сказал ей об этом, она рассмеялась: «Да, расставляю ноги на ширину глаз!»), покачиваясь с пяток на носки.
— Дурак, — выговорила наконец Антонина, — пингвин. Я ехала к тебе. А как — неважно. — На меня был устремлен чистый взгляд, исключающий всякий обман. Я давно знал: если больше трех секунд смотреть Антонине в глаза, поверишь во все, в любую ее дичайшую, неприкрытую ложь.
— Давай, давай, счастливо, — легонько подтолкнул ее к лестнице. — Тут под окнами стоянка.
Безмятежно насвистывая джазовую мелодию (из всей музыки она предпочитала джаз, что тоже казалось мне странным), она пошла вниз.
— Эй! — сказал я вслед. — А что за мальчик?
Она остановилась. Джазовая мелодия смолкла. Глаза блеснули в темноте, как у кошки.
— Ты весь в этом вопросе, проклятый пингвин, — ответила Антонина, — одновременно выгоняешь меня, хочешь меня, да еще желаешь знать, что был за мальчик. Я бы могла вообще тебе не отвечать или соврать, да нет повода. Он просто подвез меня на мотоцикле. А ехала я к тебе, дурак!
— Но попала в ресторан, — усмехнулся я.
— Это неважно. — Вновь послышалась джазовая мелодия. Потом хлопнула дверь.
«Надо жить в ритме джаза, Петя», — однажды сказала мне Антонина. «А почему, например, не в ритме Вагнера?» — спросил я. «Вагнер — это ноты, — ответила Антонина, — настоящий джаз — почти всегда импровизация».
…Антонина в черном плащике с погончиками приближалась.
Господи, подумал я, да на месте жены Жеребьева я бы не возвращался из Темрюка. Там солнце, море, степь, там древняя Тмутаракань. Непрестанное смешение племен и народов наделило женщин неземной красотой. Там повторенные через века эллинки соперничают с пышногрудыми скифскими красавицами, статными голубоглазыми славянками, отличавшимися завидным постоянством в любви. Но тут до меня дошло, что жене Жеребьева вряд ли интересна подобная этнография.
Последний раз мы встречались с Антониной в Доме журналистов. Она настаивала, ей вздумалось побывать в этом заведении, и я, как ливрейный лакей, каждые десять минут выскакивал на улицу, высматривал свое сокровище.
Как обычно, шло какое-то мероприятие, кого-то обсуждали. Послышался гром аплодисментов, я не удержался, заглянул в зал: кому это так неистово аплодируют, кто изумляет общество смелыми, прогрессивными мыслями? С победным видом с трибуны спускался Сережа Герасимов, эдакий оппозиционный властитель дум. Он еще больше располнел, глаза скрывались за темными стеклами очков. Уже какие-то люди крутились вокруг него, уже кого-то Сережа снисходительно похлопывал по плечу.
— Говорят, из-за его последнего материала министру объявили выговор…
— Непонятно только, как ему это удается? Почему именно ему позволено? — говорили в холле.
Сережа продолжал публиковать громкие разоблачительные статьи, звезда его горела ярко. Встречаться, однако, мне с ним не хотелось. Я никогда не считал Сережу достойным человеком и уж тем более настоящим борцом за чистоту нашего общества. Его успехи не то чтобы огорчали, но как-то озадачивали меня. «Но я-то знаю, какой он, меня-то не обманешь!» — хотелось крикнуть, но внутреннее чувство справедливости, сидящее в каждом человеке, к сожалению, категория субъективная. Оно глубоко личностно, а потому, вынесенное на люди, часто производит действие, обратное задуманному. Внутреннее чувство справедливости — чувство внутреннего употребления. Современники Расина, например, полагали, что он велик только для тех, кто не знает его лично. Но прошло время, умерли те несколько несчастных, которых он заставил страдать, и Расин сделался великим для всех без исключения. Хотя, конечно, Сережа не Расин.
Антонина опаздывала. Я спустился в буфет и конечно же встретил знакомых: Ирочку Вельяминову и Игоря Клементьева. Они пили кофе с ликером.
— Почему вы здесь, — спросил я, — а не в зале, где гремит наш обаятельный Сережа?
— Мы там были, — сказала Ирочка, — но он, верно, решил выступать по каждому обсуждаемому вопросу.
Игорь сидел постный, точно наглотавшийся горьких лекарств. Он неуютно чувствовал себя в лучах Сережиной славы. Когда я их видел вместе, у Игоря всегда был собранный, напряженный вид. С одной стороны, Игорь старался показать, что он Сережин начальник, Сережа работает в его отделе, выполняет его задания, а с другой, чувствовалось — это мнимое, какую-то непонятную власть имеет над ним Сережа, и Игорь хоть и храбрится, однако побаивается, не доверяет Сереже и поэтому скован.
— Садись с нами, Петенька, — сказала Ирочка.
Она смотрела на меня строго и пристально, совсем как в прежние годы.
— Петенька, — вдруг ляпнула ни с того ни с сего, — зачем ты себя так изнуряешь в любви?
Мне оставалось только заорать петухом, заржать конем. Как еще можно реагировать на подобные вопросы?
— Я имею в виду не физически, — засмеялась Ирочка, — это я только приветствую, но по тебе этого не заметно, а духовно. Думала, что я одна среди вас — красивых и молодых — старая седая женщина, но ты, Петенька, пошел по моим стопам, — ласково погладила меня по голове. — Ты поседел от любви, а седеют, как правило, от нелегкой и неправедной любви. От легкой любви чего седеть? От легкой любви молодеют.
— Я поседел от чужих глупостей, — сказал я, — и от сражений в кафе на Калининском.
— Какой ты злопамятный, — вздохнула Ирочка, — к женщинам надо быть добрее. И потом, если бы было возможно седеть от чужих глупостей, люди бы уже рождались седыми.
— О какой любви вы говорите? — спохватился Игорь. Все это время он то ли спал, то ли думал о другом.
— Видишь ли, Игорек, — с удовольствием закурила Ирочка, — есть люди, которые впрыгивают в любовь, как в поезд. Прыгнули, поехали. Не понравилось, вылезли на следующей же станции, пересели на другой поезд. Таких людей я называю пассажирами, их тьма. А есть, так сказать, строители. Они валят лес, кладут рельсы, изобретают паровую машину, мастерят паровоз, прицепляют вагоны и… в этот самый момент какой-нибудь удалец скок в паровоз и угнал поезд. Как правило. И надо начинать сначала.
— Но это же прекрасно, я бы даже сказал, достойно богов.
— Так вот, Игорек, в любви мы с Петенькой строители, и нас гораздо меньше, чем пассажиров.
— Извините, я сейчас! — я выскочил из-за столика, побежал встречать Антонину.
Когда я с ней вернулся, за столиком хозяйничал Сережа. Он орал, шутил, острил, казалось, над нами летают сразу сто ворон.
— Предлагаю угостить дорогих дам шампанским, — вдруг вытаращился на нас с Игорем.
Мы полезли в карманы. Денег набралось на две бутылки сухого.
— Один момент, — Сережа вырвал из блокнота листик, что-то на нем нацарапал. Подозвал юношу, который несколько недель назад предлагал мне здесь в туалете купить вельветовые джинсы. Юноша схватил записку, исчез.
Сережа играл в Аладдина.
— Пусть сгоняет в «Прагу», — сказал Сережа, — есть там человечек, который слегка мне обязан.
Юноша обернулся молниеносно.
— Вот, черт, — озабоченно воскликнул Сережа, — я думал, он просто передаст нам кое-что, а он, видите ли, накрывает для нас стол. Прошу!
Игорь и Ирочка удивленно смотрели на Сережу.
— Мы нет, — сказал я, сдавив под столом ладонь Антонины. — У нас другие планы.
Сережа хотел сказать какую-нибудь гадость — я видел по его лицу, — но сдержался.
— Надеюсь, у тебя есть деньги на такси? — спросил он якобы шепотом, но так, чтобы все слышали.
— Надейся, — я вытащил Антонину из-за стола, увел в гардероб.
— Он так много говорил, этот Сережа, — сказала Антонина, когда мы вышли на улицу. — И почему-то все о себе. Ему что, на всех плевать?
— Да, — сказал я. — Он тебе понравился?
— Понравился? — Антонина вдруг остановилась, посмотрела на меня с грустью. — Он же вор. Мне нравятся разные люди, но воры… Особенно воры, которые делают вид, что разоблачают воров. Гнать его надо, как козла из огорода.
Это были самые милые моему сердцу слова, произнесенные Антониной к этому часу. За них я мог простить ей многое.
…В черном плаще с погончиками Антонина стояла передо мной и, как водится, покачивалась с пяток на носки.
— Опоздала, а?
— А хоть бы и так, — усмехнулся я. — Какое это имеет значение?
Милые разговорные стереотипы влюбленных были в данном случае бессмысленны. Я смотрел на Антонину и в сотый, тысячный раз изумлялся обману, какой являла собой ее внешность. Невинной девочкой казалась Антонина, словно некий волшебный источник омывал ее изнутри, каждое утро возвращая чистоту. Хрупкая белизна лица, стыдливый свет глаз, верхняя губа, чуть открывающая полоску ровнейших зубов. Неведомы, казалось, сему созданию томления плоти, еще не проснулись в нем чувства. Лишь бездонная любовь к маме переполняет да, может, слегка волнует воображение какой-нибудь иностранный киноартист.
— Что? — опомнился я от этого наваждения. — Что прикажешь брать? Пойдем ко мне или… — с тоской, — опять в ресторан?
— Ты сошел с ума! — возмутилась Антонина. — Я не пью.
— Вот как? — Мне требовалось некоторое время, чтобы разобраться в причинах очередного превращения, очередной джазовой импровизации, прихоти казаться такой, а не эдакой. — В средние века тебя бы сожгли на костре, — убежденно произнес я. — За то, что не знай я тебя, сразу бы поверил, что ты за всю жизнь не согрешила. За то, что ты можешь обмануть каждого, кто тебя не знает, да и кто знает — тоже.
Она рассеянно слушала, словно все это не имело к ней никакого отношения.
Я закурил. Прятать пачку не стал, привычно ожидая, что и она потянется. Антонина совершенно не стеснялась курить на улице.
— Я не курю.
— Что-то новенькое, — пробормотал я. — Остается единственное.
— И с этим отныне покончено.
— Собралась на ледник? Или том Рембо так ударил по башке?
— Не старайся казаться хуже, чем ты есть, — Антонине, видимо, доставляло удовольствие парить надо мной, гнусным грешником, смиренным ангелом. Даже голос ее обрел ангельскую мелодичность. Теперь Антонину вновь можно было сжигать на костре, на сей раз как святую мученицу. — Мы просто погуляем, — она нежно взяла меня под руку.
Но двинулись мы все же в сторону Оружейного переулка.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Что произошло? — сонно думал я в последний день старого года, глядя из окна скорого поезда Москва — Таллин на заснеженные московские пригороды. — Антонина — замужняя женщина, вчера была свадьба. Но никто мне не объяснит: зачем свадьба? С ее стороны, скорее всего, прихоть, примерно как поцелуй с незнакомцем под дождем. Со стороны ее мужа — все исключительно серьезно. Здесь образуется целый залом колючей проволоки, ветвистый, как оленьи рога. Рога. Меня преследует сей образ. Однако… при чем тут я? Ведь то, что было до свадьбы, обычно, у девушек не в счет». Густо повалил снег. Поезд провалился в него. Кажется, именно тогда я задумался об одной интересной особенности Антонины. Когда я переживал периоды спокойствия, был ясен и уверен в себе, то совершенно не вызывал у нее никаких чувств. Она проходила мимо, едва удостаивая взглядом. Когда же накатывались душевные смуты, когда все вокруг становилось зыбким и призрачным и ни в чем не было уверенности, когда картина мира вставала с ног на голову, вот тогда пробивал час Антонины. Мы сталкивались на лестнице, встречались после дождя в сквере, она являлась в черном свитере за солью и спичками. Даже в день собственной свадьбы Антонина нашла меня. «Чего она хочет, чего добивается? Почему именно такой — без царя в голове, во всем сомневающийся, готовый на любую крайность — я ей мил?» Становилось душно, я рвал на рубашке воротник, почти физически ощущая липкое прикосновение тонких пальцев. Она русалка! Обхватывает за шею, тянет за собой на дно. А если мы на суше, подталкивает, подталкивает к омуту. Но зачем?
Едва справившись с этим истерическим кошмаром, я начинал тосковать по дому. С моим уходом рвались тонкие нити, связывающие меня с тем, что я считал родным. Словно в какое-то еще более мрачное сиротство я проваливался. Подумал: наверное, настоящие оптимисты те, кто умеют повернуться спиной к прошлому. Меня же прошлое никогда не отпускало, потому все в моей жизни и катилось через пень-колоду. Тоску по дому — преданному, разменянному-переразменянному, открытому чужим ветрам — можно было сравнить с так называемыми фантомными болями. Я знал термин, потому что, когда лежал на Чукотке в больнице с воспалением легких, на соседней койке лежал учитель, которому уже несколько недель как ампутировали ногу. Так вот, он мучился этими самыми фантомными болями: нога ныла-болела там, где ее уже не было. Сейчас для меня проклятые фантомные боли заслонили настоящее. Я плакал о доме, о том, чего у меня давным-давно не было. При этом я не думал о будущем, хотя только о нем мне и следовало думать.
Хотя нет, я думал, но в будущем я главным образом писал, а не жил. Писать — это казалось мне важнее, чем жить.
«И вот, — подвел невеселые итоги, — несусь в последнюю ночь старого года в поезде, а все человечество готовится сесть за стол».
Два человека ехали со мной в купе. Суровый мужчина со шкиперской бородой от уха до уха, с погасшей трубкой в зубах и простоватая, еще довольно молодая женщина-растеряха. Вот уже, наверное, час она рылась в сумке, что-то искала. Я решил, что мужчина — моряк, а растеряха сойдет в Малой Вишере, но ошибся.
Женщина спросила что-то на неправильном русском, вздохнула, не услышав от нас вразумительного ответа, извлекла из сумки клубки, недовязанный чулок, принялась орудовать спицами. Моряк назвался Иваном Сергеевичем, любезно поинтересовался, не выпью ли я с ним в Новый год водочки. Он работал в Министерстве финансов Эстонии, возил в Москву отчет, который непременно надо было закрыть этим годом. Я сказал, что у меня есть шампанское, пригласил в нашу компанию вязальщицу. «Хорошо-о», — важно согласилась она.
Стучали колеса, поезд вертелся в белом снежном веретене, вязальщица раскладывала на тарелке тминное печенье. Новый год приближался.
Вскоре выяснилось, что Иван Сергеевич недавно развелся, вязальщица не замужем, я тоже царапаю в анкетах «холост». Такое совпадение преисполнило нас симпатией друг к другу. Особенно приятно было, что нас ничто не объединяло, кроме стенок купе, приближающегося Нового года, одиночества. За окном скакали белые леса, изредка попадались селения: колеблющийся свет из окон, косые дымы над крышами. Они были чуть светлее ночи, а потому различимы.
Вязальщица оказалась поэтессой. Перед самым Новым годом она прочитала подстрочники двух своих стихотворений. Мне запомнились странные строчки, что Эстония, как девочка-замарашка, украдкой смотрится в зеркало барышни Европы, но не видит там своего отражения. Второе стихотворение было про любовь.
— Симпатично, — одобрил Иван Сергеевич, — очень симпатично. Давайте выпьем за ваш талант.
— Что вы, какой талант, — замахала руками поэтесса, — мой письменный стол давно в пыли.
«Мой письменный стол давно в пыли», — эта фраза странно взволновала. Быть может, потому, что в данный момент у меня вообще не было письменного стола. В последнее время сделались привычными горькие всплески, когда с терзающей ясностью я сознавал одновременность неостановимого течения дней и того, как каменеют в душе невоплощенные замыслы. Почти физически я ощущал, как они тяжелеют, уходят вниз, никакой уж киркой под них не подкопаться.
— Это хорошо, когда в пыли, — сказал я. — Хуже, когда стола нет.
— О, — возразила она, — но тогда остается надежда. Когда сидишь за столом каждый день, а надежды нет, тогда еще хуже.
— Да-да, — подхватил Иван Сергеевич, — иногда возьмешь на дом отчет, никак себя вечером за него не заставишь сесть. На ночь откладываешь, потом на утро. Всю ночь не спишь, думаешь, как утром засядешь, под утро заснешь и… проспишь. Объяснительную писать приходится.
— А если некому писать? — спросил я.
— Тогда и за стол нечего садиться, — засмеялся Иван Сергеевич.
Потом улеглись спать. С потолка лился мерцающий фиолетовый свет. Конечно же не спалось. Среди ночи я заметил, что поэтесса — она лежала на противоположной полке — смотрит на меня. Ее светлые волосы, белое лицо сливались с подушкой, зато темнели глаза. Полная белая рука преодолела разделяющее нас пространство, дотронулась до меня.
— У тебя есть девушка? — спросила поэтесса. — Почему ты не с ней в Новый год?
— Есть, — ответил я. Ночь, льющийся с потолка фиолетовый свет, случайность нашего знакомства избавляли от условностей. Я говорил, что думал. — Мне кажется, она русалка. Она замужем, но как-то странно. Она хочет утащить меня на дно, мне кажется, я погибну, если не расстанусь с ней.
— Русалка… — задумчиво повторила поэтесса. — Русалка. Мне этот… — она запнулась, подбирая слово, — образ близок. Но русалка не обязательно тащит на дно. Есть русалка, которая сменила рыбий хвост на ноги, чтобы быть поближе к любимому, ходить по земле. Помнишь, у Андерсена? Каждый шаг причинял ей страшную боль. Есть такое понятие, русалочкина боль, то есть добровольное мучение во имя того… — она снова запнулась, — чтобы подняться над собой, преодолеть свою суть.
— Допустим, — сказал я, — но боль удушья, когда тебя тащат на дно, она никем не воспета?
— О, — воскликнула она, — это добровольная сладкая боль, потому что она от греха. И тут ни в коем случае не надо подниматься над собой, надо, наоборот, опускаться, а это, согласись, всегда легче.
— Значит, русалка в любом случае права: и когда меняет хвост на ноги, и когда тащит на дно?
— У человека есть выбор, — помолчав, ответила поэтесса. — А у русалки лишь рыбий хвост. Поэтому ее боль — святая боль.
— Когда она меняет хвост на ноги, а когда тащит на дно?
— Она меняет, — прошептала поэтесса, — она всегда меняет, надо только разглядеть момент.
Я лежал, глядя в потолок, и думал: снится мне это или мы на самом деле разговариваем?
— Еще мне близок образ Кассандры, — произнесла поэтесса.
— Кассандры? — спросил я. Сейчас мне было мало дела до Кассандры.
— Знаешь, откуда пошли ее несчастья?
Я молчал, потому что если и знал, то приблизительно.
— В нее влюбился Аполлон. Она увидела его, стоящего в тени масличных деревьев, испугалась и побежала. За это он и наказал ее.
— За то, что побежала? И все?
— За то, что испугалась и тем самым пренебрегла любовью божества. Никогда не надо бояться. Боящийся, бегущий — все равно что Кассандра, которая потом все знала, все понимала, но уже никогда ничего не могла изменить.
— Ну я-то пока кое-что еще могу изменить, — пробормотал я.
— Дай тебе бог, — сказала поэтесса, — а бояться не надо.
Больше мы не разговаривали.
Утром приехали в Таллин. Башнями, шпилями, острыми крышами город смотрел в бездонное голубое небо. Нам с поэтессой оказалось по пути. В утреннем свете поэтесса оказалась совсем не симпатичной: расплывшаяся фигура, невыразительное, пухлое лицо. Утром я был далек от предметов ночных разговоров. Настало время обычных условностей. Мы сели в трамвай, аккуратно пробив дырки в талонах. У гостиницы мне надо было сходить.
— Поедем ко мне? — предложила поэтесса. — Выпьем кофе?
— К тебе? — растерянно переспросил я, ощущая привычную нерешительность, скользкий миг, когда все может покатиться неизвестно куда, обрести непредсказуемость. — Нет, — сказал я испуганно и резко. — Спасибо, нет.
— Ты подумал, старовата я для кофе, — одними губами улыбнулась поэтесса. — Но я имела в виду лишь то, что сказала: чашку кофе — и больше ничего.
Мне стало стыдно.
— Извини, ты не так поняла. Просто дела. И потом, меня ждут.
— Я тебя правильно поняла. До свидания, — она отвернулась.
Я выскочил из трамвая покрасневший. «Это Антонина! — подумал в бешенстве. — Это с ней я отучился от всего нормального, естественного. Откуда эта гнусная привычка полагать, если женщина, значит, постель. Любая женщина — все равно постель! Так нельзя».
Меня поселили в номере на двадцать втором этаже. Полюбовавшись из прямоугольного окна на укрытый снегом город, я принял душ, потом позавтракал в буфете. Потом я спустился вниз, сел в первый попавшийся автобус, который поехал в парк Кадриорг.
Так начался для меня первый день Нового года.
ПРО АНТОНИНУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Мы шли по Оружейному переулку, под ногами шевелились тени. Интенсивную жизнь вели тени, словно в царстве Аида, куда некогда спускался Орфей, по утверждению Антонины не столько думавший, как бы вызволить Эвридику, сколько влюбившийся в царицу подземного мира Персефону, за что потом земные женщины разорвали его у ручья. Вот Ахиллес, Пелеев сын, помахивает длинным гибким копьем. Вот укротитель коней, несчастный Гектор, снимает хвостатый медный шлем. Стоило посмотреть под ноги подольше, начинало казаться, ты тоже тень. Странный неживой шелест деревьев над головой усиливал это впечатление. Мы с Антониной существовали: теплые, дышащие, изо дня в день мучающие друг друга, и одновременно как бы являлись тенями, сухим шелестом. Тополиный пух невидимо сновал в темном воздухе, застревал в ветвях. Голубая луна равнодушно всходила над суетящимися тенями и людьми.
Нас обходили развеселые пары. Парни обнимали девушек, девушки счастливо улыбались.
Под ногами тени.
Перед глазами развеселые пары.
Мы болтались где-то посередине — живые, но совсем не веселые.
Неожиданная, я бы сказал, женская степенность вдруг обнаружилась в походке Антонины.
— Ты несешь себя, как хрустальную вазу, — заметил я.
— Я гораздо дороже вазы, — серьезно ответила она.
На этом, однако, обмен глупейшими репликами не закончился.
— Я много читаю в библиотеке, — задумчиво произнесла Антонина через некоторое время.
— Да? Есть время? Я думал, ты только перепечатываешь рефераты.
— Мне кажется, я сейчас читаю больше тебя.
— Вот как? Похвально, — сказал я. — Что же ты читаешь? Кроме Артюра Рембо?
— В данный момент мифы Древней Греции, — важно ответила Антонина.
— Я, наверное, должен спросить: почему именно мифы?
— Потому что они мне нравятся.
Некоторое время мы шагали в молчании.
— Вот Артемида, — сказала Антонина, — богиня-девственница. Превратила в оленя юношу Актеона за то, что тот увидел ее обнаженной. Благороднейшая и мудрейшая Афина превратила Арахну в паука за то, что та лучше ее ткала. Аполлон-Мусагет содрал кожу с бедного Марсия потому, что тот переиграл его на каком-то музыкальном инструменте.
— Так. И что же?
— А мог бы так поступить, скажем, Иисус? Или бы он сам превратился в оленя, в паука, дал содрать с себя кожу?
— Да, скорее всего, он бы именно так и сделал. Дал содрать с себя кожу.
— Значит, от Древней Греции до христианства человечество все же проделало некий путь в духовном развитии?
— Это сложный вопрос, — сказал я, — на него так же трудно ответить, как определить роль вина в прогрессе человечества.
Но Антонина не приняла моей легкости. Иногда на нее находил серьезный стих, и тогда в споре ли, в разговоре она стремилась дойти до сути, однако не рассудочно, а потому безболезненно, как я, но по-своему. С ней было нелегко разговаривать. Она входила в спор всем своим существом, всем опытом, всей душой. Часто мои собственные слова начинали казаться мне шелухой, пухом. Иногда Антонина высказывала забавные мысли.
— Разве духовное и нравственное ограничение — прогресс? — воскликнула Антонина.
— Духовное — не знаю, — задумался я, — но нравственное — определенно прогресс.
— Только сделались ли люди с тех времен лучше? — спросила Антонина. — Сколько их в своей жизни так и не продвинулось дальше двух заповедей: «не убий» и «не укради»? Боже мой, как часто я слышала: «Все грехи на мне, кроме двух. Никого в своей жизни не убил и ничего не украл». Впрочем, насчет украл сейчас посвободнее, а? — засмеялась Антонина.
— Это старый, как мир, спор, — сказал я, — почему время идет, а люди не становятся лучше. Еще Достоевский писал об этом. Но я думаю, если бы даже было «убий», «укради», не все бы кинулись убивать и воровать.
— В таком случае они родились, что ли, такими хорошими?
— Не знаю, — сказал я, — это тоже старый, как мир, спор: почему из двух братьев один Авель, а другой Каин?
— Но прежде всего идет «не», — подвела итог Антонина, — эдакая тонюсенькая пленочка, готовая в любой момент прохудиться. Неужели все в мире: законы, философия, мораль — от осознания человеком собственного несовершенства? Хороша ли цивилизация, идущая от «не»?
— Хорошо, — сказал я, — внуши человеку сознание собственного совершенства. Сможет ли он тогда радоваться произведениям искусства, делать какие-нибудь добрые дела? Зачем ему тогда всё, если он так хорош и совершенен? Вот ты зачем читаешь мифы?
— Мне кажется, — ответила Антонина, — путь человечества, начиная от Древней Греции, это путь от свободного «да» к фарисейскому «нет». Почему я сравнила языческих богов с Иисусом. Там, где они говорили себе «да», он вдруг сказал «нет». И человек, следовательно, когда-то говорил себе «да», а теперь все построено на «нет».
— И это старый спор, — вздохнул я, — не лучше ли было не принимать христианства, остаться язычниками.
— Тебя послушать, — разозлилась Антонина, — так все уже было. Зачем ты тогда живешь? Может, тебе вообще лучше было не рождаться на свет? А?
— И на этот вопрос человечество не знает ответа, — рассмеялся я. — Давай о чем-нибудь попроще?
Антонина махнула рукой.
Мы уже дошли до метро, остановились под самой красной буквой «М». Прощаться или же идти ко мне — решала Антонина. Необъяснимая логика присутствовала в ее решениях. Чем больше я ее узнавал, тем больше убеждался, что отнюдь не теряется Антонина в создаваемом вокруг себя безумии и хаосе, напротив, весьма продуманно управляет этой стихией.
Красная буква «М», зеленый бандитский глаз далекого такси, желтая табличка автобусной остановки, качающаяся на ветру, шелест деревьев над головой — все порождало тревогу. Холодные русалочьи пальцы ласкали шею. «Борис, Борис…» — тоскливо подумал я.
— Возьмем наш случай, — вдруг пробормотал совершенно неожиданно. — У нас «да», так? Только хорошо ли нам с этим «да»? Мне, например, как-то не по себе.
— Ага, душевные муки, — резко качнулась с пяток на носки Антонина. — В библиотеке я еще и Гарсиа Лорку почитывала. «В прибрежный песок впечатал ее смоляные косы…» Чего-то она там много с себя сняла. Потом: «Она ведь жена чужая, она ведь жена чужая…»
— Помню. А он думал, что она невинна… Надо решать, — тупо произнес я.
— «Нет» после долгого «да», — усмехнулась Антонина, — оно, конечно, вернет тебе крылья.
Я вспомнил сладкое время хождений в библиотеку, ежедневного, беспорядочного чтения. Одну книгу читал, казалось, вот она, правда, вот она, истина на все времена. Другую — и там правда, и там истина. И не оспорить автора, не возразить. Что же за такое вместилище правды: миллионы томов, миллиарды зачитанных желтых страниц? Что главное? Где ключ? И вдруг, нахожу известнейшее размышление Канта о двух вещах, которые «…наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Моральный закон во мне! Как хорошо он помогал мне ориентироваться в книгах, в чужих судьбах. И в моей, думал, и в моей собственной судьбе поможет. Так куда он провалился, этот моральный закон? Неужто, пугался я, он лишь в мыслях, в идеальном мире правит и руководит человеком?
«Она ведь жена чужая…»
— Я не говорю «нет», просто наше «да» должно стать другим, более порядочным, что ли? Давай решать.
— Чего решать? — устало спросила Антонина.
— Как дальше.
— А нечего решать, — спокойно произнесла она, — собственно, из-за этого я с тобой сегодня и встретилась. Я беременна, Петя. Аборт делать не буду, потому что хочу ребенка. В конце концов, я замужем. Так что дальнейшие наши отношения бессмысленны. Тебе нечего решать.
— Беременна… Но от кого? Какая неделя?
— Да тебе-то до этого что, а? Ишь ты доктор какой! Это мой ребенок, это мое дело, и на этом я закрываю тему! — Антонина вскочила в подъехавший автобус, пометалась в нем, словно рыба в желтой воде, застыла, ухватившись за поручень, ко мне спиной.
Поднявшийся ветер метнул вслед автобусу серое облако тополиного пуха.
ЭСТОНИЯ I
Я любил таллинский парк Кадриорг и всякий раз отправлялся туда гулять, когда попадал в Эстонию. Первый раз я попал в Эстонию давно, когда учился в девятом классе и жил в Ленинграде. В гости к эстонским школьникам на зимние каникулы, помнится, поехал наш класс. Я помню сумерки в парке, синие тени на снегу, красноватые стволы сосен, опускающееся солнце. Над лесом летела ворона, а над заснеженным, заледеневшим заливом — чайка. Мне было тогда пятнадцать лет, следовательно, не вариантен, не многомерен был мир — лишь в том, что происходило в данный момент, заключались для меня исток и исход. Я держал за руку высокую темноволосую девочку Анне-Лоот, и что странно: рука, которая была в перчатке, безбожно мерзла, а другая, в которой смирно лежала ладошка Анне-Лоот, горела. Происходящее переполняло меня, я задыхался. Неожиданно наши пальцы переплелись, мы остановились. Вдали краснел вмерзший в лед бакен. Долгое время потом, целуя иных девушек, вглядываясь или не вглядываясь в их меняющиеся лица, я одновременно как бы видел и этот красный бакен. Небо опустилось ниже. От солнца в небе остался малиновый узкий сегмент. Анне-Лоот прислонилась к сосне, положила мне руки на плечи. Я зачем-то сорвал с головы черную вязаную шапочку с помпоном. Она упала на снег, как подстреленная ворона. Теплая ладошка Анне-Лоот опустилась на мою холодную голову. Мы поцеловались, и конечно же я сделал все не так — ткнулся носом в щеку, едва коснулся ее губ. Она улыбнулась, погладила меня по голове, и мы поцеловались по-настоящему.
Мне было пятнадцать лет. Мир не был многомерным. Не столько сама Анне-Лоот волновала меня, сколько то, что, как мне казалось, должно произойти. Последнее время ни о чем другом я думать не мог, поэтому меня сейчас лихорадило, я был близок к помешательству.
Мы ходили по городу, непрерывно курили, целовались в каких-то подворотнях. В изысканном кафе я храбро истратил семнадцать рублей — едва ли не все свои деньги. Официант, насмешливо на меня поглядывая, откупоривал шампанское. Чем дальше, тем становилось страшнее. Я нес какой-то косноязычный бред. На одной из башен Старого города горел прожектор. Я сочинил немедленно стихи, где, помнится, были строчки, что, мол, светит прожектор, деля мир на тебя и меня. Потом мы ехали на трамвае, рассекая белые глади новостроек.. Далековато жила Анне-Лоот. В подъезде целовались около пылающей батареи. Пошатываясь, я оглядывал место: толстую, как колонна, трубу мусоропровода, широкий подоконник, черное безжизненное окно. «Неужели здесь, — думал, расстегивая дрожащими руками пуговицы на пальто Анне-Лоот, — вот здесь…» Но она выскользнула, крепко взяла меня за руку, повела по лестнице наверх. У подоконника, оказывается, была игра. Там нам каждую секунду могли помешать. Я понял, что именно потому и был так храбр, что нам могли помешать. Вдруг осознал, что боюсь Анне-Лоот, что лучше бы нам в самом деле помешали, мы бы расстались — и я бы вышел на улицу под снег. О каким счастливым я бы тогда себя чувствовал, гораздо более счастливым, чем если бы… Я переставлял ватные ноги со ступеньки на ступеньку. Около двери Анне-Лоот остановилась, приложила пальчик к губам. Щелкнул замок. «Пошли, — шепнула, — только очень тихо. Моя комната с краю». — «Подожди. — выдохнул я, — ты действительно хочешь, чтобы я шел?» «Конечно», — ласково шепнула Анне-Лоот. Я понял, что все. Если бы она колебалась, сопротивлялась, боялась, я бы колебался, сопротивлялся, боялся вместе с ней, мы бы двигались вместе в одном направлении. После ее «конечно» все изменилось. Я боялся ее спокойствия, уверенности, наконец, ее опыта в этих делах. Вокруг качалась, как на волнах, чужая лестничная площадка. Как воздушные шары, летали белые плафоны. Я смотрел в лицо Анне-Лоот и не испытывал никаких чувств. Чужое, совершенно чужое лицо. «Осторожно, здесь высокий порог», — шепнула Анне-Лоот. «Ничего, перешагну», — в отчаянье улыбнулся я. «У
меня еще никого не было! — хотелось крикнуть мне. — Я боюсь тебя. Боюсь того, что будет. И еще я не люблю тебя». Но я молчал, чувствуя, как по спине течет пот.
Вдруг громко хлопнула дверь этажом выше, послышались громкие голоса. Это загулявшие эстонцы хохотали в ночи, доказывая, что не только умеют дисциплинированно стоять перед светофорами на пустынных улицах. А вот и мусорный бачок зачем-то пнули, и он, страшно гремя, покатился по лестнице. Из темной квартиры Анне-Лоот послышался сердитый женский голос. «Это мама», — растерянно прошептала Анне-Лоот. Какая сразу во мне проснулась нежность. Я целовал Анне-Лоот, а она выталкивала меня за дверь: «Завтра, завтра увидимся!» — «Подожди», — цеплялся я за ее руки. Но дверь захлопнулась. Я побежал по лестнице вниз. Снег, везде снег. Черная кошка осторожно ступает по тротуару.
Трясясь в трамвае, я думал, что каждую ночь теперь буду мечтать об Анне-Лоот. Между нами ничего не произошло, но я почему-то чувствовал себя счастливым и мудрым. Мне не в чем было раскаиваться, не в чем разочаровываться. Мир показался вариантным и многомерным. То, что не произошло, было интереснее того, что могло бы произойти. Мечты несли покой. Жизнь — суету и боль.
И впоследствии случалось мне вот так отступать, якобы во имя сохранения чистоты, ясности. Но то были мертвые чистота и ясность, родственные фантомным болям, когда болит ли или, наоборот, создает иллюзию полнейшего здоровья то, чего нет. Плохое «было» все равно лучше прекрасного «не было». Я всю жизнь шел к простой этой истине и всю жизнь не мог к ней прийти.
Тогда мне было пятнадцать лет. Но и сейчас, оказавшись в Эстонии, я испытал смутное беспокойство: что-то я здесь сделал не так, в чем-то ошибся.
Я помню парк Кадриорг весной, когда на берегу исходят водой льдины, кругом сырость, с деревьев падают холодные капли. Летом: когда за соснами шумит море, все в разноцветных пузырях и треугольниках парусов, по асфальтовым дорожкам несутся велосипедисты, спицы блестят на солнце. Осенью: когда песок пуст, в небе сбираются птицы, с моря катятся мрачные серые волны. А сейчас зима, холодно, белый залив изогнулся подковой. На одном берегу залива белые, как свечи, деревья, на другом каменные зигзаги города. И как прежде, вмерзшие в лед красные бакены. Зайти погреться некуда. Все закрыто по причине воскресенья, первого дня Нового года.
То было привычное состояние неприкаянности, когда холодно и негде погреться. Наступала пора механического существования, пустого, непрерывного действия. Так у меня всегда было. Сначала я долго и напряженно думал, потом нелепо и бестолково действовал. Мысли и дела, как две Евклидовы параллельные прямые, у меня никогда не пересекались.
Доехал на автобусе до центра, энергично обошел Старый город. Вспомнил даже название одной из башен — «Толстая Маргарета». Подышав на руки, написал в блокнот какую-то чушь: дескать, на кухарку, уткнувшую руки в белые бока, похожа башня. Забрался наверх, на смотровую площадку, деловито пересчитал корабли на рейде. Поймал себя на том, что бормочу: «Так, посмотрим, сколько у вас здесь корабликов…» Устыдившись, сбежал вниз.
Горя пустым действием, потирая нетерпеливо руки, вернулся в гостиницу. Взглянув на часы, включил телевизор: передачи давно начались. Показывали документальный фильм под названием «Куда уходят киты?» Киты, оказывается, уходят в небытие, когда на них безжалостно охотятся, когда им в спины всаживают из гарпунных пушек гранаты, когда с самолетов их засекают глазастые летчики и передают координаты на корабли. Китам еще не нравится, когда нефтяные танкеры выпускают им в дыхала тысячи тонн нефти. Одурев от вертолетного рева, от гранат, от нефти, от смерти, киты несутся в сторону берега, пока не разорвут животы о прибрежные камни и волны не вынесут их на берег, а песцы не прогрызут в их тушах ходы и туннели. Авторы фильма призывали людей остановиться, пока не поздно. Им было трудно возразить.
Я смотрел на экран и вспоминал маленького кита, которого однажды видел в Чукотском море. Мы летели на вертолете над самой водой. Это был санитарный рейс, и, чтобы сократить путь, решились летчики прочертить дугу над синими взбрыкивающими волнами. Мне давно хотелось написать о таком рейсе, когда погода не имеет значения и все подчинено единственной цели — спасению жизни человека. Мы летели в тундру, к пастухам, где маленькая чукотская девочка могла умереть от аппендицита. Летели очень низко, хоть и запрещено низко летать над волнами, но выше ветер болтал вертолет. Волны синели, как только они могут синеть ранней осенью в Чукотском море. Киты показались неожиданно. Сверху казалось: это тугие черные цилиндры вспарывают воду, таранят ее, поднимая белые бурунчики. Напряженно дрожали в воде их плоские, как распластанные птичьи крылья, хвосты. Но не было времени любоваться китами, слишком быстро летели. Оглянувшись, я заметил маленького кита — детеныша, — который, видимо, испугался рева винтов и поплыл в другую от стада сторону. «Давай развернемся, спугнем, чтоб обратно поплыл!» — проорал я летчику. Тот даже не обернулся. Я хватил его по кожаной спине кулаком. Он отпихнул меня так, что я вылетел из кабины в салон, где сидел хмурый врач с чемоданом на коленях, покатился, ударяясь о какие-то острые ящики. Детеныш изо всех сил, молотя воду хвостиком, плыл к берегу. Я зажмурился, сосчитал до десяти, загадав, что, если сосчитаю, ни разу не вздохнув, он одумается, вернется обратно. Но он плыл к берегу, острые камни обступили его. Больше я не оглядывался. Обратно возвращались ночью. Лопасти вертолета мерцали, словно точильный круг. Казалось, полумесяц затачивает о него свое белое лезвие. Вызов оказался ложным. У девочки был не аппендицит, а обычные желудочные колики, она чем-то объелась.
Тогда, помнится, вглядываясь в воздушную тьму, о некоем вечном, неразрешимом конфликте задумался я. Все на свете я бы сделал, отдал, чтобы не погибал этот детеныш, но ничего было мне не дано изменить. Мир был и оставался жестоким, вопреки мне, человеку. «Неужто, — подумал я, — это произошло для меня, одного меня, чтобы я в чем-то изменился, стал другим? Что за дикая цена? Как мне жить, сознавая, что каждую секунду что-то в мире разрушается, безвозвратно исчезает, погибает в страданиях — и нет этому конца и края. И все это благодаря человеку и одновременно вопреки человеку».
Не было ответа.
Вот как я был тогда наивен.
И точно так же наивен я был сейчас.
Я сидел в одиночестве в залитом зимним солнцем номере, почти физически ощущая протяженность предстоящих часов. Новогодняя, богатая делами, Москва лежала в восьмистах километрах к востоку. Там осталось все мое. Здесь был новогодний Таллин. Мой будущий герой — рыбак, — должно быть, потягивал пиво. Анне-Лоот пошла гулять с детьми, а может, вязала мужу шерстяной чулок.
Задернул занавески. В номере стало сумрачно. Стандартный гостиничный интерьер дышал равнодушием. Как хорошо была мне знакома эта тоска в чужих городах, особенно в выходные, когда некуда себя деть: лежишь поверх застланной койки, тупо смотришь в потолок. Сиюминутные раздражения, неудовольствия приобретают вселенский характер. Предстоящая встреча с людьми пугает. Не хочется задавать вопросы, писать чего-то в блокнот. Пытаешься заснуть — не можешь. Пытаешься читать книгу — она валится из рук. «А может, — подумал я, — страдание отпускается людям одинаковой мерой? Просто на кого-то оно накатывается вместе с событиями, потом отпускает, а у других, как каша, размазано по всей жизни, происходит из пустяков, из мелочей и так же в никуда уходит. Такое страдание смехотворно, карикатурно. Разве не смехотворен я сам в данный момент? Возможно, — ответил сам себе, — для кого-то и смехотворен, но не более чем мне смехотворен тот, другой. Сам себе же я отнюдь не смехотворен, потому что все со мной происходящее, к сожалению, моя жизнь, другой у меня нет. Тут не до чужого смеха. Да и вообще, чем оплачивается право быть таким, а не эдаким? Быть может, этим, размазанным, как каша, страданием? Или, — зачем-то полез в сумку, где лежал написанный недавно рассказ, второй, со времени сожжения чукотских — этим? Но где гарантии?»
Я подумал: разве это не повод для страданий — страстное желание обрести гарантии там, где их быть не может? Стал успокаивать себя: ведь не к славе я рвусь, просто размышляю, верен ли открывшийся мне во время писания смысл собственной жизни. Не обманчивы ли были эйфория, минутное чувство постижения, прикосновения к тому, что словами не выразишь? Живые легли на бумагу буквы или мертвые? Может ли вообще быть хоть какой гарантией чувство, что, например, в данном рассказе ты сказал все, что хотел, добавить к сказанному нечего, выше не прыгнуть. Я подумал: стиль, фраза, сюжет — всего лишь дороги, по которым движется мысль. Единственное, что от них требуется, быть прямыми, удобными, чтобы попусту не петлять, не крутиться. Но где гарантия, что моя мысль не пустой звук, не тополиный пух, наконец, не пародия на страдание? Из каждой миллиардной пушинки вырастает дерево. Но опять-таки: где гарантия, что именно моя — миллиардная?
То был замкнутый круг, эйфория чередовалась с отчаяньем. Я закончил второй рассказ незадолго до Нового года. Поставил точку на даче под бормотание невыключенного транзистора. Какие-то итальянцы бранились на коротких волнах, звенели саблями. Потом ласково и сладко, как только можно запеть ночью на итальянском, запела женщина. В печке догорали поленья. Пора было закрывать трубу. Окно в кухне запотело. На нем вполне можно было написать пальцем слово «конец», подрисовать красивый вензель. Едва подумал про вензель, тут же кольнуло: а ведь это уже было! И ночь, и печь, и лампа на кухонном столе, и молодой человек, склонившийся над столом. Где-то я про это читал, в каком-то фильме смотрел. Может, и мой рассказ уже был?
В щербатую раковину звонко падала из крана капля.
Подумал: сделано-то на копейку, да и вообще — сделано ли, а сколько сомнений, мыслей, переживаний. Может, они растут в обратной пропорции качеству сделанного? Чем мощнее изнанка, тем беднее лицо? Может, запутанная-перезапутанная гамлетовская изнанка есть компенсация за «не дано»? Как яркая фальшивая монета, бессмысленность которой очевидна всем, кроме ее обладателя. Подумал: как красиво, убедительно, страстно говорят о литературе те, кто пока ничего не написали, а только собираются. Подумал: сколько моих товарищей пишут повести, романы, пьесы, которые никогда не будут закончены. Подумал: сколь ничтожно тонка нить, связующая их, да и меня самого, с ежедневной, кропотливой работой. Сколь часто вместо работы — блуждания в ночи, какие-то разговоры за столиками, перемещения из дома в дом, бесконечные знакомства, ненужное пьянство. А может, в результате «не дано» и образуется некий вакуум, который и не может быть заполнен работой, но лишь мучительными раздумьями, пустыми разговорами, тратой времени. А жизнь уходит, съеживается, чернеет, как сжигаемая бумажная страница. Разве не страдание — изо дня в день сознавать, что не создано ничего, и лишь в мнимом полете, в табачном прищуре обозревать непокоренные вершины, полагать себя истинным творцом. Разве не фарс — не делать в литературе ничего, но жить в ее атмосфере, в ее отраженном свете. Впрочем, есть другая, по-видимому, худшая крайность, когда человек пишет-пишет и никак не может остановиться, когда нет ни мыслей, ни сомнений.
Вспомнил, как Жеребьев иногда трясет у меня перед носом исписанными мелким почерком страницами. «Вот, — кричит, — сто пятьдесят страниц! Причем учти, мои страницы не такие, как твои. Твоих тут будет двести». — «Чего? — спрашиваю я. — Чего сто пятьдесят страниц?» — «Неважно, — внезапно остывает Жеребьев, — когда закончу, узнаешь». Он вдруг начинает строчить заявки, писать директорам издательств письма, где расписывает достоинства своей будущей книги, просит какого-нибудь известного писателя написать предисловие к своему ненаписанному труду. И тот пишет. «Все, — строго заявляет он мне. — Хватит играть в игрушки. Ты молодой, ты и занимайся литзаписью, я буду книги писать!»
Вспомнил, как недавно встретил Сережу Герасимова, тот похвастал, что с ним заключают договор на книгу о пожарниках. «Почему именно о пожарниках?» — удивился я. «Кто их знает, — ухмыльнулся Сережа, — запланирована, видно, книжка о пожарниках». — «Ты хоть знаешь, как они работают?» — «Две недели хожу, ни одного пожара, — ответил он, — хоть сам чего-нибудь поджигай».
Вспомнил, как Игорь Клементьев произнес с грустью: «Петя, мне кажется, я разучился писать, превратился в типичного газетного функционера». — «Но ведь раньше ты царапал, — сказал я, — и даже неплохо». — «Отлично, — воскликнул Игорь, — здорово ты меня утешил, спасибо, дружище». — «Кто-то должен писать, — пожал я плечами, — а кто-то руководить теми, кто пишет». — «Сидел недавно в кабинете, — словно не расслышал меня Игорь, — правил дурацкие информации и вдруг подумал: неужели это все? Что еще мне осталось в жизни?» — «Квартира, — ответил я, — служебная машина, загранпоездки, перспектива посидеть три года собкором в хорошей стране, поликлиника и паек». — «Хватит, — разозлился Игорь, — с тобой нельзя говорить ни о чем серьезном». — «Издай побыстрее брошюрку, — посоветовал я Игорю, — тогда все пройдет, я имею в виду этот комплекс».
Вспомнил, как, заглянув к Ирочке Вельяминовой, увидел, что она торопливо складывает в папку странички. «Что это?» — «Пишу повесть, — почему-то шепотом ответила Ирочка. — Повесть пишу». — «А про что?» — тоже шепотом спросил я. «Про пионеров. Как они шагают с горнами и барабанами, как охраняют природу, как защищают животных», — какая-то странная обреченность сквозила в ее голосе, но я подумал, что, пожалуй, Ирочка — единственная из перечисленных — доведет дело до конца. «Но ведь это же прекрасно!» — фальшиво восхитился я. «Как думаешь, дружочек, — задумчиво спросила Ирочка, — когда пишешь о положительном, необходимо ли самой быть кристально честной и чистой? Или достаточно себя лишь чувствовать таковой в момент, когда пишешь?» — «Нет ответа, — сказал я, — правила и исключения здесь равноправны. Хотя, конечно, бог правду видит». — «Бог правду видит, — повторила Ирочка, уставилась на меня невидящим взглядом. — Бог правду видит».
Почему-то вспомнил птиц, каждую осень беснующихся у меня под окнами. Никуда-то они не полетят, ни в какие теплые края, а вот, поди ж ты, жив древний инстинкт, зачем-то собираются в стаи, перелетают с одного дерева на другое. И все.
Тем временем облака закрыли солнце. Город как-то потускнел. Делать в гостинице было совершенно нечего. Оставалось еще раз пройтись по кривым узким улицам, по булыжным площадям, по обдуваемым злым ветром крепостным стенам.
На чистом листе бумаги я изобразил рыцаря в латах, вуалехвостку, похожую на средневековую красавицу, обмахивающуюся веером, девичье лицо — что-то среднее между Анне-Лоот, Ирочкой Вельяминовой и Антониной. Потом явилась фраза, показавшаяся достойной быть занесенной на бумагу.
…Когда я поставил точку, за окном было темно. На противоположном доме пылала синяя реклама, возвещавшая на нескольких языках, что летать самолетами надежно, удобно, выгодно. Звезды заполонили небо. Я сидел за столом, с сомнением глядя на исписанную стопку бумаги. «Так рассказы не пишутся, — убеждал я себя, — они не рождаются из подобного мусора, противоречивых мыслей, каши воспоминаний. Или… пишутся? Рождаются?»
Ответа не было.
ЭСТОНИЯ II
Поздним вечером следующего дня я спустился на лифте с двадцать второго этажа гостиницы. В холле было тускло и чинно. В центре сгрудились, словно носороги, кожаные диваны. У стеклянных дверей несли вахту сразу три швейцара. Видно, число желающих попасть сюда было велико. Для некоторых — восточного вида — людей швейцары делали исключение.
Сколько я себя помнил, я всегда был снаружи, в самом хвосте очереди. Я всегда проклинал ситуацию, что вынужден стоять в очереди, унижаться, ждать, чтобы истратить честно заработанные рубли. Порой казалось: а нужны ли рубли кому-нибудь, кроме меня? В данный же момент я находился внутри, посматривал на томящихся в холоде за стеклянными дверями с некоторым превосходством, ощущая собственную, пусть мимолетную, случайную, но избранность. Впрочем, я не очень любил рестораны, по своей воле в них не ходил, поэтому мнимая избранность вскоре обернулась смущением.
Я вышел на улицу. Жаждущие попасть взглянули на меня с недоумением. Куда-то в снег, в холод уходил я из гостиницы, где почти на каждом этаже буфеты, бары и рестораны. Я пересек занесенную снегом улицу и оказался в Старом городе. Здесь было тихо, только черные следы разлетались во все стороны.
— Где тут ресторан… тьфу, название не выговоришь! — остановил меня пожилой седовласый человек с трубкой в зубах. Пальто нараспашку. Борода — седой истрепанный веник.
— Понятия не имею, — я почувствовал привычную неприязнь к очередному искателю увеселений.
— Не имеешь? — разозлился он. — А что ты вообще имеешь? Деньги имеешь? На, смотри, — вытащил из кармана толстую пачку, потряс у меня перед носом, как некогда Жеребьев ста пятьюдесятью страницами незаконченного литературного труда.
— Дурак, — сказал я, — прибьют здесь тебя, как крота.
— Подожди, — он нервно куснул трубку. — Подожди… те, пожалуйста. Я вам скажу. У меня жена умерла, я впервые снял с книжки такую сумму. И я не могу истратить, не знаю, где и как. Оказывается, я не умею тратить деньги. Меня никуда не пускают, нигде нет мест. Зачем я только сюда приехал? Противно разговаривать с этой мразью возле ресторанов, верите ли, официанты и те смотрят на меня, как на блоху! Я бы продал билет, улетел завтра же, чтобы не оставаться здесь еще на один день. Сунулся в кассу, и там очередь, и там нет! Кому бы заплатить, чтобы не мучиться, чтобы мне принесли билет в гостиницу, чтобы все было так, как я хочу? В конце концов, плачу я за это или не плачу? Неужели сейчас невозможно попасть ни в один ресторан? А мне, как назло, хочется выпить.
— Попасть можно, только надо быть наглее.
— Проклятие, неужели жена права? Коля, всегда говорила она, ты и деньги — вещи несовместимые. Будь у тебя миллион, ты бы не сумел починить каблук в обувной мастерской без очереди, достать рулон туалетной бумаги. Она права. Я в этом сразу убедился, как только сюда приехал. Вам не кажется, мы живем в странный век, может быть, век хамства? Что хорошего в этом городе?
— Средневековая архитектура, — сказал я.
— Средневековая архитектура, — тоскливо повторил он, — а вам не кажется, что хамство убивает впечатление от архитектуры?
— Надо самому сделаться хамом, — сказал я, — сразу станет легче жить, во всяком случае не будет сложностей с ресторанами.
Пройдя несколько шагов, я скатал плотный снежок, бросил ему вслед. Седой обернулся.
— Уезжай, друг, отсюда, — почему-то посоветовал я ему. — И быстрее женись, пропадешь без жены.
Он удрученно махнул рукой, пошел своей дорогой искать ресторан.
Я с отвращением смотрел на залитые нездоровым зеленым и розовым светом окна. Выходило, не только от внутренней пустоты, безразличия к греху — ресторан, и уж конечно не от желания утолить голод, но и от слабости, незащищенности перед ударами судьбы. Такие — самый жалкий, презираемый ресторанный отряд. Их безжалостнее всех обсчитывают, им грубее всех хамят.
Город, закованный в лед, постепенно оттаивал. Я увидел, как месяц, боясь поранить ноги, осторожно крадется над шпилями и башнями. Увидел трех черных кошек, сидящих в ряд на балконе, посверкивающих глазами. Так просто сразу три черных кошки не могли появиться. Что-то должно было произойти. Город оттаивал, зато я промерзал до костей. Стуча зубами, бежал по узким улицам в сторону гостиницы. По-прежнему стыли в очередях юноши и девушки. Юноши непрерывно курили, девушки прятали носы в воротники, постукивали нетерпеливо сапожками о снег. Юношам было стыдно, что их не хватает даже на то, чтобы провести девушек в бар, в ресторан.
Я стоял в холле, дышал на озябшие руки, думал о только что написанном рассказе. «А если уйти от суеты и только писать? Запереться дома — и писать. И больше ничего. Будь что будет». Эта мысль была прекрасной и захватывающей, совсем как обозрение вершин в мнимом полете, в табачном прищуре. Я вспомнил, как однажды во время грозы к нам в кухню влетел голубой волнистый попугайчик. Он случайно вылетел из чужой клетки и теперь наслаждался призрачной свободой — обреченный, неприспособленный. Гремел гром, он сидел на подоконнике, вздрагивая. Когда-то в детстве я мечтал о паре таких попугайчиков, специально ходил в зоомагазин, смотрел на них суетящихся и покрикивающих в клетках. Вдруг захотелось захлопнуть окно, поймать голубчика. Но где держать его, чем кормить, как за ним ухаживать? Я стоял посреди кухни, как буриданов осел. Взвесив все «за» и «против», решил поймать. Ладно, куплю клетку, посмотрю в книге, чем кормить. Но пока я думал, попугайчик улетел.
Пересекая холл, где сгрудились кожаные диваны, я неожиданно споткнулся о чью-то вытянутую ногу, грохнулся на пол. Тут же услышал веселый смех обладательницы ноги. Он показался знакомым. Это смеялась Антонина. В белой шубе она сидела в кресле. Рядом синяя сумка.
ПРО АНТОНИНУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Солнце едва поднялось над Оружейным. Мое единственное окно засияло. Над крышами, ступенчато убегающими к горизонту, простиралась лазурь, колодец же двора оставался сумрачным. Здесь была другая Москва. Большинство квартир здесь было коммунальными. Когда-то эти дома были доходными, в них селили кого попало. Призрак прошлого, казалось, мелькает в окнах с геранью, в застекленных комодах с рюмками и лафитничками, над широкими промятыми ступенями лестницы с выщербленными перилами. Комната моя находилась на четвертом этаже. Из окна тем не менее были видны крыши, вниз отвесно падали четыре каменные стены. Более городской пейзаж трудно было придумать. Деревья отсутствовали. Лишь герань слабо зеленела на некоторых подоконниках. Иногда средь бела дня из какого-нибудь окна доносилась томная, тягучая музыка. Здесь заводили Русланову, Изабеллу Юрьеву, какие-то цыганские хоры.
Таково было мое новое жилище.
Глаза сами нашли часы: половина шестого. Чирикали воробьи. Кошки выгибали на карнизах спины, пуская мелкую дрожь от носа до кончика хвоста. Словно неповоротливое железное животное во двор вползла поливальная машина. По-прежнему плавал в воздухе тополиный пух. Утренний сон истончился, причудливо переплелся с реальностью. Во сне еще властвовало неконтролируемое «я», но уже наступал на него утренний моральный закон. «Звездное небо над головой, — носились обрывки мыслей, бесконечно значительных во сне и бессмысленных при пробуждении, — тополиный пух над головой, моральный закон над головой…» И уже окончательно проснувшись: «Антонина!»
Раньше я полагал, что в общем-то живу в согласии с моральным законом. Но почему-то попытки следовать ему не в мелочах, а в серьезных, определяющих моментах приводили всегда к одному и тому же, а именно: расщеплению морального закона. Невозможность выбора, необходимость поступить так, а не эдак делала жизнь неуютной, словно я уже сам себе и не хозяин. Возникало лютое стремление оставить за собой покой и свободу, не лезть на рожон, избавить себя от неудобств, оставить все как есть, без потрясений. Одним словом, как всегда, отсидеться в кустах. Эти чувства были куда более естественные, близкие, теплые, нежели холодный моральный закон, который не принимал в расчет сомнения, лишь сурово требовал и ничего не обещал.
Язык мой вдруг сделался каменным, хотя я только собирался звонить Антонине, только собирался объясниться с ней. Так откликнулся язык на мое намерение поступить, как подсказывает моральный закон. В шесть утра я стоял на холодном полу в коммунальном коридоре и набирал ее номер.
— А, приветик, — зевнув, усмехнулась Антонина, услышав мой хриплый, разбойный голос — Теоретическое отцовство не дает тебе спать. Нет, мама, — даже не удосужившись прикрыть трубку рукой, чтобы я не слышал, — это не Борис. Борис дрейфует во льдах, там нет телефона. Успокойся. Кто? Да тебе-то что? Спи, не волнуйся… Так что? — это уже мне.
«Так что?» — произнесенное на другом конце города чуть устало, чуть равнодушно и вместе с тем с отчаянным ожиданием и одновременно с презрительным недоверием — так могла говорить только Антонина — в одну секунду все во мне перевернуло, в том числе и моральный закон. Антонина, одна лишь Антонина, и больше ничего! Сейчас она была моим моральным законом, поэтому, переворачиваясь, он тут же поднимался, как ванька-встанька.
— Я тебя люблю, — вдруг сказал я. — А дальше… Дальше все что хочешь.
— Наверное, выпивал ночью, а?
— Нет.
— Чего ты от меня хочешь?
— Хотя бы увидеть тебя.
— Это не любовь, — сказала Антонина, — это какой-то психоз.
— Любовь всегда психоз, назначь, где и во сколько.
— Мне не нравится твой голосочек, — ответила Антонина, — ты либо собрался предложить мне руку и сердце, либо явишься с топором. Конечно, я не то чтобы руками и ногами держусь за эту жизнь, но… теперь ведь, как говорится, я не одна, нас двое. Знаешь, Петя, у меня по отцовской линии были в роду близнецы. Так что вполне может статься, что нас не двое, а трое, хи-хи… Неужели даже это тебя не остановит?
— Так где и во сколько?
— Знаешь, мне как-то не с руки с тобой сегодня встречаться.
— Врешь!
— Ну хоть намекни: зачем?
— Двадцать семь лет живу на свете, — ответил я, — но не научился отвечать на вопрос: зачем?
— Я опять богаче тебя, — заметила Антонина, — живу двадцать лет, но знаю, как на него отвечать: потому что мне так хочется! А если не хочется, нет и этого зачем. Ты согласен со мной?
— Где?
— Да черт с тобой! — резко ответила она. — Давай встретимся. — Она назвала какой-то сумасшедший, недавно открывшийся ресторан где-то на сороковом этаже. — Раз так хочешь, встретимся там.
— Да кто меня туда пустит? У меня нет ни долларов, ни франков, ни…
— Обойдешься рубликами. Впрочем, если не хочешь…
— Хочу! — заорал я. — Хочу. Буду ждать тебя там.
День, таким образом, летел под откос.
ПРО АНТОНИНУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В назначенное время в фиолетовом, купленном лет десять назад, костюме, я сидел за столиком новомодного ресторана, вперив взгляд в бутылку шампанского. Точно такие же бутылки красовались на каждом столике. За вход в ресторан крепко брали, как я понял, бутылка входила в стоимость. Однако же расположившиеся за столиками почему-то шампанское не пили. Мне очень хотелось выпить, но даже в такой чепухе первым быть я не мог. Никто не пьет, значит, и мне нельзя. Пусть кто-то другой хлопнет пробкой, тогда и я. Быть вторым значило не испытывать никаких неудобств, не нарушать собственное душевное равновесие.
Это было смешно. В ближайшие минуты я собирался сделать нечто такое, чего никто из сидящих в зале мужчин наверняка делать бы не стал. И в то же время, как школьник, робел откупорить бутылку шампанского, за которую заплатил.
Стиснув зубы, смахнув со лба холодный пот, сорвал дрожащей рукой серебристую фольгу с бутылки, отвинтил проволоку. Пробка, как ракета, пошла вверх — сначала медленно, потом — хлоп! — полезла пена, но я уже подставил фужер. Все обернулись на меня. Через секунду бутылки захлопали на всех столах. Отхлебнув шампанского, я закурил, откинулся на спинку стула и впервые спокойно огляделся. За синими окнами рассыпались огоньки. Телебашня была как будто опутана красными бусами. До земли было далеко, шум города сюда не поднимался.
В фужере бесились пузырьки. Припомнился поэт-юноша Веневитинов, дипломный мой герой, сожалеющий, что молодые люди его поколения выкипают холодной пеной в бесплодных спорах. В дни написания диплома за этими его сожалениями виделись дубовые и буковые дворянские гостиные, уютно освещенные свечами библиотеки, кожаные глубокие кресла, хрустальные кубки, где играли теперь уже нам неведомые вина, — и над всем этим, как горькое прекрасное проклятие: поиск смысла. «Библиотека — великолепное кладбище человеческих мыслей… На иной могиле люди приходят в беснование, из других исходит свет, днем для глаза нестерпимый, но сколько забытых могил, сколько истин под спудом…» Это написал ближайший друг Веневитинова Владимир Одоевский. Странная, помнится, тогда явилась мне мысль, что познание может быть горьким, что нет хуже наказания, чем безостановочная работа мысли и души, помноженная на бездействие в жизни, на принятие мира, каков он есть, на убийственно ясное осознание невозможности что-либо в нем изменить. Поиск смысла, таким образом, оборачивался тоской по утраченному действию, а этим во все века мучились образованные русские люди.
Но теперь мысли мои двигались по иному пути. Я вспоминал «Декамерон», «Речные заводи», «Кентерберийские рассказы» и прочие старые произведения. Как внезапна, ошеломляюща и непредсказуема была человеческая жизнь. Подобно неукротимой стихии врывались в нее различные обстоятельства, все в одно мгновение изменяли. Сегодня беден — завтра богат. Сегодня свободный художник — завтра раб на галерах султана. Сегодня жив — завтра на виселице, в колесе, на плахе. За морями цвели неведомые неоткрытые земли. Скакали со слитками золота дикари. Вдоль побережий крались на пузатых парусниках пираты. Сияющие алмазы перетекали из мешка в мешок, из кармана в карман. Золото инков гуляло по Европе. Каждый год затевались войны, границы государств менялись, как узоры в калейдоскопе. То была динамика юности, отнюдь не гуманная, напоминающая более естественный отбор, но тем не менее наполняющая человека мужеством, накрепко пришивающая его к жизни, не позволяющая хоть на день расслабиться, раскиснуть. Средневековый человек был универсальной личностью: говорил на нескольких языках, мог построить дом, забить скотину, вспахать и засеять поле, вырастить и убрать урожай, сшить себе сапоги, одежду.
Нынче же гигантские каменные города хранят человека от стихии, надежные границы — от блужданий по свету, жизнь, судьба от дня рождения до дня смерти распрямлены, все меньше в них неожиданного, ошеломляющего. Чудовищные ракеты нацелены на города, и куда бы ни бежал человек, как бы глубоко ни закапывался — спастись трудно. Ежедневное монотонное существование уживается ныне с непредсказуемостью самого существования. И не один человек сегодня жив — завтра мертв, а миллионы разом. Вот как воплотились в жизнь мечты лучших сынов человечества. Немногие сегодня сумеют разом: построить дом, забить скотину, вырастить и убрать урожай. Зато какой космос открылся в человеческой душе. Все-то теперь стоит под сомнением, ничего-то теперь не принимается на веру. Но надо жить. Надо противостоять обреченности, всемирному злу. Каждый — как может. И всем вместе. Я почему-то был уверен, что Антонина носит ребенка от меня, что родится обязательно девочка и мы назовем ее Настей. Я дожидался Антонину, чтобы сказать: пусть немедленно разводится с Борисом, выходит за меня замуж и сегодня же переезжает жить ко мне.
ПРО АНТОНИНУ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Каждый раз, когда кто-то входил в зал, я поднимал голову, надеясь увидеть Антонину. Уж она-то нигде не стеснялась, ее достоинство граничило с нахальством. «Папаши», обувщики, официанты, рыночные кустари, специалисты по починке зонтов, различные торговцы были весьма с Антониной предупредительны. Антонина довольно надменно требовала услуг, но одновременно не чинилась, неуловимо умела показать, что она им своя, то есть знает, что просит и что должна получить в ответ. Обманы, облапошивания, следовательно, исключались. «В самом деле, — частенько задумывался я, — каков ее социальный круг, где же она по-настоящему своя?»
Ответа не было.
Антонина с легкостью входила в любую компанию, одинаково свободно чувствовала себя с какими угодно людьми. Она парила над жизнью — юная, беззаботная, как тополиный пух, как некое знамение времени, когда цена дорогой, красивой вещи не суть деньги. Когда говорят и говорят о душе, но покупают и покупают красивые вещи. Когда всем поголовно что-то не нравится, а живется каждому в отдельности не так уж плохо. Времени с одной стороны запутанного, а с другой — обнаженно ясного. Благо, собственное благо — вот что изрядно занимает умы. «Но что благо для Антонины? — задумывался я, и снова не было ответа. — Неужели она всего лишь вещь, красивая, удобная, молодая вещь, и психология ее — равнодушная психология вещи, которой несвойственно задумываться, кто и зачем ею обладает? Иначе почему она со всеми своя и ко всему на свете равнодушна? Так может вести себя только вещь. Так зачем мне на ней жениться?»
В этот момент некоторое оживление произошло у стеклянной двери. Черно-золотой швейцар в фуражке, похожий на адмирала, придержал рукой дверь, и в ресторан вступил… муж моей матери Генерал — в рубашке, в брюках с лампасами. Под руку Генерал вел молодую и довольно симпатичную даму, это все, что я успел отметить. «Влипаю, — пронеслась мысль, — опять влипаю. Зачем он здесь? Почему с женщиной? Что я должен делать?»
То был очередной, весьма частый, момент, когда я не знал, как себя вести. Моральный закон глухо помалкивал. Я слышал могучие баховские аккорды, видел наматываемые на вилку спагетти, покрытые пылью студийные магнитофоны, бледное от ярости лицо матери, саму ее с книжечкой в белом платье на скамейке в Кривоколенном, где я чуть не задохнулся в горячем, вязком, пронизанном тополиным пухом воздухе. Бессмысленный набор слуховых галлюцинаций, видений вместо четкой подсказки со стороны морального закона. «Он генерал! — подумал я. — Во время войны он оперировал раненых при свечах. Он знает, что делает. И как я могу вмешиваться? Но он хочет бросить мою мать! Как я должен себя вести? Я чувствовал, что все этим кончится! Она тоже чувствовала и сознательно к этому шла. На что она надеется? Жизнь — не белое платье. Белое платье — полет, беззаботность, тополиный пух, жизнь — это другое. На что она надеется?»
Генерал тем временем усадил даму за стол, предварительно поцеловав ей руку, углубился в меню. Он любил вкусно поесть, хорошо выпить. Паштет из перепелок, кроличьи мозги в вине — все эти блюда, которые готовила мать, возможно, и были изысканными, но он ими никогда не наедался.
Когда-то, помнится, из окна ленинградской квартиры я смотрел, как уходят из дома сначала мать с чемоданчиком в руке, потом отец. Не изведанная дотоле пустота, помнится, наполнила душу, все переставила в ней с места на место. Сейчас я смотрел на Генерала, целующего руки женщине, и не ненависть к нему, но жалость и сыновняя любовь к матери застилали глаза. Это она не позволила Генералу любить себя. Это она сохранила в неприкосновенности свой внутренний мир: белое платье, качельки в Кривоколенном, послевоенное их житье — пушистые, мягкие ковры на полу и на стенах, вежливая домработница, долгие ужины, когда она, сняв очки, мечтала, не замечая расплывающегося перед глазами мира, а дед рассеянно прихлебывал красное вино, уткнувшись в медицинский журнал. Его жена, ее мать, умерла, когда она была ребенком, дед во второй раз так и не женился. Из-за нее. Из-за ее, стало быть, белого платья. Но почему это так сильно в ней? Она опять остается одна среди придуманной, несуществующей жизни. «Сама виновата! — от этой жестокой мысли было не уйти. — Что за изощренный, ледяной фанатизм? Во имя чего? Каких-то давних, безвозвратно канувших дней, воспоминаний? В чем провинился перед ней Генерал? Какова же для нее цена тех дней, воспоминаний, если она так легко жертвует нынешним своим относительным благополучием? Тем, что для большинства женщин ее возраста золотая мечта?»
Наконец-то появилась Антонина. В черном вечернем платье, окутанная немыслимым ярко-красным шарфом, к которому летели все взгляды, она стояла у двери, привычно покачиваясь с пяток на носки. Я в ужасе увидел, что и губы она подкрасила под цвет шарфа. Антонина напоминала вампира, только что оторвавшегося от жертвы. Светлые, широко расставленные глаза искали меня, но одновременно фиксировали все.
Я помахал рукой. Антонина коварной походкой двинулась между столиками.
«А почему бы, — мелькнула спасительная мысль, — даме не оказаться просто любовницей Генерала? Все грешны, генералы не исключение». Это уже было извращение морального закона. Лучше бы грешен оказался Генерал, только не честен. Пусть бы имел себе любовницу, только не бросал мать. Во имя ее спокойствия я простил бы Генералу десять любовниц. Я пересел, чтобы оказаться к Генералу спиной. Пусть пирует здесь хоть всю ночь. Я его не видел.
— Антонина, — пробормотал я растерянно, — Антонина, на коленях, у ног твоих прошу: стань моей женой! Немедленно, сегодня, завтра, сейчас.
— Петр? — услышал голос Генерала.
— Так точно, лейтенант Апраксин!
— Вы? — увидел Генерал Антонину. — Добрый вечер, — дружески потрепал по руке. К женщинам Генерал всегда был добр. — Как поживает… — видно, хотел спросить про мужа, но, усмехнувшись, переориентировался, — ваша матушка?
— Благодарю, она здорова, — сделала книксен Антонина.
Мы владели вниманием всего зала. К ярко-красному шарфу Антонины летели взгляды, к широким генеральским лампасам. Я в кургузом фиолетовом костюме не котировался.
— Петр, на минуточку. Простите великодушно, — это Антонине.
Мы отошли с Генералом к окну. Внизу сквозь тьму, как трассирующие пули, летели машины. В небе месяц гнал куда-то серые облака, как стадо баранов. Тревожно, неуютно было мне, сватающемуся, на сороковом этаже между небом и землей.
— Мы расстаемся с твоей матерью, Петр, — сказал Генерал. — Это решенный вопрос. Она настаивает.
ЭСТОНИЯ III
Когда-то давно, во время хождений в библиотеку, я вычитал в одной сомнительной книге по психологии, как можно отличить истинно артистичного человека от заурядного, не артистичного. Допустим, заурядный человек вдруг грохнулся на пол. Он страшно смутится, покраснеет, вскочит, убежденный, что окружающие смотрят только на него, что он в центре всеобщего презрительного внимания. Заурядный человек постарается немедленно куда-нибудь убежать, быстрее покинуть досадное место. Истинно же артистическая душа, грохнувшись, вовсе не будет спешить подниматься, напротив, обнаружит своеобразную прелесть в этом состоянии: засучит в воздухе ногами, захохочет, покатится по полу, охая и стеная. Всеобщее внимание явится для артистической души не наказанием, но наградой. Не стыд она испытает, а эмоциональный взлет. Я был заурядной личностью, но неожиданная подножка так возмутила меня, что я завертелся, закорчился на полу, как уж.
— Вставай, вставай, — от души веселилась Антонина, — не так уж сильно ты ушибся.
Я, однако, не вставал, теперь уже изображая припадочного, конвульсивно дергающегося, стучащего зубами.
— Хватит, — сказала Антонина. — Это уже не интересно.
Мне, однако, было интересно, потому что ни разу в жизни я вот так не валялся на полу, победив робость и страх. В противоестественном этом состоянии, оказывается, в самом деле заключалась болезненная, аллергическая сладость. Даже в минутном самоизгнании из правил человеческого поведения маячило некое уродливое избранничество. «А в утешение реального, жестокого изгнания, — мелькнула мысль, — какое могучее, должно быть, нисходит чувство избранности». Я смотрел на Антонину снизу: спиной ощущая жесткий синтетический ковер, шеей — липкие русалочьи пальцы. Меня переполняла радость, отчаянное, веселое ликование. Русалка так русалка! Куда угодно, хоть на дно, да только с ней.
— Я люблю тебя, Антонина! — прокричал я с пола. — Вот беда-то какая.
— Значит, не хочешь подниматься, — Антонина неожиданно рухнула на пол, светленькие, редкие пряди разметались по серому паласу.
— Дай руку! — вскочил я.
— Ага, испугался… — смеясь, поднялась она.
— Как ты сюда прошла? Ведь не пускают.
— Господи, глупости какие.
В пустяковой этой фразе вдруг, как в свете молнии, обозначилось разделяющее нас пространство. Из неведомого, загадочного мира была Антонина, где нет слов «не пускают». Там всюду пускают. «Но где же, — размышлял я в плавно несущемся вверх лифте, — где предел, за которым начинается она, настоящая? В каждом человеке есть предел, до которого идет игра, а после — все всерьез, после — ясность. В ней же нет предела. Какая рубашка ей ближе к телу?»
Дорогие нарядные вещи? Нет. Минуту назад она в шикарной белой шубе плюхнулась на пол. Антонина равнодушна к вещам. Видел я ее в изысканных нарядах, видел и в лохмотьях. В первом случае она не важничала. Во втором не конфузилась. Нет, не вещи.
Деньги? Антонина не была падкой на деньги. Хотя бы потому, что никогда толком не знала, сколько я ей должен за очередную перепечатанную рукопись. Считал всегда я. Она смахивала деньги в стол, как смахивают со стола пыль. Помнится, раз я стоял за чем-то в очереди в магазине, лихорадочно пересчитывая наличность. Не хватало пяти рублей. Хотел уходить, но увидел Антонину. «Эй! — крикнул я. — У тебя есть деньги?» Странное выражение появилось у нее на лице, то было выражение растерянности и непонимания. Она подошла поближе, как бы не расслышав. «Деньги, — повторил я упавшим, безнадежным голосом, — есть?» Она засуетилась, но, чтобы выяснить этот вопрос, перерыла всю свою сумку. Где-то в пудренице обнаружилась десятка. «Ты что, — спросил я, — не знаешь, есть у тебя деньги или нет?» Антонина пожала плечами. Стало быть, не деньги.
Престижные знакомства? Нина Михайловна, помнится, рассказывала моей матери, что за Антониной ухаживал важный чей-то сын, приезжал на машине, тосковал под окнами, звал замуж. Антонине же в то время нравился Жорка — двухметровый шофер поливальной машины. Однажды сын, как обычно приехал во двор, но едва успел заглушить мотор, как Жорка поддел своей поливальной легкие «Жигули», выкатил, к чертовой матери, из арки, а потом еще обдал водой. Нина Михайловна пробовала переубедить Антонину, доказать ей преимущества возможного замужества с сыном и всю бесперспективность дружбы с Жоркой. Та заявила, что выйдет за Жорку замуж. Но его, к счастью, призвали во флот — бороздить морские просторы. Значит, не престижные знакомства, не весьма распространенное среди девушек стремление получше устроить свою жизнь.
Так что же?
Это было сродни полету в лифте, но не на определенный этаж, а в неизвестность. Я всегда боялся таких отношений.
— Ты симпатично устроился, — заметила Антонина, — приличный номер, — швырнула в угол синюю сумку. — По слухам, в ресторанах тут гуляют до утра.
— Возможно, — ответил я, — но я не люблю рестораны.
Антонина полезла в сумку, вытащила клеенчатую косметичку. Вместе с помадой, какими-то тюбиками, дезодорантами оттуда посыпались смятые купюры.
— Мой скромный вклад, — сказала Антонина, — не взыщи, если он не очень велик.
— Не в этом дело, деньги есть, — поморщился я, — просто… как бы это тебе объяснить… Ну не считаю я сидение в ресторане приятным делом. Что поделаешь?
— А чем же еще здесь можно заниматься вечером? — совершенно искреннее удивление звучало в ее голосе.
Я любил Антонину за искренность. Даже когда она врала, она оставалась искренней.
— Зачем ты сюда приехала? Кто тебя пустил?
— Приветик, — усмехнулась Антонина, — сначала изъяснился в любви, теперь спрашиваешь, зачем приехала.
— Да. Я как-то забыл, что ты замужем.
— Ну так и не вспоминай.
— Где твой муж?
— Слушай, иди ты…
За окном лежал чистый снег. Мир казался непорочным. Однако минувший зимний день: искрящиеся инеем улицы, синий горизонт над белым заливом, гигантский дуб с остатками листвы, который якобы посадил Петр Первый, но главное, покой и воля, неожиданно обретенные мной в этом городе, — все сейчас летело псу под хвост, все сгорало в ясных, широко расставленных глазах Антонины. Все мое было ничтожным, хрупким. Все ее — хоть и чуждым мне, но почему-то подчиняющим. Я ощущал, как скудеют мысли, глупеет язык, как то, что я считаю истинно и единственно своим, прячется, затаивается, как улитка в раковину. До лучших времен.
Но разве с Антониной у меня не лучшие времена?
— Как-то у нас с тобой не так, — произнес я с тоской. — У меня все-таки есть какие-то представления о жизни, что хорошо, что плохо. А когда ты рядом, я подчиняюсь тебе, плыву по течению, не могу вот даже толком тебе возразить. Неужели я тебе такой интересен — тупой, безвольный?
— У тебя есть возможность исправиться, — Антонина шагнула в ванную, где голубел кафель, где зеркало занимало всю стену, а из кранов лилась шипучая зеленая вода. — Я была здесь два раза, — различал я сквозь шум воды ее голос. — Один раз с мамой, помню, обедали в каком-то кафе. И когда училась в школе. Ночевали на вокзале.
— Где твой муж? Ты не боишься, что сюда придет эта… коридорная и выгонит тебя?
— Приму-ка я душ, ты не возражаешь?
— Где твой муж? Тебя выгонят…
Антонина уселась рядом со мной, стала гладить по голове, как ребенка. В ее голосе появилась нежная, убаюкивающая монотонность.
— Гостиничные правила строги лишь на первый взгляд. Никто меня не выгонит. Дежурные на этажах меняются каждые восемь часов, у них пересменка.
— Да при чем здесь пересменка?
— Что же касается моего мужа, сиречь Бориса, — теперь она гладила мою руку, — то оказалось, что у него есть старенькая любимая бабушка, то ли в Липецке, то ли в Бобруйске. Он мне что-то про нее рассказывал, только я не помню. Так вот, вчера принесли телеграмму, что она при смерти, и Борис со своей матерью улетели к ней. Я сказала, что не намерена проводить счастливые новогодние дни в Москве одна-одинешенька. Он ответил, да, конечно, съезди куда-нибудь. Оставил денег на дорогу. Так что и здесь все в порядке. И потом, я не пойму: чего ты-то кобенишься? Я же сама тебя нашла, ты же силой меня не тащил.
— Поэтому, — усмехнулся я, — именно поэтому и кобенюсь.
— Страдаешь комплексом немужественности, а? А чего, собственно, страдаешь? Будь я не замужем, еще туда-сюда. Ну, а замужним-то, извини, им самим положено суетиться. Тихо, тихо… — она не дала мне выдернуть руку. — Хочешь, скажу, чего тебе не нравится, а? Тебе не нравятся возможные последствия: объяснения, склоки, скандалы, что, в общем-то, в такой ситуации неминуемо. Следовательно, не о какой-то морали ты печешься, Петя, а всего лишь о собственном спокойствии. И ты это знаешь, потому и злишься. Впрочем, напрасно злишься, ты-то здесь с ног до головы чистенький. Я сейчас в ванную, — она шептала, смотрела мне в глаза, как гипнотизер, — а потом, раз не хочешь в ресторан, посидим в номере. И не бойся ты, ради бога, всяких дежурных, коридорных, а? Они этого не стоят.
— Зачем тебе нужна была эта свадьба? Зачем этот Борис?
— Я не люблю Бориса, я люблю тебя, Петя. Этого достаточно?
— Нет. За что? За что ты меня любишь?
— Не знаю, — Антонина смотрела мне в глаза. На сей раз она почему-то не косила. — Считай, что тебе просто повезло. Или не повезло, как хочешь.
— Так как же я? — шепотом спросил я. — Что же я такое? Меня никто ни о чем не спрашивает, ты, оказывается, все решаешь, за все отвечаешь. Может быть, я вообще существую лишь в твоем воображении? Да как ты смеешь? Кто ты такая? — Бросился к двери. — Эй! — рявкнул в мягкий пустой коридор. — Дежурная, ко мне приехала любовница, слышишь? Вот так, — захлопнул дверь, схватился за телефон. — Москву, пожалуйста, немедленно Москву! — назвал домашний номер Антонины. — Не надо в течение часа, дайте по срочному! — швырнул трубку. — Все. Будешь разговаривать со своей матерью.
Антонина, едва сдерживая смех, прошла мимо меня в ванную. Я кинулся следом, заколотил в закрытую дверь:
— Открой, слышишь!
— Дай хоть раздеться, — рассмеялась из-за двери Антонина.
Я опустился на пол возле двери.
— Зачем ты приехала? Чего тебе надо? Разве ты не понимаешь, все это плохо кончится. Что это за игра? Зачем?
Некоторое время я слышал только шелест водяных струй. Потом — точь-в-точь как русалка из омута — Антонина ответила:
— Мне кажется, это первый раз в моей жизни, первый раз я люблю больше, чем меня любят, и неужели только за это я должна выслушивать от тебя столько несправедливого? Или это мне в наказание, а? Ты все губишь, все портишь, Петя. Иногда мне кажется, ты вообще не способен любить. Придумываешь схемы, лепишь на пустом месте проблемы, а знаешь почему? Потому что боишься.
— Я не боюсь. Я пишу. Ты появляешься, и я — как в омут. Сам себе не хозяин. Нет тебя — я порядочен, за что-то держусь в этой жизни, за какие-то принципы, на чем-то стою. Ты появляешься — все рушится, во мне не остается ничего святого, ничего. Что же я — безвольная дрянь? Или все: принципы, мораль — миф? Ты появляешься — и их нет. Вот что меня мучит.
Вновь шевеление воды, всплески. Уже не прохладные русалочьи пальцы ощущал я на шее, а железные объятия, когда ни вздохнуть, ни крикнуть. Перед лицом колыхались волны, зеленые русалочьи волосы не давали дышать, над сомкнувшейся водой еще была различима луна — последнее земное видение.
— Так ты сбегай в буфет…
Я понесся вниз в буфет, но там закрыто, рванул наверх, в бар, где музыка, красные блики, дорогущие коктейли. Мальчик с девочкой — школьники, не иначе — целовались на узеньком диванчике. Рядом сидел еще один мальчик, явно из их компании. Он сидел стиснув зубы, распрямив ноги, как палки, разглядывая носки ботинок. Отметив про себя, что, должно быть, худо пареньку, я пробрался к стойке.
Антонина ждала меня, еще пуще помолодевшая после душа, с лицом свежим, как яблоко.
— Ты взяла с собой паспорт? — спросил я.
— Паспорт? Кажется, взяла. Ты что, хочешь уточнить, где я прописана?
— Я боюсь, меня обвинят в растлении несовершеннолетних.
— Ты мастер делать девушкам комплименты, Петя. — Антонина вдруг принялась жонглировать апельсинами. — Всю жизнь мечтала работать в цирке, — вздохнула она.
…Среди ночи я проснулся. Сон растаял, как синяя реклама на крыше дома, призывающая летать на самолетах Она погасла, осиротила улицу в тот самый момент, как я проснулся. Я подошел к окну. Только горсть света оставалась внизу, у входа в гостиницу, под козырьком, как под совком. Две фигуры топтались на освещенном овале: швейцар, неизменный ночной «папаша», и девица в алом, как кровь, пальто. Вечен был ленивый их спор и мог происходить в каком угодно веке, в каком угодно месте: в Монтевидео, в Новгороде. Вспомнился почему-то Герман Мелвилл, утверждавший, что в глухой предрассветный час общий стон стоит над землей, тщета, печаль человеческая как бы материализуются в бесконтрольных ночных всхлипах, необъяснимых пробуждениях, произносимой бессмыслице. Вот и Антонина беспокойно заворочалась, потом неожиданно четко и звонко произнесла: «Я хочу олюбовить всю землю».
— Что-что? — не сообразил промолчать я.
Она проснулась:
— Я что-то сказала?
— Нет. Спи.
В ночной тиши, попыхивая сигаретой, я — всегда мечтавший бросить курить — думал о словах эстонской поэтессы, что русалка непременно пытается сменить рыбий хвост на человечьи ноги, как только представляется тому подходящий случай. Надо лишь не упустить момент, подхватить ее на руки, если слишком уж будет больно, не то озлобится русалка, вернется в омут, и тогда уж пощады не жди. «Во сне, — подумал я, — во сне они меняют хвосты на ноги, хотят олюбовить всю землю. Утром они опять с хвостами».
— Иди сюда, — услышал голос Антонины.
Она сидела на кровати, по-турецки скрестив ноги, белая, почти неотличимая от простыни.
— Дай сигарету, — сказала Антонина.
Мы сидели напротив друг друга, еще не вполне проснувшиеся, но и не преисполненные сумрачной утренней трезвостью, когда хочется остаться в одиночестве. Я смотрел на тлеющий в сером воздухе огонек и испытывал чувство, что все это со мной уже было, так называемое «déjà vu»
[1]. Ночной разговор, смятые простыни, размытые очертания фигуры, странная откровенность, возможная лишь в этот час. То была память о жизни вообще — с каждым веком меняющейся, но в главном, в невозможности существовать мужчине без женщины, и наоборот, то есть в любви, неизменной. Иногда мне казалось, человек рождается на свет с готовыми матрицами чувств, которые предстоит испытать, и они до поры бродят в его крови живые, но глухонемые, вот отсюда-то и «déjà vu» как память о непережитом. Когда-то в детстве я пугался необъяснимого чувства, что это уже со мной было, припоминал недолгую свою жизнь по годам-месяцам, убеждал себя: нет, не было. Теперь ни в чем не убеждал, полагал это чувство иным — не событийным — движением времени, в каждом новом «déjà vu» видел нежданно открывшуюся правду о жизни.
— Значит, писателем, — с сомнением в голосе произнесла Антонина. — Хочешь стать писателем, а каким?
— Что значит каким?
— Ну, как Лев Толстой, как Достоевский? Как кто?
— Как я. Лишь как я. Другим не получится.
— Как ты, — задумалась Антонина. — А герои, твои герои. Они тоже как ты, а?
— Что ты имеешь в виду? Какие-то из них — наверное, но все же не могут быть как я.
— Хорошо. Но что ты считаешь в них, в героях, в людях, главным?
— Разум, — ответил я. — Только это не значит, что я сам живу в согласии с ним.
— Например, сегодня не живешь, а?
— Да, — согласился я.
— А что такое разум? Можно считать разумом готовность ежечасно, ежеминутно сделать разумный выбор, я правильно тебя поняла?
— Не обязательно ежечасно, ежеминутно, но вообще, в принципе.
— Стало быть, жизнь многих твоих героев — сплошная цепь разумных поступков? Куда же они в конце концов приходят? В царство разума?
— Нет, — ответил я, — что-то держит их за штаны, не пускает в царство разума.
— И это что-то — жизнь, а?
— Да, жизнь.
— Но ведь они делают разумный выбор, Петя. Как же жизнь может держать их за штаны?
— Разумный, да, — продолжал упорствовать я, — но в неразумных обстоятельствах, над которыми они невластны, а потому… — почувствовал, что запутываюсь. — Да о чем мы? Я и сотой доли не написал, чего задумал. Чего говорить о каких-то моих мифических героях. Потом, когда напишу, тогда можно говорить.
— Но все-таки разумный выбор? — Антонина смотрела на меня как-то уж слишком пристально, вкладывая в теоретический наш спор одной ей известное содержание.
— Не вижу ему альтернативы, — сказал я, — хоть убей, не вижу. Хоть и живу все время вопреки. Вот так.
— А в душе? — прошептала Антонина. — В сладкой запретной тьме, где мечты… Неужели и там разумный выбор?
— А до какой степени люди могут быть откровенны? — тоже шепотом спросил я. — До такой, что да и нет уравниваются, что, что бы о себе ни сказал, все окажется правдой? Не было, не совершал, но думал, снилось, в каком-нибудь кошмарном сне. Как же я могу знать, разумный там выбор или нет? Но я надеюсь — разумный.
— Надеешься? — искреннее изумление прозвучало в ее голосе. — Значит, ты стремишься быть посредственностью? Что может быть в жизни скучнее разумного выбора, как его понимает большинство? Ты сам себя вбиваешь в рамки, Петя, через силу. А где через силу, там нет свободы.
— Это ты себя оправдываешь, — сказал я, — собственное неистовство. На меня, тем более на моих несуществующих героев тебе плевать.
— Чего это мне себя оправдывать? — воскликнула Антонина. — Перед тобой, что ли? Я никогда ни в чем не оправдываюсь. Знаешь почему? Потому что объясняться, оправдываться значит как раз находить и преподносить в своих поступках этот самый разумный выбор, потому, как он всеми понимается и принимается. Разумный выбор — мораль на все времена, только она от трусости, от бессилия.
— А свобода от разумного выбора, — перебил я ее, — ты знаешь, что я имею в виду. Борис, свадьба и так далее — это от силы, от храбрости? Какая же это храбрость — заставлять других людей страдать?
— Не знаю, храбро ли это, — ответила Антонина, — зато честно. Врать я никому не собираюсь.
— Ты меня не убедила, — сказал я.
— Ты тоже меня не убедил, — сказала Антонина.
Она вдруг, как белый звереныш, прыгнула на меня из темноты.
— Тебе не кажется, — прошептала, — время остановилось, мы провалились в четвертое измерение. Ты, я, первозданная тьма вокруг, всемирный хаос. Бог еще ничего не сотворил.
ЭСТОНИЯ IV
В половине восьмого я проснулся. Тихо оделся, умылся, разложил на столе листки и блокноты, стал думать: с чего начать? Думалось плохо, сказывалась бессонная ночь. Тогда я наполнил водой стакан, опустил в него кипятильник. Кофе я всегда возил с собой. Вскоре вокруг кипятильника забегали серебристые пузырьки, стакан потеплел.
За окном было темно. Под самое утро выпал снег, ударил морозец. Окно до половины было в инее.
«Третье января, — вывел я в блокноте. — Понедельник. Таллин. Что сделать? 1. Позвонить в ЦК комсомола, пусть подберут рыбака. 2. Или пойти в какую-нибудь местную редакцию, пусть они подскажут рыбака. 3. Дозвониться и ехать к рыбаку обязательно сегодня. 4. Искать фотографа, чтобы снял рыбака. 5. У кого просить транспорт? 6. Отметить командировку. 7. Заказать обратный билет на Москву (на какое число?).
Тем временем вода в стакане закипела, можно было сыпать кофе. Светало крайне неохотно, однако рассвет был назначен природой. Я с любопытством думал о рыбаке, который в данный момент знать не знает, ведать не ведает, что мы встретимся. То были последние мгновения, когда я еще принадлежал сам себе. Потом начнется суетливая деятельность, в итоге которой я все-таки встречусь с рыбаком. И — как всегда — пришла охота отсрочить суету, побыть еще немного в тишине, посидеть вот так, ничего не делая.
Антонина спала, отвернувшись к стене. Русые волосы лежали сразу на двух подушках. «Почему, — подумал я, — странное смущение испытываешь, разглядывая спящего человека? Чему, каким таким своим мыслям ищешь подтверждение, его разглядывая?» Неожиданно вспомнилось, что я где-то читал, будто в Японии мужчина имеет право развестись с женой, если ему не нравится поза, в которой та спит. Во всяком случае, такое объяснение с его стороны не вызовет удивления у тех, кто занимается в Японии бракоразводными делами.
Я поднял телефонную трубку. Антонина по-прежнему спала. Будь у нее муж японцем, вряд ли бы он стал с ней разводиться. Антонина была красивой и во сне. «Уж ее-то день, — подумал я с завистью, — не будет похож на мой, ох не будет».
И началось. Путь к рыбаку пролегал через многочисленные кабинеты, через таллинский Дом печати, где было очень тихо и благостно. Повесили на стену табличку «Не курить», и никто не курит. Повесили «Громко не разговаривать», и никто не разговаривает.
День выдался сереньким, каким и положено после праздников. Снег летел грязными ошметками из-под колес. Я несся в колхоз-миллионер к рыбаку на машине, которую сначала хотели дать, но потом кто-то на ней куда-то неожиданно уехал и так же неожиданно вернулся. Теперь уже машину не хотели давать, наверное, потому, что давать уехавшую машину легче, нежели неуехавшую, но в конце концов все-таки дали.
Колхоз-миллионер мелькнул роскошными административными зданиями, но нужды заезжать туда не было, понеслись дальше. Вскоре я увидел занесенный снегом пирс, заиндевевший сарай, перевернутый днищем вверх баркас. Тут же в побитом котелке подогревалась на костре смола. Рыбак — он оказался молодым, лет тридцати, не больше — вытер руки о ветошь. Мы познакомились. Я вытащил блокнот, ручку. Вокруг пирса вздрагивала черная вода, а дальше — вдоль берега — были лед и вмерзшие в лед камни. Рыбак закурил.
— Как же это вы меня нашли? Кто подсказал?
— В редакции. А здесь шофер довез.
— Он всегда сюда возит журналистов, от него не спрячешься, — рыбак замолк, безучастно глядя вдаль.
Вопросы мои, как и следовало ожидать, никакого энтузиазма у него не вызвали. Он и в жизни-то был молчаливым парнем, а тут какие-то вопросы. Я чувствовал, как крепнет в нем внутреннее сопротивление. Не так уж часто встречаются люди, охотно отвечающие на вопросы. Мне встретился человек, вообще не очень охотно разговаривающий, то есть вдвойне повезло.
Неожиданно подумалось: хорошими журналистами могли бы, наверное, быть священники — к ним, по крайней мере, добровольно ходили на исповедь.
У нас же все обещало быть так: я спрашиваю рыбака, примерно зная, что он ответит. Рыбак, отвечая, примерно знает, что мне хочется услышать. Так были расставлены фигуры еще до начала беседы, и я потратил много времени, стараясь спутать их, дойти до нормальных ответов.
— Двадцать центнеров кильки, — начинал было рыбак.
— Не надо про центнеры, — останавливал я, — не могу представить себе двадцать центнеров кильки. Вроде как горка, а какая? Как лодка? Как сарай?
— Переходящее знамя, — говорил рыбак.
— Потом про знамя.
Постепенно добрались в разговоре до баркаса, который дал течь и чуть было прошлой осенью не затонул. Борта тогда трещали, капитан Эрих Томинкас как бешеный носился по палубе, по резиновым плащам барабанил дождь, тьма была как в преисподней. Потом ветер стих, днище вроде заделали. Решили для смеха потралить, все равно шли к дому, а рыбы на этих глубинах отродясь не водилось. А на этот раз вдруг завелась. Трал за тралом — и все полные. Тут опять ветер, волна, опять днище потекло. Вот комедия: рыба прет, а баркас тонет. Все валятся с ног от усталости. Топчан в рубке — единственное место, где можно поспать. Часок поспишь, уже будят: иди на палубу. Чудом каким-то до берега дотянули, не верит никто, что взяли столько рыбы. Где ловили? Там-то. Не может быть!
Рыбак закурил еще одну сигарету. У меня рука замерзла писать. Буквы ложились на бумагу, как скрюченные. Как потом прочитаешь?
— Что вообще сейчас волнует? — спросил я.
Мы словно поменялись ролями.
— Мало рыбы осталось в Балтийском море, — охотно ответил рыбак. — Что будут наши дети ловить? Чем будут питаться? Не знаю. Море грязное, нефть везде. Что мы после себя оставляем?
— А как быть?
— Для начала меньше рыбы ловить, — ответил рыбак. — Дрянь всякую в воду не сбрасывать, нефть не сливать. А дальше смотреть.
— Чего смотреть?
— Объявить по всему миру, — сказал рыбак, — что, значит, надо потерпеть с рыбой. Если не прекратим ловить, она кончится.
— Стало быть, — сказал я, — рыбу не есть?
— Да, лучше уж пока не есть.
— Кто же на это пойдет? Кто добровольно согласится рыбу не есть?
— Добровольно не согласится, дети его будут недобровольно не есть.
Я молчал.
— О чем тогда говорим? — горько усмехнулся рыбак. — Чистая вода, умеренный лов. Если это невозможно: не выгребать рыбу, не сливать в море нефть, не сводить леса на корню…
— К тому и говорим, — сказал я. — Еще лет пятьдесят поговорим, а там, глядишь…
— А там все! — мрачно подвел итог рыбак. — Нечего там глядеть.
Я хотел сказать, что верю: человечество сделает разумный выбор, но промолчал. То, что я вкладывал в это понятие, почему-то всегда оказывалось вялым, пассивным, не способным за себя постоять. Когда-то надеялись на божье провидение, сейчас атеизм. Разумный выбор. Так почему он никак не восторжествует? И вообще — дано ли ему торжествовать? Вдруг он как утешение в бессилии?
Мне нравился этот рыбак. Мне всегда нравились люди, не только делающие дело, но и думающие о деле. Мне хотелось поговорить с ним о многом, но я не был уверен, что сам нравлюсь рыбаку, поэтому старался не напирать.
Короткий зимний день тускнел. Повалил хлопьями снег. Шофер еще час назад заявил, что его время истекло, и уехал. Рыбак позвал меня в гости: попить чайку, согреться. Он жил недалеко, в красивом каменном доме с пристройкой.
— Ну вот, — сказал я. — Как же рыбу не ловить? Рыбу не ловить — значит и дома такого не иметь.
— Я часто об этом думаю, — хмуро ответил рыбак, — и не вижу выхода. Я устал об этом думать. Стремление лучше жить — это ведь человеческое, да? И понимание, что это «лучше» основывается на разрушении, разграблении: земли, моря, природы, — это тоже человеческое, да? Так почему «лучше жить» сильнее? Сейчас, сегодня. О том, как бы лучше жить, все время думаешь. О том, что гибнет планета, — только иногда и так, что вроде тебя это не касается.
Мы сидели в уютной комнате на длинном диване. Жена рыбака звенела на кухне чашками. Окна в доме были круглые, как иллюминаторы. Я листал семейный альбом, выискивая фотографию для журнала.
— А почему, — спросил, — вокруг колхозы как колхозы, а у вас вдруг миллионер? Что, специально чтобы делегации возить или действительно был какой-то толчок, почему вдруг так разбогатели?
— Раньше просто таскали рыбу, — объяснил рыбак, — а что такое рыба? Сырье. Килограмм свежей кильки, салаки стоит дешево. Своевременно не вывезешь — протухнет, вообще, выходит, ловили зря. Пока ловили да куда-то сырую отправляли, бедные были. А консервы — конечный продукт. Умно было то, что стали ловить и обрабатывать, то есть давать конечный продукт. Ухватили два конца экономических ножниц: сырье и готовый продукт. Это: рентабельность, полная занятость, прибыль, миллионы, строительство. Короче говоря, стали хозяевами своей рыбы.
…Обратно я возвращался в желтом промерзшем автобусе. Мысли неслись к Таллину, к гостинице, где я оставил спящую Антонину. Неожиданно я подумал, что формула рыбака «сырье — готовый продукт» — универсальна, вполне применима и к пишущему человеку. Грош цена сырью, грош цена всему: метаниям, замыслам, блистательным откровениям — пока все это не обретет единственно возможной, завершенной формы на бумаге. С каким-то тихим отчаяньем я подумал, что в глубине души уже считаю себя писателем, — хотя почему, собственно, я так решил? — а сделано-то, что сделано? Несколько рассказов. Когда-то я не знал, о чем писать, выдумывал пауков-сенокосцев, приносящих надежду, нынче же как под водопадом стою: все интересно, все достойно. Но как ухватить эти ножницы: сырье и готовый продукт? Или мне вообще не дано их ухватить? Или мой удел всю жизнь барахтаться, вязнуть в сырье, как в болоте? Ответа не было. Вернее, был: работа. Но до работы ли, когда рядом Антонина, жена Бориса, в перспективе объяснения с Борисом, с Ниной Михайловной, с матерью, с кем еще? Когда домой возврата нет. И нет уверенности, что те крохи, которые ты сотворил, не пыль, не графомания.
…Мы долго не могли с Антониной заснуть прошлой ночью. Тема разумного выбора оказалась поистине неисчерпаемой.
— Ты помнишь, — спросила Антонина, — я перепечатывала твои рассказы, а?
— Да, — ответил я, — но их уже нет.
— Неужели ты их сжег?
— Сжег. Выбросил в реку, в унитаз. Какое это имеет значение?
— Знаешь, они мне в общем-то понравились, только…
— Да, ты уже говорила об этом.
— Но я хочу еще сказать! — непонятная настойчивость звучала в ее голосе.
— Что говорить о том, чего уже нет?
— Но ведь, вероятно, появятся другие?
— Вероятно. Говори.
— Когда я печатала, мне нравилось. А потом я подумала: а что же это за герой? Ну симпатичный, ну милый, ну немного рефлектирующий, но, боже мой, Петя, до чего же он средний. Нет, конечно, не настолько средний, чтобы казаться примитивным, тупым. И той чудовищной среднести, которая хуже всякого зла, как, например, в героях Чехова, в нем тоже нет. Он среден именно среди настоящих героев, вот что я подумала. Понимаешь, попади он в компанию настоящих, они бы даже на него внимания не обратили.
— А кто эти настоящие?
— Как кто? Ну, хотя бы Жюльен Сорель, Растиньяк, Печорин или Раскольников. Они с какой-то язвой внутри, что-то их непрерывно жжет, они мучимы, пусть и не всегда добрыми идеями, но мучимы постоянно. Они вне разумного выбора, Петя, и именно поэтому они настоящие герои. Я путано говорю, но мне так кажется. Когда я долго о чем-то думаю, мне всегда начинает что-то казаться. Настоящий герой, наверное, всегда вне разумного выбора, а, Петя?
— Всегда? Вряд ли.
— Ну да, его трагедия в том, что в нем слишком много сил, слишком много души, да, Петя? И сначала-то он, конечно, стремится сделать этот самый проклятый разумный выбор, чтобы все было как у людей. Но так как сил много, души много, а разумный выбор — он для слабых, покорненьких, то как бы какая-то критическая масса образуется, то есть что-то совершенно обратное разумному выбору. Вот он, бедненький, и взрывается.
— Что же это — обратное?
— Я думаю, зло, — вздохнула Антонина. — Все, что в мире через меру, все, что выламывается за рамки разумного выбора, все в конечном итоге приносит людям зло. Вспомни, Петя, сколько великих начинаний оборачивалось трагедиями.
— Много великих начинаний оборачивалось трагедиями. Но при чем здесь я со своими героями?
— Я тебя люблю. И хочу, чтобы ты… То есть чтобы они… Только посредственность, Петя, живет, молчит, жует. Настоящий же герой — он всегда затевает переделку мира в свою пользу, всегда проигрывает, даже если выигрывает, все равно проигрывает, потому что ему достается жить по законам холуев и подхалимов, которые возносят его, хвалят, мелко и подло интригуют. Так вот, Петя, я читала твои рассказы и не понимала, видят ли они, эти полярники, студенты, кто там еще, видят ли главное противоречие жизни и что выбирают?
— Главное противоречие жизни? — я чуть не выронил изо рта сигарету. — Да что с тобой? Далась тебе эта чушь. — Мне казалось, у Антонины истерика.
— Ты хочешь сказать, люди веками бьются, его отыскивая, откуда же мне его знать? — засмеялась Антонина. — А я знаю. Все, — прошептала она, — все в этой жизни достается не тем. А они, эти Жюльены Сорели да Печорины, видят это и сами пытаются стать свиньями, но им не дано, слишком много души. И они всё теряют во зле. Но даже во зле они величественны, как затонувшие корабли. Они сражались. А твои герои, Петя? Какое противоречие их жжет, терзает? Да и видят ли они его? Они у тебя ничего не теряют, потому что им нечего терять, так как они всё приемлют.
— Больно высоко ты взлетела, — заметил я. — Давай спать.
— Нет ответа, да? — усмехнулась Антонина.
— Почему? — пожал я плечами. — Наверное, есть. У каждого свой. Только ни один нормальный человек не может здесь быть уверенным в собственной правоте.
— Ну вот, опять ты! — Антонина ударила в огорчении кулаками по подушке.
— Рассуждаю как посредственность? — засмеялся я. — Наверное, я не сильная личность. Я это я. Выше себя мне не прыгнуть. Но, согласись, было бы еще хуже, если бы я вдруг начал что-то изображать из себя тебе в угоду. Давай спать?
— Давай.
…Автобус тем временем въехал в Таллин. У гостиницы я вышел. В холле сновали носильщики с тележками. Иностранцы, посмеиваясь, тянули из зеленых банок пиво, в то время как сопровождающая бегала со стопкой паспортов от администратора к бухгалтеру и обратно. Я поднялся на второй этаж, наивно полагая, что там удастся перехватить лифт. На втором этаже располагался бар, куда лучше было не соваться с рублями. Из сумрачных его глубин до меня вдруг донеслось знакомое «хи-хи». Преодолев страх, сделав вид, что не замечаю вопрошающего взгляда бармена, я зашел в бар. Это Антонина сидела за стойкой на вращающемся стуле. Белая шуба была небрежно наброшена на плечи, длинная нога, обутая в сапог, болталась в воздухе, как маятник. Антонина рассеянно курила коричневую сигарету, в другой руке вертела бокал. По обе стороны от нее восседали два молодых человека, с готовностью предупреждающие ее желания. Вот у Антонины выпала из руки сигарета, покатилась по стойке. Ей немедленно была предложена другая. Я мучительно отыскивал в молодых людях мерзкие черты, но таковых не было. Они были моложе, интереснее и уж конечно куда богаче меня. То была очередная, неведомая мне — шикарная — Антонина. Я вдруг понял, что неубывающая юность, свежее личико, как бы вечно удивленный косящий взгляд широко расставленных голубых глаз, русые пряди — это все и есть стиль, шикарный стиль, необходимый Антонине для этой ее, ненавистной мне, жизни, шикарной жизни. Все, что было: ночной разговор о разумном выборе, наша с таким трудом народившаяся близость, — все кануло. Я видел в данный момент лишь шикарную Антонину в обществе двух проходимцев. Я не испытывал никаких чувств, кроме одного: она предала меня! А потом меня подхватило неуправляемое чувство «до конца». Несколько секунд как бы вмещали в себя целую жизнь с рождением, смертью и новым рождением. В новом рождении я был один, без Антонины.
— Мсье, что вам угодно? — возмутился наконец моим присутствием, явным отсутствием у меня свободно конвертируемой валюты, бармен.
Я выскочил вон.
Поднялся на свой этаж, быстро собрал вещи.
— У меня заплачено еще за два дня, — сказал коридорной, — но меня срочно вызвали в Москву, — показал редакционное удостоверение. — Вместо меня приехала девушка, она тоже из нашей редакции, она закончит дела.
— На первый этаж, — ответила коридорная, — к администратору.
— Да-да, конечно, — я вскочил в лифт.
Через час был в аэропорту.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Ранним летним утром в тени деревьев я поджидал Жеребьева у входа в бухгалтерию, чтобы объявить, что я женюсь и потому не смогу отправиться в запланированное путешествие. В последние дни моя жизнь обрела ускорение и непредсказуемость. Я только делал вид, что крепко держу вожжи, а на самом деле все было как в детстве, когда, вцепившись в железный поручень за кабиной шофера, я воображал, что управляю автобусом.
На следующий же день после встречи с Генералом позвонил матери.
— Мама, — сказал я, — я видел Генерала, я все знаю.
Она молчала, вероятно, ей было нечего сказать.
— Скажи, — спросил тогда я, — ты… в белом платье, да?
Она неожиданно рассмеялась:
— Да. Но как ты угадал? Я как раз надела его сегодня утром.
Мне стало не по себе.
— Я всегда с тобой, мама. Если потребуется помощь, все, что в моих силах. И вообще. В этом месяце будет гонорар, я принесу сто рублей, ладно? И потом… тоже.
— Думаю, это лишнее, — строго ответила она. — Возможно, я пойду работать.
«Куда? — подумал я. — И кем?»
— Да-да, — сказал я, — я к тебе обязательно заеду сегодня или завтра.
— Только позвони, — попросила она, — я испеку пирог.
Я неожиданно подумал, что, приехав, буду утешать ее. Но почему? Ведь она сама выгнала Генерала. Как же мне утешать ее, если в душе я не верю, что она сделала разумный выбор? Я вновь вспомнил странную нашу встречу в Кривоколенном. Тогда, помнится, изумился я, что совершенно по-разному мы пришли к одному и тому же. И вот сейчас опять. Она разводится с человеком, с каким ни одна бы здравомыслящая женщина по своей воле не развелась. Я женюсь на женщине, на которой вряд ли бы стал жениться хоть какой здравомыслящий мужчина. «Стало быть, жить вопреки разумному выбору, — усмехнулся я, — вот наше одинаковое, наследственное. Вот наш крест».
Рабочий день только начинался. В этажах над бухгалтерией располагались многочисленные редакции, я имел счастье видеть знакомых. Вот мимо пробежал, докуривая сигарету, Сережа Герасимов. Недавно он женился. Его жене было семнадцать лет. Она была школьницей, когда познакомилась с Сережей. Приносила в газету стихи. Сейчас ждала ребенка.
Вскоре по ступенькам, раскланиваясь со встречными, неспешно прошествовал Игорь Клементьев. Какой-то юноша догнал его, торопливо открыл на ходу папку, желая, видимо, показать Игорю письмо или документ, но тот равнодушно отмахнулся от палочника. В ясное солнечное утро глубокая задумчивость стояла в Игоревых глазах, и мне была известна причина этой задумчивости: неопределенность. В разгар будней, среди какого-нибудь разговора, вдруг как бы смотришь на себя со стороны и немо вопрошаешь: «Зачем я здесь? Для чего? Какой во всем этом смысл?» А впрочем, какой молодой пишущий россиянин не полагает, что нынешняя жизнь его лишь временная уступка обстоятельствам, шаг в сторону, прелюдия к настоящему. Настоящее же как горизонт, который виден всем, но достигают который единицы. Я окликнул Игоря, но он не расслышал.
По-прежнему неистовствовал тополиный пух. Между скамейкой, где я сидел, и деревьями, заслонявшими скамейку от идущих по лестнице людей, колыхалась летучая занавеска. Вчера мы долго гуляли с Антониной по набережной Москвы-реки, вода была белой от тополиного пуха. А когда вечером, простившись с ней, я возвращался в Оружейный, тополиный пух кружился под фонарями, словно снег. Нечто противоестественное, тревожное было в этой метели посреди лета.
Стеклянный туннель на Ленинских горах в свете закатного солнца казался пылающим пунктиром, соединившим два берега. Под ним Москва-река лениво утекала в малиновое небо. Впервые мы разговаривали с Антониной, как любящие друг друга люди, впервые не стояли между нами ни мой страх быть с ней, страх перед вечной ее непредсказуемостью, ни ее потешное ницшеанство. Многое было преодолено, и страшно было замутить наступившую ясность.
— Мы с тобой не очень-то похожи на жениха и невесту, — сказал я. Мне хотелось все продумать, чтобы поменьше было объяснений, криков, истерик. Особенно не хотелось встречаться с Борисом. Совсем. Антонина же, как мне казалось, совершенно об этом не думала.
— Тем более я не дала тебе ответа, — ответила Антонина.
— Это здорово меня обнадеживает.
— Интересно, — сказала Антонина, — почему одни люди умеют острить, с легкостью говорить на серьезные темы, а другие нет, а? Мне кажется, за всю жизнь я ни разу удачно не сострила.
— У тебя впереди достаточно времени, — пробормотал я.
— О чем ты сейчас думаешь? — дернула меня за руку Антонина.
— О твоем Борисе, — вздохнул я. — В данный момент только о нем.
Два дня назад мы с Антониной смотрели программу «Время». Под самый конец перед прогнозом погоды неожиданно показали остров Октябрьской Революции архипелага Северная Земля, гляциологический, вросший в лед, стационар. Показали мачту с красным флагом, развевающимся над безжизненными белыми просторами. Потом в кадре появился Борис. Он был в унтах и в красной на пуху куртке с капюшоном. Борис сказал, что, когда научный состав стационара будет полностью укомплектован — сейчас еще не все прилетели, — исследования станут вестись по самым различным направлениям. Химики будут изучать структуру ледника, определять степень его загрязненности. Биологи — полярные микроорганизмы, животный мир ледника. Бурильщики попробуют взять керн с максимально возможной глубины. Гидрографы будут заниматься движением ледника.
— Это он, гидрограф, — сказала Антонина.
— Геофизики, — продолжил с экрана Борис, — займутся зондированием, определением подледного ложа.
Потом находчивый корреспондент поинтересовался, не скучно ли Борису на леднике. Тот посмотрел на корреспондента, как на идиота, пожал плечами:
— Ледник — это не бессмысленная ледяная кора. Это жизнь и, если угодно, история жизни на нашей планете. В какой-то степени ледник — модель строения мира, здесь интересно все.
Закончил Борис свое интервью словами, что намерен посвятить изучению ледников всю жизнь, что сейчас он как раз заканчивает диссертацию, а главная его мечта — попасть в Антарктиду. Еще Борис сказал, что с детства у него вызывают восхищение героические исследователи Севера. Что сына, который вскоре у него должен родиться, он назовет Георгием в честь замечательного исследователя Северной Земли Георгия Ушакова.
Я заметил, как Антонина потянулась к папиросам, лежащим на столе.
То была пачка «Беломора», забытая кем-то из соседей.
— Ты же бросила курить.
— Ах да…
— Ледник — модель строения мира, — повторил я, — интересно, что он имел в виду?
— А черт его знает, — ответила Антонина, — однажды он ляпнул, что на леднике ему теплее, чем со мной. Ты слышал, что он говорил, с ним все ясно. До конца жизни — один ледник. Не надо за него переживать, Петя, а? Он в этом не нуждается. Ледник, понял? Утешится ледником.
— И что за сын? Какой сын? Какой еще его сын? Его тогда здесь не было! — Я не был абсолютно в этом уверен, поэтому говорил убежденно, громко, словно гвозди в воздух вколачивал.
— Это мамочка дала ему на льдину телеграмму. Я вчера ему дала другую, вот, — она вытащила из сумочки странный сиреневый бланк, протянула мне.
«Разводимся, — прочитал я. — Никаких объяснений, не вздумай прилетать. Твоих вещей у меня дома уже нет. Это окончательно. Прости, Антонина».
— Думаешь, он не прилетит?
— Понятия не имею, — усмехнулась Антонина, — только ты чего так переживаешь? Как это тебя касается?
— Некоторым образом касается.
— Никаким образом не касается. Это мой, запомни, это только мой ребенок! Я решила развестись с ним вовсе не для того, чтобы тут же выскочить за тебя. Идиот, пингвин!
— Пусть идиот, пусть пингвин. Почему ты вышла за него? Его же не было среди твоих поклонников, я их всех знаю. Объясни, и мы закроем тему.
— Нет, Петя, — она странно посмотрела на меня. Ее взгляд как бы соединился с синевой, плывущей в комнату из окна, мне показалось: само небо на меня взглянуло. — Нет, Петя, — повторила Антонина. — Так просто эти темы не закрываются. Но я попробую объяснить.
То была незнакомая Антонина. Я чувствовал, какой боли, какой русалочкиной боли стоит ей что-то мне объяснять, ей, которая никогда никому ничего не объясняла. В фарфоровой ее бледности, в напряженном выражении лица, в неожиданно исчезнувшем из речи «хи-хи» мне чудилась сжимаемая пружина, и было неясно: сожмется ли пружина или вдруг бешено распрямится, ломая все к чертям собачьим.
— Ты ведь знаешь, — сказала Антонина, — я живу с матерью, отца нет. Вернее, он есть, но уже давно в другой семье, я как-то ходила туда, но обоюдного интереса у нас не возникло. Я почему-то не увидела в нем отца. Так, невзрачный лысый дядька в спортивном костюме, он, видите ли, бегает. Следовательно, и думать о нем было нечего. А за Бориса я главным образом вышла потому, что этого очень хотела мама.
— Нина Михайловна?
Последний раз я видел ее в бывшем своем дворе, когда приезжал к матери. Я сидел на скамейке, а Нина Михайловна пронеслась мимо с Евкой на поводке в лиловом дымчатом платье, в шляпе, которая сильно смахивала бы на конфедератку, если бы не перья. Нина Михайловна опережала даже самые рискованные журналы мод.
— Ты, наверное, вспомнил седую челку, юный взгляд, экстравагантную походку, вольные одежды, — усмехнулась Антонина, — и подумал, боже мой, разве может эта святая женщина кого-то заставить, да, Петя?
— Она помогла мне устроиться на работу, — сказал я.
— Она многим помогла, — сказала Антонина, — но дело не в этом.
— И в этом тоже, — возразил я.
— Хорошо. Но ты задумывался, а почему она тебе помогла?
— То есть как почему?
— Наверное, потому, что ты такой талантливый, красивый, обаятельный, да? — Антонина тихонько засмеялась. — Не ты один такой. Те, кому помогают, обычно не задумываются, почему им помогают, полагая это естественным.
— Почему же она мне помогла?
— А почему она носит эти кошмарные наряды, курит на улице папиросы, задирается со старухами, почему? Будто бы этим она отстаивает какую-то свою свободу, верно? Свое право жить так, а не эдак. Но от кого она отстаивает эту свою свободу, Петя? Кто на нее покушается? А никто. Выходит, мнимый ее бунт вовсе на самом деле не бунт, а просто выход излишней энергии, каких-то нереализованных начал.
— Ты думаешь, она потому и занимается этой помощью?
— Вокруг нее должна кипеть жизнь, бушевать страсти, обязательно должны быть несправедливо обиженные, которым она протягивает руку. И слава богу, если человек схватится за руку да выскочит. А дальше сам. А если ему нужна постоянная помощь?
— Постоянная? Знаешь, всем на свете не поможешь. Тут обижаться грех.
— А что такое вообще доброта? — спросила Антонина. — Каковы у нее корни? Длинные? Или короткие? Если короткие, если вдруг загорелся, а потом остыл, забыл про человека — это, по-твоему, доброта? Или блажь, игра? И не лучше ли в этом случае вовсе не помогать? Я думаю, настоящая доброта иного свойства.
— Иного, — согласился я, — но всякое внимание уже само по себе приятно. Даже мимолетное ласковое слово, даже просто выслушать человека.
— Конечно-конечно, — сказала Антонина, — я росла очень послушной дочерью, вся, так сказать, во власти материнских идей. Сначала мама решила, что мне необходимо заняться плаванием, она вдруг увидела во мне чемпионку. Целый год я ходила в бассейн. Потом хореография. У меня, говорят, были способности, но преподаватель ел чеснок, бил нас линейкой по ногам, кричал: «В струнку! В струнку!» Мама однажды это увидела и потратила несколько недель на то, чтобы преподавателя выгнали. Его, конечно, выгнали, но оказалось, это был энтузиаст, который работал из любви к искусству, а не за зарплату, и вообще студия была его детищем. Он потратил столько сил, чтобы ее пробить, и вот — его выгоняют. За что? Мариус Петипа пил во время репетиций коньяк, покуривал сигары, тоже бил воспитанниц линейкой по ногам, потому что это необходимо, чтобы поставить плавность, но никто за это не выгонял его из театра, наоборот. Короче говоря, студия сдохла. Другого дурака-энтузиаста не нашлось. На этом хореография для меня закончилась. Когда я еще училась в школе, то освоила машинопись, потом начались занятия английским и французским, мама решила, что мне место в институте иностранных языков. Кое-что я, возможно, пропустила, что-то было еще. Неважно. Вот так, Петя, я росла, а мать прямо-таки исходила энергией. Она входила в комнату, и
лампочки сами загорались, такое она в себе носила поле. На моих глазах творилась какая-то непрерывная помощь. Молодые художники, архитекторы валом валили в дом, спорили о смысле жизни. Забредал даже палеонтолог, не помню только, на что он жаловался… Костей мамонта не нашел? А, вспомнила, его вдруг не пустили на раскопки в Австралию. Он уже собрался, а ему от ворот поворот! Впрочем, все это была молодая, веселая публика. И вот наконец возникла Дребезжала. Помнишь забавную эту старушенцию с третьего этажа?
Я помнил Дребезжалу, получившую эту кличку за удивительный голос, напоминающий затухающее вибрирование медных оркестровых тарелок. Дребезжале было за восемьдесят или около того, она жила в комнате в коммуналке. Соседи ее были выпивающими людьми, родственников у Дребезжалы, насколько мне известно, не было. Она существовала на скромную пенсию, не брезговала подбирать пустые бутылки с подоконников и возле мусоропровода, но только чтобы никто не видел. Однако как было восьмидесятилетней Дребезжале уследить, чтобы никто не видел? Раз мы столкнулись нос к носу: я, поспешающий на свидание, и Дребезжала, впопыхах не попадающая бутылкой в драную дерматиновую сумку. Я сделал вид, что ничего не заметил, а Дребезжала, отвернувшись к окну, заплакала. Она была добрым и конечно же несчастным человеком. Не сошлась со старухами, сидящими на скамеечках перед входом в подъезд, для них речи Дребезжалы были туманны, вычурны, далеки от насущного. Не подружилась и с интеллигентными бабушками. Им Дребезжала со своими старинными разговорными оборотами, настораживающей в ее возрасте экзальтированностью, намеками на свое высокое, едва ли не княжеское, происхождение, казалась впавшей в детство маразматичкой. Дребезжала отрекомендовывалась театральным художником. Будто бы в далекие годы она водила дружбу со Станиславским, делала декорации к спектаклям Мейерхольда, переписывалась с Бакстом. Случались у нее и порывы в духе Велимира Хлебникова. То она вдруг в одностороннем порядке провозглашала «вечер цветов», копошилась дотемна на газоне с игрушечной лопатой, действительно высаживая какие-то кривенькие незабудки. То «день рождения счастливых птиц». В этот день она выпустила из клетки двух купленных накануне на Птичьем рынке длиннохвостых сорок. Появляющиеся время от времени на строгом жэковском стенде языческие объявления Дребезжалы раздражали общественность, ей запретили их вывешивать.
— Дребезжала, — сказал я, — ну конечно, помню.
— Помнишь, она собрала всех смотреть композицию «Памяти Врубеля». Ты там был?
— Был, — усмехнулся я.
В то утро я, помнится, маялся над очередным очерком. Меня все время отвлекала сорока, повадившаяся на балкон клевать рыбу. Вероятно, то была одна из сорок, выпущенных Дребезжалой в «день рождения счастливых птиц», раньше сорок у нас не водилось. Сорока, видно, решила продолжить празднование своего «дня рождения», но я не понимал, почему она должна таскать мою рыбу? Хвост сороки отливал зеленым и сиреневым, словно побывал в бензине, клювом и лапами она разрывала полиэтиленовый пакет, хватала воблу и улетала. Однако очень скоро возвращалась, из чего я заключил, что она не успокоится, пока не перетаскает всю. Я вознамерился убрать с балкона воблу, но в этот самый момент в дверь позвонили, я отворил и увидел Дребезжалу.
— Здравствуйте, милый, добрый юноша, — сразу же напугала меня Дребезжала.
— Здравствуйте.
— Спасибо вам за ваш чистый, добрый голос, — эта ее фраза тоже меня отнюдь не успокоила. — Я приглашаю вас прямо сейчас спуститься в мою комнату на третий этаж, вы увидите композицию, которой я отмечаю годовщину Михаила Александровича.
— Михаила Александровича?
— Боже мой, Врубеля!
— Да-да, Врубеля.
— Это не отнимет у вас много времени. Пожалуйста, пойдемте. Вы ведь литератор? Мне сказали, вы литератор? — в голосе Дребезжалы неожиданно прозвучала строгость.
— Я как раз сейчас пишу очерк.
Я вызвал лифт, мы поехали на третий этаж.
— Вам будет интересно, — Дребезжала ввела меня в небольшую квадратную комнату, залитую солнцем. Посередине стоял стол, на нем ваза, оклеенная репродукциями Врубеля, вырезанными, по всей видимости, из журнала «Огонек». Из вазы торчали сухие стебли, приглядевшись, я разглядел на каждом серебристый колокольчик, сделанный из конфетной фольги. Еще на столе лежал рисунок, изображавший печального чернобородого мужчину с крыльями. Он был удивительно похож на ворона. Поблизости от стола был стул, на котором покоилось длинное черное пальто, новогодне усыпанное блестками, сиреневая блузка и шляпа с двумя подозрительно яркими перьями. «Настоящий страус, — сказала Дребезжала, — я выписала перья из Шанхая». От этой части композиции крепко тянуло нафталином. На полу лежали кусочки кафеля, символизирующие мозаику. Дребезжала стояла перед своим творением, молитвенно сложив руки на груди. Немногочисленные зрители озадаченно помалкивали, но вот Нина Михайловна нарушила молчание:
— Гениально. Прекрасно. Вы ангел, добрый, славный ангел! — поцеловала она Дребезжалу. — Вы создали настоящее чудо. Почему мы раньше ничего про вас не знали?
— Думаешь, дело этим и кончилось? — вздохнула Антонина. — Если бы! Мама вознамерилась помочь Дребезжале, как и многим другим до нее. Дребезжала стала бывать у нас почти каждый день. Она часами рассказывала о своей жизни, то плакала, то смеялась. Денег у нее почти никогда не было. Но она утверждала, что она театральный художник, ученица Сомова. Мать поручила ей сделать обложку к какой-то книге. Дребезжала не появлялась почти целый месяц, а потом принесла… В общем, выяснилось, рисовать она не умеет, не знает азов графики. Мать попросила одного молодого художника, он совершенно все переделал, обложка в конце концов пошла в производство. Дребезжале заплатили гонорар. Она пришла к нам с шампанским и тортом. Она радовалась, как ребенок. «Все мои друзья, — сказала она, — Михаил Александрович, Михаил Афанасьевич, Марина Ивановна, Анна Павловна — все сейчас со мной, сидят за нашим столом, радуются за меня!»
«Кто же это такие?» — поинтересовалась мать, хотя, конечно, знала.
«О, извините, — прижала руки к груди Дребезжала, — великодушно извините, это Врубель, Булгаков, Цветаева, Павлова…»
«Да-да, — ответила мама, — представляю, как они сейчас радуются».
И выпроводила Дребезжалу.
«Тоня, — сказала она, когда мы остались одни, — ты заметила, как неопрятно она ест? У нее весь подбородок в крошках».
«Старый человек», — ответила я.
«Да, старый человек. Но она просит еще одну обложку, Тоня. Ей понравилось получать деньги, Тоня».
«Ты сама виновата».
«Я хотела помочь, Тоня. Откуда я знала, что она совсем не умеет рисовать?»
«Об этом можно было догадаться».
«Я всегда верю людям. Врубель, Цветаева, Ахматова… Кто еще? Она безумна. Что делать, Тоня? Она не отстанет от нас».
С этого дня, — продолжала Антонина, — мама начала избегать Дребезжалу. Мы узнавали ее по звонку. Он был, как и ее голос, вибрирующий. У Дребезжалы мелко дрожали пальцы, и кнопка звонка, следовательно, тоже вибрировала. Когда она звонила, мама просила не открывать. Меня удивило, как же мама — добрая, умная — вдруг так резко изменилась к Дребезжале? Идея помощи вдруг перешла в новое качество: любой ценой избавиться от общения с Дребезжалой. Развитие идеи у мамы напомнило мне развитие бабочки, только не от твердой, бесчувственной куколки к трепетным крыльям, а наоборот. Чем настойчивее я просила маму не избегать Дребезжалу, тем упорнее она избегала ее. Как-то я встретила Дребезжалу в лифте, она выглядела ужасно. Я дала ей рубль. А когда вернулась домой, умолила маму принести с работы еще одну книгу. Мама принесла, но заявила, что на сей раз никто за Дребезжалу переделывать не будет. Я отнесла книгу Дребезжале, та, оказывается, накупила красок, ватманов, чтобы, значит, продолжать оформительское творчество. Она поведала мне, что ей недавно приснился Рахманинов, подсказал, как именно делать новую обложку. Обложка, которую она притащила через неделю, оказалась, естественно, совершенно негодной. К счастью, мамы дома не было. Но она вскоре пришла, сказала, что в издательство эти каракули не понесет, ее попросту засмеют, объясняться с Дребезжалой тем более не будет. Через какое-то время я встретила Дребезжалу на улице, она смотрела на меня с такой тоской, с таким ожиданием. Я наврала, что обложка принята, скоро, мол, заплатят деньги. Ты помнишь, однажды на лестнице прямо при тебе я выпросила у мамы деньги. Сказала, что на туфли. Так вот, Петя, я отнесла деньги Дребезжале. Та, естественно, обрадовалась, но я сказала, что это последняя обложка, мама теперь, к сожалению, в издательстве не работает. «В тот раз гонорар, милочка, был гораздо больше, и получала я его на почте, а не из чужих рук», — Дребезжала так недоверчиво на меня посмотрела, словно я утаила часть денег. Туфли я не купила, мама же все время спрашивала про деньги. Мне надоело, я призналась, что отдала Дребезжале.
«Отдала? — удивилась мама. — Как это — отдала? Просто так?»
Она еще сказала, что я хочу быть святее господа бога, но человеку это не дано. Человек, пытающийся быть святее господа бога, превращается в посмешище. На этом вроде все и закончилось, но вот спустя какое-то время я встречаю Дребезжалу, она рыдает, тащит меня в свою комнатенку. Оказывается, к ней приходила мама, потребовала, чтобы она прекратила вымогательства. Дребезжала ничего не поняла, тогда мама заявила, что никакая она не художница и стыдно ей вводить людей в заблуждение, вымогать деньги за свои, с позволения сказать, обложки. Неужели она не догадалась, что деньги ей заплатили из своего кармана. И нечего сочинять сказочки про Врубелей-Рахманиновых, нечего дурить головы глупым девчонкам вроде меня. Те дают ей деньги, а сами сидят без обеда.
«Хватит, — сказала мама, — мы и так сделали для вас достаточно. Привет Рахманинову!» — и ушла.
«Неужели так и сказала?» — не поверила я.
«Именно так, — подтвердила Дребезжала. — Не волнуйтесь насчет этих денег, милая, добрая девочка, я их обязательно верну, но только чем я заслужила столь сильную нелюбовь вашей матушки? Она затронула самое святое, чем я живу».
В тот день мы впервые с мамой поскандалили, — вздохнула Антонина, — я впервые не ночевала дома. И многие поступки матери с тех пор стали казаться мне не совсем искренними, что ли. Потом еще скандал, еще скандал. В общем, я стала жить сама по себе. Хотя, конечно, не совсем.
— А что Дребезжала, — спросил я, — она жива?
— Да, — ответила Антонина, — я иногда к ней захожу.
— И всё Врубель, Рахманинов, да?
— По-разному. Дело не в Дребезжале. Я и раньше знала, что мама никогда ни в чем не сомневается. Думала, от глубокого чувства правоты. Но, оказывается, нет. Просто не сомневаться — удобнее. Сомневающийся человек — как дерево, можно залезть. Не сомневающийся — отвесная стена, не залезешь. Вот что меня испугало. Я спросила: «Мама, как же мы с тобой будем жить? О чем нам разговаривать, если ты одна всегда во всем права?»
— Что же она ответила?
— Она ответила: «Я твоя мать, я тебя родила. Неужели я в чем-то могу быть перед тобой не права?»
— А ты?
— А я сказала: «Что же мне делать? Мне надо или уходить из дома, или опять расти в детство». Мама ничего не ответила, лишь особенным своим взглядом показала, что все равно и в молчании она права! Ну как, я тебе все объяснила?
— Да, только я-то спрашивал про Бориса.
— А это вообще проще пареной репы, — усмехнулась Антонина. — Раз возвращаюсь домой, эдак под утро, мама сидит на диванчике, знаешь, в прихожей у нас убогенький такой диванчик, на нем Евка спит, и плачет. Впервые я видела, как она плачет, раньше я думала: она не может плакать. Бросаюсь к ней: мама, что случилось? Она: «Тоня, прости меня, как я была несправедлива к тебе, ты лучше, порядочнее меня, ты не смогла вынести моего хамства по отношению к этой старухе. Я сама не знаю, как это получилось? Она же несчастный, больной человек! Как я могла?» Я успокаиваю: «Мама, мамочка, только не ходи к ней, только не поручай ей больше рисовать обложки». Она: «Нет, Тоня, я завтра сниму с книжки деньги, мы будем ей помогать». Сидим, как голуби, на диванчике. Она как молится: «Прости меня, Тоня, прости меня, Тоня». Я тоже расчувствовалась: «Нет, это ты меня прости, мама. Последнее время я была плохой дочерью». Она: «Тоня, скажи, что я могу для тебя сделать?» Я: «Ничего, мама, все хорошо. Мы теперь вместе, вот что главное. Лучше скажи, что я могу для тебя сделать?» Она вдруг целует меня: «Сделаешь? Правда, сделаешь?» Я: «Конечно, мама, только не плачь». Она: «Сегодня мне звонил Борис. Я никогда его не видела, но мы говорили по телефону два часа, он мне все о себе рассказал. Он просит твоей руки, Тоня, да-да, как в старинных романах, у матери. Он глубоко порядочный человек, Тоня. Я прошу тебя, умоляю, не отказывай ему! Это человек, который тебе нужен, поверь мне. Ты с ним не пропадешь. Послушайся меня в последний раз, Тонечка, и ты будешь счастлива. Я буду нянчить твоих детей, Тонечка», — плачет, чуть ли не руки мне целует. Я испугалась, растерялась как-то. «Да, мама, говорю, хорошо, если ты считаешь, что так надо». Вот и все. Смешно, конечно, но именно так я вышла замуж.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Наконец показался Жеребьев. Он вышагивал энергично, с любопытством поглядывая на прохожих. Я давно обратил внимание на этот его неизбывный интерес к незнакомым людям, чужим судьбам. Любого, даже самого неприятного для редакции посетителя, графомана, жалобщика, скандалиста, псевдоправдоискателя, Жеребьев выслушивал с яростным вниманием, принимал в его деле живейшее участие. Эта его черта напоминала Нину Михайловну, но, в отличие от нее, Жеребьев редко вот так сразу бросался кому-нибудь помогать. Посетитель терялся от столь неожиданного интереса к собственной персоне, незаметно попадал под влияние Жеребьева. Однако же корни жеребьевского интереса к чужим людям были мне до конца не ясны. Каждый раз различной оказывалась реакция Жеребьева на похожих в принципе людей. Он жалел посетителя, когда того следовало презирать. Ругал, когда можно было пожалеть. А часто просто подолгу сидел в глубочайшей задумчивости. Не разговоры с людьми повергали Жеребьева в подобное состояние, но сами люди как бы оказывались в кривом зеркале доминирующего в данный момент у Жеребьева настроения, как бы существовали там искривленные, обремененные мыслями и чувствами, которые подозревал в них Жеребьев. Самим же людям, возможно, чувства эти были вовсе неведомы. Мир, в котором жил Жеребьев, был необъясним, точнее, объясним лишь в свете его настроений. Обычная человеческая реакция на происходящее была, следовательно, несвойственна Жеребьеву. Но расспрашивать людей он умел. Входил в самое интимное, запретное. Кого-то другого посетитель, конечно, послал бы к чертовой матери, но Жеребьев так искренне спрашивал, так стремился понять, что, казалось, заранее был готов разделить с незнакомым человеком вину или грех. В чужих грехах Жеребьев искал подтверждение каким-то своим мыслям, — я подозревал, таким бездонно-безжалостным, подкрепленным таким количеством примеров из жизни, что они вполне могли показаться Жеребьеву некоей правдой о человеке вообще. Но слишком горько и где-то даже скучно видеть одну лишь правду-тень. Впрочем, это я так думал, но кто ведал: прав я или нет?
Нравилось Жеребьеву работать и с читательской почтой. Он полагал естественным, когда читатель в письме в редакцию высказывает мнение о публикациях, на что-то жалуется, что-то предлагает, но так, что чувствуется его стремление сделать пользу всем, озабоченность делами государства. «Мы должны думать, как сделать людей лучше. С почтой надо работать», — говорил он.
В последние дни Жеребьев только и говорил о нашей поездке. Я чувствовал себя предателем. Хотелось куда-нибудь убежать, спрятаться, оттянуть объяснение с Жеребьевым.
Но тут я вспомнил историю, которую он мне недавно рассказывал. У Жеребьева был друг — скульптор Вася, человек талантливый, но со странностями. У каких, впрочем, талантливых людей их нет? Я видел Васю один раз. У него был запоминающийся смех, похожий больше на кашель: «Кхе, кхе, кхе!» Как-то Вася признался Жеребьеву, что давно мечтает познакомиться с хорошей женщиной. Не на короткое время, таких женщин у Васи много, а чтобы жениться, надоело одному. Жеребьев взялся за дело горячо. Чем сомнительнее было дело, чем далее отстояло оно от его насущных интересов, наконец, чем призрачнее были надежды на успех, тем горячее брался за него Жеребьев. Он съездил к Васе (тот обитал в мастерской из нежилого фонда, телефона, естественно, там быть не могло), сказал, что он, жена, подруга будут ждать Васю в определенном месте, скажем у метро «Кутузовская», в три часа, а оттуда поедут домой к Жеребьеву, жена приготовила пельмени.
— Выяснилось, что денег на этот званый обед нет, — рассказывал Жеребьев, — пришлось занимать. Жена задержалась на работе, чтобы успеть, помчалась через весь город на такси. Стоим, ждем. Вдруг вижу летящую впереди белую Васину кепку, он ходил в странной такой кепке, вроде картуза. Я заорал: «Вася! Вася!» Не слышит, хотя услышали даже на другой стороне. Ждали час. Я обежал весь Кутузовский, как идиот, со звенящей авоськой. Вася исчез, растворился, канул. Поехали домой. Подруга в злобе. Жена устроила скандал. Вдруг в час ночи звонок: «Кхе, кхе!» — «Вася?» — «Я, старичок, кхе, кхе». — «Где ты был? Мы ждали час, я носился по всему проспекту, куда ты пропал?» — «Я видел, старичок, кхе, кхе. Я стоял в подъезде и оттуда смотрел, как ты суетишься, кхе, кхе», — и Вася повесил трубку.
— Почему он это сделал? — спросил я, чувствуя, что Жеребьев не собирается осуждать Васю, словно поведение того вполне укладывается в рамки его представлений о человеке.
— Наверное, обиделся, — засмеялся Жеребьев, — что я вот с женой, с подругой жду, бегаю, ищу его. Должен же он показать, что и он личность. Тем более если вдруг к нему такое внимание. А то — ему всё, а он ничего. Это должно быть отомщено.
После этого воспоминания убежать от Жеребьева я не мог.
— Привет, Андрей!
— Извини, что опоздал, — сказал Жеребьев. — Занимал очередь в авиакассе. Знаешь, что такое авиакасса в июне месяце?
— Мне очень жаль, — сказал я, — только я не смогу лететь. Видите ли, я женюсь.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Известие о женитьбе заинтересовало Жеребьева, однако он был несколько удивлен моим упорным нежеланием распространяться о невесте. На все вопросы я отвечал невразумительно и, должно быть, казался Жеребьеву идиотом: на ком женится, для чего, по любви ли? В самом деле, что я мог рассказать ему об Антонине? Что она бывшая моя соседка? Что она замужем? Что перепечатывала мои рукописи? Что помню ее пионеркой с косичками: коротенькая юбка, светлые волосы дергаются в такт ходьбе, каблучки стучат по ступенькам, как молоточки. Помню ее подростком: губы мстительно поджаты, глаза прищурены. Какую-то записку разорвала Антонина на мелкие клочки и швырнула в окно. Я как раз тогда читал английский роман, там был описан похожий эпизод. Девушка рвала записку от молодого человека и приговаривала: «Оскар Беллинг, Оскар Беллинг», — так того звали, а герою, проходящему мимо, чудилось: «Вы скорбели, оскорбились, скарабеи». И мне сейчас было впору бубнить подобное. Впервые я вслух произнес: «Я женюсь», отступать, следовательно, теперь было некуда. Мир потерял привычные очертания, съежился до изумления. Отныне я принадлежал не себе, а произнесенным словам. Будущее клубилось в тумане. Туда, в этот туман, я шагал семимильными шагами, надеясь, что стоит лишь развести Антонину с Борисом, объявить о нашем браке матери и Нине Михайловне — и туман рассеется, откроется волшебная страна. Возникало, правда, сомнение: «Женятся ли с такими мыслями?» Но мне было что возразить: «А на чужих женах женятся? На чужих беременных женах женятся?» Минус на минус непременно должны были дать плюс. Подобно алхимику, из неведомых компонентов я надеялся получить философский камень. Слова: «Я женюсь» были моей пентаграммой, моим магическим квадратом. Мне было отсюда не двинуться.
…В редакции желтые шкафы с отвергнутыми рукописями стояли как нелепые статуи, по ошибке освещенные солнцем. Редакция казалась более естественной в пасмурные дни, когда над столами горели настольные лампы. Искусственные желтые круги симулировали таинство работы над словом. В солнечные же дни некое противоречие ощущалось между казенной обстановкой редакции и безудержным светом за окном. Я вспоминал кристалл, который когда-то давно выращивал в стакане: прозрачный стебель, решетчатые листья, упорно цепляющиеся за живые формы. Сейчас по стеклу моего письменного стола скользили две тополиные пушинки. Бесспорно, живая жизнь проникала и сюда, но крайне редко.
Едва мы вошли, грянул звонок. Звонила секретарша, звала меня к главному редактору.
— К редактору меня, — сказал я Жеребьеву. — Зачем?
— Иди, она сделает тебя своим заместителем, — усмехнулся тот.
Главным редактором нашего издания была женщина, и все мужчины, следовательно, испытывали некоторый комплекс неполноценности, который усугублялся тем, что характер у Главной был мужской. Она не придавала значения сплетням, держала собственное слово, имела на все твердую точку зрения, поколебать которую было почти невозможно. Ей было за семьдесят. Она редактировала журнал, сочиняла пьесы на современную тематику, которые по инерции шли в театрах, принимала участие в судьбах внуков и правнуков. Основные ее литературные удачи были в прошлом, в годы, не отличавшиеся расцветом литературы, так что само понятие «удача», механически перенесенное из той эпохи в нынешнюю, не сохраняло своего первоначального значения. На редколлегиях, летучках, собраниях и обсуждениях она сидела выпрямив спину, затянутая в синий костюм, седые волосы на затылке затянуты в жидкий пучок — сама строгость, сама правильность, сама затянутость. Непонятно было, что она думает, эмоции как бы отсутствовали на ее остром, худом лице, серые глаза всегда оставались бесстрастными. В ней причудливо уживались три человека. Первый — оттуда, из недавнего прошлого. Синий костюм, строгость, затянутость, священное отношение к последней газетной передовице. Внезапный стылый взгляд — как приговор, почти компьютерная скорость в оценке чужих высказываний, мгновенный их расклад в соответствии с требованиями текущего дня. Второй человек — сегодняшнего дня. Она терпела, когда с ней не соглашались. Ориентировала редакцию на так называемые «острые» материалы, отражавшие гримасы времени, и вместе с тем великолепно чувствовала конъюнктурный момент, лучше всех в редакции знала: какой именно, какого пафоса, на какую тему материал необходим сегодня. Тут она как бы на день-другой опережала официальное время. Подобная работа требовала определенного профессионализма и — неизбежного в данном случае — демократизма с подчиненными, ибо работать в одиночку на этом фронте трудно. Внимательно относилась Главная и к молодым дарованиям, судила их произведения не с точки зрения столь милой ее сердцу беспощадной простоты, а способностей автора. Однако был и третий, как мне казалось, самый интересный человек, знающий о жизни что-то такое, что уравнивало не только двух предыдущих полуантагонистов, но и все на свете на неких весах, где на одной чаше — скромный срок отмеренного человеку бытия, на другой — безграничная, как Вселенная, пустота небытия. Добро и зло уравнивалось на этих весах, точнее, жизненный опыт Главной, тернии, сквозь которые она продралась, виденное и совершённое не только уравняли в ее понимании добро и зло, но как бы начисто отмели смехотворные эти идеалистические категории в оценке дел и событий, коим она была свидетельницей и участницей. Несправедливость, например, не вызывала в Главной огненного протеста. На словах она безусловно была за справедливость, но глаза при этом безмолвствовали. «Пройдет и это», — чуть слышно однажды произнесла она на летучке. Я сидел рядом, потому расслышал. То было отношение к жизни, сообщающее противоречивой личности Главной странный масштаб. Она возвышалась, как утес, как выломившийся из истории монолит власти и времени. Конечно, когда-то в щепки разбивались об этот утес лодки, но и одинокие обессилевшие пловцы, случалось, хватались за его выступы, спасались от гибели.
Не раз я видел, как сотрудники, авторы бросались к ней в коридоре, горячо, страстно повествовали о каких-то делах и бедах, но постепенно смолкали под ее спокойным, бесстрастным взглядом. И я сам в минуты редких бесед с ней вдруг переставал верить в силу собственных слов, переживал паралич воли. То важное, не терпящее отлагательств, истинно нравственное, справедливое, что я хотел донести до нее, вдруг оказывалось до обидного поверхностным, суетным.
Но перед чем?
Я всегда задумывался об этом после. Я отрицал холодное, равнодушное знание, не делающее разницы между добром и злом. Мне казалось, каждый человек душой чувствует разницу, для этого, собственно, и существует душа. Так перед чем же? Конечно, она тридцать лет работает главным редактором. За тридцать лет перед ее глазами по кругу пробежало все. И то, что я в данный момент пытался сказать, и многое другое. Только может ли человек устать, различая добро и зло? Нет. Может погибнуть, но не устать. Так перед чем же я каждый раз терялся? Откуда чувство мотылька, летящего на свечу?
Ответа не было.
Я вспоминал все это, шагая по коридору в сторону ее кабинета. Сколько раз я беседовал с ней наедине?
Немного.
Первый раз — когда брали на работу.
— Я внимательно изучила ваши труды, — сказала Главная, глядя, впрочем, на меня без большого интереса. — Могу вести теоретическую конференцию по вашему творчеству.
Мое «творчество»: несколько журналов, газетных вырезок, стопка измятых желтых страниц — лежало перед ней на столе.
Мне бы ответить, что по ее, мол, творчеству может вести теоретическую конференцию каждый советский человек, вовсе даже не литератор, настолько, мол, известны и популярны ее произведения. Но я промолчал. Давно подметил в себе не вполне светскую черту: тупо молчать, когда надо сказать собеседнику что-то приятное, польстить ему для пользы дела. Хотя дело было не только в этом. Я бы, например, не смог вести теоретическую конференцию по произведениям Главной. Какими-то слишком кровожадными были ее пьесы. То дочь душила отца, то брат казнил брата. Написанные в тридцатых годах, они и сейчас, кажется, были включены в учебники, но с каждым новым изданием все скромнее, я бы даже сказал, стыдливее становились к ним критические комментарии. Происходило это, видимо, потому, что конъюнктурность пьес давно минула, историчность их оказалась сомнительной, пафос на крови был не выстраданным, но, напротив, подменял психологический анализ.
— Мне нравится, как вы пишете, — продолжала между тем Главная, — есть легкость, удачные сравнения, но к чему эти наивные покушения на вечное? Что это вы все о душе да о душе? В ваши-то годы. Ладно там неразделенная любовь, дружба, но душа… Согласитесь, мысли о ней должны обеспечиваться чем-то бо́льшим, нежели беспечально прожитыми годами?
— А как без этого писать? Мне кажется, мысли о душе обеспечиваются уже хотя бы самим фактом существования человека.
— Не всегда, — усмехнулась Главная, — хотя, конечно, верить в это надо. Но ваши мысли о душе — это пока что одни слезы и вздохи. А вы, между тем, все-таки мужчина.
— Но это лучше, чем кровь, — ляпнул я, не подумав.
Но она не обиделась.
— Ну да, конечно, — вздохнула Главная. — Достоевский. Возможно ли здание всеобщего счастья на единой детской слезиночке? Самое время поплакать о душе, но ни в коем случае не приступить к строительству этого самого здания. Вы не замечали, что действие у него всегда беда, трагедия? Похоже, он не верит в действие? Но во что тогда он верит? Разве что-то возможно в мире без действия?
— Если не считать действие и насилие одним и тем же.
— Увы, это тупик, — сказала Главная. — Действие, к сожалению, всегда насилие. Слез, крови тут не миновать, как ни крути. Толстой хочет исправить мир утренней косьбой. Достоевский очистить мир, начиная с атома. Как там у него: что хорошо, нравственно для одного человека, то должно быть хорошо, нравственно для всего государства. Но при таком раскладе-то государство как раз и не нужно! В мое время к Достоевскому относились не столь восторженно.
— Можно ведь и по-другому, — возразил я. — Жить, как будто ты этот атом и с тебя все начинается.
— Похвальный нравственный максимализм, — мне показалось, Главная утратила к разговору всякий интерес — Похвальный и пустой, — вздохнула она, взяла со стола какую-то бумагу. Это был детский рисунок: то ли собака, то ли кошка, то ли какой другой зверь.
Я молчал. Главная тоже молчала, глядя на рисунок.
— Правнучка моя рисует, — сказала Главная, — дети вообще забавно рисуют. Начинают рисовать и не знают, что у них получится. В детстве это простительно, но дальше… — нашла мое заявление, нацарапала в углу: «Не возражаю». — Отдайте секретарше, пусть печатает приказ.
Я вышел из кабинета и начал работать в редакции.
Это была честь для меня — по нынешним понятиям молодого, без связей, без громких публикаций — работать в этой редакции. Я старался, выкладывался, изумляясь и робея на летучках: как умно, доказательно рассуждают редакционные люди! Вот у кого мне надо учиться отстаивать свою точку зрения. В номере столько материалов, критических статей, стихов, рассказов — и каждый на каждую публикацию имеет собственную точку зрения! А какими остроумными они перебрасываются репликами! Неужели и я когда-нибудь смогу вот так с ними, на равных? Смогу ли?
А как добры, приветливы. Вот Плиний Аркадьевич, заведующий отделом литературы, поинтересовался, не пишу ли я случаем прозу. Ответил, что пишу, рассказал про чукотскую жизнь. «Тащи, Петя, рассказы», — предложил Плиний Аркадьевич. «Сейчас переделываю. Как только закончу, обязательно притащу», — растрогался я. Впервые кто-то бескорыстно интересовался моими литературными трудами.
Начались командировки. Отбушевали летние грозы. Упали осенние листья. Октябрь вставлял ледяные стекла в лужи.
…Я только что вернулся с Карпат, где ветер пел свирелью в буковых рощах, костелы стояли по колено в оранжевых листьях, перелетные птицы шили небо пестрыми нитками. Там, помнится, среди лесистых холмов, горизонт показался мне залитым чуть синим, прозрачным стеклом. Мир был вплавлен в это стекло, как доисторическая муха в янтарь. Образ стекла явился не случайно. К этому времени аргументированнейшие летучечные выступления некоторых коллег казались мне пустым открыванием и закрыванием рта внутри стекла, точно так же, как карпатский горизонт, заливавшего воздух редакции. Сквозь это стекло было видно и слышно все, но оно загадочно тушило возмущение, нагоняло равнодушие, внушало какое-то сонное непротивление. Видеть и слышать сквозь стекло отнюдь не значило действовать. Как, впрочем, не значило и до конца мириться. В стекле существовали воздушные пузыри, и в этих пузырях вполне можно было дышать.
Все видели, что Плиний Аркадьевич — лгун, циник и демагог — приобрел в редакции необъяснимую власть. Первоначально — за много лет до моего появления в редакции — он утвердил ее в отделе. То есть материалы, предлагаемые другими отделами, были обсуждаемы. Если на редколлегии все высказывались против, их вообще могли снять из номера. Все же, что предлагал Плиний Аркадьевич, в силу сложившейся традиции было неприкасаемо. Все видели, что это плохо, но говорить об этом вслух считалось бесполезным. С Плинием никто не хотел связываться, его воспринимали как неизбежное, изначально существующее зло. В последние годы он печатал в основном лишь то, что было выгодно лично ему. Один автор, допустим, работал в МИДе и был необходим Плинию, чтобы устроить зятя в подходящий отдел. Другой — доктор медицинских наук — был нужен, чтобы консультироваться насчет внука, который никак не мог оправиться от родовой травмы. Пойдет рукопись или не пойдет, определялось не ее литературными достоинствами, а исключительно конъюнктурой автора. Иногда случалось, рукопись несколько лет лежала без движения, но тут вдруг автор занимал какой-нибудь пост — и рукопись немедленно извлекалась на свет божий, готовилась к печати. Плиний, который несколько лет назад горячо доказывал, что рукопись бездарна, теперь с не меньшей страстью утверждал, что она безумно талантлива. Хотя за прошедшее время в рукописи не изменилось и запятой. Изменилась конъюнктура автора.
Он был похож на маленького злобного ворона. И смех у него был какой-то каркающий. Если верно, что хорошо смеются хорошие люди и плохо — плохие, то Плиний полностью подходил под это правило. От его смеха нападала тоска. Не по данному конкретному поводу, казалось, он каркает, а над завтрашней гадостью, которую кому-нибудь сделает.
Если Главная была женщиной с мужским характером, то Плиний был мужчиной с женским, вернее, с бабьим характером. Для полноты жизни ему были необходимы склока, ненормальная нервная обстановка в редакции. Создавать подобную обстановку Плиний был величайший мастер. Но склока, впрочем, была для него не самым главным. Какое, в конце концов, ему дело, кому достанется единственная, отпущенная на редакцию, машина, какая из машинисток получит в этом году помощь от месткома? Всеобщая нервотрепка, как правило, к ощутимым результатам не приводящая — слишком уж много людей было захвачено, — лишь бодрила Плиния, помогала чувствовать себя в форме, в главном соревновании его жизни — в интриге. Вне интриги Плиний был бы просто хапугой от литературы, дельцом, гребущим под себя, такими сейчас не удивишь. В интриге Плиний становился истинным демоном, одного он мог возвысить, другого втоптать в грязь, кому-то оказать услугу, кому-то сильно повредить, короче говоря, только в интриге Плиний обретал ту, выходящую за рамки занимаемой должности, власть, из-за которой кто в редакции его боялся, кто ненавидел, кто попросту не хотел связываться. Лишь единицы пытались как-то противостоять Плинию.
На всех редакционных мероприятиях Плиний сидел одесную от Главной. Они странно смотрелись: Главная — безмятежно спокойная и Плиний — с горящими глазами, ядовито реагирующий на каждую реплику. Главная витала где-то там, в серых облаках. Плиний здесь, на земле, творил что хотел. Считалось, Главная не знает о проделках Плиния. Действительно, когда он наглел сверх меры, когда его выходки бросали тень на авторитет Главной, ей случалось публично осаживать Плиния. Но распаленный Плиний уже не внимал и Главной. Она повторяла сказанное железным голосом. Только тогда Плиний садился с видом глубоко и несправедливо оскорбленного человека. Был случай, он разрыдался, закричал, убежал с летучки. Найти, следовательно, управу на Плиния можно было только у Главной. И каждый знал, если он уж слишком допечет, можно пойти к Главной, она поможет. Выходило, всеобщее недовольство Плинием и авторитет Главной были как бы сообщающимися сосудами. Исчезни вдруг Плиний, от кого Главной защищать сотрудников?
Когда я вернулся с Карпат, Плиний позвал меня к себе поговорить о рассказах.
— Слушай, друг, — сказал он, теребя страницы, — тебе не кажется, твой начальник Жеребьев бездарь и сволочь?
Я молчал, лишившись дара речи. И Плиний молчал, то поглаживая рассказы, то гневно постукивая по ним кулаком. Быть или не быть рассказам хорошими и талантливыми зависело от моего ответа. Литературные их достоинства, как всегда, мало волновали Плиния.
— Нет, — ответил я, — не кажется. И вряд ли когда-нибудь покажется.
— До тебя в отделе работал отличный парень, — прокаркал Плиний, — способный драматург. Так вот, Жеребьев его выжил. Он не терпит вокруг себя одаренных людей.
— Зачем вы мне это говорите? — Я поднялся.
— Мне плевать, что ты передашь Жеребьеву! — вдруг крикнул Плиний. — Плевать. — Ткнул в пепельницу окурок. — Тащи, как сорока на хвосте.
— Да чего он вам сделал?
— Мне ничего. Мне он ничего не может сделать, — вздохнул Плиний. — Просто он сидит не на своем месте.
Я молчал. Надо было идти, но я не мог идти. Рассказы. На них лежала прокуренная пятерня Плиния.
— Мне нет дела до ваших отношений, — пробормотал я. Это было не то. Не следовало этого говорить. И самое главное, я так не считал. Я сам не знал, как произнес эти слова.
— Хочешь сидеть на двух стульях? — усмехнулся Плиний.
— Нет, — ответил я, — хочу сидеть на единственном стуле. Единственном и своем. Что вы решили с моими рассказами?
— Рассказами? Какими рассказами? — изумился Плиний. — Ах, твоими рассказами. Что тебе сказать? Конечно, ты не Джек Лондон. Но что-то в них есть. Думаю, напечатаем. Когда — скажу. Надо выждать подходящий момент.
Я вышел от него, испытывая смутные чувства. Радость, что рассказы будут напечатаны, омрачалась, что произойдет это не столько из-за того, что они хорошие, но в зависимости от чего-то еще, скорее всего, от моей готовности сделать нечто недостойное. Подличать я не собирался. Возникла наивная надежда перехитрить Плиния, не вмешиваться ни во что, переждать, затаиться, лишь бы только дотерпеть до номера, где будут мои рассказы. Я уже был наслышан, как Плиний обращается с авторами, ни единому его слову верить нельзя. Приходит автор, Плиний показывает ему бумажку: «Вы в плане». Заходит другой — тот тоже в плане. Просто для каждого Плиний отпечатал по плану. А идет в журнале третий, якобы неведомый молодой талант, внезапно открытый Плинием, между прочим, внук министра. Когда Главная была в больнице — каждый год она проводила там по нескольку месяцев, — Плиний беззастенчиво сваливал все на нее. Это она всех выкинула из номера, насовала взамен бездарей. Если же Главная была на месте, сваливал на вышестоящие организации. «Там, — Плиний многозначительно умолкал, — ваша повесть вызвала не то чтобы возражения, но некоторые сомнения». Что самое удивительное, Плиний совершенно не боялся быть пойманным. Все равно от него зависело печатать или не печатать автора, не эту его рукопись, так следующую. Разругавшись с Плинием, автор терял надежду. Естественно, штучки эти Плиний себе позволял далеко не со всеми.
Вскоре по стеклянной редакционной глади побежали тугие волны интриги. На этот раз интрига была направлена против Жеребьева, одного из немногих, кто не желал терпеть Плиния. Как-то неожиданно выяснилось, что материалы, проходящие по нашему отделу, убоги, далеки от жизни, доисторической своей примитивностью они дискредитируют журнал. Отныне об этом говорилось на каждой летучке: сначала с недоумением, потом с тревогой, наконец горестный сей факт стал просто бесстрастно констатироваться: «Опять, как всегда, в силу печальной традиции, которую журналу никак не преодолеть…» И так далее.
Жеребьев в то время переживал очередной кризис.
Я, вернувшись из Таллина, стоял в аэропорту посреди зала, мучительно думая: куда податься? Электронные часы отсчитывали минуты моего нового — бездомного — существования. Плюнув на все, я поехал к Игорю Клементьеву. Он открыл, голый до пояса, щеки в пушистой пене, как в белой бороде.
— Хочу у тебя пожить. Не выгонишь? — хмуро спросил я.
— Посмотрю на твое поведение, — усмехнулся Игорь.
В ту бездомную пору я вообще не замечал интриги Плиния. После работы мы тащились с Жеребьевым в пивную, что конечно же не являлось наилучшей формой борьбы с коварным Плинием. Жеребьев тогда удивлялся, как крепко привязывает человека к жизни любовь к женщине. Он говорил, что это несправедливо — много лет подряд любить единственную, как в первые дни знакомства. Какую-нибудь мадам на стороне — другое дело, расстояние это спокойствие. Если же каждый день всё впервые, это наказание. Каким бы умным ни был, как бы все ни понимал, а неизбежно качаться тебе на волнах ее настроений, капризов, прихотей. Это-то постепенно и становится твоей жизнью, остальное теряет смысл. Стыдно сознавать, что так измельчал, но эти мелочи для тебя важнее атомной войны, говорил Жеребьев. Любовь, делал он неожиданный вывод, есть самая изощренная разновидность одиночества. Дни и ночи напролет с одними и теми же мыслями. Единственное, говорил Жеребьев, что не предаст, не обманет, не всадит нож в спину, — это дело. Но где взять силы в бесовском хороводе, чтобы заниматься делом? Я в ответ бубнил что-то про дом, преданный, разменянный-переразменянный и пустой для меня.
То были упаднические настроения. Своими опухшими физиономиями мы красноречиво свидетельствовали, что не так уж не прав Плиний, утверждающий, что отдел катится по наклонной плоскости.
Потом настало некоторое отрезвление — с ежевечерним пивом было покончено, — но и оно мало что изменило. Я отныне все свободное время проводил за письменным столом, Жеребьев носился по городу, занимая у всех подряд деньги, чтобы купить жене золотой гарнитур. Вновь нам было не до Плиния с его крысиной возней.
Тем временем любопытный поворот наметился в интриге. Не все, оказывается, безнадежно в нашем отделе, есть лучик света, и это… я! Мои материалы стали отмечаться как лучшие, один из них даже похвалила Главная, которая никогда ничего не хвалила.
Такова была ее манера руководить. В равнодушной суровости мнилась некая отстраненность Главной от текущих журнальных дел и дрязг. Сверху, из серых облаков, предпочитала она взирать на грешный, суетный редакционный мир. Все плохое, следовательно, творилось помимо, вопреки ее воле. Она никогда ничего не знала.
Вполголоса заговорили, что это я «тяну» отдел. Жеребьев снисходительно посмеивался. Я же неожиданно уверовал, что не так уж это и далеко от истины. В самом деле, очерки идут на ура, вот-вот будут напечатаны рассказы, и тогда имя мое… О, тогда имя мое засияет! Как же удалось Плинию — этому гнусному ворону, желчному замухрышке — разглядеть меня, распознать, что я писатель?
Уже и смысл их конфликта с Жеребьевым виделся мне в ином свете. Чего они не поделили? Ведь из-за влияния на Главную грызутся, не могут, два медведя, ужиться в одной берлоге. Каждому хочется быть в редакции авторитетнее других, обделывать без помех собственные делишки. Плиний больше преуспел, Жеребьев меньше. Так кто же из них за справедливость? При чем здесь вообще справедливость? Зачем вмешиваться, когда все так хорошо у меня идет?
А шло действительно хорошо.
Вот я вхожу к Главной, она сидит за письменным столом. Главная надела очки, уставилась на меня. Ее обычно бесстрастный взгляд сейчас мягко плавал. Я не поверил глазам, так не вязалось увиденное с обликом Главной.
— Так, —
произнесла Главная.
— Я пришел, потому что…
— Стоп. Сейчас отгадаю, — сказала она. — Ты написал роман и хочешь, чтобы я прочитала.
— Нет. Есть рассказы. Плиний Аркадьевич вроде их одобрил.
— Я слышала, — милостиво кивнула Главная. — Но, увы, пока не имела счастья прочесть. Впрочем, я доверяю мнению Плиния Аркадьевича. — И без всякого перехода: — Ты хочешь записаться в очередь на квартиру? Женился? И жена, естественно, ждет ребенка?
— Нет, не женился, — ответил я. — На отдельную квартиру я не смею претендовать. Хочу всего лишь разъехаться с матерью, мечтаю о комнате в коммуналке.
Главная размеренно кивала. Я долго и путано объяснял Главной, что у матери своя семья, что я очень неуютно чувствую себя дома. Мне уже не так уж мало лет — и хочется, черт возьми, иметь свой угол!
Только тут я заметил, что Главная спит. Значит, она ничего не слышала! Я осторожно скрипнул стулом. Она моментально открыла глаза, но прежней мягкости в них уже не было. Главная вновь была Главной.
— Отцы и дети, — произнесла она. — Почему именно отцы, а не матери?
— Что-что? — не понял я.
— Обычно, конечно, отцы, — закончила мысль Главная. — Матери лишь подменяют их в вечном конфликте. Естественно, в том случае, когда отцы предварительно бросают семьи и тем самым избавляют себя от конфликта с подросшими детьми. Но матери… Боже мой, бедные матери. И здесь им страдать за отцов. Где, кстати, твой отец?
— Он живет в Ленинграде.
— Поди, женат на молоденькой? — игриво подмигнула Главная.
— Нет, живет один.
— Ну-ну, — Главная похлопала меня по руке. — Комната в коммуналке — это не смертельно. Я подумаю. Местком тоже. Сейчас издательство принимает дом. Въедут очередники, может, что-нибудь удастся ухватить за выездом. Но мать, — Главная вздохнула. — Я всегда за мать.
…Через несколько месяцев я въехал в комнату на Оружейном.
Как хорошо все шло!
Все поставил на место разговор с Плинием. Я принес новые рассказы, чтобы поменять на старые, которые мне уже не нравились.
— Что это? — неприязненно взглянул на папку Плиний.
— Рассказы, — бодро ответил я.
— Как? Еще?
— Да нет, я старые заберу. Мне кажется, новые лучше.
— Сколько страниц? — заглянул в папку Плиний.
Я ответил сколько.
— Но ведь это меньше, чем было, — заметил Плиний.
— Да, но какое это имеет значение?
Плиний выбрался из-за стола, внимательно меня оглядел, словно видел впервые.
— Эге, да ты, похоже, вообразил себя писателем! — вдруг омерзительно расхохотался Плиний.
— Неужели это так смешно?
— Смешно? — Плиний снял очки, протер их носовым платком. — Ты не представляешь себе, как это смешно. Брось ты это, Петя, — он едва отдышался, кончиками пальцев пододвинул мне лежащую на столе папку. — Кому это важно: старые, новые? К старым привыкли, почти смирились, что их придется печатать. Так сказать, неизбежное зло, сочиняющий сотрудник. А ты тут лезешь с какими-то новыми. Спрячь ты их куда-нибудь, отнеси в другой журнал, увидишь, точно не напечатают. Моли бога, чтобы проскочили старые, для этого, кстати, еще придется потрудиться перед редколлегией.
— Нет, — сказал я. — Я хочу забрать старые и оставить новые.
— Переигрываешь, — вздохнул Плиний, — дождешься, что мне вообще надоест возиться с твоими опусами.
— Тогда вышлите мне их домой по почте.
— Хорошо, оставляй новые. Только я не знаю, когда сумею их прочесть, — достал из кармана папиросы Плиний. Он один во всей редакции курил папиросы. По их едкому запаху всегда можно было определить, где именно находится Плиний. — Если с твоим начальником вопрос в принципе решен, — Плиний чиркнул спичкой, окутался вонючим дымом, — скоро его не будет в редакции, то далеко еще не ясно, сумеешь ли ты сесть на его место. Так что, — кивнул на папку с новыми рассказами, — острить не надо. А то в самом деле вышлю по почте.
— Стало быть, платите мне за невмешательство? Такова, стало быть, цена? Рассказы плюс место Жеребьева. Что-то многовато, вдруг обманете?
Плиний стоял, отвернувшись к окну, ко мне спиной.
— Может, и обману, — усмехнулся он, — да только тебе деваться некуда, увяз ты в этом деле, братец.
— Я ни в чем не увяз, — тихо возразил я. — Человек не может увязнуть, когда ему этого не хочется. А мне не хочется. Конечно, я мечтал, чтобы рассказы были напечатаны, но не такой ценой. Во всяком случае, рассказы написаны, они существуют, это главное. Остальное не так уж важно. Комнату, слава богу, я уже получил.
— Я думал, мы с тобой поладим, — сказал Плиний.
— Чем скорее вы успокоитесь, — ответил я, — тем будет лучше. Для вас же. Мой вам совет: успокойтесь.
Плиний обернулся, и я со злорадством отметил, что он смотрит на меня не столько с бешенством, сколько с растерянностью.
— Не всем в мире движут низменные инстинкты, — ласково улыбнулся я.
Плиний немотствовал.
Я пошел по коридору в свой отдел. Там Жеребьев стоял у распахнутого окна, сворачивал из бумаги самолетики. Они почему-то не хотели лететь, пикировали вниз.
…Я вспоминал все это сейчас, июньским днем, когда, стараясь унять сердцебиение, шагал по ковровой дорожке в сторону кабинета Главной.
Я знал, зачем она меня вызвала.
…Конечно же я тут же рассказал Жеребьеву о разговоре с Плинием. Жеребьев угрюмо молчал и по-прежнему запускал в смеркающееся небо пикирующие самолетики. В его опущенных плечах, в мутном затравленном взгляде ощущалась горькая двусмысленность, в какой неизбежно оказывается человек, вынужденный отстаивать справедливость в отношении самого себя. Это как-то всегда унизительно. Защищать других легче. Защищать себя значит неизбежно усомниться в существовании справедливости. Тут надо ломать себя. Зло потому и наступательно, что непротивление, парализующая изначальная усталость у многих в крови. Ломать себя трудно. Неужели, подумал я, чтобы успешно противостоять злу, надо непременно самому быть злым? Кто мобилизуется в момент. Кто безвольно плывет по течению. А кто сходит с ума, и чего угодно можно от него ждать, кроме, пожалуй, спокойствия и трезвости.
— Это все? Больше он ничего не говорил? — хмуро уточнил Жеребьев.
— Все, — твердо ответил я, полагая, что кое-что из речи Плиния не нуждается в словесном воскрешении. Зачем сыпать Жеребьеву соль на раны? Разве приятно ему будет узнать, что Плиний прочит меня на его место?
Несколько дней в редакции стояла мертвая тишина. Главная отправилась то ли за границу, то ли в больницу, то ли в санаторий.
Плиний нашел минуточку, сообщил мне, что новые рассказы у нее на столе. Но я уже устал думать: что бы это значило, какие надлежит из этого делать выводы?
То была изначальная пора тополиного пуха, меня мучила аллергия. На работе я непрерывно чихал. Жеребьев играл сам с собой в кости. Один автор подарил ему коричневый стаканчик и эти, якобы из слоновой кости, кубики. Жеребьев швырял их на стол, сгребал в стаканчик, тряс, опять с сухим скелетным стуком швырял на стол.
Когда уходили с работы, он сказал, что лучшее лекарство от аллергии… пиво. Я так не считал, но то ли радость от очередного замирения с Антониной, то ли печаль после очередного нашего скандала меня переполняла. Мы зашли в душную шашлычную. Пиво в жаркий летний вечер на всех действует одинаково: мозги тупеют, плавятся. Глухое раздражение испытывал я от этой бездарной — совершенно мне ненужной — выпивки. Как раз проходили мимо редакции, одновременно подняли головы, увидели в окне знакомый силуэт. Плиний покуривал возле открытого окна. Дьявольский запах его папирос был слышен и на улице.
— Зайдем, — пробормотал Жеребьев. — Я забыл в редакции важнейшую рукопись.
— Зачем? Не надо! — я ухватил его за рукав, но Жеребьев уже летел по лестнице.
Все последующее произошло стремительно.
— Значит, уже уволил меня, сволочь? — заорал Жеребьев и закатил Плинию оглушительную оплеуху. У того вылетела изо рта папироса. — Такую вошь, как ты, и бить-то противно! — Жеребьев отвесил ему вторую оплеуху. Обе части лица у Плиния равномерно покраснели. — Будешь продолжать, пристукну, гнида! — Жеребьев схватил Плиния за лацканы, приподнял и швырнул в кресло. — Ты не обратил внимания, — спросил Жеребьев, когда мы были уже на улице, — вахтер сидел у входа или нет?
— Не было вахтера.
— Хоть тут повезло, — усмехнулся Жеребьев.
Я, признаться, ожидал от Плиния немедленных действий, но он подозрительно затих, скорее всего дожидаясь Главной.
Проходили дни, острота происшедшего притуплялась. Нам даже показалось: Плиний сломлен и усмирен. Подошла пора лететь в далекую командировку. Вернемся, — все вообще забудется. Тем более Плиний вдруг ушел в отпуск. В его ли интересах выставлять себя в позорном виде? Особенно когда столько людей в редакции его не любят. Далекая командировка, ранее согласованная и одобренная, приобретала, таким образом, для Жеребьева особое значение. И вот я все нарушал своей женитьбой.
…Я знал, зачем меня вызвала Главная. Мелькнувший в приемной мышиный пиджак Плиния, немедленно выскочившего из отпуска, устранял возможные сомнения.
Но сердцебиение вдруг стихло. Настала странная легкость, ноги, казалось, не чувствуют пола. То волна «до конца» несла меня в сторону кабинета Главной. Еще мгновение назад в темных уголках сознания громоздились помимо моей воли гаденькие построения: судьба рассказов и то, что я отвечу Главной, — взаимосвязано. Волна «до конца» смыла это. В последние дни я много размышлял над подобным состоянием, придумал даже ему определение: «комплекс Антонины». То есть физическая невозможность существовать в условиях лжи. Знать, чувствовать правду и молчать, подчиняться лжи Антонина не умела. Либо она, хихикая и кривляясь, говорила все как есть, и ее считали сумасшедшей, юродивой, либо же бросалась в гулянку, шла вразнос, предпочитая губить себя, но не подчиняться. То безусловно была истерическая, женски-малодушная реакция, она исключала всякую борьбу. Комплекс Антонины, следовательно, не указывал выход, но лишь замыкал круг, сотрясал одну-единственную — Антонинину — душу, или вовсе не оказывая влияния на окружающих людей, или же оказывая, но болезненное, разрушительное. В конечном счете ее комплекс оборачивался безумным эгоизмом, насильственным подчинением других собственным прихотям, рожденным от отчаянья. В комплексе Антонины напрочь отсутствовало созидание, вот в чем дело. Внезапно осознав это, я понял Антонину до донышка, необъяснимые прежде ее поступки сделались ясными.
Я стоял перед дверью Главной, не испытывая ни страха, ни волнения. Я был свободен. Пытаясь выявить истоки внезапной свободы, я совершенно неожиданно обнаружил, что они в рассказах. Тех, что в данный момент лежали на столе у Главной. То, что прежде было в моей жизни наиболее хрупким, уязвимым, что непрерывно мучило, лишало уверенности, теперь предстало главным, самым прочным, на чем мне отныне стоять, как на фундаменте. Рассказы мои существовали, и ни Главная, ни Плиний, ничто на свете было над ними не властно. Так в одно мгновение я обрел — не открыл, а именно обрел! — смысл существования. Теперь я знал, зачем живу. И еще странная мысль, что мне сейчас предстоит встреча с прошлым. Что прошлое это, хоть и продолжающееся в настоящем, все равно — прошлое. Я был из настоящего, но еще больше верил в будущее.
— Разрешите?
— Входи, Петя, входи, — Главная сидела за столом. Плиний напротив нее в кресле. — Как живется в Оружейном переулке? — спросила Главная. — Клопы не едят?
— Вывел, — ответил я, — еще весной вывел дихлофосом, только боюсь, гнезда остались.
Взгляд Главной был совершенно спокоен. Плиний крутил в пальцах незажженную папиросу. Каких, должно быть, трудов стоило ему сдерживаться.
— Слышала, летите куда-то с Жеребьевым далеко?
— Я никуда не лечу.
— Что ж так? — сухо поинтересовалась Главная.
— Изменились обстоятельства.
— Какие обстоятельства?
— Личные, — ответил я, — изменились некоторые личные обстоятельства, я, видите ли, женюсь.
Главная и Плиний как будто переглянулись, но, может быть, мне это показалось.
— Ну, об этом после, — сказала Главная.
Я внимательно смотрел на Главную: лицо в паутинной сетке мелких морщин, потусторонняя, проступающая изнутри синева, бесцветные глаза, излучающие равнодушие и холод. «Да она просто-напросто больная старуха, — подумал я, — и лишь одного ей хочется: чтобы не поперли на пенсию, чтобы все катилось, как катится, а уж она как-нибудь. И Плиний — не обученный ею цепной пес, а свидетельство ее слабости, подлец, ловко использующий старческую ее усталость в своих целях, интригах. Все редакционные дела потому и устраиваются не в сторону справедливости, а в сторону наименьшего беспокойства Главной. Плиний же как раз и обеспечивает ей режим наименьшего беспокойства, устраивает все, подлец, сам».
— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я вас вызвала? — официально спросила Главная.
— Наверное, прочитали мои рассказы?
— Рассказы? — озадаченно переспросила Главная. — О рассказах еще поговорим. Сейчас давай-ка о другом! Как ты оцениваешь безобразный поступок Жеребьева?
— Какой поступок? — спросил я. — Какой именно? Быть может, этот? — уже ничем не сдерживаемая волна «до конца» подхватила, понесла меня.
Я говорил, что однажды Жеребьев двое суток без сна и отдыха вел по притрассовой дороге тягач с трубами. Шофер угодил в больницу с аппендицитом, а трубы надо было обязательно довезти, они были последними на участке, без них срывалась сдача объекта. Как назло, в глухом поселке другого шофера не нашлось, Жеребьев поехал на тягаче в ночь по гнилой притрассовой дороге. Он довез трубы! Я говорил, что в прошлом году Жеребьев спас одного экскаваторщика от верных пяти лет. Парень был не виновен, Жеребьев взял в редакции отпуск за свой счет, полтора месяца провел в тех краях и нашел-таки правду!
— Да-да, — одобрительно кивала Главная. — Помнишь, Плиний, он еще работал полтора года плотником где-то на Колыме. Интересные, кстати, очерки писал, не то что сейчас. Да. Но все эти прошлые благие поступки, к сожалению, не дают еще права затевать в редакции пьяные драки, — вздохнула Главная.
— А кто из наших сотрудников повел бы тягач? — спросил я. — Кто стал бы брать отпуск за свой счет, чтобы выручить экскаваторщика? Может быть, Плиний Аркадьевич?
На секунду в кабинете повисла звенящая тишина.
— Что, Плиний Аркадьевич, — усмехнулась Главная, — неужели не повел бы тягач?
— При чем здесь тягач? — нервно спросил Плиний. — При чем здесь какой-то тягач? Откуда он взялся, этот тягач? Это все вранье!
Я переводил взгляд с Главной на Плиния и чувствовал, что ошибся в недавних предположениях. Другими были их отношения. Сейчас мне казалось, Плиний для Главной — ученый гном, карманный чертик, покусывающий пальцы. Ситуация, в которую он угодил, от души забавляет и веселит Главную.
Но дело было не в этом.
По тому, каков будет исход, можно будет судить о принципах и методах, коими руководствуется Главная в своей административной деятельности. Тут ей не спрятаться в серый заоблачный туман.
— Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах я не подтвержу, что видел, как Жеребьев бил морду Плинию Аркадьевичу, — я специально употребил грубое словосочетание «бил морду», оно должно было предельно прояснить суть вещей. — Этого не было.
Опять в кабинете повисла звенящая тишина.
— Что ж, — вздохнула Главная, как мне показалось, с облегчением. — Я не инквизитор. Не было, значит, не было. В таком случае и говорить не о чем.
— Да, но почему ты тогда сказал «бил морду»? — прицепился Плиний.
— А почему этот вопрос вообще всплывает спустя столько времени? — спросил я. — Почему вы, Плиний Аркадьевич, сразу же не объявили о мифической драке, а чего-то выжидали? Чего?
— Мне бы хотелось, — Главная пропустила обмен репликами мимо ушей, — чтобы ты, Петя, держался высказанного мнения и вне стен редакции. Меня всегда огорчает, когда о нашем сплоченном и дружном коллективе рассказывают разные небылицы.
— Да-да, конечно. — Я растерялся. Волна «до конца» вынесла меня куда-то не туда. Я размахивал саблей в пустом пространстве. Все оказалось сложнее, изощренней, нежели я предполагал.
— Будь добр, Плиний, — сказала между тем Главная, — оставь нас с Петей на десять минут. А через десять минут зайди ко мне вместе с Жеребьевым, я поговорю с вами обоими.
Плиний понуро удалился. Интонация, с которой Главная произнесла «обоими», ему лично ничего хорошего не сулила.
Мы остались одни.
— Знаешь, Петя, — сказала Главная, — я даже стала уважать этого Жеребьева. Что такое? Плиний распоясался, делает что хочет, а все терпят и молчат.
— Он прикрывается вами, — вяло возразил я.
— Вот как? — внимательно посмотрела на меня Главная. — А по-моему, он прикрывается вашим безмерным терпением.
— Не совсем, — настаивал я, — вы ведь сейчас, как я понял, собираетесь одинаково наказывать подлеца Плиния и честного Жеребьева. Значит, косвенно вы на стороне Плиния.
— Честного? — задумчиво переспросила Главная. — Чего же он тогда пьянствует, суетится, хочет смыться в командировку, лишь бы только спрятаться, переждать? Как мальчишка, право. Почему не идет на Плиния в открытую? Поверь, Петя, мне случалось видеть честных людей, они были готовы на костер. А твой Жеребьев…
Я молчал.
— Он истерик! — резко произнесла Главная. — А я считаю истерию разновидностью трусости. Может ли быть честность трусливой? Как ты считаешь?
— Может, — прошептал я.
— Ну, Петя, ты меня разочаровываешь, — протянула Главная. — Какая же это честность? Это самый заурядный конформизм. Помнишь, мы как-то спорили с тобой о Достоевском, что он хочет очистить мир с атома. Ты сказал, надо жить так, словно ты этот атом и с тебя все начинается в мире. Так ответь: в чем разница между Плинием и Жеребьевым?
— В вас, — вдруг сказал я. — В том, что вы ни на чьей стороне. Будь вы другая, и не Плинии бы, а честные люди держали верх.
— Ты забываешься, — спокойно заметила Главная, — как-никак я втрое тебя старше.
— Извините, — пробормотал я.
— Все останется как есть, — произнесла Главная безмерно уставшим, но твердым голосом. Она говорила это, глядя сквозь меня, словно меня не было, и я понял: не мне адресованы слова. — Да, все останется как есть. Жеребьев с Плинием сначала здесь у меня в кабинете до смерти перепугаются — почему-то я умею пугать людей, Петя, — а потом пожмут друг другу руки и конечно же еще больше возненавидят друг друга. Но их взаимная ненависть, — Главная брезгливо передернулась, — она столь мелка, ничтожна, что, кроме каких-нибудь мелких пакостей, булавочных уколов, разных там реплик, из нее ничего не родится. На первых порах разве Плиний чуть приутихнет, а Жеребьев станет лучше работать, но оба они, верь мне, Петя, будут одинаково счастливы, что тучи пронеслись, что благополучию их ничто не угрожает, что все осталось как есть. Видишь ли, Петя, это закон, которого нет в учебниках, но который правит миром: все остается как есть. Только безумцы пытаются насиловать время. Никогда не надо торопиться, время само изменит тебя, так, что ты и не заметишь. Всему, Петя, свое время. Сейчас время, чтобы все оставалось как есть. Иначе я бы не сидела здесь редактором. — Главная словно очнулась, увидела меня, сидящего перед ней, несогласно мотающего головой.
В дверь заглядывал Плиний, позади него стоял хмурый Жеребьев. Они еще не знали, что им предстоит пожимать друг другу руки.
— Сейчас, — сурово сказала Главная, — сейчас я освобожусь, друзья мои.
Дверь закрылась.
— Работай, Петя, — сказала Главная. — Что-то еще я хотела… Ах, да! Во-первых, прими сие послание, — протянула мне конверт, адресованный на ее имя. Я принял его с недоумением. — На досуге ознакомишься, — сказала Главная, — а потом выкинешь. Нет, сначала порвешь, договорились? Во-первых, я прочитала твои рассказы. Два напечатаем, они похожи на настоящие рассказы. Но конечно же это тебе аванс. Счастливо, Петя, — она протянула сухую, шершавую, как вобла, руку. — Входите, друзья мои!
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Я не сказал Антонине, что ее мать написала на меня жалобу Главному редактору. Что я своей скотской, патологической страстью замучил ее дочь — молодую замужнюю женщину, к тому же ожидающую ребенка. В то время как ее муж — исследователь Севера — ведет важную для страны работу на леднике, я, пользуясь его отсутствием, а также доверчивостью и неопытностью дочери Нины Михайловны, веду себя крайне цинично, фактически принуждаю дочь к сожительству. Когда-то Нина Михайловна сама рекомендовала меня в эту редакцию. Конечно же она понимает, что административными мерами тут вряд ли чего добьешься. Но она мать, и она надеется, что Главная — тоже женщина, тоже мать — поймет ее и поступит, как велит ей совесть, как подсказывает моральный долг. В заключение Нина Михайловна писала, что это первое ее в жизни письмо подобного рода, что она всегда ненавидела и презирала людей, которые пишут такие письма. Лишь видя, как рушится семья дочери, как ставится под угрозу ее будущее, она не смогла остаться безучастной, решилась на такой вот шаг.
…Я читал письмо, дожидаясь Жеребьева, который вместе с Плинием находился у Главной.
«Она была вот тем-то и страшна, что всех пороков женских лишена», — никак было не прогнать из головы строчку Байрона. Хотя, собственно, почему? — подумал, отложив письмо. Разве тупо жить в плену собственной правоты, в каменном нежелании перешагнуть через нее, испытать хоть малейшее сомнение, в готовности принести в жертву этой мнимой правоте всех и вся, видеть конечную евангельскую мораль лишь в своих представлениях о жизни, — разве всё это не женские пороки?
В той же степени, что и мужские.
Если взять да резко упростить, так сказать, сократить числитель и знаменатель, разве не вылезет шевелящее ушами, ослино мычащее слово «упрямство»?
Упрямство: одна я права — и все тут!
Мне было неловко, словно я случайно увидел Нину Михайловну голой. Еще я подумал, что упрямство, как пустынная колючка, может произрастать где угодно. Обходительность, видимая интеллигентность лишь делают его скрытым, на первый взгляд незаметным. Против упрямства нет средств. Оно крепнет в отрицании: чем убедительнее контрдоводы, тем крепче стоит на своем упрямец. Крепнет в непротивлении: если с упрямцем соглашаться, он тем более ни в чем не усомнится, вовсе сядет на шею. Различной может быть только его решимость вторгаться в чужую жизнь, различать в момент вторжения добро и зло.
От этих мыслей меня отвлек вернувшийся от Главной Жеребьев.
— Ну как? — спросил я.
Он пожал плечами, сел за стол, зашуршал страницами.
— На днях улетаю. Жаль, что у тебя не получается. Поклонись невесте. А с Плинием мира не будет!
Я собрал сумку и вышел из редакции.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
…Взгляд мой наткнулся на валявшуюся на столе газету. «Школьные выпускные балы гремят в ночи, — прочитал на последней полосе, — девушки в легких продувных платьицах как будто летают по улицам». Это Сережа Герасимов опубликовал заметку под романтическим названием «Станция Рассвет». Рассвет над Москвой Сережа сравнивал с синей птицей, протянувшей крыло вступающим в самостоятельную жизнь школьникам. «Станция Рассвет, — писал Сережа, — пожалуй, одна из самых прекрасных остановок в жизни. Как станция Любовь. Часы на Красной площади бьют пять. Розовые блики ложатся на Москву-реку. Белые платья девушек кажутся голубыми. Так хочется верить, что чистота мечты — гарантия ее осуществления. Так хочется в это верить на станции Рассвет. Счастливого пути, ребята!»
От Сережи мысли немедленно перекочевали к Игорю. Не то чтобы Сережа слишком уж влиял на Игоря — и тот перенял его жизненную философию. Но Сережа источал некий духовный яд, и тот, кто постоянно общался с Сережей, неизбежно дышал этим ядом. Игорь терпел Сережу. Когда при нем речь заходила о Сереже, он угрюмо замолкал: «Все, что можно сказать о нем, уже сказано. Чего толочь воду в ступе? Он никогда не изменится».
…Вернувшись из Эстонии, я поселился у Игоря.
— Хоть всю жизнь живи, — сказал Игорь, — только давай уговоримся: неделю я убираюсь, неделю ты.
— Помнишь, — спросил я, — мы с тобой вроде как поссорились. Я с тех пор изменился. Я понял, что нетерпимость — это не позиция, вернее, позиция, но когда ничего не хочешь понимать, когда тебе на все плевать. Снилось по ночам — знаешь, эти бешеные ночные откровения? — что видеть в каждом хорошее, в каждом искать человека — это и самому, значит, становиться человеком. Другого пути нет. Но утром… Жизнь как забор отгораживает от благих помыслов. Вот ушел из дома… — Нервы мои были расшатаны, а расшатанные нервы, как известно, весьма способствуют истерической ненужной откровенности. — Любой скажет, чушь, блажь какая-то. Ты тоже скажешь. Но ушел. И опять без понятия, как жить. Наверное, это мне до конца моих дней.
— Я один, — ответил Игорь, — живи здесь хоть всю жизнь. Только надо ключи заказать.
— Ключи, — пробормотал я. — Как их заказать? Где?
Игорь молча смотрел, как я выкладываю на полочку в ванной мыльницу, зубную щетку, вешаю на крючок полотенце.
Потом слегка передвинули мебель, высвободили в маленькой комнате место для раскладушки, на которой мне отныне спать.
— Мы поссорились, — сказал я, — когда каждый считал, что он на взлете, каждый полагал, что именно его мифический взлет правильный и нечего делиться взлетом. А помирились, когда… — Я взглянул на побитый, потертый круглый красненький столик в большой комнате: на него ставили бутылки, о него тушили сигареты, опускали на него горячие сковородки. Посмотрел на письменный стол в маленькой комнате, покрытый толстым слоем пыли. Посмотрел на огромную — во всю стену — фотографию Игоревой дочери. Кнопки отлетели, нижний угол отогнулся. И закончил безжалостно: — Когда оба оказались в одиночестве. Одиночеством делиться проще, чем взлетом.
Игорь ничего не ответил.
— Тебя удивляет, — произнес он позже, — почему на письменном столе пыль? Хотел написать документальную повесть об одном хозяйстве. Но не могу. Что-то мешает. Если тебе понадобится пишущая машинка, она в левой тумбочке стола.
Я немедленно извлек машинку. Буквы заросли черной дрянью. Лента была сухая и бледная. «Надо почистить буквы, — подумал я, — смазать машинку, сменить ленту».
— Тебе мешает Сережа Герасимов, — неожиданно сказал я. — Эта циничная сволочь застилает горизонт. Ты думаешь — вот, добился чего хотел: в Москве, в своей квартире, начальник. И что же? Не можешь писать, о чем всю жизнь мечтал, что знаешь, — о деревне. Помнишь статью, где Сережа поносил отца? Ты тогда был с краю, но и для тебя это не бесследно. Такое ни для кого не бесследно. Но это пройдет. Ты, главное, начинай работать. И пройдет.
— Не преувеличивай, — ответил Игорь, — давай-ка лучше перекусим. И потом, надо хоть отпраздновать твое новоселье, — невесело усмехнулся.
— А я, — внезапно у меня навернулись слезы, — бросил мать. Ее нельзя бросать. Она ничего не может, она на всю жизнь в белом платье, понимаешь, она не взрослеет, жизнь — мимо, жизнь ее не задевает.
В тот день мы много о чем поговорили.
Ночью проснулись от телефонных звонков.
— Сейчас, — ответил Игорь. — Петя! — постучал в дверь. — Тебя, проснись. Первая ласточка. Точнее, летучая мышь. Половина третьего.
Сквозь какую-то музыку, сквозь тьму, сквозь гудки донесся голос Антонины:
— Сама не знаю, зачем тебе звоню. Наверное, из вредности, я ведь тебя разбудила, а? — Музыка внезапно стихла. — Я из дома, — спокойно и трезво произнесла Антонина. — Хотела обмануть, что из веселенькой компании, но… Ты трус, Петя.
Сердце у меня закачалось на частых, горячих волнах.
— Как же я мог иначе? Я как увидел тебя с этими… в баре. Я тебя возненавидел. А ты чего от меня ждала?
— Какая-то чепуха, — сказала Антонина. — Я была там ровно пятнадцать минут. Я вылетела за тобой следующим же рейсом. Ты хочешь со мной встретиться?
— Хочу! — крикнул я. — Да. Хочу, — повторил упавшим голосом.
…За время, прожитое у Игоря, я научился ценить размеренную неторопливость журнальной работы «от» и «до». Газетная жизнь Игоря меня пугала. «Неужели и я когда-то так жил?» — удивлялся, вспоминая Чукотку.
Я просыпался в половине седьмого. Останавливал ладонью звон будильника, делал зарядку, отправлялся на кухню готовить кофе. С дымящейся чашкой возвращался в комнату, садился за пишущую машинку. Из окна видел заснеженный парк, стройно белеющие деревья, луну над ними. Парк тянулся далеко, до самого метро. По шоссе неслись машины. Вскоре выводили гулять собак, четвероногие тени скользили по снегу. А чуть позже озабоченные служащие с портфелями в руках спешили к метро и автобусной остановке.
Я писал рассказы, которые вскоре предложил Плинию. Именно здесь, у Игоря, мне открылась горькая сладость работы «вопреки», пришла вера в росток, способный пробить асфальт. Время шло, я уже не мыслил себя без работы. И на Игоря я теперь смотрел другими глазами. У него, в отличие от меня, не было отдушины. Игорь все время молчал, а я как-то не решался приставать к нему с расспросами. Только поправил фотографию его дочки на стене, вместо старых кнопок вставил новые. Игорь подолгу смотрел на фотографию, и мне снова чудилось робкое, но в то же время неостановимое, безжалостное движение ростка сквозь асфальт.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Неожиданно подвалило лететь на Сахалин.
— Завидую, — сказал Игорь, — я-то теперь сижу в конторе безвылазно. Что поделаешь, чиновник! Ты там… — какая-то мысль тенью скользнула по его лицу, но Игорь привычно промолчал.
— Что я там? — спросил я.
— Ничего, — ответил Игорь. — Краба привези. Завидую. Никогда не был на Сахалине.
Но я-то знал, что это была за мысль.
САХАЛИН I
Сначала внизу были синие океанские волны, потом неожиданно возник скалистый берег в белых кружевах прибоя, и точно такие же, только каменные, в зеленых лесистых гребнях волны побежали под самолетом. Самолет летел в стеклянных дымчатых сумерках прочь от садящегося солнца. Справа и слева загорались первые звезды, на крыльях самолета мигали красные огоньки.
Я думал о бывшей сокурснице Лидиньке, уехавшей по распределению в сахалинскую молодежную газету. Это про нее что-то хотел мне сказать Игорь, но не доверился.
Лидинька была худой, стройной блондинкой с чуть выдающейся нижней челюстью. Она писала хорошие заметки, сочиняла стихи и не имела подруг.
Как-то, веселенький, помнится, я настиг ее в башне высотного общежития в темном коридоре. Из окна открывались Ленинские горы в огнях, Москва-река, смотровая площадка. Что хоть отмечали? Кажется, день рождения Игоря. Я собрался обнять Лидиньку, но тут вдруг заметил, что она плачет. «Что случилось?» — тупо, поскольку это совершенно не вязалось с моими планами, спросил я. «Это правда, что Игорь скоро женится?» — спросила Лидинька «Будто бы, но я точно не знаю», — я уже жалел, что подошел к ней. «На ком он женится?» — резко спросила Лидинька. «Не знаю», — совершенно искренне сказал я. «Вот даже как», — больше Лидинька не произнесла ни слова.
От распределения в Южно-Сахалинск она не отказалась. Игорь, помнится, гулял на ее проводах. Утром мы с ним случайно встретились. «Все это миф, — сказал Игорь, — Москва, работа, женитьба — все миф. Я вдруг это понял». — «Неужто Лидинька пленила?» — удивился я. «Мы с ней были родственные души, — ответил Игорь, — а теперь я остался один».
Больше я о Лидиньке не слышал.
Была шальная мысль прямо из аэропорта помчаться в редакцию сахалинской молодежки. Вдруг Лидинька там? Вдруг она «свежая голова», сидит, вычитывает полосы? Но меня встречал представитель «Сахрыбвода» — организации, куда я приехал. Зеленый «УАЗ» понесся по вечерней дороге, фарами, как длинными руками, расталкивая темноту. Девять часов — большая разница во времени, я то засыпал, то просыпался, видел мелькание теней, чередование на дороге слоев тумана и прозрачного воздуха.
Утром тот же «УАЗ» заехал за мной в гостиницу. Спустя десять минут я сидел в кабинете управляющего «Сахрыбвода», мы разговаривали о судах рыбохраны, бороздящих прибрежные воды, об инспекторах, проверяющих уловы и снасти отечественных и иностранных — имеющих лицензии — ловцов. О рыбоводных заводах, где в искусственных условиях выводятся из икры мальки и выпускаются в реки. О консервных заводах на Шикотане, где не очень-то озабочены охраной окружающей среды: сбрасывают жир и отходы прямо в бухту. На камнях слой грязного жира толщиной в палец. Потом я познакомился с инспектором, с которым должен был идти в океан.
Закончив дела в «Сахрыбводе», собрался к Лидиньке, но неожиданно встретил на лестнице управляющего. Он сказал, что прямо сейчас уезжает на рыбоводный завод в Калинино. Упускать такую оказию было глупо. Приезжая куда-нибудь, я всегда старался увидеть как можно больше. Пусть даже поначалу не было внутреннего расположения к теме. Оно должно было появиться позже, в процессе работы. Работа всегда вознаграждала за добросовестность. Свидание с Лидинькой пришлось отложить.
Нам удалось повидаться, только когда я вернулся из Калинина, в последний перед отплытием день. Я пришел в редакцию газеты под вечер. В коридоре было тихо, по стенам ползли розовые закатные пятна. Я крался по коридору, осторожно заглядывая в двери. Вот и Лидинька! Она сидела ко мне спиной. Я тихо приблизился, хоть и не хотел, а посмотрел, что она пишет изгрызенной шариковой ручкой на сером листе. Там была единственная фраза: «Вода была чистой, как жизнь без вранья».
— Здравствуй, Лидинька.
— Петя!
Мы обнялись, как брат с сестрой. Лидинька на мгновение прижалась ко мне. Вся она была сплошная радость, вот только ни малейшего женского интереса Лидинька ко мне не испытала, я это сразу понял.
— Давно на Сахалине? — спросила Лидинька.
— Третий день, — ответил я с некоторым разочарованием, потому что пусть подсознательно, исподволь, но рассчитывал на этот интерес, сообщающий жизни определенную остроту, вплетающий в ровную ткань бытия порой совершенно неожиданный орнамент.
— И только сейчас зашел?
— Хотел сразу, но не получилось.
Я рассказал ей про поездку в Калинино на рыбоводный завод. Про дорогу, вьющуюся среди зеленых склонов. Про перевалы, где колеса машины крутились над пропастью. Про игрушечную узкоколейку, по которой бежал смешной, наверное еще японский, паровозик. Про страшный, как потоп, дождь, который застал нас в дороге. Про город Холмск по колено в воде. Про селевую лавину, обрушившуюся на дорогу, на железнодорожный путь. Про ремонтников в желтых куртках, пытавшихся поднять насыпь. Про павильоны рыбоводного завода, где журчала вода, а в окнах были зеленые и голубые витражи, создающие иллюзию деревьев и неба. Про старенькие острокрышие домики, где жили работники завода, про циновки, висящие у входа, про цветущие вокруг вишневые и сливовые сады. Я сидел на веранде, смотрел, как дождь хлещет по белым веткам слив и вишен, по хризантемам, как вода стекает по окнам. Прозрачные огромные капли висели на иголках сосен, на земле же, в высокой траве, зарождался туман. Склоны холмов быстро сделались белыми, казалось, веранда плавает в хаосе, в космосе. Рассказал про обратный путь на грузовой машине, поминутно увязающей в разбитой дороге. Сель закрыл путь, но был отлив, и по обнажившемуся морскому дну, по черным водорослям удалось проскочить. На перевалах — туман и ночь. Свет фар ничего не освещал. Один раз машина чуть не свалилась вниз. Поздней ночью въехали в Южно-Сахалинск.
Я не знал, зачем рассказываю это Лидиньке. То были впечатления туриста, и вряд ли ей было интересно меня слушать. Но и из этих впечатлений складывалась та работа, которую мне предстояло сделать, потому что как иначе я мог хоть в чем-то тут разобраться за десять командировочных дней? Я открывал давно открытое, но от этого было не уйти. В журналистике это неизбежно. Пока что я льстил себя надеждой, что, сев за письменный стол, сумею рассказать об этом — открытом — по-своему. Только будет ли так? Однако без этой надежды вообще можно было не высовываться из дома, не лететь через всю страну.
Так я думал.
— Дежуришь сегодня? — спросил у Лидиньки.
Она покачала головой.
— Тогда чего сидишь здесь одна?
— Пишу.
— Пишешь. А почему не дома?
— Ты радуйся, что не дома, — засмеялась Лидинька, — тогда не застал бы меня.
— Ты совсем не изменилась, — сказал я, хотя Лидинька изменилась.
— Ты тоже не изменился. — Лидинька уже не смеялась. — Появился только на третий день. Забыл Чукотку? Представь себе, кто-нибудь из наших прилетел бы туда.
— Я бы с ума сошел.
— Но ко мне ты пришел только на третий день.
— Извини, так получилось. Я хотел сразу.
— Не обращай внимания. Наверное, это какой-то периферийный комплекс, что тебя все забыли, никому-то ты не нужна. Я рада, что ты приехал.
Лидинька смотрела на меня спокойно и умудренно. Глаза ее были чисты, как жизнь без вранья, светлые волосы стали еще длиннее, вот только вокруг глаз и в углах рта появились глубокие морщины. Во взгляде Лидиньки читался глубочайший духовный покой, когда о человеке говорят: не от мира сего. Когда вся его жизнь подчинена одной надежде, одной цели, как правило, неосуществимой. Но эта неосуществимость избавляет от суеты, истерик, тревог, сообщает человеку твердость, делает его неуязвимым перед житейскими невзгодами.
— Ты замужем? — спросил я.
— Замужем? — удивилась Лидинька, как если бы я спросил: жива она в данный момент или нет? Ясно, что жива. Ясно, что не замужем. — Нет. А ты?
— Пока не женился.
— А Игорь?
— Он развелся окончательно. Я сейчас как раз живу у него.
Лидинька вдруг скомкала лист, бросила в, корзину.
— Зря, — сказал я, — хорошая была фраза.
Лидинька сидела, прикрыв глаза, вероятно, она меня не слышала. Но вот она открыла глаза: они блестели.
— Зайдем ко мне? Я здесь недалеко живу, — Лидинька старалась на меня не смотреть.
Я даже позавидовал Игорю: меня так никто никогда не любил. Хотя, конечно, завидовать тут было нечего.
Мы вышли из редакции. Закат стиснулся в узкую малиновую линию над городом. Темными волнами катилась синева. Лидинька неотрывно смотрела на небо. Она действительно была не от мира сего.
— Хочешь увидеть первую звезду? — спросил я. — Загадать желание?
— Да, вот она, видишь? — схватила меня за руку Лидинька.
Странная фиолетовая звезда чиркнула по небу, пропала в закатном лезвии.
Не следовало мне говорить с Лидинькой на эту тему, но я справедливо полагал, что на другие темы она со мной говорить не будет.
— Игорю сейчас хреново. Он замкнулся, все время молчит. Ты бы ему написала.
— Что-что? — Лидинька, оказывается, меня не слушала. В ее глазах стояли слезы, на лице блуждала счастливая улыбка.
Да, завидовать Игорю было нечего: Лидинька была счастлива, потому что он был несчастлив.
Тем временем мы свернули с асфальтовой улицы на земляную, заросшую лопухами. Если бы не широкие, как слоновые уши, лопухи, можно было бы подумать, что мы в Рязани, Саратове, Тюмени.
— Вот мой японский домик, — сказала Лидинька, однако ничего японского, по крайней мере снаружи, в домике я не обнаружил. По-моему, это была русская изба, построенная еще в прошлом веке.
Прихожая оказалась тесной, кухня — узкой и длинной, а вот единственная комната — неплохой. Угол занимал выложенный изразцами камин, на каминной полке стояла керамическая статуя девы Марии. Стена напротив была превращена в стеллаж. Явно у Лидиньки имелось знакомство в местном книготорге.
— Удивляешься, откуда дева Мария? — спросила Лидинька. — Японцы, которые когда-то здесь жили, были католиками. Странно, да? Статуя привинчена к полке. Как только ее не разбили?
— Я еще больше удивляюсь тебе, — сказал я. — Ты как Сольвейг. Чего ты ждала все эти годы? Ты хоть писала ему?
— Нет. Зачем? — Лидинька пожала плечами.
— И все эти годы ты, извини за высокий стиль, хранила ему верность, так, что ли?
— Не будем об этом, ладно? Это никого, кроме меня, не касается. — Лидинька накрывала на стол.
— Но он хоть знает?
Лидинька молча резала какую-то сахалинскую зелень.
— Он все знает, — сказала устало. — И хватит, ладно?
— Он просил меня найти тебя, передать привет. Он про тебя часто вспоминает.
— Не надо, — тихо сказала Лидинька. — Не надо врать. Он ничего не просил.
Я выглянул в окно. Улица освещалась скупо. Лопухи были похожи на черные сковородки. У калитки поскрипывал на ветру фонарь. В его свете мелькали большие, как летучие мыши, ночные бабочки.
— Славный у тебя домик, — сказал я.
— Особенно зимой, — усмехнулась Лидинька. — По самую крышу заносит, без лопаты не выйдешь.
— Есть хоть надежда, что квартиру дадут?
— Нет, конечно.
Слова из Лидиньки приходилось тянуть клещами. Она прыгала с парашютом вместе с пожарниками в огонь, когда в прошлом году под Охой горели леса, тонула на сейнере, их чудом спасли, на Парамушире угодила с метеорологами в пургу, двое суток лежала в спальном мешке, не зная, жива или замерзла.
Я смотрел на Лидиньку, мне было стыдно за мою сытую жизнь, легкую, туристическую журналистику.
— В последний университетский год, — вдруг сказала Лидинька, — он стал очень похож на тебя, Петя.
— Ты ошибаешься.
— Нет-нет. Мы ведь с ним из одной деревни. До четвертого класса в школе сидели за одной партой. Потом его родители переехали в Кострому, он остался жить у тетки. Когда в десятом учились, он каждый вечер приходил ко мне в деревню. От него — восемь километров. Восемь километров туда, восемь обратно. Раз его наши ребята избили, но он все равно ходил. Помню, однажды забыл у меня рукавицы. Я долго бежала за ним, но не догнала. Тогда ночь морозная была, лунная. Как он без рукавиц? Я кричала, но он не слышал. Я тогда испугалась: холод, лунный свет, я кричу, а он уходит. Это ведь из-за него я поехала поступать в Москву на журналистику.
— Правильно сделала.
— Не знаю. Сейчас не знаю. Нам с Игорем повезло, оба поступили, правда, я на вечерний. Мы тогда были другими. Разница между городскими и деревенскими не всегда заметна, но она есть. Городские видят внешнюю сторону, она заметней: деревенские одеты хуже, прически у них немодные. Деревенские — внутреннюю. Если бы не Игорь, я бы, конечно, не поступила. Но я даже подумать не могла, что мы с ним расстанемся. Мы были вместе, я была счастлива, но потом Игорь начал меняться. Мы много говорили о тебе, Петя.
— Вот как?
— Ты прогуливал лекции, потом просто-напросто брал у
старосты журнал и перечеркивал все «н». Мы о таком даже помыслить не могли, а тебе сходило с рук. Ты как-то иначе относился к жизни, для тебя словно не было в ней ничего запретного, такого, что нельзя нарушить.
— Это не так.
— Я тоже так думаю. Но тогда нам казалось. Помнишь, как ты сдавал на втором, что ли, курсе зарубежную литературу?
— Не помню. Сколько их было, этих экзаменов, зачетов.
— А я помню. И Игорь наверняка помнит. Тебе попалась поэма Байрона «Манфред», ты ее не читал. Но так нагло и вдохновенно врал, что тебе поставили пятерку. Таков был твой тогдашний стиль.
— Ты всегда читала все тексты?
— Да. Зачем-то я всегда все тексты читала. Но дело не в этом. Игорь тогда говорил, что не понимает тебя. То ты скучаешь, читаешь на лекциях «Декамерон», то вдруг целый день с кем-нибудь общаешься, ходишь за человеком по пятам, а на следующий день не замечаешь его, словно человек — игрушка, поиграл — и забыл. Игорь только говорил, что не понимает тебя, на самом деле он у тебя учился.
— Чему?
— Я тебе говорила, деревенские острее чувствуют свое внутреннее отличие от городских. Кто считает себя глупее, медлительнее окружающих. Кто с трудом учится спорить. Иногда не согласен с человеком, он тебя раздражает, какую-то чушь несет, а вот красиво осадить его не получается, хоть плачь. Робеешь, стесняешься, помалкиваешь. Я была такой. И вот Игорю хотелось стать более городским, чем вы: моднее одеться, лучше устроиться на работу, жениться, наконец, выгоднее.
Лидинькин домик окончательно затерялся в сахалинской ночи. Из окна было ничего не видать. Свет в комнате помигал и потух. Лидинька зажгла на столе свечу. Длинный, тонкий, как язычок скальпеля, огонек разрезал темноту над столом.
— Я уехала на Сахалин, потому что поняла, что не нужна ему, — тихо сказала Лидинька. — А сейчас… Ты говоришь, сейчас ему плохо?
— Он все время молчит. Но я думаю, это пройдет.
Лидинькины руки беспокойно перемещались по столу, трогали скатерть, лежащие на скатерти вилки, спички.
— Увидишь его, скажи, что я… Нет, ничего не говори. Нет, скажи, знаешь, что скажи. Скажи, что в ту ночь, когда он забыл рукавицы, я бежала за ним, бежала и кричала, а он не услышал. Он потом говорил, что чуть не отморозил руки. А я была глупая, думала, нельзя открыться, что бегала за ним с рукавицами. Скажи, я до сих пор жалею, что тогда не догнала его, ладно?
— Скажу. Конечно, я все ему скажу. Но ты отвлекись от этого. Разве можно все время об этом думать?
— Скажи ему про рукавицы.
Я бежал по темным южносахалинским улицам. Лидинька стояла на крыльце, обхватив дверь.
ВПЕРЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Но я сказал Игорю про рукавицы не сразу как вернулся, а на следующий день, когда мы курили в трясущемся, уходящем из-под ног тамбуре поезда Кострома — Москва.
Приехав из аэропорта, я застал Игоря, несмотря на глухую ночь, одетого, лежащего на диване лицом вниз. Я сказал, что привез краба, Игорь не ответил. Тогда я спросил, что, собственно, случилось. Игорь протянул телеграмму. В ней сообщалось, что умер отец Игоря и какого числа будут похороны.
Все последующее как-то смешалось в памяти, одновременно запомнилось и не запомнилось, как бывает всегда, когда имеешь дело со своим ли, чужим ли горем.
Сказанные Игорем утром слова: «Может, съездишь со мной? Я не видел отца пять лет, мать его бросила, все эти годы он жил один. Поедешь?»
Мучительная, молчаливая езда сквозь зеленеющую лесами Россию.
Маленькая деревня, где жил отец Игоря: десятка два старых черных домиков, белые развалины часовни, лес, начинающийся сразу же за заброшенным полем.
Кладбище, открытое ветру, как горю, поднявшиеся птицы, распахнувшаяся необозримая даль.
Желтая яма, куда невесомо поплыл опускаемый на веревках гроб.
Тихий шелест бросаемых пригоршен, недолгая работа лопат, быстро выросший холмик.
Поминки: серьезные, суровые лица, по-разному разгорающиеся на водку глаза, непрерывное наполнение мутных стаканов.
Внезапное решение Игоря сегодня же ехать обратно, горькое его бормотание: «Меня здесь никто не знает. Я здесь чужой. Чего мне здесь делать?»
Его неожиданный хохот в вагоне, по счастью, почти пустом. Игорь лупил кулаками по отшлифованным до блеска чужими задами и спинами деревянным полкам:
— Да где же он? Почему он отворачивается да поплевывает на меня? И что мне до него? Что же он не поможет, не утешит? Да существует ли он?
— Кто? — спросил я, полагая, что Игорь имеет в виду кого-то конкретного.
— Мужик Марей. — Игорь глядел на меня сухими белыми глазами.
— Мужик Марей? Это из Достоевского? — Я подумал, Игорь спятил.
— Да, — шепотом ответил Игорь. — Где он? Хоть в заячьем тулупе, хоть в кирзачах, хоть с продуктовым рюкзаком за плечами, где? Что ему за дело до моей жизни, до моих споров с приятелями, до моих несчастных заметок? Да есть ли он? Если так легко от себя отпускает? Или дело в нас? Может, мы не нужны ему? Кто мы такие? Он молчит. Неужели его больше нет? Мы одни летим в черном космосе?
— Прекрати ты истерику, — сказал я. — Кто тогда ты? Кто я? Кто Лидинька? Кто Антонина? К кому ты предъявляешь претензии? Мы — все вместе, — вернее, лучшее, что есть в каждом из нас, — это он. Это от него. Лучшее в человеке — от народа. Худшее — тоже, но надо верить в лучшее. А искусственно себя отделить, поставить вне — это легче легкого.
Игорь раскачивался в такт колесному стуку.
— Глупо от него чего-то требовать, — продолжал я, — он никому ничего не должен. Должен всегда ты! Поэтому начинать надо с себя. Это не логика, не разум, а что-то другое. Ты будешь лучше, лучше будет и он. Поэтому ты ему и должен. Потому что живешь на этой земле, говоришь на этом языке. Поэтому всегда должен. Это нельзя ставить под сомнение, наверное, единственное, что нельзя.
— Можно! — крикнул Игорь. — Я могу упасть на землю, но только уколюсь, испачкаюсь. Ты видел эту деревню, отцовский дом. Там нет жизни, она гаснет. Я сознательно уехал, бросил, отрекся, я думал что-то приобрести, но… приобрел ли? Я отрекся от него, — перешел на шепот Игорь, — но вместо него, оказывается, ничего быть не может. Я не согласен с тобой, собой его не заменить! Пустота. Отец умер, а я, видишь, даже не заплакал.
— Так бывает. Плакать не обязательно, — я тряс Игоря за плечи, он смотрел сквозь меня.
— Помнишь, — спросил он неожиданно спокойным голосом, — эпиграф Пушкина к «Евгению Онегину»?
— Нет. При чем здесь «Евгений Онегин»?
— Я помню дословно: «Исполненный тщеславия, он еще более отличался того рода гордыней, которая заставляет с одинаковым равнодушием признаваться как в добрых, так и в дурных поступках — следствие чувства превосходства, быть может воображаемого». Я долго не понимал этого эпиграфа, думал, не изменил ли здесь Пушкину его гений? Казалось бы, Евгений Онегин — и я, бывшая деревенщина, чего общего? Но вот как-то поймал себя, а ведь и я с одинаковым равнодушием — как в добрых, так и в дурных поступках… И так многие, кого я знаю. Неужели все они — лишние? Сколько же тогда на свете лишних? Отец умер, а я не плачу. И с равнодушием тебе в этом признаюсь. Так же, как могу признаться и во многом другом. Что это? Духовное падение, отсутствие Марея или просто жизнь?
— Ты просто устал. Тебе все кажется. Через три дня придешь в норму.
— Спасибо, — сказал Игорь, — ценю твою заботу, только и о нашей дружбе я говорю с равнодушием. Извини, если когда-то был перед тобой не прав.
Мы вышли в тамбур покурить.
— Как думаешь, — спросил Игорь, — можно продать мое кожаное пальто за пятьсот рублей?
— Черное? Сейчас не сезон. Осенью в комиссионке точно возьмут.
— Когда разводились с Ленкой, — вздохнул Игорь, — мне было важно оставить за собой квартиру, ведь я ее получал. Я дал Ленке три тысячи отступного, это не считая, естественно, алиментов. Чтобы она вступила в кооператив, будто бы у ее мамаши имелась возможность втолкнуть ее в однокомнатный. А потом мы бы с ней сделали обмен. У меня, естественно, не было трех тысяч, ну я и занял у Герасимова. Осталось отдать пятьсот. Вот единственное, к чему нет равнодушия. Как бы покончить с этим дельцем?
— Я видел Лидиньку на Сахалине, — вспомнил я, — она просила передать, что, когда вы еще учились в школе, она бежала за тобой в морозную ночь, но не догнала, не смогла передать рукавицы. Она кричала, а ты не слышал. Она сказала, что до сих пор жалеет, что не передала тебе рукавицы.
— Я слышал, — ответил Игорь, — я не остановился, потому что не хотел, — он прислонился лбом к запыленному стеклу. — Она думает, что они у нее до сих пор, эти рукавицы. Что стоит их только привезти мне с Сахалина, и все будет в порядке. Поэтому я и не писал ей. Видишь ли, Петя, я не люблю ее. Она мне не нужна. И, наверное, никогда не любил. Иначе чего тогда не остановился? Я возвращаюсь к жене. Я долго думал, так будет лучше. Как они без меня? И что я без них? Интересно, зачем я тебе это говорю?
Показались башни Ярославского вокзала.
МОСКВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Комната моя в Оружейном переулке к середине лета мало-мальски пришла в божеский вид. Когда я с ордером в кармане впервые переступил порог, паркет бежал навстречу ломаными волнами, обои висели клочьями, грязно-желтые потеки на потолке свидетельствовали, что наверху живут нехорошие соседи, единственное окно было покрыто многолетним слоем копоти. Из-под обоев высунулся клоп. Рыжий таракан-прусак победительно пересек комнату по диагонали. Таковым было мое первое собственное жилище.
— Петя, — сказал Игорь, который приехал разделить со мной радость. — Может, не стоит спешить с переездом?
— Я вчера на радостях приобрел кое-какую мебелишку. Сегодня письменный стол должны привезти, диванчик. Я даром времени не терял.
Вторым моим гостем была Антонина.
— Мда, — задумалась она, — эта комната, конечно, лучше, чем ледник, но… не намного.
В коридорчике днем и ночью светила тусклая лампочка. На стене висел рассыпающийся, похожий на скелет, велосипед. Напротив телефонной тумбы, сплошь исцарапанной номерами, стояло клочкастое, занюханное чучело медвежонка. Один стеклянный глаз еще смотрел, другой болтался на ниточке.
— Какая прелесть, — прошептала Антонина.
…Сейчас комната выглядела вполне прилично. Проснувшись, я первым делом видел гипсовую голову Гомера, установленную на шкафу. Голова напоминала о блистательном античном каноне красоты, молчаливо свидетельствовала о совершенстве, некогда достигнутом людьми, о последующей вечной ностальгии по совершенству, ничтожнейшим, карикатурным проявлением которой являлась миллионная гипсовая копия головы Гомера у меня на шкафу.
Часы показывали половину десятого. Я неторопливо оделся, вышел на улицу.
Высоко в небе недвижно стояли облака. Тополиный пух больше не летал. Отяжелевший пух сбивался в веретена, в клубки, катился по асфальту. Один клубок вывел меня к закусочной.
Окна закусочной были распахнуты настежь. По круглому мраморному столу прыгал воробей, бойко склевывая крошки. На подоконнике взволнованно чирикал его более совестливый и робкий товарищ: он с завистью следил за трапезой наглеца, хлопал крыльями, подпрыгивал. Я бросил на подоконник хлеб и вспомнил, что собирался сегодня к матери.
…Я был у нее последний раз два дня назад вечером. Солнце уже ушло из двора, только арка почему-то пылала, как ракетное сопло. Голуби один за одним планировали под арку, исчезали в огне. Это было до разговора с Главной, я еще ничего не знал о письме Нины Михайловны.
Я позвонил в дверь, но мать не открыла. В квартире зазвонил телефон, звонки продолжались: матери не было дома. Я открыл своим ключом. На столе лежала записка: «Петя, я на работе. Во дворе на первом этаже у шестого подъезда. Мама». «Что же это за работа?» — удивился я и отправился в указанное место.
Когда шел по двору, у кого-то на первом этаже было включено радио:
Тсс… В Суриа-Муриа задал король
Гостям своим, принцам пир званый горою.
Ты к спинке своей прислониться изволь,
Туда вороной понесет нас стрелою.
«Пер Гюнт», — вспомнил я. В детстве это была моя любимая радиопостановка.
Ну, лети же,
Несись во всю прыть, мой лихой вороной!
Мы фьорд переедем, там будет поближе…
— Не зябнешь ты, матушка?
— Нет, мой сынок…
Тогда я часто слушал радио. Как сейчас помню, перед «Пер Гюнтом» разучивали какую-то песню. Сначала куплет дважды произносил диктор, и чувствовалось, ему немного стыдно за песню. Произнесенные бесстрастным, суровым голосом слова обнаруживали халтурность и глупость песни. Потом куплет пел странный хор: без музыки, без выражения. Глупость песни становилась навязчивой. Разучиваемые таким образом песни пугали меня. Но когда сразу после песни начался «Пер Гюнт», как вдруг изменился смысл слов! Если в песне они раздражали, царапали, то тут я словно растворился в их живой мудрости, забыл, кто я и что я. Для меня, кажется, тогда девятилетнего, пьеса, несомненно, имела свой собственный философский смысл, потому что именно тогда я впервые задумался: «Где же она, жизнь? Как хорошо, интересно мне здесь, в пьесе, и как будет плохо там, когда пьеса кончится. Как сделать так, чтобы она никогда не кончалась?» И впоследствии — все детство и отрочество — я разрывался между книгой и жизнью, ибо подтверждение правде — как я ее понимал — находил лишь в книгах, в жизни царила другая правда, которую я всей душой отвергал. Каждый раз, когда Пер Гюнт разговаривал с умирающей матерью, я почему-то вставал, я не мог слушать это сидя. И сейчас, как болван, я стоял под чужим окном, пока наконец мужик в майке не догадался его прикрыть.
Я не сразу понял, что это детский сад и что женщина в белом платье, играющая на пианино детям, моя мать. Она играла какую-то веселую песню, детишки пели. Я стоял у открытого по случаю теплого вечера окна и смотрел на мать. Дети все время поворачивались, изучали меня. За кем это я пришел? «Я пришел за матерью», — чуть было не сказал я. Потом вошла воспитательница. Дети убежали, музыкальный час, видимо, закончился. Я подтянулся, вскочил на подоконник. В комнате, кроме нас, никого не было. Я спрыгнул с подоконника, подошел к матери и совершенно неожиданно опустился перед ней на колени. Я видел одно только белое платье, смирно лежащие на коленях, как у школьницы, руки. «Я прочитал твою записку, — сказал я. — Видишь, я пришел».
Это было два дня назад. Сегодня суббота, детский сад, следовательно, выходной, мать должна быть дома.
…Но как и два дня назад, меня встретила пустая квартира. Пока я раздумывал, как быть, в дверь раздался звонок, я открыл, вошла Нина Михайловна, моя добрая соседка.
Говорить с ней об Антонине, о письме, о чем угодно было бессмысленно. В лучшем случае ответом мне будет раздражающая, бьющая по нервам усмешка человека, который изначально прав. Прав настолько, что вовсе не намерен обсуждать, а уж тем более доказывать собственную правоту, презирающий и ненавидящий другого только за то, что тот смеет сомневаться в этой монументальной правоте. К Нине Михайловне надлежало повернуться спиной, как к ветру, и или выстоять, или упасть.
— Зачем вы пришли? — спросил я.
— Я полагаю, тебе интересно знать, где твоя мать?
— Интересно.
— Она срочно уехала на дачу. У твоего деда сердечный приступ, возможно инфаркт. Она просила меня позвонить тебе домой, я звонила, но соседи сказали, тебя нет. Ты должен немедленно туда ехать.
— Спасибо. Я так и сделаю. Передайте Антонине, чтобы вечером сидела дома, ждала моего звонка.
— Думаю, вечером ей будет не до тебя. Сегодня прилетает Борис, ее муж.
— Меня это не волнует, — ответил я.
Нина Михайловна вышла, сохраняя на лице выражение гордого, непререкаемого презрения.
Сбегая вниз по лестнице, я по инерции, как это делывал прежде, сунулся в почтовый ящик. Там лежало письмо от отца, адресованное мне. Я сунул письмо в карман и побежал дальше.
…Людей в вагоне поубавилось, устроившись у окна, я распечатал конверт. Лист был плотно исписан, взгляд упал сразу на середину: «Он не брезговал лечить и венерические болезни, брал за это деньги. Думаю, именно на этом он и погорел. Так что никакой он не страдалец, просто хапуга. Не случайно же ему удалось так быстро выпутаться. Меня он ненавидел, потому что хотел для своей дочери другого мужа. Первое время мы бедствовали, я пять лет ходил в одном пальто, а он тайно пересылал твоей матери деньги. Намекал ей в письмах, мол, брось этого подонка, то есть меня, ты молодая, красивая, сумеешь устроить свою жизнь. Мы с ним совершенно разные люди. Я всего добился сам, своим трудом, своими руками. Ты знаешь, как я работал. Твоей матери я внушал, что просто так, даром, ничего в жизни не дается. Но она бежала от работы, ей хотелось праздности, потом я уже сам не понимал, чего ей хотелось. Он так воспитал ее, что она ничего не ждала от жизни, кроме радостей и удовольствий. Ей претила мысль, что жизнь — борьба, что надо драться, за все в жизни надо драться. Помню, я отказался купить ей шубу, потому что это было безумие — покупать за такие деньги шубу, когда не хватало на еду. А он, смеясь, купил и еще прислал письмо, где укорял меня за жадность: мол, неужели мне жалко денег для любимой женщины? Мне не жалко! Но зачем эта шуба? Куда в ней ходить? Мы не ходили в такие места, где смогли бы оценить эту шубу. Когда мать была тобою беременна, он каким-то образом ухитрился прислать ей письмо, где советовал немедленно сделать аборт, развестись со мной. Я сам читал, он писал, к кому ей обратиться, в те времена с такими делами было строго». Не дочитав, я швырнул письмо в окно. В воздухе письмо расправилось, взмыло вверх, потом спланировало в огромную лужу. Следом конверт.
…Он лежал на кровати, устремив отрешенный взгляд в потолок. Рядом сидела медсестра. В кухне кипятились железные коробки со шприцами. Я смотрел на него, пытаясь пробудить в душе сострадание и родственность, но устремленный в потолок взгляд, ледяное спокойствие на лице свидетельствовали, что в сравнении с теми далями, с какими, судя по всему, соприкоснулся он, мое сострадание для него ничто. Я подумал: отчасти он сам виноват, что, находясь здесь, я не испытываю всего того, что положено испытывать.
— Что с ним? — спросил я у сестры.
— Не волнуйтесь, — заученно ответила она. — Сейчас придет машина. Ему надо полежать в больнице.
— Привет, Петя, — увидел меня дед. — Анна не вернулась?
— Она пошла на станцию встречать машину, — объяснила сестра, — сюда трудно проехать, не зная дороги.
— Странно, — сказал дед, — я думал, с сердцем-то у меня все в порядке.
— Приступ — обычное дело, — сказал я, — у меня приятелю тридцать, его тоже увезли в больницу с приступом.
— Да-да, — равнодушно ответил дед. Он всегда скучал, когда речь заходила о медицине и о здоровье.
Некоторое время мы молчали. Взгляд деда упал на фарфоровую птицу, стоявшую на шкафу.
— Когда ты был маленький, — усмехнулся он, — ты любил играть с этой птицей. Почему-то воображал, что это орел.
«Ну и что? — подумал я. — Неужели нам больше не о чем говорить?»
— Что ты такой надутый, Петя? — спросил дед. — Обиделся на меня?
Мне стало стыдно. Действительно, о чем я? Дед, как никто, умел ставить меня на место. Вот только виделись мы с ним редко.
— Тебе не так уж мало лет, — продолжил дед. — Во всяком случае, ты вышел из возраста, когда предъявляют претензии. Тебе самому пора… — не закончил.
— Я понял, — сказал я. — Я все понял. Извини.
— Я ни в чем перед тобой не виноват. Разве только не ладил с твоим отцом. Тебе, вероятно, пришлось из-за этого немного попереживать, но в общем-то это чепуха, обычное житейское дело.
— Зачем ты об этом? Какое это имеет значение?
— Достань-ка из-под кровати портфель, — вздохнул дед.
— Какой еще портфель?
— Достань.
Я вытащил старый запыленный портфель с двумя потускневшими никелированными замками. Кожа портфеля была как бы разделена на квадратики и ромбики. Сейчас с такими портфелями дохаживают в баню последние пенсионеры.
— Вы остаетесь одни, — сказал дед. — Ты уж не забывай ее.
Я щелкнул замками и не поверил своим глазам. Портфель был полон денег. «Возможно ли это? — испугался я. — Откуда столько?»
— Вся моя, а теперь, стало быть, ваша наличность, — словно прочитал мои мысли дед. — Но ты ошибаешься. Мне всегда было плевать на деньги. Просто должен же я был все эти годы хоть что-то делать. Так что, — кивнул на портфель, — если за четверть века, то не так уж здесь и много.
— Подожди, — пробормотал я. — Приступ, конечно, чепуха, но даже если допустить невозможное. То что? Вот этот портфель — и все? А где же… жизнь, твоя жизнь?
— Думай лучше о своей жизни, — неприязненно посмотрел на меня дед. — А портфель, поверь, лучше, чем просто светлая память.
— Ты больше ничего мне не скажешь? — прошептал я. — Что же мне о тебе думать?
— У тебя будет о чем думать в жизни, — поморщился дед.
Через десять минут его увезли. Мать уехала с ним. Я остался на даче, чтобы навести порядок, запереть ее.
…Когда я вечером шагал по лесу в сторону станции, глядя на россыпь огней впереди, то заметил спешащую навстречу тень. Что-то очень воинственное было в ней, и я на всякий случай отступил за дерево. Тень, не заметив меня, пронеслась мимо. Я узнал Бориса. В руке он сжимал короткую толстую палку. Этой палкой он намеревался отбить у меня охоту отбивать чужих жен, а может, убить меня, я не знал, какие у него намерения.
Из первого же московского автомата я позвонил Антонине, но Нина Михайловна злобно сказала, что ее нет дома. Нина Михайловна, видимо, испытала разочарование, что я после предполагаемой встречи с Борисом не утратил способности набирать телефонные номера, произносить слова.
Я знал, где искать Антонину. Когда-то давно она сказала мне, что иногда, когда особенно гнусно, она уходит на Ленинские горы, гуляет там до рассвета.
И я подался на Ленинские горы. Поспал на жесткой лавчонке, а как рассвело, спустился к Москве-реке, побрел по набережной, покусывая веточку.
О Москва-река, как спокойна ты на рассвете в безветрии, когда тополиный пух спит и метро еще не грохочет в стеклянном туннеле. На конечных станциях качаются речные трамваи. Светлые, уставленные в небо, столбы возвещают о скором появлении батюшки-солнца. Как ты спокойна, Москва-река. Только одинокий ранний рыбак свистит удочкой в упругом холодном воздухе. Только бледная женщина стучит по набережной каблуками. И какая-то птица летит неведомо куда. Что же искал я, вглядываясь в твои мутные воды, что хотел постигнуть? Одно меня мучило. Всю жизнь я искал смысл происходящего, но то, оказывается, была невинная забава. Сама жизнь сейчас вдруг изогнулась мерзким вопросительным знаком между своей конечной и исходной своей точками. Как дед мог сказать, чтобы я не думал о нем? Не ответить, зачем жил? Пусть горьким оказался бы ответ, но как можно отмахнуться от него, как от назойливой мухи? Так ли заканчивается жизнь? Как Антонина будет рожать ребенка? Кто отец? Так ли начинаться новой жизни? И пусть я крепко стоял на ногах, пусть меня уже было не сбить, от этих вопросов не уйти. И отвечать на них предстояло не чем-нибудь, а собственной жизнью.
Я шел и шел по набережной, пока не набрел на человека, вольно отдыхающего на ступеньках, ведущих к воде. То был худой одноглазый парень, вместе с которым я когда-то просиживал долгие вечера в библиотеке. Он узнал меня, дружелюбно кивнул, словно самое время было нам встретиться: в половине пятого утра, на пустом каменном берегу Москвы-реки. Парень был все в том же сером костюме, изможденное, перечеркнутое черной повязкой лицо светилось аскетизмом и загадочным знанием, которое рождается в результате смирения, воздержания, долгого, систематизированного, подчиненного какой-то неведомой цели, чтения книг.
Толстая черная книга и сейчас была у него в руках.
— Ага, — усмехнулся я, пристраивая на ступеньках портфель, — ты читаешь то, с чего советовал мне начинать. Ты все начал снова? Позволь, — мне показалось: я знаю, какое именно место читает парень.
Да, так и есть!
— Нет, — вздохнул я, — это утешающая, снимающая ответственность ложь. Жить так значит жить без смысла.
— Как же, по-твоему, жить со смыслом? — улыбнулся парень.
— Как? А если так! — я взял у него книгу. — Только честному делу свой час и время под небесами. Есть время насаждать, но никогда вырывать насаженное. Нет времени убивать, но только исцелять. Нет времени разбрасывать камни, но только собирать их. Нет времени молчать, но только говорить. Есть время любить. Нет времени войне.
— Ты кое-что пропустил, — заметил парень.
— Да, — ответил я.
— Это наивно, — он бережно забрал у меня книгу. — Да и по плечу ли? А если не по плечу, то какой в этом смысл?
Этого я объяснить не мог. В странный рассветный час мне хотелось прийти к итогу: чего ради я живу на свете? К чему пришел?
Что ж, я пришел к тому, к чему мне идти всю жизнь. Конец оказался началом. Возможен ли другой итог?
— Пусть наивно, — сказал я, — но иначе лучше вовсе не жить.
— Так тоже не жить, — усмехнулся парень. — Бессмысленно умереть.
— Я готов умереть за достоинство, — тихо сказал я.
— За что? — удивился парень. — За достоинство? За чье же?
— За достоинство, — повторил я, посмотрел вверх.
С зеленого склона спускалась, нет, слетала на невидимых крыльях Антонина. Она уже увидела меня и махнула рукой. Задыхаясь от счастья, я стоял на набережной, раскинув руки, чтобы обнять Антонину. Ее лицо, ее широко расставленные глаза обещали мне все, кроме счастья.
1978—1982
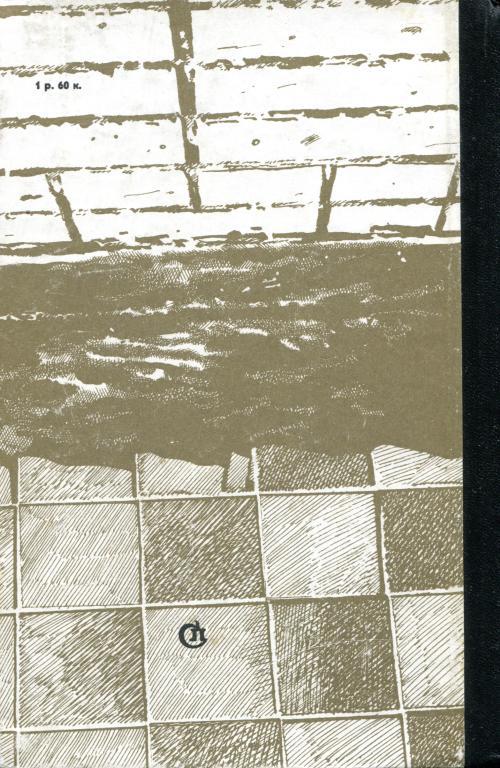
Примечания
1
Уже виденное
(франц.).
(обратно)
Оглавление
Часть первая. КРУГ
Часть вторая. ПУСТОЙ ДОМ
Часть третья. МОСКВА-РЕКА
*** Примечания ***